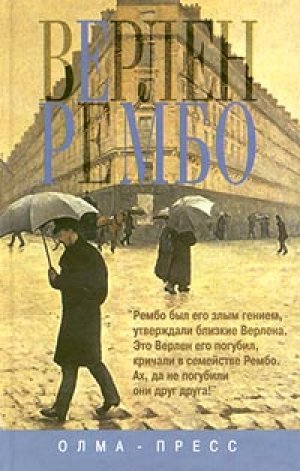
Пролог: «Сыновья Солнца»
10 июля 1873 года в Брюсселе Поль Верлен дважды выстрелил в своего друга Артюра Рембо, легко ранив его в руку. Оба поэта оказались, таким образом, связаны кровью. Но судьба соединила Верлена и Рембо не только в жизни: их имена неразрывно сплетены в истории литературы — вместе со Стефаном Малларме они составляют «святую троицу» французского символизма. Издав в 1884 году эссе «Проклятые поэты», Верлен причислил к ним Рембо и Малларме, а во втором издании — самого себя.
Рембо и Верлен всегда стоят рядом, ибо биография одного немыслима без детального рассказа о другом. При этом знакомство их продолжалось менее четырех лет: впервые встретившись в сентябре 1871 года, они навсегда расстались в феврале 1875 года. Это были две диаметрально противоположные натуры, в которых, однако, имеются «странные сближенья». Сама природа словно поставила эксперимент, столкнув двух столь разных поэтов. Не случайно историю их взаимоотношений иногда сравнивают с древнегреческой трагедией в двух актах с катастрофической развязкой в финале.
Центральное место здесь занимает брюссельская драма, которая теснейшим образом связана с тем, что было до и после. Однако даже современники имели очень приблизительное представление о событиях 1873 года: свидетелей, фактически, не было, документы были недоступны, поэтому в провинции об этом не знали вообще, а Париж кормился слухами. Собственно, более или менее связное изложение событий исходило от самих заинтересованных лиц, но при этом у обоих поэтов был свой взгляд на произошедшее и, что еще важнее, свои подспудные соображения — в своих рассказах каждый из них преследовал определенную цель.
Естественно, Верлен и Рембо делились пережитым с близкими людьми. Их друзья и родные оставили воспоминания. Перечислим их имена в алфавитном порядке — как они значатся в библиографическом указателе. Во-первых, это Патерн Берришон — муж Изабель Рембо, почти не знавший своего знаменитого шурина, но уверовавший в его исключительность и создавший благостный образ «святого». Во-вторых, Эрнест Делаэ — друг Рембо со школьной скамьи, который затем подружился и с Верленом. В-третьих Эдмон Лепелетье, лучший друг Верлена с лицейских времен. Наконец, это мемуары двух женщин: Матильды Мотэ де Флервиль — любимой, а затем бывшей жены Верлена, и Изабель Рембо — младшей сестры Артюра, которой довелось по-настоящему познакомиться с братом лишь перед его смертью.[1]
Здесь напрашивается необходимое отступление о достоинствах и недостатках мемуарной литературы. С одной стороны, многие факты становятся известными только благодаря очевидцам и — говоря шире — современникам. Кроме того, очевидцы и современники воссоздают атмосферу подлинности и позволяют увидеть живыми людей, которые давно покинули этот мир. С другой стороны, любой мемуарист имеет свои предубеждения и свои цели — как осознанные, так и бессознательные. Поэтому к мемуарным свидетельствам всегда следует подходить с большой осторожностью и проверять их с помощью других источников. Нужно также четко выявлять следующие разграничения: сообщение мемуариста о том, чему он был непосредственным свидетелем; то, что он рассказывает со слов других; то, что ему кажется правдой, но на самом деле таковой не является (искреннее заблуждение); то, что никак не может быть правдой (сознательная или бессознательная ложь).
Исходя из этих критериев, какие из перечисленных мемуаристов заслуживают доверия и до какой степени им можно доверять? Самые недостоверные сведения исходят от Патерна Берришона и Изабель Рембо: они откровенно обожествляли Артюра — и делали это с таким упоением, что, вероятно, сами уверовали в подлинность многих из своих рассказов. За десятилетия исследований критика обнаружила столько фальшивых «сведений» в этих мемуарах, что практически каждое свидетельство должно подвергаться двойной и тройной проверке. Что касается других воспоминаний, то здесь единодушия в критике не наблюдается. Например, биограф Рембо Жан Мари Карре считает, что наибольшего доверия заслуживает Эрнест Делаэ. Другие исследователи это мнение не разделяют, хотя Делаэ, действительно, был другом и Рембо, и Верлена (в силу чего проявлял большую объективность). Однако Рембо он все-таки знал лучше и во многих обстоятельствах был склонен выгораживать именно своего школьного товарища. К тому же Делаэ писал мемуары, в старости в возрасте от 52 до 77 лет, когда ему уже отказывала память, но самолюбие не позволяло в этом признаться — в результате, он слишком часто позволял себе выдумывать или, скажем мягче, «фантазировать» на заданную тему. Наконец, ему приходилось считаться с мнением Изабель Рембо и Патерна Берришона, которые не особенно церемонились в средствах, защищая собственную версию событий. Не случайно у Делаэ вырвалось признание о «несчастном семействе Рембо, слишком часто проявлявшем слепоту». Невзирая на попытки дистанцироваться от откровенной агиографии, воспоминания школьного друга некоторыми учеными всерьез не воспринимаются: «… эти бедняги Берришон, Делаэ, Изабель, которые без Артюра Рембо остались бы тем, чем они были, т. е. полными нулями, писали о нем самым усерднейшим образом, чтобы и о них тоже не забыли». Отметим и еще одно обстоятельство: с 1879 года Делаэ потерял все контакты с Рембо, и его рассказы об абиссинском периоде жизни поэта лишены всякого интереса.
С Верленом дело обстоит лучше — и не только потому, что Лепелетье и Матильда были более добросовестными биографами. Сочинять байки о Верлене было затруднительно, поскольку жизнь его проходила на глазах у многих людей. Считается, что Лепелетье можно полностью верить, лишь когда он приводит факты; неточности, искажения и умолчания возникают, когда начинается интерпретация этих фактов. Несомненно и то, что главной целью Лепелетье было оправдание друга. Со своей стороны, Матильда не вызывает особого доверия в роли обиженной супруги — хотя она взялась за мемуары только после появления записок Лепелетье, который представил ее главной виновницей не только неудачного брака Верлена, но и его беспутной жизни.
Об обоих поэтах было создано множество легенд — с той лишь разницей, что в легендах о Верлене всегда присутствует хотя бы крупица правды. Эти легенды можно было бы признать «правдивыми», если бы в них не выпячивалась лишь одна из сторон характера поэта. Напротив, легенды о Рембо почти всегда лживы от первого до последнего слова — понадобились усилия нескольких исследователей, чтобы поставить на них жирный крест. Как возникли легенды? Если говорить о Верлене, то они были порождены самой жизнью поэта — необычной во многих отношениях, но проходившей на глазах у многочисленных свидетелей. Что касается Рембо, то здесь легенды были сотворены близкими поэта — сестрой Изабель и ее мужем Патерном Берришоном. Не случайно Изабель Рембо провозгласила: «В том, что касается биографии, я признаю только одну версию — свою собственную». Разумеется, это была единственно верная позиция, поскольку столкновения с фактами «агиографические» сочинения Изабель не выдерживают — оставалось только отрицать все, что вступало в противоречие с «житием святого Артюра». Здесь нужно еще раз подчеркнуть, что Изабель Рембо брата своего фактически не знала, ибо он уехал в Париж в неполных семнадцать лет, когда его младшей сестре было одиннадцать, домой же возвращался изредка и на очень короткое время. Все важнейшие события в жизни Рембо происходили на глазах других людей — Изабель была свидетельницей лишь его последних дней. Что касается Патерна Берришона, то он занимался откровенной фальсификацией — в частности, когда готовил для печати письма Рембо. Между тем, переписка обоих поэтов служит неоценимым подспорьем для понимания многих фактов и обстоятельств.
О Верлене и Рембо написано множество работ. Но в биографиях обоих поэтов накопилось слишком много лжи и полуправды, которая хуже лжи. Решающий поворот произошел, когда были опубликованы источники — прежде всего, документы следствия и письма брюссельского периода. После этого уже невозможно было повторять прежние благоглупости, зато возникла другая тенденция: слишком многие авторы предпочитали и предпочитают стыдливо (а иногда агрессивно) обходить некоторые детали. Главный аргумент звучит так: не следует полоскать грязное белье гениев, полностью выразивших себя в творчестве. Некоторые биографы заранее обличают «близоруких» моралистов, которым даже прикасаться нельзя к «Сезону в аду»[2] — разве способны они оценить возвышенные прозрения поэта? Иными словами, биография поэтов по-прежнему остается камнем преткновения — особенно это касается брюссельской драмы, которая будто бы и не имеет большого значения для анализа творчества Верлена и Рембо. Между тем, в результате этих событий один из поэтов навсегда отрекся от литературы, а второй пережил глубочайший кризис, отразившийся прежде всего на его стихах. В силу ряда причин «фигура умолчания» характерна в первую очередь для биографов Рембо. Весьма показательно, что лучшая его биография создана на английском языке. О важности биографического материала недвусмысленно говорит один из лучших исследователей французской литературы Антуан Адан, написавший предисловие к полному собранию сочинений Рембо: «Мы не поймем творчество Рембо, если будем иметь ошибочное представление о том, каким он был человеком, если примем на веру те смешные рассказы о нем, которые были нам оставлены некоторыми авторами».
Что известно о Верлене и Рембо русскому читателю? Об их поэзии можно получить достаточно полное представление: почти все сочинения Рембо переведены на русский язык (исключение составляют письма и некоторые ранние стихотворения); стихи и проза Верлена переведены далеко не полностью, но все же подавляющая часть его лучших творений доступна тем, кто не владеет французским языком. Имеются также аналитические работы, посвященные творчеству обоих поэтов. Иначе обстоит дело с биографическим материалом. Правда, на русский язык была переведена книга Карре «Жизнь и удивительные приключения Жана Артура Рембо», но она являет собой яркий (хотя и не самый худший) образец апологетической биографии. О Верлене сведения можно почерпнуть лишь в предисловиях и комментариях. Пока в них преобладает стиль сугубо поэтический (как правило, это является признаком недостоверности). Вот как изъясняется, например, автор одной из вступительных статей:
«Верлен, тихий и нежный, как свирель Пана, буйный, вздорный и вечно пьяный, как силен из разнузданной свиты Вакха, — да, пропойца, язычник, по какому-то недоразумению обратившийся в католичество, роняющий кроткую, ангельски чистую слезу в огненную полынь абсента, „Диоген тротуаров“, завсегдатай кабачков, полицейских участков и лазаретов. Вечное дитя, бесприютное, жалкое, оборванное, грязное, — с божественным чистым голосом, наивным сердцем, невинной душой… Рембо, самонадеянный (о! Не без оснований), заносчивый юнец, жестокий и нетерпимый, — малолетний нарушитель литературного правопорядка, гений и беспримерный нахал, которому, конечно, ничего не стоило вломиться в чопорный салон Поэзии, напоенный тонкими ароматами из парнасских склянок, натоптать там, высморкаться в занавеску, да что там! — сорвать ее к чертовой матери, распахнуть окно и выпустить на волю стаю обезумевших от внезапного света слов, а потом развернуться и молча уйти — куда-то за горизонт, на восток, в Вечность, которую он, неприкаянный Агасфер, нашел как-то по пути то ли из Шарлевиля в Париж, то ли из Валькура в Лондон».[3]
Что можно сказать по поводу этих пассажей? Множество натяжек, повторяющих — с вполне понятным опозданием — соответствующие суждения французских исследователей. Так, оценка Верлена, может быть, и верна для последних десяти лет его жизни, но она не имеет никакого отношения к предшествующим периодам, а ведь Верлен создал лучшие свои творения именно в молодые и зрелые годы. Что касается «принятого по недоразумению» католичества, то поэт сохранил истовую веру до последних дней жизни. В отношении Рембо предпочтение отдается возвышенным эпитетам и восторженным восклицаниям, которым французские критики также отдали обильную дань.
Итак, русскому читателю еще только предстоит познакомиться с биографией Верлена и Рембо. Собственно, с этой целью и написана данная книга: в ней рассказывается о жизни обоих поэтов на основе их собственных писем и сочинений, мемуарных свидетельств родных и близких, многочисленных и разнообразных исследований, посвященных одному из самых необычных экспериментов в истории литературы — поискам «неведомого» с целью превращения в «сыновей Солнца».
Глава первая: «Поэт-буржуа»
Плешивый фавн из темной глины,
Плохой конец благих минут
Вещая нам, среди куртины
Смеется дерзко, старый плут.
Над тем, что быстрые годины
Нас к этим праздникам ведут,
Где так грохочут тамбурины,
Но где кручины стерегут.[4]
Семья
Поль Мари Верлен родился 30 марта 1844 года в Меце. И по отцу, и по матери он был северянином: его предки издавна жили в Пикардии, Артуа и бельгийских Арденнах (перешедших под власть Франции в начале XIX века). Поэт до конца своей жизни не любил «солнце»: ему всегда были милее полутона и оттенки, нежели яркий свет. Отсюда позднее возникнет любовь к английскому пейзажу — «в сто раз более занятному, чем эти Италия, Испания и берега Рейна».
Отец — Никола Огюст Верлен — служил офицером во 2-м саперном полку. Мать — Стефани Деэ — была дочерью богатого сахарозаводчика. К моменту появления на свет сына родителям было соответственно сорок пять и тридцать два года: оба, следовательно, были далеко не первой молодости. Никто и никогда не сказал о них дурного слова — это были превосходные во всех отношениях люди. Когда умерла сестра Стефани, они взяли ее дочь к себе и воспитали осиротевшую племянницу как собственное дитя. Элизе Монкомбль было восемь лет, когда родился Поль, и она сразу же прониклась к младенцу почти материнскими чувствами — можносказать, что над колыбелью мальчика склонялись сразу две матери. На склоне лет Верлен напишет о ней в «Исповеди»:
«Бедная дорогая кузина Элиза! Она была особой радостью моего детства, участницей и покровительницей всех моих игр. (…) Она умалчивала о моих серьезных проступках, восхваляла небольшие мои заслуги и время от времени нежно меня журила»
У Верлена было счастливое детство: он был единственным и долгожданным ребенком — никогда не доводилось ему испытывать такие страдания, какие выпали в детстве на долю Бодлера и Рембо. Сверх того, родители имели возможность баловать желанного сына. Стефани принесла мужу богатое приданое, и доход четы Верленов оценивался примерно в 400 тысяч франков — недурной капитал даже по нынешним временам. Верлены принадлежали к среднему классу и к моменту рождения сына занимали вполне устойчивое положение в обществе — лишь позднее ситуация радикально изменится.
Но в этом уютном буржуазном мирке имелись, однако, некоторые странности. До рождения Поля у Стефани трижды случались выкидыши, и она хранила о них не только воспоминания: на полке в шкафу стояли три сосуда со спиртом, где находились несчастные плоды преждевременных родов. Стефани дала им имена и показывала Полю «маленьких братиков». Мать была женщиной очень набожной и добропорядочной — некоторые из друзей семьи находили ее даже излишне церемонной. Как могла она позволить себе подобную экстравагантность? Видимо, она так сильно желала детей, что не могла расстаться с материальным подтверждением их прихода в мир. Супруг мирился с этой странностью, и это означало, что силой характера он уступал любимой жене. Стефани настолько была благодарна Богородице за рождение сына, что дала ему имя Поль Мари. Малыш был почти уродлив: с бледным, чуть ли не землистым цветом лица, с чрезмерно большим лбом, с мутно-голубыми глазами, которые казались черными из-за того, что слишком глубоко сидели в орбитах, с коротким носом «картошкой» и выступающими скулами. Когда он спал, казалось порой, что в кроватке лежит маленький мертвец.
Кстати говоря, Верлен будет считаться уродом всю свою жизнь. Так, мадам Лепелетье, мать его лучшего друга с лицейских времен (а позднее биографа) не стеснялась говорить, что он похож на «орангутанга, вырвавшегося из клетки зоологического сада». Сам Эдмон Лепелетье также подчеркивал «крайнее уродство» Верлена, над которым смеялась жена Альфонса Доде и многие другие дамы. Один из преподавателей (не любивший Верлена) писал о нем, что это был «самый нечистый по телу и нраву ученик лицея Бонапарта» и что у него была «омерзительная физиономия, напоминавшая морду оскотинившегося преступника». Наконец, Леконт де Лиль, утонченный поэт и глава парнасской школы, уверял, что у Верлена «голова скелета, обросшего мясом». По его фотографиям и портретам этого никак не скажешь: Аполлоном он, конечно, не был, но обладал определенным обаянием, и ничего отталкивающего в его внешности не было. Видимо, у этого века были свои понятия о красоте, которым Верлен никак не соответствовал, и многие исследователи именно в этом обстоятельстве видели причину его ранней меланхолии. Только для матери и для Элизы он был прекрасен, остальные же находили его безобразным — и хуже всего было то, что он сам в это верил.
Есть еще одна странность. Ни семейная среда, ни полученное образование не предвещали той безмерной распущенности, которая проявится у Верлена в юности и зрелости — недаром его называли «ангелом» и «зверем» в одном лице. Каким же образом унаследовал он подобные склонности от столь респектабельных и добродетельных родителей? Многие биографы пытались найти объяснение в том, что Поля в детстве слишком баловали: отец проявлял непростительную слабость, а мать — преступную снисходительность… Ребенку давали слишком много сладостей и почти никогда не журили — очевидно, это и привело к алкоголизму, а также неразборчивым половым связям. Объяснение, прямо скажем, не вполне убедительное. К тому же не следует забывать, что счастливое детство — вечное прибежище взрослого: в годы несчастий и позора поэт вспоминал родительский дом со слезами на глазах, лишь в этих воспоминаниях находя утешение:
«Дома меня называли „малышом“ даже тогда, когда я превратился в большого верзилу, которого чрезвычайно раздражало это слово „малыш“ — столь сладостное ныне для моих старых осиротевших ушей, ибо звучит оно лишь в снах, в снах с печальным, очень печальным пробуждением».
Франсуа Порше, автор лучшей биографии Верлена, обнаружил новые данные, которые позволили пролить свет на некоторые загадочные стороны характера Верлена. Дурная наследственность определяет многое, и тут самое время вспомнить о неудачных родах Стефании и трех пресловутых сосудах со спиртом на полке шкафа. Решающим оказалось влияние предков по отцовской линии, среди которых некоторые были законченными алкоголиками. И в их число входит родной дед Поля — Анри Жозеф. Никола Огюст потерял отца в семь лет, и в семье о нем никогда не говорили. Анри Жозеф Верлен был нотариусом, но это мирное ремесло плохо соответствовало его буйному нраву. Только один пример: в 1804 году он стал в пьяном виде поносить последними словами императора Наполеона, и его вызвали к прокурору для объяснений. Внезапная смерть Анри Жозефа помешала дальнейшему расследованию, которое могло бы плохо для него кончиться. Хорошо помнившие его люди утверждали, что в юности он хотел посвятить себя церкви, но этому благому намерению не суждено было сбыться из-за неумеренного пристрастия к алкоголю. В роду Верленов вообще было очень много священников, а наследственная вспыльчивость проявлялась через поколение: у буяна и пьяницы Анри Жозефа родился мягкий и благоразумный сын Никола Огюст, который произвел на свет еще одного буяна и пьяницу — Поля Мари, ставшего отцом мягкого и благоразумного Жоржа. Впрочем, природная кротость последнего не смогла одолеть отравленную кровь — в 1926 году сын поэта умер от белой горячки, не оставив потомства. Так пресеклась эта линия рода Верленов.
Раннее детство Верлена прошло на юге, где стоял 2-й саперный полк. Семья кочевала из-за военной службы отца. Поль запомнил процессию «кающихся» в Монпелье: они шествовали в монашеских рясах с капюшонами, закрывающими лицо, и изрядно напугали мальчика. На празднестве по случаю провозглашения республики в Ниме он впервые услышал национальный гимн — «Марсельезу». В Лионе его больше всего поразили бурные воды Роны. По возвращении в Мец он впервые влюбился — на седьмом году жизни. Барышне было восемь лет, волосы ее отливали серебром, а лицо было усеяно веснушками. Верлен уверял, что звали ее Матильда — быть может, так оно и было, но очень вероятно, что это имя стало для него навязчивой идеей. И всю жизнь его приводили в волнение веснушки: даже много лет спустя он был способен проникнуться внезапной страстью к веснушчатой женщине — как это произошло в 1886 году с Мари Гамбье.
Разъезды, связанные с передислокацией войск, могли бы продолжаться еще долго, если бы в 1851 году не произошел инцидент, круто переменивший жизнь семьи. Капитан получил взыскание, которое счел несправедливым, и тут же подал в отставку. Командир полка приложил все усилия, чтобы оставить в армии этого образцового офицера, но Никола Огюст остался непреклонен. Верлены навсегда покинули Мец и перебрались в Париж — точнее, в Батиньоль, бывший тогда пригородом столицы, где обитали отставные военные и зажиточные рантье. В доме на улице Сен-Луи Поль Верлен проживет двадцать лет — до своей женитьбы.
Столица ему поначалу не понравилась:
«По правде говоря, первыми моими впечатлениями от Парижа были уродство, грязь и сырость. И затхлая атмосфера, ведь ноздри мои привыкли к сильным и простым запахам лотарингского востока, к целебным ветрам города в виде шахматной доски».
Но через несколько дней малыш увидел заполненные народом бульвары, и это зрелище восхитило его. И еще он обратил внимание, как громко говорят здешние обитатели, тогда как в провинции люди словно бы перешептываются. Это была парижская свобода!
Стефани поддалась очарованию Парижа ничуть не меньше, чем семилетний Поль. При всей набожности и церемонности она была по натуре женщиной очень веселой, живой и говорливой. Матильда Дельпорт, бывшая мадам Верлен, так описала в мемуарах свою тещу, с которой познакомилась в 1869 году:
«Она была удивительно похожа на своего сына с той разницей, что в юности, несомненно, обладала красотой, которую во многом сохранила. Но у нее были те же морщинки у глаз, те же густые, немного жестковатые брови».
Веселый нрав Стефани подвергнется жестоким испытаниям, связанным с обожаемым Полем. Но пока это еще ребенок — пусть не слишком красивый, но очень ласковый в те минуты, когда не топает ногами от ярости.
Они гуляют вместе по Парижу, осваиваясь в столице. Однажды утром в толпе раздается гомон: «Это принц-президент!» И, действительно, они видят перед собой Луи-Наполеона. А 4 декабря, сразу после государственного переворота, оказываются в охваченной паникой толпе, едва успевают укрыться в какой-то лавчонке и возвращаются домой несколько напуганные, но в целом довольные своим приключением. Эти политические события, увиденные глазами ребенка, вошли в «Исповедь», которую старый и больной Верлен начал писать незадолго до смерти.
Поль любил обоих родителей и сохранил это чувство до конца жизни. Но к отцу он, вдобавок, относился с глубочайшим уважением. В «Исповеди» об этом сказано так:
«Я очень гордился красивым отцовским мундиром: французского покроя, с бархатными отворотами, с двумя орденами — испанским и французским, его треуголкой с разноцветными перьями, шпагой… Гордился и его великолепной выправкой человека очень высокого роста, „каких больше не делают“, мужественным и добрым лицом, на которое привычка командовать наложила все-таки отпечаток властности, приводившей меня в трепет, что было хорошо, ибо я вел себя отвратительно, если шалости сходили мне с рук».
В мундире, который так нравился маленькому Полю, Никола Огюст Верлен позировал художнику. Этот портрет переживет бесконечные переезды и передряги — и именно на него будет обращен последний взгляд умирающего поэта.
Учение
С 1851 по 1853 год Поль посещает небольшую школу по соседству с домом. Здесь он изучает начатки арифметики, истории и географии, причем занимается очень ревностно. Позднее Верлен утверждал, будто он всегда был отъявленным лентяем — действительно, «проклятому поэту» не подобало проявлять прилежание, пусть даже и в детские годы. Тем не менее, учиться ему нравилось: когда он заболел легкой тифозной лихорадкой, то повторял в бреду таблицу умножения. Почему же родители решили отдать его в пансион, где ему предстояло стать интерном? Естественно, не из-за недостатка любви — видимо, отца встревожили некоторые черты характера Поля, проявившиеся сильнее после болезни, когда мать и кузина относились к нему с удвоенной нежностью. Мальчик был слишком неуравновешенным, и у него все чаще случались приступы странной ярости. Капитан был сторонником строгой дисциплины — по крайней мере, теоретически. Вот почему Поль в девять с половиной лет был отдан в интернат пансиона Ландри. Заведение это пользовалось очень хорошей репутацией (здесь учился сам Сент-Бёв!), и, начиная с седьмого класса, ученики посещали занятия в лицее Бонапарта (впоследствии переименованного в лицей Кондорсе). Поль согласился на перемену участи неожиданно легко: его прельстила мысль, что он получит кепи и мундир.
Но в первый же вечер он сбежал. Новые товарищи внушали ему страх, а пансионский ужин не шел ни в какое сравнение с домашним столом. Если верить старому Верлену, последнее обстоятельство оказалось решающим. Он устремился на улицу Леклюз и поспел прямо к ужину. Его обласкали, простили, накормили и отправили спать. На следующий день кузен Виктор (брат Элизы) повел мальчика в пансион:
«По дороге он внушал мне, что я должен показать себя мужчиной и представить, будто я уже как бы в полку! Черт возьми! Ведь я из семьи военных, и как он (старый сержант, ветеран Алжира, которому впоследствии предстояло совершить еще две кампании, итальянскую и мексиканскую) привык к полковой жизни, так и мне следует приспособиться к коллежу. У меня появятся друзья, если я буду хорошим — хорошим, но не слишком. К примеру, нельзя позволять сорванцам смеяться над собой, надо с ними подраться пару раз, и все пойдет как по маслу. Он говорил так хорошо, что я почти с радостью вернулся в „заведение“ — с этим словом довелось мне познакомиться в тот же вечер».
В пансионе Ландри Верлену предстояло провести девять лет. И каждый день (исключая период каникул) отец навещал сына, принося ему сладости и подарки. Некоторые биографы видели в этом свидетельство непростительной — особенно для бывшего офицера — слабости. Сам Верлен до конца дней считал это признаком великой доброты отца. Не следует забывать, что для ребенка интернат был чем-то вроде тюрьмы, откуда он мог вырваться только лишь на каникулы.
С этим же пансионом связано воспоминание и о первом «заключении». В седьмом классе юный Верлен безбожно ошибся, спрягая латинский глагол «читать» — не сумел назвать правильную форму прошедшего времени «legi» («я прочел») и был за это отправлен в карцер, который, впрочем, оказался вполне сносным. Как писал сам Верлен, в карцере этом не было ни мышей, ни крыс, ни железных засовов — «всего-навсего один поворот ключа». Главным можно считать сам факт первой утраты свободы:
«Каковы же были мои впечатления от этого ненастоящего „ареста“? Естественно, я не могу с точностью определить их теперь, в зрелом возрасте, после стольких лет и стольких куда более серьезных засовов… Не был ли этот жалкий анекдот всего лишь символом? Не заключалось ли в нем своего рода предупреждение и предвосхищение будущих несчастий, которыми я обязан чтению? Было ли уже тогда заклеймено мое детство вещими словами ненавистного и обожаемого Валлеса: „Жертва Книги“, и, если по-латыни, то на сей раз без ошибок: Legi?».[5]
Пребывание в пансионе наложило на Верлена неизгладимый отпечаток. Прежде всего, он усвоил «школярский» жаргон, от которого не избавился до конца жизни: дружеские ругательства, переделанные в прозвища фамилии, соленые словечки, невероятные сокращения, вкрапления латинских и английских выражений — всем этим заполнены его письма. Особенно показательны послания к Лепелетье — товарищу по лицею. Самое удивительное, что добряк Лепелетье считал, что друг с ним совершенно откровенен, хотя «школярский» стиль служил Верлену скорее для того, чтобы скрыть свои истинные чувства. И в пансионе, и во взрослой жизни «амикошонство» означало проявление фальшивой сердечности.
Но, пожалуй, куда более серьезным оказалось другое обстоятельство: здесь были собраны мальчики разного возраста, и Верлен в старости откровенно признавался, что нравы пансиона оставляли желать лучшего. Старшие делились с младшими своим опытом и порой приобщали их к развлечениям весьма сомнительного свойства. «Чувственность овладела мной, захватила меня в возрасте между двенадцатью и тринадцатью». Он начинал нежно поглядывать на тех, кто был моложе его, и «вот наконец мне открылась эта ужасная тайна!» Старый Верлен подчеркивал, что его тогдашнее «падение» было сущим ребячеством, чувственной игрой, в которой не следует видеть «ничего гнусного». Но даром подобные «игры» не проходят — и подтверждением этого может служить жизнь самого Верлена.
Учеником он был средним. Когда его приняли в девятый класс, с ним пришлось проводить дополнительные уроки, поскольку он считался тогда ребенком с замедленным развитием. С 1855 по 1862 год он дважды в день посещал занятия в лицее Бонапарта — как и все остальные пансионеры Ландри. Именно здесь, в 1860 году, то есть во втором классе, он познакомился с Эдмоном Лепелетье.
Из года в год, благодаря прилежной работе, ученик Верлен поднимался все выше в классной табели о рангах. Исключением были лишь точные и естественные науки — впрочем, для литераторов считалось хорошим тоном презирать физику и математику, а Верлен достаточно рано решил, что посвятит себя словесности. В классе риторики он даже получил два похвальных листа — за сочинения на латинском и французском. Вообще, более всего он преуспевал в иностранных языках — в частности, успешно осваивал английский, который впоследствии очень ему пригодится.
В семнадцать лет он уже точно знает, что хочет быть поэтом. Но не вполне сознает, что это будет за поэзия. Он подражает — сознательно и бессознательно — Виктору Гюго, Теодору де Банвилю, Жозе Мария Эредиа. Одновременно он сочиняет на них пародии. Эта страсть к пастишам, к шутливой имитации сохранится у него на всю жизнь, словно он желал доказать самому себе, что владеет всеми секретами своего ремесла.
Главная же его забота в это время — желание стать мужчиной. Ему уже недостаточно сомнительных свиданий в дортуарах — «мальчишеских шалостей», как назовет он их позднее. Он страстно жаждет познать иную любовь:
«Меня преследовала Женщина — точнее говоря, преследовала она и соблазняла меня в моих снах».
И в один прекрасный майский субботний день, получив разрешение выйти из пансиона и запасшись монетой в десять франков, выклянченной у матери, он отправляется в бордель:
«Меня провели в красно-золотую гостиную, которая походила скорее на провинциальное кафе — только вместо скамеек и столов были расставлены пуфики и канапе, где сидели в терпеливом ожидании довольно толстые и не первой молодости особы женского пола…»
В этом — чудо поэзии Верлена. Он говорит именно о «первых любовницах», доступных всякому, кто готов им заплатить, но под его пером они преображаются в пленительные создания, о которых вспоминаешь с тоской… и острым желанием:
«… я усердно продолжал мои опыты, отчего любопытство мое лишь росло, и в пятьдесят с лишним лет до конца оно все еще не удовлетворено».
Впрочем, в 1862 году Верлена, помимо первых радостей любви, ждут нелегкие испытания. Он должен сдать экзамены на степень бакалавра, и это чрезвычайно важный момент для французского школьника. С гуманитарными дисциплинами у него проблем не было: он успешно сдал речь на латинском языке и сочинение на французском — в «Исповеди» он выскажет шутливое пожелание заполучить эти тексты, чтобы «продать их как автографы». Но экзамен по физике окончился провалом. Юного кандидата попросили дать определение нагнетательного и всасывающего насоса. Верлен запомнил свой ответ: «Нагнетательным называется насос, который нагнетает, а всасывающим тот, который всасывает».
Тем не менее, невзирая на черный шар по физике, 16 августа Поль Верлен стал бакалавром филологических наук.
Для родных это большая радость. Финансовое положение семьи уже слегка пошатнулось из-за неудачных спекуляций отца, который, вдобавок, неважно себя чувствовал — он страдал от ревматических болей и все хуже видел из-за катаракты. Но успех «зайчика» (таким ласковым прозвищем капитан наградил сына) заставляет его на время забыть о неприятностях — в течение целого дня он ни разу не пожаловался. Что касается матери, то она, естественно, находится на седьмом небе от счастья. Кузина Элиза узнает приятную новость в Леклюзе, куда новоиспеченный бакалавр отправляется на отдых. Это небольшая деревушка под Аррасом: Элиза, которая носит теперь фамилию Дюжарден, живет здесь вместе с мужем.
Служба
Каникулы Верлен обычно проводил на севере, у родных. В бельгийских Арденнах, в окрестностях Буйона и Пализёля, жили его тетки по отцу — это край лесов и озер. В Пикардии, под Аррасом, находились Леклюз и Фампу — вотчина семейства Деэ. Здесь простирались огромные, кое-где заболоченные поля. По случаю успешно сданных экзаменов отец впервые разрешил Верлену поохотиться — традиционная для этих мест награда молодому человеку.
Именно за время каникул на севере Верлен пристрастился к пороку, сгубившему многих из его предков. В детские годы ему позволяли выпить немного красного вина за обедом. В пансионе, естественно, не было даже этого — на десерт воспитанникам давали подслащенную и подкрашенную воду. А в бесчисленных арденнских и пикардийских кабачках подавали крепкое фламандское пиво, можжевеловую настойку по цене один су стакан и излюбленный в этих местах «бистуй» — кофе с водкой. Впрочем, даже и в Париже мальчик стал слишком часто захаживать в пивные, когда его отпускали домой. Отец раздраженно выговаривал сыну, если тот опаздывал к ужину, тогда как мать и Элиза всегда защищали Поля. Но только летом 1862 года, после успешно сданных экзаменов, началось неумеренное пьянство, которое сам Верлен позднее назвал своей «манией и бешеной страстью»:
«Впервые я по-настоящему напился лет в семнадцать или в восемнадцать… И пил я не для того, чтобы смелее хороводиться с тамошними девицами, затаскивать их в амбар или под скирду сена, а под „пустым“ предлогом, что это помогает лучше мочиться».
Кузина Элиза, естественно, не могла повлиять на Полля, которому привыкла прощать все с детства. И он не только пристрастился к алкоголю: для него стала необходимой сама атмосфера кабака — табачный дым, гомон, духота. Ему достаточно было ступить на порог, чтобы ощутить острую потребность «нализаться» — так он именовал со смехом свое осознанное стремление к свободе во хмелю.
В конце октября Верлен вернулся в Париж, и семья занялась его «обустройством». Сам он хотел быть литератором, но родным не перечил и записался на юридический факультет, где провел два-три семестра. Отец настоял, чтобы он готовился к экзамену на должность в Министерстве финансов, но затем отказался от этой мысли — Поль работал спустя рукава и возвращался домой навеселе. Отец уже терял зрение, но запах алкоголя определял безошибочно. «Зайчика» нужно было срочно пристраивать на службу. Освоив начатки бухгалтерии и поупражнявшись в каллиграфии, Верлен поступил в страховую кампанию «Орел и Солнце». Затем капитан, использовав старые связи, добился для сына места в городской Ратуше. В марте 1864 года Поль Верлен был принят стажером в мэрию IX округа (Брачный отдел), а затем получил должность экспедитора в центральной администрации (Бюджетный отдел).
Все это произошло как бы само собой: по натуре Верлен был человеком скорее покладистым и очень любил отца, который — единственный из всей семьи — умел настоять на своем. Сам же капитан вполне успокоился: ему казалось, что отныне хорошая должность и карьерное продвижение были «зайчику» обеспечены. Верлен также был доволен — служба оказалась совсем не трудной. Лепелетье рассказал в своих мемуарах, как проходил рабочий день его друга: в десять с четвертью тот приходил в «контору» и занимался бумагами до полудня, затем отправлялся обедать, оставив на вешалке свою шляпу, которая должна была свидетельствовать о его присутствии, если бы в кабинет вдруг заглянул субпрефект. В кафе «Газ» он встречался с такими же молодыми, как он, людьми, увлеченными поэзией. Это были Альбер Мера, Леон Валад, позднее к ним присоединится и Лепелетье, проходивший стажерскую практику в адвокатуре Дворца правосудия. Около трех часов все возвращались на службу, где трудились, не покладая рук, до пяти часов. За эту работу Верлен получал 1800 франков в год. В 1870 году (согласно мемуарам Матильды Мотэ) ему платили уже 3000 франков — очевидно, усердие его заметили и поощрили.
Первые утраты
Nevermore[7]
Я шел плечом к плечу со Счастьем, восхищен…
Но равнодушный рок не знает снисхожденья.
В плоде таится червь, в дремоте — пробужденье,
Отчаянье — в любви; увы, таков закон.
Я шел плечом к плечу со Счастьем, восхищен…[8]
30 декабря 1865 года капитан Никола Огюст Верлен, кавалер ордена Почетного Легиона и святого Фердинанда умер от инсульта в возрасте шестидесяти семи лет. Эта смерть будет иметь самые серьезные последствия для его сына, ибо Поль лишился единственного человека, который обладал хоть каким-то влиянием на него. Но Верлен этого пока не сознает: он потерял горячо любимого отца, и горе его не знает границ. Он требует, чтобы на похоронах капитану были возданы воинские почести. Поскольку прощальная церемония назначена на 1 января — праздничный день — с этим возникают затруднения. Но Верлен приходит в ярость, кричит на муниципальных чиновников, добивается своего и возвращается домой в слезах, крайне взволнованный своим первым столкновением с властями. Сами похороны произвели на поэта столь тягостное впечатление, что забыть о них он не мог и тридцать лет спустя:
«Скорбный путь среди торжеств и радостей этого глупого дня остался у меня в памяти примером одного из самых ненавистных испытаний и самого мучительного долга».
Но куда более страшное испытание ожидало Верлена через год. Он всегда хотел любить и, главное, быть любимым. Не случайно многие исследователи именовали его натуру «женской» — впрочем, он признавал это и сам. И первой его любовью (если не считать веснушчатую малышку из Меца) была кузина Элиза. Верлен часто приезжал на лето в Леклюз. Они гуляли вдвоем, и рядом с ней он не чувствовал себя ни робким, ни уродливым. Он был ей дорог, она его «понимала», верила в его гений. Желая доказать это, она дала ему денег на издание первого сборника — будущих «Сатурнических стихотворений». Разумеется, Верлен мог бы обратиться и к матери, которая никогда ничего не жалела для своего Поля. Но он принял дар кузины — как дар любви. Это было счастье, омраченное лишь замужеством Элизы. Она стала женой добропорядочного и богатого свекловода, сменив девичью фамилию Монкомбль на Дюжарден не по любви, а из соображений приличия — по настоянию семьи. Это была безупречно порядочная женщина, которая могла отныне относиться к своему кузену лишь как любящая сестра. После свадьбы Элизы Верлен вновь почувствовал себя «осиротевшим».
Но и это было еще не самое худшее. Осенью 1866 года Элиза вторично стала матерью. Роды оказались трудными, а здоровье у нее всегда было хрупким. Вероятно, она успела узнать о том, что в ноябре вышли «Сатурнические стихотворения», но вряд ли ей удалось подержать эту книгу в руках, ибо всего лишь через три месяца случилась катастрофа: она пела за столом для своих близких (недаром именно ее Верлен называл в стихах своим мистическим «соловьем») и вдруг упала без чувств. Через несколько часов ее не стало. Ей было чуть больше тридцати лет.
«… ее доктор — да простит ему Господь! — лечил ее, среди прочего, морфием, который тогда не вводили с помощью инъекций, а глотали. Кузина моя, испытывая большое облегчение после каждого приема лекарства, в конце концов, как это часто случается с больными, принимающими наркотик, пристрастилась к нему и, вероятно, превысила дозу — и без того излишнюю — прописанную ей этим деревенским врачом…»
Верлену послали телеграмму в Париж, но он опоздал: сойдя с поезда и не заметив посланного за ним экипажа, он прошел двенадцать километров пешком, в грозу — и, дойдя до Леклюза, услышал похоронный звон. Воспоминание об этом было столь ужасным и навязчивым, что породило сон — Верлен часто видел его, но сам не мог объяснить некоторых деталей:
«… сон застает меня снова шагающим во весь дух по одной из улиц… Она поднимается в гору, эта улица, а причина моей поспешности — похоронное шествие, за которым я иду вместе с моим отцом, умершим уже давно, но с которым почти всегда я вижусь во сне. Я, вероятно, останавливался для покупки венка или цветов, потому что не вижу больше катафалка, который, должно быть, свернул в конце улицы в узкий переулок, уходящий направо. Направо, а не налево».[9]
Французские исследователи, естественно, давно обратили внимание на то, что в Леклюзе ведущая на кладбище улица поднимается в гору, а затем сворачивает направо, в узкий переулок — именно этим путем следуют похоронные процессии.
Элиза Монкобль навсегда осталась для Верлена самым светлым воспоминанием. Он посвятил ее памяти несколько пронзительно печальных стихотворений. Верлен не любил дочерей Элизы, что неудивительно — ведь рождение младшей стоило ей жизни:
«И я вижу, как в этом самом кабачке я, лишь несколькими месяцами моложе, сижу у этого стола, на который сейчас облокачиваюсь, и пью, как сегодня, из большой кружки темное пиво, которое багрянят закатные лучи.
И думаю о Подруге, о Сестре, каждый вечер при моем возвращении кротко журившей меня за то, что опоздал; и вспоминаю, как однажды зимним утром пришли за ней люди в черных и белых одеждах, распевая латинские стихи, исполненные ужаса и надежды.
И жестокое уныние от незабываемых бедствий пронизывает меня, молчаливого, а ночь, окутывая кабачок, где я мечтаю, гонит меня к дому на краю дороги — к тому, что повыше других жилищ, — к радостному и милому прежде дому, где встретят меня две смеющиеся и шумливые девочки в темных платьях, которых не вспоминаю, нет, и будут играть в маму, в свою любимую игру, до часа сна».[10]
Делопроизводитель на Парнасе
Мне душу странное измучило виденье,
Мне снится женщина, безвестна и мила,
Всегда одна и та ж и в вечном измененье,
О, как она меня глубоко поняла…[11]
Верлен заболел «стихоманией» еще в пансионе. Однажды ему попался в руки небольшой томик, название которого он прочел как «Цветы мая»[12] — на самом деле это были «Цветы зла» Бодлера, который стал его любимейшим поэтом. В двадцать один год Верлен напишет эссе о Бодлере, где на его примере сделает попытку описать современного человека «с его болезненно изощренным умом, чей мозг отравлен табаком, а кровь сожжена алкоголем». Эту любовь Верлен пронесет через всю жизнь: в 1892 году, невзирая на свой тогдашний пылкий католицизм, он назовет Бодлера «самой дорогой фанатической привязанностью». Однако Верлен-подросток (да и юноша тоже) видел в «Цветах зла» книгу прежде всего эротическую — обольстительную и одновременно пугающую.
2 сентября 1867 года Верлен окажется среди тех немногих людей (числом не более тридцати), которые пришли проводить Шарля Бодлера в последний путь. Все тогдашние знаменитости похороны проигнорировали: отсутствовали даже Леконт де Лиль и Готье, которые были близкими друзьями покойного. Только Теодор де Банвиль (для Верлена второй по значению поэт) не счел возможным уклониться — именно он и произнес надгробную речь, в которой сказал о безмерности утраты, о совершенстве поэтического творения, о достойной славе в грядущих поколениях.
Выйдя из пансиона и поступив на необременительную службу, Верлен быстро вошел в круг тех людей, которым суждено было стать основателями «Современного Парнаса». Излюбленным местом встреч стало кафе «Газ», а излюбленным временем — шестой час. Это был священный, демонический, «зеленый» час — иными словами, час аперитива, час абсента. Настоянная на полыни водка вошла в моду лишь после войны в Алжире — так, Бодлер, который отдал дань чуть ли не всем способам опьянения, об абсенте не говорит ни слова. Но в шестидесятые годы без абсента не обходится ни одна встреча литераторов и художников. Франсуа Порше приводит длинный и скорбный список тех, кто пристрастился к «страшной зеленой ведьме» (определение принадлежит Верлену): поэт и математик Шарль Кро; Вилье де Лиль-Адан; Альбер Глатиньи — тот самый, кому Гюго дал лестное прозвище «Шекспир-дитя» (позднее приписанное Рембо); карикатурист Андре Жиль, умерший в психиатрической больнице в Шарантоне; композитор Эммануэль Шабрье; музыканты Шарль де Сиври (будущий шурин Верлена) и Кабанье, поражавший всех небесной голубизной глаз («Господи Иисусе, говорил Верлен, и это после трех лет абсента!»). Не миновали подобной участи политики и журналисты: абсенту отдали дань знаменитый Виктор Нуар, чье убийство в 1870 году всколыхнет всю Францию; Рауль Риго, в будущем префект полиции Коммуны; Эжен Вермерш, еще один будущий коммунар, которому смертная казнь будет заменена на изгнание — они встретятся с Верленом в Лондоне, где Вермерш сойдет с ума и окончит свои дни в психиатрической больнице в Кольни; наконец, Камилл Пельтан, который станет морским министром Третьей республики — это один из немногих «благополучных» любителей абсента. Достойное место в этом ряду занимает и двадцатилетний Поль Верлен, в жизни которого кафе уже заняло громадное место: это главная пристань в его «земном странствии», ибо здесь он имеет возможность заниматься тремя вещами, без которых уже не мыслит своей жизни — пить, беседовать, грезить. Лишь под конец жизни (видимо, в трезвую минуту) Верлен разразится гневной филиппикой против любимого времяпровождения и обожаемого напитка:
«О, источник безумия и преступления, идиотизма и позора, который правительства должны были бы если не запретить (в сущности, почему бы и нет?), то подвергнуть самому ужасному налогообложению — абсент!»
В 1863 году Верлен познакомился с Луи Ксавье де Рикаром, который был старше его всего лишь на год, но уже успел создать себе некоторое имя, поскольку был прирожденным журналистом. Он принадлежал к семье аристократов-бонапартистов: его отец дослужился до генеральского чина, получил титул маркиза и должность губернатора Мартиники. Тем не менее, к республиканским убеждениям своего неистового сына старик отнесся снисходительно — под влиянием обожаемой жены, которая была значительно его моложе. Салон мадам де Рикар быстро стал центром притяжения для талантливых молодых литераторов, а Луи Ксавье использовал наследство, доставшееся ему от старой набожной тетки, чтобы основать журнал самых передовых взглядов — «Ла Ревю дю Прогре». Именно в этом журнале Поль Верлен опубликовал первое свое стихотворение «Господин Прюдом», подписанное псевдонимом «Пабло». Верлен изучал тогда испанский язык, но главное было не в этом: он не слишком желал афишировать свое участие в журнале, за которым бдительно следила полиция. 27 мая Луи Ксавье де Рикар был арестован за публикацию статьи о христианстве. Совершенно безобидная по нынешним временам критика была квалифицирована как оскорбление Империи и Религии, в результате чего издатель получил три месяца тюрьмы. Характерный штришок: Лепелетье, очень точный в том, что касается фактов, приписал к этому сроку лишних пять месяцев — невинная ложь республиканца, желающего подчеркнуть произвол властей. Как бы там ни было, отсидка Рикара в тюрьме Сен-Пелажи нанесла журналу смертельный удар — «Ла Ревю дю Прогрес» прекратил свое существование.
Тут на сцене появляется молодой книготорговец по имени Альфонс Лемер, который занимался продажей разного рода назидательных книжонок и явно этим тяготился. Он соглашается издавать литературный журнал за счет нескольких молодых литераторов — Луи Ксавье де Рикара и его приятелей: Поля Верлена или «Пабло» и Эдмона Лепелетье по прозвищу «Зуав». Естественно, основную часть расходов взял на себя Рикар, безусловный лидер в силу двух обстоятельств: он уже успел отсидеть в тюрьме и удостоился закрытия своего журнала. Еженедельник «Ар» («Искусство») прекратил свое существование после выхода нескольких номеров, но благодаря ему образовалось «ядро» будущего Парнаса: к уже сложившейся группе примкнули Катюль Мендес, Франсуа Коппе, Жером Сюлли-Прюдом и Маргарита Турне (псевдоним очаровательной Жюли Алар, которая через два года станет мадам Альфонс Доде). Именно в этом журнале сформировалась первоначальная доктрина «Парнаса». По словам Мендеса, слово «бесстрастность», ставшее лозунгом новой школы, впервые было использовано Рикаром, который ко многим своим достоинствам присовокупил еще одно — он пил только воду. Маститый Леконт де Лиль отдал в журнал свое стихотворение «Девственный лес» — это означало, что он официально благословил молодежь на доброе дело.
Впрочем, бесстрастной осталась и публика: никто не заметил появления нового журнала. Нужно было действовать, чтобы привлечь к себе внимание — устроить что-нибудь вроде новой «битвы за „Эрнани“. Поводом послужила постановка пьесы братьев Гонкуров, которых прогрессивные литераторы упрекали в том, что они пользуются покровительством императорской семьи. Пьеса провалилась — возможно, это произошло бы и без вмешательства будущих „парнасцев“, но Гонкуры затаили зло именно на них. Верлен участвовал в знаменательном событие и был крайне возбужден: несомненно, он принял для храбрости несколько порций абсента.
Но даже битва против Гонкуров не прибавила журналу подписчиков, и его решено было закрыть. Неистощимому на выдумки Рикару пришла в голову новая идея: выпустить поэтический сборник в несколько приемов. Не хватало одного — звучного и привлекательного названия. Много лет спустя Луи Ксавье де Рикар писал, что слова „Современный Парнас“ произнес какой-то незнакомец, поднимавшийся по винтовой лестнице на антресоли лавки Альфонса, где группа обычно держала военный совет. Слова эти были мгновенно подхвачены и единодушны приняты как название сборника.
Новая школа, которая выступила против эпигонов романтизма, опиралась на авторитет пяти поэтов: к лику ее официальных „святых“ были причислены — Гюго, находившийся в изгнании; Готье, бывший „красный жилет“ и ветеран прежних литературных битв; Леконт де Лиль, воспринимавшийся как наследник Гюго; Бодлер, который уже доживал последние дни в полном беспамятстве; наконец, всеобщий любимец Банвиль. Первый выпуск „Современного Парнаса“ вышел 2 марта 1866 года. В сборник вошли стихотворения тридцати семи поэтов. Полю Верлену принадлежат восемь стихотворений, и среди них выделяется бесспорный шедевр — „Сон, с которым я сроднился“.
Появление „Парнаса“ наделало шума — по крайней мере, в литературной среде. Явным свидетельством успеха были посыпавшиеся на сборник пародии и критические статьи. Самыми ярыми противниками парнасцев оказались Альфонс Доде и несколько его друзей, с одним из которых Катюль де Мендес даже дрался на дуэли. Верлен принимал активнейшее участие в полемике, однако храбрость никогда не была его сильной стороной, поэтому когда ему показали в одной из пивных Доде, он со словами „так вот эта свинья!“ набросился на автора „Писем с моей мельницы“ со спины. Взбешенный Доде обернулся, чтобы ответить, но, увидев, Верлена, которого уже оттащили от него, с улыбкой промолвил: „Пустяки, это просто пьяница“.
Литературная богема
Осень в надрывах
Скрипок тоскливых
Плачет навзрыд,
Так монотонны
Всхлипы и стоны —
Сердце болит.
Горло сдавило,
Пробил уныло
Тягостный час.
Вспомнишь, печалясь,
Дни, что промчались, -
Слезы из глаз.
Нет мне возврата,
Гонит куда-то,
Мчусь без дорог —
С ветром летящий,
Сорванный в чаще
Мертвый листок.[13]
В том же 1866 году вышел в свет первый сборник Верлена "Сатурнические стихотворения". Он разослал его знакомым литераторам, получив в ответ лишь банальные поздравления. Правда, Банвиль уверял, что прочел книгу десять раз подряд, невзирая на болезнь и смертельную усталость — однако рецензию он так и не написал. Леконт де Лиль обронил, что автор "вскоре полностью овладеет мастерством выражения". Сент-Бёв с безошибочным чутьем воздал хвалу самым слабым стихотворениям сборника. Единственным человеком, кто по достоинству оценил музыку верленовских стихов, был скромный преподаватель английского языка из Безансона. В его послании говорится:
"… у меня есть таинственное предчувствие еще неведомой дружбы… ваши "Сатурнические стихотворения" на несколько дней исцелили меня от постыдной повседневности и пробудили от прострации, вызванной окружающим гомоном… Поэты наследуют друг от друга старые формы, подобные потасканным фавориткам, но вы предпочли ковать из никем не тронутого, нового металла собственные клинки, а не рыться в отбросах старой чеканки…"
Автором этого письма был Стефан Малларме.
Лучшие, подлинно "верленовские" стихи сборника пронизаны чувством глубочайшей тревоги и тоски. Но даже лучший друг Верлена Лепелетье не поверил в искренность этих "меланхолических жалоб", которые показались ему "нарочитыми и взятыми из головы". Почему? Да просто потому, что Поль был тогда "молод, здоров, никого не любил и удовлетворялся доступными ему удовольствиями, имел полный кошелек и, покончив с не слишком трудными служебными обязанностями, выпивал множество аперитивов, отчего приходил в радостное настроение…". Между тем, уже в эти внешне "безоблачные" годы Верлен явно ощущал, что ступил на "дурную дорожку". Вполне возможно, что в обществе своих приятелей Поль старался быть веселым, хотя сам Лепелетье, не замечая противоречия, свидетельствует, что с каждой новой рюмкой он становился все мрачнее и мрачнее. Лишь много позже в этих стихах увидят отражение эпохи — той постыдной повседневности, о которой писал Верлену Малларме. Многие даже сочтут, будто "Осенняя песня" могла возникнуть лишь во Франции, перенесшей унизительное поражение в войне 1870 года, хотя Верлен создавал ее в мирные дни, под бравурную музыку Оффенбаха. А в конце века немецкий публицист Макс Нордау узрит в верленовской "тоске" симптомы декаданса, верный знак упадка одряхлевшей расы:
"Вот перед вами непредвзятый портрет знаменитейшего из вождей символизма. Лицо очевидного дегенерата, асимметрия черепа, черты монголоидного типа. Далее: патологическая страсть к бродяжничеству, дипсомания, половая распущенность, болезненные фантазии, слабость воли, неспособность обуздать инстинкты. И как следствие того — глубокая душевная тоска, рождающая проникновенные ламентации. В затуманенном мозгу этого слабоумного старика в минуты мистического экстаза возникают видения — ему являются святые и сам Господь".
В августе 1867 года Верлен, собираясь в Арденны, решил нанести визит великому патриарху, который летом покидал свой остров и перебирался в Брюссель к сыну Шарлю. Разумеется, Верлен предварительно написал Гюго, обратившись с почтительной просьбой об аудиенции. Мэтр относился к нему благосклонно, поскольку Верлен опубликовал о нем статью, полную энтузиазма. И вот Юпитер собственной персоной явился смущенному гостю. Верлен был крайне взволнован, но его обласкали и удостоили особого внимания, поскольку Гюго прочел или хотя бы пролистал "Сатурнические стихотворения": кое-что похвалил, кое-что не одобрил, но даже критические замечания из таких уст были лестными для двадцатитрехлетнего поэта. По поводу знаменитого парнасского лозунга "бесстрастие" Гюго снисходительно заметил: "Вы от этого скоро откажетесь". Слова оказались пророческими — во всяком случае, по отношению к Верлену. Молодой поэт был настолько переполнен впечатлениями от встречи, что не обратил ни малейшего внимания на Брюссель — "роковой" для него город. Простившись с Гюго, он тут же отправился на вокзал.
В Брюсселе, между тем, вышли в свет "Подружки" — второй сборник стихотворений Верлена, который укрылся под псевдонимом Пабло де Эрлагнец-Сеговия. Издатель Пуле-Маласси в свое время выпустил "Цветы зла" Бодлера, затем обанкротился и перебрался в Бельгию, где стал специализироваться на книжонках эротического характера. Ремесло это было небезопасным: на французской границе весь тираж "Подружек" конфисковали и уничтожили по постановлению суда города Лилля от 6 мая 1868 года, а Пуле-Маласси пришлось заплатить 500 франков штрафа. Верлен не пострадал, но это было его первое столкновение с юстицией — правда, на отдаленном расстоянии и под чужим именем.
Примерно в это же время Верлен становится завсегдатаем узкого кружка, в котором главную роль играла Нина де Вилар. Эта необыкновенная женщина позднее станет героиней романов: Катюль Мендес посвятит ей свой роман с ключом "Дом старухи", английский писатель Джордж Мур — "Воспоминания о моей жизни мертвеца". Считается, что именно она изображена на картине Мане "Женщина с веером": если это действительно так, портрет был сделан незадолго до того, как Нина потеряла рассудок. Она умерла в состоянии полного безумия в 1884 году, когда ей едва исполнился сорок один год.
Но Верлен познакомился с ней, когда ей было двадцать пять и ничто не предвещало столь ужасного конца. У нее было солидное состояние — примерно пятьдесят тысяч франков (позднее бесследно улетучатся и деньги). Она была виртуозной пианисткой и сочиняла романсы, увлекалась верховой ездой и фехтованием, а также спиритизмом. Однако более всего привлекали ее молодые и талантливые мужчины. В 1864 году она вышла замуж за графа Эктора де Калья, что нисколько не мешало ей принимать у себя цвет тогдашней литературной и артистической богемы. С мужем она рассталась довольно быстро, ибо граф пил настолько безбожно, что Нина этого не выдержала, хотя сама была большой любительницей абсента и приобщила к нему свою старенькую мать. Она была музой (и любовницей) тех, в ком видела воплощение поэзии — в ее объятиях побывали Шарль Кро, Катюль Мендес и многие другие. Что касается графа Вилье де Лиль-Адана, то он попросту жил какое-то время у нее на содержании, а в ответ на упреки друзей говорил: "Сколько шума из-за нескольких котлет!"
"Салон" Нины представлял собой фантастический мир, где не существовало никаких условностей и больше всего ценились безумства. Желчные Гонкуры называли его "мастерской по расстройству разума", что оказалось пророчеством — по крайней мере, в отношении самой хозяйки. Верлен с наслаждением окунулся в эту атмосферу вечного праздника, легкого флирта и салонной комедии. Окружающая действительность внушала отвращение и пугала. "Франция с вытаращенными глазами", отравленная страстью к деньгам, отупевшая и ожиревшая, была объектом бесконечного сарказма. Никогда еще пропасть между "глупой толпой" и "поэтом-творцом" не казалась такой бездонной. Верлен отнюдь не был социалистом — его ненависть к прогнившей Второй империи проистекала из внутреннего аристократизма духа. Но у Нины бывали и настоящие "красные": Валлес, Флуранс, Риго.
14 января 1869 года все парнасцы, посещавшие салон Нины и салон мадам де Рикар, назначили друг другу свидание в театре "Одеон", чтобы устроить овацию одноактной пьесе в стихах "Прохожий" — автором ее был Франсуа Коппе. Пьеса прошла триумфально — во многом благодаря молодой и почти никому не известной актрисе по имени Сара Бернар. Однако энтузиазм парнасцев не всем пришелся по нраву, и фельетонист Виктор Кошина на следующий день разразился негодующей статьей, где поносил последними словами клаку, устроенную этими "гадкими мальчишками". Оскорбительное выражение было немедленно подхвачено, и с той поры парнасцы стали собираться раз в месяц на ужин "Гадких мальчишек" в кафе театра Бобино — недалеко от места сражения и победы. Успех Коппе не вызвал никакой ревности у Верлена. Он вообще не был завистлив и всегда был щедр на похвалу — качество довольно редкое для литератора.
Это тем более удивительно, что у Верлена был повод обижаться: сочинения Коппе раскупались нарасхват, тогда как вышедшие в 1869 году (по-прежнему за счет автора) "Галантные празднества" вновь остались не замеченными публикой. Только некоторые собратья оценили новый сборник Верлена. Теодор де Банвиль назвал его "магической книжицей", а Виктор Гюго похвалил отдельные стихи. Верлен воззвал к Лепелетье с просьбой написать рецензию, но его друг, страстный республиканец, ухитрился попасть на месяц в тюрьму за свои слишком острые статьи.
Между тем, поведение Поля все больше тревожило мать. Она была все так же снисходительна к нему, но его пьяные выходки участились. В один прекрасный день он заявился домой в таком состоянии, что рухнул на постель одетым и заснул, не сняв даже шляпы. Мать разбудила его, он стал нелепо оправдываться, но она поднесла ему под нос зеркало, после чего оба они начали хохотать. Вскоре последовал очередной скандал: отправившись на похороны своей тетушки, умершей в марте 1869 года, Поль повел себя настолько безобразно, что улизнул в Париж "по-английски", не прощаясь из опасения упреков. Он удрал настолько поспешно, что местному кабатчику пришлось подать счет родным покойной: "Пять франков за можжевелую водку для господина Поля". Можжевеловая водка стоила один су за рюмку, следовательно, Верлен осушил сто таких рюмок.
Неумеренное потребление спиртного уже начинало приносить свои плоды, воздействуя прежде всего на творческие способности поэта. С Лепелетье Верлен был достаточно откровенен и писал ему об этом так:
"Я вчера вернулся из Фампу, где три раза изрядно нализался… Осталась от этого легкая усталость и некоторое отупение, о чем свидетельствует, впрочем, и нынешняя вялая эпистолярная манера… Ты стихи пишешь? Я каждое утро пытаюсь, но не могу извлечь из моих затуманенных мозгов ровным счетом ничего!"
Еще одним симптомом алкоголизма была безрассудная вспыльчивость. В первой фазе опьянения Верлен был весел, говорлив, необыкновенно дружелюбен, но за этим неизбежно наступала вторая фаза — угрюмое и тяжелое молчание. Еще несколько стаканов, и наступала третья фаза — вспышка внезапной ярости. Все становилось предлогом для ссоры, и существует множество свидетельств того, что в таком состоянии Верлен был совершенно невыносим. И уже в это время он порой достигает четвертой фазы — с бредом и галлюцинациями. В этом состоянии он был смертельно опасен, поскольку ярость его искала выхода в крови.
Однажды, после обильных возлияний, он заявил, что убьет императора и двинулся к Тюильри. Сама по себе эта история довольно забавная: Верлен проявлял бесстрашие только под винными парами — и ему достаточно было увидеть полицейских, чтобы мгновенно протрезветь. Показательным здесь является само намерение убить. Уже в 1869 году произошло несколько инцидентов — причем с теми людьми, к которым Верлен никогда не испытывал ни ненависти, ни злобы. Так, Лепелетье едва не стал жертвой своего друга, причем грозившую ему опасность он осознал не сразу. Во время одной из ночных прогулок уставший Эдмон предложил разойтись по домам, тогда как Поль настаивал, что надо зайти в еще один кабачок и "добавить". Спор закончился тем, что Верлен внезапно выхватил стилет, спрятанный в трости, и ринулся на своего друга. Тот поначалу шутливо отбивался своей тростью, а потом обратился в бегство. Верлен устремился в погоню за ним, но, к счастью, споткнулся и выронил нож.
Еще более ужасная сцена произошла в июле 1869 года. Вернувшись домой в пять утра мертвецки пьяным, Верлен вступает в перебранку с матерью. И вновь внезапное помрачение рассудка: он срывает со стены саблю своего отца с криком, что убьет сначала мать, а потом себя. Лишь с помощью служанки Виктории безумца удается успокоить и уложить в постель. На следующий день Стефани пишет своей сестре Розе, умоляя ее приехать. Поль питает спасительный страх к этой старой деве чрезвычайного крепкого сложения. К несчастью, она вскоре уезжает, и "размолвка" матери с сыном получает жуткое продолжение. На сей раз Поль возвращается ночью в сопровождении приятеля, чье имя осталось неизвестным. Он вновь берется за саблю с криком: "У тебя есть четыре тысячи франков, ты должна мне их немедленно отдать!" Приятель хватает его за руки, женщины вырывают у него саблю, и наступает короткая передышка. Но стоило приятелю уйти, как Поль бросается на мать, валит ее на пол и начинает душить с воплем: "Ты не выйдешь из этого дома живой!" Молодая и сильная Виктория оттаскивает пьяницу, который устремляется к шкафу, рывком открывает дверцы и одним ударом трости сбрасывает на пол три сосуда со спиртом, где хранятся останки "маленьких братиков". Затем он начинает крушить мебель и посуду с криком: "К черту ваши сосуды, дайте денег!" Наконец его ярость стихает, он засыпает прямо на полу, а плачущая мадам Верлен подбирает несчастных зародышей и вечером вместе с Викторией закапывает их в саду при доме. Проснувшись, Поль видит, что квартира опустела — мать нашла убежище у своих друзей. Но любящему сыну понадобилось всего лишь три дня, чтобы вымолить прощение, и Стефани вернулась в свою квартиру на улице Леклюз.
Однако было бы ошибкой считать, что Верлен не испытывал никаких угрызений. Он не обладал беспощадной проницательностью Бодлера и не умел анализировать состояние своей души, но тем сильнее, быть может, ощущал глубокую тоску и отвращение к самому себе. В такие минуты он бесцельно бродил по улицам, избегая общества друзей. Однажды он остановился перед церковью и, после некоторых колебаний, вошел. По собственному признанию, он перестал верить в Бога с пятнадцати лет, не посещал мессу и забыл все молитвы. Тем не менее, в этот день он встал на колени в исповедальне и со слезами на глазах начал перечислять все свои грехи. Отпущения ему не дали, но через неделю допустили к святому причастию. Потрясение оказалось настолько сильным, что в течение двух недель он не прикасался к спиртному, избегая заходить в кафе и сразу же после службы возвращаясь в Батиньоль. Это были две недели "мудрости" в 1869 году. Затем он сорвался… Но ему самому было ясно, что больше так продолжаться не может. Кто-то или что-то должно было его спасти.
Матильда Мотэ
Так как брезжит день, и в близости рассвета,
И в виду надежд, разбитых было в прах,
Но сулящих мне, что вновь по их обету
Это счастье будет все в моих руках, -
Навсегда конец печальным размышленьям,
Навсегда — недобрым грезам; навсегда —
Поджиманью губ, насмешкам и сомненьям,
И всему, чем мысль бездушная горда.
Чтобы кулаков не смела тискать злоба.
Легче на обиды пошлости смотреть.
Чтобы сердце зла не поминало. Чтобы
Не искала грусть в вине забвенья впредь.
Ибо я хочу в тот час, как гость лучистый
Ночь моей души, спустившись, озарил,
Ввериться любви, без умиранья чистой
Именем за ней парящих добрых сил.
Я доверюсь вам, очей моих зарницы.
За тобой пойду, вожатого рука,
Я пойду стезей тернистой ли, случится,
Иль дорога будет мшиста и легка.
Я пройду по жизни непоколебимо
Прямо за судьбой, куда глаза глядят.
Я ее приму без торга и нажима.
Много будет встреч, и стычек, и засад.
И коль скоро я, чтоб скоротать дорогу.
Песнею-другою спутнице польщу,
А она судья, мне кажется, не строгий,
Я про рай иной и слышать не хочу.[14]
Верлен считал эти стихи лучшими из написанного им: они вошли в сборник "Добрая песня", посвященный невесте. Матильда была сводной сестрой парижского приятеля Верлена, начинающего композитора Шарля де Сиври, которого друзья величали "Сивро". Его мать вторично вышла замуж за господина Мотэ де Флервиля и родила в этом браке двух дочерей. Старшей — Матильде — в 1870 году исполнилось шестнадцать лет. Впоследствии Верлен вспоминал о своих похождениях ухажера с нескрываемой иронией:
"В былое — увы, уже былое — время (как, однако, стареешь, все же недостаточно быстро приближаясь к могиле!) — когда я ухаживал весьма классически и весьма буржуазно, с ужасным, пленительным и нелепым оттенком скептического энтузиазма, — я, помнится, написал приблизительно следующие забавные строчки:
"Она будет небольшого роста, тонка, с наклонностью к полноте, одета почти просто, чуть-чуть кокетлива, но совсем немного. Я вижу ее всегда в сером и зеленом, нежно-зеленом и темно-сером, в тоне ее неопределенных волос, светло-русых, но ближе к темным, и ее глаз, цвета которых никак не назовешь и выражения не разгадаешь. Быть может, добра, хотя, вероятно, мстительна и способна на неисцелимое злопамятство. (…)".
Последние слова, несомненно, навеяны всем пережитым: с точки зрения Верлена, Матильда оказалась и мстительной, и злопамятной. Но внешность ее он описал точно: именно такую девушку он полюбил и надеялся обрести с ней счастье. В этот период "энтузиазма" ему нравилось в ней все. Он любил "карловингское" имя своей невесты и называл его "звонким". Правда, в династии Каролингов (потомков Карла Великого) не было ни одной сколько-нибудь известной королевы Матильды, однако в Средние века многие знаменитые женщины носили это имя — такие, как жена германского императора Оттона или герцогиня Нормандии. Существовало предание, в сестру короля Ричарда Львиное Сердце Матильду влюбился брат египетского султана Саладина Малек-Адель,[15] и эта романтическая любовь послужила сюжетом романа г-жи Коттен[16]"Матильда". Лубочные изображения Малек-Аделя были популярны в народе во времена Верлена, который — как и подобает истинному романтику — обожал Средневековье. Естественно, что с именем любимой он связывал поэтические представления о Прекрасной Даме и рыцарском служении.
Они познакомились в июне 1869 года. Верлен зашел на улицу Николе, чтобы навестить Сиври. Тот был ночной пташкой: работал по ночам, а вставал не раньше пяти часов вечера. Когда появился Верлен, он еще лежал в постели. Вскоре в дверь деликатно постучали, и вошла совсем молоденькая девушка — почти девочка. При виде незнакомца она попятилась, но брат сказал ей: "Останься. Этот господин — поэт. Верлен, знаешь такого?" На это Матильда ответила, что очень любит поэтов — очаровательная наивность, которая гостю чрезвычайно понравилась. Они немного поговорили, а затем Верлен распрощался, напомнив Сиври об условленной на вечер встрече в кафе "Дельта".
"Я стал бродить без цели, хотя зверь мой направлял меня к жуткому зеленому пойлу. Не иначе, как случай, счастливый, неожиданный, негаданный случай (в Бога я уже давно перестал верить) поставил эту нежную девушку на дурной путь, который сулил мне неизбежную гибель…"
Все детали этой первой встречи глубоко врезались ему в память. В прозе его и стихах рассеяны бесчисленные упоминания о Матильде. Если их суммировать, можно сказать, что он смотрел на девушку взглядом знатока и ценителя, словно бы раздевая ее и оценивая грядущее наслаждение. Это был взгляд автора "Подружек" и одновременно — взгляд человека, ощутившего возможность спасения в любви. От нее не требовалось быть умной и разбираться в поэзии: на сей счет ум Верлена не питал никаких иллюзий с самого начала. Она была очаровательна и целомудренно чиста — и грешный поэт увидел в ней воплощение благодетельной невинности и надежду на добропорядочную жизнь:
"С того дня в жизни моей началась "новая эра", как ее обычно называют. … поведение мое с двадцати примерно лет (а мне тогда исполнилось двадцать пять) было распущенным, чтобы не сказать необузданным, и я ощущал потребность порядка или, говоря буржуазным языком, разумности: одним словом, мне хотелось с этим покончить и, поскольку я в сущности был еще очень молод, покончить по-хорошему… прекратить излишества, пьянки, связи с женщинами. Это было начало мудрости — нет, не будем преувеличивать! — начало умеренности ввиду возможного и достижимого счастья или, по крайней мере, спокойного супружества".
Что касается Матильды, то она дважды встречала Верлена до из знакомства: два года назад, когда ей было неполных четырнадцать лет, в салоне Нины де Калья, и чуть позже — на одном из праздников в мастерской скульптора Берто. Брат охотно брал ее с собой, и она вспомнила, что у Нины Верлен показался ей плохо одетым и уродливым — с "глазами японца в изгнании". У Берто поэт выглядел "кротким и слегка испуганным". В тот день ей, кстати, гораздо больше приглянулся другой литератор с "интересной внешностью и профилем Бонапарта" — это был Франсуа Коппе, многие стихи которого она знала наизусть. Ей очень хотелось, чтобы Шарль представил ее этому красавцу, но в суматохе вечера он почти забыл о своей сестре. Однако Верлен тоже был литератором, и она не лукавила, когда говорила, что любит поэтов. Ее сводный брат принадлежал к артистической богеме и выгодно отличался от своей слишком "буржуазной" родни. Матильда с радостью стала бы музой поэта — иными словами, она была готова полюбить Верлена.
Когда окончательно проснувшийся Сиври нашел своего друга в кафе, тот рассматривал иллюстрированные журналы. Перед ним стоял стакан с абсентом, к которому он даже не притронулся — и, к великому изумлению Сиври, не выпил ни капли за весь вечер. Завершая описание этой сцены в "Исповеди", Верлен откровенно признает:
"Абсент… в скором времени взял страшный реванш".
На следующий день Верлен впал в такое возбуждение, что уехал в Фампу, никого не предупредив и лишь попросив мать известить начальство о его внезапной болезни. В Фампу на него навалилась такая тоска, что он ринулся пешком в Аррас, находившийся в двадцати километрах. Не пропустив по дороге ни одной харчевни, он обошел затем все городские кафе и вернулся в Фампу полуночным поездом в неописуемом состоянии, преисполненный ярости, омерзения к себе, тошноты и любви.
Утром он схватил перо и одним духом сочинил умоляющее послание к Сиври, где просил у двадцатилетнего юноши руки его шестнадцатилетней сводной сестры. Следующие три дня прошли в смертельной тревоге и ожидании. Наконец пришел ответ: "Сивро" передал просьбу Верлена матери и отчиму, которые отнеслись к ней благосклонно — в случае согласия Матильды брак представлялся им вполне возможным. Верлен ощутил себя на седьмом небе от счастья и испытал прилив поэтического вдохновения — замысел "Доброй песни" зародился именно в Фампу.
Период ухаживания за Матильдой в ожидании женитьбы был самым счастливым (если не считать раннего детства) временем в жизни Верлена. Правда, матушка поначалу не одобряла выбор сына. Она хотела женить сына на одной из своих племянниц: эта энергичная и волевая девушка могла бы держать его в узде. Но Поль уже потерял голову от кроткой Матильды, и его матери пришлось смириться даже с тем, что за невесту не давали приданого. Кстати говоря, уступчивость и снисходительность семейства Мотэ вполне объяснимы: Верлен был, что называется, хорошей партией — имел устойчивое социальное положение и должен был унаследовать солидную ренту. Матильда в своих воспоминаниях тщательно обходит это неприятное обстоятельство — более того, пытается доказать, будто Верлены были бедны:
"Их жилище на улице Леклюз было более, чем скромным: маленькая четырехкомнатная квартирка на четвертом этаже, печальная и уродливая; безвкусная мебель в стиле Луи-Филиппа, обшарпанная, как часто бывает у военных, вынужденных постоянно менять гарнизон. Самой красивой была гостиная с двумя окнами на улицу: большой портрет маслом отца Верлена в офицерском мундире стоял на пианино и служил единственным украшением этой комнаты — ни одной веселенькой вещицы, ни единой безделушки, ни даже растения какого-нибудь или цветка в вазе. При этом все было вычищено и навощено, чистота безупречная и абсолютный порядок: было видно, что здесь живут разорившиеся люди — бедность гордая и благопристойная, но однако же несомненная".
Вполне вероятно, что Стефани, дорожившая старой мебелью, не желала с ней расставаться, но до разорения семье было еще очень далеко, о чем Матильда прекрасно знала: материальное благополучие молодой четы было обеспечено деньгами не жены, а мужа.
В конце июля Верлен возвращается из Фампу и завязывает нежную переписку с Матильдой, которая на лето уехала из Парижа вместе с родителями. Верлен позднее будет вспоминать об этих "дорогих глупеньких письмах" — пока еще наивность невесты его умиляет. В ответных посланиях он стремится разжечь пробуждающиеся чувства:
"… пламени этому впоследствии суждено будет угаснуть в чаду процесса о раздельном проживании, а затем в мерзости развода. Но не будем забегать вперед, вспоминая подобные ужасы!"
Официальное обручение, которого Верлен ожидал с нетерпением, состоялось лишь осенью. Но Матильда была так молода, что по обоюдному согласию семей было решено отпраздновать свадьбу, когда ей исполнится шестнадцать лет. Поэт согласился безропотно — к тому же, ему хотелось завершить книгу, а для этого требовалось время.
В ожидании счастливого дня Поль каждое воскресенье отправляется на ужин к Мотэ вместе со своей матерью. В остальные дни недели он навещает невесту, и они ведут нескончаемые "сладостные" разговоры о своем будущем. Наивность Матильды, действительно, не знала границ. Когда Верлену удалось сорвать первый поцелуй, она решила, что забеременела. Этот забавный диалог стоит того, чтобы его воспроизвести:
"У нас будет ребенок". — На что я ответил с простодушием уже совершенно семейным: "Надеюсь, что да, и не один". Тут она, не подозревая об этом, повторила восхитительную строчку шутника Пирона: "Сомневаться незачем, один у нас будет наверняка". Я тупо молчал, не зная, что сказать в ответ на эту абракадабру, а она невозмутимо продолжила: "Я вчера спросила у мамы, откуда берутся дети, и она сказала мне, что для этого надо поцеловать мужчину в губы. Теперь ты понимаешь…"
Сама Матильда позднее писала:
"Он чрезвычайно удивлялся моей невинности, поскольку не привык общаться с молоденькими девушками и никогда не имел сестры; но невинность моя была вполне естественной, и все мои подруги были точно такими же, как я. В предместье Сен-Жермен, где я выросла, женщины порой ведут себя легкомысленно, но девичью невинность здесь всегда блюли свято".
Больше всего девочку занимало то, как она обставит свое "гнездышко"; Верлена тогда неприятно поразило ее намерение завести две кровати — одну для себя, другую для мужа. Впрочем, он пока соглашается на все, ибо главной его целью было "изменить свою жизнь". Между тем, о предстоящей свадьбе узнают друзья и знакомые. Некоторым Верлен рассказывает об этом сам.[17] Он теперь редко бывает в салонах Нины и мадам де Рикар, зато по вторникам принимает у себя самых близких людей: Лепелетье, Коппе, Шарля Кро, Валада, Мера. Матильда нередко принимала участие в этих вечерах:
"Мой жених там блистал остроумием, читал свои стихи… Я им гордилась. Эммануэль Шабрье и мой брат играли на пианино в четыре руки…"
Первоначально было решено сыграть свадьбу в начале июня 1870 года. Но этот брак, положительно, сопровождался дурными предзнаменованиями. В Париже тогда свирепствовала эпидемия оспы. Матильда заболела, и Поль прожил несколько дней в страшной тревоге. В "Исповеди" он говорит, что каждый день навещал больную невесту. Со своей стороны, Матильда утверждала, что "он настолько боялся заразиться, что едва осмеливался расспрашивать обо мне через садовую калитку". Трудно сказать, кому здесь стоит верить: впрочем, осмотрительность Верлена в данном случае вполне понятна. Едва Матильда поправилась (болезнь проходила в сравнительно легкой форме и не нанесла ущерба ее красоте), как заболела ее мать. Свадьбу вновь пришлось отложить.
Между тем, политическое положение страны стремительно ухудшалось. Франция не желала допустить воцарения принца из дома Гогенцоллернов на испанском троне — видимо, Наполеону III не давали покоя лавры Людовика XIV в войне за "испанское наследство". "Добрая песня" вышла в свет летом 1870 года, в канун войны, которую Франция объявила Пруссии. Банвиль в своей рецензии возвестил о появлении "восхитительного букета поэтических цветов", а Гюго, обладавший даром чеканных формулировок, назвал этот сборник "цветком в снаряде".
Верлен мог не бояться призыва как чиновник городской администрации — к тому же, мобилизация не касалась мужчин 1844 года рождения. Венчание было назначено на 11 августа. Дожидаясь выздоровления будущей тещи, Верлен отправился с друзьями в Нормандию и вернулся в Париж в начале августа. Далее события развивались с пугающей быстротой. 6 августа стало известно о победе (ложной) французских войск под командованием Мак-Магона, а 8 августа в контору Верлена ворвался один из его друзей с заряженным револьвером в руках. Юноша объявил, что хочет покончить с собой из-за смерти обожаемой любовницы и, швырнув на стол тяжелый сверток (там оказалось завещание), тут же ринулся на улицу. Ошеломленный Верлен попытался догнать несчастного, но безуспешно. Адреса юноши он не знал. На следующий день ему принесли телеграмму: молодой человек, действительно, покончил с собой. Его убитая горем мать была не в силах заниматься похоронами, и эту заботу взял на себя Верлен. После печальной церемонии он зашел в кафе, где узнал распространившуюся с быстротой молнии весть о страшном поражении Рейнской армии, которая — по официальным сообщениям — отступала, "полностью сохраняя свои боевые порядки". Мгновенно возникли стихийные манифестации в поддержку республики. Верлен не усидел на месте и принял такое активное участие в одной из них, что едва не был арестован. В тот же злосчастный день 9 августа появился приказ о мобилизации всех неженатых мужчин призывных возрастов — в том числе, 1844 года рождения. Это известие повергло Верлена в отчаяние: казалось, сами звезды вступили в сговор, желая помешать его женитьбе.
Тем не менее, 11 августа 1870 года венчание состоялось. Все были счастливы. Свидетелями Верлена стали Леон Валад и Поль Фуше, шурин Виктора Гюго. Лепелетье отсутствовал на свадьбе: в начале войны он записался добровольцем и прислал новобрачным поэтическое поздравление из Рейнской армии — стихи были ужасными, но свидетельствовали о неизменной доброте лицейского друга. После церковной службы Матильду поздравила — также в стихах — ее бывшая учительница, мадемуазель Луиза Мишель, которая в скором времени станет "Красной Девой" Коммуны. Верлен запомнил этот трогательный момент:
"Она пожелала нам оставаться добрыми гражданами, посвящая себя рождению и воспитанию детей. Наивное и слишком доброе сердце, но какое все же великое, невзирая на столь многие прекрасные ошибки!"
Впрочем, самые проникновенные слова старый поэт, не утративший юношеского пыла, приберег для описания иных радостей (в чем некоторые биографы усматривают цинизм):
"Быстрей, кучер, на улицу Николе, там — праздничный обед, чай, музицирование до десяти вечера… и брачная ночь! Вы хотите узнать о ней? Первая брачная ночь принесла мне все, что я ожидал, и, осмелюсь, сказать, все что мы — она и я — ожидали, ибо в эти божественные часы моя деликатность и ее стыдливость могли сравниться только с истинной, пылкой страстью с обеих сторон. Ни одна ночь в моей жизни не сравнится с этой и — ручаюсь в том головой — в ее жизни также не было второй такой ночи!"
Матильда, со своей стороны, не забыла первые счастливые месяцы:
"Наш брак был браком по любви, это все знают, но традиционный удар молнии поразил не обоих, как утверждает это Эдмон Лепелетье. Поначалу я прониклась жалостью к этому существу, столь обиженному природой и такому несчастному на вид; это чувство привело к тому, что я была с ним гораздо любезнее и приветливее, чем с другими друзьями моего брата. А потом мне стало лестно и одновременно приятно, что я так быстро сумела внушить такую глубокую любовь.
Между предложением руки и сердца в июне 1869 и бракосочетанием 11 августа 1870 прошло четырнадцать месяцев, в течение которых я все больше и больше привязывалась к Верлену, и могу сказать с полной искренностью, что в день венчания я любила его так же сильно, как он любил меня. Ведь только я, одна лишь я знала иного Верлена — не такого, каким он был с другими людьми: влюбленного Верлена, то есть полностью преобразившегося физически и морально… В течение четырнадцати месяцев ухаживания и в первый год нашего брака Верлен был нежен, мягок, внимателен и весел — да, весел, и веселость его была здоровой и приветливой. Он совсем перестал пить, поэтому те, кто знал его до брака, сочли, что он окончательно излечился, тогда как я и мои родители, мы просто не подозревали, что он пьяница. Узнали же мы об этом, увы, слишком поздно!"
Верлен женился и, казалось, был вполне доволен своим новым положением. В одном из писем он признавался: "Я рожден для тихого счастья и любви". Юная Матильда дала ему ощущение настоящего "семейного очага". Росла и его поэтическая слава: он выпустил уже четыре стихотворных сборника, и один из них даже удостоился цензурного запрета. Вместе с женой они посещали самые изысканные салоны. Их допустили в интимный кружок Виктора Гюго. Счастье было "буржуазным", но несомненным: поэт, наконец, образумился — на радость своей молодой супруге и обожаемой матери.
Война и Коммуна
Трудно сказать, как долго продержался бы Верлен в состоянии "тихого счастья и любви" без вмешательства внешних сил, но, как уже было сказано, брак с Матильдой был заключен под зловещим расположением звезд.
Молодожены поселились в прекрасной квартире в доме № 2 на улице Кардиналь-Лемуан. Матильды вспоминала об этих днях с умилением, особенно восторгаясь обстановкой. Ее мечта сбылась — у них получилось чудесное "гнездышко":
"Моя комната была очень красивой, со старинной мебелью — подлинной, потому что это было наследство моей бабушки… Комната Верлена также была очень хороша… Наконец, у нас была прелестная гостиная с двумя окнами и голландский кабинет, отделанный слоновой костью и с зеркалами… Поль был в восторге от нашей милой квартирки, веселой и светлой, с изумительным видом на Париж. Муж радовался еще и тому, что мог приходить домой обедать, ведь Ратуша находилась рядом… О, наши миленькие завтраки, сколько радости они нам приносили!"
"Миленькие завтраки" происходили во второй половине августа 1870 года, когда Рейнская армия была блокирована в Меце — родном городе Верлена. 4 сентября произошла революция, покончившая с империей и ознаменовавшая начало Третьей республики. Матильда заметила это событие:
"На улицах люди смеялись и обнимались, все пели "Марсельезу". Вечером на площади перед Ратушей собралась толпа, которая встретила новое правительство овациями…"
Осень внесла заметные изменения в жизнь молодоженов. Верлен записался в Национальную гвардию и был зачислен солдатом в 160-й батальон. Одновременно он продолжал исполнять обязанности делопроизводителя в Префектуре Сены:
"… должность, которая давала право на освобождение от военной службы, не будь я таким патриотом (скорее, "патрульотом" — случай, между нами, не редкий среди парижан, одержимых "осадной" лихорадкой)".
Верлен довольно быстро утомился своей "доморощенной преданностью": воинские обязанности оказались такими же скучными, как конторская работа. Кроме того, он тяготился близостью всех этих мелких лавочников, одетых в солдатские мундиры. Верлен был человеком "богемным", но при этом сохранял все предубеждения своего социального круга: он охотно общался со "своими" и держал на дистанции "чужаков". Еще одно немаловажное обстоятельство: Верлену совсем не улыбалось "сыграть в ящик" в избытке патриотического рвения. Матильда была несколько шокирована трусостью мужа, но послушно исполнила его просьбу: отнесла капитану письмо, в котором Верлен отпрашивался с дежурства под предлогом срочной работы в Ратуше. Затем он повторял этот трюк еще пару раз, пока обман не вскрылся. За пренебрежение воинским долгом Верлена отправили на двое суток на гауптвахту. Это событие он числил своим вторым — после карцера в пансионе — тюремным заключением.
В конце концов Верлен все же избавился от надоевшей ему службы — и очень простым способом. По словам Матильды, они переехали к матери Верлена в Батиньоль, откуда тот написал своему капитану, что в связи с переменой места жительства он приписан теперь к другому батальону. Капитан и не подумал проверить это утверждение, так что хитрая уловка Верлена полностью оправдала себя — до самого конца войны его никто не беспокоил. К слову сказать, Стефани была в курсе дела, но любовь к сыну оказалась сильнее понятий о воинской чести, которые она разделяла как жена офицера.
В начале зимы в Париж вернулся Виктор Гюго — его изгнание завершилось триумфом. Верлен нанес "учителю" визит вместе с женой. В течение всей осады Парижа они будут постоянными гостями в доме Гюго. Когда начались бомбардировки, отец Матильды решил, что на Монмартре становится небезопасно и снял квартиру на бульваре Сен-Жермен для жены, второй дочери и пасынка Шарля де Сиври. Тот получил небольшое ранение во время боев, а затем подхватил оспу в полевом лазарете, и его отправили лечиться домой. Зимой 1870–1871 годов квартира на бульваре Сен-Жермен стала местом, где Верлен и Шарль встречались с друзьями — у мадам Мотэ был хороший запас дров, и здесь всегда можно было отогреться. На рождество вся компания собралась у Верленов. Матильде удалось купить паштет "из куропаток". За столом доктор Антуан Кро обнаружил в нем крохотные косточки и, внимательно изучив их, провозгласил:
"Ваша куропатка, мадам, была крысой, но это чрезвычайно вкусная крыса. Положите мне, пожалуйста, еще".
Вскоре яйца стали продавать по пять франков за штуку, а за небольшой мешок картошки требовали сорок франков.
В своих мемуарах Матильда утверждала, будто ничто не омрачало ее жизнь с Верленом до появления Рембо. Это очевидная неправда: их брак дал трещину во время осады и почти рухнул к моменту приезда юного вундеркинда в Париж. Верлен вновь запил во время своей службы в Национальной гвардии. Вероятно, это произошло бы в любом случае, но непосредственной причиной стали скука и сильные холода. Верлен, кстати, всегда был неженкой — мать его, хоть и была женой офицера, закаливанием сына не занималась. Он вечно кутался, на ночь непременно надевал шерстяной колпак, бережно оборачивал шею шарфом — сохранилось несколько рисунков Верлена, уткнувшегося носом в свой воротник. А на "боевом" дежурстве от холода спасались "привычным солдатским способом" — горячительными напитками. Когда же гвардейцы расходились с укреплений по домам, то не пропускали ни один кабак. И вот уже Верлен возвращается в "милую квартирку" на улице Кардиналь-Лемуан пошатываясь, и от него разит спиртным. Перед Матильдой предстал Поль, которого она еще не знала. Начались слезы и упреки, только раздражавшие пьяницу. В один прекрасный вечер семейная ссора завершилась пощечиной. В "Исповеди" Верлен говорит о первом "шлепке" довольно небрежным тоном, хотя и призывает мужчин всячески воздерживаться и не давать волю рукам, если они хотят сохранить семью:
"О, эта первая ссора в молодой семье, великое дело! Дата памятная, порой роковая. В нашем случае был второй вариант".
Матильде пришлось искать убежища у своей матери, когда с момента венчания не прошло еще и полугода. Но Поль раскаялся, и мадам Мотэ посоветовала дочери вернуться. Кстати, Верлен очень хорошо относился к теще — в частности, за то, что она всегда призывала к примирению и была "ангелом-хранителем" семьи.
18 марта 1871 года на стенах парижских домов появились белые афиши. Центральный комитет национальной гвардии, отказавшись разоружать свои войска, призвал столицу к восстанию. В этот самый день Виктор Гюго возвращается из Бордо с телом своего внезапно умершего сына Шарля. Процессия медленно движется от Орлеанского вокзала к кладбищу Пер-Лашез. Верлен сопровождает гроб в числе других литераторов. Рядом с ним идет Эдмон де Гонкур, еще не оправившийся после смерти младшего брата. Но Верлен произносит такие зажигательные речи, что Гонкур — сторонник порядка — приходит в негодование, забыв на время о своей скорби. Вечером становится известно, что Тьер покинул Париж. Повсюду раздаются крики: "Да здравствует коммуналистическая Республика!" Толпа хватает на улице двух генералов. Молодой мэр XVIII округа Жорж Клемансо умоляет: "Не надо крови, друзья мои, не надо крови!" Тщетный призыв — генералов расстреливают во дворе школы. Когда новость распространяется по бульварным кафе, Верлен восклицает: "Это просто замечательно!" Через несколько дней поэт вполне официально присоединяется к Коммуне. Среди вождей у него старые школьные друзья (Риго, Андриё, Мейе), и хорошие знакомые из числа тех, кто посещал салон Нины (Делеклюз, Флуранс).
Поразительная вещь! Сколько было сложено легенд об участии в Коммуне Рембо — естественно, что юный бунтарь легко вписывался в героическую картину сражений на баррикадах, хотя в действительности он провел все это время в Шарлевиле. А вот Верлен — по характеру человек чрезвычайно мирный, ненавидевший и презиравший все военные столкновения, — принимал участие в Коммуне. И в данном случае он шел на большой риск — вопреки собственной натуре. Долгое время считалось, в соответствии со свидетельством Лепелетье, будто Верлен безвольно поддался обстоятельствам. Однако он вполне мог переждать бурю (весьма короткую по времени) и сидя дома. Сам Верлен был склонен объяснять свое "коммунарское" прошлое излишней республиканской и якобинской горячностью, присущей ему в те времена:
"… с самого начала я полюбил, как мне кажется, понял и, в любом случае, проникся симпатией к этой революции…"
Когда же в 1882 году он обратился к префекту Сены с прошением вновь принять его на административную службу, у него не было ни малейшего желания подчеркивать значительность своего участия в неудавшемся восстании. Между тем, он занимал пост пресс-секретаря Коммуны, а это была должность весьма важная. Лепелетье в качестве адвоката поддерживал прошение своего друга, и, видимо, целиком доверился словам Поля.
Как обстояло дело в действительности? Правительство Тьера обратилось к государственным чиновникам с приказом прекратить службу и при первой же возможности покинуть Париж. Верлен должен был это знать. Матильда пишет по этому поводу так:
"Моя свекровь боялась, что сын потеряет свое место, и уговаривала нас уехать в Версаль. Ей хотелось, чтобы я ее поддержала, но я отказалась. Я считала, что жалование Верлена составляет незначительную часть нашего семейного бюджета. Он часто уходил на службу в дурном расположении духа, и я думала, что не будет большей беды, если он потеряет место и посвятит все свое время литературе, живя так, как ему хочется. Тогда я на все смотрела глазами моего мужа и одобряла все, что он делал — ведь мне было семнадцать лет!"
Со своей стороны, Эрнест Делаэ, который познакомился с Верленом в ноябре 1871 года, утверждал, что поэт, по его собственным словам, "был очень заметен в Коммуне".
Лишь когда армия версальцев двинулась на Париж, Верлен осознал, что дело может кончиться плохо. Естественно, у него и в мыслях не было сражаться на баррикадах — в конце концов, он был всего лишь чиновником! Утром 22 мая, когда Верлен с женой еще лежали в постели, служанка ворвалась в спальню с криком: "Мадам, они у ворот Майо!" Речь шла о версальцах. Вечером была взята штурмом первая баррикада. И Лепелетье, и Матильда согласно говорят о том, что Верлен в эти зловещие дни пребывал в страшной тревоге. Прошел слух, что версальцы обстреливают Батиньоль. Нужно было увозить оттуда мать, но на это Верлен был категорически не способен. Всю следующую ночь он плакал и стенал, пока в 5 часов утра Матильда не предложила отправиться вместе с ним на улицу Леклюз, но он возразил, что "федераты непременно заметят его и заставят стрелять". Тогда она решила, что пойдет одна — и Верлен согласился "с радостью и признательностью". 23 мая ей не удалось пробраться в Батиньоль из-за стрельбы, и она укрылась у отца на улице Николе. "Твой муж сошел с ума, — будто бы сказал ей господин Мотэ, — как он мог отпустить тебя, когда на улицах дерутся? Дожидайся здесь, пока не возьмут Монмартр". Матильда предприняла еще две попытки дойти до Батиньоля, причем на бульваре Сен-Жермен ее едва не расстреляли, уже поставив к стенке, но к счастью вмешался какой-то капитан, который отшвырнул ее в сторону со словами: "Проваливайте отсюда к чертовой матери!" Ей пришлось вернуться на улицу Кардиналь-Лемуан, где она увидела Стефани — старая дама сама покинула Батиньоль, тревожась за сына. Матильда, конечно, была очень храброй особой, но ей не приходило в голову, какое оскорбление она наносит мужу — при всей слабости своего характера, он был злопамятен и этого унижения не простил.
Коммуна пала. После "кровавой недели" Верлен сначала прятался в доме у тещи, а затем вместе с Матильдой уехал в Фампу — на родину матери. Из столицы приходили дурные вести. Нина де Вилар и ее мать бежали из Парижа в Женеву, поскольку скомпрометировали себя связями со многими коммунарами. Шарля де Сиври арестовали по анонимному доносу, в котором его обвиняли во всех мыслимым и немыслимых преступлениях (это вызвало недоверие следователей, и "Сивро" в конце концов освободили — но лишь в октябре!). Было решено, что Полю пока лучше отсидеться в деревне и что по возвращении он больше носа не покажет в свою "конторку".
В августе возродился ежемесячный ужин "Гадких мальчишек". Узнав эту новость, Верлен пришел в необыкновенное возбуждение: "Я там непременно буду! А что, место то же самое?" И в конце лета 1871 года он, действительно, вернулся в Париж вместе с беременной Матильдой. Но положение его радикально изменилось. До весенних событий он был признанным поэтом, и его будущее казалось безоблачным. Отныне нужно было все начинать сначала — его не желали печатать, и многие от него отвернулись. Именно в это время возникла обоюдная ненависть между Верленом и Леконтом де Лилем. При упоминании имени Верлена, вождь парнасцев неизменно восклицал: "Как? Он еще жив? Его еще не гильотинировали?" Верлен не оставался в долгу и охотно рассказывал, как перепугался "бесстрастный" во время Коммуны — даже бороду отпустил, чтобы его не признали.
В сентябре 1871 года — до появления Рембо! — супруги перебираются на улицу Николе, к родителям Матильды. Ибо Верлен уже начал поднимать руку на жену: главный его упрек к ней — она слишком "холодна" и не умеет по-настоящему любить. Поведение зятя внушает семейству Мотэ все большее беспокойство: отсюда решение держать дочь под присмотром — тем более, что она на сносях.
Мальчик родился 30 октября 1871 года и получил при крещении имя Жорж. Сначала ребенок совершенно не интересовал Верлена. Лишь много позже, в 1878 году, он напишет о "море своих слез" в стихотворении "Любовь" и обрушится с упреками на бывшую жену, "укравшую" у него сына.
Верлен в двадцать семь лет
И те, кто под лучом САТУРНА был рожден,
Светила рыжего, что любо некромантам,
Отмечены меж всех, по древним фолиантам,
Печатью Желчности и веяньем Беды.
Воображенье их (бесплодные сады!)
Усилья разума к нулю немедля сводит;
В их бледных жилах кровь летучим ядом бродит,
Как лава жгучая беснуясь и бурля, -
Их скорбный Идеал мертвя и пепеля![18]
Главная потребность Верлена — быть любимым. В нем сочетается мужское и женское начало: он нуждается в том, чтобы его опекали и заботились о нем, — и одновременно проявляет мужскую хватку, часто становясь агрессивным. Так будет всегда: он домогается и требует любви — от матери, от Матильды, от Рембо. Его поэзия — это всегда самозащита. Он сумел так ловко преподнести публике свои страдания, что почти выиграл безнадежное во всех отношениях дело: вплоть до появления мемуаров Матильды именно ее считали виновницей краха их семейной жизни.
У него натура чрезмерно чувствительная и одновременно склонная к самоутешению: он так легко переходил от ощущения вины к радости освобождения, что впоследствии его обвиняли в цинизме и бесчувственности. На все обвинения у него находилось простое объяснение — "ведь я же сын Сатурна". Кроме того, он труслив — боится пожара, наводнения, преследований. Глупое бесстрашие Матильды в дни Коммуны заронило в нем искру ненависти, которая впоследствии заполыхает огнем. Но главный его порок — алкоголизм. После похорон Элизы он беспробудно пьянствовал три дня кряду — к великому отчаянию матери и негодованию остальных членов семьи, поскольку вся деревня потешалась над "парижанином" и показывала на него пальцем.
К моменту встречи с Рембо брак Верлена уже дал заметную трещину. Причины назывались разные: дурная наследственность Поля, маниакально-депрессивный психоз (страхи и унижение), обманутые надежды (Матильда не сумела дать ему то, в чем он нуждался). Отсюда любовь и ненависть к жене — то же самое позднее проявится в отношении к Рембо (и даже в отношении к обожаемой матери). "В паре с кем бы то ни было… Верлен очень быстро превращал свое "гнездышко" в ринг, в поле битвы". Он неизменно терпел поражение на двух фронтах — сексуальном ("холодность" Матильды) и социальном (не мог стать подлинным главой семьи). Самое любопытное, что громадное интеллектуальное превосходство никоим образом его не утешает — возможно, напротив, еще более угнетает.
К этим внутриличностным причинам добавились неблагоприятные внешние обстоятельства. Брак с Матильдой совпал с началом франко-прусской войны, которая вызывала крайнее отвращение у Верлена. Он вообще ненавидел войну — и как трусоватый по натуре пацифист, и как парнасец левых убеждений. Но войну с Пруссией он вспоминал как ужасное событие, разрушившее многие надежды и, в частности, погубившее "Современный Парнас":
"Это прекрасное единение продолжалось до войны семидесятого года. Только катастрофа могла разбить такой крепкий союз: поступление в армию, крепостная служба, неизбежные политические разделения (ибо в слове "роковые" нет мужества), целый ряд важных вопросов, касавшихся родины, затем совести, свели к небытию — жестокое пробуждение! — это прекрасное начинание, этот дивный сон и разбили сообщество на группы, группы на пары и пары на связанные дружбой, но неисцелимо враждующие личности".
Большое значение имели и сексуальные наклонности Верлена. Лепелетье написал свои воспоминания в первую очередь для того, чтобы защитить память своего друга от позорных для него обвинений в распущенности и гомосексуализме. Первое обвинение он пытался парировать утверждением, что Поль никого не любил до свадьбы с Матильдой:
"Мой друг Верлен в юности отличался гротескным, монголоидным и обезьяньим уродством. Женщинам он внушал отвращение или страх. Он и сам знал об этом, поэтому был робок и неловок в отношениях со слабым полом. (…) Любовниц у него, сколько мне известно, не было. Он игнорировал наши пикники на природе, наши воскресные вылазки в Жуанвиль-ле-Пон, где мы катались на лодках в обществе прелестных морячек. Свидетельствую, что вплоть до брака я ни разу не видел Поля под руку с женщиной".
Однако Лепелетье оказался не слишком хорошим адвокатом, поскольку увлекался деталями и частенько проговаривался — видимо, сам того не сознавая. Так, уверяя, что у Верлена не было любовниц, он простодушно добавлял, что природные склонности его друг удовлетворял в дешевых борделях, куда предпочитал ходить один, "никого с собой не приглашая".
Куда серьезнее было второе обвинение, опиравшееся, прежде всего, на события, связанные с брюссельской драмой, когда Верлен двумя выстрелами из пистолета ранил Рембо в руку. Лепелетье очень не любил Рембо, но в данном случае не решился возложить всю ответственность на него, ибо это скомпрометировало бы и Верлена. Однако есть все основания полагать, что еще до встречи с Рембо Верлен ощутил вкус к "содомскому греху". Подтверждением тому — его отношения с Люсьеном Виотти. Если любовь к Элизе была чувством светлым и, можно сказать, добродетельным, то с Люсьеном дело обстояло иначе. Не случайно Лепелетье всячески подчеркивал, что дружил с Верленом иначе — не так, как Люсьен. Удивляться здесь нечему: Лепелетье всегда выступал на стороне Верлена, но здесь под ударом могла оказаться его собственная репутация.
Люсьен, бывший товарищ поэта по пансиону Ландри, был юношей слишком красивым и чересчур женственным. Верлен же как истинный андрогин сочетал в своем характере мужские и женские черты, поэтому был двойствен и в любви — страсть в нем пробуждали оба пола. Правда, в выборе между Венерой и Ганимедом он отдавал явное предпочтение Венере: настоящий гомосексуалист вряд ли стал бы прославлять лесбийскую любовь, как это сделал Верлен в "Подружках" — тогда как для "фавна", для "сатира", обожающего женское тело, это вполне допустимо. НО при этом Верлен не упускал случая насладиться любовью юного "эфеба". Хорошо разбиравшийся в этом вопросе Оскар Уайльд насмешливо именовал подобных людей "биметаллистами", приводя эпохальный спор между сторонниками золота и серебра как главного средства для денежного обращения.
Верлен, видимо, приобщил Люсьена не только к любви, но и к литературе: вдвоем они написали сценарий для оперетты (музыку должен был создать их общий приятель Шабрье). Еще одним их совместным творением стал лирический фарс "Вокошар и сын". Скорее всего, у Люсьена не было склонностей к поэзии: в среде парнасцев театральные жанры считались искусством "низшего порядка", и Верлен пошел на определенную жертву, занявшись подобным сочинительством.
Верлен никогда не забывал своего первого "любимого мальчика", с которым он проводил время в бесконечных интимных беседах. Ради Матильды он отказался от Люсьена — и не простил ей этого. Что касается самого Виотти, то он не вынес "измены" Поля и, поддавшись ревнивому отчаянию, записался добровольцем в армию, где скончался от болезни. К моменту катастрофического ухудшения отношений с женой Верлен уже знал, что Люсьен умер в прусском госпитале, и эта трагическая смерть поразила его до глубины души. Виновницей несчастья он, естественно, считал Матильду.
"За этот самый стол в кафе, где мы так часто беседовали лицом к лицу, спустя двенадцать лет — и каких лет! — сажусь я теперь снова и вызываю твою дорогую тень. Под крикливым газом, среди адского грохота карет, смутно, как некогда, светят мне твои глаза, и твой голос доходит до меня, низкий и глухой, как голос прошедших лет. И все твое изящное и тонкое двадцатилетнее существо — твоя прелестная голова (голова Марсо, но прекраснее), изысканная соразмерность твоего тела эфеба под одеждой джентльмена — предстало мне сквозь мои медленно стекающие слезы. Увы!.. О, пагубная чуткость, о, беспримерная горестная жертва, о, я, глупец, не сумевший вовремя понять!.. Когда разразилась ужасная война, от которой едва не погибла наша родина, ты поступил в полк, ты, которого освобождало от этого слишком обширное сердце, ты умер жестокой смертью, благородный ребенок, ради меня, не стоившего ни единой капли твоей крови, — и ради нее, ради нее!"
В канун знакомства с Артюром Рембо двадцатисемилетнего Поля Верлена обуревали самые противоположные устремления. Он — трус, который мечтает о героических подвигах и способен ввязаться в рискованное предприятие. Представитель богемы, который ведет вполне буржуазное существовании. Прикованный к своей "конторке" буржуа, который мечтает вольно бродить по дорогам. Он жаждет любви — чистой и одновременно плотской. Но прежде всего это слабый человек, который мечтает показать себя мужчиной всеми способами — "вплоть до садизма". Он весь соткан из противоречий и мучительно от этого страдает. Главное же, возможно, состоит в том, что он чувствует утрату креативной силы. Это поэт-импрессионист: для творчества ему необходимы сильные впечатления и вызванные ими глубокие внутренние переживания. Иными словами, ему нужны перемены, хотя сам он, быть может, этого еще не сознает. Он смутно ощущает потребность в "неведомом" и жаждет устремиться к "невозможному" — он готов к встрече с Рембо, которому предстоит сыграть в его жизни двойную роль. Сначала этот незнакомец станет новым воплощением сердечного друга Виотти, а затем превратится в демона, подчинившего себе слабую душу — но лишь на время.
Глава вторая: "Разгневанный ребенок"
Два полюса
"От предков-галлов у меня молочно голубые глаза, куриные мозги и неуклюжесть в драке. Полагаю, что и выряжен я так же нелепо, как они. Разве что не мажу голову маслом".
Сезон в аду: Дурная кровь.
Любая биография начинается с холодной справки о семье и месте рождения. Итак, 20 октября 1854 в Шарлевиле (Арденны) родился Жан Никола Артюр Рембо, сын Фредерика Рембо, капитана 47-го пехотного полка, и Витали Кюиф, дочери зажиточных крестьян. Чтобы понять человека, нужно расшифровать каждую фразу этого двуликого досье, ибо родители дают ребенку не только жизнь, но и свои качества, сливающиеся в прихотливом единстве. Точно так же, родная среда формирует будущую личность, которая несет на себе ее отпечаток, порой не отдавая себе в этом отчета.
Шарлевиль и Мезьер находятся в Арденнах, недалеко от бельгийской границы. Мезьер — старинный город с крепостью, которую некогда защищал легендарный рыцарь Баяр. Шарлевиль — более молодой и более многолюдный торговый центр. Арденнский писатель Жан Мари Карре, написавший книгу о своем земляке Рембо и очень любивший родные края, не без горечи признавал, что обожаемый им поэт этих чувств отнюдь не разделял: "Мёза, катящая свои волны с востока… направляется к Шарлевилю, вступает в Арденнские ворота и устремляется на север, оставляя позади себя синеватые скалы, гроты и рощи романтической долины. Равнодушный к туманной прелести родного пейзажа Рембо сохранил в памяти только мелодический плеск, смутный зов реки, убегающей в неведомую даль".
Для любого француза важно, в какой провинции он родился — особое же значение имеет историческое противостояние Севера и Юга. Как и Верлен, Рембо появился на свет в Арденнах — правда, не в "бельгийских", а в "лотарингских". На эту землю издавна претендовали как немцы, так и французы. Здесь некогда родилась Жанна д’Арк: французские литературоведы любят сопоставлять "самую знаменитую девушку и самого знаменитого юношу Лотарингии". Но в жилах будущего поэта текла и "южная" кровь.
Как и Верлен, Рембо был сыном офицера. Фредерик Рембо был родом из Бургундии, а предки его были провансальцами: вероятно, этот пылкий южанин авантюристического склада не слишком уютно чувствовал себя в суровых северных краях. Как сообщает Делаэ, он происходил из простой семьи (его отец был портным), специального военного образования не получил и офицерских чинов добился благодаря своей энергии и предприимчивости: в восемнадцать лет вступил в пехотный полк, в 1841 году стал лейтенантом, а в 1851 — капитаном. В составе орлеанских стрелков он провел алжирскую кампанию, где увлекся изучением арабского языка: в 1879 года Артюр Рембо с изумлением обнаружит в бумагах недавно скончавшегося отца рукопись франко-арабского словаря — объемом в семьсот страниц убористого текста. Верлен позднее (в статье 1895 года) утверждал, будто Фредерик Рембо был произведен в полковники во время франко-прусской войны. Это неверно: капитан Рембо вышел в отставку в возрасте 50 лет (11 августа 1864 года) и в войне никакого участия не принимал.
До свадьбы Фредерик вел свободный и разгульный образ жизни. Возможно, он женился из корыстных соображений: у Витали был дом в Шарлевиле, земля и ферма под городом Вузье. Дома он никогда не жил — даже после выхода в отставку — и с женой поладить не мог, поскольку она раздражала его своим строгим нравом и чопорностью. После появления на свет второго сына Артюра он покинул родину, чтобы принять участие в крымской войне, а вернувшись из похода, кочевал из гарнизона в гарнизон, таская за собой семью. Почти каждый год появлялись на свет дети. В 1860 году он окончательно порвал с женой, и та вернулась в Шарлевиль, где родила Изабель — младшую дочь, которой суждено будет присутствовать при последних минутах жизни Артюра.
Исчезновение отца из жизни детей было окончательным и бесповоротным: он умрет 14 ноября 1878 года, в родной Бургундии, и семья узнает об этом по "юридическим каналам", ибо после смерти капитана останется небольшое наследство. Если верить Делаэ, об отце у Артюра осталось лишь одно воспоминание: звон серебряного блюда, которое тот с гневом швырнул на пол во время ссоры с женой — этот звон "навсегда" остался в ушах поэта.
Рембо унаследовал отцовскую внешность: высокий лоб, голубые глаза, светло-каштановые волосы, слегка вздернутый нос, чувственные мясистые губы. "От него же он получил в наследство болезненную неустойчивость характера, капризного и прихотливого, неисчерпаемую любознательность, страсть к путешествиям и языкам". К этим качествам следует добавить еще склонность к бунту: оба сына Рембо отличались независимым нравом и не выносили никакой узды.
Артюр появился на свет в доме Никола Кюифа — деда по материнской линии. "… в лице матери Арденны должны были взять свое. Вся внешность этой высокой худощавой женщины как нельзя лучше вязалась с угрюмой природой тамошней местности, с мрачным покрытым свинцовыми тучами горизонтом, с суровым климатом". Ее семья владела обширными земельными угодьями, и всю жизнь она ценила только одно — свое хозяйство. Когда "взявшийся за ум" Артюр пришлет ей заработанные деньги с просьбой поместить их в банк, она, вопреки желанию сына, вложит капитал в землю.
Мать была главной персоной в доме. Она никогда не улыбалась, в ней не было и намека на сентиментальность, откровенность была ей совершенно чужда — она искренне презирала все сердечные излияния. Биографы, склонные идеализировать Рембо, не жалеют резких слов в адрес Витали Кюиф: именуют ее ханжой, тираном в юбке, деспотом. Она не допускала, чтобы ей противоречили даже по пустякам. У Рембо никогда не было счастливого детства — в отличие от Верлена, который был балованным ребенком и всеобщим любимцем. Артюр получил строгое воспитание: за малейшее нарушение порядка детям грозили домашнее заточение и "строгая диета" из хлеба и воды. Все биографы сходятся в том, что именно мать пробудила в сыне дух мятежа. "Еще прежде, чем восстать против религии, общества, литературы, он сделал попытку сбросить иго семьи — и только по вине этой женщины". Впрочем, биографы единодушны и в том, что в конечном счете она одержала верх над своим сыном, вынудив его стать таким, как она сама.
Мадам Рембо отличалась невероятным упрямством, энергией и гордостью. По отношению к детям она порой вела себя бесчеловечно, и объяснения этому следует искать в сильнейшей душевной травме. Ее совершенно не волновали социальные условности: так, она разрешала Артюру носить длинные волосы, над которыми потешался весь Шарлевиль. Позднее она проявит удивительную снисходительность по отношению к Верлену. Но "мадам Ремб.", как именовал ее любящий сын, питала глубокую, неистребимую ненависть к "миру мужчин" — злокозненному, враждебному и опасному. У нее было два брата, и оба плохо кончили: один уехал в семнадцать лет в Алжир и умер в тридцать один год, второй также убежал из дома, промотал все свои деньги и под старость превратился в бродягу. Муж, которого она, вероятно, сильно любила, оставил ее с малыми детьми на руках, и ей пришлось поднимать их самой, полагаясь только на собственные силы. Вероятно, именно поэтому она считала, что в мальчиках, которым суждено было превратиться в мужчин, следовало подавлять любое поползновение к свободе. Измены она не простила: сразу же после разрыва с мужем заказала визитные карточки с надписью "вдова Рембо" — бросивший ее человек был приравнен к покойнику. Провинциальные сплетники, естественно, вдоволь почесали языки на счет этой странной семьи, что, по словам Эрнеста Делаэ, оказало сильное влияние на гордую женщину:
"Из-за этого она не желала ни с кем встречаться в Шарлевиле и с яростью отдалась заботе о детях, поставив себе целью их неукоснительное социальное воспитание и предаваясь постоянным тревожным размышлениям об их будущем. Что касается дочерей, тут все просто: они должны лишь следовать материнскому примеру, стать набожными женами, экономными и разумными хозяйками. Но как быть с мальчиками? Она могла бы сделать из них крестьян, какими были все ее родичи — у нее была и ферма, и земля… Нет! Они сыновья офицера! И мадам Рембо, с неусыпным вниманием, со всей присущей ей непреклонной и беспокойной энергией, будет следить за их школьными успехами".
От матери Артюр унаследовал высокий рост, длинные руки с узловатыми пальцами, резкий голос, а главное — чудовищную гордость, дикое упрямство и железную волю. И еще одно — безумную скупость, непомерно одолевавшую его во второй половине жизни, когда на смену поэту пришел негоциант. Она наверняка, одобрила бы (и, возможно, одобряла) патологическую предусмотрительность сына, который носил зашитыми в пояс двадцать килограммов золотых монет.
В душе Рембо боролись две силы. Центробежные — отцовская склонность к бродяжничеству и любовь к приключениям. И центростремительные: крестьянская бережливость и собственнический инстинкт, присущие матери. Первая половина жизни Рембо прошла под знаком бродяги-отца, зато вторая — под знаком алчной матери. По мнению Жана Мари Карре, всю жизнь он испытывал наследственное влияние этих двух враждебных начал. Другое объяснение дает Ив Бонфуа: в детстве Рембо жаждал любви, которую мать не могла ему дать — отсюда возникло чувство вины, быстро переросшее в бунтарство, в стремление обрести свободу. Но жажда любви осталась, поэтому его отношение к матери всегда было амбивалентным: он ненавидел ее и одновременно трепетал перед ней, словно завороженный. Неудивительно, что Рембо — особенно в зрелые годы — всегда уступал матери. Бунт остался достоянием подростка и юноши.
В отличие от Верлена, Рембо не был единственным ребенком в семье. Казалось бы, это могло дать ему какую-то поддержку, но в данном случае дело обстояло иначе — одиночество юного поэта было абсолютным и полным. Его старший брат Фредерик закончил жизнь возчиком. В школе он учился плохо, чем разительно отличался от Артюра: когда младший брат перешел в четвертый класс, Фредерик засел на второй год в шестом. Он был ленив и, по мнению семьи, глуп. Особой близости между братьями никогда не было, хотя по характеру они были во многом схожи. Описывая побеги Артюра, биографы, как правило, забывают упомянуть, что первым ушел из дома Фредерик (в августе 1871 года), подав тем самым пример младшему брату. Фредерик и впоследствии выказывал упрямство и своенравие: когда мать отказалась выдавать ему карманные деньги, он демонстративно стал продавать газеты на улицах — великое унижение для мадам Рембо! Когда друзья Артюра стали хлопотать об установке памятника ему, мэр Шарлевиля пришел в ужас: как можно говорить о памятнике человеку, который занимался таким низким ремеслом! Магистрат, естественно, перепутал братьев, но показательным является как отношение к бывшему продавцу газет, так и долгая память о подобном "падении". Фредерик осмелился поступить наперекор семье и в выборе жены, но расплата оказалась горькой: мать сумела расстроить этот брак, а своих внучек выгнала с порога метлой. На смертном одре Фредерик скажет Изабель: "Вы разбили мне жизнь".
Делаэ был очень привязан к Фредерику, с которым учился в одном классе. Позднее он так вспоминал о нем:
"Высокий и очень крепкий парень с фамильными голубыми глазами. Человек добрейший души. Товарищи иногда поддразнивали его, хотя он был намного сильнее любого из них — не помню, чтобы он ответил им хотя бы одним щелчком. В нем, похоже, соединились черты Рембо и Кюифов: он был беззаботен и весел, потому что предками его были бургундцы, а интеллектуальную культуру презирал как истый селянин. (…) Из всех детей мадам Рембо именно он обладал самой устойчивой конституцией и жизненной силой: он умер около шестидесяти лет[19]".
Что же касается Артюра, то он, судя по всему, считал брата низшим существом. В зрелые годы это проявилось с особой силой — достаточно прочитать презрительные замечания о Фредерике в письмах к родным. Между тем, он был обязан старшему брату, благодаря которому получил отсрочку от воинской службы. Фредерик пошел в армию добровольно, и по закону это избавило Артюра от призыва — но не избавило от страха, что его все-таки призовут. Будучи уже смертельно больным, он с тревогой спрашивал родных, не упекут ли его в тюрьму за уклонение от службы.
Из трех сестер Рембо одна умерла в младенчестве. Две другие были порабощены матерью полностью и не смели даже рта раскрыть в ее присутствии. В декабре 1875 года, в возрасте семнадцати лет умерла другая сестра Артюра, Витали. По словам Делаэ, она больше всех походила на поэта — "это был Рембо в обличье девушки". Самая младшая, Изабель после смерти брата вышла замуж за Пьера Дюфура, в будущем — создателя легенд известного под именем Патерн Берришон.
Примечательно, что все биографы описали картину прогулки семейства Рембо: дети шествовали парами (впереди сестры, за ними братья), с зонтиками в руках. Позади следовала мать — "патриарх", надзирающий за порядком. Первым об этом рассказал Луи Пьеркен — школьный друг Артюра. Кстати, Луи единственный был вхож в дом Рембо, другим детям доступ туда был закрыт, поскольку мать, вынужденная поначалу обосноваться на улице Бурбонов, в бедном квартале Шарлевиля, искренне презирала своих соседей. Ее дети должны были играть только друг с другом, и без всяких игрушек. В воскресенье все игры были запрещены: мать свято соблюдала библейский завет и, в сущности, была привержена скорее протестантизму, хотя считала себя истинной католичкой.
Эту странную отчужденность подметил Эрнест Делаэ, который так описывает поведение братьев Рембо в коллеже:
"Обычно школьники много смеются и громко кричат во время игр; но эти двое лишь иногда перебрасывались парой слов, и казалось, что им нравится возиться молча".
Первый кризис у Артюра случился в семилетнем возрасте (недаром позднее он напишет стихотворение "Семилетние поэты"), после окончательного ухода отца из семьи и смерти деда Никола Кюифа. Мадам Рембо пришлось тогда оставить прекрасную квартиру на Гранд-Рю и переселиться в пролетарский квартал. Она затаила злобу на мужа и на весь мир. Отныне она будет ходить только в черных, траурных платьях. А ее младший сын станет присматриваться к соседским ребятишкам, с которыми нельзя было дружить или даже играть. Он разглядит их нищету и тоже затаит ненависть — к жестокому миру, который обрек его на одиночество.
Именно отсутствие любви породило у поэта ощущение — очень "поэтическое" и в какой-то степени освободительное — что реальный мир представляет собой мираж. Существует другой мир, в который можно проникнуть воображением — лишь в этом мире полностью раскрываются все возможности. Здесь берет начало знаменитая фраза Рембо: "Я — это другие". Но в оппозиции реального и воображаемого таилась опасность, которую Рембо не осознавал, да и не мог осознать в силу своего возраста. Ив Бонфуа, один из лучших исследователей его жизни и творчества, пишет об этом: "Быть может, мысль о том, что сфера человеческая есть ложь, что наше общество есть химера, что наше существование есть мука, является неизбежной. (…) Но мыслить так должен взрослый человек, тогда как юный Рембо, великодушно взваливший на себя эту тяжесть и преждевременно истерзавший свое еще наивное сознание, лишь глубже проникся презрением к себе и, поскольку не может истинно любить тот, кто ненавидит самого себя, был отлучен от столь дорогой ему природной красоты. Он сделает попытку перенестись в чудесную страну; раскрыть — "путем последовательного расстройства всех чувств" — естественное в природе. Но его всегда будет сопровождать отвращение к самому себе, породившее неразрешимые противоречия тела и души". Не случайно он создал стихотворение с характерным названием "Стыд":
Ненависть к себе неизменно породила злобу по отношению к другим. Иногда ее считали маской, но она слишком глубоко проникла в душу Рембо и оказалась разрушительной:
"Я ополчился против справедливости. Обратился в бегство. О колдуньи, ненависть и нищета, вам доверил я свое сокровище! Я сумел истребить в себе всякую надежду. Передушил все радости земные — нещадно, словно дикий зверь".[21]
Позже он сделает попытку избавиться от своего демона, но все будет тщетно. Ибо одно из главнейших противоречий Рембо — это сочетание силы и слабости. Он всегда был неутомим, полон энергии, неистощим на выдумку — и одновременно неспособен разрешить какую бы то ни было серьезную, реальную проблему.
Вундеркинд
Я изобрел цвета гласных! (…) Я учредил особое написание и произношение каждой согласной и, движимый подспудными ритмами, воображал, что изобрел глагол поэзии, который когда-нибудь станет внятен сразу всем нашим чувствам. И оставлял за собой право на его толкование"
Сезон в аду: Алхимия слова.
"
Слишком раннее развитие, ставшее причиной многих несчастий, всячески превозносилось близкими Рембо. Легенды о чудесном рождении были созданы неумеренным воображением Патерна Берришона (и, видимо, Изабель Рембо). Вот как выглядит версия "житийной" биографии:
"В самый час появления младенца на свет присутствовавший при родах врач констатировал, что новорожденный смотрит вокруг себя широко раскрытыми глазами, а когда сиделка, на которой лежала обязанность пеленать младенца, положила его на подушку на полу и на минуту ушла за свивальником, присутствующие с изумлением увидели, как новорожденный, скатившись с подушки, пополз, смеясь, к дверям, выходившим в сени".
Позднее даже самые благожелательные биографы отвергли подобные домыслы: "Эту жизнь, которую он впоследствии проклинал столько раз, Рембо не приветствовал ни единой улыбкой. Его преждевременное развитие и без того достаточно удивительно, и нет никакой нужды преувеличивать действительность".
В 1862 году семейство перебралось в более "приличный" квартал Шарлевиля — на Орлеанский бульвар, засаженный каштанами и застроенный небольшими особняками. В том же году мальчики поступают в заведение Росса — светскую школу, где преподавали классические языки, историю и географию. Фредерик особого рвения не проявляет, Артюр выказывает большие способности, но при этом делает весьма примечательную запись в своей ученической тетрадке:
"Зачем, говорил я себе, изучать греческий и латынь? Не могу понять. Ведь это совершенно не нужно. Мне-то какое дело, буду я принят или нет? И какой толк в том, чтобы быть принятым? Никакого, ведь так? Ах, нет: говорят, место можно получить, только если будешь принят. А я не хочу никакого места — я буду рантье. Да если бы и захотелось мне этого места, латынь-то зачем учить? Зачем учить историю и географию? (…) Какое мне дело до того, что Алксандр был знаменит? Мне нет до этого дела… И кто знает, существовали ли вообще эти латиняне? Быть может, их латынь просто выдумали. А если они даже и существовали, пусть позволят мне стать рантье и язык свой приберегут для себя! Чем я их обидел и за что подвергают они меня такой пытке? Что касается греческого, то на этом грязном языке не говорит ни один человек в мире, ни один! Черт их всех дери и выверни наизнанку! К дьяволу! Я все равно буду рантье! Ничего хорошего не вижу в просиживании штанов на школьной скамье, черт его трижды дери!".
Это пишет не пятнадцатилетний подросток, а восьмилетний ребенок — безусловный показатель раннего развития и одновременно удручающей книжности чувств. Впрочем, внешне все обстоит благополучно: Рембо рано научился лицемерить, и ничто в его поведении пока не предвещает грядущих бурь.
В 1864 он поступает в коллеж Шарлевиля в седьмой класс и проходит курс меньше, чем за три месяца. В шестом классе удивляет своих преподавателей очерком по древней истории. Он, несомненно, является самым блестящим учеником коллежа, хотя не стоит забывать, что общий уровень этого провинциального учебного заведения был, конечно, гораздо ниже парижских стандартов.
По свидетельству Делаэ, в те годы Рембо был чрезвычайно набожным — в это можно поверить, поскольку мать отличалась ханжеским благочестием и воспитывала детей в соответствующем духе:
"Рембо, чье имя должно было занять почетное место в летописях шарлевильского коллежа, прежде всего стяжал награды за знание катехизиса, и первым из учителей, гордившимся им по праву, был священник. Дело объяснялось не только послушанием или блестящей памятью, какую проявлял мальчик на экзаменах по закону божьему; в двенадцать лет он был глубоко верующим, даже фанатиком, готовым, если это потребуется, взойти на костер".
В подтверждение своих слов Делаэ рассказывает историю о том, как однажды при выходе из часовни старшие ученики стали брызгать друг в друга святой водой, и Рембо вскипел от негодования. В результате он заслужил прозвище "гнусного ханжи", которое, как уверяет Делаэ, "принял с гордостью".
В 1866 Артюр перешел в четвертый класс, миновав пятый — еще одно свидетельство необыкновенных способностей и раннего развития. Директор коллежа относился к Артюру с явной симпатией и одновременно с некоторым опасением:
"Рано или поздно этот мальчик заставит говорить о себе, это будет или гений добра, или гений зла".
В 1869 году Рембо поступил в класс риторики. И в том же году в коллеже появился молодой преподаватель Жорж Изамбар. Он быстро приметил одаренного подростка, который поначалу произвел на него впечатление "немного чопорного, послушного и кроткого школьника с чистыми ногтями, безукоризненными тетрадками, на удивление безупречными домашними заданиями, идеальными классными работами". До кризиса оставалось всего несколько месяцев, а пока многие — в том числе и мать Артюра — могли бы подписаться под этими словами. Впрочем, Изамбар был наблюдательнее многих: именно он подметил, что "каждое столкновение с матерью приводило к всплеску скатологических образов в его стихах". Любовь к слову "дерьмо" и его производным Рембо сохранит вплоть до начала восточных странствий: в его письмах с Кипра и из Абиссинии оно почти не встречается — зато в переписке с Верленом употребляется чрезвычайно часто.
Молодой учитель занимался с Артюром внеурочно и знакомил подростка с красотами французской литературы. Ему был тогда двадцать один год — иными словами, он был старше своего ученика всего на шесть лет. Изамбар стал для Рембо не только учителем, но и другом — правда, на очень короткое время. Благодаря ему Рембо приобщился к последним новостям парижской литературной жизни: узнал о движении парнасцев, заочно познакомился с издателями и книгопродавцами. Восторженный неофит не избежал иллюзий, поверив в литературное братство: он не посмел, конечно, обратиться к Леконту де Лилю, признанному вождю движения, но рискнул написать Теодору де Банвилю.
Изамбар давал подростку читать и "опасные" книги, что вызвало негодование мадам Рембо. В письме от 4 мая 1870 года она выговаривает молодому преподавателю:
"Сударь, я как нельзя более признательна вам за то, что вы делаете для Артюра. Вы одариваете его своими советами, следите за тем, как он выполняет домашние задания, и тратите на это внеурочное время, хотя на подобную заботу мы никакого права не имеем.
Но есть одна вещь, которую я вряд ли могу одобрить, например, то, что несколько дней назад вы дали ему почитать книгу В.Гюго "Отверженные". Вы, разумеется, лучше меня знаете, что следует с большой осторожностью подходить к выбору книг, предлагаемых детям. Поэтому я решила, что Артюр раздобыл эту без вашего ведома, ибо разрешать ему подобное чтение было бы весьма опасно".
Здесь необходимо сделать отступление об "опасных книгах": Изамбар, вызванный к директору для объяснений, заверил, что дал Артюру "Собор Парижской Богоматери", тогда как мать (а вслед за ней Берришон) утверждали, что это были "Отверженные". Современному читателю, вероятно, трудно понять, в чем состояла "злокозненность" "Отверженных", однако нельзя забывать, что Гюго был тогда изгнанником и открытым врагом империи. Впрочем, Рембо умел доставать книги и без Изамбара: он прочел Ювенала и Лукреция, Рабле и Вийона, Бодлера и Банвиля, Сен-Симона и Прудона, а также исторические труды Тьера, Ламартина и Мишле о Великой французской революции. В результате подобных штудий мальчик вообразил себя революционером: по свидетельству Делаэ, уже в четырнадцать лет он написал проект "коммунистической конституции". Юный поэт открыто проклинал Наполеона, "приведшего революцию к глупейшему краху", прославлял в стихах мятежный дух и взывал к теням Робеспьера, Сен-Жюста, Кутона. Патерн Берришон позднее обвинял Изамбара в том, что именно он способствовал духовной эмансипации Артюра своей проповедью якобинских и эгалитарных теорий. Сам Изамбар это категорически отрицал:
"Ни разу я не говорил с Рембо о политике. Не только товарищ, но и наставник, я охотно давал ему безвозмездные уроки всякий раз, как он ко мне обращался, и нравственно был вполне вознагражден его блестящими успехами на выпускном экзамене. По окончании занятий он часто поджидал меня при выходе из коллежа, чтобы проводить меня домой. Мы подолгу с ним беседовали, но только о поэтах или о поэзии, так как это было единственное, что его интересовало".
В сущности, оба — и Берришон, и Изамбар — сходились в том, что Рембо пошел по дурной дорожке. Один из биографов Рембо, Жан Мари Карре, склонен не доверять Изамбару, хотя и оговаривается: "Его свидетельство и его добросовестность выше всяких подозрений. Не будь его и Эрнеста Делаэ, что мы знали бы о Рембо? Что узнал бы о нем когда-либо сам Патерн Берришон?". Но учитель, скорее всего, делился с любимым учеником своими взглядами — ярко выраженными республиканскими. Не забудем: это была агония второй империи. Пройдет всего лишь год, и режим Луи-Наполеона придет к закономерному бесславному концу. Молодежь в то время зачитывалась статьями Виктора Анри Рошфора — ведущего публициста еженедельника "Фонарь", который пользовался огромной популярностью благодаря смелым выпадам против наполеоновского правительства. Кроме того, есть свидетельство, показывающее, с каким доверием относился Рембо к Изамбару: в мае 1870 года он познакомил учителя со своими стихами.
Класс риторики оказался для Рембо последним. Чтобы держать экзамен на звание бакалавра, ему нужно было окончить класс философии, однако он этого так и не сделал. Разумеется, одной из причин была война: зимой 1870–1871 годов шарлевильский коллеж был закрыт для учеников и преобразован в военный госпиталь. Когда же в апреле 1871 года занятия возобновились, бывший лучший ученик Артюр Рембо уже не желал переступать порог родного коллежа.
Бунтарь
В карманах продранных я руки грел свои;
Наряд мой был убог, пальто — одно названье;
Твоим попутчиком я, Муза, был в скитанье
И — о-ля-ля! — мечтал о сказочной любви.
Зияли дырами протертые штаны.
Я — мальчик с пальчик — брел, за рифмой поспешая.
Сулила мне ночлег Медведица Большая,
Чьи звезды ласково шептали с вышины;
Сентябрьским вечером, присев у придорожья,
Я слушал лепет звезд; чела касалась дрожью
Роса, пьянящая, как старых вин букет;
Витал я в облаках, рифмуя в исступленье,
Как лиру, обнимал озябшие колени,
Как струны, дергая резинки от штиблет.[22]
Рембо ненавидел Шарлевиль лютой ненавистью и несказанно в нем томился. В неполных шестнадцать лет он написал своему учителю, который на каникулы уехал к родным (письмо от 25 августа 1870 года):
"Какое счастье для вас, что вы не живете больше в Шарлевиле! Мой родной город намного превосходит по идиотизму все прочие маленькие провинциальные города".
Жизнь в провинции, действительно, была тяжела для одаренного подростка: в этих небольших сообществах все знают друг друга и все друг за другом приглядывают. Единственная отрада — прогулки с другом или любимым учителем. Но есть и другие прогулки — с семейством. И это было настолько невыносимо, что юный поэт запечатлел свои страдания в стихах:
И никакой отрады — не пересчитывать же деревья на проспекте! Именно этим занимается Витали, маленькая сестра Артюра, которую ожидает ранняя смерть. В своем "Дневнике" она скрупулезно отмечает:
"Сто одиннадцать каштанов на Аллеях, шестьдесят три вокруг вокзальной площади".
Кстати, принадлежащее перу ее брата стихотворение "На музыке" имеет подзаголовок: "Вокзальная площадь в Шарлевиле". Что касается каштанов, они, похоже, имели особое — символическое — значение для юных обитателей городка. Делаэ так описывает один из разговоров с Артюром по поводу государственного переворота 2 декабря 1851 года, когда племянник Наполеона I захватил единоличную власть:
"Рембо (ему тринадцать, мне четырнадцать лет) ответил коротко:
— Наполеон Третий заслуживает того, чтобы его отправили на галеры.
Я был оглушен, зачарован… Какой интересной становилась жизнь! Что-то еще будет, Господи! И каштаны на "Аллеях", которые казались мне огромными, вдруг предстали передо мной жалкими деревцами".
Провинция — это болото, в котором задыхается свобода. Провинция — это абсолютное зло. Так, по крайней мере, чувствует Рембо. Однако он восстает не только против "жуткого Чарльзтауна" (перевод на английский названия Шарлевиль). Прежде всего, это был бунт против власти матери — mother, как именует ее Рембо. Чужой язык здесь служит орудием борьбы: он позволяет хотя бы мысленно дистанцироваться от того, что так крепко держит. Чарльзтаун и "mother" — это две силы, заключившие против него союз.
Еще один объект ненависти — христианская религия. Через несколько лет Рембо напишет:
"Я — раб своего креения. Родители мои, вы сделали меня несчастным, да и самих себя тоже".[24]
Это отвращение носит мировоззренческий характер:
Подросток считал христианскую религию не заблуждением ума, а истощением всех жизненных сил — сознательным отказом от свободы. Одновременно он чувствовал, что навеки "отравлен" верой, впитанной с молоком матери. Ив Бонфуа полагает, что именно в этом таится разгадка одного из самых разительных противоречий Рембо: сочетание чисто интеллектуальных устремлений с сугубо материальными средствами достижения идеала — алкоголем и наркотиками. Он "должен был пробудить заблудшую животную энергию, чтобы вновь обрести статус сына солнца. Ему известно, что в сфере одного лишь духа он заранее обречен на поражение".
Можно сказать, что Рембо являет собой классический пример так называемого подросткового максимализма, но, в отличие от многих других своих сверстников, он воплотил бунт в поступках — прежде всего, в побегах из дома. Несомненно, способствовала этому тогдашняя атмосфера: страна переживала один из самых критических периодов своей истории — в июле 1870 года Франция объявила войну Пруссии. Рембо откликнулся на эти события стихотворением "Вы, храбрые бойцы…" (буквально: "Мертвецы 92-го"; еще один вариант перевода: "Французы, вспомните"). Правда, этот учебный год Артюр завершает триумфально: 17 июня он получает первую награду за латинские стихи. Эрнест Делаэ позднее вспоминал об инциденте, связанном с распределением премий:
"В связи с военными событиями у нас явилась мысль отказаться от получения наград и пожертвовать их стоимость в пользу казны. Составили высокопарное письмо на имя министра, собрали подписи. Рембо один не захотел приложить к нему руку".
Изамбара не было в Шарлевиле, и Рембо чувствовал себя одиноким. Здесь совпало многое: трудный подростковый возраст, ненависть к затхлой атмосфере провинциального городка, осознание своей одаренности и бурные события в стране, в которых Рембо не мог принять участие по возрасту. Происходящие в стране события не могли не удручать: национальная катастрофа была спровоцирована бездарной политикой властей и безразличной инертностью генералов.
В своем письме Изамбару Рембо не жалеет сарказма в адрес горожан и их патриотического подъема: "… по улицам слоняются двести или триста пью-пью,[26] эти благодушные обыватели размахивают руками, напустив на себя воинственный вид, хотя на осажденных в Меце и Страсбургеони совсем не похожи! Какой ужас, когда отставные бакалейщики напяливают на себя военный мундир! Потрясающе, насколько они вообразили себя вояками: все эти нотариусы, стекольщики, сборщики податей, столяры и прочие пузаны, которые, прижав винтовку к груди, занимаются патрульотизмом у ворот Мезьера — моя родина поднимается! А мне хотелось бы, чтобы она сидела спокойно — не шевелите сапогами! Вот мой принцип. Я выбит из колеи, болен, взбешен, глуп, расстроен; я мечтал о солнечных ваннах, о бесконечных прогулках, об отдыхе, о путешествиях, о приключениях, даже о бродяжничестве; мечтал особенно о газетах, книгах… Ничего! Ничего! Почта ничего не доставляет книгопродавцам, Париж просто насмехается над нами: ни одной новой книжки! Это смерть! Если говорить о газетах, я опустился до "Арденнского вестника"… Эта газета выражает устремления, желания и мнения здешнего населения, так что судите сами! Хорошенькое дельце! Я чувствую себя изгнанником на родине!!!
К счастью, у меня есть ваша комната: помните, вы ведь дали мне разрешение. — Я унес половину ваших книг! (…) У меня тут "Галантные празднества" Поля Верлена… Очень странно, очень забавно, но в целом восхитительно. И порой очень смело… Купите, советую вам, "Добрую песню" того же поэта: она только что вышла у Лемера, я еще не прочел: сюда ничего не доходит; но в некоторых газетах ее очень хвалят".
Отметим первое упоминание имени Верлена в этом письме. Всего лишь через четыре дня — 29 августа 1870 года — Рембо совершил первый побег из дома. Для матери все произошло совершенно неожиданно: в жаркий предгрозовой вечер она гуляла со своими детьми по лугу, и Артюр отпросился у нее взять книгу. Три недели спустя она с искренним негодованием напишет Изамбару о "глупой выходке обычно столь послушного и спокойного ребенка". К этому письму мы еще вернемся, но уже из этих слов матери ясно видно, до какой степени она не понимала, что творится с младшим сыном. Конечно, старший мальчик также преподнес ей неприятный сюрприз: в начале месяца Фредерик ушел из Шарлевиля вместе с отступающими войсками. Но Фредерик считался лодырем и мог сбежать из дома, чтобы не возвращаться в коллеж, тогда как Артюр учился отлично и во всем был покорен матери. Она не желала верить, что подчинение это было лицемерным. Однако он уже на следующий день, если верить Делаэ, продал свои школьные награды за двадцать франков — Изабель Рембо яростно утверждала, что все награды Артюра бережно хранятся в Роше, но так и не смогла предъявить доказательства.
Побег был совершенно не подготовлен: у мальчика не было ни денег, ни документов. Обстановка же была угрожающей: 30 августа французская армия потерпела поражение под Бомоном. Шарлевиль был полон самых ужасных слухов, и мадам Рембо, несомненно, провела мучительные часы, гадая, что могло случиться с сыном. Патерн Берришон утверждал, что она весь день бродила по улицам города "в состоянии неописуемой тоски": обошла все кабаки, всю набережную Мёзы, все помещения вокзала.
Тем временем, Артюр добрался до Шарлеруа, но целью его был Париж. От Сен-Кантена он поехал на поезде без билета, и на Восточном вокзале столицы его арестовали за недоплату железнодорожной компании тринадцати франков. С полицейскими он поначалу разговаривал высокомерно и отказался назвать свое имя. Правда, выглядел он безобидно: провинциальный подросток с розовыми щеками, опрятно одетый. Однако документов при нем не было, а при обыске у него нашли записную книжку с "таинственными записями" — это были его стихотворения, но в участке с этим разбираться не стали. Шла война, и "шпиономания" уже успела расцвести пышным цветом, поэтому подозрительного юнца без долгих разговоров отправили в тюрьму Мазас. Как это будет и в дальнейшем, при столкновении с реальностью Рембо мгновенно потерял весь свой апломб: бросать "дерзкий вызов" властям в родном Шарлевиле — это одно, а оказаться за решеткой в чужом городе — совсем другое. Попросив бумаги и чернил, он тут же принялся сочинять жалобные послания, в которых мольбы перемежались с требованиями. Одно из таких писем 5 сентября отправилось в Дуэ, где находился Изамбар: "Ах! Я уповаю на вас, как на родную мать; вы всегда были для меня братом, и я настоятельно прошу вас не оставить меня теперь без вашей поддержки. Я написал матери, имперскому прокурору, комиссару шарлевильской полиции; если вы не получите от меня никаких известий до среды, садитесь в тот же день в парижский поезд, приезжайте сюда, подайте письменное заявление с требованием освободить меня или явитесь лично к прокурору, предложив выдать меня вам на поруки! Сделайте все, что только можете, и, по получении этого письма, напишите со своей стороны, — да, я требую этого от вас! — напишите моей бедной матери (Шарлевиль, набережная Мадлен, 5), чтобы утешить ее! Пишите мне тоже, сделайте все, что в ваших силах! Я люблю вас, как брата, я буду любить вас, как отца". Любопытно, как в трудную минуту в человеке пробуждаются понимание и сочувствие к близким — лишь теперь Артюр сознает, что "бедная мать" нуждается в утешении. Начальник тюрьмы также написал учителю, попросив взять беглеца на поруки. Изамбар приехал за ним, уплатил тринадцать франков и увез его к своим незамужним теткам — девицам Жендр. Здесь Рембо провел две недели — с 10 по 25 сентября. По общему мнению, именно с пребыванием в Дуэ связано одно из самых знаменитых его стихотворений:
Если общепринятая версия точна, то "две ласковые сестры" — это тетки Изамбара, в дом которых попал грязный, завшивевший Рембо. В любом случае, стихотворение основано на личных впечатлениях юного бунтаря — в нем передано сладкое чувство освобождения от мерзких кровососов. В Дуэ происходит еще одно событие: именно здесь юноша познакомился с Полем Демени. Завязавшаяся между двумя молодыми поэтами кратковременная переписка имеет чрезвычайно важное значение для понимания творчества Рембо.
В Дуэ Артюр — быть может, впервые в жизни — почувствовал себя счастливым. Он даже записался в национальную гвардию вместе с Изамбаром. Обыватели маршировали, держа наперевес метла (вместо ружей), и Рембо это нисколько не шокировало, тогда как в Шарлевиле он с полным основанием называл подобные экзерсисы проявлением "патрульотизма".
Однако мадам Рембо прислала сыну грозное письмо, полное грубых попреков и в адрес Изамбара: по ее мнению, тот должен был прогнать Артюра, а не "прятать" его у себя. Самому Изамбару она написала 24 сентября, и в этом послании прозрачно намекнула, что ее мальчику помогли сбиться с праведного пути:
"Сударь, я очень обеспокоена и не понимаю причин столь продолжительного отсутствия Артюра; а ведь он должен был понять из моего письма от 17 числа, что ему не следует ни на один день задерживаться в Дуэ; полиция, со своей стороны, предпринимает разыскания, чтобы узнать, где он побывал, и я очень боюсь, как бы этого маленького мерзавца не арестовали еще раз; впрочем, тогда ему не нужно будет возвращаться, ибо я даю клятву, что до конца жизни моей больше его не приму. Как понять глупую выходку этого ребенка, обычно столь послушного и спокойного? Как могла у него возникнуть такая безумная мысль? Неужели кто-то ему это внушил? Но нет, я не должна так думать. В несчастье становишься несправедливым. Проявите же доброту к этому несчастному, дайте ему десять франков. И прогоните его вон, пусть возвращается как можно скорее.
Только что я ушла с почты, где мне вновь отказали в пропуске, поскольку линия до Дуэ все еще закрыта. Что тут делать? У меня слишком много забот. Лишь бы Господь не покарал этого несчастного ребенка за безумную выходку так, как он того заслуживает".
Письмо, конечно, очень выразительное: мадам Рембо предстает здесь во всей красе — черствая, вспыльчивая, абсолютно уверенная в своей правоте. Прочитав его, Рембо пришел в ярость: уже забыв о тюрьме и своих мольбах, он заявил, что никогда больше не вернется в Шарлевиль. Учителю пришлось поступиться самолюбием: невзирая на оскорбительный тон мадам Рембо, он лично доставил беглеца в отчий дом. Позднее Изамбар вспоминал:
"Ну и прием встретил блудный сын на лоне матери! А я-то оказался хорош! Я простофиля, нарочно вызвавшийся сопровождать его, чтобы утихомирить страсти. Вы, должно быть, читали у Куртелина происшествие с господином, нашедшим часы и, сложив губы сердечком, отнесшим их полицейскому комиссару. Его чуть-чуть не засаживают в кутузку, как вора или укрывателя краденого. И обычно не слишком обходительная мамаша Рембо задала своему вундеркинду чудовищную взбучку, а на меня обрушилась с такой бранью, что я застыл на месте, как вкопанный, и поспешил убраться подобру-поздорову".
Рембо вернулся домой 27 сентября, но уже через несколько дней совершил второй побег, что удивления не вызывает — домашняя атмосфера стала для него невыносимой, а Фредерик по-прежнему отсутствовал.[28]7 октября 1870 года Артюр покинул Шарлевиль и двинулся по направлению к бельгийской границе. Первая попытка пошла ему на пользу — на сей раз он выработал определенный план. В шарлевильском коллеже учился юноша по фамилии дез’Эссар. Его отец был редактором одной из ежедневных газет Шарлеруа, и Рембо вознамерился получить там работу, устроившись переводчиком или репортером. Дойдя пешком до Фюме, Рембо нашел приют у товарища по коллежу, который дал ему плитку шоколада и рекомендательное письмо к сержанту национальной гвардии в Живе. Это был старинный пограничный городок. Не застав дома сержанта, находившегося в наряде, Рембо без колебаний улегся в его постель, а ранним утром поспешно удалился, чтобы избежать неприятных разъяснений. Эта крайняя степень бесцеремонности, впервые появившаяся в пору второго побега, впоследствии будет несказанно изумлять и раздражать его знакомых. Перебравшись через границу, Рембо оказался в Шарлеруа и явился с визитом к старшему дез’Эссару. Тот пригласил молодого человека на обед, но за столом Рембо стал поносить видных государственных деятелей, и испуганный редактор счел за благо отказать настырному просителю: по его мнению, респектабельная газета не нуждалась в таком сотруднике. В Шарлеруа делать было больше нечего, и Рембо решил отправиться в Брюссель. Он шел пешком, ночевал в открытом поле, просил милостыню в деревнях и в бельгийскую столицу прибыл в лохмотьях, почти падая от голода и усталости. Впрочем, в этих историях довольно трудно отделить легенды от реальности. Рембо подготовился к побегу основательно, и деньги у него имелись — во всяком случае, он останавливался в гостинице под названием "Ла Мезон верт", о чем свидетельствует, в частности, стихотворение "В "Зеленом кабаре". В Брюсселе он отыскал одного из друзей Изамбара, фамилию которого узнал совершенно случайно. Тем не менее, тот сжалился над беглецом: приютил его на несколько дней у себя, купил новую одежду и дал немного денег на дорогу. 20 октября юноша вновь оказался в Дуэ, но не застал своего учителя дома. Это его нисколько не смутило, и он по собственному почину занял комнату Изамбара, который впоследствии так описал встречу с ним: "Я увидел Рембо в модном воротничке, с загнутыми углами, и в шелковом галстуке темно-красного цвета, делавшем его похожим на настоящего денди". Приятель Изамбара, следовательно, не поскупился — либо Рембо сам позаботился о своем гардеробе. Положение молодого учителя, между тем, нельзя было назвать завидным, поскольку его вполне могли принять за подстрекателя — в конце концов, Рембо оказался в Дуэ во второй раз за какой-то месяц, и это после оглушительного скандала в связи с первым побегом. Впрочем, это волновало лишь Изамбара, которому пришлось в очередной раз писать мадам Рембо: сам беглец спокойно делал копии со своих последних стихов, намереваясь отправить их новому знакомцу Полю Демени и, главное, в типографию. Эта рукопись сохранилась: в нее входят самые светлые, самые веселые, самые "детские" стихи Рембо — "В "Зеленом кабаре", "Плутовка", "Мое бродяжничество" ("Моя цыганщина"). Он создал их в порыве надежды, ощутив себя "на воле", вдали от родного дома и материнского диктата. Все честолюбивые планы Артюра рухнули, когда пришел ответ от матери: "Требую поручить полиции водворить сына на место. Категорически запрещаю предпринимать какие-либо иные шаги". 1 ноября беглеца доставили домой, а 2 ноября он отправляет письмо Изамбару, с которым уже никогда больше не встретится: "Я вернулся в Шарлевиль на следующий день после того, как расстался с вами. Мать приняла меня, и я — я здесь… в полной праздности. Мать поместит меня в пансион только в январе 71 года. Что ж, я сдержал свое обещание. Я умираю, я заживо разлагаюсь от бездействия, от злости, от уныния. Что вы хотите, я ужасающе непоколебим в том, что обожаю свободную свободу и… многое другое, что "внушает жалость", не так ли? Мне следовало вновь уйти сегодня же, и я мог это сделать: у меня новая одежда, я продал бы часы, и да здравствует свобода! — И однако же я остался! остался! — но еще не раз захочу уйти снова. — Ведь это так просто: надел шляпу, пальто, засунул руки в карманы и вышел. Но я останусь, останусь! Я этого не обещал. Но я это сделаю, чтобы заслужить вашу любовь — вы говорили мне об этом. Я постараюсь ее заслужить. Я не в силах выразить вам свою признательность более, чем сделал это в день отъезда. Но я докажу вам ее на деле. Если надо будет что-то сделать для вас, я умру, но сделаю — мое слово тому порукой". Именно это письмо подросток подписывает словами "ваш бессердечный А. Рембо". Но, как заметил Станислас Фюме, "сердце нанесло ему ужасный удар и в конечном счете предало этого бессердечного". Рембо, действительно, нечего было делать, поскольку коллеж закрылся. Впрочем, он вовсе не хотел туда возвращаться, но по-прежнему мечтал опубликоваться и отослал свои стихи в газету демократического направления — "Арденнский прогресс". В ожидании каких-то перемен в своей жизни он совершает долгие прогулки в обществе Эрнеста Делаэ и глотает книги в городской библиотеке, попутно пререкаясь с библиотекарем и другими посетителями. Эти мирные шарлевильские обыватели, по словам Верлена, послужили прообразом бюрократов-монстров в одном из самых известных стихотворений Рембо, которое было создано в январе 1871 года:
Эти неприятные для Рембо люди вряд ли заслуживали такой злобной отповеди, но им не повезло — именно в них воплотился для поэта ненавистный Шарлевиль, именно они преграждали ему путь к свободе и покушались на его независимый дух. В ноябре 1870 года домой вернулся, наконец, и второй беглец — Фредерик. По словам Делаэ, братья не могли смотреть друг на друга без смеха: они чувствовали духовное родство, и, быть может, это был наилучший период их взаимоотношений. Впрочем, младший не упускал случая подпустить шпильку старшему:
"… Артюр, будучи в некотором отношении более злокозненным, забавлялся тем, что высмеивал патриота Фредерика. А тот — очень спокойно, с легким налетом южного говора, усвоенного в полку, и добродушным тоном отдыхающего мужчины — отвечал ему: "Меня от тебя тошнит".
Зима 1870–1871 годов была тяжела и для Рембо и для страны. Военно-политическая ситуация ухудшалась с каждым днем и с каждым часом: 20 декабря немцы осадили Мезьер, а 31 подвергли город обстрелу, выпустив по нему более шести тысяч снарядов. В этот день Рембо хотел выбраться из дома, но мать заперла двери на ключ, и он сумел убежать лишь в семь часов вечера. Война вызывает в нем отвращение — видимо, искреннее. Стихи о бессмысленной гибели молодых в военной мясорубке принадлежат к числу не только самых известных, но и самых проникновенных в творчестве Рембо. Для обозначения чудовищного преступления против человека он выбрал короткое и емкое слово "Зло":
Разрушения были значительными — так, при бомбардировке Мезьера сгорел дом Эрнеста Делаэ, и тот вынужден был перебраться к родственникам в деревню. Затем началась оккупация. Национальное унижение каждый переживал по-своему. У Рембо оно превратилось в ненависть к немцам и особенно к их лидеру — Бисмарку. Делаэ вспоминал саркастические замечания Рембо о немецкой дисциплине и немецких порядках, а также его "пророческие слова" о последствиях войны:
"Посвистев всласть в свои дурацкие дудки и натешившись барабанным боем, они вернутся к себе на родину, где будут уплетать сосиски, в твердой уверенности, что дело доведено до конца. Но погоди немного. Вооруженные до зубов, насквозь проникнутые духом военщины, руководимые чванными и заносчивыми вождями, они вкусят от всех прелестей легкой победы… Я предвижу железные тиски, в которые будет зажата немецкая общественность. И все это лишь для того, чтобы быть в конце концов раздавленными какой-нибудь коалицией".
В действительности поражение родной страны вызывало у Рембо скорее злорадство нежели скорбь: он всей душой ненавидел империю и жаждал увидеть ее крах. И вот это, наконец, свершилось. В один прекрасный день Рембо явился в библиотеку с ликующим возгласом: "Париж сдался!" Национальную катастрофу он воспринял как конец шарлевильского прозябания. Продав часы, чтобы купить железнодорожный билет, он 25 февраля 1871 года садится на поезд. Это третий побег Рембо — несомненно, самый загадочный из всех, ибо о нем сложено наибольшее количество легенд.
Артюру казалось, что к этому побегу он подготовился куда лучше, чем к первым двум: в соответствии с его книжными представлениями о жизни ему нужно было всего лишь добраться до Парижа, "города Просвещения" (этот эпитет настолько часто встречается в воспоминаниях Эрнеста Делаэ, что превращается в штамп) — а уж там любой литератор с распростертыми объятиями примет талантливого собрата из провинции. Добравшись до столицы, Рембо сразу же отправился к карикатуристу Андре Жилю, адрес которого каким-то образом узнал. Не застав никого в мастерской, он преспокойно улегся на диван — как уже проделывал это в Дуэ, "в гостях" у сержанта национальной гвардии. Художник, впрочем, отнесся к нему благосклонно: вернувшись вечером домой и обнаружив сладко спящего незнакомого юношу, разбудил нахала и выпроводил вон, но при этом дал десятифранковую монету и несколько добрых советов — в частности, объяснил, что в нынешнем Париже литераторы, как и все прочие люди, гораздо больше думают о пропитании, чем о поэзии. Сам Рембо говорил потом Делаэ, что "Париж — это желудок". Около двенадцати дней он бродил по городу, рассматривая витрины книжных магазинов и ночуя под мостами или в угольных баржах. Столица оказалась к нему не слишком гостеприимной, и 10 марта он отправился пешком в Шарлевиль.
Рембо умел отвечать обидевшей его действительности только одним чувством — злобой. Вероятно, именно после этого побега в нем зародилась ненависть к Парижу, которая окончательно выкристаллизуется к лету 1872 года. Домой он вернулся весь в лохмотьях, простуженный и оголодавший. Мать начала, наконец, осознавать всю серьезность ситуации: она уже не ругала сына, а пыталась наставить его на путь истинный уговорами и угрозами: ей хотелось, чтобы он вернулся в коллеж и держал экзамен на степень бакалавра — либо устроился на какую-нибудь службу.
"Революционер"
Нет, эти руки-исполины,
Добросердечие храня,
Бывают гибельней машины,
Неукротимее коня!
И, раскаляясь, как железо,
И сотрясая мир, их плоть
Споет стократно Марсельезу,
Но не "Помилуй нас, Господь!"
Без милосердья, без потачки,
Не пожалев ни шей, ни спин,
Они смели бы вас, богачки,
Всю пудру вашу, весь кармин!
Их ясный свет сильней религий,
Он покоряет всех кругом,
Их каждый палец солнцеликий
Горит рубиновым огнем!
Остался в их крови нестертый
Вчерашний след рабов и слуг.
Но целовал Повстанец гордый
Ладони смуглых этих рук.[31]
Когда немцы приблизились к Мезьеру и Шарлевилю, наступил всеобщий патриотический подъем: стоило коменданту укрепленного района отдать приказ убрать все, что может помешать обороне, как толпа уничтожила сады и вырубила рощу со столетними липами. По словам Делаэ, Рембо находил во всех этих порубках (изображенных также и в "Озарениях") глубокий символический смысл: "Есть вещи, которые необходимо уничтожить. Есть старые деревья, которые нужно срубить; есть вековые исполины, тень которых вскоре превратится для нас в воспоминание. Так и от нынешнего общественного строя не останется ни следа. Ни личному богатству, ни личной гордости не будет места под солнцем. Мы опять вернемся на лоно природы".
Вопрос о демократических и революционных убеждениях Рембо представляет большой интерес. Сомневаться в передовых настроениях поэта здесь вроде бы не приходится: юноша сочувствует голодным сиротам, воспевает натруженные руки старой работницы, восторженно изображает кузнеца, который горделиво грозит коронованным деспотам. Жан Мари Карре пишет об этом с умилением: "Он не любит Бога, этот "бессердечный Рембо", но он еще способен любить многое. Его отрицательное отношение к окружающему не беспредельно: он любит бедных, униженных, несчастных, бунтарей". Более того, сочувствие к народу сочетается с самыми радикальными убеждениями: Делаэ сообщает, что уже в возрасте тринадцати или четырнадцати лет Артюр мечтал о насильственном разрушении общественного строя.
18 марта в Париже была провозглашена Коммуна — к великой радости Рембо, недавно вернувшегося домой после третьего побега. Ему, надо сказать, отчасти не повезло: если бы он продержался в столице еще несколько дней, то стал бы свидетелем — или участником — этих событий, столь близких его тогдашнему умонастроению. В 1905 году Делаэ без тени сомнения утверждал:
"Коммуналистическая армия имела его в своих рядах, ибо теориями он не удовлетворялся и жаждал рискнуть жизнью во имя социальной революции".
Сюжет "Рембо и Коммуна" породил несколько легенд. Юный поэт будто бы отправился в Париж с целью записаться в народную гвардию и прошел пешком 60 льё[32] за шесть дней. Оказавшись в столице, он явился на укрепления и потребовал выдать ему оружие — его пламенные речи тронули сердце мятежников, но затем наступление версальцев вынудило новоявленного бойца спасаться бегством. Какое-то время ему пришлось провести в тюрьме вместе с коммунарами, и именно этими трагическими событиями якобы навеяно знаменитое стихотворение "Украденное сердце":
Однако "Украденное сердце" подверглось различным интерпретациям. Некоторые "реакционные" исследователи утверждают, что солдатами, так неприятно поразившими чувствительную душу юного поэта, были коммунары, а Жан Пьер Шамбон попросту предложил считать Рембо "версальцем".
В других легендах говорится о полукомических и полутрагических приключениях Рембо в восставшем Париже: добрые коммунары скинулись кто сколько мог для несчастного юноши, а тот потратил собранные деньги на их угощение; в казармах к нему стал приставать пьяный национальный гвардеец; его стихи вызвали всеобщий восторг на баррикадах; он чудом ускользнул от озверевших приспешников Тьера и т. д. и т. п.
Все версии об участии Рембо в Коммуне имеют один источник — его собственные рассказы. Естественно, главным слушателем поэта в 1871 году был Эрнест Делаэ (которого чуть позже сменил Верлен). Почти все ранние биографы — те, кто имел дело лишь с мемуарными свидетельствами и не использовал документы — были абсолютно убеждены в правдивости исходивших от Делаэ сведений. Только Изабель Рембо еще в 1896 году просила Патерна Берришона не доверять им:
"Если бы я могла предвидеть, что вы используете свидетельства Делаэ, то предостерегла бы вас…
Участие в Коммуне — это совершенно невозможно, я бы об этом знала и помнила бы. Быть может, он [Рембо] похвалялся этим из бравады. Впрочем, коммунаров ведь разыскивали, арестовывали, судили; ему же не пришлось спасаться от преследований, которых, я в этом убеждена, он боялся бы гораздо больше, чем любой другой человек, если бы чувствовал за собой настоящую вину".
Но Патерн в этом пункте пошел наперекор любимой супруге — уж очень благодатной показалась ему тема. Поэтому он повторил версию Делаэ, дополнительно разукрасив ее живописными подробностями: Рембо будто бы стал свидетелем жутких сцен насилия с обеих сторон, и это внушило ему отвращение к социальным битвам.
Единственным человеком, выступившим с публичным опровержением домыслов Берришона, стал Жорж Изамбар, который тщетно пытался переубедить и Делаэ, ссылаясь на письма Рембо. Обмен посланиями произошел в 1927 году, когда в печати появились статьи Изамбара. Последний проявил максимальный такт по отношению к бывшему ученику:
"Вы увидите, что я вас не упоминаю. Не с целью вас… пощадить (amicus Plato, magis amica veritas),[34] а потому, что с вами дело обстоит совсем не так, как с гнусным Патерном. Вы эту историю не сочинили, не выдумали. Вы ее наверняка записали со слов самого Рембо, а мы знаем, что на том жизненном повороте он не чурался мистификаций. После 18 марта он играл в Шарлевиле роль активного коммунара и должен был выдержать ее до конца. Вследствие этого, он ввел вас в заблуждение — холодно, обдуманно — разумеется, не из одного только удовольствия, а потому что ему было необходимо, чтобы вы поверили ему столь же безоговорочно, как другие. И не считайте себя униженным из-за того, что поддались обману. Нам эта птица известна. Мы с вами оба знаем, с каким искусством Рембо умел обольщать. Вы сами приводили тому примеры".
Однако Делаэ до конца жизни упорно стоял на том, что его школьный друг принимал участие в Коммуне — это был якобы третий (или четвертый побег) Рембо. Отметим к слову, что Делаэ совершенно запутался в этих побегах: особенно невнятны его повествования о событиях весны 1871 года, поскольку его не было в Шарлевиле — с начала апреля по конец мая он находился у родных в Нормандии. Тем не менее, Делаэ твердо верил, что Рембо не мог его обмануть и пытался оспорить аргументы Изамбара:
"Конечно, подобный рассказ мог бы доставить ему удовольствие! Но совершенно непостижима та гениальность, которая понадобилась бы, чтобы выдумать такую историю… Он провел с этими людьми [коммунарами] от двух до трех недель. А затем — это его слова — начались разговоры: все кончено, версальцы вступят в город. И многие строили планы, как исчезнуть. И он поступил так же. Что может быть проще и правдоподобнее этого рассказа, начисто лишенного хвастовства и хвастовство отвергающего? Разве это похоже на байку, призванную ошеломить? Он любил втирать очки, это правда, но в данном случае его резоны необъяснимы".
Иными словами, достоверность рассказа подтверждается лишь тем, что Рембо не стремился пустить пыль в глаза — довод, прямо скажем, не слишком убедительный. Делаэ возвращался к "коммуналистическому" эпизоду неоднократно, корректируя собственную версию с целью парировать критические замечания. Так, дата третьего (у Делаэ — второго) побега у него меняется с годами: в первых воспоминаниях упоминается "снятие осады", затем говорится о начале февраля, и лишь в последних сочинения появляется более или менее правильное указание на "конец февраля или начало марта". Возможно, Делаэ просто прочел опубликованное письмо к Полю Демени от 17 апреля 1871 года, где Рембо называет точное время своего пребывания в Париже:
"Такова была литературная жизнь — с 25 февраля по 10 марта. — Впрочем, вряд ли я сообщил вам что-то новое.
Итак, подставим лоб под наклоненные струи небесные и всей душой предадимся античной мудрости.
И пусть бельгийская литература унесет нас под своей подмышкой".
После публикации документов версия Делаэ рухнула: исследователи нового поколения отвергли ее почти единодушно. "Добрался ли он в самом деле на этот раз до Парижа? Поступил ли он в повстанческие войска? Был ли он поджигателем и федератом, как впоследствии хвастался? (…) Этой общераспространенной и весьма живописной версии, к сожалению, приходится — не без риска умалить революционные заслуги Рембо — противопоставить другую, покоящуюся на более достоверных фактах". Эти достоверные факты таковы: "Украденное сердце" (под названием "Казненное сердце") было послано Изамбару в письме от 13 мая 1871 года. Там же говорится и о последних днях Коммуны (когда Рембо якобы пребывал на баррикадах):
"… Я буду тружеником: только эта мысль удерживает меня, хотя безумная ярость зовет на парижскую битву, где столько тружеников умирает в тот самый час, когда я пишу вам! Трудиться сейчас — никогда, никогда. Я бастую".
Логика, надо сказать, довольно странная, но для шестнадцатилетнего юнца простительная. Рембо оставался в Шарлевиле и 15 мая, ибо именно в этот день он отправил очередное послание Полю Демени в Дуэ — то самое письмо, в котором сформулирована программа "ясновидения". Даже если Рембо отправился в Париж не пешком, а на поезде, он все равно не успел бы совершить все приписанные ему подвиги, ибо уже 22 мая все было кончено — "кровавая неделя" завершилась, и Коммуна прекратила свое существование. Возможно, Рембо все же сделал попытку прорваться в столицу: Верлен позднее рассказывал, как его юный друг чудом спасся от уланского разъезда в лесу Вилье-Котре, забившись в кусты и насмерть перепугавшись. Делаэ также упоминает этот эпизод, но, согласно его версии, Артюр едва не попал в руки улан, выбравшись из залитой кровью столицы. Естественно, Рембо было труднее "втирать очки" в Париже, чем в Шарлевиле: в отличие от Делаэ, Верлен знал о Коммуне не по наслышке — поэтому просто упомянул, не вдаваясь в подробности, о кратковременном пребывании шарлевильского подростка в мятежной столице.
Как бы там ни было, Коммуна присутствует в творчестве Рембо: в Шарлевиле он пишет стихотворения "Военная песнь парижан", "Руки Жанны-Мари", "Парижская оргия, или Столица заселяется вновь". По мнению французских критиков, этот триптих представляет собой лучший гимн Коммуне — и создан он был поэтом, который никакого участия в революционных событиях не принимал. Затем Коммуна перестанет его интересовать и напрочь исчезнет из его писем и сочинений.
Поэт
Когда-то, насколько я помню, жизнь моя была пиром, где раскрывались сердца, где пенились вина. — Как-то вечером посадил я Красоту себе на колени. — И горькой она оказалась. — И я оскорбил ее".
Сезон в аду.
В 1869 Рембо получил первую премию за латинскую поэму "Югурта" — в возрасте неполных пятнадцати лет. В том же году он пишет первые стихи на французском — "Новогодние подарки сирот". 2 января 1870 года эти стихи были опубликованы в "Ревю пур тус" ("Revue pour tous"). Через несколько месяцев в журнале "Ла Шарж" ("La Charge") появится еще одно стихотворение Рембо — "Три поцелуя".[35]24 мая 1870 года он посылает первое письмо поэту-парнасцу Теодору де Банвилю, приложив три стихотворения — "Ощущение", "Офелия", "Credo in Unam" ("Верую во Единую"):[36]
"Дорогой мэтр,
У нас сейчас месяц любви, мне семнадцать лет.[37] Как говорится, это возраст надежд и химер — и вот я, одаренный прикосновением Музы ребенок (простите мне эту банальность), решился рассказать о верованиях моих, надеждах и чувствах, всех этих поэтических вещах, которые я причисляю к весне.
Посылаю же я вам — заодно также славному издателю Альф, Лемеру — некоторые мои стихи, потому что люблю всех поэтов, всех славных парнасцев — а поэт всегда парнасец — и я влюблен в идеальную красоту; потому что люблю в вас — со всей наивностью — потомка Ронсара, брата наших учителей 1830 года, истинного романтика, истинного поэта. Вот поэтому. Это глупо, не так ли, но что делать?
Быть может, через два года, через год я буду в Париже.
Anch’io[38] буду парнасцем, господа из журнала! — Сам не знаю, что есть во мне… что поднимается… — Клянусь вам, дорогой мэтр, что всегда буду поклоняться двум богиням — Музе и Свободе.
Не смотрите презрительно на эти стихи… Вы доставите мне безумную радость и надежду, если найдете местечко среди парнасцев для этой вещицы — "Credo in unam"… Я появился бы в последнем выпуске "Парнаса": это было бы Кредо всех поэтов! — Честолюбие мое! О, безумное!
— Так эти стихи выйдут в "Современном Парнасе"?
— Разве не заключена в них вера поэтов?
— Меня никто не знает, но что с того? Ведь все поэты братья. Эти стихи верят, любят, надеятся — вот и все.
— Дорогой мэтр, помогите мне. Дайте мне подняться. Я молод: протяните мне руку".
Мечты Рембо были наивными: правда, Банвиль ответил ему, но и не подумал публиковать стихотворение, на которое юный поэт возлагал самые большие надежды. Много позже эти стихи все же появятся в печати под названием "Солнце и плоть" — но для Рембо это уже не будет представлять интереса. Пока же это письмо — первая попытка прорваться в обольстительный и загадочный мир литературы. Неудача больно ранила подростка. На протяжении всей его жизни это будет повторяться вновь и вновь: он слишком быстро приходит в отчаяние, которое слишком быстро перерастает в истерику. И его поэзия разительно меняется: появляются такие вещи, как "Наказание Тартюфа" или "Венера Анадиомена". Оба стихотворения были написаны в июне 1870 года, и в них Рембо словно бы сводит счеты с обидевшим его миром. Если в "Солнце и плоти" звучал гимн природе и любви, то теперь на свет появляется вылезающая из зеленой железной ванны Венера с отвратительной язвой вместо заднего прохода:
Не стоит, конечно, забывать уже проявившуюся склонность к эпатажу: мальчик почти наслаждается, описывая мерзость окружающего мира, но делает это по-книжному, при помощи слов — у него достаточно богатое воображение, чтобы мысленно представить отвратительное уродство жирной и угреватой женской плоти, но было бы большой ошибкой предполагать, что это личные впечатления. Однако, в любом случае, это уже не прежний "чопорный, послушный и кроткий" школьник, хотя у матери и учителей еще сохранялись иллюзии на сей счет.
В короткой творческой биографии Рембо можно выделить несколько важных периодов. С марта по октябрь 1870 года он словно бы пробует руку: в "Ощущении" использованы темы и образы Ламартина, "Кузнец" является подражанием Гюго, "Бал повешенных" самим названием отсылает к Вийону, "Солнце и плоть" написано под непосредственным влиянием Мюссе, и здесь же звучат темы парнасцев — Леконта де Лиля и Банвиля, "Голова фавна" похожа на стихи Виктора де Лапрада и т. д. В это время юный поэт не стесняется заимствовать иногда целые строки у своих собратьев: "Венера Анадиомена" и "На музыке" имеют точки соприкосновения со стихами Глатиньи, "Вы, храбрые бойцы…" перекликается со сборником Гюго "Возмездие", "Ответ Нины" совпадает по замыслу и чередованию рифм со стихами Банвиля, "Спящий в ложбине" обязан своим появлением на свет стихотворению Дьеркса.
Изабель позднее уверяла, будто брат ее совершенно не интересовался изданием своих сочинений — кудесник стиха, он творил, словно дышал, не помышляя о мирской славе:
"Артюру Рембо никогда не приходила в голову мысль о том, чтобы опубликовать свои стихи, равно как и о том, чтобы добиться, благодаря им, выгоды или известности — если они все же были опубликованы, это произошло против его воли".
Как обычно, утверждения сестры не соответствуют действительности: юный поэт жаждал известности и целенаправленно шел к своей славе. Ему без труда удавалось "подделаться" под нужный тон: для "Ревю пур тус" он упражняется в глуповатой морализации, для журнала "Ла Шарж" пишет в залихватской манере, для парнасцев приберегает языческие темы и помпезный стиль. В доме сестер Жендр он переписывает набело свои стихи и тратит слишком много бумаги, а в ответ на упреки поясняет:
"Для типографии нельзя писать с оборотной стороны".
Переломными становятся для Рембо зима и весна 1871 года. "С падением Коммуны ему открывается, быть может, помимо воли, истинный смысл того, что он называет революцией". Это вовсе не социальный переворот — точнее, им одним дело не ограничивается. Рембо стремится к революции всех элементов, ибо они погрузились в спячку с тех пор, как был заключен союз с Богом слабых и нищих духом. Мир утерял свое подлинное лицо, сокрытое под навязанной ему маской, и представляет собой лишь мерзкую карикатуру своей истинной судьбы. Вселенную необходимо встряхнуть, чтобы сбросить постыдное иго цивилизации: для этого нужно истребить род людской, уничтожить планету и вернуться к хаосу, из которого родится нечто неслыханно новое. Потрясенный своим открытием, Рембо создает с мая по август 1871 года целую серию "апокалипсических" стихотворений, нацеленных на разрушение всех отвергаемых отныне ценностей: "Сидящие", "Праведник", "Первое причастие", "Мои возлюбленные крошки", "Приседания", "Вечерняя молитва", "Бедняки в церкви", "Семилетние поэты", "Сердце паяца" (позже названное "Казненное сердце" или "Украденное сердце"). 10 июня 1871 года Рембо посылает три последних стихотворения Полю Демени — другу Изамбара и молодому поэту, с которым познакомился в Дуэ. Именно в этом письме содержится просьба уничтожить все ранние (написанные в 1870 году) сочинения:
"… сожгите, я так хочу и верю, что вы исполните волю мою, как исполняют волю усопшего, сожгите все стихи, которые я по глупости своей передал вам во время моего пребывания в Дуэ…"
Это, несомненно, свидетельствует о пережитом кризисе и появлении нового взгляда как на окружающую действительность, так и на литературное творчество. К маю 1871 года Рембо, действительно, разрабатывает программу, которой будет руководствоваться в ближайшие три года. 13 и 15 мая 1871 он посылает Жоржу Изамбару и Полю Демени так называемые "Письма Ясновидца". В послании к учителю он формулирует свои эстетические и политические взгляды следующим образом:
"Я стараюсь как можно сильнее осволочиться. Почему? Я хочу быть поэтом и работаю над тем, чтобы сделаться Ясновидящим: вы этого совершенно не поймете, а я не смогу толком объяснить. Речь идет о том, чтобы достичь неведомого посредством расстройства всех чувств. Это огромные муки, но нужно быть сильным, нужно родиться поэтом, а я осознал себя поэтом. Это вовсе не моя вина. Было бы ложью сказать: я думаю; следовало бы сказать: меня думают. Простите за каламбур. Я — это другие".
В письме к Полю Демени Рембо раскрывает суть своей программы несколько подробнее:
"Чиновники, писатели: автор, творец, поэт — подобный человек еще никогда не существовал!
Первое, что должен сделать человек, который хочет быть поэтом, это полностью познать самого себя. Он ищет свою душу, исследует ее, подвергает искушениям, обучает. Познав, он должен возделывать ее; это кажется простым: в любой голове совершается естественное развитие; сколько эгоистов провозглашают себя авторами; есть и другие, которые приписывают себе интеллектуальный прогресс! — Но речь идет о том, чтобы создать в себе чудовищную душу: как бы на манер компрачикосов! Представьте себе человека, который взращивает бородавки на собственном лице.
Я говорю, что надо быть ясновидцем, сделаться ясновидцем.
Поэт делает себя ясновидцем посредством длительного, громадного и систематического расстройства всех чувств. Все виды любви, страданий, безумия; он ищет самого себя, он черпает в себе самом все яды, чтобы извлечь из них квинтэссенцию. Невыразимая мука, которая требует всей его веры, сверхчеловеческой силы, ибо он становится великим больным, великим преступником, великим проклятым — и величайшим Ученым! — Ибо он достигает неведомого! Потому что он возделал душу свою, которая уже намного превосходит другие по богатству! Он достигает неведомого, и, когда ему кажется, что он обезумел, ибо не понимает смысла своих видений, тогда-то он их и видит! Пусть он подохнет в своем броске к неслыханному и невыразимому: придут другие ужасные труженики; они начнут с тех горизонтов, где обессилел тот!"
Кто же из поэтов достоин называться ясновидцем и может служить ему примером? В письме к Демени Рембо перечисляет тех, кто хоть немного приблизился к "ясновидению". В какие-то мгновения это удавалось Ламартину, но его "губит старая форма". Многое сумел увидеть Гюго, который, однако, склонен "к излишним умствованиям". Второе поколение романтиков — Теофиль Готье, Леконт де Лиль, Теодор де Банвиль — значительно глубже. Но они пытались лишь воскресить прошлое:
"Настоящим ясновидцем, подлинным королем поэтов оказался только Бодлер. Однако он жил в слишком изысканной среде, и столь прославленная форма его произведений не соответствует их внутреннему размаху. Поискам неведомого должна соответствовать совершенно новая форма".
Из ныне живущих внимания заслуживают двое — Теодор де Банвиль и Поль Верлен. С последним Рембо вскоре предстоит встретиться. Что же касается Банвиля, то ему 15 августа 1871 года юный поэт направил свое второе послание:
"Быть может, вы помните, что в июне 1870 года вам прислали из провинции не то сто, не то полтораста гекзаметров мифологического содержания, озаглавленных "Credo in Unam". Вы были достаточно добры и ответили их автору.
Все тот же дурак посылает вам прилагаемые при сем стихи за подписью Алкид Бава.[40] — Прошу прощения.
Мне восемнадцать лет. — Я всегда буду любить стихи Банвиля.
В прошлом году мне было всего лишь семнадцать!
Добился ли я прогресса?".
Смиренный тон послания обманчив: в это время Рембо совершенно охладел к Банвилю и ставил себя как поэта гораздо выше, хотя всего несколько месяцев назад обращался к знаменитому парнасцу с подчеркнутым уважением — как к мэтру. Теперь же он почти не скрывает издевки над Банвилем и прочими жалкими стихоплетами, не способными понять истинную красоту. Вместе с тем, Рембо по-прежнему нуждался в литературной протекции: поэтому он рискнул еще раз обратиться к известному поэту, который год назад не погнушался ответом новичку. Отправленное Банвилю стихотворение "Что говорят поэту о цветах" было написано в соответствии с новыми принципами — это "виртуозная эквилибристика, свидетельствующая о том, до каких пределов доходит гениальная изобретательность Рембо в области сквернословия". Марсель Кулон, впервые опубликовавший эти стихи, проводил параллель между ними и "Пьяным кораблем": они в плане комическом выражают то же, чем последняя вещь является в плане возвышенном — в обоих случаях речь идет о стремлении к экзотике. В этом стихотворении Рембо последовательно противопоставляет Францию и дальние страны: хилые, чахлые, смешные в своем убожестве европейские растения меркнут на фоне неведомой, неслыханной, несуществующей флоры приснившихся тропиков и воображаемых Флорид:
Нечто подобное произошло и с "Пьяным кораблем": в последних числах августа 1871 года, еще ни разу не побывав на море, Рембо создает видение пригрезившегося плавания. "В этом стихотворении, подлинном половодье слова, он, пользуясь все более углубляемым и развертываемым символом, пророчески предсказывает свой собственный легендарный и патетический удел: все увидеть, все перечувствовать, все исчерпать, изведать до дна и всему найти соответствующее выражение". С тем, что поэма "Пьяный корабль" заключает в себе дух пророчества, согласны многие исследователи: например, Станислас Фюме также утверждает, что в этой поэме "заранее описана почти вся жизнь Рембо".
Рене Этьямбль, со своей стороны, считает, что программу ясновидения поэт сумел реализовать только в двух вещах — сонете "Гласные" (более знаменитом) и "Четверостишии", которое является самым совершенным творением Рембо, ибо это истинное видение:
В августе 1871 года Рембо показалось, что его программа приносит результаты и способна "очистить" мир: в "Четверостишии" даже женщина становится прекрасной — без "прыщей на хребте", уродливых "титек", насмешливой улыбки. Он убежден, что создал несколько шедевров. Совсем недавно ему хотелось умереть — ярче всего это выразилось в стихотворении "Сестры милосердия":
Но теперь мысли о смерти отступают — на смену им приходит уверенность в близкой славе. И Рембо предпринимает еще одну попытку прорваться в литературный мир. На сей раз он решил обратиться к Полю Верлену, которого в письме к Изамбару назвал "истинным поэтом". Ответ пришел не сразу, что едва не повергло юношу в очередной приступ отчаяния. Он не знал, что его будущего друга пока нет в Париже — Верлен гостил у друзей в Нормандии и вернулся в столицу лишь в конце августа. В состоянии тревожного и мучительного ожидания Рембо создает "Пьяный корабль" и показывает его Делаэ: именно эту вещь он будет читать искушенным и закоснелым столичным литераторам — этой поэмой он завоюет Париж.
Накануне броска в "неведомое"
"Все началось с поисков. Я записывал голоса безмолвия и ночи, пытался выразить невыразимое. Запечатлевал ход головокружений".
Сезон в аду: Алхимия слова.
В сентябре 1871 года Рембо еще не исполнилось семнадцати лет. Он необуздан и самоуверен, ибо свято верит в свой поэтический дар. Он уже создал "теорию ясновидения" — осталось применить ее к себе и к другим. Одновременно он сын своей матери — хитрый и прижимистый крестьянин. Чудовищная гордость сочетается в нем с крайней робостью. Реальная действительность вызывает у него два чувства — ненависть и страх слившихся воедино.
В свете дальнейших событий особого внимания заслуживает отношение Рембо к женщинам, которые встречаются в его стихотворениях неоднократно. Сначала это некая загадочная, романтичная, окутанная дымкой "она". У "нее", как правило, античные имена — Венера, Кибела, Ариадна, Леда, Электра. "Она" напоминает поэту Офелию, ибо "собирает свой букет в волнах". Затем, почти одновременно с мерзкими "прелестями" Венеры Анадиомены, возникают создания более земные: плутовка из "Первого свидания", рассудительная возлюбленная из "Ответа Нины", высокомерная особа из "Романа". Наконец, у "нее" появляются "фиалковые глаза" ("Гласные"[44]). К этим фиалковым глазам и к путешествию в "розовом вагоне" ("Сон на зиму") друзья поэта впоследствии пытались подобрать подходящую кандидатуру из числа предполагаемых возлюбленных поэта.
По утверждению Эрнеста Делаэ, его друг отправился в столицу вместе с некой девушкой из Шарлевиля:
"… он полюбил сразу, уже в ранней юности, с пылом и чистотой ребенка, но со смелой уверенностью мужчины. Из его "возлюбленных крошек", которых он сопровождал "на музыку" или в другие места, которым посылал страстные письма — об утрате их, замечу в скобках, можно только сожалеть, ибо возмущенные родители завладели ими и уничтожили — есть одна, которая осталась с ним, привязалась к нему, покинула, чтобы не расставаться с ним, семью и домашний очаг, стала "соузником по преисподней".[45] Во время второго путешествия в Париж в феврале 1871 года она пожелала сопровождать его, хотя он был против. Не имея никакого пристанища, они провели первую ночь на бульварной скамье. Утром он потребовал, чтобы его подруга, взяв все деньги, какие у них были, отправилась на Северный вокзал: они рассчитывали, что ее приютят родственники, жившие в одном небольшом городке в окрестностях Парижа. Возлюбленная то ли покорилась, то ли сделала вид. Во всяком случае, Рембо не был уверен, что она уехала: он боялся увидеть ее в толпе, где она могла прятаться, следя за ним. Он не избавился от беспокойства и несколько месяцев спустя, когда рассказывал эту историю. Встретились ли они вновь? Это вполне вероятно, и расставание произошло, скорее всего, позже. Именно у нее были фиалковые глаза, воспетые в сонете "Гласные". Рембо никогда больше не позволял себе откровений по этому поводу. Даже в моменты, когда ему на все было в высшей степени наплевать, даже в минуты конвульсивной веселости, когда ему нравилось разыгрывать из себя прожженного циника, он внезапно мрачнел и раздражался, если ему намекали на эту столь мучительную для него любовную связь, и резко прекращал беседу словами: "Я не желаю, чтобы со мной об этом заговаривали!" О парижских шалостях, о Верлене, о заброшенной литературной славе — сколько угодно; о разных неприятностях, лишениях, предательствах, грубом обхождении он рассказывал подробнейшим образом, обращая все в шутку; но старая любовь так и осталась незажившей раной. (…) Любил он с тем же отчаянным устремлением к абсолютному идеалу, которое было присуще ему во всем".
Патерн Берришон категорически опровергал эту историю: по его словам, Рембо в ту пору совсем не знал женщин и впервые "согрешил" лишь в 1873 году:
"В восемнадцать лет он познал сексуальную жизнь".
Рассказ Эрнеста Делаэ вызывает слишком много вопросов: он не приводит имени таинственной девицы, которая затем пропадает бесследно — более она нигде не появляется и никто о ней не вспоминает. Между тем, шарлевильские кумушки, несомненно, должны были перемыть косточки не только самой беглянке, но и всей ее родне до седьмого колена. Добрый Эрнест отчасти понимал уязвимость своей позиции и сделал попытку поправить дело:
"Я не счел возможным назвать этот городок в окрестностях Парижа, чтобы никто не раскрыл инкогнито и не потревожил покоя особы, которая, вероятно, еще жива".
Учитывая желание Делаэ оградить Рембо от обвинений в "неправильной" сексуальной ориентации, биографы Рембо принимают эту версию ровно в той степени, в какой отрицают гомосексуальные склонности. Так, Марсель Кулон, первым прояснивший отношения Верлена и Рембо, считает эту историю выдуманной от начала до конца. Зато Жан Мари Карре, деликатно обходивший все острые углы, считает девицу вполне реальным, хотя и таинственным созданием: "Загадочное появление, мимолетная неуловимая тень. Кто была она? Что сталось с ней? Молчание ее возлюбленного навсегда окружило ее тайной". Еще одно подтверждение реальности этой "тени" Карре находит в воспоминаниях Луи Пьеркена — совсем уж неправдоподобных:
"Я готов подтвердить рассказ Эрнеста Делаэ (именно у нее были фиалковые глаза, воспетые в сонете о гласных). Рембо не любил, чтобы ему намекали на эту короткую и мучительную любовную связь. Несколько лет спустя я сидел с ним вечером за столиком кафе Дютерм на улице Пти-Буа, в Шарлевиле — в этом кафе по будним дням клиенты всегда были немногочисленны. В тот вечер он был молчалив и едва отвечал на мои вопросы. Я чувствовал, что мозг его занят напряженной работой — он явно обдумывал какое-то ненаписанное еще стихотворение. Чтобы отвлечь его, я сказал: "Ну, как твои любовные дела? Есть у тебя новости о малышке?" По выражению нашего общего друга Эрнеста Милло, он устремил на меня столь грустный взгляд, что я смутился, и произнес: "Прошу тебя, замолчи!" Облокотившись на стол и обхватив голову руками, он заплакал. Никогда мне не забыть эту душераздирающую сцену. Около девяти часов он поднялся со словами: "Пойдем отсюда". Я проводил его до опушки леса Автьер, за два километра от города. Он пожал мне руку, не сказав ни единого слова, но подавив рыдание, а затем углубился в лес по тропинке. Целых пять дней я его не видел. Вскоре после его смерти, в беседе с Изабель, я рассказал ей обо всех этих происшествиях, о которых она даже не подозревала. "То, что вы рассказали, — ответила она, — объясняет, что означали некоторые бессвязные слова, произнесенные им в бреду". Последнее воспоминание о тайной любви вновь ожило в момент смерти".
Пьеркен, несомненно, сознавал, как следует преподносить публике гениального поэта: тот должен был иметь возлюбленную (а еще лучше — возлюбленных) и пережить несчастную любовь. Не вызывает удивления и мгновенное озарение Изабель, которая именно в это время — вскоре после смерти брата — увлеченно готовила его грядущую "канонизацию" и сразу приняла версию "страсти роковой".
Не ограничиваясь возлюбленной с "фиалковыми глазами", Пьеркен приводит еще одно свидетельство любовных поползновений Рембо, причем в данном случае самолюбие поэта было жестоко уязвлено. В последних числах мая 1871 года он будто бы приметил соседскую дочь с "несравненными голубыми глазами", послал ей стихи и назначил свидание в сквере у вокзала. Девица была на два года старше своего поклонника и принадлежала к состоятельной семье — ее отец был фабрикантом. Явившись в назначенный час в сопровождении служанки, она смерила насмешливым взглядом скромно одетого оробевшего юношу, презрительно улыбнулась и прошла мимо.
Подтвердив публично правдивость рассказов Делаэ, Пьеркен обратился за разъяснениями к нему же (в письме от 18 октября 1923 года):
"… мне хотелось бы вас попросить, если это возможно, прояснить два пункта из жизни Рембо. Кто была эта девушка — совсем юная девушка — которая последовала за ним в Париж во время первого или второго его путешествия в столицу? Он сам никогда мне о ней не говорил. — У него было куда более позитивное чувство к одной барышне, дочери фабриканта, на которой он вроде бы хотел жениться. Он стал объектом насмешек со стороны этой юной особы, что его крайне расстроило. Мне кажется, что это была мадемуазель Бланш Коффине, отец которой занимался производством щеток… Ошибаюсь я или нет? Никто в Шарлевиле просветить меня не может, и я буду вам признателен за любые сведения".
Из этого письма неопровержимо следует, что Пьеркен выдумал от начала до конца историю с "рыдающим Рембо". Что касается второй истории, то здесь — в первый и последний раз — возникает конкретное имя, которое всегда является для биографов путеводной нитью. Естественно, результаты оказались плачевными. Правда, мадемуазель Бланш Коффине удалось обнаружить — она жила в Шарлевиле на улице Сен-Бартелеми, т. е. совсем близко от дома, занимаемого семейством Рембо. Но эта девушка была на два года младше поэта, что кардинально меняет суть дела: если Артюр и назначал ей свидание, то обидела его не восемнадцатилетняя барышня, а четырнадцатилетняя девочка.
Рене Этьябль в замечательной работе о "мифологии Рембо" наглядно показал механизм "умножения" возлюбленных, которых в конечном счете набралось примерно два десятка — вполне солидный "донжуанский список", где все дамы и девицы лишены не только имени, но также внешности (за исключением пресловутых "фиалковых" глаз) и возраста. Еще одно свойство этих сотканных из воздуха эфирных созданий — они исчезают, не оставляя никаких следов своего земного существования. Особо благодатным в этом смысле оказался последний период жизни Рембо: поскольку он оказался в местах с преобладающим мусульманским населением, ему приписали целый гарем, состоявший из туземных возлюбленных, — с помощью этих "живых словарей в кожаных переплетах" он будто бы учил местные наречия. Поль Клодель, один из самых восторженных почитателей поэта, без тени сомнения утверждал, что в Абиссинии тот женился и стал счастливым отцом — ребенок разделил судьбу матери, растворившись в знойном африканском мареве.
Каким был в реальности любовный опыт Рембо к сентябрю 1871 года? Самый правдоподобный ответ — нулевым. Конечно, поэт мог "придумать" себе любовь — для этого нужно было только воображение. Возможно, какие-то неудачные попытки "познакомиться" также имели место: в этом случае становится понятной злоба, с какой Рембо обрушивается на женщин. "Мои возлюбленные крошки" написаны летом 1871 года, но отнюдь не основаны на личных впечатлениях — в провинциальном Шарлевиле, находясь под бдительным присмотром матушки, совершенно без средств, Артюр никак не мог иметь на содержании нескольких девиц легкого поведения. Личным здесь является только отношение к "драным кошкам":
В оригинале, надо сказать, стихи эти звучат еще грубее. Разумеется, пресловутый "мятежный дух" вполне мог ополчиться на слабый пол и без всякого повода, однако эта тема выглядит слишком уж навязчивой для мальчика, которому не исполнилось семнадцати лет. Но, возможно, какая-то неудача на любовном поприще могла пробудить не только злобу, но и "иную" сексуальную ориентацию. В любом случае, "поздний" Рембо демонстрирует откровенную и неприкрытую ненависть к "женщине", которой готов предпочесть даже Смерть — подлинную "сестру милосердия":
Весной и летом 1871 года в Шарлевиле Рембо был невероятно раздражителен и приводил в ужас домашних. Он бесил шарлевильских обывателей своим вызывающим поведением и внешним видом — демонстративно разгуливал в рваных башмаках, отпустил волосы до плеч (до пояса, если верить Делаэ) и проч. Именно к этому периоду относится ряд "канонических" эпизодов бунтарства Рембо: когда безусый чиновник издевательски дал ему четыре су на стрижку, мальчик сунул деньги в карман со словами "это будет мне на табак". Любимым его занятием было выводить мелом слова "Дерьмо Богу"[48] на дверях церкви или на скамьях бульвара. В сущности, все эти выходки свидетельствуют об одном — Артюр не может и не хочет жить в Шарлевиле, но обречен, как ему кажется, на вечное прозябание в провинции. О своей невыносимой жизни он пишет 28 августа Полю Демени:
"Ситуация подследственного: вот уже более года, как я забросил обычную жизнь ради того, что вы знаете. Заточенный навеки в этом неудобоназываемом арденнском краю, не посещая ни единого человека, сосредоточившись на гнусном, нелепом, упорном, таинственном труде, отвечая молчанием на вопросы, грубости и злобные замечания, держась достойно в этом положении поставленного вне закона, я в конце концов вызвал свирепую решимость матери, неумолимой как семьдесят три административных совета в свинцовых фуражках.
Она пожелала навязать мне работу — пожизненную, в Шарлевиле (Арденны!). "Либо поступай на службу, либо убирайся из моего дома", — заявила она.
Я отверг подобное существование, не объясняя причин: это выглядело бы жалко. До сих пор мне удавалось оттянуть неизбежное. Она дошла вот до чего: сама теперь страстно желает моего неподготовленного отъезда, моего бегства! Без денег, без опыта, я непременно окажусь в исправительном заведении. И никто обо мне не вспомнит!
Таким отвратительным кляпом заткнули мне рот. Это очень просто.
Я ничего не прошу — мне нужны только сведения. Я хочу свободно работать, но только в моем любимом Париже. Дело обстоит так: передвигаясь на своих двоих, я прихожу в громадный город, не имея никаких материальных ресурсов. Вы сказали мне: тот, кто желает быть рабочим, обращается туда-то и туда-то, получает тридцать су в день и на это живет. Значит, я туда обращаюсь, что-то делаю и на это живу. Но я просил вас подсказать мне занятия не слишком обременительные, ибо размышления отнимают много времени.".
Письмо явно свидетельствует о приобретенном опыте: желание вырваться из Шарлевиля остается таким же страстным, но Рембо больше не хочет совершать "глупостей": он намерен попасть в столицу законным путем.
Изображая свое одиночество в самых мрачных тонах, юный поэт несколько сгустил краски: он встречается с Делаэ, проводит веселые вечера в кафе с товарищами по коллежу — в частности, с Луи Пьеркеном — и с шарлевильским представителем "богемы" Огюстом Бретанем, который предпочитает, чтобы его величали Шарлем. Бретань занимался оккультными науками. Кроме того, он был музыкантом, карикатуристом, завсегдатаем кабачков и просто веселым малым. И он знаком с Полем Верленом — встречался с ним в Фампу. Есть все основания полагать, что обоих мужчин связывала слишком "нежная" дружба. Рассказывал ли Бретань об этом шарлевильскому подростку? Возможно, нет. Он просто расхваливал Верлена: по его словам, никто не сравнится в любезности с этим молодым поэтом, который успел выпустить уже три сборника стихов. Рембо жадно слушает — быть может, стоит обратиться за помощью именно к этому человеку? С Банвилем ничего не вышло — быть может, выйдет с Верленом? Сам того не зная, юный поэт сделал единственно правильный выбор. Речь идет, естественно, не о будущих эскападах и катастрофах: просто из всех парнасцев только Верлен был способен на искренний и бескорыстный восторг при встрече с подлинным талантом, ибо литература — точнее, поэзия — была для него культом.
Итак, Рембо отправил Верлену первое послание, к которому Бретань добавил несколько строк от себя — вероятно, это была рекомендация, но неясно, какого именно рода. К письму были приложены стихи: "Испуганные", "Приседания", "Таможенники", "Украденное сердце" и "Сидящие". Рембо ждал ответа с таким нетерпением, что уже на третий день явился за разъяснениями к Бретаню. Тот советовал потерпеть, но это было свыше сил юного поэта: в Париж полетело второе послание и другие стихи — "Мои возлюбленные крошки", "Первое причастие", "Парижская оргия, или Столица заселяется вновь". Делаэ подробно описал важнейшее событие в жизни своего друга:
"Наконец пришел ответ — как и предполагал Бретань, очаровательный и братский. Верлен охотно поделился своими соображениями относительно посланных ему стихов; сначала шли похвалы, а затем советы: избегать неологизмов, научных терминов и излишне грубых слов… Рембо признал справедливость этих замечаний…"
Пространные письма Рембо не дошли до нас, а из ответа Верлена сохранились лишь две строки. Одну из них — высокопарную и очень не похожую на стиль Верлена — Делаэ приводит в нескольких вариантах (в статьях разных лет):
"Приезжайте, дорогая великая душа, вас призывают, вас жаждут (1897); Приезжайте, я все беру на себя" (1900); Приезжайте, приезжайте скорее, дорогая великая душа, вас жаждут, вас ждут! (1905); Все улажено: дорогому поэту нужно только приехать — завтра, сегодня же! (1908); Да! — восклицает он, обращаясь к молодому незнакомцу. — Да! Рассчитывайте на меня, на нас всех… приезжайте! (1921); Приезжайте, дорогая великая душа, вас призывают, вас ждут! (1923)".
Хронологическая последовательность ясно показывает стремление выковать настоящую "историческую" фразу — в конечном счете мемуарист возвращается к слегка измененному первому варианту.
Что касается второй строки не сохранившегося письма Верлена, то она гораздо больше соответствует как критическим замечаниям, так и юмористическому тону всей переписки автора "Сатурнических стихотворений" — по словам Делаэ, "самого веселого человека в мире":
"Чувствую запашок вашей ликантропии".
Верлен явно, хотя и добродушно, иронизирует над пристрастием юного поэта к "ученым" словам. Термин "ликантропия" (который встречается в стихах Рембо) имеет два основных значения: род помешательства, когда больной воображает себя волком или другим животным, а также — в сказках — волшебное превращение человека в животного.
Конечно, главным для Рембо было не мнение Верлена о его стихах, а приглашение в столицу. Он не обманулся в своих ожиданиях: Верлен, предварительно посоветовавшись с Шарлем Кро, Леоном Валадом, Альбером Мера и другими парнасцами, заверил юного поэта, что ему помогут обосноваться в Париже. Мать не противилась отъезду сына, поскольку уже отчаялась пристроить его к какому-то делу. Денег она ему не дала и купила только новый костюм. Один из друзей одолжил 20 франков на билет, и Рембо отправился в столицу — не как беглец, а как солидный путешественник, имеющий гарантии парижского друга. Делаэ описал проводы:
"Когда я пришел на вокзал, чтобы пожать ему руку на прощанье, он уже давно был там, следя за тем, как движутся стрелки на циферблате вокзальных часов, и он показался мне гораздо более уверенным в себе, чем накануне. Правда, погода в эти последние дни столь теплого сентября была восхитительной. Над нами было все то же бирюзово-молочное небо, нас обвевал все тот же легчайший ветерок, как и накануне днем, когда он прочел мне, на опушке леса Фортан, этот удивительный шедевр, который нынешние молодые французы знают наизусть. Никогда еще отъезд не совершался при столь благоприятных предзнаменованиях. Я вновь и вновь с радостью повторял ему: "Ты ворвешься туда, как пушечное ядро… Ты "причешешь" Гюго, Леконта де Лиля…" Потом, сам не знаю почему, я стал осыпать язвительными насмешками красивый сквер с желтеющими листьями. На этом триумфальном пути я бросал вызов всему человечеству и в придачу оскорблял деревья… Радость делает человека безумным: это очевидно".
Рембо также был полон самых радужных надежд: столичные литераторы непременно признают его гений и не только сочтут равным себе, но и склонятся пред ним. Ему кажется, что его путь только начинается. У него есть безупречная программа действий и твердое намерение стать "сыном Солнца". Он пока еще не знает, что уже создал почти все главные свои стихотворения — те самые, что принесут ему славу. И впереди у него — лишь "Озарения", а затем "Сезон в аду".
Глава третья: Великое искушение
Роковая встреча
Crimen amoris[49]
Средь золотых шелков палаты Экбатанской,
Сияя юностью, на пир они сошлись
И всем семи грехам забвенно предались,
Безумной музыке покорны мусульманской.
То были демоны, и ласковых огней
Всю ночь желания в их лицах не гасили,
Соблазны гибкие с улыбками алмей
Им пены розовой бокалы разносили. (…)
И был там юноша. Он шумному веселью,
Увит левкоями, отдаться не хотел;
Он руки белые скрестил по ожерелью,
И взор задумчивый слезою пламенел.
И всё безумнее, всё радостней сверкали
Глаза, и золото, и розовый бокал,
Но брат печального напрасно окликал,
И сестры нежные напрасно увлекали.
Он безучастен был к кошачьим ласкам их,
Там черной бабочкой меж камней дорогих
Тоска бессмертная чело ему одела,
И сердцем демона с тех пор она владела.[50] (…)
Когда в конце августа 1871 года Поль Верлен вернулся в Париж из Артуа, в конторе издателя Альфонса Лемера его уже несколько дней ожидали два письма из маленького провинциального городка Шарлевиля. Незнакомый юноша по имени Артюр Рембо умолял "именем всех муз" спасти его от прозябания в глуши. К письмам были приложены стихи, поразившие Верлена: они несли на себе печать гения. Заочное знакомство состоялось, когда старшему из поэтов было двадцать семь лет, а младшему — неполных семнадцать. Первому казалось, что он уже построил свою жизнь, а второй стремился в Париж, чтобы ее создать.
Верлен отправился на Восточный вокзал вместе с Шарлем Кро, но не смог опознать юного провинциала в толпе прибывших. Вернувшись на улицу Николе, он обнаружил, что Рембо уже устроился здесь, как у себя дома. Матильда и ее мать пытались завязать разговор с неожиданным гостем, но тот отвечал крайне лаконично и словно сквозь зубы.
"Он приехал без всякого багажа, без единого чемодана, имея лишь ту одежду и белье, что было на нем", — с нескрываемым ужасом писала позднее Матильда.
Разумеется, Верлена это не смущало, но он был удивлен внешностью юноши, который выглядел совершенным провинциалом: дурно одетый (невзирая на новый костюм!), с большими красными руками и неловкими движениями. На склоне жизни Верлен описал свои первые впечатления:
"Сам не знаю почему, но я представлял поэта иначе. Тогда он выглядел сущим ребенком с пухлыми и румяными щеками, был костляв и угловат, как подросток, который еще растет, у него был ярко выраженный арденнский, почти диалектный выговор, а в меняющемся голосе чередовались басовые и альтовые ноты".
Малларме впоследствии писал, что в Рембо было "нечто, делавшее его похожим на девушку из народа". О простонародном облике юного поэта говорит и Матильда:
"Это был рослый и крепкий парень с красноватым лицом, в общем, крестьянин… У него были голубые и довольно красивые, но при этом лживые глаза…"
Что касается Лепелетье, то Рембо показался ему похожим на "беглеца из исправительной тюрьмы" — этот эпитет добрый Эдмон повторил дважды.
Первый обед на улице Николе завершился более или менее благополучно. К счастью, г-н Мотэ в это время отсутствовал, приняв приглашение поохотиться в деревне. Рембо ел с жадностью, не говоря ни слова и время от времени оглядывая всех враждебным, недоверчивым взором. Женщины пытались завязать с ним разговор, Шарль Кро также задал юному поэту несколько вопросов по поводу его стихов, однако тот упорно молчал и курил трубку, а затем без лишних церемоний удалился в свою комнату. Конечно, поведение Рембо во многом объяснялось тем, что он пытался скрыть свою безмерную робость — застенчивые люди в незнакомом окружении, становятся грубыми из-за комплекса неполноценности. Накануне отъезда Артюр говорил Делаэ:
"Этот мир литераторов, художников! Салоны, элегантные манеры! Я не умею держаться, я неловок, неуклюж, не умею говорить… о, что касается ума, тут мне никто не страшен, но… Что я буду там делать?"
Оба поэта при первой встрече испытали некоторое разочарование. Верлен ожидал увидеть утонченного любимца муз, а Рембо был неприятно поражен "буржуазной" обстановкой дома. Ему казалось, будто он вновь попал в Шарлевиль, откуда так стремился вырваться. Поэты должны жить иначе! К Матильде же он сразу ощутил инстинктивную неприязнь, быстро переросшую в глубокое презрение и одновременно ревность. Ибо в предстоящей борьба за Верлена именно она была главной соперницей.
Парижские эскапады
"Ах, если бы у меня нашлись предшественники хоть на каком-нибудь перепутье французской истории! Но таковых нет и в помине. Ясное дело, я человек без роду, без племени. Не понять мне, что такое бунт. Такие, как я, восстают только для грабежа — так шакалы рвут на куски убитого ими зверя".
Сезон в аду: Дурная кровь.
На первых порах Верлен пытался вживить свой драгоценный "дичок" в парижскую почву. Это оказалось делом почти невозможным. Обстановка на улице Николе постепенно накалялась. Теща и жена Верлена с возрастающим раздражением смотрели на бесцеремонного юнца. В солнечные дни тот укладывался спать во дворе, "словно крокодил" (словцо Делаэ). Даже Верлен, еще не отказавшийся от своих буржуазных привычек, был несколько шокирован — в конце концов, что подумают соседи и консьержка?
За столом гость чавкает и рыгает без всякого стеснения. На хозяек дома не обращает ни малейшего внимания. И, главное, увлекает Поля на дурную дорожку — так, по крайней мере, кажется Матильде. По утверждению многих биографов Рембо, Поль якобы "только и думал, как бы сбросить путы семейной жизни и вернуть себе холостяцкую свободу". Но Верлен будет цепляться за эти самые узы даже в безнадежной ситуации развода. Дело было в другом: Матильда должна была смириться с присутствием Рембо — "полюбить" его так же, как Верлен. Она не желает? Тем хуже для нее. И квартиру на улице Николе начинают сотрясать новые ссоры — на сей раз из-за шарлевильского юнца. Правда, Верлен пока еще вынужден держать себя в руках, опасаясь родителей Матильды, — однако в выражениях он уже не стесняется. Причина ссор? Оба поэта подолгу засиживаются в кафе и почти всегда возвращаются домой пьяными. Господин Мотэ должен вот-вот вернуться с охоты, и дамы ясно дают понять, что гостю следует подыскать другое жилье. Верлену приходится уступить. Рембо провел на улице Николе всего две недели. Покидая этот негостеприимный дом, он счел своим правом разбить несколько статуэток и прихватить на память старинное распятие из слоновой кости.
Сначала Верлен обращается за помощью к карикатуристу Андре Жилю, у которого Рембо побывал во время своего третьего побега. Однако, проведя у Жиля два дня, юное дарование было изгнано со следующим объяснением:
"У этой скотины склонность к воровству".
в лабораторию Шарля Кро — тот не мог отказать своему другу Верлену. У Кро имелась любовно собранная коллекция журнала "Артист", которую гость немедленно использовал в целях личной гигиены. Рассерженный Кро выставил нахала за дверь, Верлен за него вступился, и в результате старые друзья не разговаривали в течение нескольких недель. Рембо, не перенесший вероломного снобизма буржуазии, сбежал и какое-то время укрывался в ночлежках, пока Верлен не отыскал его, умирающего от голода и одетого в завшивленные лохмотья.
Тогда Верлен воззвал к добряку Теодору де Банвилю, жена которого сняла и обставила комнату на улице Бюси. Здесь произошел один из самых известных эпизодов парижской жизни Рембо: едва ступив за порог, он сбрасывает с себя всю одежду, которую тут же выкидывает в окно. При виде голого человека, бросающего грязные тряпки на головы прохожих, весь квартал приходит в волнение. Консьерж поднимается наверх: начинается неизбежный скандал, и Рембо приходится покинуть улицу Бюси. В отместку он вытирает ботинки муслиновыми занавесками и, как это принято у бродяг, оставляет за собой дурно пахнущий "сувенир".
Наступает очередь Кабане: по просьбе Верлена он принимает у себя всеми обиженного провинциала, который вновь присаживается на лестнице со спущенными штанами, что приводит к очередному изгнанию. Больше рисковать никто не желает, и Верлен побуждает своих друзей в складчину обустроить быть юного дарования: для Рембо снимается мансарда на улице Кампань-Премьер, и все несут туда свои дары — железную кровать, стол, соломенные стулья. Восемнадцатилетний художник Жан Форен по прозвищу "Гаврош" украшает голые стены своими рисунками. Этому юноше суждено будет сыграть особую роль в отношениях Верлена и Рембо, но — в отличие от многих других — он до конца жизни не раскроет секретов этой странной четы.
Все биографы Рембо приводят скорбный перечень его "мальчишеских проделок": одни восхищаются бунтарством юного гения, другие умиляются присущей ему шаловливостью, третьи возмущаются бесцеремонностью — но почти никто не обратил внимания на железную логику подобного поведения. Рембо был куда более расчетлив, чем они могли предположить: ему хотелось жить одному — получить собственный "угол". И он добился этого весьма своеобразными средствами.
Эдмон Лепелетье, познакомившись с юным поэтом, пригласил его на обед, чтобы доставить удовольствие своему другу Верлену. О своих впечатлениях он рассказал в мемуарах:
"Сначала он не раскрывал рта и только требовал подать ему хлеба или вина таким тоном, точно он был где-нибудь в ресторане, а затем под влиянием забористого бургундского, которое Верлен все время подливал ему, его поведение стало еще более вызывающим. Он стал отпускать дерзкие замечания и сыпать остротами, которые нельзя было пропустить мимо ушей. В частности, он решил высмеять меня, называя "почитателем покойников", потому что на улице видел, как я, при встрече с похоронной процессией, снял шляпу. Так как всего лишь за два месяца до того умерла моя мать, я потребовал от него не касаться этих вопросов и посмотрел на него, очевидно, достаточно внушительно, так как он, сорвавшись со стула, угрожающе подскочил ко мне. Схватив десертный нож, лежавший на столе, он, должно быть, решил воспользоваться им как оружием, но я, положив руку ему на плечо, заставил его усесться на место, заявив, что, если меня не испугали пруссаки, то это вряд ли удастся такому сорванцу, как он. Я добавил еще, не придавая слишком много значения собственным словам, что, если ему этого мало и он будет по-прежнему докучать мне, я вышвырну его на лестницу. В разговор ступил Верлен, прося меня не сердиться и извинить его друга, после чего Рембо уже не проронил ни слова до конца обеда; он только наливал себе стакан за стаканом и беспощадно дымил трубкой, между тем как Верлен читал нам свои стихи".
Верлен прощал новому другу все выходки и всячески стремился ввести его в литературный мир. Вместе они побывали даже у Виктора Гюго, и по этому поводу была создана очередная легенда: престарелый патриарх будто бы назвал юного поэта "Шекспиром-ребенком": на самом деле часто ошибавшийся в своих прогнозах Гюго удостоил этой лестной оценки молодого поэта Глатиньи.
У парижских литераторов поначалу складывались разные мнения о Рембо. 2 октября 1871 года Леон Валад писал Эмилю Блемону:
"Вы много потеряли, пропустив последний ужин у "Жутких типов". Там показывали устрашающего поэта по имени Артюр Рембо. Ему нет еще и восемнадцати лет, а выставлен он был стараниями своего создателя Верлена и моими — ибо я его Иоанн Креститель. Большие руки и ноги, совершенно детское лицо, какое могло бы быть у тринадцатилетнего ребенка, бездонные голубые глаза, характер скорее свирепый, чем робкий — таков этот малыш, чье мощное воображение и неслыханная развращенность околдовали или ужаснули наших друзей. "Какой прекрасный сюжет для проповедника!" — вскричал Сури. Д’Эрвильи сказал: "Иисус среди фарисеев". Мэтр поведал мне, что это дьявол, вследствие чего я вывел совершенно новую и превосходную формулу: "Дьявол среди фарисеев". Конечно, судьба всегда держит наготове камень для наших голов, но поверьте мне, средь нас появился гений. Я говорю это с холодной убежденностью после трехнедельных раздумий, а не в результате минутного ослепления".
С ежемесячными ужинами "Жутких типов" связано несколько интересных историй. В ноябре 1871 года художник Фонтен сделал портрет двенадцати сотрапезников. По свидетельству Верлена, картина "Угол стола" была куплена за очень высокую цену любителем живописи из Манчестера — в настоящее время она находится в Лувре. Верлен и Рембо сидят рядом: Поль взирает на зрителей с меланхолическим видом, Артюр подпирает подбородок своей огромной рукой. Кроме них, на картине изображены также Леон Валад, Эмиль Бремон, Жан Экар и Камиль Пельтан. Именно за ужином "Жутких типов" Стефан Малларме в первый и последний раз увидел Рембо — это произошло 1 июня 1872 года. Много лет спустя Малларме рассказал об этой встрече в статье, написанной для американского журнала "Чеп Бук":
"Я не был с ним знаком, но видел однажды, в литературном застолье, из тех, что сходились наспех на исходе Войны, — "Обед Гадких Мальчишек", в названии, конечно, антифазис, если судить по портрету, какой посвящает гостю Верлен: "Он был высок, сложения крепкого, почти атлетического, с правильно-овальным ликом падшего ангела, русыми взлохмаченными волосами и блеклой, тревожной голубизной глаз". С каким-то вызывающим, по испорченности ли, гордыне ли, налетом простонародности, добавлю я, как у прачки, — из-за больших рук, которые смена жары и холода оплела красными кружевами. У юноши они могли бы поведать об иных, пострашнее, трудах. Они выводили стихи, прекрасные и неизданные, сказали мне; губы, кривясь обидчивой насмешкой, не прочли ни строки".
Утонченному Малларме Рембо явно не понравился: процитировав восторженное описание Верлена, он добавил от себя лишь про красные руки и обидчиво искривленные губы. В целом, можно сказать, что к моменту бегства из Парижа репутация Рембо была испорчена безнадежно — даже те литераторы, которые в свое время дали согласие помогать юному поэту, теперь на дух его не выносили. Делаэ, пытавшийся осмыслить неудачи друга, считал главной их причиной его невоздержанный язык:
"Ко многим историям о проказах Рембо следует относиться с большой осторожностью. Не надо забывать его ребяческую — ему было 16 лет! — потребность представить себя "чудовищем" (если он и был чудовищем, то лишь в интеллектуальном плане), вызвать ужас и омерзение. Такова история с молоком Кабане. Вот как сам Рембо рассказывал мне об этом, когда в 1872 году на короткое время вернулся в Шарлевиль из Парижа:
"Это досадно. У меня в Париже грязная репутация. Причины: шутки приятелей, да и мои тоже. Мне нравилось выдавать себя — это было глупо — за мерзкую свинью. Меня поймали на слове. К примеру, рассказываю я как-то, что вошел в комнату Кабане, когда тот отсутствовал, и, увидев чашку с молоком, стал над ней мастурбировать и излил в нее семя. Все хохочут, а потом начинают повторять это так, словно я и в самом деле нечто подобное сделал…"
И в Шарлевиле я много раз был свидетелем этого нарочитого цинизма. Особенно когда ему хотелось позлить всяких докучных снобов. Например, он рассказывал, что приводит к себе бродячих собак и, "вволю позабавившись с ними", отпускает их "обесчещенными". Наивные юнцы слушали все это, вытаращив глаза, а затем поспешно удалялись от столика Рембо, который лишь усмехался им вслед.
Такие шутки дурного тона ему сильно повредили — это было неизбежно. Но мы должны воспринимать их как детские выходки, и я рассказываю о них только для того, чтобы вы поняли, как Рембо оказался, по его же словам, "скомпрометированным". Это его угнетало, он в этом с грустью сознавался, но исправиться не мог. Когда к нему возвращалась его ужасная ирония, он вновь так поступал".
Еще одной причиной "шалостей" Рембо Делаэ считал его разочарование столицей:
"… иллюзии провинциала подверглись тяжкому испытанию. Париж… "город просвещения", Париж — "голова и сердце Франции"… какая подлая шутка! Париж — это место, куда приезжают, чтобы зарабатывать деньги… Здесь собрались самые тяжеловесные, самые глухие, самые слепые души в мире, здесь царит самая смешная философия и самая смешная поэзия… это наименее интеллектуальный город на земле".
Рембо, действительно, имел основания обижаться на литературный Париж, который никак не желал признавать юного гения. Его необычную поэзию никто, кроме Верлена, не оценил: в эстетике еще царил Парнас, а символизм пока не родился. В качестве примера можно привести очень характерный отклик Франсуа Коппе на одно из самых известных стихотворений юного поэта о цвете гласных:
Наконец, именно за ужином "Гадких мальчишек" Рембо заработал репутацию совершенно несносного буяна, когда сцепился с фотографом Этьеном Каржа. Произошло это так: кто-то из сотрапезников (чаще всего называется имя Жана Экара) стал читать свои стихи. Рембо под влиянием выпитого неоднократно прерывал его, повторяя "известные слова Камбронна". Каржа, наконец, не выдержал и заявил, что сейчас заставит эту "жабу" умолкнуть. Тогда Рембо, выхватив стилет из трости Верлена, бросил его через стол в Каржа. Фотограф был легко ранен в руку. Верлен, забрав стилет, сломал его о колено. Протрезвевшего и несколько пристыженного Рембо под руки отвели домой.
Инцидент этот заслуживает внимания по многим причинам. Много лет спустя, издавая в 1895 году "Полное собрание сочинений Артюра Рембо", Верлен будет всячески защищать покойного друга: "молодой безумец" сам не сознавал, что делает, да и рану нанес очень легкую — в сущности, это была просто царапина. Оправдание никуда не годное, поскольку намерения Рембо были серьезными — случай помешал ему нанести более тяжкую рану или даже убить. Как бы там ни было, в определенной фазе опьянения оба — и Верлен, и Рембо — становились опасными для окружающих. Отметим еще одну деталь: никому из присутствующих не пришло в голову обращаться в полицию — в среде левых литераторов это было немыслимо. Просто все решили, что невоспитанного и драчливого юнца больше не следует приглашать на дружеские встречи и застолья.
И, наконец, небольшое отступление о Камбронне и его "словах", обычно неверно цитируемых. Этот человек заслуживает нескольких строк, поскольку французскому читателю он известен гораздо лучше, чем русскому. Камбронн был фигурой легендарной: во время битвы при Ватерлоо, когда Наполеон потерпел окончательное поражение, именно этот французский офицер доблестно отклонил предложение англичан сдаться. Ответ его обычно приводится в двух вариантах. Героический (и мало правдоподобный): "Гвардия умирает, но не сдается". Нецензурный (и куда более правдоподобный"): "Дерьмо". В русских примечаниях всегда приводится первый вариант, но Рембо, несомненно, величал не полюбившиеся ему стихи своим излюбленным словом, ибо гвардии там совсем нечего было делать. О популярности Камбронна можно судить по очаровательной зарисовке Верлена (который использовал оба варианта ответа), посвященной тюремному ворону по имени Николай. Когда его попытались лишить свободы, он доблестно нагадил в лохань с хозяйским бельем:
"Исполнив свое дело, Николай вернулся на место и прижался к стене в позе солдата, готового умереть смертью воина. Предчувствия не обманули пернатого героя: хозяин по возвращении тотчас узнал ужасную новость, схватил свой карабин, и Николай упал, чтобы больше не подняться, — счастливее, чем Камбронн, который лишь высказал на словах то, что тот сделал, и чем гвардия, которая не сдалась, но и не умерла".
"Систематическое расстройство всех чувств"
"Мне кажется, что каждое существо должно быть наделено множеством иных жизней. Вот этот господин не ведает, что творит: на то он и ангел. А вон та семейка — настоящий собачий выводок. Перед многими людьми я во всеуслышанье заводил беседу о каком-нибудь из мгновений их иной жизни. — Так я влюбился в свинью".
Сезон в аду: Алхимия слова.
Уже на следующий день после первой встречи Верлена и Рембо начался период "инициации" — глубокой и обоюдной. Позднее Лепелетье не пожалел чернил, чтобы доказать, будто Верлен стал невинной жертвой "маленького чудовища". Нет сомнения, что Рембо сыграл решающую роль в бегстве Верлена от семьи, однако не следует забывать, что и Верлен оказал колоссальное воздействие на своего младшего друга — прежде всего, это касается приобщения юноши к гомосексуализму и наркотикам. Возраст и парижский опыт имели здесь решающее значение.
О секусальном "опыте" Рембо уже подробно говорилось — этот опыт в лучшем случае был минимальным, тогда как с Верленом дело обстояло совершенно иначе. Что же касается алкоголя и наркотиков, то в провинциальном Шарлевиле и под бдительным приглядом матушки приобщиться к ним было невозможно. Самое большее, что позволял себе Рембо — это пиво и немного вина. Вдобавок, у него не было денег, и в письме к Изамбару он похвалялся, что всячески третирует товарищей по коллежу, которые все равно ставят ему "кружечку". Настоящее пьянство началось только в Париже — под предводительством многоопытного Верлена, который щедрой рукой платил за себя и за друга. В парижский период преобладал абсент — серьезное знакомство с наркотиками произойдет только в Лондоне, поскольку там поэты получат возможность курить опиум. Пока же речь идет только о гашише, но и этого уже вполне достаточно, чтобы осуществить программу "ясновидения".
Невозможно точно определить, к какому именно времени относятся описанные в "Сезоне в аду" ужас и сладость наркотического опьянения:
"Изрядный же глоток отравы я хлебнул! — О, трижды благословенное наущение! — Нутро горит. В три погибели скрутила меня ярость яда, обезобразила, повалила наземь. Я подыхаю от жажды. Нечем дышать, даже кричать нет сил. Это — ад, вечные муки! Смотрите, как пышет пламя! Припекает что надо. Валяй, демон! А ведь мне мерещилась возможность добра и счастья, возможность спасения. Но как описать этот морок, если ад не терпит славословий? То были мириады прелестных созданий, сладостное духовное пение, сила и умиротворенность, благородные устремления, да мало ли что еще? Благородные устремления!"
Горечь прозрения наступила довольно быстро — вкупе с неизбежным состоянием "ломки":
"Хватит с меня всех этих лживых нашептываний, всех этих чар, сомнительных ароматов, ребяческой музычки. Подумать только, я мнил, будто владею истиной, знаю, что такое справедливость, способен здраво рассуждать, созрел для совершенства… Ну и гордыня! Кожа на голове ссыхается. Пощады! Господи, мне страшно. Пить, как хочется пить!"
В ноябре 1871 года в Париж приехал Эрнест Делаэ. Он познакомился с Верленом — который произвел на него самое приятное впечатление своей обходительностью — а затем отправился навестить своего друга:
"Первое, что мне бросилось в глаза, это простертый на диване Рембо, который, поднявшись при нашем появлении, потягивается, протирает глаза, корчит жалостную гримасу ребенка, только что пробужденного от глубокого сна. Став на ноги, он показался мне огромным… За несколько недель, что я его не видел, он вырос больше чем на фут (один метр и восемьдесят сантиметров!)… Куда девались его округлые щеки! Его лицо вытянулось, стало костистым, и кожа на нем приобрела красноватый цвет, какой бывает у извочиков. (…) Он объяснил нам, что только что принял гашиш и лег в ожидании сладостных видений. Но его постигло полное разочарование. Ему примерещились белые и черные луны, догонявшие одна другую, и это было все, если не считать тяжести в желудке и сильной головной боли. Я посоветовал ему выйти на свежий воздух. Мы довольно долго побродили с ним по бульварам и вокруг Пантеона. Он показал мне облупившуюся штукатурку на колоннах. "Это все пули", — сказал он. Впрочем, такие же следы картечи можно было увидеть чуть ли не на каждом доме. Я спросил его, каково теперь политическое настроение в Париже. Усталым тоном он коротко ответил мне словами, в которых ясно проглядывало крушение всех его надежд: "Небытие, хаос, возможная и даже вероятная реакция".
Свидетельство школьного товарища, с которым Рембо расстался всего лишь два месяца назад, является чрезвычайно важным. Именно Делаэ обратил внимание на стремительный и не вполне нормальный рост Рембо — тогда как столичные знакомые просто отмечали его громадные руки и ноги. Далее, очень показателен болезненный вид: совершенно очевидно, что Рембо нелегко давался его новый образ жизни, печальные симптомы которого правдиво отражены в одном из пассажей "Сезона в аду":
"Здоровье мое пошатнулось. Меня обуял ужас. На много дней я проваливался в сон, а пробудившись, продолжал видеть наяву печальнейшие сны".
Несмотря на то, что именно Верлен приобщил юного друга к парижским "удовольствиям", лидирующую позицию в союзе двух поэтов очень быстро занял Рембо. Это еще один парадокс в их отношениях. Кем стал для Верлена Рембо? Традиционный (но лишь отчасти справедливый) ответ гласит — всем. Верлен обрел с ней то, к чему стремился прежде: братство "посвященных" и богемное пьянство, безудержную плотскую чувственность и радость духовных наслаждений, головокружительный порыв к неведомому и поэтическую страсть первопроходца. Одновременно он с неимоверной быстротой отверг то, что и прежде вызывало у него отвращение: мещанский семейный очаг, добропорядочное существование, условности отживающей свой век поэзии Парнаса. Близость двух поэтов очень быстро стала полной и безоговорочной. В ноябре 1871 года Лепелетье, который отнюдь не был ханжой, опубликовал заметку (театральную рецензию), где имеется такая фраза:
"Сатурнический поэт Поль Верлен появился под руку с очаровательной молодой особой, мадемуазель Рембо".
Лепелетье даже несколько смягчил скандальный факт: На самом деле Верлен и Рембо ходили по фойе в обнимку — к изумлению или негодованию тех, кто при этом присутствовал.
Любовный треугольник
Душе грустнее и грустней —
Моя душа грустит о ней.
И мне повсюду тяжело,
Куда бы сердце ни брело.
Оно ушло с моей душой
От этой женщины чужой.
Но мне повсюду тяжело,
Куда бы сердце ни брело.
И, обреченное любить,
Спросило сердце: — Мог ли быть
И вел ли он куда-нибудь,
Наш горький, наг напрасный путь?
Душа вздохнула: — Знает Бог,
Как размотать такой клубок!
И гонят нас, и нет пути —
И ни вернуться, ни уйти…[52]
Казалось бы, Верлен предался сердцем и душой своему новому другу. Но при этом он был не в силах отказаться от жены. Одновременно Матильда стала первой жертвой его союза с Рембо: отныне он не просто отыгрывался на ней за свои неудачи и иллюзии — он начал ее истязать.
В конце октября (всего лишь через три недели после приезда шарлевильского гения) Поль и Матильда ужинали у мадам Верлен, а затем поднялись в спальню. Разговор заходит о Рембо. Поль рассказывал, каким образом молодой человек доставал книги, не имея ни гроша за душой: он заимствовал их у книготорговца и поначалу приносил обратно, незаметно ставя на место, но когда испугался, что его накроют за подобным занятием, начал продавать те, что успел прочитать. Матильда робко заметила:
"Это доказывает, что твой друг особой деликатностью не отличается".
Вместо ответа Верлен грубо схватил ее за руки и сбросил с кровати на пол. На шум прибежал Шарль де Сиври, и инцидент продолжения не имел — на людях Верлен все еще старался сдерживаться. Всего лишь через неделю после этого "сентиментального выяснения отношений" у Матильды родился сын. Ребенка назвали Жоржем.
Далее темп событий заметно ускоряется. Через четыре дня после появления на свет наследника Верлен возвращается домой абсолютно пьяным, укладывается на постель в одежде и ботинках, после чего засыпает мертвым сном. Именно в таком положении обнаружила его мадам Мотэ, которая до сих относилась к зятю чрезвычайно снисходительно. На сей раз она крайне возмущена, но проснувшийся Верлен и не подумал извиниться — он хватает шляпу и устремляется к входной двери, даже не приведя себя в порядок. Матильда вообще считала, что именно под влиянием Рембо ее муж стал одеваться кое-как и постепенно приобрел облик бродяги.
Так продолжается до Нового года. В конце декабря Верлен уезжает в Арденны (без Рембо) и проводит неделю в гостях у тетушки. 13 января любящий племянник сообщает ей:
"Я обещал написать вам сразу же по приезде в Париж, но немного замешкался — причиной тому было опасное нездоровье моей жены, которая к счастью, уже поправилась…"
В тот же день происходит ужасная сцена, описание которой позднее войдет в постановление суда о раздельном проживании супругов под четвертым пунктом:
"13 января 1872 года г-жа Верлен, не покидавшая спальни по болезни, не смогла спуститься к ужину; ее супруг, как это часто бывало, появился лишь к концу застолья, а потом поднялся к своей жене и, даже не осведомившись о ее здоровье, стал искать с ней ссоры по поводу выпитой им чашки кофе… Поскольку г-жа Верлен не отвечала, он сказал: "Твое спокойствие и хладнокровие выводят меня из себя, я собираюсь с этим покончить". Затем, придя в бешенство, он грубо хватает своего ребенка и резко швыряет на кровать с риском убить его; потом, схватив жену свою за запястья и нанеся ей глубокие раны своими ногтями, толкает ее на постель, становится на нее коленями и сильно сжимает горло с намерением задушить. На крики истицы прибегают г-н и г-жа Мотэ, которым с большим трудом удается вырвать жертву из рук ответчика и выпроводить его из дома".
На следующий день Верлен не является к ужину. Он возвращается на улицу Николе только в полночь и, устроив новую сцену жене, объявляет, что больше не вернется и будет жить у матери в Батиньоле, на улице Леклюз. Вследствие всех этих событий Матильда слегла с сильным жаром. На семейном совете супруги Мотэ принимают решение оградить дочь от обезумевшего мужа. Отец уезжает вместе с ней в Перигё. Когда через четыре дня Верлен осмелился показаться на улице Николе, мадам Мотэ сообщила ему о болезни и отъезде дочери. Адрес она дать отказалась, но обещала передавать письма. Верлену пришлось вернуться на улицу Леклюз. Дни свои он проводит благопристойно — в обществе Стефани. Но вечером отправляется к другу на улицу Кампань-Премьер, где они вместе проводят "геркулесовы ночи" (выражение принадлежит Верлену).
Тем не менее, Верлен предается угрызениям совести и с горечью вспоминает разрушенный семейный очаг. Его письма к Матильде заполнены мольбами о прощении. Именно в феврале 1872 года начинаются "метания" Верлена между двумя полюсами: "маленьким дружочком" (чей рост достиг метра и восьмидесяти сантиметров"!) и "любезной женушкой", красоту которой он не может забыть. Матильда, между тем, поставила условие для примирения — Рембо должен покинуть Париж. В "Исповеди" Верлен писал, что его жена "сразу же прониклась к Рембо совершенно не оправданной ревностью, усиленной самыми гнусными подозрениями…" Матильда в своих мемуарах уверяет, что никогда не ревновала мужа к Рембо, поскольку никак не могла бы обвинить его в пороке, о котором в те годы не имела никакого представления — даже не знала, что такой существует.
По совету своего отца в феврале Матильда подала прошение о раздельном проживании с супругом. В тогдашнем французском законодательстве развод можно было получить только по прошествии десяти лет с момента удовлетворения иска. Патерн Берришон, со своей стороны, утверждал, будто мадам Рембо получила из Парижа анонимное письмо, побудившее ее призвать сына домой. Патерну обычно верить нельзя, но в данном случае его сообщение выглядит правдоподобным: возможно, г-н Мотэ решил обезопасить брак своей дочери всеми способами. Как бы то ни было, вопрос был решен: Верлен уступил Матильде, и Рембо с яростью в сердце подчинился судьбе — ему пришлось вернуться в Шарлевиль. Тут биографы Рембо обычно прибегают к искажениям и умолчаниям: так, Жан Мари Карре утверждает, будто Верлен настолько привязался к Рембо, "что это даже породило дурные слухи". Увы, "дурные слухи" были правдой, и Верлен, который еще не решился на разрыв с женой, попросил друга временно "исчезнуть" из Парижа. Именно во время этого шарлевильского "антракта" Рембо создает свои последние стихотворения.
Между двумя друзьями сразу же начинается обмен письмами. Верлен утешает "дорогого изгнанника", обвиняет себя в его "мученичестве" и даже требует возмездия за свою слабость. Вот характерный пример одного из таких посланий:
"Спасибо за доброе письмо. Твой малыш согласен получить справедливую порку… и, о мученичестве твоем не забывая, думает о тебе с еще большей страстью и радостью, верь мне, Ремб… А ты люби меня, защищай, верь мне. Я существо слабое, и доброе отношение мне необходимо".
Но Рембо никогда не простит другу этого "предательства" — очень скоро Верлен получит "жестокое наказание", о котором молил.
Письма обоих поэтов этого времени заполнены ругательствами и скатологическими выражениями. Снисходительный биограф Рембо находит следующее объяснение: они были "словно одуревшие от нравоучений дети, которые не могли найти другого средства для защиты". К примеру, Рембо пишет Верлену:
"Я в дерьме, я в дерьме… (и так восемь раз).
Верлен старается успокоить друга:
"… Разумеется, мы скоро увидимся. Когда? — Надо немного подождать! Тяжкая необходимость? Жесткие обстоятельства! — Пусть будет так! И пусть они будут в дерьме! Как и я! Как и ты!"
На это следует обиженный ответ Рембо:
"Лишь когда вы убедитесь, что я действительно жру дерьмо, вы перестанете говорить, будто прокормить меня вам влетает в копеечку".
Обоих переполняет жажда мести. Верлен, судя по всему, подозревал, какую роль сыграл тесть в отъезде Рембо: отныне он будет "разрываться" между желанием убить г-на Мотэ и расквитаться с Матильдой. Рембо он пишет:
"Мы тут затеваем против кое-кого забавную мстюшку. Как только ты вернешься и если тебе это доставит удовольствие, тут произойдут вещи тигриные. Речь идет об одном господине, который приложил руку к твоим трем месяцам в Арденнах и к моим шести месяцам дерьма[53]".
В мае Верлен, не в силах больше терпеть, призывает Рембо в Париж. Ему кажется, что примирение с женой и ее родителями уже достигнуто, поэтому они ничего не заподозрят. Однажды он возвращается домой, заметно прихрамывая. На бедре у него Матильда видит три глубоких пореза, а одна ладонь насквозь проткнута ножом. Он говорит, что случайно поранился своим стилетом, но это ложь. Позже доктор Антуан Кро расскажет Матильде, что произошло. Они сидели втроем в кафе, и Рембо предложил им положить руки на стол, чтобы показать "одну штуку". Верлен и Кро исполнили эту просьбу, и Рембо, выхватив из кармана нож, вонзил его в ладонь Верлена — сам Кро едва успел отдернуть руку. Когда же Верлен вышел со своим другом на улицу, тот несколько раз ткнул его ножом в бедро. Через две недели после этого Матильда и Поль были приглашены к Гюго. Верлен, который по-прежнему хромал, сослался на то, что у него на ноге вскочил фурункул.
Рембо, между тем, продолжал вести прежний образ жизни "ясновидца": отравлял себя алкоголем, чтобы обострить поэтические способности. В июне он пишет Делаэ:
"Есть здесь одно питейное местечко, которое мне очень нравится. Да здравствует академия Абсента, хотя официанты там грубияны. Самая утонченная, самая волнующая привычка — опьяняться этим дивным напитком. Так, чтобы потом заснуть в дерьме! (…) Теперь я работаю по ночам. От полуночи до пяти утра. В прошлом месяце я жил на улице Мсье-ле-Пренс в комнате, выходившей в сад при лицее св. Людовика. Под узким моим окном разрослись огромные деревья. В три часа утра пламя свечи бледнеет: птицы на деревьях начинают разом вопить — все кончено. Уже не до работы. Мне нужно было смотреть на деревья, на небо в этот невыразимый, первый утренний час. (…) Я курил свою трубку, сплевывая на черепицы, так как я жил в мансарде. В пять я спускался на улицу купить хлеба — это самая пора. Всюду шествуют рабочие. Для меня же это час, чтобы напиться у торговцев вином. Вернувшись домой, я закусывал и ложился спать в семь утра, когда солнце выгоняет мокриц из-под черепиц".
В это время ему казалось, что он постиг тайны поэзии и бытия: "… о счастье, о торжество разума! — я сорвал с неба черную лазурь и зажил подобно золотой искре вселенского света".[54]
Злосчастный парадокс состоит в том, что он уже написал почти все свои стихи — далее будет лишь "бриллиантовая", по выражению Верлена, проза. Лишь "Озарения" и "Сезон в аду" будут написаны в то время, когда в душе Рембо "умирал поэт" — ими он рассчитается с поэзией.
Верлен же полностью подпав под власть Рембо, вновь начинает терроризировать жену. Он ищет с ней ссоры по любому поводу.
15 июня 1872 года супруги ужинали у Стефани: каждый раз, когда мать выходила, чтобы принести очередное блюдо, Верлен вынимал из кармана нож с целью напугать Матильду — а при появлении матери тут же его прятал. Молодая жена, получив очередную возможность доказать, что она "никогда не была трусихой", лишь пожимает плечами и остается совершенно спокойной, отчего Верлен приходит в ярость. В конце концов он в ярости бросается на жену, оттолкнув мать, которая пытается его удержать. Матильда бежит к своим родителям, Верлен является туда вслед за ней, но супруги Мотэ совместными усилиями выпроваживают зятя из своего дома.
Автор психоаналитического этюда о Верлене и Рембо так комментирует подобные эпизоды: "В состоянии опьянения Верлен раскрывает свои представления о мужественности — и это представления садиста. Одновременно в нем присутствует и мазохизм — желание подвергнуться унижению и даже побоям".
Несомненно, долго так продолжаться не могло. Взаимоотношения супругов близились к развязке, которая сулила Верлену либо убийство жены, либо бегство. К счастью для обоих, судьба распорядилась в пользу бегства. Это случилось в воскресенье 7 июля, когда Верлен вышел из дома за лекарством для Матильды. По его собственной версии, на улице он "встретил Рембо, который сказал, что Париж ему опостылел и что он уезжает… "Едем вместе! — Но как же моя жена? — Ты мне надоел со своей женой…".
Примечательно, что ровно через год после этой встречи Верлен выстрелит в Рембо, который, несомненно, был инициатором его бегства из Парижа. Решающую роль Рембо в побеге Верлена признают абсолютно все исследователи, выдвигая различные объяснения. Самое распространенное из них заключается в том, что "алхимик слова" желал узнать, до какой степени простирается мужество Верлена и насколько тот стремится к свободе. В семнадцать лет об опасности не думают, небрежно роняет один из биографов Рембо. Но есть некая справедливость в том, что убийственная ярость Верлена обратилась именно на человека, который увлек его за собой на поиски "неведомого". Разумеется, Рембо меньше всего думал о благополучии презираемой им Матильды — тем не менее, соблазнив Верлена на бегство, он фактически спас ей жизнь.
Другое объяснение: Париж стал для Рембо ненавистен. Не случайно оба друга именовали тогда любимую столицу "Пармерд": в переводе на русский язык это звучит как-нибудь вроде "Паргавниш". В "Озарениях" Рембо говорит о необходимости "метафизического путешествия" к неведомым континентам и неизвестным мирам, отринув прочь старое:
Повидал сполна. Нигде не расставался с виденьем.
Пожинал сполна. Голоса городов — и в сумерках, и на заре, всегда.
Познал сполна. Остановки жизни. — О, Голоса и Виденья!
Вновь — перегон к любви, и вновь — перестук.[55]
Однако было бы ошибкой считать, что Верлен безвольно повлекся за своим энергичным и властным другом. У него также имелись веские причины для бегства — не столь "метафизические", но более реальные. Он был глубоко не удовлетворен своей семейной жизнью. Он был унижен родителями жены. Наконец, он почти перестал писать. Ему нужны были впечатления — и как можно более сильные. Сознательно ли, инстинктивно ли, он всеми силами пытался вырваться хотя бы на время из "уютного" — и такого душного! — гнездышка.
Начало странствий
Склад черепичный;
Штабели; тут
Для пар отличный
Готов приют.
Хмель с виноградной
Лозой вокруг;
О, кров отрадный
Вольных пьянчуг.
Светлые трубки,
Пиво, табак;
Служанок юбки
Дразнят гуляк.
Вокзалы, скверы;
Шоссе бегут…
О, Агасферы,
Как чудно тут![56]
Итак, 7 июля оба поэта весь день шатаются по кабакам, а вечером садятся на поезд, следующий в Аррас. Верлен посвятил этому событию одну из главок мемуаров "Мои тюрьмы":
"Безутешно оплакиваемый Артюр Рембо и я, в пылу болезненной страсти к путешествиям, в один прекрасный день, в июле 187… года, если не ошибаюсь, отправились в А., где я уже бывал и еще не раз побываю со своей семьей и без нее. Городок любопытный…"
В Аррасе произошел весьма характерный инцидент. Поэты намеревались отправиться в Брюссель, но им помешала удачная "шутка":
"Рембо, при всей необыкновенной для его лет зрелости ума временами впадающий в раздражительность, сменяющуюся довольно мрачными выходками или причудливыми фантазиями, и я, все еще мальчишка в свои двадцать шесть лет,[57] настроились в тот день на трагикомический лад и в брыкливом задоре вздумали "поддразнить" каких-то болванов-путешественников, поглощающих бульоны, пироги с начинкой и желе, запивая все это слишком уж дорогим алжирским! Среди присутствующих, как сейчас помню, сидел на нашей скамье, чуть поодаль справа, какой-то человек, почти старик, плоховато одетый, в изношенной соломенной шляпе на обритой голове, с виду туповатый, но себе на уме: он посасывал сигару за одно су и прихлебывал из кружки за десять сантимов, не переставая при этом кашлять и харкать, и вслушиваться в наш разговор с пристальным вниманием — не столько идиотским, сколько враждебным. Я кивнул на него, и Рембо рассмеялся особенным, только ему свойственным смехом — беззвучным, под сурдинку. (О гнусный образ, незаметно испарившийся как по волшебству! — но, если говорить правду, ничего фантастического тут не было: он — в бесшумных шлепанцах, "по-домашнему", а мы — слишком заняты своим, чтобы обращать на него внимание.) Мы вели разговор об убийстве, причем так, будто были непосредственными его участниками — ужасающие подробности, как бы увиденные воочию, и, верно, мы развивали бы эту тему до бесконечности, — но тут, откуда ни возьмись, пред нами два вполне реальных жандарма, предлагающих следовать за ними".
Верлен, как всегда, дает очень живое описание событий и лиц — и, как всегда, противоречив, сам того не замечая. Чего стоит одна лишь его "параллель": с одной стороны, ненависть богемных поэтов к богатым господам с их слишком дорогим вином, а с другой — усмешка сына богатых родителей над грошовым пойлом старика.
Далее описывается очень занятная сцена в жандармерии, куда доставили обоих нарушителей порядка:
"Рембо, подав мне знак, начал всхлипывать, чтобы сыграть на жалости и действительно разжалобил добряков-полицейских, (…) рассчитывая произвести впечатление и на прокурора Республики. Рембо вызвали первым, и вскоре он вышел из важного кабинета с еще мокрыми глазами и предостерегающе мне подмигнул".
Верлен, судя по всему, до конца жизни так и не понял, насколько опасно путешествовать с другом, склонным "сыграть на жалость". Несомненно, старому поэту было приятно вспоминать о чудесных денечках, когда приключения только начинались — никто тогда не мог предположить, как все плачевно закончится. Сам Верлен, между тем, принял тон совершенно иной. Как он позже признается в мемуарах:
"Я был тогда республиканцем куда больше, чем теперь, даже скорее коммунаром, и разговаривал в исключительно возвышенном стиле".
В результате оба поэта были высланы из Арраса:
"После непродолжительного предгрозового затишья по звонку судейского чиновника, еще молодого завитого брюнета с бакенбардами и в преждевременных очках, явились жандармы, которым было сказано: "Отведите этих субъектов на вокзал, и пусть они отправляются в Париж первым поездом". Я заметил, что мы еще не завтракали. — "Отведите их позавтракать, но после завтрака пусть они тотчас убираются, и не спускайте с них глаз, пока поезд не тронется!"
Так Верлен и Рембо снова оказались в столице. Поль воспользовался этим, чтобы зайти к матери за деньгами. Ему не пришлось долго уламывать Стефани: она не любила Матильду и считала, что семейство Мотэ воспользовалось чувствами сына, заставив подписать невыгодный для него брачный контракт. По свидетельству Лепелетье, к бегству Поля она отнеслась благодушно.
Аррас был для поэтов закрыт, но в Бельгию можно было попасть и через Арденны. На Восточном вокзале они взяли билеты до Шарлевиля, где встретились с Огюстом Бретанем: целый день прошел в пьянстве и прочих увеселениях. Уже ночью Бретань поднял с постели знакомого извозчика, и тот отвез поэтов в ближайшую бельгийскую деревню. В три часа утра 9 июля они оказались за рубежами Франции — так началась их "бесподобная жизнь". В Брюссель они двинулись пешком: очаровательные бельгийские пейзажи займут потом достойное место в "Романсах без слов".
Истинные чувства Верлена отразились в поэзии — пока еще безмятежной и радостной. Лишь позднее он будет уверять, будто жена и тесть вынудили его уехать своим дурным обращением, причинив ему тем самым большое горе. Через несколько дней после бегства он напишет Лепелетье:
"Дражайший Эдмон,
я "путесествую" головокружительно. Пиши мне через мать, хотя и она едва знает "мои" адреса, настолько прекрасно я "путесествую"! Письма дойдут — матушка имеет некоторое представление о том, где я нахожусь…"
Брюссель 1872
Алеют слишком эти розы,
И эти хмели так черны.
О, дорогая, мне угрозы,
В твоих движениях видны.[58]
Верлен оставил больную жену без всякого предупреждения, и ее родители стали искать его повсюду — даже в морге. Наконец она получила весточку от мужа:
"Моя бедная Матильда, не горюй и не плачь. Сейчас мне снится дурной сон, но когда-нибудь я вернусь".
Матильда утверждает, будто почувствовала громадное облегчение, узнав, что муж жив. Через несколько дней ей доставили второе письмо: на сей раз Поль уверял, что вступил в контакт с некоторыми политическими изгнанниками и хочет написать книгу о зверствах версальцев во время подавления Коммуны. В этом же письме он просил прислать ему белье, одежду и книги. Иными словами, уже в первые дни "поисков неведомого" Верлен готовил тылы к возвращению — ему совершенно не хотелось навсегда разорвать отношения с женой. Но Матильда обнаружила письма Рембо к Верлену именно тогда, когда разбирала вещи мужа, желая выполнить его просьбу. Хотя не исключено, что она заглянула в ящики его стола раньше — сути дела это не меняет. Молодая женщина была потрясена тем, что прочла:
"В этих письмах было столько странного, что поначалу мне показалось, будто они написаны безумцем. Но там было много и такого, что я не могу повторить даже сейчас".
Тем не менее, Матильда предприняла попытку — как оказалось, последнюю — вернуть мужа. 21 июля 1872 года она приехала в Брюссель вместе со своей матерью. В ходе процесса по иску о раздельном проживании, об этом будет сказано:
"Некоторое время тому назад г-жа Верлен отправилась вслед за своим мужем в надежде вернуть его. Верлен ответил, что теперь уже поздно, что новое сближение невозможно и что вдобавок он себе уже не принадлежит. "Супружеская жизнь мне ненавистна, — воскликнул он, — мы любим друг друга по-тигриному!" И с этими словами он показал жене свою грудь — всю в шрамах от ударов ножом, нанесенных его другом Рембо. Эти двое дрались и грызли друг друга, словно дикие звери, чтобы получить удовольствие от примирения".
Обе дамы остановились в гостинице "Льежуа" (по адресу, данному Верленом). Им сказали, что оба поэта здесь больше не живут, но г-н Верлен обещал зайти около восьми часов. В этой гостинице и произошла знаменитая встреча супругов, которую Верлен описал в одном из стихотворений цикла с английским заглавием "Birds in the night" ("Птицы в ночи"):
"Я все еще вижу вас, я приоткрываю дверь, вы лежали в постели, словно бы утомившись, но ваше легкое тело приподняла любовь, вы устремились ко мне, обнаженная и веселая. О, сколько поцелуев, сколько безумных объятий, я тоже смеялся, осушая ваши слезы…".
Для Верлена и Матильды это был момент примирения и прощения, но Верлен, естественно, упирал на свое великодушие. В ноябре 1873 года он написал Лепелетье:
"Был такой миг в прошлом году в Брюсселе, когда я увидел, что она понимает, затем это все у нее испарилось, ведь рядом была ее мать…"
Это было письмо "тюремное", и Верлен, вполне вероятно, сам не помнил, каким тоном он описывал Лепелетье в ходе подготовки к процессу о разводе это же свидание:
"Я тебе когда-нибудь расскажу о моей встрече с женой в Брюсселе: глупость в сочетании с лживостью никогда еще не достигали такой степени. У меня никогда не было склонности к психологизмам всякого рода, но сейчас, раз уж мне представился случай, я составляю памятную записку для моего адвоката, и это почти готовый роман — осталось лишь расположить материалы. Равным образом, большой интерес представляют мои отношения с Рембо — равным и законным образом. Я собираюсь подвергнуть нас анализу в этой будущей книжке — и хорошо посмеется тот, кто смеется последним!"
Как бы там ни было, брюссельское свидание окончательно раскрыло Матильде глаза: если раньше у нее оставались кое-какие сомнения, то теперь сам Верлен не стал скрывать от нее, в каких отношениях он находится с Рембо. В постановлении суда об этом сказано так:
"Здесь ей были сделаны самые печальные признания из уст мужа; но молодая женщина, не вполне понимая смысл этих слов, истолковала их ошибочно, и ей удалось вырвать у мужа согласие вернуться в Париж".
И еще одно важное обстоятельство необходимо отметить, Рембо, узнав о приезде Матильды в Брюссель и о кратковременной решимости Верлена вернуться в Париж, кипел от ярости и негодования, вызванных, прежде всего, ревностью. Многие биографы совершали ошибку, подчеркивая полную зависимость Верлена от Рембо и забывая о том, что связывавшие их чувства были взаимными. Как представлялась эта ситуация Рембо? Верлен вторично посмел отстранить его — пусть на время — ради своей презренной жены. Рембо не простил Верлену и свое первое "изгнание" в 1872 году. Теперь же произошел рецидив, и это означало, что на Верлена нельзя было положиться — в любой момент он мог снова проникнуться страстью к Матильде.
В этой истории все, кому казалось, что победа близка, терпели неизбежное поражение — еще более горькое от того, что оно было неожиданным и, казалось, полностью противоречило предыдущему ходу событий. Первой "одержала победу" Матильда: Верлен согласился вернуться домой и сел на поезд вместе с обеими женщинами. На границе в Кьеврене все вышли из вагонов, поскольку нужно было пройти таможню. Матильда вспоминала позднее:
"После посещения таможни Верлен исчез, и мы никак не могли его найти. Поезд уже должен был отправляться, и мы решили подняться в вагон без него. В тот момент, когда закрывали двери, мы наконец увидели его на перроне. — Скорей поднимайтесь! — крикнула ему моя матушка. — Нет, я остаюсь! — бросил он в ответ, нахлобучив шляпу на лоб ударом кулака. Больше я его никогда не видела".
По возвращении в Париж Матильда слегла, а через несколько дней ей передали записочку, которую Верлен сочинил при расставании на границе:
"Злополучная морковная фея, Принцесса Мышь, вошь, которую ждут два пальца и ведро, вы сотворили такое! Из-за вас я едва не убил сердце моего друга! Я возвращаюсь к Рембо, если он согласится принять меня после предательства, которое вы заставили меня совершить!"
Сравнение Матильды с грызунами было в ходу у обоих друзей — быть может, они и придумали это совместно. Так, Рембо в стихотворении "Юная чета" поминает крысу, которая норовит помешать счастью влюбленных:
Верлен же предпочитал именовать жену мышью. К примеру, в сборнике "Параллельно" он опубликовал стихотворение ("Laeti et errabundi"), в котором говорит, что оставил в Париже "одну Принцессу Мышь — дуреху, которая плохо кончила…"
Что касается самой Матильды, то после брюссельского свидания и вторичного бегства мужа у нее не осталось никаких надежд сохранить семейный очаг. 2 октября мадам Поль Верлен подала прошение в суд о раздельном проживании. С этого момента дело перешло в ведение юстиции.
Лондон 1872
Небо над городом плачет,
Плачет и сердце мое.
Что оно, что оно значит,
Это унынье мое?
И по земле, и по крышам
Ласковый лепет дождя.
Сердцу печальному слышен
Ласковый лепет дождя.
Что ты лепечешь, ненастье?
Сердца печаль без причин…
Да! ни измены, ни счастья —
Сердца печаль без причин.
Как-то особенно больно
Плакать в тиши ни о чем.
Плачу, но плачу невольно,
Плачу, не зная о чем.[60]
Проведя месяц в Брюсселе, Верлен и Рембо отплывают в Дувр. На следующий день они прибывают в Лондон. О некоторых подробностях лондонской жизни Верлен сообщает в письме Эмилю Блемону, отправленном в конце января 1873 года:
"Каждый день мы совершаем долгие прогулки по пригородам и окрестностям…, потому что Лондон нам уже давно знаком: Друри-Лейн, Уайт-Чейпел, Пимлико, Эйнджел, Сити, Гайд-парк и т. д. перестали быть для нас тайной. Этим летом мы, вероятно, поедем в Брайтон, возможно, в Шотландию, в Ирландию!"
Верлен и Рембо поселились в небольшой квартирке на Хауленд-стрит. Обоих поэтов чрезвычайно привлекает порт. Рембо, возможно, уже начинает всерьез подумывать о дальних странствиях — "Пьяный корабль" он написал, ни разу в жизни не видя моря. А Верлен с нескрываемым восторгом пишет:
"Доки — невиданное зрелище: в них заключены Карфаген, Тир и все, о чем только можно мечтать! (…) Доки как нельзя лучше удовлетворяют потребностям моей поэтики, все больше и больше черпающей пищу в современности".
Сам город им поначалу не понравился. Рембо называл его "абсурдным". Верлен с типично французским высокомерием укорял британскую столицу за то, что здесь негде было посидеть с друзьями за стаканчиком абсента:
"Ах, это не был воздух Парижа, веселый, легкий, бодрящий! Где вы, кафе на бульварах, уютные террасы, приветливый гарсон, всегда готовый пошутить и умеющий вовремя подлить капля за каплей студеную воду в молочно-белый абсент? Представьте себе плоского, черного клопа — это Лондон. Маленькие, мрачные домишки или высокие ковчеги в готическом и венецианском стиле, четыре-пять кафе, где еще можно кое-как утолить свою жажду, — и больше ничего".
Впрочем, довольно скоро в описаниях Лондона появятся совсем другие ноты — восхищение, смешанное с ужасом. Что же касается Верлена, то сама сама атмосфера этого города — туманная и неясная — была созвучна его поэзии.
С кем встречались Верлен и Рембо в британской столице? Оба пока еще очень плохо знают английский язык (хотя усиленно его изучают), поэтому их круг общения — это французы, по тем или иным причинам обосновавшиеся за Ла-Маншем. Прежде всего, это бывшие коммунары: Эжен Вермерш, который был приговорен к смерти за издание газеты "Отец Дюшен", а также журналисты Лиссагаре, Мазуркевич и Андриё. Делаэ утверждал со слов своего друга:
"… изгнанников Коммуны Рембо считал своими братьями по духу, но при этом отдавая явное предпочтение Андриё, парижскому литератору с отважным и тонким умом. К этому человеку он привязался по-настоящему".
Забегая вперед, скажем, что и эта привязанность оказалась недолговечной: в конце 1873 года Рембо насмерть разругался с бывшим коммунаром — причины ссоры не вполне ясны, но, если верить Делаэ, инициатива исходила от Андриё, тогда как Рембо был чрезвычайно удивлен и опечален этим разрывом.
В 1872 году Верлен и Рембо больше всего общались с художником Феликсом Регаме, который оставил несколько набросков, где поэты были запечатлены как во времена относительного благополучия, так и в период полного безденежья. Регаме впоследствии рассказывал Делаэ:
"Верлен был по-своему хорош и нисколько не похож на человека, раздавленного судьбой, хотя одет был достаточно неряшливо. Но он был не один. Его всюду сопровождал безмолвный товарищ, тоже не отличающийся элегантной внешностью, — Рембо".
Впрочем, оба поэта прониклись страстью к одному из предметов гардероба настоящего лондонского денди — оба они были без ума от английских цилиндров. Рембо впоследствии будет разгуливать в своем цилиндре по Шарлевилю, приводя в изумление обывателей. Верлен также потрясет сердца деревенских жителей Вузье, которые дадут ему прозвище "англичанин".
Живут они, прежде всего на средства Верлена. Мать не забывает любимого сына и периодически подкидывает ему денег. Кроме того, Верлен дает уроки и постепенно начинает зарабатывать на жизнь. Утверждения некоторых биографов, будто Рембо также успешно пробовал свои силы на этом поприще, неверны. В это время он твердо придерживается своего принципа "жить праздным, как жаба". В "Сезоне в аду" "Неразумная дева" говорит о своем "Инфернальном супруге":
"О, я никогда не ревновала его. Я думаю, он не покинет меня. А иначе — что с ним станется? Ни одной близкой души, и за работу он никогда не возьмется. Он хочет жить как сомнамбула. Но довольно ли его доброты и милосердия, чтобы получить право на место в реальном мире?"
Роль матери в этот период жизни Верлена следует отметить особо: Поль поддерживал в ней убеждение, что на него клевещут с целью "обобрать до нитки". Когда Стефани узнала, какую сумму Матильда требует на воспитание сына Жоржа (1200 франков в год), она явилась на улицу Николе и закатила сцену семейству Мотэ, пригрозив напоследок, что продаст все свои земли и "спустит все состояние", лишь бы ее снохе ничего не досталось. Это означало полный разрыв: до конца жизни Стефани не желала видеться ни с Матильдой ни даже со своим внуком.
Впрочем, и Рембо ввел свою мать в заблуждение. Он сообщил ей о своей дружбе с г-ном Верленом, а Поль вступил с ней в регулярную переписку. И эта набожная женщина совершила чрезвычайно странный поступок: она отправилась в Париж с целью воздействовать на Матильду, дабы та отказалась от иска в суд, ибо это скандальное дело может повредить Артюру.
"Лёндён" оказался для обоих поэтов благодатным в творческом отношении. Верлен создает здесь лучшую часть "Романсов без слов", Рембо пишет стихотворения в прозе "Озарения" (по крайней мере, некоторые из них). И оба усиленно пробуждают в себе "ясновидение" проверенными средствами — спиртными напитками и наркотиками. Но если в Париже они баловались сравнительно безобидным гашишем, то в Лондоне, судя по всему, приобщились к опиуму, а это уже было серьезно. Впрочем, поначалу им казалось, что игра стоит свеч — они наслаждались сладостным ужасом перед запретным и неземными видениями, порожденными дурманом. Так, во всяком случае, это представлялось Рембо. Среди его "Озарений" имеется одно, которое не оставляет на сей счет никаких сомнений:
"О, мое Благо! О, моя Красота! Я не дрогнул при душераздирающем звуке трубы. Волшебная дыба! Ура небывалому делу и дивному телу, в первый раз — ура! Все началось под детский смех, все им и кончится. Эта отрава останется в наших жилах и после того, как смолкнет труба, и мы возвратимся к извечной дисгармонии. А пока — нам поделом эти пытки — соединим усердно сверхчеловеческие обещания, данные нашему тварному телу, нашей тварной душе: что за безумие это обещание! Очарованье, познанье, истязанье! Нам обещали погрузить во мрак древо добра и зла, избавить нас от тиранических правил приличия, ради нашей чистейшей любви. Все начиналось приступами тошноты, а кончается — в эту вечность просто так не погрузиться — все кончается россыпью ароматов.
Детский смех, рабская скрытность, девическая неприступность, отвращение к посюсторонним вещам и обличья, да будете вы все освящены памятью об этом бдении. Все начиналось сплошной мерзостью, и вот все кончается пламенно-льдистыми ангелами.
Краткое бденье хмельное, ты свято! Даже если ты обернешься дарованной нам пустою личиной. Мы тебя утверждаем, о метод! Мы не забываем, что накануне ты, без оглядки на возраст, причислил нас к лику блаженных. Мы веруем в эту отраву. Каждодневно готовы пожертвовать всей нашей жизнью.
Пришли времена хашишинов-убийц".[61]
В последней фразе Рембо использовал одно слово ("assassins"), которое в русском передано двумя — и совершенно правильно. Когда-то французский язык заимствовал для обозначения "убийцы" арабское слово "хашишин" — "тот, кто курит гашиш". Хашишинами назывались слуги Горного старца, беспрекословно исполнявшие любой его приказ. Их приучали к наркотикам с целью подавить волю и добиться безусловного подчинения. Французские крестоносцы боялись и ненавидели этих воинов Ислама — и стали называть так убийц. Рембо, несомненно, знал этимологию этого слова, поскольку о ней упоминал Шарль Бодлер в своем "Искусственном раю".
Впрочем, детский восторг "Хмельного утра" быстро сменится горьким прозрением "Сезона в аду":
"Но что если адские муки действительно вечны? Человек, поднявший руку на самого себя, проклят навеки, не так ли? (…) Ах, вернуться бы к жизни! хоть глазком взглянуть на ее уродства. Тысячу раз будь проклята эта отрава, этот адский поцелуй. А всё моя слабость и жестокость мира! Господи боже, смилуйся, защити меня, уж больно мне плохо!"[62]
Между тем, Верлен узнает о том, что Матильда начала процедуру развода, отчего приходит в сильнейшее смятение и раздражение. 8 ноября он пишет Лепелетье:
"Я весь ушел в стихи, в умственный труд, в серьезные, чисто литературные беседы. Встречаюсь только с художниками и литераторами. И вот меня разыскивают в моем уединении, вынуждая меня писать какие-то объяснения и всякого рода официальные заявления!"
Разумеется, Верлен явно преувеличил благопристойность своего образа жизни, но главное состоит не в этом: в своем иске Матильда ссылалась на "гнусные отношения" своего мужа с Рембо. Это обвинение необходимо было опровергнуть во что бы то ни стало. И 14 ноября Верлен вновь пишет другу:
"Рембо недавно написал своей матери с целью предупредить ее обо всех слухах на наш счет, и теперь я поддерживаю с ней регулярную переписку".
Но этого мало: вновь, как и в Париже, "сердечного друга" следует на время устранить — иначе не удастся пресечь "слухи". Биографы Рембо обычно представляют дело так, будто он сам стремился вырваться на свободу — вместе с тем, им приходится признать, что по-крестьянски осмотрительный Артюр опасался осложнений, которые могла внести в их взаимоотношения судебная тяжба Верлена с женой.
Еще одна причина "антракта" — начавшиеся ссоры. Хотя Верлен и был тогда "рабом Инфернального супруга", но "Неразумная дева" зачастую давала свирепый отпор своему "господину". Рембо признавался Делаэ, что бывали моменты, когда образумить Верлена не было никакой возможности — от него приходилось просто прятаться. Уже осенью в квартире на Хауленд-стрит случались настоящие драки, а иногда происходили дуэли по всей форме: противники, вооружившись обернутым в салфетку ножом, пытались проткнуть друг друга. Несколько месяцев спустя Рембо скажет устами "Безумной Девы":
"Не раз по ночам сидевший в нем демон набрасывался на меня, мы катались по полу, я боролась с ним. — Часто, напившись, он в поздний час прятался в закоулках или за домами, чтобы до смерти испугать меня".
В начале зимы наступили тяжелые дни: помощь от Стефани приходила нерегулярно, и "дивной парочке" приходилось иногда голодать. Естественно, это подливало масла в огонь участившихся ссор: прежде Рембо считал кошелек Верлена бездонным.
В конце декабря 1872 года Рембо внезапно покидает Лондон, возвратившись на три неделив Шарлевиль. Безутешный Верлен пишет 26 декабря Лепелетье:
"Страшная тоска. Рембо (которого ты не знаешь, его знаю только я) здесь больше нет. Ужасная пустота. Маленькая комнатка на Хауленд-стрит… невыносима мрачна этой унылой зимой в серо-желтые, дождливые, туманные дни".
Биографы Рембо объясняют его отъезд тем, что он уже тяготился связью с Верленом и пытался найти другие пути. Это был якобы переломный момент в его жизни: он "… лихорадочно стремился навстречу будущему, чувствовал в себе какую-то значительную перемену, рождение "нового человека". В нем умирал поэт, и почти все "Озарения" уже были написаны". На самом деле, как уже говорилось, спешный отъезд Рембо был вызван разными причинами; главная из них состояла в том, что Верлен был полностью поглощен мыслями о своей защите в деле о раздельном проживании — и это обстоятельство, приводило Рембо в ярость.
Итак, в январе 1873 года Верлен остается один и немедленно заболевает — или делает вид, что заболел. Как бы там ни было, он отправляет три телеграммы — матери, жене и Рембо — в которых умоляет приехать к нему, чтобы они находились при нем в его "смертный час". Мать откликается немедленно, тогда как Матильда не игнорирует призыв мужа. Что же касается Рембо, о нем Верлен пишет 17 января Эмилю Блемону:
"… слушая лишь голос дружбы, он тотчас вернулся и сейчас находится здесь: его заботливость, быть может, позволит мне прожить не столь тягостно остаток моего проклятого существования".
Характерная деталь: Рембо приехал на пятьдесят франков, которые ему выслала мать Верлена. Жан Мари Карре утверждает, что Рембо уехал из Лондона, как только Верлену стало лучше. На самом деле Рембо вернулся в Шарлевиль только в феврале, расставшись с Верленом, скорее всего, в результате очередной бурной ссоры. В Роше, на ферме матери, он начинает писать рассказы в прозе о чем и сообщает Делаэ:
"Я сочиняю короткие истории в прозе под общим заголовком "Языческая книга" или "Негритянская книга". Это глупо и невинно. О, невинность! Невинность, невинность, невин… сущее бедствие!"
Позже эта книга станет "Сезоном в аду": Верлен оставался в Лондоне до 2 апреля. Он не смел вернуться в Париж, ибо внушил себе, что его будут преследовать за участие в Коммуне. Ситуация казалась ему невыносимой: дело о раздельном проживании с женой шло полным ходом, а Рембо не желал покидать Рош. Тогда Верлен отправился в бельгийские Арденны — погостить у родной бабушки. В воскресенье 18 апреля в Седане он повидался с Рембо. Они встречались и в последующие воскресные дни, хотя биографы Рембо уверяли, будто он всячески уклонялся от свиданий с другом.
В письме к Лепелетье от 23 мая Верлен сообщает, что отправляется в Буйон (на границе с Бельгией, в 24 км от Шарлевиля) на очередную встречу с Рембо. Делаэ жил тогда в Шарлевиле, и Верлен также пригласил его. 24 мая все трое вместе пообедали, а на следующий день Рембо уехал с Верленом. Это была еще одна попытка пожить "у островитян". Пребывание в Роше смертельно надоело Рембо, и он прямо говорит об этом в письме к Делаэ:
"О Природа! О мать моя! Какое дерьмо эти крестьяне с их чудовищной невинностью. Чтобы хоть немного выпить, нужно проделать два лье, а то и больше. Mother засунула меня в жуткую дыру".
Лондон 1873
Всю эту ночь — до гроба не забуду —
Я к твоему прислушивался сну —
И вдруг постиг, услышав тишину,
Как пусто все, как мертвенно повсюду.
Любовь моя! Тебе, такому чуду, -
Как первоцвету, жить одну весну!
О темный страх, в котором я тону!
Усни, мой друг. Я спать уже не буду.
О бедная любовь, как ты хрупка!
Глядится смерть из сонного зрачка —
И вздох похож на смертное удушье.
О сонный смех, в котором тайно скрыт
Тот роковой, тот жуткий смех навзрыд…
Очнись, молю! Скажи — бессмертны души?[63]
27 мая оба поэта уезжают в Лондон. Это их второе пребывание в британской столице. Позднее Верлен писал, что часто видит во сне этот город, но в "чужом" обличье:
"Напротив, если мне снится, что я там, в Лондоне, то все это характерное убранство исчезает. И это — провинциальный город с вывесками на старофранцузском языке, с узкими улицами спиралью, где по досадной и упрямой случайности я вижу себя постыдно пьяным и игрушкою оскорбительных происшествий".
А в сборнике "Давно и недавно" страх перед Лондоном выражен еще более явственно:
Название "Гоморра" принадлежит русскому переводчику: сам Верлен называет Лондон "городом из Библии", и в данном случае речь идет, конечно, о Содоме.
В свою очередь, Рембо отразил лондонские впечатления в той части "Сезона в аду", которая называется "Бреды" (или "Словеса в бреду"). Бред I носит название "Неразумная дева. Инфернальный супруг". Его главный сюжет — отношения с Верленом, который назван здесь "Неразумной девой".[65] Рембо, естественно, излагает собственную версию того, что происходило между ними, но с привычной бесцеремонностью вкладывает ее в уста своего "соузника по преисподней":
"О божественный Супруг, Господин мой, не откажитесь выслушать исповедь несчастнейшей из ваших служанок. Пропащей. Хмельной. Нечистой. Ну разве это жизнь! Даруйте мне прощение, Божественный Супруг, даруйте прощение! Прощение! Сколько слез! И сколько, надеюсь, их пролито будет потом! Потом я познаю Божественного моего Супруга! Я родилась, чтобы служить Ему. — Но теперь пусть надо мной измывается другой!"
Эпитеты, которыми награждает себя "Неразумная дева" (пропащая, хмельная, нечистая), вполне могли принадлежать самому Верлену. Угадал Рембо и его "обращение" — или же просто знал о готовности "поверить". Правда, сам Верлен подчеркивал внезапность снизошедшей на него "благодати", однако это вполне укладывается в традиционную схему "обращения грешника" — все новообращенные сгущают мрак бездны, чтобы сильнее подчеркнуть благость света.
Именно здесь "Неразумная дева" признается в полной своей зависимости от того, кому предалась душой и телом:
"Я рабыня Инфернального Супруга, того самого, что отверг неразумных дев. Того самого демона… Он не призрак, не наваждение. (…) Я вдова… — Была вдовой… Ну да, когда-то я была вполне благоразумной, и не для того же я родилась, чтобы обратиться в скелет! (…) В притонах, где мы пьянствовали, он плакал при виде толпящейся вокруг нищей братии. Подбирал пропойц на темных улицах. Жалел мать-мегеру ради ее малышей. — И удалялся с видом девочки, отличившейся на уроке закона божия. — Он похвалялся, что разбирается во всем: в коммерции, искусстве, медицине. — А я ходила за ним по пятам, так было надо. (…) Когда мне казалось, что его одолевает хандра, я участвовала во всех его проделках, пристойных или предосудительных; но мне было ясно, что в его мир мне вовеки не будет доступа. Сколько ночей провела я без сна, склонившись над этим родным, погруженным в дремоту телом и раздумывая, почему он так стремится бежать от действительности. Ведь никто из людей не задавался еще подобной целью. Я понимала — нисколько за него не опасаясь, — что он может представлять серьезную опасность для общества. — Быть может, он владеет тайнами, способными изменить жизнь? Его поцелуи и дружеские объятья возносили меня прямо на небеса, сумрачные небеса, где я хотела бы остаться навсегда — бедной, глухой, немой и слепой. (…) Охваченные единым порывом, мы усердствовали изо всех сил. Но после пронзительных ласк он говорил: "Интересно, как ты запоешь, когда меня с тобой не будет, — ведь ты уже испытала такое. Когда руки мои уже не будут обвивать твою шею, и ты не сможешь склонить голову мне на грудь, когда губы мои уже не будут касаться твоих глаз! (…) Поведай он мне о своих печалях — смогла бы я понять их лучше его насмешек? Он изводит меня, часами стыдит за то, что могло трогать меня на свете, и возмущается, если я плачу. (…) Когда-нибудь, наверное, он таинственным образом исчезнет, но мне нужно знать, удастся ли ему взлететь в небо, я хочу хоть краешком глаза увидеть вознесение моего дружка!"
Эта версия увидит свет всего через несколько месяцев. А пока оба поэта поселились в доме № 8 на Грейт-коллидж-стрит. Верлен поглощен мыслями о процессе: в сущности, он больше всего желал бы примириться с женой. Но Рембо было наплевать на эти "идиотские мечты и тоску": страдания и жалобы любовника вызывают у него только насмешку — к тому же, он целиком занят своими "Озарениями". Скорее всего, именно в это время появляется очередное из них, посвященное мучительным отношениям с Верленом и очень сходное по тональности с "Сезоном в аду":
"Жалкий брат! Сколько адских бессонных ночей он заставил меня пережить! "Я недостаточно рьяно взялся за эту затею! Я надсмеялся над ним, калекой. Из-за меня мы вернемся в изгнанье и рабство". Он приписывал мне неудачливость и простодушие, совершенно нелепые, и нагромождал тревожные аргументы. В ответ я потешался над сатанинским схоластом, а потом отходил к окну. За равниной, где продвигались оркестры диковинной музыки, я создавал роскошные призраки будущей ночи. После этой игры, приносящей некоторое очищенье, я вытягивался на тюфяке. И едва ли не каждую ночь, стоило мне задремать, как вставал бедный брат с провалившимся ртом, с окровавленными пустыми глазницами — такой, каким сам себе снился! — и, увлекая меня в большую комнату, вопил о своем идиотском нестерпимом кошмаре. В самом деле, когда-то я искренней верой вызвался в нем возродить исконного сына Солнца — и мы бродяжили, запивая вином пещер дорожный сухарь, и мне не терпелось найти исходную точку и формулу".[66]
В этом коротком рассказе Рембо отчетливо формулирует свою "милосердную" миссию: он увлек Верлена на поиски "абсолюта", дабы тот превратился в "сына Солнца" (каковым считал себя сам Рембо). Это "Озарение", несомненно, предшествует "Сезону в аду", где речь тоже пойдет о "милосердии", но тональность совершенно изменится, ибо высокопарные мечты привели к катастрофе:
"Я вызвал к жизни все празднества, все триумфы, все драмы. Я силился измыслить новые цветы, новые звезды, новую плоть и новые наречия. Мнил, что приобрел сверхъестественную силу. И что же? Теперь мне приходится ставить крест на всех моих вымыслах и воспоминаниях! На славе поэта и вдохновенного краснобая! (…) Ни единой дружеской руки! Где же искать поддержку?"[67]
Вторая лондонская эпопея закончилась после очередной ссоры, однако на сей раз инициатором разрыва впервые стал Верлен. Это случилось в конце июня — мелкий инцидент, "почти мальчишество", как выразился один из биографов Рембо. Юный поэт сидел у окна, облокотившись о подоконник, и ожидал возвращения друга. Наконец Рембо увидел Верлена, который нес в одной руке бутылку подсолнечного масла, а в другой селедку — зрелище это показалось ему настолько забавным, что он расхохотался, а когда Верлен открыл дверь, воскликнул:
"Нет, старина, до чего же у тебя был глупый вид с этой бутылкой и с этой грязной рыбой!"
Взбешенный Верлен со словами "Так неси ее сам!" швырнул селедку в физиономию Рембо. Тот смеялся все пуще и никак не мог угомониться, то ли не замечая ярости Верлена, то ли сознательно провоцируя ссору. В конце концов Верлен не выдержал и с криком "С меня хватит, я уезжаю!" тут же собрал чемоданы, запихнув туда вещи Рембо, купленные или подаренные им самим, а затем поспешно спустился по лестнице. Рембо нагнал его на набережной и стал умолять остаться. В первый и последний раз Верлену удалось одержать верх: он не захотел уступать и заявил, что вернется в Бельгию без Рембо и там, как свободный человек, призовет к себе законную супругу. Эта сцена точно воспроизводится в известном фильме "Полное затмение" — за исключением собранных Верленом чемоданов.
Брюссель 1873
"… он был сущим ребенком… Меня ввергла в соблазн его таинственная утонченность. Я совершенно забыла свой долг — и бросилась за ним. Ну разве это жизнь! Настоящей жизни нет и в помине. Мы не живем. Я иду туда, куда идет он, так надо. А он еще то и дело срывает на мне свою злобу — на мне-то, на бедняжке! Демон! — Точно вам говорю, Демон, а не человек!"
Сезон в аду: Неразумная дева. Инфернальный супруг.
3 июля Верлен уехал из Лондона. 4 июля он уже находился в Брюсселе, где рассчитывал встретиться с женой. Рембо он отправил телеграфом письмо с борта корабля, с пометкой "на море":
"Друг мой, не знаю, будешь ли ты еще в Лондоне, когда получишь это. Но хочу сказать тебе, что ты наконец должен понять, почему у меня не было другого выхода, кроме как уехать. Эта буйная жизнь и сцены, не имеющие другого повода, кроме твоей фантазии, уже сидят у меня в печенках.
Но поскольку я любил тебя безмерно (пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает), хочу заверить тебя, что если через три дня не воссоединюсь с женой, то пущу себе пулю в лоб. Три дня в гостинице, револьвер, это все стоит денег — вот откуда мое скряжничество. Тебе следовало бы меня простить. И уж если мне придется совершить эту последнюю хреновину, то я уж сделаю ее как подобает порядочному хрену. Последняя же моя мысль будет о тебе, хоть ты и обзывал меня каменным, а встречаться я больше не хочу, потому что мне предстоит сыграть в ящик.
Ты хочешь, чтобы я целовал тебя подыхая?
Твой бедный П.Верлен.
В любом случае больше мы не увидимся. Если моя жена приедет, ты получишь мой адрес и, надеюсь, будешь писать мне. Пока же, в течение трех ближайших дней, но не больше, пиши на мое имя в Брюссель до востребования.
Отдай Бареру три его книги".
Забегая вперед, следует сказать, что Рембо не воспринял всерьез угрозу самоубийства — и оказался прав. Но его положение в Лондоне было отчаянным: Верлен не оставил ему денег, а зарабатывать на жизнь юный поэт не умел и не хотел. Поэтому он немедленно (еще не получив никаких известий) отправил Верлену жалобное послание:
"Вернись, вернись, дорогой друг, единственный друг, вернись. Клянусь тебе, я буду вести себя хорошо. Я был с тобой груб, но это была просто шутка, я не сумел вовремя остановиться, и страшно об этом сожалею. Вернись, мы все забудем. Какое несчастье, что ты принял эту шутку всерьез. Вот уже два дня я плачу без конца. Вернись. Будь мужественным, дорогой друг. Еще ничего не потеряно. Тебе надо только вернуться обратно. Мы снова будем жить здесь — мужественно и терпеливо. О, умоляю тебя. Впрочем, это тебе самому пойдет на пользу. Вернись, ты найдешь все свои вещи. Надеюсь, сейчас ты понимаешь, что наша ссора была несерьезной. Ужасный миг! Но почему ты, когда я знаками призывал тебя сойти с корабля, этого не сделал? Мы два года провели вместе и вот дожили до подобной минуты! Что ты собираешься делать? Если ты не хочешь вернуться сюда, быть может, ты хочешь, чтобы я приехал к тебе?
Да, я был виноват.
О, ты ведь не забудешь меня, скажи?
Нет, ты не можешь меня забыть.
А я навсегда твой.
Скажи же, ответь своему другу, неужели мы не должны больше жить вместе?
Будь мужественным. Ответь мне как можно скорее.
Я не могу оставаться здесь надолго.
Слушайся только своего доброго сердца.
Скорее же, скажи, что я должен приехать к тебе.
Твой навеки.
Рембо.
Ответь мне скорее, я не могу оставаться здесь дольше, чем до вечера понедельника. У меня нет ни пенни, не могу даже отправить это письмо. Я отдал Вермершу твои книги и рукописи.
Если мне нельзя будет увидеться с тобой, я завербуюсь во флот или в армию.
О, вернись, я все время плачу и плачу. Разреши мне приехать к тебе, дай мне об этом знать, пришли мне телеграмму. В понедельник вечером я должен буду уехать отсюда, куда ты намерен отправиться, что ты собираешься делать?"
В этом письме Рембо выступает в роли несколько обиженной, но ласковой девочки — видимо, такая тональность присутствовала во взаимоотношениях "демона" и бедной "вдовы". И мольбы возымели действие: по свидетельству художника Казальса, Верлен прислал своему другу немного денег. Поэтому в следующем послании (отправленном в пятницу 5 июля) Рембо возвращается к более привычным наставлениям и укорам:
"Я прочел твое письмо, написанное "в море". На сей раз, ты не прав и очень не прав. Во-первых, в твоем письме нет ничего позитивного. Твоя жена не вернется, или вернется через три месяца, три года, откуда мне знать? Что до намерения сыграть в ящик, уж я-то тебя знаю. В ожидании жены и смерти ты наверняка будешь бесноваться, суетиться, докучать людям. Как, разве ты еще не понял, что с обеих сторон это были пустые гневные выходки? Но именно на тебе лежит последняя вина, потому что даже после моих напоминаний ты продолжал упорно лелеять свои фальшивые чувства. Неужели ты думаешь, что тебе будет приятнее жить с другими, а не со мной? Подумай об этом! — Ах, ну, разумеется, нет!
Лишь со мной ты можешь быть свободен, и, раз уж я поклялся, что отныне буду ласков, что горячо сожалею о своей вине, что наконец-то все понял и очень тебя люблю, а ты не хочешь вернуться или позволить мне приехать к тебе, то ты совершаешь преступление, и ты будешь раскаиваться в этом ДОЛГИЕ ГОДЫ, ибо потеряешь свою свободу и тебя будут ждать гораздо более жестокие горести, нежели те, что ты уже пережил. В конце концов, подумай, кем ты был до того, как познакомился со мной.
Что до меня, то к матери я не вернусь. Отправлюсь в Париж и постараюсь выехать отсюда в понедельник вечером. Ты вынудил меня продать твои вещи, иначе я поступить не мог. Они еще здесь, их заберут только в понедельник утром. Если хочешь писать мне в Париж, отправляй письма Форену… он будет знать мой адрес.
Разумеется, если твоя жена вернется, я не стану тебе писать, чтобы тебя не компрометировать. Никогда и не единой строчки.
Единственное же истинное слово, вот оно: вернись, я хочу быть с тобой, я люблю тебя. Если ты к этому прислушаешься, то выкажешь мужество и искренность.
В противном случае жалею тебя.
А я тебя люблю, целую, и мы непременно увидимся.
Рембо.
Грейт-коллидж 8 и т. д. до вечера понедельника или до полудня вторника, если ты решишься призвать меня".
По указанному адресу Верлен отправил телеграмму — 8 июля, в 8.38 утра — следующего содержания:
"Доброволец Испанию приезжай сюда гостиница Льежуа бери рукописи если возможно".
Текст этот нуждается в некоторых пояснениях. Трехдневный срок, назначенный Верленом, уже прошел: жена его не приехала, а кончать с собой он всерьез не намеревался — поэтому у него возникла мысль записаться добровольцем в испанскую армию. К моменту приезда Рембо он уже получил отказ в испанском посольстве и оказался в чрезвычайно затруднительной ситуации: без надежды примириться с женой и с невыполненной угрозой самоубийства. О намерении покончить с собой он успел оповестить всех, кого только мог — даже мадам Рембо. Стефани он написал 4 июля:
"Матушка,
Я решил покончить с собой, если моя жена не приедет в течение трех дней. Я написал ей… Прощай, если так случится. Твой сын, который тебя очень любил".
А Лепелетье известил 6 июля:
"Мой дорогой Эдмон,
Скоро я сдохну. Хочу только одного — чтобы никто об этом не знал, пока это не свершится и, кроме того, чтобы было доказано следующее: жена моя, котороую я все еще ожидаю до завтрашнего вечера, трижды была предупреждена — по телеграфу и по почте; следовательно, лишь ее упрямство станет причиной несчастья.
И пусть все знают, что это не из-за страха перед судом, который состоится через десять месяцев, но из-за избытка чувств, чрезмерной любви к этому созданию…
Позаботься о моей книжечке.[68]
Прощай. Мать, узнав о моем состоянии, приехала сюда и пытается отговорить меня. Боюсь, ей это не удастся. Я жду свою жену".
Мать, естественно, примчалась в Брюссель, едва только получила письмо своего обожаемого Поля. Но ее присутствия Верлену было мало — он жаждал возвращения Матильды или Рембо (или обоих сразу). Так или иначе, к моменту приезда Рембо в Брюссель (8 июля 1873) Верлен, уже находился в состоянии запоя, а через два дня — 10 июля — дважды выстрелил в своего друга. Непосредственной причиной этого поступка стало желание Рембо вернуться в Париж. Мать с сыном проводили раненого на перевязку в больницу, а около семи вечера все трое отправились на Южный вокзал. Рембо показалось, будто Верлен хочет выстрелить в него еще раз, поскольку тот не вынимал руки из кармана (в котором предположительно находился револьвер). Юный поэт обратился в бегство и, добежав до ближайшего полицейского поста, попросил задержать Верлена, который и был немедленно арестован. При обыске у него нашли листок со стихотворением "Хороший ученик" ("Bon Disciple") с недвусмысленным описанием гомосексуальной связи, а также письма Рембо. Следователь Т’Серстевенс навестил Рембо в больнице и забрал его бумаги — в том числе, письма Верлена. Таким образом, у следствия сразу появился возможный мотив покушения, ибо отношения Верлена и Рембо наводили на весьма интересные мысли.
Таковы — в самых общих чертах — обстоятельства брюссельской драмы. Существует множество описаний того, что произошло 10 июля 1873 года между Верленом и Рембо. Разумеется, прежде всего, следует обратиться к данным по горячим следам показаниям всех участников событий.[69]
Следствие было коротким: в день ареста показания дали все трое — Верлен, Рембо, мадам Верлен. Затем Верлен был дважды допрошен. Независимо друг от друга все трое единодушно показали следующее: револьвер Верлен купил утром (четверг, 10 июля) и вернулся домой около полудня; выстрелы раздались около двух часов; после этого все трое отправились в больницу св. Иоанна, где Рембо сделали перевязку, после чего вернулись домой. Верлен был арестован через несколько часов после покушения по устному обвинению своего друга.
Самого пристального внимания заслуживают показания Рембо. Его снисходительные биографы обычно не желают "копаться в этой грязи" — удивляться здесь нечему, поскольку это один из самых неприятных для их героя сюжетов. Мгновенное превращение "сверхчеловека" в испуганного мальчика — зрелище смешное и одновременно поучительное. Собственно, если бы биографы Рембо просто обходили молчанием обстоятельства следствия, с этим можно было бы примириться. Однако биографы Рембо дают совершенно неверную картину брюссельских событий. Показания всех действующих лиц брюссельской драмы нужно анализировать с точки зрения следователей, которым важно было определить, являлось ли покушение умышленным или же было совершено в "состоянии аффекта" (что считалось смягчающим вину обстоятельством). Для этого нужно было выяснить следующее: мотивы ссоры (как брюссельской, так и предшествующей лондонской); цель приезда Рембо в Брюссель; причину разрыва Верлена с женой и его ближайшие намерения; характер отношений между обоими поэтами.
Рембо давал показания четыре раза. Первый раз — вечером 10 июля, в день покушения и ареста Верлена. Он показал, что Верлен будто бы умолял его приехать в Брюссель — о своих же письмах не сказал ни слова. Лондонскую ссору объяснил тем, что жить с Верленом стало невыносимо. И, в довершение всего, рассказал, что Верлен не только заранее купил револьвер, но и угрожал ему, не желая допустить его отъезда в Париж. В оправдание Рембо можно сказать, что он, конечно, был глубоко потрясен всем случившимся: гнев, страх, унижение, наконец, боль всегда считались дурными советчиками.
Во время второй дачи показаний, 12 июля, Рембо лишь усугубил положение друга, хотя казалось бы, на сей раз он вполне мог успокоиться и все обдумать. Правда, Рембо признал, что писал своему другу из Лондона и просил разрешения приехать к нему — видимо, следователь объяснил ему, что отрицать это бесполезно. Но ссора в Лондоне, по словам Рембо, произошла из-за непозволительных выходок Верлена по отношению к общим знакомым. Даже крайне снисходительный к Рембо Жан Мари Карре признает, что его версия относительно причин ссоры "слегка расходится" с версией Верлена и Эрнеста Делаэ (кстати, последний писал об инциденте с рыбой скорее всего со слов Рембо). Разумеется, в показаниях полиции многие стремятся обелить себя, но Рембо представил себя благовоспитанным мальчиком, который был крайне шокирован поведением буйного сожителя — при этом не надо забывать, что ему лично ничто не угрожало, а Верлену предстоял суд.
Поскольку мадам Верлен показала, что Рембо жил на деньги сына, в этом пункте ему пришлось сбавить тон — и он заявил, будто жил с Верленом в складчину. Однако правда здесь была на стороне мадам Верлен — ее сын содержал Рембо. В показаниях от 12 июля возникли новые, убийственные для Верлена детали: мало того, что Рембо вновь показал, что Верлен купил револьвер заранее и угрожал ему, он еще и добавил к этому, что Верлен намеревался поехать в Париж, чтобы расправиться со своей женой. Иными словами, Верлен представал законченным убийцей, который стрелял в друга, поскольку под рукой не оказалось жены. Разумеется, все это могло быть правдой — Верлен находился в таком состоянии, что легко переходил от стремления примириться с женой к угрозам в ее адрес. Кстати говоря, о намерении Верлена помириться с Матильдой Рембо не сказал ни слова, хотя прекрасно об этом знал — собственно, это намерение Поля и было одной из причин их постоянных ссор. В целом же, если называть вещи своими именами, следует признать, что Рембо в этих показаниях попросту "топил" Верлена. Французские исследователи порой негодуют на суровость бельгийского суда, который осудил Верлена на два года тюрьмы за нанесенную другу "царапину". Однако "бедный Лелиан" еще дешево отделался: по показаниям Рембо его можно было судить за попытку умышленного убийства.
В своих показаниях от 18 июля Рембо утверждал, что все сказанное им ранее является чистой правдой: главная причина покушения состояла в том, что Верлен не желал допустить его отъезда. Впрочем, на сей раз Рембо неохотно признал, что у Верлена, действительно, было намерение примириться с женой. Но даже эта его единственная уступка (крайне важная для Верлена) была вынужденной: 17 июля мадам Верлен — по собственному побуждению или по совету адвоката — передала следователю письмо, в котором Поль извещал ее о намерении покончить с собой, если жена не приедет к нему через три дня. Наконец, у следствия имелись показания Огюста Муро, который утверждал, что Верлен сам намеревался ехать в Париж с целью примириться с женой — и не желал отъезда Рембо из Брюсселя, поскольку тот мог бы его скомпрометировать. Возможно, Муро кое-что присочинил от себя, ибо Рембо, по его собственному признанию, вызывал у него крайнее омерзение. Но, в любом случае, умалчивать о роли Матильды в жизни Верлена уже было нельзя.
19 июля Рембо отказался от прежних своих показаний: Верлен не имел дурного умысла, покупая револьвер, а причиной его пьянства был разрыв с женой. Кроме того, Рембо заявил, что не желает никакого судебного преследования Верлена — об этом с радостью пишут его биографы, утверждая, будто он сделал все, чтобы выручить друга. Хотелось бы верить, что Рембо сам догадался изменить свои показания, однако более правдоподобным выглядит предположение, что ему объяснили суть вещей: возможно, это сделала мадам Верлен, но, скорее всего, инициатива исходила от следователей, которые, конечно же, видели несоразмерность проступка вероятному наказанию и были далеко не убеждены в абсолютной "невинности" и "добропорядочности" Рембо. Отметим еще одно: отказавшись поддерживать обвинение, Рембо выходил из процесса — по бельгийским законам, он уже не обязан был присутствовать на суде и давать показания. Не случайно в "Сезоне в аду" он в завуалированной форме признается, как ужасала его встреча с юстицией:
"К кому бы мне наняться? Какому чудищу поклониться? Какую святыню осквернить? Чьи сердца разбить? Что за ложь вынашивать? По чьей крови ступать?
Главное — держаться подальше от правосудия. — Жизнь жестока, отупляюще проста, — скинуть, что ли, иссохшей рукой крышку с гроба, лечь в него, задохнуться? Тогда не страшны тебе ни старость, ни опасности: ужасы вообще не для французов".
Возникает вопрос: откуда взялись совершенно другие версии? Сам Рембо не оставил никаких письменных свидетельств о событиях в Брюсселе — "Сезон в аду" был закончен по свежим впечатлениям брюссельский драмы, но это сочинение менее всего походит на мемуарные свидетельства. Несомненно, что сестра Изабель, зять Патерн Берришон и ближайший друг Эрнест Делаэ использовали какие-то сведения, исходившие от него. Однако невозможно определить, насколько исказил истину сам Рембо, следует учесть также, что близкие ему люди склонны были до определенной степени фантазировать. Например, вариацией на тему Патерна Берришона является очень интересная версия Стефана Малларме, согласно которой Верлен будто бы стрелял в друга в тот момент, когда за ним приехали из Парижа жена и теща:
"Обаяние Парижа померкло, Верлен терзался разгоравшейся семейной распрей и, как скромный служащий Коммуны, боязнью преследований: видимо, поэтому Рембо решил перебраться в Лондон. Нищая вакхическая чета вдыхала всей грудью вольную коксовую гарь, хмелея от взаимного чувства. Скоро письмо из Франции позвало, даровав прощение, одного из отступников, с условием, что спутника своего он покинет. На свидании молодая супруга — по бокам мать и свекровь — ожидали примирения. Я доверяю рассказу, превосходно переданному г-ном Берришоном, и вслед ему отмечу лишь пронзительную сцену, героями которой — один раненый, другой в бреду — оба поэта в нечеловеческой их муке. Женщины молили согласно, Верлен уже отказался было от друга — но вдруг заметил его, случайно, в дверях комнаты, рванулся за ним, в его объятия, не слушая увещеваний его, охладевшего, твердившего, что все кончено, "клявшегося, что узы их должны быть разорваны раз и навсегда", что "даже без гроша в кармане", пусть и привела его в Брюссель единственно надежда на денежную помощь в возвращении на родину, "он все равно уйдет". Рука равнодушного оттолкнула Верлена, тот в помрачении выстрелил в него из пистолета и рухнул, рыдая. Было решено, что дело не останется… в кругу семьи, едва не сказал я. Рембо, в бинтах, вышел из больницы, и на улице его, по-прежнему одержимого отъездом, настигла на сей раз прилюдно вторая пуля, которую преданнейший друг искупал потом двумя годами монсской тюрьмы".
Версия Малларме куда более "кровавая", чем предыдущие: Рембо получает две раны — одну на глазах у трех женщин, вторую — "в бинтах", по выходе из больницы. К слову говоря, полученная Рембо царапина зажила очень быстро: конечно, баловаться в пьяном виде огнестрельным оружием очень опасно, но у Верлена, похоже, был свой ангел-хранитель, поскольку он нанес самую легкую из всех возможных пулевых ран. "Кровавая" легенда была оформлена и средствами изобразительного искусства — достаточно посмотреть на картину Росмана "Раненый Рембо". Возвращаясь к Малларме, следует сказать, что прославленный символист сам ничего не выдумывал — он просто доверился тем басням, которые успели сочинить сестра и зять Рембо. Обращает на себя внимание сочувственное отношение к Верлену (которого совершенно не было у Берришона, обвинившего Верлена во всех смертных грехах) и легкий оттенок осуждения "равнодушного" Рембо (по Берришону — невинной жертвы безумца).
Искажение фактов и формирование на их основе легенды проявились с особой наглядностью в версии Эрнеста Делаэ, который мог узнать о брюссельских события от обоих участников драмы. Он записал то, что ему стало известно — эта рукопись была опубликована только в 1974 году:
"Тогда-то и произошла эта знаменитая сцена, в номере гостиницы. Пьяный Верлен угрожал Рембо убийством, если тот уедет, Рембо упорствовал в своем решении… и выстрел из револьвера. Раненый Рембо остается кротким и разумным: "Видишь, ты сделал мне больно из-за своих глупостей!" Верлен, наполовину протрезвев при виде крови, соглашается на отъезд. Рембо обматывает руку салфеткой (пуля попала ему в запястье), и они выходят вместе, поскольку Верлен хочет проводить его на вокзал. Но по дороге, вновь ощутив безумную ярость, он опять достает револьвер (который сначала отдал Рембо, а тот имел неосторожность вернуть его ему), опять целится в Рембо. Вмешательство полицейских. Арест обоих. Допрос. Верлен наполовину безумен, Рембо дерзок и груб в разговоре с этими чиновниками, которые (невзирая на то, что раненый отказался от обвинения) отправляют Верлена в тюрьму, а Рембо — в больницу. Возможно, если бы Рембо сказал просто: "Пустяки, мы оба выпили, револьвер появился случайно и т. п.", дело на этом бы и закончилось, но у Рембо была такая слабость: он всегда умел договариваться только с простыми людьми; при столкновении с властями, при взгляде на "буржуа" с высокопарными манерами и выражениями он превращался в дикобраза: "Это вас не касается, оставьте нас в покое, это наше дело и т. д." В подобных обстоятельствах дело выглядело плохо. К тому же, из Парижа пришли неблагоприятные сведения. Бельгийским чиновникам — как и во Франции, там царил тогда дух морализаторский и реакционный — дело показалось столь темным, что бедному Верлену "задали перца": он получил два года тюрьмы. Рембо, известивший меня об этом из Роша, был крайне удручен. В сущности, неделя в кутузке — это самое большее, что Верлен заслуживал. Впрочем, срок ему сократили — он отсидел только полтора года (в монсской тюрьме)".
Кое-что Делаэ излагает точно: ему известно, что первый выстрел был произведен в гостинице, а Верлен был арестован лишь тогда, когда отправился провожать Рембо на вокзал. Правда, револьвера Верлен не доставал и уж тем более не целился в Рембо — он всего лишь сунул руку в карман. О матери Верлена и о намерении Поля примириться с женой Делаэ не говорит ни слова — это означает, что сведения он, скорее всего, получил от Рембо. Полицейские появились сами по себе: Делаэ либо не хочет говорить о том, что Рембо попросил арестовать Верлена, либо — что вероятнее — просто не знает этого. Разумеется, никакой "заносчивости" в обращении с чиновниками (т. е. следователями) не было и в помине — вот эта байка, несомненно, исходила от Рембо, который рассказывал нечто подобное и о своем первом столкновении с юстицией (в сентябре 1870 года). Характерно, что Делаэ испытывает определенное неудобство в связи с арестом и осуждением Верлена: он упрекает Рембо в излишней гордыне, хотя делает это в очень мягкой форме.
Можно не сомневаться в том, что Делаэ составил свою записку "для памяти" — однако в дальнейшем словно забыл о ней. В статье, посвященной Верлену, он описывает брюссельское происшествие совершенно иначе:
"Они находятся на бульваре, солнце стоит в зените, в нескольких шагах от них стоят полицейские. Прохожие оборачиваются и останавливаются при виде бурной ссоры. Внезапно поэт вынул из кармана роковой револьвер и сделал угрожающий жест. Тут же набегают полицейские, хватают и препровождают к комиссару этих двух человек, из которых один в крайнем возбуждении объявляет себя убийцей, а второй, хоть и выказывает только высокомерное презрение, но не может скрыть свою окровавленную, перебитую выстрелом руку. Первого оставляют в заключении, иначе и быть не может; второго отправляют в больницу. (…) Между тем, "жертва" ведет себе вызывающе. В больнице св. Иоанна, в промежутке между двумя приступами столбняка, к нему пришел с допросом следователь, испытывающий вполне естественное любопытство к этому юноше, одежда и внешность которого являются скорее простонародными, с чем контрастирует аристократически элегантная речь. На самые простые вопросы он отвечал с дерзким пренебрежением: никакой жалобы от него не дождутся, следствие и допросы — безделица и ребячество, но при этом дело противозаконное, от раны своей он, действительно, жестоко страдает, но это никого не касается… разве что врачей… и пусть его оставят в покое! (…) Рембо чрезвычайно удивлен и удручен заключением, в котором бельгийская юстиция — серьезная до экстравагантности — продолжает удерживать его друга".
В версии для печати Делаэ откровенно искажает факты (ибо у него имелась "памятная записка"): действие переносится на бульвар в разгар дня — так легче объяснить вмешательство полиции; рана Рембо становится крайне тяжелой (как у Берришона и Малларме) — кость перебита, кровь течет ручьями, возникает столбняк (!). В этом рассказе уже нет и намека на осуждение Рембо — в осуждении Верлена виновато смехотворно тупое бельгийское правосудие.
В отличие от Рембо, Верлен не раз возвращался к событиям злополучного дня 10 июля. В "Моих тюрьмах" он описывает их следующим образом: "Дело было так. В июле 1873-го, в Брюсселе, после уличной ссоры, следствием которой были два револьверных выстрела, причем первый легко ранил одного из спорщиков, после чего они, два друга, решили забыть об этом случае, потому что виновный попросил прощения, а другой его простил; но затем тот, кто совершил этот прискорбный проступок, будучи одурманен абсентом и до, и после ссоры, внезапно опять заговорил угрожающим тоном и столь недвусмысленно полез в правый карман своей куртки, где, к несчастью, находилось оружие с четырьмя неиспользованными пулями и со спущенным предохранителем, что другой в испуге бросился бежать со всех ног по широкой дороге (в Галле, если мне не изменяет память), преследуемый бешеным безумцем, к полному изумлению "топрых пелькийцев", влачащих под немилосердным солнцем свою послеполуденную лень. Полицейский, прохаживающийся неподалеку, сразу же задержал преступника и потерпевшего. После короткого допроса, в ходе которого виновный клеймил себя гораздо беспощаднее, чем пострадавший — его, оба задержанных, согласно приказу представителей власти, отправились вместе с ним в магистратуру, причем полицейский держал меня за руку — здесь пора уже признаться, что виновником покушения на убийство и затем повторной попытки был я сам, а возможной жертвой был не кто иной, как Артюр Рембо — великий и странный поэт, трагически умерший 23 ноября прошлого года[70]".
В мемуарах Верлен — в отличие от своих показаний 1873 года — признает, что заговорил с Рембо угрожающим тоном и полез в карман за револьвером. На следствии он это отрицал — ложь понятная и простительная. Мадам Верлен также не сказала об этом ни слова, хотя все происходило на ее глазах — тоже вполне понятно, ведь речь шла о судьбе сына. Впрочем, не исключено, что Верлен приписал себе этот жест задним числом: в 1875 году у него произошла встреча с Рембо, который вполне мог ему внушить, будто он сам был виноват в своем аресте. В Брюсселе Верлен пил беспробудно, в момент ареста протрезветь еще не успел и, естественно, за свою память ручаться не мог.
Все остальные изменения сделаны по одной причине — из благоговейного уважения к памяти Рембо. Поэтому покушение было перенесено на улицу, хотя в реальности оно произошло в доме, где "прохаживающихся неподалеку" полицейских нет. Исчез временной интервал между выстрелами и проводами. Иными словами, в этой версии Верлен скрыл тот факт, что Рембо обратился к полиции за помощью. Совместного допроса, скорее всего, не было — задержанным считался один лишь Верлен, тогда как Рембо проходил по делу как свидетель. О показаниях Рембо Верлен так никогда и не узнал — не случайно во время следствия он был убежден, что его вот-вот отпустят на свободу, и "недоразумение" благополучно разрешится.
Еще один рассказ Верлена о брюссельских выстрелах был записан молодым поэтом-символистом Адольфом Ретте, который нанес визит пожилому мэтру, когда тот в очередной раз оказался в больнице. Визит этот совпал с известием (ложным) о смерти Рембо в Абиссинии, и Верлен, естественно, был крайне взволнован и опечален. Юноша сам попросил его рассказать о покойном друге, и Верлен заговорил о самом наболевшем:
"Я снова вижу нас в Брюсселе, в этой мерзкой гостинице на улице Пашеко, где мы остановились. Я сидел у ножки кровати. Он стоял у двери, скрестив руки и бросая мне вызов всем своим видом. Ах, какая злоба, какой жестокий огонь в его глазах проклятого архангела! Я сказал ему, чтобы он остался со мной. Но он хотел уехать и я чувствовал, что решения своего он не переменит.
Моя бедная мать, примчавшаяся из Парижа, чтобы попытаться вернуть меня к жене и ребенку, тоже была там. Она видела, что я вне себя и, не говоря ни слова, положила руку мне на плечо, чтобы удержать меня.
Наверное, минут пять мы с Рембо пожирали друга взглядом. В конце концов он повернулся со словами: "Я уезжаю". Выйдя в коридор, он бегом спустился по лестнице. Я слышал, как доски трещат под его ногами. У меня перехватило дыхание, перед глазами поплыли красные круги: мне казалось, что он уносит с собой мозг мой и сердце.
Когда я перестал слышать его, в душе моей поднялась буря. Я сказал себе, что должен вернуть его, хотя бы даже силой, и запереть в комнате. Я вскочил и бросился к двери. Мать моя хотела преградить мне путь: "Поль, — взывала она ко мне, — ты сошел с ума, опомнись, подумай о своих близких!" Но ярость полностью овладела мной. Я стал трясти ее за плечи, осыпая уж не помню какими бранными словами, когда же она встала перед мной, я оттолкнул ее с такой силой, что она ударилась лбом о косяк. О, я знаю, каким диким это может показаться. Но я совершенно потерял голову, я убил бы любого, лишь бы вновь заполучить Рембо.
Я кубарем скатился по лестнице и на улице увидел Рембо, который двигался по направлению к Ботаническому бульвару. Он шел медленно и словно бы неуверенно. Догнав его, я сказал ему: "Ты должен вернуться, иначе это плохо кончится". "Отстань", — бросил он, не взглянув на меня. Тогда я словно обезумел. Я сказал себе, что остается только убить его. Я схватил свой револьвер, который всегда носил в кармане и дважды выстрелил… Рембо упал… Меня схватили… вот и все".
Что заслуживает внимания в этом рассказе? Поскольку Верлен сам придумал версию о выстрелах на улице, то повтор этой детали не вызывает удивления. Подробности о бесчеловечном обращении с матерью также: все знали, что Верлен не раз поднимал на нее руку (хотя в Брюсселе ничего подобного не происходило, поскольку матери не было нужды преграждать Верлену путь на улицу). Верлен не мог постоянно носить револьвер в кармане, ибо купил его только в день покушения и обращаться с ним явно не умел. Трудно сказать, кто из поэтов — старый или молодой — сгустил краски. С одной стороны, известие о смерти Рембо могло ввергнуть Верлена в приступ запоздалого и одновременно сладкого раскаяния. С другой стороны, Адольф Ретте был не только поэтом, но и пробовал свои силы в журналистике, а потому вполне был способен присочинить кое-что от себя.
"Верлен говорил глухим голосом. Грудь его вздымалась, словно он пытался подавить рыдания. Я понял, что в такой момент для него будет благом, если он даст полную волю своим воспоминаниям.
— Когда вы оказались в тюрьме, — спросил я его, — и когда узнали, что Рембо ранен легко, вы были довольны?
— Нет, — тут же отозвался Верлен, — я был в ярости из-за того, что потерял его, и мне тогда хотелось его уничтожить. Лишь позднее, в камере Монса, и потом, когда я вышел на свободу, мои чувства по отношению к нему смягчились… Впрочем, нет: о смягчении говорить нельзя. В этом мальчике заключено было демоническое обольщение. Я вновь и вновь вспоминаю те дни, что мы провели вместе, когда бродили по дорогам, опьяненные нашим исступленным искусством, и все это представляется мне, словно морская зыбь, напоенная ужасающим и восхитительным благовонием. … Вы как-то написали, что Рембо — это легенда. С литературной точки зрения вы, конечно, правы. Но для меня Рембо по-прежнему остается живым и реальным, это солнце, которое светит во мне и никогда не погаснет… Вот почему он снится мне каждую ночь".
Надо признать, что биографы Рембо самым недобросовестным образом воспользовались благородством Верлена: они либо искажали последовательность событий, либо прибегали к излюбленному приему — умалчивали о тех фактах, которые не укладывались в версию о Рембо, ставшем невинной жертвой слабовольного алкоголика. К примеру, Станислас Фюме предпочитает называть грубые выходки "невинными мальчишескими шалостями": помилуйте, ведь Рембо было всего семнадцать-восемнадцать лет — да разве в этом возрасте что-либо кажется опасным? Показания Рембо этот исследователь считает "простыми и правдивыми": юный поэт твердо заявил, что не желает опровергать "клевету" (о "безнравственных сношениях" с Верленом) — и он сдержал свое слово, никогда более не заговаривая на эту тему. Как же тогда быть с "Сезоном в аду"? Очень просто: "…Неразумная Дева была скорее женской ипостасью личности Рембо, Душа (Anima) того Духа (Animus), который вдохновит Клоделя на самый гениальный из всех комментариев". Зато старший из поэтов постоянно намекал на любовную связь, одновременно защищая "чистоту" своих отношений с Рембо. "Тем самым Верлен подливал масла в тот огонь, который желал потушить". Словом, во всей этой истории целиком и полностью виноват "пьяница" Верлен, не оценивший благородства помыслов своего друга. Единственное, в чем можно слегка упрекнуть Рембо: он был хитрым крестьянином и умел защищать свои интересы. Ему надо было во что бы то ни стало вырваться из когтей полицейских и следователей, а на гражданское мужество он плевал точно так же, как на патриотизм — "патрульотизм", по его собственному выражению. "Его голубые глаза — глаза небесного презрения — лгали".
Более осторожный Жан Мари Карре отдает явное предпочтение "фигуре умолчания": "Знакомясь со всеми версиями этой драмы, как бы различны они ни были, приходится признать, что Верлен бесспорно явился главным виновником ее и что вина его усугубляется его пьяными выходками и нелепым покушением на жизнь друга, но вместе с тем нельзя закрывать глаза и на то, что Рембо нашел в ней удобный случай избавиться путем ареста Верлена от тяготивших его отношений". Исследователь явно стремится соблюсти объективность, но ему это плохо удается: Рембо сдал Верлена полиции из трусости, а не из-за холодного расчета (для биографии "сверхчеловека" второй вариант является более приемлемым). В описании же предшествующих обстоятельств слишком многое умалчивается: Карре не говорит ни слова о письмах Рембо из Лондона, в которых тот умолял Верлена о прощении и просил разрешения приехать; ни разу не упоминает о том, что заболевший Верлен призывал в Лондон не только мать и Рембо, но и жену — по версии Карре, Верлен и думать не желал о жене, лишь иногда снисходительно уступая ее мольбам (как во время встречи в Брюсселе). Естественно, биограф Рембо целиком и полностью верит в болезнь Верлена (скорее всего, мнимую), который просто обязан был тяжело заболеть после отъезда Рембо.
Весьма популярны также версии, которые можно назвать "импрессионистскими": реальные факты отсутствуют, а известные события предстают, словно окутанными туманной дымкой, в которой нельзя разобрать, кто прав и кто виноват. Русский читатель уже имел возможность познакомиться с подобной манерой изложения: "Немного кротости! Да где же ее взять этому помешанному? И вот во время очередной дружеской перепалки, когда Рембо объявил, что он рвет, и рвет окончательно, Верлен схватил пистолет и выстрел — пьяный зигзаг пули слегка задел Рембо. Кажется, потом, уже на улице, Верлен умолял его о прощении. Кажется, опять стрелял… (И все это на глазах бедной матушки. Ах, Боже праведный! — наверное, можно б было посвятить ей отдельную книгу, над которой человечество прорыдало бы лет двести, — этой доброй женщине, набожной провинциалке, в чьем сердце красными, кровяными, строками была написана жизнь Верлена, ее милого блудного Поля). (…) Злой гений Верлена отказался от каких бы то ни было исков. Тем не менее в августе 1873 года бельгийский суд приговорил Бедного Лелиана к двум годам тюрьмы…". В этом описании больше всего умиляет слово "кажется": то ли один выстрел, то ли два — какая разница! Что касается следователей с судьями, то они, видимо, набежали сами по себе — как же не повезло бедному Верлену!
Следует повторить еще раз, что современники не знали всех обстоятельств брюссельской драмы — только после публикации писем этого периода и документов следствия стало возможным восстановить реальную последовательность событий. Не удивительно, что на "пустом месте" возникли многочисленные легенды. Самая "красивая" из них была рождена воображением Рембо и принята на веру сначала Патерном Берришоном, затем Полем Клоделем, затем — подавляющим большинством биографов Рембо и — в меньшей степени — Верлена. Суть легенды состоит в следующем: Рембо решил превратить Верлена в "сына солнца" и увел его из жалкого мещанского мирка в необозримый мир. Верлен же оказался слаб и недостоин — более того, он осмелился изводить Рембо своим постоянным нытьем и жалобными сетованиями. При этом предполагается, что Верлен сам по себе был посредственным поэтом и достиг вершин только благодаря влиянию Рембо — этой точки зрения придерживается, например, Станислас Фюме. Жан Мари Карре выражается несколько мягче: "В результате близости Верлена к Рембо, поэзия бедного Лелиана приобретает более индивидуальный и, если можно так выразиться, более произвольный характер".
Самая фантастическая версия о причинах катастрофы принадлежит, естественно, семейству и тесно связана с проблемой так называемого "ложного наследия" Рембо. Поскольку подавляющая часть стихотворений и "Озарения" были опубликованы стараниями Верлена, Берришона и нескольких исследователей, неизбежно должны были появиться рассказы об "утраченных" произведениях: о них говорили Изабель, Делаэ и Верлен, причем первые двое всегда стремились подчеркнуть, что пропавшие стихи намного превосходили известные публике творения гениального поэта. К числу таких сочинений относится "Духовная охота" ("Chasse spirituelle"). Когда оба друга отправились в странствие, Верлен якобы оставил у родителей жены рукопись, которая впоследствии затерялась. Рембо требовал вернуть ее, и "это стало одной из причин, вернее, главной причиной брюссельской драмы". Так представила дело Изабель Рембо, а вслед за ней Патерн Берришон. Излишне говорить, что эта совершенно неправдоподобная версия оказалась неприемлемой даже для самых пылких поклонников Рембо. Большинство исследователей подвергают сомнению сам факт существования подобной рукописи — не говоря уж об очевидной подтасовке с целью изобразить роковую ссору так, чтобы Верлен выглядел либо злокозненным завистником (сознательно не желал отдать гениальное стихотворение), либо бездарным и трусливым ротозеем (не посмел потребовать рукопись у семейства Мотэ).
Помимо двух непосредственных участников брюссельской драмы единственным свидетелем событий была мать Поля — мадам Верлен. Ее версию изложил в своей книге Эдмон Лепелетье, который ознакомился с рассказом Верлена в "Моих тюрьмах", но здраво рассудил, что его друг слишком многое не договаривает и о многом умалчивает. По словам мадам Верлен, Рембо прибыл в Брюссель из Лондона с одной целью — разжиться деньгами, которые он прежде вымогал у нее самой. Это и стало причиной ссоры:
"Она [мадам Верлен] была третьей в той комнатке гостиницы Льежуа, где молодые люди выясняли отношения из-за объявленного Рембо намерения уехать.
Он утверждал, что приехал лишь для того, чтобы сразу же уехать. Пусть ему дадут денег, и он тут же отправится обратно! Обоим кровь ударила в голову от поглощенных аперитивов. Верлен, более слабый или более возбужденный алкоголем, пришел в крайнее раздражение. Тщетно мадам Верлен умоляла друзей сесть за стол и отложить этот спор до завтрашнего дня, когда к ним вернется хладнокровие. Рембо не желал ничего слушать. Он сухо заявил, что уедет немедленно и, подтверждая свои слова присущим ему властным жестом, добавил, что хочет денег. Он повторял, нервно выделяя каждый слог и как бы скандируя, свое настоятельное требование: "Де-нег! Де-нег!"
Верлен еще до этого купил револьвер — вероятно, в смутном стремлении к самоубийству, ибо терзался воспоминаниями о своей жене и страдал при мысли, что раздельное проживание стало неизбежным ввиду ее отказа приехать в Брюссель. Его давно одолевали зловещие грезы о смерти. По ночам к нему являлись черные демоны, рожденные парами алкоголя. Подчиняясь внезапному порыву к насилию, он вытащил оружие из кармана и выстрелил в сторону Рембо.
Тот успел инстинктивно вытянуть руку, словно желая отобрать револьвер. Первая пуля оцарапала ему левое запястье, вторая угодила в половицы, ибо он сумел все-таки опустить дуло вниз.
Глубокое оцепенение охватило всех троих участников этой сцены. Мадам Верлен увлекла своего сына в спальню. Он рыдал, выражая самое искреннее раскаяние, затем, вернувшись к Рембо, который не произнес ни слова, крикнул: "Возьми револьвер и убей меня!" Мадам Верлен пыталась успокоить молодых людей. Она перевязала руку Рембо и, поскольку тот вновь обратился к своей навязчивой идее, дала ему 20 франков, чтобы он смог поехать к матери в Шарлевиль. Обе стороны считали дело законченным, а крохотная царапина Рембо казалась уже затянувшейся без всяких последствий — как медицинских, так и юридических.
Раненый настаивал, что хочет уехать первым же поездом с целью как можно быстрее вернуться в материнский дом. Верлен пожелал проводить его. На пути к вокзалу он пребывал все в том же крайне возбужденном состоянии.
В какой-то момент Рембо показалось, будто он вновь нащупывает в кармане револьвер, чтобы выстрелить. По крайней мере, именно такое объяснение он представил в своей жалобе. Был ли причиной испуг или же то была дьявольская махинация вполне в его духе, имеющая целью грубо устранить Верлена, но он устремился к полицейскому с воплем: "Убивают!" Обезумевший Верлен помчался следом, размахивая руками, крича, и, возможно, угрожая. Рембо указал полицейскому на него. Так произошел арест".
Лепелетье получил юридическое образование. Как ярый республиканец, он имел неприятности с правосудием в последние годы империи. Не удивительно, что свое "расследование" он провел основательно и добросовестно — достаточно сказать, что ему первому удалось раздобыть некоторые (не все) документы следствия. Его версия почти совпадает с показаниями участников драмы, за исключением одного — самого щепетильного — пункта. Непосредственной причиной роковой ссоры будто бы стали деньги, однако об этом нет ни слова не только в показаниях Рембо (что понятно) и Верлена (который был пьян и ничего не помнил), но и в заявлении мадам Верлен. Правда, ей пришлось общаться с полицией только один раз — в день покушения и ареста, когда она вряд ли сознавала, чем закончится это дело для ее сына. Возможно, она повела бы себя иначе, если бы могла предвидеть приговор бельгийского суда. Рембо был вполне способен на вымогательство: через несколько лет он предпримет попытку шантажировать Верлена. Но это не может служить доказательством того, что он потребовал "отступного" 10 июля 1873 года и спровоцировал выстрелы.
Любые попытки объяснить то, что произошло в Брюсселе, предполагают ответ на вопрос: какими были в реальности отношения Верлена и Рембо. Суд, вынесший решение о расторжении брака между Верленом и его женой, назвал их "предосудительной связью" (пощадив Рембо, имя которого не было названо). В Брюсселе оба поэта подобную связь категорично отрицали: Рембо лаконично и высокомерно, Верлен — нервно и многословно. Их друзья и родные — Лепелетье, Делаэ, Берришон, Пьеркен — не менее категорически поддерживали отрицание. Вопрос о "виновности" в таком случае зависел от личных пристрастий. Патерн Берришон, естественно, считал Рембо невинной жертвой пьяницы Верлена. Эдмон Лепелетье утверждал, что расчетливый Рембо использовал материальные возможности Верлена, а затем хладнокровно избавился от него. Эрнест Делаэ, упиравший на "случайность" брюссельских выстрелов, до восьмидесяти лет был убежден, что предполагаемая сексуальная связь между Верленом и Рембо — это всего лишь бахвальство двух гениальных мистификаторов, которым нравилось эпатировать "буржуа", главного врага всех художников и литераторов второй половины прошлого века. В подтверждение своего тезиса Делаэ любил ссылаться на эпизод в вокзальном буфете Арраса, когда оба поэта стали вслух рассуждать о готовящихся убийствах и кражах, а перепугавшиеся обыватели вызвали жандармов.
Французские литературоведы долгое время не желали обсуждать эту скользкую тему. Сейчас — с опозданием на пятьдесят лет — оскорбленную невинность строят русские авторы: "И только Верлен был заворожен. Очарован. Порабощен. Кем был ему этот мальчишка? Соузником по мирозданию? Сотрапезником? Сопоэтом? Сожителем (на чем, конечно, вновь и вновь будут настаивать опрятные Нордау)? Бог весть. Ясно одно: это было очередное опьянение, и на склянке, содержавшей новый безумный наркотик, было криво нацарапано: "Артюр Рембо". Конечно, их выжили из Парижа (конечно, они сами себя выжили). И начались пьяные зигзаги по Европе". Комментировать здесь нечего, отмечу только одно — самое несуразное — утверждение: из Парижа поэтов никто не выживал, поскольку в странствия они устремились сами, а совместные "пьяные зигзаги" затронули лишь две европейские страны — Англию и Бельгию.
С появлением документов стало невозможным сохранять фигуру умолчания. Первым о гомосексуальной связи открыто (и доказательно) заговорил Марсель Кулон. В 1930 году было опубликовано так называемое "досье Дюлаэра", куда вошли брюссельские документы: обнаруженные у Верлена при обыске стихотворение "Хороший ученик" и два письма Рембо, а также отобранные следователем у Рембо письма Верлена. Затем в печати появились и другие послания — такие, например, как записочка Верлена от 18 мая 1873 года:
"Братишка, мне многое надо бы тебе сказать, но уже два часа, и я успел набраться. Завтра я, возможно, напишу тебе про все мои планы, литературные и прочие. Ты будешь доволен своей старой хрюшкой…"
Последняя строчка этого послания явно перекликается с "Сезоном в аду" — с воплем Рембо "я полюбил свинью!" Видимо, у обоих друзей было в ходу это прозвище (они вообще любили давать прозвища как друг другу, так и своим знакомым). Поразительно, но по логике такого исследователя, как Станислас Фюме, "свинья" и "хрюшка" все равно остаются олицетворением женского образа в сознании Рембо.
После публикации документов произошло разделение на два лагеря: одни исследователи высокомерно отметали неприятные факты, ибо гениальность списывает все — другие же принялись расчищать накопившуюся грязь, которая норовила выдать себя за "миф". Лучше всех об этом сказал Франсуа Порше: "Гнойник необходимо было вскрыть". Сейчас уже невозможно отрицать очевидное — да и сама гомосексуальная любовь в наше время не столь предосудительна, как была в конце прошлого и в первой половине нынешнего века.
Инициатором любовной связи большинство исследователей склонны считать более опытного и более развращенного Верлена. Далее начинается разноголосица, вызванная необходимостью решить сакраментальный вопрос: кто виновник столь драматического исхода? Биографы Рембо единодушно утверждают, что им был Верлен. Он якобы воспользовался тем, что Рембо по этическим соображениям желал достичь "систематического расстройства всех чувств", и совратил своего юного друга, однако получил в награду лишь презрение. Со стороны Верлена была безумная любовь, со стороны Рембо — только эксперимент, в котором юноша быстро разочаровался. Вот лишь один пример подобной интерпретации (которым несть числа): "Верлен и Рембо — оба неоднократно в стихах и прозе дают… целый ряд самых двусмысленных и противоречивых указаний. С одной стороны, перед нами весьма подозрительная исповедь, с другой — искренняя автобиография, хотя и чудовищно искаженная и полная передержек… Обвинения, выдвигаемые защитниками нравственности, слишком хорошо вяжутся со всем, что мы знаем по другим источникам о жизни Верлена, об его разнузданной чувственности, распутстве и безудержной похотливости. Но это отнюдь не согласуется со всем образом Рембо, с его "головным" темпераментом, холодным эгоизмом и редкой замкнутостью… Позволил ли он вовлечь себя на некоторое время в подозрительную связь, из морального ли безразличия, из любопытства ли "ясновидца", или из легкомыслия, бравады и цинизма — все это недостоверно и, на мой взгляд, мало вероятно, хотя в конце концов и возможно, но, по-моему, не имеет того значения, какое придают этому многие. В ту пору Рембо только что исполнилось семнадцать лет, и, несмотря на свой короткий февральский роман, он — еще настоящий школьник. Его знакомство с половой жизнью не намного больше знакомства подростка, в котором впервые проснулся голос природы. Право, нет никаких оснований кричать о развращенности. Рембо никогда не был рабом привычки, и, разумеется, не он увлек Верлена на путь порока".
Надо сказать, что в данном — единственном — случае биографы Рембо готовы забыть о своем излюбленном противопоставлении "слабовольного" Верлена "несгибаемому" Рембо. Между тем, любая сексуальная связь "по любви" предполагает согласие обоих партнеров. Более того, лидирующая роль Рембо проявилась здесь гораздо сильнее, чем, например, в поэзии: тезис о колоссальном влиянии Рембо на поэтику Верлена является довольно сомнительным, зато в интимных отношениях "активным" партнером чаще выступал не взрослый мужчина, а семнадцатилетний мальчик, который ненавидел (и, скорее всего, не знал) женщин. Его возлюбленный, напротив, был андрогином и по природной склонности отдавал предпочтение гетеросексуальным связям. Добавьте к этому разность темпераментов, внутренние конфликты каждого и внешние обстоятельства — и станет ясно, что катастрофы было не миновать.
Глава четвертая: Две смерти
"Сезон в аду"
"Недоступна мне ваша просвещенность. Я скотина, я негр. Но я могу спастись. А вот вы — поддельные негры, кровожадные и алчные маньяки. Торгаш, ты негр; судья, ты негр; вояка, ты негр; император, старый потаскун, ты негр, налакавшийся контрабандного ликера из погребов Сатаны. — Весь этот сброд дышит лихорадкой и зловонием раковой опухоли".
Сезон в аду: Дурная кровь.
20 июля 1873 Рембо появился в Шарлевиле — из Брюсселя он, скорее всего, шел пешком. Матери в городе не было, и ему пришлось отправиться на ферму. По свидетельству Делаэ, домашние спросили, что у него с рукой, но он отмахнулся от вопроса, бессильно опустился на стул и, схватившись за голову, разразился рыданиями: "Верлен, Верлен!"
Рембо, действительно, переживал кризис отчаяния. Он не поехал в Париж, куда так стремился, и это стало поводом для роковой ссоры. В Арденнах он вновь принялся за "Языческую книгу", которая получила теперь название "Сезон в аду". Он дал прочитать ее матери, но та лишь пожала плечами. Впрочем, она не возражала против намерения сына опубликовать свое сочинение, поскольку Артюр уверял, что это принесет большие деньги. Делаэ он сказал просто:
"От этой книги зависит вся моя судьба".
"Сезон в аду" был издан в Бельгии, в типографии Poot et Cie. Тираж был полностью отпечатан в октябре, и Рембо, получив авторские экземпляры, разослал их друзьям и знакомым — один из них получил Верлен, отбывавший наказание в тюрьме города Монс. Изабель Рембо и Патерн Берришон создали легенду о том, что Рембо будто бы сам уничтожил свое последнее произведение — совершая великий акт самоотречения, он собственноручно сжег все оставшиеся экземпляры книги. В 1901 году бельгийский библиофил Леон Лоссо обнаружил на типографском складе всеми забытые пачки "Сезона в аду" и тем самым развеял вымыслы родственников поэта. Характерно, что Патерн Берришон, узнав неприятную новость, сделал попытку воспрепятствовать ее распространению и первоначально преуспел: влиятельный журнал "Меркюр де Франс" отказался печатать заметку Лоссо.
Рембо не забрал тираж по очень простой причине: у него не было денег, чтобы оплатить типографские расходы. На мать надеяться было бесполезно, а "Неразумная дева" сидела в тюрьме: через два с половиной года Верлен напишет Делаэ, что Рембо сам "убил курочку с золотыми яйцами". Поразительно, но некоторые биографы продолжают свято верить в красивую легенду: "Сказав … "прости" своему прошлому великолепной и полной мрака исповедью, вечно неудовлетворенный поэт уничтожил свое последнее завещание, последний памятник своей литературной жизни".
"Сезон в аду" — это расчет с прошлым и одновременно — стремление избавиться от своих "демонов". Это мучительная попытка разобраться в самом себе и в том, что произошло — но никоим образом не исповедь и не "мемуары". Более всего книга похожа на калейдоскоп лихорадочных и даже истерических видений — образов прошлого, будущего и настоящего. Не удивительно, что биографы Рембо тщательно отмечают "пророчества": в этом вихре воображаемых превращений, действительно, можно разглядеть те, которые станут реальностью. Главной целью книги стало осмысление двойной катастрофы, которой посвящена важнейшая часть "Сезона в аду" — "Словеса в бреду" (или "Бреды"). Они пронумерованы, поскольку речь идет о двух главных наваждениях. Программа "ясновидения" и "алхимии слова" оказалась иллюзией, милосердная попытка "сына Солнца" спасти заблудшего собрата привела обоих к жизненному краху. И остался лишь слабый лучик надежды:
"Я призвал палачей, чтобы в час казни зубами впиться в приклады их винтовок. Накликал на себя напасти, чтобы задохнуться от песка и крови. Беду возлюбил как бога. Вывалялся в грязи. Обсох на ветру преступления. Облапошил само безумие. И весна поднесла мне подарок — гнусавый смех идиота. Но вот на днях, едва не дав петуха на прощанье, решил я отыскать ключ к минувшим пиршествам и, быть может, вновь обрести пристрастье к ним".
Начинается книга с поисков виновных. Первая часть — "Дурная кровь" — посвящена родословной проклятого поэта и его отношениям с Богом. Ответственность за свою судьбу он, прежде всего, возлагает на предков — тех самых галлов, которые подарили ему голубые глаза:
"От них у меня: страсть к идолопоклонству и кощунству; всевозможные пороки — гнев, похоть — о, как она изумительна, похоть, — а также лживость и лень".
За этим следует жалобный вопль ребенка, с которым Бог по непонятным (и, вероятно, злокозненным) причинам не желает разговаривать:
"Царство Духа близко, так отчего же Христос не дарует моей душе благородство и свободу? Увы! Евангелье изжило себя! Евангелье! Евангелье!"
Одновременно в книге выражено упование на Бога (искреннее или издевательское):
"Я поумнел. Мир добр. Я благословлю жизнь. Возлюблю братьев моих. Все это — теперь уже отнюдь не детские обещания. Давая их, я не надеюсь бежать старости и смерти. Бог укрепляет меня, и я славлю Бога".
Рембо причисляет себя к "низшей расе" и с мазохистским наслаждением описывает низменность своей натуры. Он до такой степени воображает себя "негром", что полностью залезает в его шкуру:
"Белые высаживаются. Пушечный залп! Придется принять крещение, напялить на себя одежду, работать".
Но это ничуть не мешает ему чувствовать себя выше других — очень характерный для Рембо "абсолютный" бунт вкупе с опасливой осторожностью крестьянина:
"Калеки и старикашки внушают мне такое почтение, что так и хочется сварить их живьем. — Надо бы исхитриться и покинуть этот материк, по которому слоняется безумие, набирая себе в заложники эту сволочь. Вернуться в истинное царство сынов Хама".
В части, озаглавленной "Невозможное", Рембо находит еще одного виновника катастрофы — западную цивилизацию в целом. В завершающем пассаже намечается новая программа — на сей раз не эксперимента, а спасения:
"Теперь мой дух во что бы то ни стало хочет погрузиться в испытания, выпавшие на долю всечеловеческого духа с тех пор, как пришел конец Востоку… (…) Я посылал к черту мученические венцы, блеск искусства, гордыню изобретателей, пыл грабителей; я возвращался на Восток, к первозданной и вечной мудрости".
Означал ли "Сезон в аду" полный разрыв с поэзией? Автор хранит надежду на что-то "иное" — недаром часть, озаглавленная "Утро", завершается призывом:
"Рабы, не стоит проклинать жизнь".
И далее, в последней части, названной "Прощай":
""Нужно быть безусловно современным.
Никаких славословий, только покрепче держаться за каждую завоеванную пядь. Что за жестокая ночь! Засыхающая кровь испаряется с моего лица, и нет за моей спиной ничего, кроме этого ужасного деревца!.. Духовная битва столь же груба, как и человеческое побоище, но видение справедливости — это радость, доступная лишь Богу.
И однако настал канун. Примем же всякий прилив силы и подлинной нежности. И на заре, вооружившись страстным терпением, вступим в сказочные города.
Что я там говорил о дружеской руке? Слава богу! Я силен теперь тем, что могу посмеяться над старой лживой любовью, заклеймить позором все эти лицемерные связи — ведь мне довелось видеть преисподнюю и тамошних бабенок, — и мне по праву дано будет духовно и телесно обладать истиной".
В этом он заблуждался — вернее, обманывал самого себя. "Духовное" и "телесное" обладание истиной останется лишь мечтой — очень скоро им уже отвергнутой и забытой. На замену придут мучительные поиски своего места в жизни и удручающее обретение его — в качестве коммерсанта, торгующего кофе, кожей, оружием и (возможно) людьми. "Исповедь сверхчеловека", начинающего сознавать тщету своей гордыни, была написана Рембо в канун решающего поворота в его жизни — смерти поэта и появления на свет торговца.
Смерть поэта
"Не у меня ли была когда-то юность — нежная, героическая, сказочная, хоть пиши о ней на золотых страницах? Вот уж удача так удача! За какой же проступок, за какую ошибку заслужил я теперешнюю мою слабость? Пусть попробует пересказать историю моего падения и забытья тот, кто утверждает, будто звери могут плакать от горя, больные — отчаиваться, а мертвецы — видеть дурные сны. Сам-то я ведь не смогу объясниться: стал чем-то вроде нищего, что знает только свои Pater и Ave Maria. Я разучился говорить!"
Сезон в аду: Утро.
В ноябре 1873 года Рембо появился в Париже. Брюссельская история была уже всем известна, и "оклеветанный" (по выражению Эрнеста Делаэ) Рембо чувствовал себя отщепенцем — никто не желал с ним общаться. Нашелся лишь один смельчак, не убоявшийся вступить в разговор с "отверженным": его звали Жермен Нуво, и он был всего лишь на два года старше Рембо. Нуво родился в Провансе и был по-южному красив — орлиный нос, черные волосы, матовый цвет лица. Молодые люди быстро нашли общий язык:
"Он [Рембо] испытывал законную потребность оправдаться перед этим нечаянным другом и уже после второй кружки принялся со всей откровенностью рассказывать о себе. Поэзия его больше не привлекала: он предпочитал путешествовать и намеревался отправиться в Лондон. Он заговорил об Англии, которую ставил выше всех прочих цивилизованных стран: народ там отличается более широкими взглядами и обладает реальным умом; жизнь, организованная по законам высшей логики и силы, способна удовлетворить самые разнообразные потребности. Рембо, не прилагая видимых усилий, всегда умел найти убедительные доводы, и устоять перед его внушениями было невозможно. Жермен Нуво откликнулся сразу же:
— Когда вы едете?
— Завтра.
— Мы поедем вместе!
— Меня это нисколько не стеснит, но должен вас
предупредить, что нам, быть может, придется испытать нужду…
Сын юга, откинув назад свою темноволосую голову и вздернув подбородок, украшенный шелковистой бородкой, лишь пожал плечами и с беззаботной смелостью взмахнул рукой. (…) Я должен добавить, что Жермен Нуво принял внезапное решение сопровождать легендарного человека, который, как говорили, "погубил Верлена", отчасти — и даже во многом — потому, что окружающие считали его роковым существом".
Эрнест Делаэ, несомненно, обладал даром сочинительства. В реальности дело обстояло несколько иначе: новые друзья отправились в Лондон в марте 1874 года. Как и во время путешествия с Верленом, все расходы взял на себя Нуво. Так возникла еще одна "дивная парочка", которая разошлась довольно быстро — в июне того же года. Причины называются разные. Вспыльчивый провансалец не был склонен покорно сносить выходки Рембо. К тому же очень скоро выяснилось, что кошелек у него оказался далеко не таким тугим, как у "старика".
Оба поэта пытались найти работу (давали в газеты объявления об уроках), но без особых результатов. Затем они будто бы устроились в картонную мастерскую, принадлежавшую фабриканту Драйкапу и находившуюся в районе Холборна. Однако английские исследователи не обнаружили никаких следов этого заведения в тогдашнем Холборне и пришли к выводу, что Рембо в очередной раз подшутил над Делаэ. Как бы там ни было, Нуво не выдержал тягот полуголодного существования и уехал из Лондона. Скорее всего, он расстался с Рембо мирно: отношения обоих поэтов и остались в целом дружелюбными.
В Лондоне Рембо завершает или переписывает "Озарения". Вопрос этот вызвал большие споры в критике. Вплоть до появления работы Анри Буйан де Лакота считалось, что эти стихотворения в прозе были созданы в 1871–1872 годах — иными словами, до "Сезона в аду". Это была версия семейства Рембо: разумеется, "отрекшийся от литературы" поэт не мог что-либо писать после своей исповедальной книги. Правда, Верлен в предисловии к первому изданию "Озарений" (1886) утверждал, что они большей частью создавались в 1873–1875 годах, но это не смущало Патерна Берришона и Изабель Рембо — мнением "злодея" можно было пренебречь. Но жизнь доказала правоту Верлена.
Буйан де Лакот, изучив особенности почерка Рембо в разные периоды его жизни, установил, что рукопись "Озарений" датируется 1874 годом. Более того, некоторые из этих стихотворений в прозе были переписаны рукой Нуво. Однако Рембо всегда вносил колоссальное количество поправок в свои прозаические сочинения: он писал тяжело и всегда начинал с очень простых, чтобы не сказать примитивных, фраз — примером могут служить его письма, которые, естественно, не подвергались шлифовке, а также "Сезон в аду", переписанный несколько раз. А в рукописи "Озарений" нет никаких помарок: создается впечатление, что Рембо переписал набело уже готовый текст. Вместе с тем, некоторые из "Озарений" могли быть написаны даже в 1875 году — так считает, например, Ив Бонфуа. Более распространенной является точка зрения, согласно которой Рембо продолжал сочинять стихотворения в прозе после "Сезона в аду", но в 1874 году полностью утратил интерес к литературному творчеству.
Очевидно, что период совместного проживания с Жерменом Нуво явился для Рембо в каком-то смысле решающим. Одновременно это один из самых загадочных этапов в его жизни, от которого не сохранилось почти никаких писем и документов. Обращает на себя внимание приезд матери: что побудило ее отправиться к Артюру? Мадам Рембо очень редко покидала Рош и Шарлевиль: осенью 1891 года она даже не сочтет нужным повидаться с умирающим сыном — а тут вдруг она оставила все свои дела и маленькую дочь и предприняла длительную поездку за границу. Ее сопровождала старшая дочь Витали которая оставила записи об этом единственном в своей жизни путешествии. Встречу с братом она описывает так:
"Мы прибыли на вокзал в Чаринг-Кросс. — Оглушены, удивлены, морально раздавлены, если можно так выразиться, огромными размерами этого места — такого мы даже и представить себе не могли.
Хотя Артюр заранее знал точное время нашего приезда — ведь план нашей поездки был им составлен — он пришел на вокзал Чаринг-Кросс задолго до десяти часов. Он худ и бледен, но ему гораздо лучше, и его великая радость при свидании с нами ускорит выздоровление".
Из этих строк следует, что Рембо вызвал мать в Лондон и что он был болен. Далее Витали сообщает, что они задержались в британской столице дольше, чем намеревались (почти на месяц), ибо этого требовали дела Артюра. Девочке сказали, что брат ее подыскивает место — как только он устроится, можно будет вернуться в Шарлевиль. Между тем, сразу после отъезда матери и сестры Рембо покинул Лондон. Дальше его следы теряются: какое-то время он оставался в Англии (или в Шотландии) и в начале ноября объявился в Рединге, где поместил в газеты объявления с целью получить работу. В Шарлевиль он вернулся в конце декабря. Все это означает, что вскоре после отъезда Жермена Нуво у Рембо произошли какие-то крупные неприятности. Об их характере можно только гадать, но молодому человеку всерьез понадобилась — чуть ли не впервые в жизни — помощь матери. Ясно и другое: после 1874 года Рембо полностью отказался от литературы. Лишь в письме к Делаэ от 14 октября 1875 года он вставил шутливое стихотворение о сырах — но, скорее всего, эти несколько строк относятся к более раннему периоду.
Естественно, проблема "самоотречения" Рембо так или иначе рассматривается в любой посвященной ему книге. Камнем преткновения продолжает оставаться время. Все апологитические биографы стойко придерживаются версии, что "Сезон в аду" явился последним сочинением поэта, который затем демонстративно и вызывающе отказался от литературного творчества. Впрочем, относительно смысла подобной демонстрации апологеты расходятся во мнениях. Патерн Берришон считал главной причиной возврат к христианству: "Сезон в аду" представляет собой пламенное утверждение католической истины. Рембо обрел страстную веру своего детства — об этом свидетельствуют многие пассажи его последнего сочинения:
"Миг пробуждения одарил меня кратким видением невинности! — Дух ведет к Богу!".[71]
Другие биографы настаивают на том, что Рембо исчерпал до конца возможности самой поэзии. Так, Жак Ривьер утверждает, что "Сезон в аду" представляет собой попытку постичь горний мир, оказывающий пагубное влияние на землю: миссией ясновидца было "проникновение в суть божественного и в распространяемый им хаос". Когда эта цель была достигнута, Рембо перестал "видеть" и замолчал навеки. Творчество становится невозможным и ненужным для того, кто "пронзил взором Рай".
Станислас Фюме полагает, что Рембо исполнил свое предназначение: устроив скандал, от которого содрогнулось ненавистное ему общество, он самым драматическим образом покончил с миром богемы и литературы — словом, успешно разыграл трагикомедию "Верлен и Рембо". Более того, он предвидел, как будут заинтригованы этой драмой будущие поколения с их нездоровым любопытством к разного рода психологическим феноменам и алчным интересом к скабрезным подробностям — и с усмешкой предоставил богатейший материал для гипотез самого разного толка. Этой красивой версии несколько противоречит другое утверждение о фатальной роли матери, которой удалось в конце концов подчинить себе свободолюбивую натуру сына.
Жан Мари Карре также уверен, что Рембо все сказал, все перечувствовал и все пережил — в этом же, кстати, и нужно искать объяснение его поразительной грубости по отношению к Верлену. Вместе с тем, к отказу от поэзии привели и другие обстоятельства: "Если он отрекается от литературы, то лишь потому, что безуспешно пытался навязать ей свою волю: она оказалась не в силах удовлетворить его непримиримым, деспотическим требованиям; в неустанной борьбе со словом и звуком, в сумасшедших попытках видоизменить алхимическим путем природу того и другого, сознательно и систематически приводя с этой целью в расстройство все свои чувства, Рембо исчерпал весь запас своего вдохновения, надорвал свои творческие силы".
Интересное объяснение дает русский исследователь творчества Рембо: "Ясновидение" было для него экспериментом, и в какой-то момент он осознал, что зашел в тупик. Отвергнув Бога, он решил найти в собственной душе "невиданное" и "неслыханное", которые в какой-то момент обернулись адской бездной. Отсюда выбор: "либо остаться в этом аду навсегда и, быть может, кончить безумием, либо — коли достанет сил — выкарабкаться обратно на поверхность жизни, причем жизни обыденной, смирить гордыню и отдаться на волю судьбы". Рембо выбрал второе.
В любом случае, решение было окончательным и бесповоротным. В июле 1890 года Лоран де Гавоти, главный редактор марсельской газеты "Франс модерн", направил Рембо письмо следующего содержания:
"Дорогой поэт, я прочел ваши прекрасные стихи и говорю об этом потому, что почел бы за великое счастье, если бы вождь декадентской и символистской школы согласился сотрудничать в возглавляемой мною "Франс модерн". Будьте же с нами. Заранее безмерно благодарю вас с чувством преклонения и симпатии".
Рембо не счел нужным даже ответить. Высказывалось предположение, что его не соблазняла перспектива печататься в марсельской газетенке — однако он готов был сотрудничать даже с "Арденнским вестником", изданием куда более жалким. У Рембо имелись планы, связанные с публикацией дорожных впечатлений и географических описаний, но к поэзии это никакого отношения не имело. Скорее всего, его креативная способность совершенно иссякла: сознавая это, он не сделал ни малейшей попытки вернуться в литературу, хотя величание его "вождем декадентской и символистской школы", вероятно, польстило Рембо — иначе он вряд ли сохранил бы письмо Гавати.
Поиски "места в жизни"
"Я, возомнивший себя магом или ангелом, свободным от всякой морали, повергнут на землю, вынужден искать призвание, любовно вглядываться в корявое обличье действительности! Стать мужиком! Не обманулся ли я? Быть может, доброта еще покажется мне сестрою смерти? А теперь попрошу прощения за то, что кормился ложью. И в путь".
Сезон в аду: Прощай.
Январь 1875 года Рембо провел в Шарлевиле. Ему хотелось изучить немецкий язык, и он поехал в Германию, заручившись согласием матери и даже (в кои-то веки!) получив от нее небольшую денежную поддержку. Некоторые исследователи высказывают предположение, что желание заниматься языками возникло вследствие отказа от поэзии и само по себе было признаком утраты поэтического вдохновения — Рембо мог творить только на французском и не допускал в свой внутренний мир чуждую речь. При всей остроумности этой версии согласиться с ней трудно — изучение английского, например, во время первого пребывания в Лондоне с Верленом не мешало творчеству.
В феврале вышедший из тюрьмы Верлен вступил в переписку с Делаэ с целью узнать адрес Рембо. Делаэ, следуя указаниям последнего, карт не раскрывал. Затем Рембо все же решил пойти навстречу бывшему другу:
"Мне все равно! Так и быть, дай мой адрес Лойоле!"[72]
Верлен немедленно примчался в Штутгарт, где и произошло свидание двух бывших друзей. Рембо с нарочитой иронией рассказывает об этом в письме к Делаэ:
"Верлен явился с четками в лапах… Через три часа от его бога отреклись и заставили кровоточить все 98 ран Нашего Спасителя. Он пробыл здесь два с половиной дня, вел себя очень разумно и по моему настоянию вернулся в Париж, чтобы затем завершить свои штудии там, на острове".
Отметим сразу одну маленькую неточность: в момент встречи Верлен уже твердо решил отправиться в Англию и вряд ли на его решение повлиял именно Рембо.
Как же все происходило в действительности? Делаэ излагает свою версию встречи. Верлен и Рембо отправились на берег реки. Оба изрядно выпили, и разговор почти сразу пошел на повышенных тонах. Затем спор перерос в драку:
"К счастью, у противников не было ни револьвера, ни ножа, ни даже палки. Рембо был выше и сильнее, но чувствовал, что бред другого может быть опасен; гибкий, нервный, подогретый алкоголем Верлен обезумел от ярости, унижения, отчаяния, ибо сознавал, что после полутора добродетельных лет Сатана вновь одержал над ним победу. Он жаждет наносить и получать удары, продолжать борьбу до бесконечности… Наконец он падает в полном изнеможении, потеряв сознание, и остается лежать на берегу, а Рембо, которому также изрядно досталось, кое-как добирается до города. На рассвете… крестьяне находят полумертвого человека, переносят его в свою бедную хижину, ухаживают за ним и возвращают к жизни".
Верлен уехал из Штутгарта парижским поездом, так и не повидавшись с Рембо. Биографы последнего обычно принимают на веру рассказ Делаэ: "Эта последняя встреча Верлена и Рембо оказалась не слишком-то красивой".
Между тем, некоторые обстоятельства с версией Делаэ не согласуются. Верлен увез с собой "Озарения" — стихотворения в прозе, которые Рембо просил передать Жермену Нуво (молодой провансалец находился тогда в Брюсселе и будто бы намеревался издавать сочинения своего друга). Возникает вопрос, когда Верлен получил рукопись — до стычки с Рембо или после? Поручение Рембо он выполнил и даже попытался проследить за тем, как пойдут дела у Нуво. Апрельское письмо к Делаэ, отправленное из Стикни, не оставляет в этом никаких сомнений:
"Ты знаком с Нуво. Что он из себя представляет? Как у этого господина с моралью? Ответь. И вообще все сведения о Штутгарте, которые у тебя имеются".
Делаэ был удивлен вопросами Верлена, и тот счел нужным (в письме от 1 мая) объяснить свой интерес:
"… этому Нуво я переправил оговоренное (заплатив 2 франка 75 сантимов!), приложив, естественно, вежливое послание, на которое он ответил не менее вежливо, так что мы находились с ним в переписке, пока я не уехал из Лондона сюда. (…) Больше я ничего не сделал по многим причинам, из которых ты без труда угадаешь главные и САМУЮ главную — безразличие. Но мне не хотелось бы выглядеть в глазах означенного господина этаким сукиным сыном, который вдруг ни с того ни с сего перестал писать… если бы я был уверен, что он не подвергнет бесчестью мой адрес, то немедля загладил бы свое небрежение щедрым взмахом пера, вот только нынешний его насест мне не известен.
Ты, безусловно, мог бы, коль скоро ты пишешь (возможно) в Штутгарт, выманить, не говоря для кого, теперешний адрес этого самого Ж.Нуво и прислать его мне. Впрочем, меня все это не особенно волнует".
Долгое время считалось (это утверждение полностью не опровергнуто и по сию пору), что штутгартское свидание показывает, насколько глубоко Рембо презирал Верлена: он безжалостно (и даже грубо) отверг все мольбы последнего о прощении и навсегда устранил его из своей жизни. Трудно винить Делаэ за то, что он приводит явно искаженную версию встречи, поскольку источником для него, несомненно, послужили рассказы Рембо. Лишь публикация писем прояснила вопрос. "Нежелание" Рембо давать свой адрес Верлену объяснялось, судя по всему, меркантильными соображениями: он надеялся довести бывшего друга до нужной кондиции, чтобы заставить раскошелиться. Поэтому Верлен, перебравшись в Англию, в свою очередь решил утаить от Рембо свой адрес, хотя и проявлял большой интерес к его перемещениям. Артюр осаждал его — через посредничество Делаэ — назойливыми требованиями денег. В октябре 1875 года Верлен пишет Делаэ из Лондона:
"Дорогой друг,
Получил твое прекрасное письмо и чудестный рисунок. Благодарю тебя за восхитительные советы. Будь спокоен. Католический взгляд проницателен; привычка к исповеди обостряет способность к анализу; одной из христианских добродетелей является Предусмотрительность. Впрочем, в этой стране друзья не нужны. Следует знать манеру выражаться, вот и все. Безупречные вежливость и работа — таким, по моему мнению, должно быть мое поведение по отношению к другим и к себе самому. Лишь самым хорошим друзьям — мне следовало бы сказать, самому хорошему другу — мои признания и моя откровенность.
Обсудим проблему Рембо. Во-первых, я сделал все, чтобы с ним не поссориться. В моем последнем письме к нему последним словом было: "Сердечно". И я в деталях объяснил ему все мои арифметические резоны, не позволяющие посылать деньги. Он ответил мне: 1. Наглыми выпадами с туманными намеками на шантаж; 2. Аптекарскими счетами, из которых следовало, что мне необходимо совершить добрый поступок и ссудить ему указанную сумму. Не говоря уж о том, что накарябано все это человеком мертвецки пьяным, он, похоже, ставит мне условия: буду, мол, писать, если ты "раскошелишься", а иначе иди к черту. Словом, эта попытка использовать мою прежнюю дурость, мое преступное безумие, ибо совсем еще недавно я жил только им одним и его дыханием, плюс совершенно невыносимая грубость ребенка, которого я слишком избаловал, за что он платит мне — о, логика! О, справедливость всего сущего! — самой идиотской неблагодарностью. Ибо разве не убил он курочку с золотыми яйцами?
Итак, я с ним не ссорился. Я жду извинений, но ничего не обещаю. А желающие дуться пусть дуются. Разве я не прав? Вообще-то, он ничего хорошего мне не сделал, этот филомат![73]
За восемнадцать месяцев сам знаешь чего,[74] мой небольшой капиталец сильно пострадал, мой семейный очаг разрушен, мои советы отвергнуты, и в довершение всего это дикое хамство — благодарю покорно! И все же не могу не сожалеть о нем с этими его нынешними идеями, которые неизбежно сделают из него чудовище бессилия, бесплодия и бессмысленности! (…)
Как видишь, я все больше и больше успокаиваюсь и наконец-то начинаю сознавать — что совсем неплохо — насколько слабоумным было мое поведение за эти два года, проведенные в Брюсселе и Лондоне с человеком, который — ты убедился бы в этом, если бы попал в подобную переделку — полностью замкнут на себе, застегнут на все пуговицы, преисполнен самого свирепого эгоизма… Сейчас я вижу все гораздо лучше, потому что обманываться больше не намерен. Если кто-то принимает грубость за силу, злобу за политику, а мошенничество — это его слово — за ловкость, то он, черт побери, по сути, не что иное как хам и подонок, который в тридцать лет превратится в гнусного и вульгарного буржуа — разве что ему преподнесут славный урок в духе моего… И покончим на этом. Но запомни мои слова. Ты увидишь. (…)"
Письмо показывает, что Делаэ прекрасно знал доводы Верлена и отчасти соглашался с ними. В июле он сообщает Полю, что тот не одинок в навязанной ему роли мецената:
"Рембо по-прежнему пытается вымогать деньги у тех немногих друзей, которые у него остались".
Однако логика апологетической биографии требовала устранить подобные досадные детали, и для публики Делаэ сочиняет совсем иной эпилог штутгартской встречи:
"Окончательного разрыва между двумя поэтами не произошло. Верлен, в Англии, Рембо, вернувшись в Шарлевиль, продолжали переписываться. Особым же обстоятельством здесь было то, что на сей раз Верлен не желал давать свой адрес. Посредником служил общий друг [сам Делаэ]. Рембо передавал ему письма и через него получал ответные послания. Автор "Пьяного корабля" уже давно смирился с тем, что ничему на свете нельзя удивляться, и, будучи всегда крайне деликатным в дружбе, не хотел перечить старому товарищу — хотя и говорил, что это очень странная система. А затем Верлен совсем перестал писать".
В действительности, 12 декабря 1875 года Верлен отправил Рембо послание — якобы из Лондона, хотя на самом деле находился в Стикни. Это было его последнее, прощальное письмо:
"Дорогой друг,
Я не писал тебе, вопреки своему обещанию (если память меня не подводит), поскольку — не стану скрывать — ждал от тебя более или менее удовлетворительного письма. Нет послания, нет ответа. Сегодня я нарушил это долгое молчание, чтобы еще раз подтвердить то, о чем писал тебе примерно два месяца тому назад.
Я все тот же. Непреклонно верен религии, ибо это единственная мудрая и добрая вещь. Все остальное — это обман, злоба, глупость. Церковь создала современную цивилизацию, науку, литературу; она же создала и Францию, вот почему Франция умирает, порвав с ней. Это совершенно ясно. И Церковь также создает людей, творит их — поражаюсь, как ты не видишь этого, ведь это так очевидно. У меня было восемнадцать месяцев, чтобы обдумать это со всех сторон, и могу тебя заверить, что я держусь за это так, как утопающий хватается за соломинку. И семь месяцев, проведенных у протестантов, только укрепили меня в моем католицизме и легитимизме, в моем безропотном мужестве.
Безропотном в силу той превосходной причины, что я чувствую, ощущаю себя наказанным и униженным по справедливости; чем более жестоким был урок, тем сильнее оказалась благодать и необходимость склониться перед ней. Невозможно, чтобы ты воспринимал это как позу или уловку. (…) Я остался прежним. И сохранил прежнее (но преображенное) чувство к тебе. Мне хотелось бы, чтобы истина открылась тебе и чтобы ты стал размышлять. Для меня большое горе видеть, какую идиотскую жизнь ты ведешь — ведь ты так умен, так готов уже (хотя тебя самого это могло бы удивить)! Я взываю к твоему отвращению перед всеми и перед всем, к твоей вечной ярости против всего — ярости глубоко справедливой, хотя и бессознательной, ибо она жаждет получить ответ на вопрос "почему".
Что касается денег, ты не можешь не признать, что я человек в высшей степени щедрый, это одно из моих редких достоинств — или, если хочешь, один из моих многочисленных пороков. Но мне необходимо, путем строжайшей экономии, хоть как-то залатать огромную брешь, пробитую нашей абсурдной и постыдной жизнью три года назад. Наконец, мне следует подумать о моем сыне и поступать в соответствии с моими новыми, непреклонными представлениями о жизни. Ты должен ясно понять, что я не могу содержать тебя. Куда пойдут мои деньги? На девок и кабаки? Уроки игры на фортепьяно? Не смеши меня! Да разве твоя мать отказалась бы платить за них?
В апреле ты присылал мне такие злобные и подлые письма, что я не рискую давать тебе мой адрес (хотя все попытки навредить мне просто смешны и заранее обречены на провал, и будут, сверх того, предупреждаю тебя, опровергнуты в законном порядке с доказательствами в руках). Но эту гнусную перспективу я отметаю. Уверен, это был просто твой "каприз", нечто вроде мозговой травмы, которая пройдет, если ты хоть немного подумаешь. Но осторожность является матерью безопасности, и ты получишь мой адрес лишь тогда, когда я буду полностью в тебе уверен… Бесполезно писать мне till called for[75]".
Эти письма Верлена представляют совершенно иную картину штутартской встречи. Весьма вероятно, что ссора или даже драка имели место — это было вполне обычно для отношений двух поэтов. Но не было никакого горделивого отречения Рембо от былой дружбы — напротив, именно Верлен устранил Рембо из своей жизни тем, что не пожелал больше содержать его. Предметом спора, вполне возможно, была религия, ибо Рембо правильно угадал главную угрозу в "обращении" своего друга — истовая вера Верлена надежно закрыла его кошелек.
Одновременно алчность подвела жирную черту под литературным творчеством Рембо — поэт умер, когда на первый план вышли деньги. Лишившись материальной поддержки, он лихорадочно ищет способы заработать — или украсть. Собственно, второй вариант казался ему предпочтительнее, и это могло плохо закончиться, если бы спасительный страх перед полицией не сдерживал его. О разительном изменении взглядов прежнего "бунтаря" свидетельствует письмо к матери от 17 марта 1875 года:
"Я занимаю большую комнату, отлично меблированную, в центре города, и плачу за нее 10 флоринов, т. е. двадцать один франк пятьдесят сантимов вместе с услугами; можно иметь полный пансион за 60 франков в месяц, но это мне совсем не улыбается, так как все эти комбинации, какими бы они ни казались экономными, всегда сводятся к плутням и к зависимости от хозяйки…"
Меняются именно взгляды, а не отношение к деньгам: в сущности, Рембо всегда был прижимист, как и подобает крестьянину (а также достойному сыну своей матери) — его переписка с Верленом не оставляет на сей счет сомнений.
После недолгого пребывания в Штутгарте начинается самый темный период в жизни Рембо: с 1875 по 1878 год он почти никому не пишет и о своих приключениях сообщает только Делаэ, которому приходится верить на слово — ибо записанные школьным другом рассказы большей частью не поддаются проверке. Только уехав на Восток, Рембо вступает в активную переписку с родными, и по этим посланиям можно без труда проследить за перипетиями его торговых операций.
Итак, в мае 1875 года Рембо покидает Германию и пешком отправляется на юг — в Швейцарию, а оттуда в Италию. Подробности путешествия почти не известны — за исключением того, что в Милан Рембо пришел крайне усталый и голодный. Вскоре он слег, и за ним ухаживала некая женщина: Патерн Берришон уверял, что это была молодая интересная дама, которая безумно влюбилась в романтичного странника, тогда как Эрнест Делаэ утверждал, что некая пожилая сеньора приютила бедного юношу, проникшись к нему чисто материнским состраданием. Что касается Верлена, то он предпочел версию о вдовушке приятной наружности и не слишком строгих нравов.
Выздоровев, Рембо двинулся пешком в Бриндизи, но получил солнечный удар, и его отправили на родину по распоряжению французского консула в Ливорно. В Марселе Рембо сначала работал грузчиком в порту, а потом решил завербоваться в карлистскую армию, воевавшую в Испании: возможно, к этому толкнуло его воспоминание о Брюсселе — когда Верлен написал ему в Лондон, что либо покончит с собой, либо пойдет добровольцем на испанскую войну. Забрав вербовочные премиальные, Рембо поспешно покинул Марсель. Сведения об этом исходят от Эрнеста Делаэ:
"Он [Рембо] вступает добровольцем в отряд карлистов и возвращается в Париж с премией".
Патерн Берришон и Изабель разошлись во мнениях относительно достоверности этого эпизода. Первый поддержал Делаэ:
"Он согласился стать военным. Как же случилось, что, получив вербовочные премиальные, он поехал не на службу к дон Карлосу, а, напротив, сел на парижский поезд? Это объясняется тем, что, когда он утолил голод, совесть напомнила ему об ужасах войны".
Изабель отвергла эту версию категорически:
"Параграф, посвященный карлистской вербовке, является неоспоримой фантазией… В июне, июле, августе мы (моя мать, сестра и я) были в Париже вместе с ним и, когда покинули его в конце августа, он только что получил место репетитора в Мезон-Альфор".
Из дневника Витали следует, что обе сестры и мать отправились в Париж 14 июля (а не в июне, как утверждала Изабель) — в это время Артюр, действительно, уже был в столице. У него было достаточно времени, чтобы провернуть небольшое дельце с глупыми вербовщиками, хотя это могло быть и выдумкой — не исключено, что ему просто захотелось в очередной раз поразить наивного школьного товарища. О своем пребывании в Париже он рассказывал Делаэ столь красочно, что тот счел нужным оповестить Верлена:
"… этот конец, о котором мы говорили, наступит в больнице для умалишенных: мне кажется, что он именно туда и метит. Объяснение, впрочем, простое: алкоголь. Несчастный хвастается, с удивительной для него словоохотливостью, что в Париже он дал пинка под зад абсолютно всем.
Но заметь следующее: поведение Нуво внушает ему беспокойство и недоверие; он знает, что тот вернулся к себе и собирается писать ему, чтобы потребовать оъяснений. Тебе следует его предупредить.[76] — Что касается тебя, ты скряга… В Париже он заходил к твоей матери. Портье сказал ему, что она в Бельгии".
Ничего не добившись в столице, Рембо вернулся в Шарлевиль. Тогдашние его настроения описаны Делаэ:
"Для него весь мир состоит из одних сволочей и себя самого он также невысоко ставит".
14 октября Рембо пишет своему другу, который устроился преподавателем в коллеж Нотр-Дам городка Ретель:
"Неделю тому назад получил открытку и письмо В[ерлена]. Чтобы упростить дело, я попросил на почте посылать мне на дом все письма до востребования, так что пиши мне прямо сюда… Не хочу комментировать последние грубые выходки Лойолы и ничего больше не буду предпринимать с этой стороны, так как 3 ноября, похоже, будет призвана очередная "порция контингента 1874 года"…[77]
Небольшая услуга: скажи мне точно и определенно, в чем состоит нынешний экзамен на бакалавра "естественных наук"… будь добр, объясни мне как можно лучше, что для этого нужно сделать…"
Грубые выходки Верлена, о которых говорится в письме — это либо религиозные стихи, которые обратившийся в католичество поэт посылал бывшему другу через Делаэ, либо нравоучительные наставления вкупе с отказом давать деньги. Что же касается опасений по поводу воинской службы, то от этого страха Рембо не избавится до конца жизни: даже после ампутации ноги и позднее — на смертном одре — ему будет мерещиться, что его вот-вот призовут или поволокут в тюрьму за уклонение от призыва. Пока старший брат Фредерик находился в армии, ему ничто не угрожало — он имел право на отсрочку. Но пять лет (действующий тогда срок службы) не могли продолжаться вечно, поэтому Рембо испытывал постоянную тревогу. В этом же письме он недвусмысленно говорит о своем намерении получить степень бакалавра — прошло всего четыре года с того времени, когда подобные вещи внушали ему отвращение.
Всю зиму он занимался изучением языков, и это породило легенды о блестящем полиглоте. Так, Луи Пьеркен возвел научные занятия своего друга в ранг героических подвигов и помянул среди прочих такие языки, знание которых Рембо никак не сумел продемонстрировать:
"Чтобы ничто не отвлекало его, он забирается в огромный шкаф и просиживает там иногда целые сутки без пищи и питья. Сегодня он занят итальянским, завтра русским или новогреческим, голландским или индусским. Он неутомим. Все это кажется ему полезным, практически необходимым для путешествий, которые он собирается предпринять".
Какой именно "индусский" язык изучал его друг, Пьеркен не уточняет — возможно, пребывая в уверенности, что в Индии существует только одно наречие.
В отличие от шарлевильских провинциалов, Верлен не испытывал никакого пиетета перед этими научными штудиями, ибо считал их совершенно бесполезными для литературного творчества и приходил в ужас от мысли, что поэт — поэт! — способен пожертвовать своим даром ради какого бы то ни было учебного заведения. 17 ноября он пишет Делаэ:
"Какой тупице… пришло в голову посоветовать Политехническую школу (это слишком несправедливо, слишком несправедливо, и мне хочется выть от бешенства…"
1875 год оказался несчастливым для семейства Рембо: в декабре в возрасте семнадцати лет умерла Витали, младшая сестра Артюра. Официальный (или семейный) диагноз гласил, что причиной смерти стал артрит. По свидетельству Делаэ, его друг тяжело переживал эту мучительную кончину:
"Полагаю, именно этим нравственным потрясением, а не исступленными и разнообразными занятиями, объясняются ужасные головные боли, от которых он тогда страдал. Приписав их слишком густым волосам, он прибег к очень своеобразному методу лечения: побрился наголо…, причем парикмахер согласился это сделать только после тысячи удивленных и негодующих восклицаний. И Рембо присутствовал на похоронах сестры с головой белой, словно чистый лист бумаги, так что присутствующие, стоящие чуть поодаль, говорили друг другу: "У брата волосы, как у старика".
Позднее Изабель Рембо присвоит Витали звание "святой", ибо сестра по собственной воле решила претерпеть тот же недуг, который затем погубил Артюра — она пыталась возвестить о будущем несчастье, но, увы, пророчеству ее никто не внял.
В период с 1875 по 1880 год Рембо сменил около тридцати шести профессий и ни в одной не преуспел.
В мае 1876 года он записывается в голландские колониальные войска: его направляют в Батавию, откуда он дезертирует и возвращается в Европу на английском паруснике. Существует несколько версий этого путешествия, и самая фантастическая принадлежит Изабель Рембо:
"Знакомый ему по Лондону голландец, поступивший в колониальную армию, в один прекрасный день описал ему прелести Явы и побудил его отправиться вместе с ним. Желая как можно более экономно совершить это путешествие, Рембо поступил юнгой на корабль, увозивший его приятеля…"
Патерн Берришон в данном случае более точен: приманкой послужили тысяча двести франков премиальных за вербовку, из которых половину должны были выдать авансом. Уточнения в этот рассказ были внесены позднее: Рембо завербовался в колониальную армию 26 мая и подписал договор на шесть лет с жалованьем в триста флоринов. В порту Гельдера рекрутов ожидал пакетбот "Принц Оранский", который вышел в море 10 июня. Плавание продолжалось две недели, и 23 июля корабль вошел в Батавскую гавань. Рембо оказался в первом пехотном батальоне, который стоял в Салатиге, в центре Явы, на склонах Мербабоэ на высоте шестисот метров. 15 августа новоявленный солдат покинул свою казарму навсегда.
Самое забавное описание бегства Рембо принадлежит, конечно же, перу Патерна Берришона, который для начала изобразил в патетических тонах дезертирство:
"Чтобы избежать варварской расправы военных властей и угрожавшей ему виселицы, он был вынужден укрыться в страшных девственных лесах, где он научился у орангутангов, как спасаться от тигров и змей".
Бедный Патерн не знал, что на Яве нет орангутангов: они водятся лишь на Суматре, где Рембо никогда не был. "Варварство" властей можно целиком оставить на совести автора агиографической биографии: по голландскому военному уставу смертная казнь дезертирам отнюдь не угрожала.
Следующий героический поступок относится ко времени возвращения Рембо в Европу на английском корабле:
"После того, как обогнули мыс Доброй Надежды, на горизонте показались очертания острова Святой Елены. Наш дезертир требует причалить к нему. Капитан отказывается. Тогда, почти совсем не умея плавать, Рембо бросается в море, чтобы добраться до острова, освященного изгнанием Наполеона. Пришлось моряку прыгнуть вслед за удальцом, чтобы насильно вернуть его на борт".
Поразительно, но Берришон совершенно не замечает, насколько комичной выглядит эта сцена. Еще более удивительно, что эту версию с полной серьезностью обсуждают солидные биографы: так, Жан Мари Карре теряется в догадках, почему Рембо с его "антимилитаризмом" проникся таким почтением к памяти Наполеона, и приходит к выводу, что дело объясняется "безудержным любопытством".
Отчего все-таки Рембо дезертировал? Сам он не оставил никаких заметок о своем приключении. Индийский океан, судя по всему, не произвел на него никакого впечатления — куда лучше было грезить о нем, сочиняя "Пьяный корабль". Жан Мари Карре красочно описывает постигшее любимого поэта разочарование: "Как? Это и есть волшебный, благоуханный остров, о котором он некогда мечтал? Заурядный голландский городишко, утопающий в болоте, со своими прямыми улицами, лавками, чинно расположенными друг против друга, с мрачными, загрязненными каналами. (…) К счастью, за чертою города начинается буйная тропическая флора: кокосовые пальмы, бананы, бамбук, бетель, водяные пальмы с перистыми листьями…". Увы, весьма сомнительно, чтобы у Рембо вызвали какие-то эмоции как "заурядный городок", так и "буйная тропическая флора". Скорее всего, он быстро убедился в тяготах военной службы и здраво рассудил, что триста флоринов того не стоят. Излишне говорить, что вербовочные премиальные остались при нем — эти деньги, естественно, ему были нужнее, чем голландским властям. 31 декабря 1876 года он вновь оказался в Шарлевиле, куда добрался окольным путем: через Голландию в Бордо, а оттуда пешком в Арденны.
В апреле 1877 года он приезжает в Вену, с большим трудом умолив мать дать ему денег на билет (под предлогом совершенствования в немецком языке). В Вене он нанимает коляску и угощает возницу вином, а тот знакомит его со своими приятелями, которые оказались элементарными ворами. В результате Рембо, лишившись пальто и кошелька, просит милостыню возле церкви святого Стефана, продает кольца для ключей и шнурки для ботинок. Далее происходит столкновение с полицейским, которое начинается с ругани и завершается дракой. Австрийцы берут его под стражу и высылают из страны. Рембо вновь возвращается в Арденны, а затем пешком отправляется в Германию. Если верить Делаэ, в это время у него возник очередной план разбогатеть:
"… раньше вербовали его, теперь он сам займется вербовкой. Благодаря знанию немецкого языка, ему удается в одной кельнской пивнушке завязать разговор с рекрутами; те знакомят его со своими товарищами — и вот уже дюжина прусских солдат продана в Голландию. Им достаются премиальные, ему — очень симпатичные коммиссионные".
Рембо также предпринимает еще одну попытку разжиться за счет военных. К числу немногих сохранившихся документов этого времени принадлежит отправленное им 14 мая 1877 года прошение в консульство США в Бремене:
"Нижеподписавшийся Артюр Рембо — Родился в Шарлевиле (Франция) — 23 года — Рост 5 футов 6 дюймов — Абсолютно здоров — Бывший преподаватель естественных наук и иностранных языков — Недавно дезертировал из 47 полка французской армии — В настоящее время в Бремене без всяких средств к существованию, — Французский консул отказал в какой бы то ни было помощи.
Желает узнать, на каких условиях он мог бы немедленно завербоваться в американский флот.
Говорит и пишет на английском, немецком, французском, итальянском и испанском.
Провел четыре месяца в качестве матроса на борту торгового шотландского корабля, от Явы до Квинстауна, с августа по декабрь 76".
Просители обычно стараются представить себя в привлекательном свете, поэтому нас не должны удивлять натяжки и неточности — за исключением одной. Рембо дезертировал из голландской армии: что же касается 47 пехотного полка французской армии, то в 1852 году там служил некий капитан Рембо — Фредерик, отец Артюра.
Не получив ответа от американцев, Рембо отправляется в Гамбург. В этом городе гастролирует знаменитый цирк Луассе, которому требуется переводчик и зазывала — Рембо берется за эту работу. В составе бродячей труппы он разъезжает по ярмаркам Швеции и Дании. По его просьбе французский консул в Стокгольме помогает ему вернуться на родину. Пасху он встречает в Париже, затем уезжает в Марсель, где работает грузчиком, чтобы купить билет до Александрии. Оказавшись на корабле, он серьезно заболевает, и ему приходится сойти на берег в Чивита-Веккья. Диагноз был поставлен такой: гастрическая лихорадка — воспаление стенок желудка в результате трения брюшины о ребра (следствие неумеренной ходьбы). Это заболевание привлекло внимание исследователей, пытавшихся определить причину ранней смерти Рембо. По выздоровлении он направляется в Рим, а на зиму возвращается в Шарлевиль.
Весной 1878 года Рембо вновь приезжает в Гамбург: он надеялся получить там работу в фирме колониальных товаров. Это ему не удалось, и он отправился пешком в Швейцарию — через Вогезы и Сен-Готар. В письме к родным от 17 ноября имеется подробное описание перехода — именно с этого времени Рембо начинает информировать семью о своих намерениях и передвижениях. Отправившись из Швейцарии в Италию, он добирается до Генуи, где 19 ноября садится на пароход, отходящий в Александрию. В декабре он сообщает о своих планах в письме к матери:
"… Я кручусь здесь уже две недели, и лишь сейчас дела мои пошли на лад! В скором будущем я получу место; и я уже работаю достаточно, чтобы жить на свой заработок — правда, очень скромно. Либо я устроюсь на крупной земледельческой ферме в нескольких десятков лье отсюда (я там уже побывал, но в ближайшие недели там ничего не будет), либо поступлю на хорошее жалованье в англо-египетскую таможню, либо — это вероятнее всего — уеду на Кипр, английский остров, в качестве переводчика при рабочей артели. Во всяком случае, мне кое-что обещали; и в основном я имею дело с одним французским инженером — человеком талантливым и любезным. Только вот от меня требуют следующее: записочку от тебя, мама, и свидетельство о благонадежности, выданное мэрией. Ты должна написать так:
"Я, нижеподписавшаяся, в замужестве Рембо, владелица фермы в Роше, заявляю, что мой сын Артюр Рембо до недавнего времени работал у меня на ферме, что он покинул Рош по собственной воле 20 октября 1878 года, что он вел себя достойно как здесь, так и в других местах, что в настоящее время он не подпадает под действие закона о военной службе".
И свидетельство мэрии, которое нужнее всего.
Без этой бумаги мне не получить постоянного места, хотя временную работу, полагаю, найти сумею. Но ни в коем случае не говорите, что я бывал в Роше наездами, потому что от меня потребуют дополнительных сведений, и это не закончится никогда; кроме того, люди с фермы поверят, что я способен управлять рабочими…"
Много воды утекло со времен яростного "бунта", и очень показательно, что отныне Рембо обменивается письмами только с родными — все прежние привязанности забыты и словно вычеркнуты из памяти вместе с поэзией. Это уже другой человек: больше всего он опасается, что его примут за бродягу — и жаждет застраховаться от этого с помощью свидетельства официальных властей. Не случайно Эрнест Делаэ особо выделил конец 1878 года:
"С этого времени он ведет упорядоченную жизнь".
В Александрии Рембо провел две недели, а затем отправился на Кипр. 16 декабря он поступил на службу во французскую фирму Тиаль, Жан и Ко на должность управляющего каменоломней с жалованьем в 150 франков в месяц. Условия жизни описаны в одном из писем к родным:
"Здесь ничего нет, кроме хаотического нагромождения скал, реки и моря. Только один дом. Никаких земельных участков, никаких садов, ни единого дерева. Летом жара в 80 градусов. Сейчас часто доходит до пятидесяти. Зимой. Иногда идет дождь. Питаемся дичью, курами и проч. Все европейцы, кроме меня, переболели. В лагере нас, европейцев, было не больше двадцати. Первые приехали 9 декабря. Трое или четверо умерли. Рабочие-киприоты приходят из окрестных сел; мы набирали до шестидесяти человек на день. Я ими руковожу: назначаю задания, распределяю инвентарь, составляю рапорты для Компании, определяю стоимость питания и прочие расходы; выплачиваю зарплату; вчера я выдал рабочим-грекам пятьсот франков.
Мне положено в месяц, думаю, около ста пятидесяти франков: пока я получил всего лишь около двадцати…".
Рембо живет в бараке на берегу моря, сам готовит пищу, занимается охотой и рыбалкой. В один прекрасный день его жилище ограбили и унесли все деньги. В письмах он уверяет, что сумел уладить дело: нашел виновных и уговорил вернуть награбленное, взывая к их совести и чести. Впрочем, в письме от 24 апреля 1879 года упоминается о каких-то конфликтах:
"Я по-прежнему управляю каменоломней Компании: слежу за производством взрывов, добычей и обтесыванием.
Очень жарко. Идет покос. Ужасно страдаю от блох — и днем, и ночью. Вдобавок еще москиты. Приходится спать у самой воды, в пустынном месте. У меня были столкновения с рабочими, и мне пришлось затребовать оружие".
На Кипре стоит необыкновенно знойная и влажная весна. Рембо, испытывая постоянную жажду, пьет солоноватую воду и в июне заболевает. Ему приходится немедленно вернуться во Францию через Марсель, где он садится на поезд, идущий в Вузье. В Роше ему ставят диагноз — брюшной тиф. Здесь он после долгого перерыва повидался с Эрнестом Делаэ, который был изумлен произошедшими с его другом переменами:
"Когда я постучался, он сам открыл мне маленькую деревенскую дверь, и тут же лицо его, омраченное постоянными заботами, озарилось дружеской улыбкой. Единственное, что я узнал сразу, были его глаза — такие необыкновенно красивые! — голубые, окруженные темно-синим кольцом. Некогда круглые щеки осунулись, впали, утратили былую нежность. Свежий румянец, очень долго делавший его похожим на английских детей, за эти два года сменился сильным загаром, и на его коричневом лице кудрявилась — это было совсем неожиданно и рассмешило меня — русая бородка, сильно запоздавшая со своим появлением, ведь ему было почти двадцать пять лет. Говорят, это присуще людям сильной расы. Другим признаком полной физической возмужалости был голос, утративший нервный, немного детский тембр, каким я его знал до сих пор, и ставший глубоким, внушительным, проникнутым спокойной уверенньстью.
Вечером, после ужина, я рискнул задать ему вопрос, думает ли он все еще… о литературе. Он покачал головой, усмехнувшись весело и в то же время раздраженно, как если бы я спросил: "Ты по-прежнему играешь в серсо?", и ответил просто: "Я больше этим не занимаюсь".
На следующий день друзья отправились на прогулку, хотя Рембо чувствовал себя на родине неуютно: климат казался ему прохладным, и он ежился при порывах ветерка. Когда Делаэ напомнил ему, как они подолгу ходили по зимнему заснеженному лесу, он ответил:
"Теперь я неспособен на это. В моем организме произошла какая-то перемена. Мне нужны жаркие страны, не севернее Средиземного моря".
Эта встреча школьных товарищей оказалась последней:
"На дороге из Аттиньи в Шен он внезапно простился со мной: "Лихорадка! Меня бьет лихорадка!" Больше я его никогда не видел".
О последнем приезде Рембо в Арденны оставил воспоминания и Луи Пьеркен, тоже бывший однокашник Артюра:
"Рембо часто появлялся в Шарлевиле во время первого периода своей бродячей жизни, между 1873 и 1879 годами. После каждого большого путешествия он возвращался к родным пенатам. Но с друзьями отношения прервал. Они воплощали для него литературу, прошлое. Задолго до его окончательного отъезда нас поражали его молчаливость, его безразличие. "Я представляю себе, — говорил Милло, — как неожиданно сталкиваюсь с ним в центре Сахары, после многих лет разлуки. Кроме нас с ним, никого нет, и мы движемся в противоположном направлении. Он на секунду останавливается. — Привет, как дела? — Хорошо, до свиданья. — И он продолжает свой путь. Ни малейшей радости. Ни единого слова больше.
В один летний день 1879 года Эрнест Милло пригласил меня зайти вечером в небольшое кафе на Герцогской площади, которое позднее стало привычных местом для наших свиданий с Верленом, когда тот возвращался в Арденны. "Рембо, — сказал мне Милло, только что купил костюм, попросив портного отослать счет его матери. Дело в том, что он уезжает." (Накануне очередного путешествия он всегда поступал подобным образом, никому не сообщая о своих намерениях.) Рембо пришел около 8 часов. Ему явно не хотелось вести беседу, но когда Милло поздравил меня с приобретением нескольких книг, изданных Лемером, он внезапно прервал молчание и стал мне выговаривать: "Покупать старые книжонки, и особенно такого сорта — это полный идиотизм. У тебя на плечах котелок, который с успехом может заменить все книги, вместе взятые. Их ставят на полки лишь для того, чтобы прикрыть облупившуюся на стенах штукатурку!"
Вплоть до конца ужина он был непривычно и чрезвычайно весел, а около 11 часов покинул нас — навсегда. Вернулся он в Шарлевиль только двенадцать лет спустя — в гробу".
Весной 1880 года Рембо покинул Шарлевиль. О его втором пребывании на Кипре известно лишь из писем родным. В мае он пишет матери:
"В Египте я ничего не нашел и вот уже месяц, как перебрался на Кипр. По приезде я узнал, что мои прежние хозяева потерпели банкротство. Но через неделю я нашел другую должность, которую занимаю и сейчас. Я десятник на постройке дворца, который решено соорудить для генерал-губернатора на вершине Троодоса, самой высокой горы на Кипре [2100 метров]. (…)
Я единственный десятник, но пока мне платят только 200 франков в месяц. Вот уже две недели, как я получаю жалованье, но у меня большие расходы: все время нужно ездить верхом; сообщения крайне затруднены; расстояния между селениями огромные, съестные продукты чрезвычайно дороги. Сверх того, хотя на равнинах стоит жара, на этой высоте невыносимо холодно; идут дожди, град, дует пронизывающий ветер, и такая погода продержится еще месяц. Мне пришлось купить матрац, одеяла, пальто, сапоги и т. д. и т. п."
Английская администрация согласилась оставить его на службе только до половины июня. Затем ему удалось устроиться на известняковый карьер, но вскоре у него начались ссоры с инженером и кассиром, поэтому он принял решение оставить остров и вновь попытать счастья в Египте. С Кипра он увозит свои первые, пока еще небольшие накопления — 400 франков.
Восточные грезы: золотой телец
"Вот я на армориканском взморье. Пусть города полыхнут в закатном огне. Мой день подошел к концу, я покидаю Европу. Морской воздух прожжет мне легкие, солнце неведомых широт выдубит кожу. (…) Когда я вернусь, у меня будут стальные мышцы, загорелая кожа, неистовый взор. Взглянув на меня, всякий сразу поймет, что я из породы сильных. У меня будет золото; я буду праздным и жестоким. Женщины любят носиться с такими вот свирепыми калеками, возвратившимися из жарких стран. Я ввяжусь в политические интриги. Буду спасен. А пока что я проклят, родина ужасает меня. Лучше всего — напиться в стельку и уснуть прямо на берегу".
Сезон в аду: Дурная кровь.
Первые попытки познать Восток оказались не слишком удачными: в 1876 году Рембо побывал на острове Ява, а в 1877 и 1879 годах году дважды садился на пароход, уходивший в Александрию. В 1879–1880 годах он провел несколько месяцев на Кипре, который не являлся, конечно, "настоящим" Востоком, но все же воплощал собой приближение к нему. Когда-то мечты о Востоке носили мировоззренческий характер — Рембо высказывал горькие претензии европейской цивилизации и посвятил "разводу" с Западом одну из частей своей последней книги:
"Нажив себе на два гроша ума — это проще простого! — я докопался до причины моих напастей: оказывается, до меня поздновато дошло, что живем-то мы на Западе. В западном болоте. (…) Не оттого ли все это, что мы любим разводить туманы? Питаемся лихорадкой пополам с водянистыми овощами. А пьянство! А табак! А невежество и слепая преданность! — Как все это далеко от мудрости Востока, прародины человечества! Куда годится современный мир, если в нем изобретаются такие яды?".[78]
Очень интересное (хотя и неверное) объяснение тяги Рембо к Востоку дал Малларме: "Когда инстинкт поэзии отторгнут, и без него мельчает все, даже и самое течение жизни, тогда, по крайней мере, жизнь эта должна быть мужественной, дикой, дабы вместе с высшей печатью изгладился и отпечаток цивилизации на человеке". Забегая вперед, надо сказать, что жизнь Рембо на Востоке лишь иногда была "мужественной и дикой", а "отпечаток цивилизации" не только не изгладился, но даже усилился: в своей "пустыне" бывший поэт будет мечтать об удачной женитьбе и уютном семейном очаге.
Итак, в 1780 году давние грезы осуществились: Рембо оказался на Востоке — вернулся к его "первозданной и вечной мудрости". Но эти высокопарные определения уже ничего не значат для него. Отныне он думает только об одном — о золоте, о грудах золота. Все его абиссинские письма к родным переполнены скрупулезными подсчетами своего капитала и жалобами на то, что никак не удается заработать быстро и много.
В Адене Рембо высадился 7 августа 1880 года: это было прощание с Европой — в следующий раз он вернется сюда умирать. Матери он объяснил свое решение так:
"Я искал работу во всех портах Красного моря — в Джеде, Суакиме, Массове, Ходейде и т. д. Я приехал сюда, когда убедился, что в Абиссинии подходящего занятия нет".
Первоначально знойный Аден произвел на Рембо очень тяжелое впечатление:
"Это ужасающая скала без единой травинки, без хорошей воды: здесь пьют опресненную морскую. Невероятная жара — особенно в июне и в сентябре. Днем и ночью температура в конторе с хорошей вентиляцией не опускается ниже 35о. Все очень дорого. Но делать нечего: я тут словно на положении заключенного, и мне, несомненно, придется пробыть здесь месяца три, прежде чем я сумею встать на ноги или найти место получше".
Рембо стал агентом по скупке сырья в торговом доме Виане, Мазеран, Бардей и Ко. Дела у него пошли достаточно успешно, и тон его писем несколько изменился:
"Мне здесь хорошо, насколько это вообще возможно. Фирма совершает сделки на несколько сотен тысяч франков в месяц. Я — единственный служащий, и все проходит через мои руки. Я полностью освоился с операциями по закупке кофе и пользуюсь абсолютным доверием патрона. Но платят мне очень мало: я получаю всего пять франков в день, не считая стола, квартиры, стирки и т. п., а также лошади и повозки, что составляет не меньше двенадцати франков в день".
Рембо считал себя "единственным смышленым агентом в Адене". Один из компаньонов фирмы — Бардей — отрядил его вглубь материка, поручив закупку кофе на месте. Так Рембо оказался в отделении, открытом в Хараре — главном торговом пункте южной Эфиопии. Биографы Рембо с гордостью сообщают, что он стал третьим по счету французом, добравшимся до Харара. Бардей побывал там в августе 1880 года и оставил своего агента, которого сменил Рембо. В письме от 13 декабря Артюр сообщил родным:
"Я прибыл в эти края после двадцатидневного путешествия пешком по Сомалийской пустыне".
Достижение это не следует преувеличивать: естественно, Рембо шел не один, а вместе с караваном.
В каком положении находилась тогда Абиссиния или, как принято называть ее теперь, Эфиопия? Эта страна была еще отрезана от остального мира, но уже был недалек тот час, когда железная дорога свяжет горы Шоа и харарские отроги с побережьем. Одного этого факта достаточно, чтобы здраво оценить роль Рембо, которую биографы склонны крайне преувеличивать со времен Патерна Берришона. Рембо был всего лишь торговцем, хотя некоторые добытые им сведения могли принести пользу строителям.
С политической точки зрения положение дел было таково: за господствующие позиции в Абиссинии вели соперничество три державы — Франция, Италия и Англия. Англичане вели здесь очень активную политику: в частности, они добились запрета торговать рабами и пытались запретить торговлю оружием. Рембо, как и положено французу, ненавидел своих островных соседей, которые, как будет видно дальше, мешали его бизнесу — торговле оружием.
Абиссинию населяли многие племена, и самыми неуступчивыми среди них были кочевники: адалы, принадлежащие к ветви данакилов, и исса, принадлежащие к сомалийской ветви. Для биографии Рембо интерес представляют такие географические пункты, как оазис Бих-Кабоба — место привала караванов; Харар — городок, где жили и данакилы, и исса; Цейла — небольшой порт на побережье Красного моря; Таджура — маленький данакильский поселок на берегу Красного моря;. Ассальское озеро; Ауаш (Хаваш) — главная река в Шоа; Антото — древняя столица Шоа (впоследствии переименованная в Аддис-Абебу). Королем Шоа был в то время Менелик, вассал абиссинского негуса ("царя царей") Иоанна. Столицей Шоа был городок Анкобер. Наконец, в небольшом городке Чаланко стоял египетский гарнизон, вскоре истребленный Менеликом.
В Хараре Рембо поселился у уполномоченного аденской фирмы, отставного унтер-офицера. Тот сдал ему должность и вручил ключи от конторы. Первоначальный оклад Рембо составлял 330 франков в месяц — правда, Бардей обещал ему определенный процент с доходов. Фирма занималась обычной колониальной торговлей: за кофе, слоновую кость, золото, ароматы и съестные припасы туземцы получали стеклянные и фарфоровые бусы, цветные платки и карманные зеркальца в медной оправе. Европейцы, естественно, считали мошенниками местных жителей. Интересный эпизод сообщает Делаэ:
"Как и большинство поэтов, [Рембо] во многих отношениях оставался ребенком. Альфред Бардей, который был его патроном в Адене (с августа 1880 по октябрь 1885 года) рассказал при мне одну забавную историю…: "Рембо обычно был хмурым и молчаливым, но как-то раз, не зная, что за ним наблюдают, он приоткрыл мне озорную сторону своего характера, которую я никак в нем не подозревал. Ему удалось купить, после очень долгого спора, несколько мешков кофе у туземца; тот удалился, подсчитывая свои талеры, с рассерженным видом, ибо не сумел обворовать "руми" так, как ему бы хотелось; Рембо какое-то время смотрел в спину уходящего бедуина, а затем вдруг совершенно по-мальчишески высунул язык".
Уже летом 1881 года Рембо сообщает матери, что вскоре вышлет домой первые 3000 франков:
"Вам следует сразу же купить на них ценные бумаги или ренту и поручить их надежному нотариусу; или же вы сами присмотрите что-то, выбрав либо нотариуса, либо банкира из местных. Я желаю только двух вещей: чтобы они были помещены надежно и на мое имя; 2. чтобы они приносили регулярный доход".
В конце 1881 года Рембо вернулся в Аден и оставался там до весны 1983 года. К тому времени он уже привык к жаре, и теперь считал ее единственно пригодным для себя климатом:
"Напрасно Изабель выражает желание повидать меня в этих краях. Это жерло потухшего вулкана, без единой травинки. Единственное преимущество здесь — здоровый климат и очень активная торговля. Но с марта по октябрь жара чрезмерная. (…) Мне самому очень нравится этот климат; ибо я ненавижу дождь, грязь и холод".
Освоившись в Адене и на побережье, Рембо начинает строить далеко идущие планы относительно собственного бизнеса. Родных он просит прислать ему какое-нибудь "Теоретическое и практическое руководство к исследованию неизвестных земель". 18 января 1882 года он пишет Делаэ:
"Я собираюсь написать исследование о Хараре и племени галла и представить его в Географическое Общество. я прожил год в этих краях в качестве служащего одного французского торгового дома.
Только что я заказал в Лионе фотографический аппарат, который даст мне возможность включить в мой труд снимки этих странных мест.
Мне недостает инструментов, при помощи которых я мог бы изготовить карты, и я хочу их приобрести. Моя мать получила на хранение некоторую сумму денег, и я намереваюсь использовать их в этих целях".
Далее в письме приводится список инструментов и примерная сумма расходов: Рембо надеялся покрыть их деньгами, посланными матери, но та уже успела вложить капитал в землю — что ей до бредней сына! Однако Артюр не посмел упрекать ее: более всего на свете он страшится, что семья отвернется от него. Из письма к матери от 8 декабря:
"В особенности огорчает меня твое заявление, что вы больше не будете вмешиваться в мои дела. Это не слишком хороший способ помогать человеку, который находится за несколько тысяч лье от дома, скитается среди диких племен и не имеет ни одного корреспондента в своей стране! Мне хочется надеяться, что вы измените это не слишком милосердное решение. Если я не могу обратиться с поручениями к своей семье, то к кому же мне, черт возьми, обращаться?"
Исследовательские проекты Рембо застопорились, и ему пришлось подписать новый контракт с фирмой Бардея. В начале 1883 года он возвращается в Харар. Но тут между Египтом и Абиссинией вспыхивает война. Торговля приходит в упадок, и Рембо страдает от одиночества — "отшельник по природе" (выражение Жана Мари Карре) сильно изменился. 6 мая он пишет родным:
"Напрасно Изабель не выходит замуж за какого-нибудь серьезного и образованного человека с будущим. Такова жизнь, и одиночество здесь — дурная штука. Что до меня, то я сожалею, что не женился и не имею собственной семьи. Ныне я обречен скитаться, будучи связан с этим удаленным предприятием, и с каждым днем мне все меньше нравится климат, житейский уклад и даже язык Европы. Увы, к чему все эти странствия, и утомительные труды, и приключения среди странных племен, и все эти языки, которыми забиваешь себе голову, и бесчисленные заботы, если мне не суждено однажды, через несколько лет, отдохнуть в месте, которое мне более или менее понравится, обрести семью и стать отцом хотя бы одного мальчика, которому я посвятил бы остаток жизни, воспитав его сообразно своим понятиям, обогатив и вооружив самым полным образованием, какое только можно получитьв наше время, так что он на моих глазах превратился бы в прославленного инженера, сильного мужчину, богатого своими познаниями? Но кто знает, сколько мне еще осталось прожить в этих горах? Я могу исчезнуть бесследно среди этих племен, и никто никогда обо мне не услышит. Вы сообщаете мне политические новости. Если бы вы знали, как мне это безразлично! Вот уж больше двух лет, как я не брал в руки газеты. Все эти дебаты теперь стали для меня совершенно непонятны. Как и мусульмане, я знаю, что случается лишь то, чему суждено случиться, вот и все".
Это одно из самых характерных писем абиссинского периода: в словах Рембо заключены надежды и сетования неудачника, утерявшего интерес ко всему — не только к политике. И, подобно всем неудачникам, он строит планы реализовать себя в детях. Его биографы обычно именовали подобный настрой фатализмом, но речь идет скорее о крайней душевной усталости и разочаровании в жизни.
Новый всплеск энергии Рембо ощутил благодаря Бардею. Тот решил использовать своего агента для исследования пустынных земель, лежащих к югу. 24 ноября 1883 года Бардей пишет Географическому обществу (с которым активно сотрудничал на протяжении уже нескольких лет):
"Г. Рембо руководит всеми нашими экспедициями в областях Сомали и Галла. Ему принадлежит инициатива исследования Ваби в Огаденской области. Вам, конечно, известно, что в экспедиции, предпринятой наряду с нашей, итальянский путешественник Саккони погиб. Наш агент г. Сотиро две недели находился в плену и был отпущен на свободу только по заступничеству одного из туземных вождей, которого г. Рембо убедил отправиться из Харара ему на выручку".
Рембо отправился из Харара в Бубассу — большое плоскогорье, начинающееся примерно в пятидесяти километрах к югу от города. Затем он двинулся на юго-восток, добрался до горных потоков, спускающихся с Харарских высот. По берегу Эрера он дошел до реки Уаби (Ваби) и достиг окраины Огадена — пастушеской страны почти без селений и дорог.10 декабря 1883 года он направил небольшой отчет об этой экспедиции в Географическое общество. Большая часть сведений для отчета была предоставлена греком Сотиро, который глубже проник в страну и дошел до Голдоа — эта территория оставалась недосягаемой даже в 1901 году (если верить утверждению Бардея). Правда, Сотиро едва не заплатил за это жизнью, оказавшись в плену у туземцев. Наиболее интересны те отрывки доклада Рембо, в которых использованы личные наблюдения:
"Огадинцы, по крайней мере те, кого мы видели, высокого роста, скорее с красноватым, чем с черным цветом кожи, ходят с непокрытой головой и коротко остриженными волосами, одеваются довольно чисто, носят на плече сигаду, за поясом саблю и тыкву для омовений, в руке палку, длинное и короткое копье, и обуваются в сандалии. Их ежедневное занятие сводится к тому, что, рассевшись кучками в тени деревьев, неподалеку от лагеря, с оружием в руках, они без конца ведут беседы о своих пастушеских делах. Если не считать этих совещаний и караульной службы, которую они несут верхом на лошади во время водопоев и набегов на соседей, огадинцы не занимаются ровно ничем. Уход за животными, изготовление хозяйственной утвари, возведение хижин, снаряжение в путь караванов — все это входит в обязанности детей и женщин".
1 февраля 1884 года Географическое Общество выразило Рембо признательность за это сообщение, попросив прислать "свою фотографию, указать место и год рождения, присовокупив краткий перечень научных работ". Таковых у Рембо не было, и он ничего не ответил. Впрочем, его карьере исследователя уже пришел конец: дела приняли настолько плохой оборот, что аденская фирма решила прекратить свое существование.
Весной 1884 года Рембо был отозван из Харара, поскольку фирма ликвидировала и свой филиал. Это был очень тяжелый момент: Рембо боялся остаться без работы, что принудило бы его тратить сбережения, накопленные за пять лет. Бардей, однако, решил возобновить дело единолично и пригласил Рембо на службу. 1 июля 1884 был подписан новый контракт на шесть месяцев, продленный затем еще на год. К этому времени относится очередной эпизод с "женщиной": Рембо будто бы жил вместе с какой-то абиссинкой. Известно о ней лишь со слов служанки Бардея Франсуазы Гризар:
"Почти каждое воскресенье после обеда я отправлялась к Рембо: меня, признаться, удивляло то, что он разрешил мне бывать у него. Я, без преувеличения, была единственной европейской женщиной, переступавшей порог его дома. Говорил он очень мало, но мне казалось, что он очень хорошо относится к этой женщине. Он хотел дать ей образование; он говорил мне, что намерен поселить ее на некоторое время в миссии у монахинь и что желает обвенчаться с ней, так как решил отправиться в Абиссинию; а во Францию вернется только в том случае, если наживет большое состояние".
Франсуаза вспоминала об этом в те годы, когда ей, по собственному признанию, "сильно изменила память". Она не помнила, как звали абиссинку, с которой почти не разговаривала, поскольку та совсем не знала французского. В любом случае, вскоре абиссинка испарилась бесследно — подобно всем предыдущим "возлюбленным". Жан Мари Карре объясняет это тем, что аденская жизнь вызывала у Рембо ужас и отвращение: "Его интимная жизнь (я не смею назвать ее семейным счастьем) блекнет и угасает в стенах этой тюрьмы".
Рембо, конечно, не был удовлетворен жизнью — но более всего его раздражало небольшое жалованье. Отсюда разрыв с Бардеем, о котором он сообщил родным в письме от 22 октября 1885 года:
"Я бросил свое место в Адене после бурного объяснения с этими гнусными жуликами, которые хотели поработить меня навсегда. Я оказал этим людям множество услуг, и они вообразили, будто я, желая им понравиться, останусь с ними до конца жизни. Они сделали все, чтобы меня удержать, но я послал их к черту со всеми их выгодами, и их торговлей, и их жуткой фирмой, и их грязным городом! Не говоря уж о том, что они все время приносили мне неприятности и всегда стремились к тому, чтобы я потерял деньги. В общем, пусть идут к черту! Они мне дали превосходные рекомендации на пять лет.
Мне доставили несколько тысяч европейских ружей. Я собираюсь организовать караван и отвезу этот товар Менелику — королю Шоа".
Это был новый бизнес — торговля оружием, которая сулила куда большие выгоды, чем кофе или даже слоновая кость. На первых порах Рембо преисполнился энтузиазма. В письме от 18 ноября он сообщает:
"Я счастлив, что покидаю эту мерзкую дыру Аден, где мне пришлось перенести столько мук. Правда, мне предстоит ужасная дорога: отсюда до Шоа (т. е., от Таджура до Шоа) не меньше пятидесяти дней езды верхом по знойной пустыне. Но в Абиссинии климат восхитительный, не слишком жаркий и не слишком холодный, население христианское и гостеприимное; там живется легко, это очень приятное место отдыха для тех, кто провел несколько лет в скотских условиях на раскаленных берегах Красного моря".
Рембо надеялся заработать на экспедиции в Анкобер двадцать пять тысяч франков. Путешествие обещало быть нелегким: предстояло лавировать между адалами, принадлежавшими к ветви данакилов, и племенем исса из сомалийской ветви. Больше всего Рембо опасался фанатичных и свирепых бедуинов-данакилов, которые часто устраивали засады караванам.
Впрочем, сборы затягивались, и многие обстоятельства предвещали неудачу: завербованные Рембо туземцы разбежались; ему никак не удавалось раздобыть верблюдов. С тех пор, как Англия заставила абиссинского негуса прекратить торговлю невольниками, туземцы относились с одинаковой ненавистью ко всем европейцам — "франги" (французы) не были исключением. Так, данакилы, живущие на побережье, перебили экипаж французского сторожевого судна "Пингвин", а караван, которым командовал француз Бараль, был разграблен в марте 1886 года на полпути между Шоа и морем. Неудивительно, что Рембо мечет громы и молнии в адрес англичан:
"Своей абсурдной политикой они погубили торговлю на всем побережье. Хотели все перевернуть на свой лад, но оказались хуже египтян и турок, которых они разорили. Их Гордон — идиот, их Вулси — осел, и все их замыслы — это безумная череда глупостей и подлостей".
Это был вопль души мелкого торговца: ему нет дела до политики, которую он не понимает, ибо все его мысли заняты одним — сделать свой маленький бизнес.
Тем временем, неприятности продолжаются. Компаньон Рембо Лабатю, французский купец в Шоа, внезапно заболевает раком и уезжает во Францию (где вскоре умирает). Солейе, еще один путешественник-негоциант, скоропостижно умирает в Адене 9 сентября 1886 года. Между тем, именно Солейе должен был сопровождать караван, поскольку он уже побывал у Менелика и хорошо знал дорогу. Невзирая на возникшие сложности, Рембо все же отправляется в путь: в середине декабря караван выступает из Таджуры и после месячного перехода прибывает в Харар. Это жалкое поселение из нескольких десятков мазанок — половина принадлежит данакилам, другую половину занимают исса. Данакилы не скрывают своей ненависти к "франги" и исполняют воинственные танцы на виду у каравана.
Впрочем, все обошлось благополучно, и караван двинулся дальше, по широкой равнине вулканического происхождения. Река Хаваш считалась границей между владениями кочевых племен и царством Менелика. Дорога к Анкоберу шла через горы — на высоте от тысячи до трех тысяч метров над уровнем моря. 6 февраля 1887 года караван достиг цели после шести с лишним недель пути. Царское "гэби" Менелика преставляло собой множество хижин, опоясанных плетеной оградой. Но самого Менелика здесь не было: пока Рембо продвигался вперед со своим караваном, в Абиссинии произошли весьма важные события, повлиявшие на жизнь всей страны. В результате дерзкого налета Менелик завоевал Харар: 30 января он одержал полную победу над египетским гарнизоном, и теперь ему принадлежали восточные горы — вся территории племени галла. Своей резиденцией Менелик избрал Антото — древнюю столицу Шоа, позднее переименованную в Аддис-Абебу. Обо всем этом подробно написал марсельский путешественник Жюль Борелли в своем дневнике, где упомянул и Рембо. 9 февраля 1887 года он сделал следующую запись:
"Из Таджуры прибыл с караваном французский негоциант Рембо. У него было в пути немало неприятностей. Вечно одно и то же. Непослушание, алчность и вероломство охраны, козни и засады со стороны адалов; недостаток воды, вечные вымогательства погонщиков верблюдов… Наш соотечественник знает арабский и изъясняется на амхарском и диалекте оромо. Он неутомим. Его способность к языкам, огромная сила воли и уменье, с каким он терпеливо переносит любые испытания, делают из него прекрасного путешественника".
В своих жалобах на "местных" Борелли не был одинок: сходными обвинениями в частности, были переполнены и письма Рембо — почти в каждом из них он поминает недобрым словом "тупых негров".
Желая повидать короля, Рембо отправился в Антото. По свидетельству современников Рембо (Солейе и Борелли), тогда это был дикарский поселок. Жан Мари Карре не пожалел черных красок для описания Менелика: "Честолюбивый деспот, торгаш и плут, недобросовестность которого вошла в поговорку, его упрямая недоверчивая супруга, относящаяся враждебно к европейцам, алчные вероломные придворные, колеблющиеся между фетишистскими суевериями и извращенным христианством, несколько колдунов, один или два коптских священника, шесть-семь европейцев, в том числе три швейцарца, инженер, механик, столяр и три французских купца — таково население королевского "гэби".
Арденнский биограф явно слишком доверился Солейе и Борелли: это произошло по причине непомерной любви к Рембо — разумеется, Менелик был отъявленным мерзавцем, ибо посмел объегорить гениального французского поэта. На самом деле Менелик был личностью весьма интересной и обладал очень живописной внешностью. Умное лицо в оспинах, хитрый и проницательный взгляд, великолепные зубы — на это прежде всего обращали внимание европейские гости. Рембо, естественно, было не до наблюдений: трудная экспедиция завершалась крайне неудачно. Люди Менелика забрали привезенные ружья, но как только разговор зашел об оплате, король притворился глухим и скрылся в своей мазанке.
Дни шли за днями. Наконец, Менелик согласился оплатить часть товара, взыскав остальное в свою пользу, поскольку Лабатю (недавно скончавшийся компаньон) остался ему должен. Рембо направил жалобу французскому консулу:
"Меня осаждала шайка лжекредиторов Лабатю, которым король дал полную волю… меня замучила его абиссинская семья, исступленно требовавшая вернуть наследство и не желавшая признавать, что я полностью расплатился, поэтому, опасаясь лишиться всего, я принял решение покинуть Шоа и сумел получить у Менелика вексель на имя наместника Харара, деджача Меконена,[79] который должен возместить мне 9000 талеров — все, что у меня осталось после того, как Менелик украл мои 3000 талеров и назначил смехотворную цену за мой товар".
Рембо был абсолютно убежден, что имеет дело с "лжекредиторами" — в действительности же Лабатю просто не счел нужным предупредить своего компаньона. Вдобавок, Рембо сам испортил дело своей заносчивостью, о чем можно судить по ответу консула:
"Я убедился из переданных мне вами счетов, что действительно эта коммерческая операция была для вас убыточна и что вы не колеблясь поступились своими правами в целях удовлетворения кредиторов покойного Лабатю, но я имел также случай убедиться из показаний европейцев, прибывших из Шоа и на которых вы сослались в качестве свидетелей, что ваши потери, быть может, были бы менее чувствительны, если бы вы, подобно другим негоциантам, поддерживающим торговые сношения с абиссинскими властями, согласились или смогли учитывать некоторые особенности тамошнего населения и его правителей".
Консул ошибался, говоря, будто Рембо "не колеблясь поступился своими правами" — напротив, он слишком долго не желал признавать сам факт долга и тем самым осложнил свое положение. Впрочем, в письме к родным от 23 августа 1887 года он описывает перипетии этого дела несколько иначе:
"Дорогие друзья,
Мое путешествие в Абиссинию завершилось.
Я уже объяснял вам, с какими большими трудностями столкнулся в Шоа после смерти моего компаньона и в связи с его наследством. Меня заставили заплатить его долги дважды, и я с большим трудом спас свои вложения в это предпиятие. Если бы мой компаньон не умер, я бы заработал тридцать тысяч франков; а сейчас у меня всего лишь пятнадцать тысяч, и это после двух лет ужасающих тягот! Как же мне не везет!"
Наконец, в письме к Бардею от 26 августа Рембо изложил сразу две версии выплаты "долгов Лабатю":
"Дела мои обернулись очень плохо, и какое-то время я опасался, что вернусь без единого талера; там на меня накинулась шайка лжекредиторов Лабатю во главе с Менеликом, который обокрал меня от его имени на 3000 талеров. (…) Дела мои пошли плохо, потому что я связался с этим идиотом Лабатю, который, в довершение всех несчастий, умер, из-за чего на меня в Шоа насело все его семейство и все его кредиторы; поэтому я вышел из дела с сущими крохами — меньше того, что мне пришлось внести. Сам я ничего не могу предпринять, у меня нет капитала".
Итак, экспедиция в Шоа завершилась крайне неудачно, но Рембо удалось отчасти поправить свои дела на рынке в Антото, где он скупил у туземцев кожи за соль, собранную на берегу Ассальского озера. Два месяца спустя он отправился в Харар вместе с Борелли. Последний описал это путешествие в дневнике, сопроводив свой рассказ живописными подробностями. Рембо в письме к Бардею от 26 августа был куда более сух и лаконичен, но некоторые факты заслуживают внимания: анкоберского проводника, который отказался идти через земли враждебных племен, Рембо увел с собой под дулом пистолета; когда туземцы устремлялись к яме, заполненной водой, "франги" всякий раз хлестал их бичом, чтобы заставить дать корм и воду мулам. На двадцатый день пути караван прибыл к Чаланко: четыре месяца назад Менелик истребил здесь египетский гарнизон, поэтому всюду валялись скелеты и черепа. Здесь же росло дерево, под которым в 1881 году туземцы убили французского купца Люсеро. Однако такие мелочи совершенно не интересовали Рембо: его мысли целиком были заняты коммерцией.
21 мая 1887 года, после трех лет отсутствия, Рембо вернулся в Харар. Биографы говорят обычно, что это путешествие принесло больше пользы науке, чем ему самому. "Наука" могла воспользоваться следующими сведениями: Рембо установил, что дорога, идущая от побережья в Антото через пустынные плато, слишком опасна (из-за живущих по соседству данакилов) и труднопроходима; что разработка соли на Ассальском озере (идея принадлежала нескольким французским предпринимателям) чересчур трудоемка и не сулит большой выгоды; что обратный маршрут из Антото в Харар пролегает по пастбищам и лесам, населенным не столь дикими племенами. Этим путем Рембо и Борелли воспользовались впервые: "Таким образом, путь в Абиссинию отныне твердо намечен: он идет от Сомалийского побережья через Харар к столице Менелика, и именно в этом направлении позднее будет проведена первая в Эфиопии железная дорога".
Харар сильно изменился за время отсутствия Рембо. Теперь здесь правит деджач Меконен — наместник Менелика. Завоевание Харара принесло королю Шоа большую выгоду: из Огадена и Сомали сюда идут кофе, каучук, душистые масла, слоновая кость и золото. Торговля снова расцветает. Как выразился сам Рембо, "здесь есть на чем заработать".
Однако он не сразу принимается за дело и отправляется в Каир с целью немного отдохнуть. Именно оттуда он отправляет родным уже упомянутое письмо от 23 августа:
"Меня совершенно замучили ужасающие ревматические боли в пояснице; такие же боли и в левом бедре, отчего я время от времени чувствую себя парализованным, пульсирующая боль в левом колене, ревматическое воспаление (уже застарелое) в правом плече; волосы у меня совершенно седые. Мне кажется, что жизни моей скоро придет конец.
Вообразите сами, как должен чувствовать себя человек после таких испытаний, как путешествие по морю в лодке, по суше — верхом на лошади, без одежды, без пищи, без воды…
Я чрезвычайно устал. Службы у меня сейчас нет. Я боюсь потерять то немногое, что имею. Представьте себе, я все время ношу зашитыми в пояс около шестнадцати с лишним тысяч франков в золотых монетах;[80] это весит около восьми килограммов и делает меня подверженным дизентерии.
Но в Европу я все-таки не могу отправиться по целому ряду причин. Во-первых, я умер бы там зимою; во-вторых, я слишком привык к бродячей и дешевой жизни; наконец, у меня нет никакого положения в обществе.
Итак, я вынужден провести остаток своих дней в скитаниях, трудах и лишениях — с единственной перспективой умереть в муках.
Долго я здесь не задержусь: места у меня нет, и все очень дорого. Мне придется отправиться в Судан, в Абиссинию или Аравию. Быть может, я поеду в Занзибар, откуда можно совершать долгие путешествия в Африку, быть может, в Китай, в Японию, кто знает, куда еще?".
Письмо это примечательно во многих отношениях — особенно интересны доводы, которыми Рембо оправдывает свое нежелание вернуться в Европу. Здесь появляется первое упоминание о зашитых в пояс золотых монетах — свидетельство невероятной, почти патологической скупости. Рембо впервые надел пояс, отправляясь в Аден через Цейлу, но там подобная предосторожность была оправдана хотя бы дикостью мест. Вероятно, он был единственным человеком в Каире, который таскал на себе восемь килограммов золота! Наконец, именно в этом письме (за четыре с лишним года до смерти) описаны симптомы болезни, ставшей впоследствии для него роковой.
Дальние странствия так и остались мечтами, ибо у Рембо возникли новые коммерческие проекты — вновь связанные с торговлей оружием:
"Привести из Харара в Амбадо двести верблюдов с сотней вооруженных людей (все это деджач соглашается предоставить безвозмездно) и в то же время выгрузить на берег восемь тысяч винтовок системы Ремингтон (без патронов; Менелику патроны не нужны: он захватил целых три миллиона в Хараре) и в мгновение ока доставить это в Харар… В качестве подарка для короля — машину для отливки пуль, медные пластинки, химические продукты и станки для выделки гильз и капсюль".
Этот замечательный план имел лишь один, но очень серьезный недостаток — он грозил крупными неприятностями в отношениях с Англией. Разумеется, все державы при случае норовили ущемить интересы противника, но отнюдь не стремились ссориться из-за какого-то мелкого коммерсанта, решившего подзаработать. Рембо приложил все усилия, чтобы добиться своей цели: он попытался через свою мать повлиять на арденнского депутата Фаго. Однако морской министр Феликс Фор сначала отказал просителю, затем дал разрешение, но попросил отложить проект на неопределенное время, что было равносильно отказу.
У Рембо возникают идеи вернуться в литературу — в совершенно другом качестве. Он хочет теперь публиковать заметки о своих путешествиях в "Тан", "Фигаро" и даже "Арденнском Вестнике".[81] Между тем, именно в это время его бывший товарищ, обозреватель колониальной жизни Поль Бурд сообщил ему о запоздалом признании в литературных кругах и первых лучах общенациональной славы:
"Живя так далеко от нас, вы, разумеется, не знаете, что в Париже, в весьма ограниченном кругу, вы стали своего рода легендарной личностью, одним из тех, о чьей смерти в свое время разнесся слух, но в существование которых несколько человек верных последователей продолжают верить и чьего возвращения ожидают, несмотря ни на что. В ряде журналов были напечатаны ваши вещи и даже выпущены отдельным изданием ваши первые стихотворные и поэтические опыты; несколько молодых людей (я лично считаю их наивными) сделали попытку построить целую поэтическую систему, исходя из вашего сонета о цвете гласных.[82] Эта небольшая группа, признавшая вас своим учителем, не зная, что сталось с вами, надеется, что рано или поздно вы появитесь на парижском горизонте и дадите ей толчок, который выведет ее из мрака неизвестности. Чтобы не обольщать вас какими-либо надеждами, спешу прибавить, что вся эта шумиха вокруг вашего имени лишена какого бы то ни было практического значения".
Но все эти благоглупости совершенно не интересуют бывшего поэта. В 1897 году Альфред Бардей в ответ на просьбу Патерна Берришона расскажет:
"Не могу сказать, знал ли Рембо, что в 1884 году его старый друг Поль Верлен выпустил "Проклятых поэтов", но в разговорах со мной никогда не поминал о своих прежних литературных занятиях даже намеком. Я спрашивал у него, почему он их не продолжает. Он всегда отвечал одно и то же: "абсурдно, смешно, тошнотворно".
Рембо жаждет теперь достичь положения в обществе и сколотить капитал. Он снаряжает в Цейле караван из двухсот верблюдов и отправляется в Харар, где в мае 1888 года открывает контору, хотя сама Эфиопия внушает ему все большее отвращение. В письме от 4 августа 1888 года он недвусмысленно говорит об этом:
"Я сильно скучаю, постоянно; я даже никогда не встречал человека, который бы так скучал, как я. И потом, разве это не жалкое существование — без семьи, без занятия умственным трудом, среди одних только негров, жребий которых хотелось бы улучшить, но которые всячески стараются вас эксплуатировать и лишают вас возможности завершить дела в нужный срок! Я вынужден говорить на их тарабарском наречии, есть их гнусную стряпню, терпеть тысячу неприятностей, порожденных их леностью, вероломством и тупостью. И это еще не самое печальное. Здесь боишься мало-помалу одичать из-за полного одиночества и отсутствия какого бы то ни было интеллектуального общения".
Отношения Рембо с местным населением породили множество легенд. Патерн Берришон изобразил своего шурина ангелом милосердия и кротости:
"… туземцы поклонялись ему, как существу сверхъестественному".
Согласно этой версии, Рембо был мудрым просветителем, к которому тянулись простодушные сердца дикарей, а сам он относился к ним с большой любовью и сострадал их бедами. Между тем, самое благожелательное высказывание Рембо о туземцах (в письме к родным от 25 февраля 1890 года) звучит так:
"Люди в Хараре не более глупы и не более мерзки, чем белые негры в так называемых цивилизованных странах; здесь просто нет такого порядка, вот и все. Они даже менее злы, а в некоторых случаях способны выказать признательность и проявить верность. Нужно только относиться к ним по-человечески".
Однако даже в этом письме повторяются эпитеты, которыми переполнены почти все абиссинские послания Рембо:
"Не удивляйтесь, что я совсем не пишу вам: главная причина состоит в том, что ничего интересного я рассказать не могу… Пустыни, заселенные тупыми неграми, без дорог, без почты, без путешественников — и вы хотите, чтобы я писал вам об этом? Или о том, как здесь скучаешь, как глупеешь, как дичаешь? Как от всего этого тошно, но покончить с этим нельзя, и т. д., и т. п.!"
Кстати говоря, не отличавшаяся большим умом Изабель Рембо пополнила свой лексикон эпитетами брата:
"… сколько неприятностей, сколько мук претерпел ты среди праздных и тупых негров".
Но настоящий скандал разразился, когда английская исследовательница Энид Старки впервые заговорила о причастности Рембо к торговле черными рабами: поклонники творчества (!) поэта возопили, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Проблема вызвала большие споры. Рембо и его компаньоны желали продавать оружие местным племенам — считалось, что этот бизнес тесно связан с работорговлей, которой с незапамятных времен занимались бедуины. В письме, которое Рембо и Лабатю направили министру иностранных дел (15 апреля 1886 года), говорится:
"Нельзя утверждать, будто существует непосредственная связь между импортом оружия и экспортом рабов. Торговля последними происходит между Абиссинией и побережьем… Однако наши дела не имеют никакого отношения к темным махинациям бедуинов. Никто не посмеет сказать, что кто-то из европейцев когда-либо покупал или продавал, перевозил или помогал перевозить хотя бы одного раба, будь то на побережье или во внутренних областях".
Действительно, в данном регионе и в данный исторический момент — конец XIX века! — европейцы уже не пачкали рук этим постыдным бизнесом. Однако они не гнушались иметь рабов, поскольку это было куда выгоднее, чем нанимать слуг, которым следовало платить — к тому же, прислуга могла покинуть хозяина в случае дурного обращения. Энид Старки выдвинула обвинение против Рембо на основе письма, адресованного швейцарскому инженеру Альфреду Ильгу, где в частности говорится:
"Я со всей серьезностью напоминаю вам о моей просьбе относительно хорошего мула и двух мальчиков-рабов".
Иными словами, Рембо пожелал купить двух рабов, как это делали другие европейцы (хотя далеко не все). Когда первый шок от публикации письма прошел, апологетические биографы ринулись на защиту поэта. Во-первых, сам Ильг написал Рембо, что не сомневается в "его добрых намерениях". Во-вторых, в письме к своему другу Циммерману Ильг выразился еще более определенно:
"Что касается заказа Рембо (мул, два раба), действуй, как сочтешь нужным, я же полагаю, что можно без особых угрызений совести доверить ему судьбу двух бедолаг".
Циммерман не исполнил это поручение, и тогда Ильг 23 августа 1890 года отправил Рембо письмо, которым дело о "работорговле" закрывается:
"Я нашел для вас хорошего мула… Что касается рабов, простите меня, я этим заниматься не могу, я никогда их не покупал и начинать не желаю".
Вся эта переписка означает, что Рембо желал приобрести рабов для личного пользования. Он, конечно, не был и не мог быть работорговцем, поскольку подобный бизнес для европеского коммерсанта в Абиссинии считался немыслимым — ведь именно европейцы, стремясь покончить с подобной практикой, оказывали нажим на туземцев (как уже было сказано, Англия — пусть даже по причинам чисто политического характера — вынудила абиссинского негуса прекратить работорговлю). Но если бы европейцам было позволено наживаться на продаже рабов, то Рембо, вероятно, не упустил бы такой возможности. В любом случае, теперь пропасть отделяет коммерсанта от того мальчика-поэта, который обожал Жан-Жака Руссо, грезил о "коммуналистической" республике и призывал ко всеобщему равенству. Вряд ли мальчик-поэт мог предвидеть, что станет опытным "политиком" в духе дурно понимаемого Макиавелли и сформулирует (в одном из писем к Ильгу) следующие принципы отношения к туземцам:
"… нужно оставаться союзником негров или не иметь с ними дела вообще, если нет возможности уничтожить их всех разом при первом удобном случае".
Здесь уместно сказать несколько слов и об отношениях Рембо с людьми одного с ним цвета кожи. Семейные агиографы, естественно, не обошли вниманием и этот аспект. По версии Изабель, ее брат превосходил своими нравственными качествами любого святого — скажем, святой Мартин отдал нищему всего лишь плащ, тогда как Артюр готов был снять с себя последнюю рубаху:
"Будь добр, будь щедр! Благотворительность твоя известна всем… Сотни глаз неотрывно следят, когда ты выйдешь из дома. За каждым поворотом дороги, за каждым кустом, за склоном каждого холма встречаешь ты бедняков. Боже, имя этим несчастным — легион. Одному из них ты отдаешь свое пальто, второму — жилет. Твои носки и башмаки перейдут к хромому со сбитыми в кровь ногами. А вот и другие! Ты отдаешь им все деньги, которые имеешь при себе — талеры, пиастры, рупии. Неужели у тебя ничего уже нет для этого дрожащего от холода старика? Конечно, есть. Ты отдаешь ему собственную рубашку. И, оставшись голым, ведешь бедняков к себе и отдаешь им свою пищу".
В комментариях эта слащавая картинка не нуждается — замечу только, что нет ни единого свидетельства, чтобы Рембо когда-либо помог кому-либо хоть чем-нибудь, тогда как ему самому помощь оказывали многие.
По словам Патерна Берришона, в Абиссинии и в Аравии Рембо пользовался непререкаемым авторитетом не только у туземцев, но и у всех без исключения европейцев. Однако гораздо большего доверия заслуживает мнение Бардея, который был в целом расположен к своему агенту:
"Его язвительное остроумие и постоянные насмешки над окружающими создали ему много врагов. Ему до конца жизни не удалось сбросить с себя эту жалкую злую личину, за которой скрывалось его доброе сердце".
С самим Бардеем Рембо нередко ссорился, а в письмах к родным именовал самыми нелестными словами. Конфликты часто возникали и с другими европейскими коммерсантами: так, Рембо, обозлившись на покойного Лабатю, сжег все его бумаги, невзирая на протесты осиротевшей семьи, а с Борелли поругался насмерть решая вопрос, кто должен подметать комнату.
Последние годы в Абиссинии были для Рембо довольно удачными. Он возглавил факторию в Хараре под эгидой фирмы Сезара Тиана из Адена, и с этого момента дела его потихоньку начинают идти в гору. В 1888–1890 годы он перестает направлять свои караваны в английский порт Цейла, предпочитая новый французский порт Джибути. Что же касается торговых отношений с Шоа, то они на время замирают, поскольку в 1888 году негус Иоанн и Менелик вступили в борьбу за власть. Менелик отозвал в Антото деджача Меконена и закупил ружья у итальянцев. Над страной нависла угроза войны, но в 1889 году Иоанн неожиданно погиб, и Менелик взошел на трон мирно. Рембо дал такую оценку этим событиям (в письме к родным от 18 мая 1889 года):
"Вы, должно быть, прочли в газетах, что император (император, подумать только!) Иоанн был убит махдистами. Мы здесь зависели от этого императора косвенно. А прямо мы зависим от короля Шоа Менелика, который платил дань Иоанну. В прошлом году наш Менелик взбунтовался против этого жуткого Иоанна, и они уже готовились отгрызть друг у друга носы, когда означенному императору пришло в голову задать трепку махдистам, живущим в окрестностях Матамы. Там он и остался: и пусть дьявол заберет его к себе!"
Для Рембо смерть Иоанна была хорошей новостью: он немедленно расширяет торговлю оружием и становится придворным поставщиком его величества негуса, получив охранные грамоты. Казалось бы, "золотая" мечта начала сбываться. Теперь он мог бы съездить во Францию, но не хочет этого делать, поскольку боится оставить факторию:
"Дела не позволяют мне уехать отсюда, и, так как я здесь один, как перст, то стоит мне только тронуться с места, чтобы все мое предприятие пошло прахом".
Но вскоре тяжелая болезнь заставит его вернуться на родину.
Смерть негоцианта
Я, слышавший вдали, Мальштрем, твои раскаты
И хриплый голос твой при случке, бегемот,
Я, неподвижностей лазурных соглядатй,
Хочу вернуться вновь в тишь европейских вод.[83]
В конце 1890 года у Рембо начались страшные боли в правом колене — по его словам, все это случилось внезапно. Правда, еще в 1887 году он жаловался на ужасный "ревматизм" и пульсирующую боль в ноге, однако вскоре все прекратилось. Вероятно, поэтому он и на сей раз надеялся, что боль пройдет сама собой. Затем попросил мать выслать ему специальные чулки, которые носят при варикозном расширении вен. Но эта мера не помогла: с каждым ему становилось хуже — он едва мог ходить, а потом слег. Нужно было отправляться в Аден — только в этом городе был европейский врач.
Ему соорудили носилки с кожаным верхом, и шестнадцать туземцев понесли его в Цейлу. С 7 по 17 апреля он делал заметки, в которых запечатлел некоторые подробности этого скорбного пути. В письме к Изабель он вспоминал:
"… с носилок я вставать не мог, когда мы останавливались, надо мной просто ставили палатку, и я руками выкапывал ямку у самого края носилок и, с трудом облегчив себя, забрасывал все это землей. Утром палатку убирали и поднимали меня на носилках. В Цейлу я прибыл до крайности измученным, парализованным".
Патерн Берришон изобразил поход в Цейлу как печальное и спокойное шествие: "святой" и "мученик" удалялся на родину под рыдания коленопреклоненных туземцев, не помнящих себя от горя. В реальности дело обстояло иначе. Носильщики спускались с высоких нагорий и постоянно оскальзывались. Однажды Рембо оштрафовал их, сделав вычет из платы. Каждый толчок причинял муки, и больной сделал попытку ехать верхом, подвязав больную ногу к шее мула. От этой идеи пришлось быстро отказаться, и он вновь вернулся на носилки.
Наконец триста километров были преодолены, но в Цейле Рембо удалось отдохнуть только четыре часа, поскольку прибыл пароход, уходивший в Аден. Через три дня его еле живого доставили в городскую больницу. Врач-англичанин обнаружил в колене опухоль: он ничем не мог помочь больному и дал совет вернуться на родину. 9 мая 1891 года Рембо подняли на носилках на борт парохода, отходившего во Францию.
По прибытии в Марсель он отправил родным письмо, а 22 мая — телеграмму:
"Сегодня ты или Изабель приезжайте в Марсель скорым поездом. Утром в понедельник мне ампутируют ногу. Угроза смерти. Необходимо уладить серьезные дела. Артюр. Больница Консепсьон. Ответьте".
Мать и сестра немедленно отправились в Марсель. 27 мая больному ампутировали ногу. Его состояние временно улучшилось, и в июле он решил отправиться в Рош — так началась гонка за ускользающей жизнью. В первые дни ему казалось, что родные места оказывают на него благотворное воздействие — и он стал проклинать врачей, поспешивших с ампутацией и превративших его в инвалида. Но вскоре боли возобновились и усилились настолько, что ему пришлось вернуться в Марсель.
23 августа Рембо внесли на носилках в купе поезда. Вместе с ним поехала сестра Изабель. Его вновь поместили в больницу Консепсьон. Изабель находилась при нем неотлучно. У него был сильный жар с галлюцинациями от макового настоя и бредом. Изабель уверяла, что он был с ней нежен и доверителен. Впрочем, в письмах к матери есть и другие признания:
"Он угрожает мне, что удавится или как-нибудь иначе покончит с собой, если я уеду от него. Он невыносимо требователен и не терпит ни малейшего неудобства. Приносят ему поесть, он находит, что все отвратительно, и почти не прикасается к пище. Я без конца поправляю ему постель, одеяло, подушки: никогда он не чувствует себя хорошо. Мне весь день приходится бороться с его капризами, отговаривать от того или иного безрассудного желания".
Надо сказать, что Изабель вынудила последующих биографов проявить "жестокость": ее описания благостной (у Берришона — героической) кончины Рембо лживы от первой и до последней строчки. Конец Рембо был страшен, и, наряду с мучениями, его терзала мысль о том, что он страдает, тогда как другие счастливы. Изабель писала об этом матери:
"Проснувшись, он смотрит в окно на солнце, блистающее в безоблачном небе, и начинает плакать, говоря, что никогда уже не увидит солнце вне больничной палаты: "Меня зароют в землю, — говорит он мне, — а ты будешь греться на солнце!" И в течение всего дня эти нескончаемые жалобы, невыразимое отчаяние".
Разумеется, почти все биографы поносят последними словами "бесчувственную" мать. Мадам Рембо и впрямь не была склонна идти на жертвы ради сына, которого давно считала отрезанным ломтем. "С обычным для нее чудовищным эгоизмом ужасная женщина подтасовывает роли и делает это так искусно, что вызывает жалость у дочери". Чудовищный эгоизм состоял в том, что матери было трудно управляться на ферме без Изабель. Положим, она могла бы проявить большую заботу о сыне, но как осуждать ее, если они с Артюром были одного поля ягоды: он унаследовал почти все ее качества и много раз поступал столь же бессердечно. Разумеется, гению можно простить и бессердечие. Но в таком случае не следует порицать и мать гения, которая со своей колокольни была права: на ее плечах висело хозяйство, и она нуждалась в помощи дочери.
28 октября взволнованная до глубины души Изабель написала матери, что Артюр вновь стал добрым христианином:
"Дорогая мамочка, да благословен будет Господь тысячу раз! В воскресенье я испытала самое большое счастье, которое только может быть в этом мире. Отныне это не бедный отверженный нечестивец, которому суждено вскоре умереть подле меня: это праведник, святой, мученик, избранник! В течение последней недели духовники дважды приходили к нему; он принимал их, но с такой усталостью и унынием, что они не посмели заговорить с ним о смерти. в субботу вечером все монахини вознесли молитву, чтобы ему была дарована хорошая смерть. В воскресенье утром, после большой мессы, он казался более спокойным и был в полном сознании: один из духовников вернулся и предложил ему исповедаться; и он согласился! (…) Я целовала землю, плача и смеясь. О Господи, какая радость, какая радость даже в смерти, даже по смерти! (…) С этого мгновения он перестал кощунствовать; он взывает к распятому Христу и молится. Подумайте только! Он — и молится!"
Сведения о предсмертном обращении Рембо исходят только от его сестры. Разумеется, "пророчество" об этом содержится и в "Сезоне в аду":
"Лежа на больничной койке, я вновь остро почувствовал запах ладана — так чувствует его хранитель священных благовоний, исповедник, мученик…"[84]
Однако исповедальная книга Рембо настолько переполнена пророчествами прямо противоположного толка, что принимать их в качестве "доказательства" затруднительно. Можно ли доверять свидетельству сестры? С одной стороны, она была женщиной чрезвычайно набожной, а ложь — великий грех. С другой стороны, истовое благочестие способно принять "спасительную" ложь за истину. Рене Этьябль не жалеет сарказма по поводу восклицаний о "святом" и "мученике": "… в том же самом письме от 28 октября 1891 года, где возвещается об обращении, она радуется при мысли, что брат ее не умрет "нечестивцем", удивляется, что он "перестал кощунствовать" и, напротив, молится… это служит самым очевидным признанием лживости ее последующего утверждения: "В сфере религии А.Рембо был человеком глубоко верующим". Ну конечно, ведь люди глубоко верующие никогда не молятся и всегда кощунствуют".
Остаются также сомнения другого рода: до какой степени Рембо сохранял память и здравый рассудок. Чтобы облегчить боли, ему давали морфий, и наивная Изабель сообщает матери в уже цитированном письме:
"Он всех узнает. Меня он иногда называет Джами,[85] но я знаю, это оттого, что он его хочет и видит в своих грезах, также вполне осознанных; он вообще все смешивает… и очень искусно. Вот мы в Хараре, мы отправляемся в Аден, нужно искать верблюдов, собирать караван; он очень легко передвигается на своей искусственной ноге, мы уже несколько раз выезжали прогуляться на прекрасных мулах с богатой сбруей; теперь надо работать, составлять счета, отправлять письма. Быстрее, быстрее, нас ждут, закрываем чемоданы и едем. Почему его не разбудили? Почему не помогают одеться? Что о нас скажут, если мы не прибудем в назначенный день? Его слово ничего не будет стоить, он лишится доверия людей! И он начинает плакать, жалуясь на мою неловкость и небрежение: ибо я всегда рядом с ним, и на меня возложена обязанность подготовить отъезд".
9 ноября, за день до смерти, Рембо продиктовал сестре бессвязную записку следующего содержания:
"Одна доля: одиночный зуб.
Одна доля: два зуба.
Одна доля: три зуба.
Одна доля: четыре зуба.
Одна доля: два зуба.
Господин директор,
Я зашел спросить, не оставил ли я чего-нибудь для вас. Я желаю сменить этот филиал, даже названия которого не знаю, но, в любом случае, пусть это будет филиал Афинара. Подобные филиалы здесь повсюду, а я, несчастный инвалид, не могу ничего найти, любая собака на улице вам это расскажет. Итак, пришлите мне расценки на услуги филиала Афинара в Суэце. Я полностью парализован, поэтому желаю оказаться на борту как можно раньше, сообщите, в каком часу меня могут поднять на борт…"
Судя по всему, до последнего мгновения и в полубреду Рембо сохранял надежду отплыть из Франции на Восток, где ему мерещилось спасение. 10 ноября он умер на руках у Изабель. В реестре марсельской больницы об этом была сделана следующая запись: "10 ноября 1891 года в возрасте 37 лет скончался негоциант Рембо". Через несколько дней его останки перевезли в Шарлевиль, где и состоялись очень скромные похороны: служба была заказана по первому разряду, но без приглашенных — за гробом следовали только мать и сестра.
Примерно через месяц, когда Рембо уже лежал в могиле, в Аден пришло послание от прежнего хорошего знакомца. Жермен Нуво подражал Верлену в стихах и свой образ жизни также строил по примеру "дивной парочки". Занимаясь преподаванием и потихоньку продвигаясь на Восток, он решил поделиться планами со старым другом:
"Мой дорогой Рембо,
Узнав в Париже, что ты уже давненько живешь в Адене, я пишу тебе наудачу в Аден, а для верности посылаю письмо через французское консульство в Адене. Я был бы счастлив услышать от тебя самого, что ты поделываешь. Что касается меня, то все очень просто. Я нахожусь в Алжире как учитель рисования в отпуске, где нуждаюсь в моральной поддержке и лечу (плохо) свой ревматизм. Мне пришла в голову одна идея, судя по всему, неплохая. Скоро я получу небольшой капиталец, и мне хотелось бы открыть скромную лавочку по продаже картин. Алжир — город убийственный, и делать здесь почти нечего. Сначала я подумал про Египет, где уже прожил несколько месяцев семь лет тому назад, а уж потом про Аден, поскольку это город сравнительно новый, и возможностей здесь, по моему мнению, гораздо больше. Я был бы тебе признателен, если бы ты оценил эту идею и заполнил свое доброе письмецо всевозможными сведенями. Верломпа я не видел уже года два, равно как и Делаупа.[86] Первый знаменит, а второй служит в Министерстве общественного образования помощником редактора, о чем ты, вероятно, знаешь не хуже меня. В ожидании твоего ответа я воздержусь пока от более долгой болтовни.
Твой давешний сердечный приятель Ж.Нуво.
Я сейчас изучаю арабский, знаю английский и итальянский. Я, конечно, принесу большую пользу в Адене".
Разумеется, никакого ответа Жермен Нуво получить не мог. Он проживет еще долго и умрет в 1920 году, навсегда оставшись в числе тех, кто подавал большие надежды. Делаэ рассказывает, что в последние годы жизни Нуво вошел в роль "поэта-бродяги": он часто приходил к дому своего приятеля, но в ворота входить отказывался, принимая подношения добросердечной жены Эрнеста из-за решетки.
Рембо был похоронен в семейном склепе на шарлевильском кладбище. Напротив вокзала ему поставили памятник, пострадавший во время Первой мировой войны: по свидетельству Жана Мари Карре, немцы похитили бронзовый бюст поэта. Казалось, этот монумент унаследовал необычную судьбу самого Рембо, ибо с ним связано несколько интересных историй. Началось все с того, что мать Рембо не сочла нужным присутствовать при водружении памятника своему сыну. Как рассказывает Делаэ, родня желала устранить "возчика" Фредерика от участия в сборе пожертвований — и тот прислал двадцать пять франков (солидную для него сумму) по собственному почину. После войны памятник пришлось устанавливать вновь, и в 1927 году по этому поводу возникла скандальная полемика: сюрреалисты, провозгласившие Рембо своим предтечей, были крайне недовольны официальным характером церемонии — по их мнению, унизительной для великого бунтаря.
Ранняя и, казалось бы, совершенно неожиданная смерть Рембо привлекла пристальное внимание исследователей. Вопреки многим свидетельствам о его "силе и крепости", здоровьем он похвастаться не мог — особенно после бурных лет "ясновидения", повлекших за собой злоупотребление алкоголем и наркотиками. Эрнест Делаэ утверждает, что еще в 1872 году Рембо говорил ему: "Жить мне осталось не более пяти лет". В январе-феврале 1873 года поэт постоянно страдает от лихорадки, у него наблюдается повышенная раздражительность, он быстро утомляется и заметно худеет, его мучат видения и галлюцинации. В этот же период у него начинаются сильные боли в желудке. Летом 1875 года Рембо заболевает в Италии, в июне 1879 года — на Кипре: посчитав причиной недуга климат, он возвращается в Рош, где лихорадка только усиливается. Местный врач ставит ему диагноз — брюшной тиф. Осенью лихорадка возобновляется: на сей раз Рембо винит в своем недомогании холодную температуру и стремится попасть в Александрию, но в Марселе переживает столь сильный приступ, что немедленно уезжает в Рош. Весной 1880 года он покидает Европу, однако на Востоке лихорадка у него периодически обостряется. Уже в феврале 1881 года он сообщает родным:
"Я подцепил одну болезнь, саму по себе не опасную; но здешний климат отличается коварством по отношению к любым недугам. Раны никогда не заживают. Крохотная царапина на пальце гноится в течение нескольких месяцев и очень легко переходит в гангрену".
Затем в его письмах появляются жалобы на постоянные ревматические боли. В 1890 году он становится таким раздражительным, что это удивляет его самого. Наконец, в письме от 20 февраля 1891 года он описывает матери первые симптомы болезни, которая через девять месяцев убьет его:
"Сейчас я чувствую себя плохо. Во всяком случае, на правой ноге появились варикозные опухоли, и это причиняет мне сильную боль. Такова плата за труды в этих злосчастных краях! Вдобавок к расширению вен у меня ревматизм. Здесь, однако, не холодно, но причиной всему климат. Вот уже две недели я не смыкаю глаз из-за болей в этой проклятой ноге. Я выкарабкаюсь и полагаю, что сильная жара Адена будет для меня благом, но мне должны крупную сумму денег, и я не могу уехать, иначе потеряю их. Я заказал в Адене чулок от варикоза, хотя сомневаюсь, что там его найдут. Будь так добра, купи мне чулок от варикоза… Несчастье это приключилось со мной из-за того, что я слишком много ездил верхом и совершил слишком много утомительных маршей. Ибо в этой стране множество крутых гор, где на лошади не проедешь. А дорог нет никаких…"
Естественно, все сведения о роковой болезни Рембо исходят от него самого и его сестры Изабель. Свидетельства эти весьма противоречивы. В письме к сестре от 15 июля 1891 года сам Рембо так определяет причины своего недуга:
"С ноября по март в Хараре холодно. Я же в силу привычки почти ничего не надевал: только полотняные брюки и холщовую рубашку. При этом пешие переходы от 15 до 40 километров в день, безумные скачки по горным тропинкам. Полагаю, артритическая боль в колене появилась в результате переутомления и резкого перехода от жары к холоду. Ибо сначала я почувствовал точно удар молотком (если можно так выразиться) под коленной чашечкой, легкий удар, повторявшийся ежеминутно; сильное жжение в суставе и сведение нерва. Затем вокруг колена вздулись жилы, и я принял это за расширение вен. Я по-прежнему много ходил и работал, больше, чем обычно, думая, что слегка простыл. Потом боль в самом колене усилилась. С каждым шагом словно впивался гвоздь. — Я по-прежнему ходил, но уже с трудом; главное же, ездил верхом, хотя спешиваясь ощущал себя почти калекой. — Затем распух подколенок, коленная чашечка вздулась, утратила подвижность, и боль распространилась по всей ноге — от лодыжки до самой шейки бедра. Я ходил теперь, сильно прихрамывая, и мне становилось все хуже, но приходилось работать по-прежнему. (…) Я все больше терял аппетит, началась постоянная бессонница. Я слабел и худел на глазах. (…) С каждым днем колено становилось все больше похожим на шар, и я заметил, что внутренняя сторона большой берцовой кости значительно толще, чем на другой ноге: коленная чашечка утрачивала подвижность, заплывала со всех сторон, а через несколько дней я с ужасом заметил, что опухоль затвердела, словно кость. С этого момента нога совсем перестала сгибаться; в отхожее место я брел, волоча ее за собой. Тем временем нога и ляжка явно худели, а колено продолжало вздуваться, окаменевая или, вернее, костенея…"
В марсельской больнице Рембо поставили диагноз — рак кости. 22 сентября Изабель известила об этом мать:
"Его болезнь, должно быть, вызвана злокачественным поражением костного мозга — именно это и привело к необходимости ампутировать ногу".
После ампутации наступило лишь временное облегчение, а затем омертвение стало распространяться на другие части тела: обрубок ноги продолжал пухнуть, и началось окостенение правой руки. Затем появилась огромная злокачественная язва — саркоматозная опухоль, чудовищно разросшаяся между бедром и животом. В тридцать семь лет Рембо фактически сгнил заживо. Симптомы болезни (описанные как им самим, так и Изабель) совершенно не похожи на артрит — что же касается опухоли, то причиной ее появления и очень быстрого распространения по всему организму мог быть не только рак. Позднее, создавая житие "святого мученика" и "сверхчеловека", Изабель колебалась в "выборе" болезни для брата: его смерть должна была быть героической, а таковой она могла стать лишь согласно версии самого Рембо — организм не выдержал нечеловеческих лишений и безмерных трудов. Затем сестре пришлось отступить на прежние позиции — Артюра убил рак. Однако специалисы, тщательно исследовав симптомы и некоторые факты, пришли к заключению, что Рембо стал жертвой сифилиса, который подхватил либо в Италии, либо в Хараре.
К фантастическим домыслам сестры на тему болезни Рембо можно отнестись снисходительно, поскольку у нее было как минимум два смягчающих обстоятельства. Во-первых, шарлевильские обыватели не скрывали злорадства по поводу слишком стремительной кончины бывшего бунтаря. Во-вторых, его страдания были столь велики, что оказались почти невыносимыми и для окружающих. Это хорошо видно по письмам Изабель. 22 сентября она сообщает матери:
"Должна сказать тебе, что Артюр очень болен. Я говорила в последнем письме, что расспрошу врачей, и вот их ответ: "Бедный малый (Артюр) понемногу уходит, жизнь его — это вопрос нескольких дней, быть может, месяцев. Если не произойдет — а это может случиться в любую минуту — какое-нибудь тяжкое осложнение. На выздоровление надежд нет никаких, он не выздоровеет. (…) Естественно, дорогая мамочка, это они сказали мне, а ему они говорят совсем другое: обещают полное выздоровление и стараются внушить, будто ему с каждым днем становится лучше. Порой я начинаю терять голову и спрашиваю себя, кому они лгут — ему или мне. Ибо они говорят с ним о выздоровлении столь же искренне, как со мной — о его неизбежной смерти".
В этом письме Изабель еще выражает некоторую надежду: ей кажется, что врачи преувеличивают серьезность положения. Но в письме от 5 октября ее тон совершенно меняется:
"Сейчас я никак не могу оставить Артюра: ему плохо, он слабеет, постепенно приходит в отчаяние, да и я тоже теряю веру. Я прошу только об одном: чтобы он умер хорошо. (…) Я смотрела на него, когда он спал, и говорила себе, что долго он не протянет: у него слишком больной вид! Через пять минут он проснулся с обычной своей жалобой, что не спал всю ночь и сильно мучился… Затем он стал мне говорить о вещах немыслимых, которые, как ему кажется, произошли в больнице за ночь, и это единственный отголосок прежнего бреда, но такой устойчивый, что каждое утро и по нескольку раз на дню он повторяет одни и те же глупости, а на меня сердится, что я не верю. Я же слушаю его и стараюсь разубедить: он обвиняет санитарок и даже сестер в поступках совершенно отвратительных и невозможных; я говорю, что это ему, наверное, приснилось, но он упорствует, а меня обзывает дурой и идиоткой".
28 октября (в день "обращения") Изабель пишет:
"Смерть приближается стремительно. Я говорила тебе в последнем письме, что обрубок ноги сильно распух. Теперь это огромная раковая опухоль между бедром и животом… Врачи больше уже почти не приходят, потому что он часто плачет, разговаривая с ними, и это приводит их в смятение".
Изабель, несомненно, пережила сильнейшее нервное потрясение за те несколько месяцев, которые провела у постели умирающего. Это усугубилось внезапным и неожиданным для нее "обращением" брата, а затем появлением сборника "Ковчег" ("Reliquaire") — именно тогда она впервые узнала, что Артюр был поэтом и пользуется возрастающей известностью в литературных кругах. Глаза у нее открылись: лишь теперь она принялась копаться в бумагах брата, на которые прежде не обращала никакого внимания. По неопытности она сначала приняла рукопись верленовского стихотворения "Crimen amoris" за сочинение Рембо.
Если бы Изабель излагала свои фантазии в узком семейном кругу, никто не бросил бы в нее камень. Но она зашла так далеко, что начала сочинять биографию брата. Неумолимая логика фальсификации привела к тому, что она стала опровергать все, что противоречило ее домыслам, не гнушаясь и клеветой — если называть вещи своими именами — по отношению к тем людям, с которыми судьба сталкивала "святого". Уже в 1892 году появляется небольшая книжечка под названием "Мой брат Артюр", в которой Изабель решительно отметает все подозрения насчет распущенной жизни Рембо как возможной причины его болезни:
"Чистота твоих нравов стала легендарной. Порог твоего дома никогда не переступало ни одно развратное существо, и ноги твоей не бывало в домах веселья…"
Болезнь была последней жертвой, принятой на себя избранником во искупление чужих грехов:
"Он часто спрашивал меня, вместо кого суждено ему — столь доброму, столь милосердному, столь справедливому — терпеть эти ужасные муки. Я не знала, что отвечать. Я боялась и до сих пор боюсь, что претерпел он их за меня".
Глава пятая: "Бедный Лелиан"
Тюрьма
Мне не забыть, как жил я в лучшем из дворцов,
В пленительной стране потоков и холмов;
Он с четырех сторон был башнями украшен,
И жил я много дней в одной из этих башен. (…)
Приют, который я, чуть бросив, пожалел!
Дворец магический, в тебе мой дух созрел!
В тебе утих порыв моих страстей безумных,
Вращавшихся в душе в каких-то бурях шумных![87] (…)
Итак, в семь часов вечера 10 июля 1873 года Верлен был арестован по жалобе Рембо. Все перипетии своего самого длительного и самого мучительного заключения он описал в мемуарах "Мои тюрьмы". После короткого допроса его препроводили в "Амиго":
"Это задушевное название — след испанского владычества в XVI и XVII веках — хорошо передается словом "кутузка", то есть тюрьма при полицейском участке".
У Верлена были деньги, и его поместили "на свой кошт": весьма важное обстоятельство, которому и дальше он уделяет много внимания. Преимущества "своего кошта" были очевидны: приличное питание, сносная постель и отсутствие докучливых сокамерников. Но уже в "Амиго" начались неизбежные унижения, связанные с утратой свободы:
"… меня проводили к тюремной карете, это нечто вроде "волчьей клетки", в таких у нас возят арестованных женщин: ящик из металлической сетки, крашенный в желтое и черное, изнутри которого можно кое-что разглядеть. Так я проехал еще не известную мне часть Брюсселя, блуждая взглядом по горбатым улицам, запруженным толпами бедняков, по барахолкам, расползающимся от центра города до старинной тюрьмы "Маленькие Кармелиты", где меня взяли под стражу довольно грубо, но зато я избавился наконец от кабриолета, причем, когда я выходил из него, мне поддал кулаком инспектор, такая сс…волочь!".
Верлену все время казалось, что его очень скоро освободят. Заблуждение вполне понятное, ведь они столько ссорились с Рембо, и нередко дело доходило до крови, а затем все возвращалось на круги своя. Правда, на сей раз — по неудачному, как он полагал, стечению обстоятельств — вмешалась полиция, и только ее дуростью можно было объяснить, что на приказе о заключении в тюрьму было начертано: "Папытка к упийстфу". Бедный Верлен иронизировал напрасно: в соответствии с показаниями Рембо (да и его собственными) дело было квалифицировано как покушение на убийство. Ситуация усугублялось и подозрением в гомосексуализме. 15 июля Верлену пришлось перенести унизительную процедуру — двое врачей обследовали его "с целью выяснить, имеются ли признаки педерастической связи". Вердикт оказался сокрушительным: оба доктора подтвердили факт существования связи.
Суда Верлену пришлось ожидать в "Маленьких Кармелитах". Это была уже настоящая тюрьма, а не просто полицейский участок. Первый день заключенного — сколько было об этом написано разными людьми, пережившими тюремное заточение. Детали всегда поражают своей однотипностью, но впечатления все равно остаются индивидуальными.
Один из важнейших этапов знакомство с сокамерниками:
"Вваливаюсь к ним, ошеломленный, робеющий и как будто все еще пьяный. Будучи одет прилично, тут же становлюсь — о не для всех! — мишенью зубоскальства, насмешек и совершенно убивающих меня взглядов. Надзиратель, грубая скотина, весь в побрякушках, толкает меня, добавив несколько слов по-фламандски, которые я понял по его тону. Он указывает мне пальцем на группу, где чистят картошку".
Несмотря на все свои эскапады, Верлен ощущал себя "приличным человеком" — и по воспитанию, и по образу жизни. Заключение было тяжело для него еще и тем, что он оказался выброшенным из общества. Вот его вызывают к начальнику тюрьмы, и тот произносит:
"Будьте любезны, садитесь, господин Верлен".
Даже много лет спустя поэт не забыл, что это было "первое вежливое слово после потока унижений". Начальник, впрочем, имел все основания проявить снисходительность именно к этому заключенному, ибо Верлен обратился за помощью к Виктору Гюго, и престарелый мэтр не замедлил с ответом:
"Я написал Учителю из "Амиго", прося его походатайствовать за меня перед особой, тогда еще мне дорогой".
Речь в данном случае шла о Матильде, и Верлен в очередной раз продемонстрировал трогательную и одновременно эгоистическую наивность: он почему-то полагал, что брошенная им жена ринется на его защиту, тогда как в реальности этот арест во многом способствовал положительному решению дела о раздельном проживании супругов.
Что же касается бельгийского чиновника, то он был поражен — не каждый день в подведомственную ему тюрьму попадали люди, знакомые с прославленным патриархом французской литературы. Записка Гюго, которую Верлен впоследствии отдал одному из своих английских друзей, гласила:
"Бедный мой поэт, я увижу вашу очаровательную жену и поговорю с ней о вас, ради вашего милого младенца. Будьте мужественны и вернитесь к истинному".
Судя по этм словам, Гюго полагал, что Верлен угодил в тюрьму по недоразумению и скорейшее возвращение в Париж зависит только от его желания. Несомненно, такое впечатление у Гюго сложилось благодаря тем фактам, которые счел нужным сообщить сам Верлен — еще одно доказательство того, как неверно оценивал поэт свое положение. Обращает на себя внимание и то, что в письме Гюго сквозит явное сочувствие к Матильде, которая пишет в своих мемуарах, что показывала ему пресловутое письмо Верлена, адресованное "Принцессе Мыши", — и великий старец был крайне удручен. Наконец, выражение "вернитесь к истинному" означает, что Гюго не считал "истинным" образ жизни Верлена — точнее говоря, его отношения с Рембо.
Естественно, не оставила своего любимого сына и мать: она ходатайствовала за него перед королевским прокурором, не пропускала ни единого свидания и очень быстро добилась всех послаблений, которые можно было получить за деньги. Верлен вспоминал об этом со слезами на глазах:
"… бедная моя, добрая моя старая мать, перед которой некогда разыгралась безобразная сцена,[88] моя мать, которой я принес столько горя, умершая от воспаления легких, и это случилось с ней, когда она ухаживала за мной, обреченным очередной болезнью на неподвижность!"
Мать проявляла чудеса самоотверженности и ловкости. Узникам были запрещены газеты, но она знала, как жаждет ее Поль узнать новости "с воли", и ради него была готова на все. Одну из таких сцен Верлен описал (дело происходило уже в тюрьме города Монса):
"По четвергам и воскресеньям моя мать, каждый раз припасая для этого случая официальное разрешение королевского прокурора, навещала меня. О, как тягостны (и сладостны) эти свидания через две решетки, чуть ли не в метре друг от друга! Никаких поцелуев, разве что воздушные, не поговорить без сидящего за дверью с оконцем соглядатая, который не спускает с вас глаз, шпионя за вами. Что за дело! Моя храбрая мать вынимает из кармана листок "Фигаро", купленный на вокзале, сложенный, вернее, скрученный в трубочку не толще рапиры, и передает ее мне сквозь обе решетки. Сколько волнений, судите сами! И сколько волнений потом, когда раскручиваешь, а затем и читаешь эту газету, ведь если б меня застали с нею в руках, последовал бы карцер, запрещение свиданий, отмена своего кошта и прочие неприятности!"
Вообще Верлен запомнил подробности своего тюремного быта во всех подробностях:
"Раз в день, утром, подследственные группами выходили в мощеный двор, "украшенный" посередине "садиком", где росли одни только желтые цветы, ноготки; каждый со своим ведром… высшее достижение гигиены! — его надлежало опорожнить в предназначенном для того месте и ополоснуть, а затем уже приступить к прогулке, двигаясь гуськом под взглядом надзирателя, может быть и сочувственным.
Об этом я написал в строфах:
Верлен, действительно, начал писать, еще находясь под следствием. Но до "покаянных" стихов новообращенного было еще далеко — в "Маленьких Кармелитах" были созданы "дьявольские новеллы" (как их определил сам Верлен), включенные позднее в сборник "Когда-то и недавно". Из них безусловно нужно выделить поэму "Crimen amoris", в которой Верлен впервые попытался осмыслить, что представлял из себя и чем стал для него Артюр Рембо. К слову сказать, Рембо в это же самое время был занят сходными размышлениями, лихорадочно дописывая "Сезон в аду".
Одно из самых пронзительных стихотворений было написано Верленом в подражание Вийону, который, подобно ему, побывал в заточении, именовал себя "бедным" и горько оплакивал свою погубленную юность:
Наконец, настал день суда — 8 августа 1873 года. Дело Верлена разбиралось в старом брюссельском Дворце Правосудия, который "был безобразен, неудобен и разъеден бедностью, словно проказой". Верлена привозили туда в уже знакомой ему "гнусной повозке", вызывавшей у него теперь — когда первый шок уже прошел — ненависть и омерзение.
Все подробности настолько живо отпечатались в памяти обвиняемого, что и много лет спустя он, видимо, испытывал то же чувство стыда, смешанного с удивлением:
"Гнусная, узкая, покрытая какой-то паршой комната, вернее, зала, некогда беленная известкой, ныне облупленной, стены в трещинах, словно готовые обрушиться. (…) После допроса, впрочем, краткого и не слишком-то грозного (…) встал Королевский прокурор. Как сейчас вижу эту личность — усики, закрученные кверху, бачки, так называемые "камброннские", одна рука — в кармане панталон из белого тика (почему бы не из дерюги?)…"
О прокуроре Верлен пишет с нескрываемой неприязнью, поскольку именно его считал главным виновником "несправедливого приговора". Действительно, прокурор, посетовав на то, что дело Верлена разбирает гражданский суд, а не военный трибунал, для которого "пьянство не является смягчающим обстоятельством", потребовал для него наказания "по всей строгости закона". И суд дал максимальный срок — два года тюремного заключения:
"До этой минуты, на глазах у публики, я держался. Но, воротясь в сопровождении судебного исполнителя в прихожую, где меня поджидали жандармы, я расплакался, как ребенок, так что даже мои "ангелы-хранители" принялись утешать меня…"
Впрочем, позже, вспоминая о своем покойном друге, Верлен приходил к несколько иному выводу:
"О Рембо, в те поры окруженный заботливым уходом, потому что я тебе сделал бо-бо, в чем еще буду каяться всю свою жизнь, ведь я чуть было не убил тебя, — о, как бы ты смеялся, мой бедный, навсегда ушедший друг, если бы слышал, что тебя считают "жертвой"! (…) Я принял без ропота этот справедливый приговор, безусловно милосердный, — ведь в сущности, я заслуживал виселицы".
Удивляться подобным противоречиям не стоит — в этом весь Верлен, искренний и одновременно эгоистичный.
После суда адвокат подал апелляцию на обжалование приговора, но все оказалось тщетно — суд второй инстанции утвердил принятое решение, и, как пишет Верлен, "на этот раз меня засадили крепко". Бельгийские судьи сделали запрос в Париж, и 21 августа пришел ответ от столичного префекта — крайне неблагоприятный для Верлена. Там говорилось, в частности, что он "вступил в постыдную связь с неким Рембо" и якшался с влиятельными деятелями Коммуны, в которой сам принимал участие. Эти сведения не могли повлиять на первоначальный приговор, но суд второй инстанции заседал 27 августа и, вероятно, учел мнение парижских властей.
Верлен провел несколько месяцев в одиночной камере "Маленьких Кармелитов", но не стоит преувеличивать тяжесть перенесенных им испытаний: в этой тюрьме двери оставались открытыми с шести утра до восьми вечера, и заключенные могли заходить друг к другу в гости. Затем поэта отправили в зарешеченном вагоне в столицу графства Эно — город Монс. 25 октября он стал заключенным местной тюрьмы.
Позднее Верлену довелось получше рассмотреть этот "лучший из дворцов", и он был поражен его красотой:
"Из бледно-красного, почти розового кирпича снаружи, это здание, истинный шедевр архитектуры", изнутри окрашено белой известкой и черной смолой, со строгой отделкой из железа и стали".
Здесь Верлену пришлось проститься с "цивильным" платьем и облачиться в тюремный наряд:
"Прежде всего мне предложили — в обязательном порядке — принять ванну и принесли для меня довольно странную одежду — кожаный картуз, фасон которого словно позаимствован из времен Людовика XI, куртку, жилет и штаны из одной и той же ткани, названия которой я не запомнил, — зеленоватой, жесткой, похожей на толстый репс, в общем, крайне грубой и уродливой; затем — грубый шерстяной шарф, носки и сабо. (…) К моему костюму еще присовокупили колпак из синей ткани с прорезями для глаз, чтобы закрывать лицо, проходя по коридорам на прогулку во двор, и широкий ярлык из черной лакированной кожи, напоминающий формой сердце, с моим номером, выпуклым и сверкающим, как чистейшее золото. Этот номер я должен был пристегивать к пуговице куртки, отправляясь на прогулку. Засим цирюльник заведения обрил меня согласно здешней моде. Я стал весьма элегантен и, уверяю вас, неотразим".
Первую неделю Верлен провел, как все остальные заключенные — в неудобной камере с узкой постелью, которую, вдобавок, разрешалось раскладывать только перед сном. Кроме того, узника явно невзлюбил надзиратель:
"Этому унтеру я, по-видимому, не приглянулся: правда, он навещал меня довольно часто, но вовсе не затем, чтобы повидаться со мной, а исключительно для того, чтобы бдительно за мной надзирать. Следствием были бесчисленные выговоры либо угрозы посадить в карцер — из-за пылинки, из-за морщинки на заправленном одеяле стола-кровати, когда этот предмет превращался из кровати в стол; по мнению унтера, у меня всегда было что-нибудь да не так: нечеткий поворот головы при команде, пуговица, болтающаяся на ниточке и тому подобное. Чего только не вытерпел я от этой скотины в его дурные минуты!"
Но добрый ангел-хранитель Верлена не дремал: через неделю все волшебным образом переменилось — матушке удалось выхлопотать для сына "свой кошт". Верлена перевели в другой корпус, в более просторную камеру с настоящей кроватью. Ему разрешили брать книги и позволили держать у себя "целую библиотеку". Более всего Верлена увлек Шекспир, которого он прочитал в подлиннике "от корки до корки" и изучил "драгоценные примечания" Джонсона и прочих комментаторов. Впрочем, как истинный французский патриот он поспешил оговориться в мемуарах, что никогда не променяет на Шекспира "ни Расина, ни Фенелона с Лафонтеном, не говоря уже о Корнеле и Викторе Гюго, Ламартине и Мюссе".
Постепенно у Верлена завелись друзья и среди надзирателей. Один из них, желая оставить свою работу надсмотрщика, попросил узника давать ему уроки французского языка:
"В качестве платы за уроки славный парень потакал мне — приносил местные газеты, пирожные, шоколад, иногда выпить и очень часто — вот радость-то! как я ему благодарен! — жевательного табаку (ибо жевать табак запрещалось), и необходимость замести следы придавала этой услуге еще больше прелести".
Тем временем, добряк Лепелетье делал все, чтобы хоть как-то порадовать несчастного друга. Получив рукопись "Романсов без слов", он стал подыскивать издателя. В Париже желающих не нашлось, и Лепелетье обратился к своим знакомым в городе Сансе. В ноябре 1873 года там начали печатать тираж, завершив его весной следующего года. Обо всех деталях Лепелетье аккуратно извещал узника камеры № 252, а тот одобрял абсолютно все: бумагу, формат, шрифт, расположение строк. Наконец сборник вышел, и наивный Верлен радостно пишет другу:
"Теперь пусть грядет покупатель".
Он с большим усердием составил список тех, кому следует послать "книжечку" — в частности, включил в него Матильду. Лепелетье с не меньшим тщанием разослал "Романсы без слов" по соответствующим адресам — отклика не последовало ни от кого. И ни единой рецензии в прессе! Как писал позднее Лепелетье: "Верлен был для всех мертв и похоронен".
В целом, можно сказать, что Верлен провел заключение в довольно сносных условиях, испытав лишь неизбежные в таком положении унижения и строгости. Но в духовной его жизни тюрьма сыграла колоссальную роль — речь идет о знаменитом "обращении".
Раскаявшийся грешник
Несчастный! Ты забыл крещенья благодать,
И веру детскую, и любящую мать,
Ты силы растерял, и бодрости не стало,
Тебе грядущее судьба предначертала
Такое светлое, как волны на заре,
Ты разбазарил все в кривлянии, в игре…
— Прости безумного, мой милосердный Бог![90]
В Монсе Верлен вновь обратился к католицизму — и уверовал страстно, со всем пылом неофита. О том, что именно повлияло на него, он рассказал в своих "тюремных" мемуарах:
"Как удалось Тебе уловить меня, Иисусе?
Ах…
Однажды утром добрый начальник сам вошел ко мне в камеру:
— Мой бедный друг, — сказал он мне, — я принес вам дурную весть. Будьте мужественны. Вот, читайте!
Это был лист гербовой бумаги, копия решения окружного гражданского суда департамента Сены о раздельном жительстве и раздельном владении имуществом — решение, в сущности, вполне заслуженное мною (но разве тут дело в "жительстве"? уж не в "имуществе" ли?) и, тем не менее, какое жестокое! Заливаясь слезами, рухнул я на свое злосчастное ложе".
Копия судебного решения пришла в Монс в июне 1874 года. В своих "тюремных" мемуарах Верлен четко указал главный мотив "обращения" — развод с женой, который означал, что он лишился абсолютно всего: он потерял Рембо, в которого стрелял, и был отторгнут обществом, для которого стал изгоем — теперь же его "предала" Матильда, которую он продолжал любить. Для Верлена это было именно предательством. Даже много лет спустя, признавая решение суда "заслуженным", он не смог удержаться и намекнул, что Матильда "ограбила" его. В других сочинениях ему и намеков покажется мало — он прямо назовет бывшую жену "воровкой".
Одной из причин обращения, безусловно, явилась сама тюремная обстановка, колоссально влиявшая на умонастроение узника:
"… в моем тогдашнем состоянии духа, в той беспросветной тоске (хотя, благодаря всеобщему доброму отношению, мне тогда жилось не так уж плохо), в том отчаянии, оттого, что меня лишили свободы; своего рода стыд за то, что я здесь, — все это и произвело во мне ранним июньским утром, после ночи, и горькой, и сладостной, проведенной в размышлениях об истинной Вездесущности и бесконечной множественности Даров причастия, отраженных в святом Евангелии преумножением хлебов и рыбы, — все это, говорю я, и произвело во мне необычную революцию — истинно так! (…)
Не знаю, что — или Кто — внезапно поднял меня ото сна и выбросил из постели, неодетого, и я простерся в слезах, сотрясаясь от рыданий перед распятием…"
Первоначальная "возвышенная вспышка веры" оказалась такой сильной, что Верлен тут же начал проявлять чудеса смирения и кротости — в период написания мемуаров это уже изумляло его самого. Он молился "сквозь слезы, улыбаясь, как ребенок, как искупивший вину преступник", он превратился в "совершенного ягненка" и — о ужас! — отринул всякую светскую литературу, "даже Шекспира, читанного-перечитанного сначала со словарем, затем вытверженного наизусть". Добрый тюремный капеллан снабжал его "божественными" сочинениями — и грешник поглощал их со всем усердием, готовясь к "великому дню исповеди". К изумлению Верлена, готового покаяться во всех мыслимых и немыслимых проступках, капеллан задал ему такой вопрос:
"А у вас никогда не было с животными?"
Верлен ответил честно — "нет", и в результате получил благословение, но не удостоился отпущения грехов и не был допущен к причастию, хотя страстно этого желал. Но в конце концов "засияла заря великого дня", когда Верлен ощутил:
"… всю полноту свежести, самоотреченности, покорности Воле Божией, пережитых в незабываемый день Успения Божьей Матери, в 1874 году. Начиная с этого дня мое заключение, срок которого истекал 16 января 1875 года, показалось мне кратким, и, если б не матушка, я сказал бы — слишком кратким!"
"Внезапное" (как подчеркивал сам Верлен) обращение к Богу вызвало массу комментариев — как при жизни поэта, так и в последующих исследованиях. Рембо встретил это известие с нескрываемой издевкой: лишь его собственные отношения с Христом представлялись ему сюжетом "высокой трагедии", тогда как "детская вера" Верлена заслуживала только пренебрежительных насмешек. Рембо прозвал бывшего друга "Лойолой" — по имени основателя Ордена иезуитов.
Исследователей чрезвычайно занимал вопрос, было ли "обращение" реальным или мнимым, а также насколько оно было устойчивым. Основания для подобных сомнений имеются: поведение Верлена после выхода из тюрьмы далеко не всегда было "христианским" — уж очень быстро прошли те времена, когда Верлен каялся и горячо молился. Веры он не утерял, но вскоре вернулся к привычному "богемному" образу жизни. В "Моих тюрьмах" поэт говорит об этом с горечью. Поводом стало посещение Бельгии: Верлена пригласили туда читать лекции, и он вновь оказался в Монсе девять лет спустя:
"Дорога, по которой я только что проехался этаким князьком, "денежным мешком", на мягких сиденьях, окруженный всевозможными удобствами и заботливым вниманием служащих всех рангов, — я ее уже претерпел однажды, эту дорогу, в тюремном вагоне, а потом — в "волчьей клетке", чтобы высадиться во дворе исправительной тюрьмы, под конвоем полицейских и надзирателей. Там я сначала и стенал, и проклинал, будучи весь во власти своих таких безобразных, дурацких, даже омерзительных сожалений; затем … ко мне пришли обращение к вере и счастье, не покидавшие меня много лет. Постепенно высокий настрой души ослабевал, последовали новые падения…"
Более того, ему не всегда удавалось (и он не всегда хотел) сохранить приверженность католицизму в стихах и прозаических сочинениях. Собственно, он и сам покаянно признавался в этом: упирая на то, что сборники Мудрость", "Любовь", "Счастье", "Литургии для себя" воодушевлены пылкой или более умиротворенной — но всегда искренней — верой, он вынужден был признать, что этого никак нельзя сказать о сборнике "Параллельно".
Развод
Child Wife[91]
Нет, простоты моей вы не могли понять,
Не то вам было надо!
И вы, наморщив лоб, спешили убежать,
С упрямством и досадой.
И взор, который мог лишь нежность отражать,
Быть зеркалом лазури,
Вдруг, гневом омрачась — мне больно вспоминать, -
Горел, как небо в буре.
И маленькой рукой грозили гневно вы,
Как богатырь могучий,
И крики злобные сжимали грудь — увы! —
Вам, слитой из созвучий!
Но как боялись вы сердечных бурь и гроз,
В душе еще ребенок!
И с вашей матерью роптали вы меж слез,
Как блеющий ягненок.
Нет, вы не поняли любви и честь и свет,
Любви простой и милой.
Спокойной в радостях, веселой в пору бед,
И юной до могилы![92]
Это стихотворение входит в сборник "Романсы без слов", в котором многие строки посвящены Матильде — Верлен пытается свести с ней счеты и доказать свою правоту. "Добрая песня" уже давно была спета — начались другие времена. После злополучного свидания в Брюсселе Матильда подала иск о раздельном проживании супругов. Дело оказалось из разряда простых, настолько очевидной выглядела вина мужа. Постановление суда от 24 апреля 1874 года гласит:
"Ввиду того, что … вскоре после заключения брака Верлен стал пить и в состоянии опьянения часто совершал насильственные действия по отношению к жене…
Ввиду того, что… Верлен оставил семейное жилище и переехал на жительство в Брюссель, где беспрепятственно предавался привычному пороку пьянства…; что он вступил в гнусные отношения с одним молодым человеком; что 8 августа 1873 года он был приговорен уголовным судом Брюсселя к двум годам тюрьмы и штрафу в двести франков за огнестрельные ранения, нанесенные означенному лицу, причем к этим злонамеренным и насильственным действиям побудила его ревность…
По совокупности этих причин:
— означенные супруги должны жить раздельно и произвести раздел имущества;
— ребенок, ставший плодом этого брака, должен быть отдан на попечение матери; (…)
— Верлен обязан платить своей супруге алименты в сумме сто франков в месяц… и возместить расходы по иску….
Известие о расторжении брака Верлен получил в тюрьме. "Принцесса Мышь" убежала от него навсегда, хуже того — через несколько лет она вновь вышла замуж и — что самое ужасное — посмела быть счастливой. И Верлен почти сразу начинает сочинять собственную версию того, что произошло между ними. Здесь уместно напомнить предысторию развода.
Первое прошение о раздельном проживании Матильда подала в феврале 1872 года (после того как Верлен ушел из дома) и сразу же уехала на юг. Верлен из Лондона шлет послание Лепелетье, из которого видно, что он приготовил свои батареи к атаке:
"Ты само собой в курсе всей этой истории… Похоже, что мой отъезд с Рембо вызвал кривотолки. Подумать только, как это аморально — путешествовать вместе с другом! И все забыли, что моя жена два месяца была одна в Перигё, и ее адреса я не знал… Разумеется, я страстно желаю, чтобы она ко мне вернулась, и это даже остается моей единственной надеждой…".
Оставшись в одиночестве после отъезда Рембо и утвердившись в мысли, что жена больше не желает его видеть, он решает забыть этих "подлых людей". Из письма другу в декабре 1872:
"Черт возьми! Теперь мне дозволен любой реванш… Я столько страдал, столько умолял и столько прощал, что теперь не собираюсь отказываться от радостей честного семейного союза, хотя бы и созданного без участия мэра Монмартра…"
Верлен создает себе "алиби" в стихах с английскими названиями" — "Сплин", "Жена-ребенок". И проявляет при этом удивительную наивность — обычное для него сочетание простодушия и цинизма. Он решил посвятить "Романсы без слов" Рембо — по выражению Марселя Кулона, это означало вручить противникам палку для собственного избиения. Адвокат "семейства Мотэ", несомненно, воспользовался бы таким подарком, и Лепелетье пытается внушить это своему другу, но Верлен заявляет, что "очень, очень дорожит этим посвящением": во-первых, из чувства протеста; во-вторых, потому что "стихи были написаны, когда он был здесь"; в-третьих, из чувства "признательности за преданность и любовь", которые всегда проявлял к нему Рембо:
"Процесс не заставит меня стать неблагодарным. И почему нужно считать неприличной дерзостью посвящение книги (составленной частью из дорожных впечатлений) тому, кто был спутником во время этого путешествия?".
Даже после своего "обращения" в тюрьме он не испытывает по отношению к Матильде никаких христианских чувств. 8 сентября 1874 года он посылает Лепелетье одно из лучших своих "католических" стихотворений, вошедших затем в сборник "Мудрость", и уверяет друга в искренности своего религиозного рвения. Далее следует пассаж, посвященный жене:
"Пусть эта жалкая маска подавится своим плевком…"
Даже обретя веру, Верлен не способен был отречься от злобы — иными словами, он так и остался грешником.
И только в минуты прозрения он мыслил иными категориями: "Это был грубиян, уличный пьяница, худший из мужей…". Зато в других стихах он поносит Матильду последними словами, называя ее "гнусной мерзавкой", "воровкой" (поскольку она украла у него не только сына, но и деньги), "бессердечной и вздорной бабой". Обвинения эти настолько грубы, что невольно возникает впечатление, будто он озлобился по справедливости — видимо, Матильда и в самом деле оказалась недостойной женой. Верлен (и вслед за ним Лепелетье) был убежден, что жена перед ним виновата — хотя бы тем, что была холодна:
Несомненно, Верлен был искренен (как всегда) в своих инвективах, но Марсель Кулон справедливо замечает по этому поводу: "Быть искренним слишком легко; и искренность в глазах психолога отнюдь не всегда представляется добродетелью".
Верлен, за очень редкими исключениями, никогда и ни в чем не обвинял Рембо, зато к жене не проявил ни капли жалости или сострадания. В конце 1872 года он ведет бурную переписку с Лепелетье, где всячески пытается доказать свою правоту:
"Увы, я сама нежность и наивность. (…) Разумеется, я буду защищаться, как настоящий дьявол, и буду в свою очередь атаковать. У меня есть куча писем, целый ворох "признаний", и я ими воспользуюсь, раз уж мне подали такой пример. Ибо я чувствую, что на мою искреннюю любовь, свидетелем которой ты был в эту зиму, ответили полным презрением… (…) Мне по-прежнему грустно, что против меня взбунтовалась жена, для которой моя мать столько сделала, а я столько перенес. (…) Мне сломали жизнь тысячью коварных и мерзких подлостей, и, хоть я человек не слишком чувствительный, все это меня постепенно убивает".
Готовясь к суду, он решил составить памятную записку, где намеревался разоблачить "неслыханное коварство" жены и опровергнуть "гнусное обвинение" по поводу его чистейшей дружбы с Рембо. Ему не удалось осуществить этот замысел, но его памятной запиской в защиту себя стали "Песни без слов". Кстати говоря, он был совершенно убежден, что "не может не выиграть этот процесс". Однако после выстрелов в Брюсселе дело стало безнадежным. Естественно, решение было вынесено в пользу истицы — Матильды. Ее адвокат произнес блестящую речь, тогда как адвокат Верлена даже не посчитал нужным взять слово. По тогдашним французским законам развод можно было получить только после десяти лет раздельного проживания: в 1884 году Матильда Мотэ, экс-мадам Верлен, воспользовалась своим правом. На склоне жизни, в "Исповеди", Верлен признал, что дружба с Рембо сыграла некоторую роль в крушении брака, но вновь возложил вину на Матильду, которая прониклась к Артюру "совершенно не оправданной ревностью".
Эдмон Лепелетье, верный друг Верлена, был неисправимым моралистом, однако в данном случае негодование его было направлено на супругу, которая будто бы не выполнила свой долг:
"Она ничего не сделала, чтобы сохранить и спасти мужа, от которого отреклась. Преисполнившись равнодушия к его планам, к литературному таланту, к растущей славе, она видела в нем лишь вульгарные недостатки. (…) В этом заключается причина несчастья, и молодая женщина, ныне ставшая почтенной матерью семейства, несет большую долю ответственности за беспорядочную, беспутную жизнь поэта. (…) Ибо я должен повторить, что он любил ее всем сердцем, любил всегда и любил только ее одну".
Разумеется, Лепелетье не посмел отрицать слишком уж очевидные факты, но постарался интерпретировать их в пользу своего друга:
"Я далек от мысли возлагать всю вину на обиженную и уязвленную супругу, которой порой немного пренебрегали… Ежедневные ссоры, постоянное нервное напряжение, оскорбительные слова и даже угрозы, многочисленные тягостные сцены, усугубленные пьянством, вероятно, сделали для нее совместную жизнь невыносимой — как и указано в бумагах поверенного. Она сочла развод предпочтительным и даже желанным. Однако Верлен был добрым и любящим мужем, поэтому к нему нужно было относиться как к больному. Страдальцы заслуживают сожаления. Им прощают некоторые отклонения и неблаговидные поступки, не придают большого значения их дурному настроению, забывают даже о насильственных выходках. Выздоровление было возможным, но молодая жена, которую он обожал, должна была вести себя как подлинная хозяйка дома, как сиделка и сестра милосердия — скажу больше, как врачеватель его измученной души и страж его бунтующей плоти. Она не смогла или не захотела осуществить эту миссию исцеления".
Лепелетье винит и родных Матильды: "Они могли, они должны были проявить большее терпение к нервическому темпераменту поэта, отягощенного пристрастием к алкоголю. Верлен был мягок и послушен. Он хотел лишь того, чтобы его простили, утешили, призвали".
При этом простодушный Лепелетье тщательно отмечает, как стремительно прогрессировал алкоголизм Верлена, рассказывает в связи с этим множество поучительных историй (в частности, эпизод в Булонском лесу, когда Верлен погнался за ним со стилетом в руках), и приходит к выводу, который противоречит его же собственным рассуждениям:
"Он был слаб и не мог противостоять соблазнам; алкоголь овладевал им, и в пьяном виде он уже не контролировал ни речей своих, ни поступков".
Марсель Кулон замечает в связи с этим, что сам Лепелетье вряд ли пожелал бы такого зятя для своей дочери, а ведь Матильда была сущим ребенком, когда выходила замуж.
Бывшей жене принадлежит третья и самая поздняя по времени версия.
Получив развод, Матильда жила в Бельгии, в Италии, затем в Ницце, где и умерла 13 ноября 1914 года. Во втором браке она была счастлива — к великому отчаянию Верлена. О своей жизни с поэтом она рассказывала только близким, но ее вывели из себя статьи и особенно книга Лепелетье, который стремился защитить память покойного друга. Поначалу она попыталась воззвать к совести Лепелетье и, частности, напомнила, что "спасла ему жизнь" во время разгрома Коммуны. Разумеется, это не подействовало на Лепелетье, озабоченного только репутацией Верлена: в своей книге он не пожалел нескольких страниц с целью доказать себе и другим, что был спасен своим лучшим другом — заслуга "молодой мадам Верлен" состоит лишь в том, что она помогла спороть галуны и канты с одежды, выдававшей принадлежность к федератам (бойцам Коммуны). В 1907 году Матильда взялась за мемуары, которые были изданы стараниями Франсуа Порше. Впервые о них было упомянуто в статье "Сорок лет спустя", появившейся в "Фигаро" 31 мая 1912 года. Автор статьи — Фернан Вандерен — познакомился с Матильдой Дельпорт (экс-мадам Верлен) на одном из званых обедов. Она доверила ему некоторые записи с разрешением опубликовать. Через год Жорж Морвер издал небольшие отрывки в "Эклерёр де Нис" (в 1929 их воспроизвел Марсель Кулон в книге "Верлен, сатурнический поэт"). Порше получил копию рукописи: 170 машинописных страниц с заголовком "Матильда Мотэ де Флервиль: годы мой семейной жизни с Верленом. 1907–1908" (дата написания). В предисловии она назвала основный мотив появления мемуаров: "Не желая оскорбить память несчастного покойника, который тяжко заплатил за свои прегрешения, считаю себя вправе восстановить истинное положение вещей". Франсуа Порше невысоко оценивает умственные способности Матильды и ее литературный дар, но сведения о Верлене считает бесценными: "На многие вещи они проливают новый и зачастую пугающий свет". Главным достоинством этих воспоминаний исследователь считает их искренность: "… мы полагаем, что свидетельство это заслуживает доверия. Сама наивность Матильды, которая могла бы вызвать даже насмешку, еще более усиливает впечатление той буржуазной — быть может, ограниченной, но неколебимой — честности, которая исходит от этих тягостных воспоминаний. (…) Я резюмирую свое мнение следующим образом: она любила и, пока любила, проявляла необыкновенное терпение. Когда она перестала любить, то словно очнулась от кошмарного сна; ей трудно было поверить, что она могла так долго выносить подобную жизнь". Кстати говоря, после развода она испытывала искренний ужас по отношению к бывшему мужу: когда поэт Жан Мореас однажды произнес перед ней имя Верлена, она побледнела и задрожала. Тем не менее, она мучительно пыталась понять, каким образом все рухнуло: "Что же все-таки произошло? В чем причины несчастья, моей разбитой жизни, а затем печальной и злополучной жизни Верлена? — Рембо, абсент!" Она поставила Рембо на первое место, а пьянство — на второе, поскольку считала, что Верлен вновь запил после появления "мерзкого мальчишки". На самом деле, это случилось раньше — роковую роль в их семейной жизни сыграла осада Парижа и Коммуна, после падения которой Верлен лишился места в Ратуше.
Перемена участи
Не мешкая, иди своим путем.
Он долог. Впереди крутой подъем.
Знай, помешает лишнее в дороге,
В походе ты оставь свой скарб убогий,
Останься нищим. Бог всегда с тобой.[94]
16 января 1875 года Верлен обрел желанную свободу. Он провел в заточении 561 день вместо положенных по приговору 730 дней. Хотя его мать неоднократно подавала прошения о досрочном освобождении, все было сделано в полном соответствии с законом от 4 марта 1870 года: заключенному сократили срок на 169 дней, поскольку он отбывал наказание в одиночке и его поведение не вызывало нареканий. В тюремном регистре о Верлене сохранились следующие записи:
Владение ремеслом: отсутствует.
Пригодность к работе: то же самое.
Характер: слабый.
Исправление: возможно.
Обращает на себя внимание последняя рубрика: многоопытные тюремные служители хорошо знали, что слабость характера способствует рецидиву. Как бы там ни было, Верлен покинул место своего заточения. У ворот тюрьмы его ожидала мать и два жандарма. Бельгия не нуждалась в иностранных преступниках — все французы подлежали немедленной высылке на родину:
"После освобождения из-под стражи, обмена рукопожатиями с канцелярскими служащими, а еще раньше — с капелланом, начальником тюрьмы и надзирателями, я вышел из "клетки", встреченный матушкой, ничего не соображая, и — наконец-то! — мы с матушкой меж двух жандармов в меховых шапках над безусыми лицами — на Монском вокзале".
Вероятно, в эту минуту Верлен еще не понимал, что отныне становится изгоем — быть может, на долгие годы. Первый звонок прозвучал на границе: французские блюстители порядка не слишком-то приветливо встретили депортированных из Бельгии соотечественников. Верлен ощутил это на себе:
"Что касается меня, то, многократно просклоняв (а почему бы и не проспрягав?) мое имя, фамилию и род занятий, бригадир жандармов… проводил меня следующим напутствием — таким — не правда ли — законным, суконным, "фараонным":
— И не вздумайте приниматься за старое.
— Не буду, господин бригадир…"
Стефани и ее дорогой "разбойник" отправились к родным в Фампу. Здесь Верлен провел чудесный месяц, о чем и поведал в письме к Лепелетье:
"Мы живем здесь превосходно, и так приятно вдыхать деревенский воздух — даже при северном ветре, что в большой город меня совершенно не тянет".
Поэт слегка лукавил. Видимо, в Фампу он начал осознавать, что к прошлому возврата нет. Прежние неприятности, связанные с участием в Коммуне, не шли ни в какое сравнение с тем, что ему предстояло пережить: отныне он был человеком, отсидевшим в тюрьме за покушение на убийство. В феврале он съездил в Париж, чтобы повидаться с адвокатом Матильды, но тот даже не принял его. О возвращении в столицу нечего было и думать — от Верлена шарахались, как от зачумленного. Старые соратники по Парнасу не были исключением. Верлен принимал участие в двух первых выпусках "Современного Парнаса" (1866 и 1870). В июне 1875 года он узнает, что готовится выход третьего, и посылает свои стихи Эмилю Блемону. В октябре тот сообщил ему, что его кандидатура отклонена. Верлен ответил ему из Англии:
"Совсем не удивлен этим результатом. И отнюдь не расстроен. Со стороны тех, о ком вы говорите, это чистое свинство; с моей стороны — двойная, тройная глупость. Жаль только, что Лемер, который, в сущности, неплохой человек, стал игрушкой в руках этих славных людей — они над ним насмехаются и эксплуатируют его. Но это не мое дело, и пусть имсопуствует удача. Как вы думаете, когда Парнас выйдет, мне хотя быдостанутся экземпляры? Спросите Лемера: ведь это не задевает интересов Совета Четырех…"
В "Комитет Четырех" входили тогда Леконт де Лиль, Теодор де Банвиль, Франсуа Коппе и Анатоль Франс. После публикации протокола заседания выяснилось одно, не известное Верлену обстоятельство: Леконт де Лиль (которого поэт подозревал во враждебном отношении к себе) в обсуждении участия не принимал, и его судьбу решили "друзья" — Анатоль Франс проголосовал против, а Коппе и Банвиль воздержались. Резолюция гласила: "Недостойный автор и чрезвычайно плохие стихи". Впрочем, в числе отвергнутых оказался не только Верлен. Комитет отказался публиковать "Послеполуденный отдых фавна" Стефана Малларме: Франс с Коппе проголосовали против, и лишь добросердечный Банвиль высказался в пользу "редких по гармоничности и музыкальности стихов". И все трое единодушно "зарубили" не вошедшие в сборник "Цветы зла" стихи Шарля Бодлера — на том основании, что подобная публикация была бы "кощунственной" (Банвиль) и "мерзкой" (Франс), одним словом, "невозможной" (Коппе).
Во Франции Верлену оставаться было незачем: даже материнская родня в Артуа проявляла к нему заметную холодность, литературные собратья его отвергли, в Париже ему места не было. При этом нужно было как-то зарабатывать на жизнь, но в ближайшие годы о "приличной" службе нельзя было и помышлять. Поэтому Верлен обратил взоры на Англию и уже в марте 1875 года вновь оказался в Лондоне. На сей раз он приехал один и с самыми "респектабельными", как он выразился, намерениями — немедленно отправился на биржу труда и попросил место преподавателя французского языка. Через неделю ему предложили место школьного учителя в деревушке Стикни под Бостоном (графство Линкольншир), о чем Верлен тут же сообщил Лепелетье:
"Я буду преподавать французский язык, рисование и мертвые языки за жилье, питание и стирку".
Директор школы Уильям Эндрюс принял своего иностранного коллегу приветливо. Хотя англичанин едва говорил по-французски, а Верлен все еще очень плохо знал английский, они на удивление быстро сошлись. Поэт попросил разрешения начать с уроков рисования: видимо, его несколько пугала перспектива преподавать язык ребятишкам, с которыми он пока не мог объясниться. Но постепенно дело пошло на лад, вскоре Верлен стал давать и частные уроки. В семействе Эндрюсов он чувствовал себя, как дома, и ежедневно у них обедал: даже на склоне лет он с наслаждением вспоминал о пудинге с лимонной цедрой и восхитительных ростбифах. Это было в высшей степени размеренное существование. Примерно через месяц Верлен сообщил Делаэ:
"Жизнь здесь безумно спокойная… Мне страшно нужен покой, ибо я чувствую, что не вполне еще исцелился от прежних моих идиотских выходок, и поэтому с какой-то даже свирепостью пытаюсь одолеть мое старое "я" Брюсселя и Лондона в 72–73, а также и особенно — Брюсселя в июле 73".
Впрочем, уже в начале 1876 года в письмах Верлена появляются нотки некоторой усталости. Если прежде он находил умиротворение в английской природе, то теперь признается Делаэ, что она "слишком уж красивая". Впрочем, пока это только легкий намек на то, что и спокойствие приедается. Верлен много пишет в это время: вера его порой становится такой страстной, что у него появляется замысел создать целую поэму во славу Девы Марии, о чем он сообщает в письме к Эмилю Блемону от 19 ноября:
"Это нечто вроде эпопеи, повести на одном дыхании, от четырех до пяти тысяч строк или более".
Но даже размеренная жизнь с ежедневными уроками и прогулками, с обязательным вечерним чтением назидательных книг и пылкими молитвами не может изгнать некоторые воспоминания, освеженные встречей в Штутгарте. 2 сентября 1875 года в письме к Делаэ он спрашивает:
"Что слышно об Оводе?".[95]
Этот же вопрос он повторяет 26 октября. Наконец, 27 ноября он требует уже более подробных сведений:
"Пришли мне новости об Омэ … У кого он живет? Я живо представляю себе какого-нибудь родственника или родственницу с ангельским характером, которые просыпаются ночью от того, что к ним вламываются на четвереньках, облаивают последними словами (как мне это знакомо!) и совершают прочие подвиги!"
В течение трех-четырех лет Верлен будет следить за перемещениями "Овода" — благодаря письмам Делаэ. Лишь после отъезда Рембо на Восток он окончательно утеряет его след. В стихотворениях этого периода Верлен то насмехается над бесконечными странствиями бывшего друга, то взывает к небесам о милости:
"Боже смиренных, спаси это дитя гнева!"
Впрочем, Рембо вряд ли тронули бы эти проникновенные строки. Известно, что Верлен послал ему одно из лучших стихотворений, вошедших в сборник "Мудрость":[96] позднее Изабель Рембо обнаружила эти листочки… в отхожем месте.
Стефани тем временем обосновалась в Аррасе. Сюда Верлен приезжал на летние и рождественские каникулы в 1875 году. В августе его навестил Делаэ и оставил интересные воспоминания об этой встрече. Друзья рассматривали семейный альбом с фотографиями, одна из которых выпала:
"Я узнал это лицо с первого взгляда, а простодушная мадам Верлен сказала:
— Это месье Рембо.
— В самом деле, — сардонически заметил Верлен, — это мусью Рембо… несчастье мое… знаешь что, дай-ка мне ее…
О, ужасный человек! Что он делает и зачем я протянул ему этот злополучный альбом! Рядом с фотографией его жены находится изображение какого-то честного родственника; он засовывает эту фотографию в другое место, а на ее место помещает Рембо, который теперь составляет пару с изящной героиней "Доброй песни". Мадам Верлен побледнела.
— Поль! Я тебе запрещаю!
Напрасный протест, жестокий и не думает отступать… напротив, поступает еще хуже. Раскрытый альбом лежит у него на ладонях, он с треском захлопывает его и разражается жутким смехом.
Мадам Верлен ломает руки, но Поль продолжает смеяться словно демон:
— А что такого? Я соединил два существа, которые принесли мне больше всего страданий. Это очень хорошо! Это мое правосудие!"
Весной 1876 года года мать, по-прежнему легкая на подъем, невзирая на свои шестьдесят четыре года, перебралась к сыну в Стикни. Поль решил устроиться в Бостоне, чтобы жить вместе с матерью. Он считал, что уже приобрел некоторую известность, и с работой у него проблем не будет. Но вскоре выяснилось, что он переоценил свои возможности. 1 июня мать и сын покинули Бостон: Верлен отвез ее в Аррас и тут же вернулся в Англию. Ему удалось получить место учителя в Борнемауте (графство Хемпшир) — курортном городке на берегу моря.
Лето 1876 года он вновь провел в Аррасе и Фампу, а затем вновь стал тянуть преподавательскую лямку. Школа считалась "пансионатом для избранных": у Верлена было всего около двенадцати учеников и среди них несколько ирландцев — "сущих дьяволов". Один из них бросил в учителя французского языка "снежок", в котором оказался камень. Верлен, получив удар в голову, на какое-то время лишился чувств, но, придя в себя, никого обвинить не посмел. В результате директор школы пришел к выводу, что французский преподаватель "не умеет держать класс в руках". По окончании учебного года поэт почувствовал, что начинать следующий здесь ему не хочется. К тому же, он пребывал в добровольном изгнании уже два года и три месяца — его тянуло на родину. Проведя каникулы в Аррасе, он все же вернулся в сентябре в Борнемаут, но написал Лепелетье, что рассчитывает в самом скором времени перебраться в Париж и подыскать себе место учителя, благо опыт у него уже был. В этом же письме от 2 августа 1877 года он сообщил:
"У меня масса стихов. Томик вскоре будет готов. Постарайся найти мне не слишком жадного издателя".
Речь шла о сборнике "Мудрость". А в ноябре 1877 года Верлен осуществил свое намерение вернуться во Францию. Он устроился преподавателем литературы, истории, географии и английского языка в семинарии небольшого арденнского городка Ретель. В этом заведении до него работал Делаэ, которому пришлось оставить свое место из-за конфликта со школьной администрацией. Когда Верлен в конце сентября заглянул в Париж, Делаэ рассказал ему о своих неприятностях. Поэт сурово отчитал друга за легкомыслие. Через неделю Делаэ получил от Верлена письмо, которое начиналось словами: "Мой дорогой предшественник". Оказалось, что Поль, получив столь ценные сведения от простодушного Эрнеста, прямиком отправился в Ретель и предложил свои услуги директору коллежа Нотр-Дам. Он представил свои английские дипломы и рекомендательные письма — и его с большой охотой приняли. Естественно, он и словом не обмолвился о том, что побывал в бельгийской тюрьме. Делаэ простил другу эту маленькую хитрость — качество, которым Верлен отнюдь не был обделен.
В Ретеле Верлен провел два года. Если верить Малларме, он изобрел новый метод постановки английского произношения. Суть его состояла в том, что для начала французы должны просто имитировать английский акцент. Ученики Верлена приветствовали его словами "баунджур, маусью Вайерлан" (вместо "бонжур, мсье Верлен"). Метод имеет неоспоримое преимущество в том, что с его помощью можно преподавать английский, не зная этого языка.
В коллеже Верлен имел свою комнату и обедал в школьной столовой вместе с директором и другими учителями — большей частью, священнослужителями. Меню было не слишком разнообразным, но всегда неизменным оставалось одно — литр вина на четверых. Подружившись с коллегами, Верлен охотно соглашался выпить с ними рюмочку-другую. В течение нескольких лет он не брал в рот ни капли спиртного, и, казалось, эти невинные радости не несли в себе никакой угрозы. И в первый год все, действительно, шло отлично. В это время Верлен еще не потерял надежду примириться с женой — он полагал, что дорогой ценой искупил злосчастное прошлое, а своей размеренной жизнью доказал, сколь велико его раскаяние. К тому же, он "уверовал": если священник отпустил ему грехи, то почему должна упорствовать Матильда? Верлен вообще был склонен считать, что он гораздо ближе к Богу, чем его бывшая жена, которая получила нерелигиозное воспитание. Стихи этого времени умоляют о прощении — Верлен посылал их Матильде через Шарля де Сиври с наказом передать "принцессе", которую теперь именовал "очаровательной". Про "принцессу Мышь" он теперь не вспоминал.
Матильда, естественно, смотрела на дело иначе. Она могла бы вернуться к Верлену, если бы была безумной или святой. Но она была женщиной чрезвычайно разумной, хотя и ограниченной. Однако, как справедливо отмечает Франсуа Порше, "ограниченные люди также имеют право на спокойствие". Оставалось решить вопрос о сыне. Постановлением суда ребенок был вверен попечению матери — отцу разрешалось только видеться с ним. Верлен утверждал, что семейство Мотэ не допускало его к Жоржу, однако если верить Матильде, дело было не так:
"Он написал моей матери, что хочет видеть сына. Мои родители ответили, что он может придти и его примут. Был назначен день и час. (…) Моя мать приняла его у постели ребенка, мой отец также поднялся в спальню, чтобы повидаться с ним. Они говорили только о Жорже, мое имя ни разу не было произнесено, и не прозвучало ни единого намека на прошлое. Он ушел счастливый, попросив разрешения придти еще раз до отъезда, в чем ему не было отказано. Через несколько дней он вернулся и долго беседовал с моей превосходной матерью, рассказывая ей, как он счастлив в Ретеле в обществе веселых и кротких священнослужителей. Ободренный благосклонным отношением моей матери, он поведал ей, что надеется однажды вернуться в этот столь гостеприимный дом, покинутый в дни безумия, которое он неустанно проклинал в письмах к своему другу Лепелетье. Времена изменились. Он отдал бы все, чтобы возобновить совместную жизнь. Моя мать, тронутая таким расскаянием, сожалением и и той любовью, которую он, по его словам, испытывал ко мне, не сочла возможным отнятьу него последнюю надежду, мы оба еще так молоды, будущее покажет… На самом деле моя мать вовсе не хотела нового сближения: сколько раз мы видели Верлена кротким и раскаивающимся, а затем вновь впадающим в свой ужасный порок! Но она не хотела, чтобы он свернул с того честного пути, на который ступил. Из Ретеля Верлен несколько раз писал моей матери, справляясь о сыне; он послал Жоржу несколько небольших подарков, альбом для фотографий, иллюстированную английскую книгу… Внезапно он перестал писать моей матери, словно бы забыв, что у него есть сын, и до нас не доходили никакие вести о нем".
Матильда не упоминает о том, что в 1879 году на улицу Николе приходил Делаэ — в качестве посланника Верлена и с миссией добиться примирения супругов. Гостя принимал ее отец, который мог и не рассказать об этом дочери. Г-н Мотэ дал понять Делаэ, что "некоторые вещи поправить невозможно". Впрочем, и Верлену в то время было что скрывать: "старое безумие" готово было вновь настигнуть его, поправ собой долгие месяцы совершенно безупречной жизни и строжайшего воздержания.
Люсьен Летинуа
Тебя я помню на коне,
Когда кругом звучали трубы,
И твой припев солдатский мне
Звучал тогда сквозь те же трубы. (…)
Мечтал я: воинская смерть
Твой гроб знаменами покроет;
Но Бог велел, и эта смерть
Была простой: убил тифоид.[97]
Верлен не умел жить один. Ему нужна была любовь — и, желательно, не одна. Возможно, идеальным вариантом для него была бы любовь к женщине и к мужчине одновременно — кстати говоря, именно такую ситуацию он пытался создать, когда призвал к своему одру "умирающего" и Матильду, и Рембо. В период его пребывания в Ретеле все его попытки примириться с женой окончились провалом, и он ей этого не простил никогда — именно с этого времени начинается второй "прилив" злобы, который вновь приведет к мыслям об убийстве.
Однако непреклонность Матильды сыграла в "падении" Верлена второстепенную роль. Решающими оказались факторы природные — отравленная кровь алкоголика и склонность к "содомскому греху". Среди ретельских учеников Верлена был подросток по имени Люсьен Летинуа. Его родители были простыми крестьянами в Куломе (округ Вузье). По описанию Делаэ, юноша был довольно высокого роста, с живыми карими глазами и кротким взглядом. Лепелетье, который познакомился с ним через несколько лет, нашел его "бледным, хрупким, худощавым". Но Верлен смотрел на него другими глазами — его нежный друг был "тонкий, как девочка большая". Поначалу Верлен настаивал на том, что испытывает к нему чисто отцовские чувства — он будто бы заменил Жоржа, с которым ему не позволяли видеться (и о котором он как раз в это время забыл). Между Жоржем и Люсьеном было более десяти лет разницы — семнадцатилетний Люсьен, конечно, мог выступать в роли "заместителя", как говорят психиатры, но замещал он отнюдь не маленького сына. И если имя его пробуждало воспоминания о Люсьене Виотти, то высокий рост и арденский говор воскрешали образ Рембо. Правда, на сей раз ситуация кардинально отличалась от прежних двух: Верлен сам истово верил, и Люсьен был чрезвычайно набожен. Эта связь возникла под запах ладана. Было и еще одно обстоятельство, отличное от былых отношений с Рембо. Верлен был учителем Люсьена: он мог давать ему советы и выговаривать, наказывать и поощрять — иными словами, главенствовать. Это был своеобразный реванш за годы рабства — больше он не будет "безумной девой", которая склоняется перед волей "инфернального супруга".
По окончании учебного 1879 года директор вызвал к себе Верлена, поблагодарил его за превосходную работу и сообщил, что от изучения английского языка решено отказаться. Это было замаскированное увольнение. За несколько месяцев доэтого в Ретель приезжал местный епископ, и Верлен совершил крайне неосторожный поступок: он рассказал прелату обо всем, что произошло в Бельгии в 1873 году. По его словам, этим признанием он хотел облегчить свою совесть. Епископ, похвалив это благое намерение, отпустил ему грехи. Никаких видимых последствий этот разговор не имел, но в конце учебного года стало ясно, что в услугах Верлена здесь больше не нуждаются.
Возможно, поэт расстроился бы куда сильнее, но тут Люсьен, который провалил годовые экзамены, решил уйти из семинарии. В октябре 1879 года учитель и ученик отправляются вместе в Англию — старым, проторенным маршрутом. Верлен получил место преподавателя в Лимингтоне (графство Хемпшир). Родители Люсьена не возражали: это были очень простые люди, которые ничего не имели против путешествия сына в Англию, которое оплатил по доброте душевной его старший друг. Так в жизни Верлена повторился 1872 год.
В конце декабря Поль и Люсьен покидают Ливингтон, с намерением отправиться в Париж. На рождество они останавливаются в английской столице, где происходит окончательное выяснение отношений и заключается своеобразный договор. Признание содержится в стихах Верлена, который "обладал даром превращать в чистое золото самые низменные предметы". Конечно, подстрочник являет собой лишь бледное отражение прекрасных строк, вошедших в сборник "Любовь":
"О гнусная темнота самого веселого дня в году в чудовищном городе, где свершилась наша судьба… Угрызение в смертельном грехе сжимало наши одинокие сердца… И отчаяние наше было таким, что мы совсем забыли о земле".
Отметим также довольно забавную в данном контексте склонность поддерживать установившийся порядок вещей. Еще во время первого путешествия в Англию Верлен назвал Лондон "городом из Библии" — следовательно, именно здесь и подобало вторично приобщиться к "библейскому" греху.
Вернувшись во Францию в январе 1880 года, Верлен принимает решение навсегда связать свою судьбу с юношей, которого именует теперь "приемным сыном". Он живет померенно то у матери в Аррасе, то в Куломе — на правах гостя семейства Летинуа. Из-за цилиндра необычной формы и клетчатой крылатки местные жители прозвали его "англичанином". После того, как в кантоне стало известно о совместном путешествии в Лондон, он получил второе прозвище — совершенно неудобопроизносимое.
В конце февраля поэту удается выпросить у матери 30 тысяч франков — свою долю отцовского наследства, уже несколько раз промотанную. На эти деньги он покупает ферму в Жюнивиле, в семнадцати километрах от Кулома, записав эту земельное владение на имя отца Люсьена. Никому из своих знакомых он не признавался, что живет в Жюнивиле: в письмах к Валаду он дает свой аррасский адрес, да и тот просит никому не сообщать — "я в Америке". Скрытность эту можно объяснить только одним обстоятельством: если бы в Париже узнали, какой образ жизни Верлен ведет в деревне, все старые подозрения и слухи ожили бы вновь.
Тогда же Верлен готовит к печати сборник "Мудрость", который посвящает своей матери. В списке лиц, которым он выражает признательность, привлекают внимание три имени: Виктора Гюго ("вы были добры ко мне в тяжкие дни"), императрицы Евгении и папы Льва XIII. Бывший коммунар отныне становится защитником "порядка" и истовым ревнителем веры. Возможно, это объясняется и стремлением вернуть хотя бы тень прежнего социального статуса. Но Верлен получает оплеуху: в 1881 году издатель Пальме, напуганный дошедшими до него слухами, отказывается распространять тираж "Мудрости", хотя Верлен полностью оплатил все расходы на издание — недаром Карл Жорис Гюисманс, автор декаденстского романа "Наоборот", назвал Пальме "набожной сволочью". Поэту пришлось пустить в ход старые стихотворения, оставленные про запас. И в конце 1882 года недавно созданный журнал "Пари модерн" опубликовал "Поэтическое искусство" (написанное в тюрьме Монса) и еще три сонета. Это были первые стихи Верлена, появившиеся в печати за десять лет!
Между тем, нужно было позаботиться о будущем Люсьена. Юноша выразил желание стать офицером, и Верлен заплатил 1500 франков за место в полку — сроком на один год. Когда юный херувим преобразился в стажера-артиллериста, поэт отнюдь с ним не расстался, повсюду сопровождая воинскую часть и снимая жилье поблизости от походных лагерей. Осенью 1881 года Люсьен возвращается в Жюнивиль. Дела на ферме идут все хуже и хуже: доходов нет никаких, расходы и долги растут — словом, все предвещает близкое разорение. Лепелетье позднее обвинял в этом отца Люсьена: хитрый крестьянин якобы воспользовался неопытностью Верлена в хозяйственных делах и обобрал его. В действительности, фермой никто не занимался: родители Люсьена были слишким старыми, а сын не мог им помочь, поскольку Верлен постоянно его отвлекал. Сам поэт наивно считал, что земля должна плодоносить сама по себе и был сильно изумлен тем, что столь удачное вложение капитала не принесло процветания. В стихах он именовал земледельческий труд "прекрасным ремеслом, которое благословляет тех, кто им занимается" — но в реальной жизни это занятие вызывало у него отвращение. И неизбежное случилось: кредиторы подали в суд, и ферма была продана за бесценок. Родителям Люсьена пришлось на какое-то время укрыться в Бельгии.
Нужно отдать Верлену должное: к таким вещам он всегда относился философски. В октябре 1882 года поэт перебирается в Париж, где за десять лет, прошедшие после бегства с Рембо, бывал лишь короткими наездами. У него появляется — казалось бы, безумная — идея вновь поступить на административную службу. Самое удивительное, что это ему почти удалось. Лепелетье был дружен с префектом Сены Шарлем Флоке, и тот стал ходатайствовать за Верлена. К несчастью, прошение было рассмотрено не сразу, Флоке же вскоре покинул префектуру. Без его покровительства все оказалось тщетным: поэту припомнили многочисленные прегрешения — участие в Коммуне и суд в Брюсселе, а также весьма сомнительную нравственность.
Родители Люсьена тем временем вернулись из Бельгии. Верлен снял для них квартиру в Париже, но эти крестьяне чувствовали себя в городе не в своей тарелке. И Люсьен начал понимать, что фантазии его покровителя привели их к полному жизненному краху: в Куломе они имели скромный, но надежный достаток, не говоря уже об устойчивом социальном положении. Делаэ, который часто виделся в это время с Люсьеном, оставил ценное свидетельство того, как относился юноша к Верлену. Он жаловался на "легкомыслие" поэта и "постоянные излияния чувств" — из этого можно сделать вывод, что Верлен вновь любил сильнее, нежели любили его. Люсьен был по натуре добрым человеком и не слишком обвинял своего друга, но все-таки не смог сдержать горьких слов:
"Намерения у него были хорошие, но для нас было бы лучше, если бы наши пути никогда не пересеклись".
Верлен поселился в том же квартале, где находился коллеж, в котором Люсьен получил — по рекомендации Делаэ — место классного надзирателя. Время от времени из Арраса приезжала Стефани, чтобы повидаться со своим ненаглядным Полем. Поскольку вернуться на административную службу не удалось, поэт принял героическое решение: он будет отныне зарабатывать на жизнь своим пером. Для этого следовало обратиться к низкой прозе — ибо поэзия приносила лишь расходы (все уже вышедшие сборники стихотворений Верлен оплатил своими кровными). Это было несомненным подражанием Бодлеру, но Верлену следовало бы вспомнить, что аналогичные попытки любимого поэта закончились плачевно. Впрочем, на первых порах другу в очередной раз помог Лепелетье, который занимал пост главного редактора в журнале "Ревей". Верлен часто заходил туда. Этот странный персонаж в поношенной крылатке, старой шляпе, с мрачным выражением лица вызывал всеобщее любопытство — отсюда берет начало та запоздалая слава, которая придет к поэту в последние годы жизни. Именно тогда начинала зарождаться легенда о Верлене — "городском бродяге", неожиданно выползающем на свет из какой-то таинственной берлоги.
Однажды молодой сотрудник спросил у Лепелетье, кто этот загадочный человек. "Это Верлен, великий поэт", — ответил Лепелетье и вручил любопытному "Мудрость". Через несколько дней тот вернул книгу со словами: "Вы правы, Верлен величайший поэт". Это было сказано в то время, когда о Верлене успели забыть и, практически, исключили его из числа живых. В 1880 году Эмиль Золя без тени сомнения писал в одной из статей: "Г-н Верлен, ныне покойный, блестяще дебютировал сборником "Сатурнические стихотворения. Он стал очередной жертвой Бодлера: говорят даже, будто он до такой степени начал подражать своему учителю, что испортил себе жизнь. Между тем, он считался какое-то время счастливым соперником г-на Коппе: за ними обоими внимательно следили и задавались вопросом, кому же из них достанется пальмовая ветвь".
Сейчас подобное сравнение может вызвать только улыбку, но не стоит упрекать Золя в близорукости. Когда он писал эти строки, блестящий и удачливый Коппе находился на вершине славы, тогда как Верлен превратился в живого мертвеца. Лишь по прошествии нескольких десятилетий всем станет ясно, что способному поэту Франсуа Коппе посчастливилось быть современником и даже отчасти другом великого Поля Верлена.
От былой известности в литературных кругах не осталось и следа, но лестная оценка молодого журналиста предвещала скорый конец забвения. Впрочем, в это время Верлену удается возобновить отношения с некоторыми соратниками по Парнасу: в кафе Одеон — обычно по пятницам — он встречается с Леоном Валадом и Катюлем Мендесом. На этих ужинах Верлен пока воздерживается от абсента (зарок!), но от рома уже не отказывается. Посещал ли он в это время салон Нины де Вилар, которая поселилась в Батиньоле? Никаких свидетельств этого не осталось, и только англичанин Джордж Мур в "Воспоминаниях о моей жизни мертвеца" расскал, будто однажды вечером увидел в саду у Нины автора "Мудрости". Впрочем, в первые месяцы 1883 года салон прекратил свое существование: у Нины уже проявились признаки помешательства, которое через год свело ее в могилу.
В конце декабря 1882 года Верлен уговорил мать перебраться в столицу. Они поселились в доме № 17 на улице Рокет, куда Стефани перевезла из Арраса уже изрядно побитую мебель и портрет мужа в офицерском мундире с золотыми эполетами и бархатными отворотами. В альбоме для фотографий Верлен разместил на одной странице карточки Матильды и Рембо — словно бы их немое противостояние продолжалось. Друзья, посещавшие его на улице Рокет, запомнили также литографию Стефани в двадцать лет, распятие с окровавленным Христом и узкий "школьный" пюпитр у окна — за ним Верлен писал, рисовал, а порой грезил.
Появились у него и молодые поклонники: один из соиздателей журнала "Пари модерн" Жорж Куртелин, поэт Жан Мореас и некоторые другие. Примерно в это же время он завязывает тесные отношения со Стефаном Малларме, который станет его лучшим и надежнейшим другом. Малларме восхищался "Мудростью", но больше всего любил "Галантные празднества" и побуждал Верлена вернуться к прежнему стилю. Итак, в 1883 году Поль Верлен вернулся в литературную среду, хотя все возникшие связи пока не отличались стабильностью и прочностью.
Тем не менее, год этот оказался для Верлена тяжелым. В апреле после короткой болезни внезапно умирает Люсьен — так же неожиданно, как в свое время время Элиза Монкомбль, возлюбленная кузина. В сентябре поэт, никого не предупредив и не сказав ни слова даже Лепелетье, уезжает из Парижа вместе со Стефани. Долготерпеливая мебель переносит очередную транспортировку: мать с сыном перебираются в окрестности Кулома, где Стефани приобрела на свое имя небольшую ферму Мальваль, ранее принадлежавшую родителям Люсьена Летинуа.
Последний оплот
Тяжелый песчаник и буквы имен;
Замшелые стены тесны и темны;
Здесь мать, и отец мой, и я погребен —
И сына положат у самой стены.[98]
Несомненно, именно в Мальвале, где еще словно бы бродила дорогая тень, поэт создал стихотворения, вошедшие в сборник "Любовь" и посвященные памяти Люсьена. Но в 1884 году этот творческий порыв сопровождается нескончаемыми пьяными оргиями. Безумные выходки "англичанина" в скором времени становятся поводом для пересудов во всем кантоне. Собутыльником Верлена мог стать кто угодно — крестьянин, пастух, дорожный рабочий, просто бродяга… Как всегда, алкоголь пробуждал в нем слепую ярость и одновременно порывы безудержного великодушия: так, он подарил безработному железнодорожнику карусель стоимостью в 1500 франков, чтобы тот имел возможность заработать себе на жизнь. Вернулось и прежнее безудержное хвастовство. Одному журналисту Верлен заявил с нескрываемой гордостью: "Нет такого греха, который бы я не совершил! Я виновен во всех смертных грехах либо в мыслях, либо на деле! Я воистину проклят…" И этот самый человек завел, в подражание Бодлеру, записную книжку под названием "Твердые решения", где давал самому себе зароки: "Каждый день я буду посещать святую мессу… Молиться я буду утром и вечером…"
Верлен словно бы вновь пустился на поиски "абсолюта" в соответствии со старыми рецептами — обретение невозможного на краю пропасти. Но он оказался дурным "алхимиком слова", и действительность наказала его самым тривиальным образом — у него кончились деньги. Именно тогда и произошло одно из самых злосчастных событий в жизни Верлена, когда он поднял руку на свою мать. Этот поразительный человек трижды мог стать убийцей — и каждый раз жертвой едва не становились бесконечно дорогие ему люди. Он пытался задушить Матильду в ту пору, когда безумно ее любил. Он стрелял в Рембо, без которого не мыслил своего существования. Наконец, он едва не изувечил Стефани, которая была виновна лишь в том, что не обладала сокровищницей Али-Бабы. Денег оставалось все меньше и меньше, а Верлену требовалось их все больше и больше — отсюда безобразные сцены, отголоски которых доходили до обитателей деревушки.
В один далеко не прекрасный февральский день 1885 года старухе-матери пришлось искать убежища у соседей — супружеской четы Дав из Бельгии. Точно так же Матильда некогда укрывалась у своих родителей. Верлен позднее обвинял бельгицев в том, что они воспользовались преклонным возрастом его матери в надежде выманить у нее последние сбережения. 9 февраля поэт уехал в Париж по издательским делам. Вернувшись через два дня в Мальваль, он по-прежнему кипел негодованием на мать и "жутких бельгийцев". Естественно, негодование было подкреплено таким количеством спиртного, что Верлен дошел до кондиции и был способен на все. Ему показалось, что в дом кто-то заходил без его ведома. И, ринувшись к соседям, он грубо схватил мать за руки (следствие зафиксирует синяки) с криком: "Если ты не вернешься ко мне, я тебя убью". Дав показал под присягой, что Верлен выхватил из кармана нож. В "Моих тюрьмах" сам поэт дает иную версию случившегося:
"… меня арестовали по обвинению в том, что я угрожал своей матери — преступление, согласно Уголовному кодексу, наказуемое смертью, — отрубленная кисть руки, босые ноги… О, матушка! Матушка, это было! Прости мне единственное слово: "Если ты не вернешься домой, я убью СЕБЯ!"
Соседи вырвали старую женщину из рук безумца. На следующий день Верлен совершил грубый промах — подал на Дава жалобу в жандармерию, обвиняя в незаконном вторжении в частное жилище (куда действительно заходила Стефани, чтобы забрать свои вещи). Бельгиец не остался в долгу и представил свою жалобу — куда более серьезную. Началось следствие, и на первых порах даже Стефани подтвердила, что сын угрожал убить ее. Опомнившись через несколько дней, она попыталась выгородить Поля, но колесо правосудия уже было запущено. 25 мая Верлену пришлось еще раз пережить судебное разбирательство. На сей раз он запомнил не только внешность, но и фамилию прокурора Республики — Гривель.
"Слушание началось со всяких пустяков — бродяги, браконьеры, мелкие воришки и т. п. Когда очередь дошла до меня, наступила особая тишина, хотя публики было в этот раз довольно много. Я прослыл здесь тем еще типом, не говоря уже об испорченной репутации: "Рэ,[99] помноженный на Эдгара По, усложненный ромом, абсентом и пиконом", — таков был я в представлении немалого числа моих деревенских соседей, приехавших в город посмотреть, как будут судить "парижанина". Как обычно, допрос был чисто формальным. Но обвинительной речи явно не хватало того, что называется чувством меры. я предстал каким-то сплавом Ирода и Гелиобала, ибо чудовищные эпитеты то и дело слетали с уст г-на Гривеля (…): "Гнуснейший из людей, бедствие для страны, бесчестие наших деревень (это происходило в Арденнах, и сам Гривель был овернцем[100]). Не знаю, как расценить эту личность, отказываюсь найти слова, которые выразили бы в полной мере мое отвращение: может быть, они найдутся после, уже не для этого дела, в сущности, не такого уж и значительного". (Давай-давай, милый!) Таковы некоторые цветочки из букета его красноречия… Здравым смыслом тут и не пахло. И потребовал он для меня максимального наказания — читайте кодекс! — смертной казни. Суд определил мне минимальное".
Так Верлен оказался в тюрьме округа Вузье, где провел месяц и один день. Затем он уплатил штраф в 500 франков — весьма солидная сумма по тем временам — и был отпущен на свободу. Заключение пошло ему на пользу в том смысле, что он вышел из запоя и обрел способность к здравому рассуждению. Но у него не было теперь крыши над головой. Мать подарила ему дом в Мальвале и поэтому не беспокоилась на сей счет. Однако накануне суда он продал свое владение, выручив всего лишь две тысячи франков — половину той суммы, которую уплатила за ферму мадам Верлен. В течение четырех с половиной месяцев он вел жизнь настоящего бродяги, о деталях которой практически ничего не известно. Загадочное лето 1885 года стало прелюдией к последнему десятилетию жизни Верлена, когда он, с одной стороны, все глубже погружался в пропасть нищеты и низменных привычек, а с другой стороны, поднимался на вершину славы.
Благоприятные в этом отношении признаки проявились уже в 1883 году, и внезапный отъезд на сей раз не повредил Верлену. Он обрел, наконец, своего издателя, и это обстоятельство сыграло решающую роль в жизни Верлена — поэта: Леон Ванье был первым, кто поверил в него и согласился выпускать его сочинения за собственный счет. 1884 год стал поворотным и для другого поэта, которому также предстояло завоевать великую славу — этой славой Рембо целиком и полностью обязан своему бывшему другу. "Проклятые поэты" были, собственно, довольно банальным панегириком — Верлен не обладал даром критика. Но вместе с посвященным Рембо эссе были опубликованы шесть стихотворений: "Гласные", "Вечерняя молитва", "Сидящие", "Испуганные", "Искательницы вшей" и "Пьяный корабль". Эта необычная поэзия произвела фурор — поначалу, разумеется, лишь в узком кругу ценителей, благодаря которым и создавались затем литературные репутации.
В конце 1884 года Леон Ванье выпустил сборник "Давно и недавно". И пока Верлен спал под кустом или пьянствовал с нищими, в Париже с каждым днем возрастал интерес к нему. Сам же поэт объявился в столице лишь в середине сентября 1885 года. К этому времени он успел примириться с матерью. Да и как Стефани было не простить сына? В конце лета он перенес первый приступ гидартроза, которым открылся "больничный" период его жизни. Воспользовавшись гостеприимством знакомого кюре, он написал матери, и та немедленно примчалась ухаживать за ним. Затем мать и сын, вернувшись в Париж, сняли квартиру на улице Моро — последнее прибежище Стефани.
1886 год начался печально. У Верлена вновь появились боли в колене, нога распухла, и поэт оказался прикован к постели. Постоянно перебегая из своей спальни к изголовью сына, несчастная мать подхватила простуду и вскоре слегла сама. Ей было семьдесят три года. В середине января ее состояние резко ухудшилось. Верлен просил, чтобы его перенесли на носилках с первого этажа на второй, где находилась комната умирающей, но лестница была слишком узкой, и от этой мысли пришлось отказаться. Утром 21 января Стефани скончалась, так и не увидев своего сына перед смертью. Верлен не смог присутствовать на похоронах. С Матильдой он находился уже в разводе, который по закону наступал после десятилетнего раздельного проживания. Но она сочла своим долгом сопровождать гроб, чему вряд ли обрадовалась бы ненавидевшая ее Стефани. Сам Верлен в это время безутешно рыдал в своей комнате, ибо обожал несчастную женщину, которую разорил и которой принес столько горя. В "Исповеди" он напишет:
"Во время наших сцен она обыкновенно говаривала, хотя и знала, что я не поверю ее угрозам: "Вот увидишь, ты в конце концов добьешься, что я уйду, и ты никогда не узнаешь, где я". Нет, она этого не сделала, и доказательством служит то, что умерла она, ухаживая за мной во время болезни, которая и сейчас меня терзает. Теперь она мне снится, очень часто, почти всегда: мы ссоримся, я знаю, что неправ, хочу сказать ей это, вымолить прощение, упасть на колени, сказать о бесконечном моем раскаянии и безмерной моей любви к ней… Но она ушла навеки! И сон мой переходит во все возрастающую тоску бесконечного и бесполезного поиска. Когда же я просыпаюсь, о счастье! матушка меня не покинула, это все неправда, но тут память возвращается и наносит мне ужасный удар: матушка умерла, это правда!"
Смерть матери означала для Верлена наступление полного, абсолютного одиночества. Все, кого он любил, были для него потеряны: Элиза Монкомбль и Люсьен Летинуа умерли, Рембо был совершенно недостижим на своем Востоке, Матильда существовала только в мучительных воспоминаниях, к маленькому Жоржу не было никакого доступа. Ко всему прочему, смерть матери означала нищету. Она припрятала для своего Поля облигации на тридцать тысяч франков. Однако по постановлению суда, утвердившего раздельное проживание супругов в 1875 году, Верлен должен был ежегодно платить 1200 франков за воспитание ребенка. Разумеется, он не платил, и адвокат Матильды подал иск — 25 января 1886 года, через четыре дня после смерти мадам Верлен. При данных обстоятельствах это выглядело, мягко говоря, не слишком красиво. Фактически, Матильда отнимала у Верлена последнее — не случайно, в своих мемуарах она всячески пытается обойти этот неприятный вопрос. Более того, в данном случае Верлен пошел на самопожертвование: когда облигации были найдены, он вполне мог их припрятать — но безропотно вручил бумаги пришедшему в дом судебному исполнителю. В результате, поэту досталось из материнского наследства только три тысячи пятьсот франков. Он получил еще две тысячи франков после смерти тетки — и все. Для Верлена начиналась теперь совершенно другая жизнь — жизнь человека, не имеющего ни гроша в кармане и полностью потерявшего свой социальный статус.
"Параллельно"
Я — римский мир периода упадка,
Когда, встречая варваров рои,
Акростихи слагают в забытьи
Уже, как вечер, сдавшего порядка.
Душе со скуки нестерпимо гадко.
А говорят, на рубежах бои.
О, не уметь сломить лета свои!
О, не хотеть прожечь их без остатка!
О, не хотеть, о, не уметь уйти!
Все выпито! что тут, Батилл, смешного?
Все выпито, все съедено! Ни слова!
Лишь стих смешной, уже в огне почти,
Лишь раб дрянной, уже почти без дела,
Лишь грусть без объясненья и предела.[101]
Последнее десятилетие жизни Верлена было омрачено безнадежной бедностью и многочисленными болезнями — одновременно это был период все возрастающей славы и создания легенд. Странствия завершились навсегда: поэт больше не покинет Париж (если не считать краткого пребывания на водах курорта Экс-ле-Бен). Кроме того, он сделает окончательный выбор между Венерой и Ганимедом: естественная его склонность возьмет верх, и он обратит взор свой на женщин — но женщин весьма определенного сорта.
Первой из них была Мари Гамбье. Знакомство произошло при следующих обстоятельствах. Верлен вновь ощутил приступ острой ненависти к бывшей жене. Собственно, обострилось это чувство после провозглашения развода, и в 1885 году поэт написал "Балладу о жизни в красном", где задал самому себе страшный вопрос "убить ее или молиться о ней" — и дал столь же страшный ответ: "Несчастный знает, что будет молиться, а дьявол мог бы заключить пари, что он убьет". 30 октября 1886 года Матильда вторично вышла замуж. Это привело Верлена в ярость. Отныне он находит только бранные слова для "бабенки Дельпорт", "бесстыдной супруги", "мерзкой негодяйки". Положение усугублялось тем, что новоявленная мадам Дельпорт отказывала бывшему мужу в праве видеться с сыном. Времена Ретеля давно миновали. Слухи о связи с Люсьеном Летинуа подтверждали все подозрения, возникшие после бегства Верлена с Рембо. И Матильда сочла своим долгом лишить Верлена права, дарованного ему законом.
Как известно, рука об руку с ненавистью обычно идет желание отомстить. И вот однажды вечером Верлен, сильно перебрав, вынул из кармана револьвер и объявил, что отправляется свести счеты с бывшей женой. Дело происходило в кафе, и гарсону удалось догнать Верлена на улице. С помощью девицы легкого поведения (это была Мари) он увел пьяницу домой и уложил в постель. Мари Гамбье осталась с Верленом, и их связь продолжалась около четырех месяцев — с февраля по конец мая 1886 года. При этом девушка не бросила своего ремесла: в семь вечера она уходила из дома и возвращалась лишь в одиннадцать — порой мертвецки пьяная. У Верлена это не вызывало никаких возражений, но Мари все же его бросила, перейдя жить к другому.
На смену ей пришли другие женщины того же пошиба, но прочные отношения завязались у него лишь с двумя "тротуарными Беатриче" — Эжени Кранц и Филоменой Буден. Филомену называли "Эстер",[102] а Эжени имела прозвище "Барашек". Верлен делил время и деньги между обеими, ласково именуя их "двумя ведьмами, двумя воровками, двумя холерами". Предпочтение он поначалу отдавал Филомене и даже обещал жениться на ней. Однако "Эстер" обманывала его куда циничнее, чем "Барашек", и в 1894 году между ней и Верленом произошел окончательный разрыв. Верлен оповестил об этом Эжени следующим письмом:
"Расстание с Эстер принесло мне большое горе, я люблю и всегда буду любить эту женщину. Но она опасна для меня, и решение мое непоколебимо. Тебя я тоже люблю. Ты всегда была ко мне добра, и я хорошо работаю только с тобой. О другой больше мне ни слова не говори. Если у тебя характер окажется лучше, все будет хорошо. Завтра же мы с тобой славно поужинаем у вокзала, а потом отправимся баиньки. Твой Поль".
Невзирая на безапелляционный тон послания, Верлен все же продолжал колебаться между двумя нимфами и лишь в марте 1895 года сделал окончательный выбор в пользу Эжени Кранц, поселившись в ее квартире на улице Сен-Виктор. Она родилась в Арденнах и произносила фамилию поэта на арденский манер: "Верлейн". Ее сохранившиеся письма изобилуют чудовищными орфографическими и грамматическими ошибками. Характер у нее оказался еще более мерзким, чем у Филомены: та была мотовкой и вымогала деньги на развлечения, тогда как "Барашек" отличалась скупостью и почти буржуазной расчетливостью — ей хотелось прикопить "капиталец" на черный день. Естественно, никаких иллюзий на счет Эжени Верлен не питал, хотя и посвятил ей довольно много стихотворений. Вот один из самыъ характерных образчиков этой лирики:
Эти строки были написаны в минуты спокойствия. Яростные перепалки у "влюбленных" происходили довольно часто и по вполне понятной причине: как и Верлен, Эжени была алкоголичкой. Естественно, верности от такой женщины ждать было нельзя, но даже в измены свои она вносила элемент рассудительности и склонности к порядку. Один из ее постоянных любовников проникся к поэту нешуточным уважением, говоря во всеуслышание: "Это великий писатель. Кто его тронет, тот будет иметь дело со мной".
О последних годах жизни Верлена подробно рассказал художник Казальс, отношения с которым поэт называл "самой дорогой сердцу моему дружбой". Они познакомились в 1886 году, и почти все последние зарисовки Верлена принадлежат Казальсу. Дружба поначалу была спокойной: поэт относился к молодому человеку покровительственно, как умудренный опытом старший товарищ относится к способному младшему. Летом 1888 года произошел внезапный взрыв: Верлен проник страстью к Казальсу, и это повлекло за собой обычные последствия — страстные объяснения и не менее бурные ссоры. Казальс очень своевременно обратился в бегство, и чувства Верлена подверглись глубокой — и, можно сказать, принудительной — духовной трансформации, о которой он написал другу из Экс-ле-Бена:
"Что нового в твоей жизни? Во мне только что произошла удивительно серьезная перемена. Я собираюсь молиться за нас обоих, полагаю, это принесет пользу. И еще я буду работать… Я заблудшая овца, которая нашлась наконец…"
Но самое любопытное признание Верлен сделал в послании, написанном в связи с полученным им известием о смерти Вилье де Лиль-Адана:
"Я вновь думаю о Вилье… Я сделал больше усилий, чем он, и я стал — увы! — более последовательным христианином. Чем же были вызваны мои падения? Обвинять ли мне наследственность, воспитание? Но я был добр и чист… Ах, питие! Это оно породило клеща, бациллу, микроб Похоти, заразило плоть мою, созданную для нормальной и упорядоченной жизни! Правда, несчастье, полагаю, не имеющее себе равных, на время исцелило меня, а затем вновь низвергло в грязь — видимо, потому что было несправедливым. Мне не хватает разумности, хотя здравым смыслом я обладаю. Отсюда следует мораль, которую я не слишком люблю, ибо от нее воняет неким подобием физиологии: у меня женская натура — и этим многое можно было бы объяснить!"
У Верлена был целый букет болезней, появившихся или обострившихся в последнее десятилетие жизни, когда ему пришло время платить по счетам беспутной юности и зрелости: недолеченный сифилис, ревматизм, артрит, диабет, цирроз печени, расширение сердца. В 1885 году впервые дал о себе знать гидартроз колена, которое в скором времени одеревенело — поэт ходил теперь, постоянно прихрамывая на левую ногу, и горько на нее жаловался. "Вот уж десять лет, левая нога моя, как ты выкидываешь постоянные номера", — писал он незадолго до кончины. Любопытно, кстати, что с опухоли в колене начался путь Рембо к смерти — именно поэтому его сестра Изабель, озабоченная установлением безоговорочного превосходства брата над Верленом, яростно протестовала против каких бы то ни было сравнений. В одном из писем она выговаривает Патерну Берришону: "Вы совершенно напрасно заставили Верлена умереть от той же болезни, что была у Артюра".
Морально Верлен был готов к подобной напасти. Он даже теоретически обосновал свою нелюбовь к "здоровью", возведя это в своеобразный поэтический принцип:
"Похожи ли вы на меня? Я ненавижу людей, которые не зябнут. (…) Особы, наделенные буйным смехом и непомерными голосами, мне неприятны. Словом, я не люблю здоровья.
Под здоровьем я понимаю не дивное равновесие души и тела, составляющее сущность героев Софокла, античных статуй и христианской морали, но ужасную красноту щек, неуместное веселье, невероятно густой цвет лица, руки с ямочками, широкие ступни и всю эту жирную плоть, которою наше время изобилует, пожалуй, до неприличия.
По той же причине мне внушает омерзение так называемая здоровая поэзия. Вам это видно отсюда: прекрасные девы, прекрасные юноши, прекрасные души…"[104]
Впервые Верлен оказался в больнице в июле 1886 года. Было подсчитано, что за девять с половиной лет поэт провел в разного рода лечебных заведениях четыре года и два месяца — иными словами, половину отпущенного до смерти срока. Он путешествует из больницы в больницу, список которых занимает у него несколько страниц. Иногда они напоминают ему тюрьму — но тюрьму добрую, "безобидную". А иногда он разуется тому, что обрел надежное укрытие:
Личность поэта вызывала большое любопытство у медперсонала: с виду это был сущий бродяга, но его навещали люди вполне приличные — более того, знаменитые! Знакомые врачи тепло относились к Верлену и всячески покровительствовали ему. Позже слава "поэта из больницы" достигнет такого размаха, что лечебные заведения будут соревноваться за право принять его. Для него сделают множество послаблений— в частности, разрешат работать после отбоя и принимать друзей в любое время суток.
А среди литераторов визит в больницу к Верлену становится почетным долгом. У изголовья его постели собираются представители новых школ — символисты и декаденты. Да и как иначе, ведь стихотворение "Томление" (посвященное Куртелину) признано всеми как манифест декаданса. Один посетитель тайком приносит поэту немного табака, другой украдкой сует под подушку склянку с абсентом, третий открыто вручает книги и карандаши. Многие художники делают зарисовки "Верлена в больнице" — сохранились в частности, некоторые рисунки Казальса. Пройдет еще некоторое время, и "поэт из больницы" превратится в туристическую достопримечательность: так, одна американская дама прислала Верлену орхидеи, и тот поставил их в предварительно опорожненную утку.
Слава Верлена возрастала, невзирая на почти нищенский образ жизни и явный упадок творческих сил. Чем ниже скатывался поэт на социальное дно, тем с большим умилением пересказывались бесконечные истории о проделках "городского бродяги" — еще одно прозвище Верлена, ставшее штампом в критических статьях. Однажды друзья купили ему вскладчину шубу и цилиндр, поскольку у него не было зимней одежды. Верлен, выросший в очень обеспеченной семье, любил и ценил красивые вещи: придя в восторг от подарка, он немедленно отправился фотографироваться — этот снимок поэта в "респектабельном" виде сохранился. Спешка была вполне оправданной: буквально на следующий день Верлен свою шубу пропил.
Особой популярностью пользовались байки, иллюстрирующие контраст личности поэта: скажем, кто-то из приятелей заходит к Верлену и застает его мертвецки пьяным, разлегшимся на продавленной кровати в грязных ботинках и драном пальто — при этом на столе лежит открытый томик Расина. А вот уже не байка, а вполне реальный факт, правда, не менее поразительный: 4 августа 1893 года поэт, по примеру Бодлера, выставил свою кандидатуру во Французскую Академию. Свое письмо секретарю Академии он подписал так: "Поль Верлен, литератор, проходящий курс лечения в больнице Бруссе". Шансов на избрание у него не было никаких, но поэтическая молодежь встретила известие с восторгом: это было торжество богемы. Сам Верлен какое-то время питал иллюзии и пытался бороться с легендой, которую сам же отчасти и создавал. Так, в октябре он опубликовал в газете "Ви паризьен" специальную заметку с разъяснениями: его репутации якобы сильно повредил роман Гюисманса "Наоборот", где его неудачно и "чисто литературно" сравнивают с Вийоном; живет он вовсе не в больнице, а в "скромной комнатке, за которую платит довольно дорого и неукоснительно"; в "лачугах" он ночи никогда не проводил, но, бывало, останавливался в меблированных комнатах и позволял себе иногда пропустить рюмочку с утра, "чтобы запить круассан". Впрочем, 15 феврался 1894 года Верлен все же снял свою кандидатуру, направив второе письмо секретарю Академии и сославшись на недомогание, из-за которого не мог совершить все положенные визиты.
В октябре того же года состоялся его блистательный реванш. После смерти Леконта де Лиля место "короля поэтов" оказалось вакантным, и журнал "Плюм" решил выбрать нового монарха путем опроса известных литераторов. Избранником стал Верлен: он получил 77 голосов из 189, оставив далеко позади Эредиа (38 голосов), Малларме (36), Сюлли-Прюдома (18) и Коппе (12).
Между тем, прежний "безумный" и "дерзкий" поэт уже перестал существовать. После катастрофы в Вузье Верлен навсегда оставил "страну химер". Теперь он занят рутинной литературной работой — выпускает сборники стихотворений, написанных гораздо раньше. Это его очередное неразрешимое противоречие: невзирая на растущую славу, он в глубине души сознает, что подлинная поэзия осталась в прошлом. В 1888 году вышло второе издание "Проклятых поэтов", в котором Верлен так определил свою нынешнюю поэтическую концепцию (говоря о себе в третьем лице): "… у него есть твердое намерение… издавать если не одновременно, то параллельно сочинения совершенно различные по духу; говоря точнее — книги, в которых развивает свою логику и свои доказательства, свои обольщения и угрозы католицизм, и книги чисто светские, полные гордости жизни и чувственности пополам с горькой иронией". Через год вышел сборник с характерным названием "Параллельно": сюда вошли как "грешные" стихотворения, написанные в заключении, так и в высшей степени "благостные" покаяния из "Мудрости".
В 1891 году в беседе с голландским журналистом Биванком Верлен окончательно сформулировал свою программу — поэту нужно лишь отражать сиюминутное состояние своей души. Человек верует, грешит, кается, вновь обращается к греху и еще раз кается — при этом он остается одним и тем же человеком, в силу чего имеет право "разложить по полочкам" стихи, навеянные разными событиями жизни. Подход педантичный, и, можно сказать, буржуазный: в одну кучку складываются возвышенные устремления, в другую — повседневные грешки. Все идет своим чередом — параллельно! В 1892 году Верлен выпустил сборник "Сокровенные обедни", где вновь собрал "католические стихи". По мнению Валерия Брюсова, он "словно заставлял себя во что бы то ни стало писать католические стихи рядом с греховными" — во исполнение "параллельной" программы.
Может быть, поэтому Верлен не принимал новые, слишком "концептуальные" теории, которые вступали в противоречие с его пониманием "искренности". Когда В 1891 году Жюль Юре проводил первый во Франции "литературный опрос", Верлен пренебрежительно ответил: "Символизм? Совершенно не понимаю… Это что, немецкое слово? И что, собственно, оно означает? Впрочем, мне на это плевать. Когда я страдаю, играю или плачу, я твердо знаю, что это не символы… Не нахожу в себе ничего, что заставило бы меня исследовать первопричину моих слез…".
Последние дни
Клинки не верят нам и ждут надежных рук,
Злодейских, может быть, но воинской закваски,
А мы, мечтатели, замкнув порочный круг,
Уходим горестно в несбыточные сказки.
Клинки не верят нам, а руки наши ждут
И опускаются, отвергнуты с позором,
Мы слишком медлили — и нам ли брать редут,
Затерянным в толпе лгунам и фантазерам!
Клинки, заискритесь! Нет рыцарской руки —
Пускай плебейские вас стиснут перед боем!
Отсалютуйте нам, засосанным в пески
Напрасных вымыслов, отринутым изгоям!
Избавьте от химер хоть наш последний час!
Бесславно жили мы и до смерти устали.
Клинки, откликнитесь! Быть может, и для нас
Жизнь ярче молнии блеснет на кромке стали.
Смерть, я любил тебя, я долго тебя звал
И все искал тебя по тягостным дорогам.
В награду тяготам, на краткий мой привал,
Победоносная, приди и стань залогом![106]
Это последнее стихотворение Верлена, написанное 31 декабря 1895 года и названное "Смерть!". Поэту оставалось жить восемь дней. Он всегда был "параллельным" человеком, и таким же оказался его уход, в котором низменное невозможно отделить от возвышенного.
Здоровье Верлена резко ухудшилось в конце декабря: составленный им самим список болезней включал в себя ревматизм, цирроз, гастрит и желтуху. По рассказам очевидцев, больной Верлен занимался тем, что раскрашивал в золотой цвет всю мебель, позолотив даже ночной горшок. 30 декабря он послал одному из друзей отчаянную записку: "В доме нет ни гроша!" Начало января ознаменовалось сильными холодами. Верлену все же удалось одолжить немного денег, Эжени купила угля, и в квартире стало теплее. Но это уже не могло помочь — у поэта обнаружили воспаление легких. Во вторник, 7 декабря он в последний раз причастился. Ночью начался бред: умирающий порывался встать, Эжени пыталась помешать ему — сначала лаской, потом бранью. В конце концов ей надоела эта пустая возня, и она удалилась к соседям, чтобы пропустить стаканчик.
Верлен остался один — наедине с портретом своего отца. Этот портрет уже изрядно пострадал: когда поэт возвращался домой пьяным, он яростно упрекал покойного за свое появление на свет и, словно в отместку, протыкал полотно острым концом трости. Но странное дело! Удары всегда приходились в темный фон и никогда не затрагивали лицо, поэтому голова Никола Огюста была окружена своеобразным ореолом из дырок разной величины. У этого портрета Верлена и обнаружили ранним утром 8 января: он лежал на полу совершенно обнаженный. Много лет спустя Андре Моруа сказал, что это был "… один из самых чистых, самых воздушных, самых нежных французских поэтов, проживший жизнь самую мерзкую, самую грязную и самую бурную". Среди современников, наверно, самую безжалостную оценку личности поэта дал Жюль Ренар в своем "Дневнике": "Человека и художника часто путают, ибо случай соединил их в одном теле. Но все очень просто: Верлен обладал гениальностью божества и имел сердце свиньи".
Его похоронили в семейном склепе на кладбище в Батиньоле — пригороде Парижа, где он прожил почти всю свою сознательную жизнь. Бывший бродяга и пропойца был погребен за счет Министерства Народного образования и Изящных Искусств. У разверстой могилы поэта произнес речь Стефан Малларме, который нашел для него прекрасные слова:
"Гений Поля Верлена умчался в грядущее, и сам он пребудет героем. Один — вообразим себе это, о большинство, мы, что всегда тщеславные или корыстные, приспособимся к внешнему миру, — один, чему редко повторяется в веках пример, современник наш принял, во всей его полноте, страшный удел мечтателя и певца. Одиночество, холод, неизящность и нищета — обиды, уготованные судьбой, на которые жертва вправе будет отвечать другими, учиненными себе добровольно, — тут почти достало поэзии, иного и не нужно: вот из чего слагается обыкновенно жребий, выпадающий божественному ребенку, что шагает, как и подобает ему, с невинной отвагой по бытию, — да будет так, решил покойный рыцарь, пускай заслуженны поношенья, но он пойдет до конца, мучительно и бесстыдно. Скандал — но для кого? для всех, и раздувал его, принимал, искал он один: дерзость его — он не прятался от судьбы, отметая, должно быть, из презрения к ним, любые сомнения, — обернулась поэтому пугающей порядочностью. Мы видели это, господа, и мы свидетели тому благочестивому бунту, когда человек предстает матери своей, какова бы она ни была, в каких обличьях — толпа, вдохновение, жизнь, — обнаженным, ибо таким она сделала поэта; и тем навек святится сердце его, непреклонное, верное, чуть простодушное и целиком напоенное честью".[107]
Заключение: Легенды и действительность
В трактирах пьяный гул, на тротуарах грязь,
В промозглом воздухе платанов голых вязь,
Скрипучий омнибус, чьи грузные колеса
Враждуют с кузовом, сидящим как-то косо
И в ночь вперяющим два тусклых фонаря,
Рабочие, гурьбой бредущие, куря
У полицейского под носом носогрейки,
Дырявых крыш капель, осклизлые скамейки,
Канавы, полные навозом через край, -
Вот какова она, моя дорога в рай![108]
Поль Верлен и в жизни, и в поэзии был Протеем — переменчивым, текучим и ускользающим. Об этом пишут многие исследователи его творчества: "Есть много Верленов, и каждый из них претендует на главенство. Кто же он? Загадочный и проклятый романтик, доминирующий в "Сатурнических стихотворениях"? Кудесник-эстет "Галантных празднеств"? Идиллический возлюбленный "Доброй песни"? Или же приобщенный к таинствам автор "Романсов без слов", учитель и ученик Рембо? Но если Рембо явился первопричиной благодати, не следует ли искать истинного Верлена в "Мудрости"? Наконец, это может быть поэт, осознанно предавшийся двусмысленной и свободной любви к плоти и к душе — параллельно".
Именно невероятная переменчивость порождала легенды. Самые распространенные из них звучат так: Верлен — бродяга, Верлен — большое дитя, Верлен — мечтатель, идущий из грязи к свету. Он, действительно, вел богемный образ жизни, не имел своего угла, познал нищету и болезни, появлялся на людях чуть ли не в лохмотьях — но только в последние годы жизни, после смерти матери. При этом по натуре он стремился к совершенно иному: до определенного времени его поведение было безупречным, он всегда ценил тщательность и аккуратность в одежде, ему нравились стабильность и "упорядоченный" уклад. В зрелые годы он походил на англичанина — священника или учителя. И любил подчеркнуть это, полушутливо — полусерьезно говоря о своем стремлении к "респектабельности". Так, Жан Мореас видел его в шелковом котелке — "лондонском и блистательном". Даже в самые худшие минуты своей жизни, в период нищеты и бродяжничества он старался сохранять привычки "джентльмена". В этом человеке уживались аккуратность, педантизм, усидчивость, работоспособность — и одновременно крайняя распущенность. Трудно поверить, что одна и та же рука стреляла в Рембо и писала "Мудрость".
Легенда о "большом ребенке", который так никогда и не повзрослел, взывает к снисходительности — между тем, все его "шалости" были вполне взрослыми. Сочетание противоречивых черт в характере присуще отнюдь не детям: "Верлен представляет собой бесконечно сложное сочетание искренности и лживости, простодушия и цинизма, наивности и развращенности". Главное же состоит в том, что Верлен решал (вернее, пытался решить) проблемы взрослого человека. И центральной из них была любовь — не бессознательная любовь ребенка к родителям, а осознанное и очень сильное чувство к избраннице (или избраннику). Ради этого прекрасного чувства Верлен не пощадил даже своего "учителя" и покровителя:
"… Гюго всегда говорил о любви или одни банальности, или же как человек, который (по крайней мере, его писания свидетельствуют об этом) всю жизнь по отношению к женщинам был только пашой. "Ты мне нравишься, ты мне уступаешь, я люблю тебя. Ты мне противишься, так уходи. Ты любишь меня за мою славу, быть может, за мою причудливую внешность, быть может, за мою львиную голову? Ты ангел". Ни робости, ни надежды, ни муки, ни радости. Счастье петуха, а потом его трубное пение".[109]
В пресловутом любовном "треугольнике" лишь Верлен остался верен былым привязанностям. Рембо, оглядываясь назад, испытывал только горечь и выразил свои чувства в жестоких словах: "Я полюбил свинью!". Матильда до конца жизни содрогалась, слыша имя бывшего мужа. У Матильды был сильный характер. У Рембо была железная воля. И только самый слабый из троих сохранил любовь. Верлен не мог забыть ни Матильду, ни — особенно — Рембо. И в поздних стихах, и в воспоминаниях он говорил о Рембо с неизменным благоговейным чувством, которое буквально лелеял в себе. Именно Рембо Верлен посвятил первое из своих поэтических "Посвящений", где назвал его "ангелом и демоном", а затем провозгласил:
"Твое сверкающее имя будет навсегда воспето славой, ибо ты любил меня, как должно".
В 1895 году старый, смертельно больной Верлен издал поэтические сочинения своего покойного друга.
У Верлена все и всегда было "параллельным" — не случайно он назвал так свой сборник. Еще до встречи с будущей женой он томился в ожидании "высокой" любви. Он обрел ее, но затем это чувство стало "параллельным", преобразившись в любовь-ненависть.
Более других близка к реальности легенда о мечтателе, создающим чудесные творения из грязи и "сора". В его неординарной, контрастной натуре всегда преобладало острое ощущение своего призвания (как у Рембо и Малларме). В сущности, Верлен был романтиком в эпоху "смерти романтизма". Кстати говоря, у него также было искушение черпать вдохновение из прочитанных книг:
Но это искушение Верлен преодолел: для творчества ему нужны были "впечатления" — реальные, а не книжные. И поэзия его всегда иссякала, когда он начинал жить "скучно". В этом заключена разгадка бегства из Парижа. Рембо утверждал, что хотел сделать из него "сына солнца". Какими же средствами? Алкоголем и наркотиками? Но проспиртованный насквозь Верлен (который начал расплачиваться по счетам — артритом, циррозом печени и проч. лишь в последние годы жизни), мог бы дать в этом смысле сто очков вперед своему юному другу, ибо у того здоровье начало сдавать уже в девятнадцать лет. Даже в период сознательного возвеличения Рембо Верлен снисходительно замечал, что его юный друг "пить совсем не умел". С наркотиками парижанин также познакомился раньше, чем провинциал из Шарлевиля: в столице были для этого все возможности — их использовал уже Бодлер, любимейший поэт Верлена.
Он умел судить себя безжалостно:
"О моя низость, моя податливость и это неисправимое упорство, упорство во грехе, упорство инстинктивное, почти животное…"[111]
Но и прощать себя он тоже умел — и делал это с легкостью, которую можно было бы назвать циничной, если бы она не была такой простодушной. Вместе с тем, Верлен всегда был искренен. В 1885 году он написал очень короткое завещание: "Я не оставляю ничего бедным, потому что я сам бедняк. Я верю в Бога". И то, и другое было правдой.
Легенды о Рембо кардинально отличаются от легенд о Верлене. Они создавались без опоры на факты и были порождены, прежде всего, воображением его родных. Французский исследователь Рене Этьямбль, посвятивший этой проблеме четырехтомную монографию, проанализировал — можно сказать, препарировал — множество подобных домыслов. Некоторые из них оказались чрезвычайно живучими, и здесь немалую роль сыграли литературные "скандалы": публичный обмен обвинениями между Изамбаром и Берришоном, а затем между Берришоном и Кулоном постоянно подогревал интерес публики. Не будь этих инвектив, "Рембо пользовался бы не большей известностью, чем Нерваль или Раймон Руссель".
К числу самых распространенных относятся легенды о Рембо-сверхчеловеке и о "святом" Рембо. Согласно версии родственников, Рембо был сотворен Богом в назидание всему роду человеческому. Помимо совершенно уникального поэтического дара, он обладал невероятными талантами во всех сферах жизни и явил себя Прометеем во всех своих начинаниях. К примеру, он был великим исследователем — это без всяких сомнений провозгласила еще Изабель Рембо:
"Там, за морями, в горах Эфиопии, под раскаленным солнцем, под обжигающим ветром, который иссушал кости и отравлял спинной мозг, он не щадил сил своих! Ни один европеец до него даже и не пытался взяться за работу, которую он взвалил на свои плечи".
Одновременно, он был могучим конкистадором и гениальным коммерсантом — облагодетельствовав дарами цивилизации еще не ведомый европейцам континент, за короткий срок заработал капитал, которому позавидовал бы сам Ротшильд. Как ему это удалось? Послушаем Изабель:
"Во время этих смелых вылазок большинство негоциантов несли потери — порой весьма значительные. Мародеры пустыни отнимали у них деньги, товары, иногда даже слуг и вьючный скот. Мой возлюбленный брат никогда не терпел ущерба — из всех трудностей он выходил победителем. Ибо замыслы свои он осуществлял с такой необыкновенной отвагой, что успех превосходил всякие ожидания…"
Кроме того, Рембо изучил невероятное количество языков — собственно, их не нужно даже перечислять, поскольку он освоил все наречия земли. Феноменальной была и крепость его тела: любая рана рубцевалась на нем чуть ли не мгновенно. Когда он умирал в марсельской больнице, врачи с нескрываемым изумлением говорили Изабель, что никогда не встречались с таким несгибаемым мужеством и такой силой духа…
Можно еще долго перечислять эти велеричивые фантазии, некоторые из которых сейчас вызывают лишь улыбку. Но слишком многое из подобных легенд проникает в биографию Рембо словно бы "контрабандой" — втихомолку и под сурдинку. Поэтому с каждым домыслом нужно разбираться отдельно. К примеру, Рембо был негоциантом средней руки — и это худший вариант. В случае его разорения можно было бы сказать, что он избрал чуждую для себя жизненную стезю и был за это наказан. Как "Прометей", он должен был сравняться с такими фигурами, как Форд и прочие "акулы". Но нет, он был в меру предприимчив, расчетлив и жаден — как прочие его "коллеги" по бизнесу. Поэтому не стоит сокрушаться о тупости или слепоте марсельских врачей, которые констатировали смерть "негоцианта Рембо", ведь последние десять лет жизни он и был торговцем, а не поэтом. Даже автору апологетической биографии трудно скрыть свое разочарование: "Было бы, конечно, неплохо представить себе Рембо в виде нового Язона, усмотреть в этих поисках золота последнее воплощение его ненасытного голода, его неутолимой жажды бесконечного. (…) Разумеется, подобное толкование было бы весьма поэтично: драматическое действие нарастало бы совершенно естественно, и развязка была бы поистине грандиозна. Однако действительность, хоть и совсем не похожа на эту картину, тем не менее достаточно трагична. Падение всегда больше волнует, чем апофеоз. В жестокой борьбе с роком Рембо потерял свой гений и свое величие".
Созданная Изабель Рембо легенда о "святости", безусловно, возникла вследствие шока, который она испытала, ухаживая за умирающим братом. Смерть его была настолько ужасной, что нервы молодой женщины не выдержали. Еще одним потрясением для нее стало запоздалое знакомство с поэтическим творчеством Артюра:
"Через несколько недель после его кончины я с дрожью изумления и восторга впервые прочла "Озарения".
Далее началось "мифотворчество". Надо отдать должное Изабель за последовательность: семья, породившая Мессию, должна была также обладать святостью, и Изабель без тени сомнения заявила о себе — "я святая". Житие брата она дополнила своим собственным:
"Ни один человек в мире не совершил столько усилий, сколько мы, никто не обладал нашим упорством и нашим мужеством. Физические лишения, которые мы оба претерпели, были неслыханными, намного превосходящими обычные человеческие возможности. Ни одному из смертных не дано было столь доблестно переносить нравственные потрясения, сопровождавшие нас всю жизнь. Мы всегда трудились без отдыха, без устали, не позволяя себе ни малейшего развлечения, ни секундной паузы. Нам были неведомы те наслаждения, которым предаются прочие молодые люди. Никто не вел столь сурового существования. Кармелиты и трапписты имели больше развлечений, чем мы. И мы сделали нашу жизнь такой не из дикости или скупости. Ибо мы были поглощены видением святой и благородной цели — и все наши усилия были направлены на ее достижение. Мы были добры, великодушны, милосердны. Мы не могли видеть нищих и несчастных, чтобы не проникнуться жалостью и не помочь им по мере наших сил. Мы были безупречно честны. Пусть бросит в нас камень тот, кому мы по доброй воле причинили зло. Мы верили в добродетель других людей, ибо наша добродетель была непоколебимой, и мы представить себе не могли, что те, кто должны были бы помогать нам, поддерживать нас и любить, могут нам солгать, предать нас и сломить. Ложь внушала нам омерзение, и мы любили ближних наших, как самих себя. О, как мы были наивны для этого века… Но ни слова больше. Мы не проявим слабость! Все, во что мы верили и все, что мы делали, было хорошо. И если бы нам пришлось начать жизнь снова, мы действовали бы так же".
Сестра Витали также была причислена к лику святых, поскольку она "по собственной воле согласилась умереть от той же болезни, которая позднее унесла Артюра". Несколько труднее было доказать святость "бессердечной" матери, но и с этой задачей Изабель Рембо успешно справилась — мать скрывала свои безупречные нравственные качества под маской нарочитой суровости:
"Вместе с культом земли она унаследовала от предков верность традициям. Худая и сухопарая, с презрительным выражением лица и аристократическими манерами, она подавала детям своим пример строгого благочестия. Поскольку забота о их воспитании целиком легла на ее плечи, она сочла нужным укрыться за броней жесткой сдержанности. На самом деле это была страстно любящая мать, которая жила только для своих детей. Вспышки ее тиранического гнева всегда завершались прощением — она много раз доказывала это по отношению к своему сыну Артюру. Принадлежа к подлинной северной расе, она слишком часто напускала на себя вид ледяной суровости, боясь обнаружить свою чрезмерную чувствительность".
Лишь "изменнику-отцу" не нашлось места в "святом семействе", ибо он пренебрег своим долгом — позорно дезертировал, упустив возможность стать вторым Иосифом.
Легенда о Рембо укрепилась благодаря появлению "адептов" — тех, кто в нее искренне уверовал. Большую роль здесь сыграл бывший друг: "С 1883 года Верлен примирился с воспоминанием о шантажисте, которого избегал несколько лет тому назад". Для старого Верлена Рембо превратился в самое светлое воспоминание, а сожаления о навсегда ушедшем прошлом получили дополнительный импульс из-за его ранней смерти. Именно "бедный Лелиан" подготовил первые публикации: внезапное появление стихов и прозы Рембо произвело колоссальное впечатление на литературный мир (с творчеством Верлена в Париже были хороши знакомы) — к этому добавилась аура Востока и "загадочной" судьбы.
Среди страстных поклонников творчества Рембо в первую очередь следует назвать Поля Клоделя, который пережил сильнейший духовный кризис, обратившись в католичество:
"Знакомство с "Озарениями", а затем, спустя несколько месяцев, с "Сезоном в аду" стало для меня событием капитальной важности. Эти книги впервые пробили брешь в моей материалистической каторге и дали мне живое и почти физическое представление о сверхъестественном".
Именно Клодель возвел Рембо в ранг Мессии, соединившись тем самым с семейством "святого Артюра". И он же создал поэтическую трактовку легенды о Верлене, которого Рембо тщетно пытался возвысить до ранга "Сына Солнца". Поэма Клоделя настолько показательна в этом отношении, что ее первую часть (с характерным подзаголовком "Слабый Верлен") следует привести полностью:
Поражает утверждение, будто Верлен уверовал не в католического Бога и Деву Марию, а в нового Иисуса — Артюра Рембо. Умиляет пассаж, где Клодель в непритворном ужасе говорит, что после отъезда Рембо Верлен стал представлять угрозу правопорядку — и именно поэтому угодил в тюрьму. Не вполне понятно, правда, за что бельгийцы так сурово обошлись с полубезумным, бренным "нечто". Зато вполне понятно презрительное отношение к стихам Верлена — высказанное, правда, не прямо, а с помощью аллюзии на известную фразу Мюссе ("пусть мой стакан мал, но я пью из своего стакана). Двух гениев быть не может, и со "слабого Верлена" нужно сорвать незаслуженные лавры — как смеет он даже сравнивать себя с Мессией, который "нашел вечность"?
Скажут, что нельзя судить по законам низкой прозы строки, рожденные поэтическим вдохновением. Но, по сути, это не что иное как стихотворная биография, где факты (известные Клоделю) откровенно передергиваются, а интерпретации отличаются напористым мифологизмом. Очевидно, что Клоделю был ненавистен "Современный Парнас", в котором, кстати, бородатые отнюдь не преобладали — тем не менее, ни к взлету, ни к упадку парнасской школы Рембо не имел никакого отношения. Зато с Парнасом был теснейшим образом связан Верлен, преодолевший узость и ограниченность его эстетики, о чем свидетельствует в частности, знаменитое "Поэтическое искусство" (написанное в монсской тюрьме — по Клоделю, в состоянии полного ничтожества и заброшенности вследствие разрыва с Рембо).
Еще одним страстным адептом "святого Артюра" стал поэт и эссеист Жак Ривьер, автор биографии, которая повлияла на несколько поколений исследователей. По словам Ривьера, "Бог пожелал сделать Рембо столь совершенным, сколь это возможно… Он предназначен был воплотить диалектику сверхъестественного". Поэт, "освобожденный от первородного греха", имел полное право проявлять "нетерпимость" и "равнодушие ко всему роду человеческому": как высшее существо по отношению к подлым и убогим людишкам.
Подобные легенды отнюдь не безобидны, ибо приводят к ложным выводам. Особенно пострадали отношения между Верленом и Рембо, поскольку для биографов последнего стало общим местом противопоставлять "безвольного" Поля "железному" Артюру: "Рембо — прежде всего человек с ярко выраженным интеллектом и сильной волей, Верлен же — субъект слабовольный и весь находится во власти своих чувств. Юноша с лицом ребенка, похожий на "падшего ангела", обладает ясным, проницательным умом и железной энергией. Другой, с чертами лица, сообщающими ему сходство одновременно с татарином и фавном — "бедный Лелиан", который не умеет жить, не любя и не греша. Первый — визионер, сумасшедший идеалист. Его несговорчивый дух не может ни с чем примириться; он не поладит ни с литературой, ни с общественным укладом, покинет Европу и проклянет цивилизацию. Второй будет влачить свою музу по кабакам и больницам, будет кочевать по церквам и лупанарам, простодушно переходя из грязных притонов в исповедальни. Он — воплощение слабости и компромисса".
У истоков легенды о Верлене, полностью покорившемся воле Рембо, стоял Эдмон Лепелетье, который избрал не самый лучший способ защиты своего друга, объявив Рембо "злым гением" Верлена:
"… этот порочный и гениальный мальчишка к концу жизни превратился в энергичного, деятельного, предприимчивого и трудолюбивого мужчину. Его влияние оказалось роковым для такого бедного и слабого малого, каким был Поль Верлен. Он его поработил, очаровал, заворожил. Несомненно, он стал причиной всех душевных и физических несчастий, обрушившихся на Верлена".
Верлен, безусловно, был человеком слабохарактерным, но это отнюдь не означает, что его можно было дергать за ниточки, как марионетку. Более того: во многих ситуациях именно он был "ведущим", а не "ведомым" — и от его решений зависело дальнейшее развитие событий. С другой стороны, Рембо отнюдь не был "сильной личностью", хотя и старался позировать в этой роли. До конца жизни он так и не сумел освободиться от своих многочисленных страхов. Его приводила в ужас полиция: вероятно, это чувство родилось после кратковременного заключения в тюрьме Мазас — слишком тяжкого испытания для подростка неполных шестнадцати лет. Он до дрожи боялся остаться без денег: роковым потрясением стала лондонская ссора, после которой Верлен бросил его, не оставив ни гроша, — возможно, именно этот страх пробудил в нем наследственную скупость. Он страшился матери и после недолгого бунта вернулся к полной покорности, униженно умоляя в письмах не забывать его и не отказываться от него. Здесь напрашивается неизбежное сравнение с Верленом — будучи боязливым по натуре, он во многих тяжелых ситуациях выглядел куда достойнее Рембо. Это объясняется тем, что Верлен на самом деле боялся только одного — лишиться людей, которых он любил. Этого страха Рембо не ведал, поскольку никогда и никого не любил — в том числе и самого себя. Единственным человеком, к которому он питал какое-то подобие привязанности, был школьный друг Эрнест Делаэ:
"Однажды я спросил его со смехом: "Как случилось, что ты на меня ни разу не рассердился?" Рембо покраснел, как всегда с ним бывало в минуты волнения, и ответил: "Ба, воспоминания детства!"
При этом дружба Делаэ была ему не нужна: последнее письмо датируется 1882 годом, причем в адресе указано имя получателя: "Альфред". Есть еще коротенькая открыточка 1885 года сомнительной подлинности — и это всё. Фактически после отъезда в Аден Рембо прервал все связи со старым другом, что являет разительный контраст в сравнении с парой Верлен — Лепелетье, которые через всю жизнь пронесли самые теплые чувства друг к другу.
Делаэ, близко знавший обоих поэтов, с большой осторожностью относился к легендам о "дурном влиянии":
"Рембо был его злым гением, утверждали близкие Верлена.
Это Верлен его погубил, кричали в семействе Рембо.
Ах, да не погубили они друг друга!"
Это раздраженное восклицание вырвалось у Делаэ в письме к одному из исследователей творчества Рембо. В записях "для себя" (не вошедших в статьи) Делаэ подробно развивает тезис о взаимовлиянии двух гениев:
"Мне кажется, что Верлен в основном обязан Рембо той смелой ассоциацией идей, тем созвучием, тем сочетанием увиденных образови пережитых ощущений, образцом которых может служить сонет "Гласные".
В моральном смысле роль Рембо также значительна. Ибо у Верлена стремление к беспорядочной жизни было фатальным. Если бы он не встретил Рембо, то все равно не стал бы трезвым человеком. Рембо придал этому неизбежному беспорядку психологическое направление. Именно он, судя по всему, избавил его от парнасского бесстрастия, подав ему пример — если угодно, скандальным образом — союза между "я", у Рембо яростного и безумного, у Верлена болезненного, мистического и патетического. Можно даже сказать, что Верлен создал продолжение "Сезона в аду", который, впрочем, превзошел благодаря большей логике и последовательности в сфере формы…
Наконец, Рембо способствовал тому, чтобы его наблюдательность стала более острой, а восприятие — более интенсивным. Когда сравниваешь В. до Р. с В. после Р., это бросается в глаза.
Разумеется, невзирая на все это, Верлен как поэт гораздо выше Рембо. Он оставил завершенное творение, тогда как Рембо создал лишь набросок — хотя и великолепный".
Поэзия Рембо родилась из "головы". Именно поэтому Стефан Малларме с полным правом говорил о нем:
"Он — сколок метеора, вспыхнул беспричинно, единственно от данности своей, мелькнул одиноко и погас. Все бы шло, конечно, дальше своим чередом и без блистательного этого пришельца, да и ничто по-настоящему не предвещало в литературе появления его: здесь властно заявляет о себе личность поэта".
Разумеется, Рембо обладал гениальным воображением — точнее, гениальной способностью "представить себя" в том или ином виде. Эти представления часто сменяют друг друга без какого-либо перехода — как в одном из "Озарений":
"Я святой, я молюсь на террасе — так мирно пасется скотина до самого Палестинского моря.
Я ученый в сумрачном кресле. Ветки и струи дождя хлещут в окна библиотеки.
Я путник на большаке, проложенном по низкорослому лесу. Журчание шлюзов шаги заглушает. Я подолгу смотрю, как закат меланхолично полощет свое золотое белье.(…)
В часы отчаянья воображаю шары из сапфира, из металла. Я — властелин тишины".[114]
Подобные цепочки поэтических образов принципиально изменчивы — устойчивых представлений нет и быть не может. Сколько было восхищенных возгласов по поводу стиховорений "Руки Жанны-Мари" или "Кузнец": как Рембо любил народ, как был грозен в своей ненависти к правящим классам! Конечно, он "любил народ", когда писал эти стихи — вернее, живо "представлял себе", как он любит народ. Когда же набегали другие "представления", на свет появлялись совсем иные строки:
"Все ремесла мне ненавистны. Хозяева, рабочие, скопище крестьян, все это — быдло. Рука пишущего стоит руки пашущего. Вот уж, поистине, ручной век! — А я был и останусь безруким. Прирученность в конце концов заводит слишком далеко".[115]
"Объективная поэзия" делала из Рембо созерцателя, а его ясновидение более всего походило на галлюцинацию. Это был очень начитанный юноша с проблесками гениальности и с пустой душой: все его впечатления и переживания были книжными, отсюда часто повторяемый вздор — "он все о себе предсказал". Жизнь сложилась так, что он действительно увидел те страны, которые себе намечтал — но когда увидел их, это его уже не интересовало. Какое дело до роскошной африканской растительности человеку, который поклоняется золотому тельцу. Между прочим, потеря поэтического дара привела и к потере облика, о котором восторженно вспоминал Верлен, яростно защищая друга: он был не уродлив, а красив! К концу жизни все переменится: у "уродливого" Верлена появится обаяние печального "фавна", тогда как лицо Рембо на фотографии, сделанной в Абиссинии, ужаснуло даже Клоделя (тут же пролившего слезу о "безмерных трудах", исказивших облик поэта). Впрочем, молодая красота, вероятно, также была мифом. От парижского периода остались две почти идентичные фотографии Каржа: на ретушированной перед нами романтический поэт с мечтательным взором, тогда как на той, которая ретуши не подверглась, изображен юноша с острыми (не слишком красивыми) чертами лица и взглядом исподлобья — крайне настороженным и недоверчивым.
Любое реальное столкновение с жизнью приводило Рембо к катастрофе. Бог даровал гений слабодушному: каждое не "книжное" испытание оборачивалось бесконечным нытьем и жалостью к себе. "Бунтарь" слишком часто молил о помощи или требовал денег, не гнушаясь шантажом. В довершение всего, он предал друга. Даже если бы "злокозненный" Верлен совратил невинного юношу, то и в этом случае обращение в полицию выглядело бы не слишком пристойно. Но после всех выходок Рембо воззвание к "властям" предстает омерзительным. Когда юный поэт ранил фотографа Каржа, вся литературная богема пришла в негодование, и было решено никогда больше не приглашать зарвавшегося мальчишку. Однако никому не пришло в голову обратиться в полицию — в этой среде подобный способ защиты был напрочь исключен. Когда Рембо проткнул ножом ладонь Верлену, тот выл от боли и обиды, но бежать в полицию даже не думал — это было для него немыслимо. Не сделал этого и "свидетель" — доктор Антуан Кро. Впрочем, предательство означало крах для самого Рембо: последним усилием воли и воображения он попытался претворить позорные события в поэзию — так появился "Сезон в аду". Обожатели любят повторять: "Когда б вы знали, из какого сора…" или "Пока не требует поэта…". Но как бы мы относились к Ахматовой, если бы "сором" стало сотрудничество с НКВД?
Особенно печальное впечатление производят последние годы жизни Рембо. Не случайно Ив Бонфуа утверждал, что о них вообще не нужно упоминать, как не следует читать и абиссинские письма Рембо. Действительно, от этого лучше воздержаться, иначе неизбежно наступает разочарование, которое испытал, к примеру, Рене Этьямбль: "… сейчас мне кажется, что часть — и весьма значительная по объему — сочинений Рембо совершенно не дотягивает до литературы. В любом случае, остается за ее пределами. Речь идет об африканских письмах. Как удручают эти бесконечные жалобы, и дело здесь не только в бедности языка. Сколь убогими выглядят его интересы: банковский процент в Бомбее, наилучшее вложение капитала, страх перед жандармами. Подобные письма могли бы заставить меня усомниться, что тот Рембо, в котором я давно научился любить другую сторону его личности, был также ученым и моралистом. Но, чтобы заслужить свою судьбу, он должен был стать ученым, в котором воплотился бы великий спор XIX века — поэт против инженера. И мне было необходимо, чтобы Рембо, сделавший свой выбор в пользу поприща, которое позднее назовут "технократическим", устремился бы на стезю инженера и исследователя. Как бы мне хотелось, чтобы именно он открыл путь, по которому будет проложена затем железная дорога Джибути — Аддис-Абеба. (…) Я снова и снова взвешивал его слабости: вербовочные премиальные, которые он ухитрился прикарманить дважды — в 75 и 76 годах; неоднократное мелкое жульничество; шантаж по отношению к Верлену; грабительский колониальный обмен и торговля неграми. И это не говоря о спекуляциях оружием! Но мне все же казалось, что Рембо пытался одолеть себя, мучительно и болезненно созидая в себе высокие нравственные качества. Мне очень хотелось в это верить, но в его жалкой переписке есть нечто такое, что отныне я могу любить без оговорок лишь некоторые сочинения: отдельные "Озарения", несколько стихов и большую часть "Сезона в аду".
Зато русский исследователь, хотя и отмечает, что абиссинские письма лишены "даже краеведческого значения", все же повторяет прежние утверждения, что деятельность бывшего поэта в Абиссинии вполне сопоставима с мученическим венцом: "Став торговцем, Рембо не стал буржуа. В его лаконизме, его вызывающей сухости, его принципиальном умолчании заключены вызов, протест. Осудив себя в "Поре в аду", он приговорил себя к муке, отправил себя на каторгу. Ему было очень плохо в добровольном изгнании — он этого не скрывал при всем своем лаконизме, при всей сдержанности. Но молча, стоически, горделиво нес свой крест".[116]
Любопытно сравнить подход к двум поэтам: применительно к Верлену больше пишут о биографии (иллюстрируя ее стихами), применительно к Рембо — о поэзии (в которой его собственная жизнь отражена не столь непосредственно). Рембо прожил воображаемую жизнь в поэзиии, но реальная жизнь оказалась совершенно иной — и довольно неприглядной. Поэтому апологетические биографы обычно призывают не затрагивать те аспекты, которые противоречат их концепции. Если следовать всем этим запретам, то говорить можно лишь о детстве Рембо и четырех (трех, пяти) годах творчества. Об отношениях с Верленом упоминать нельзя, африканский период рассматривать не стоит, письма из Абиссинии читать не надо — на последнем настаивает даже лучший из всех "адвокатов" Ив Бонфуа.
В задачу данной книги (по преимуществу биографической) не входит сравнительный анализ творчества Верлена и Рембо. Однако следует отметить, что вопреки распространенному мнению Рембо не оказал на поэзию Верлена почти никакого влияния. Слабость и сила характера здесь совершенно ни при чем, поскольку принципиально различными были сами творческие методы. Мы имеем дело с безупречным по "чистоте" экспериментом: случилось так, что вместе сошлись идеальный представитель "поэзии сердца", основанной на реальных впечатлениях, и "алхимик слова", который, доверяясь только своему воображению, пытался постичь высший смысл бытия в экстатических видениях и возвестить миру новую истину. Первый под конец жизни превратил сердце свое в машину для "выдавливания" стихов. Второй же "разучился говорить", когда его раздавила подлинная, а не воображаемая жизнь.
Приложение
Показания лиц, причастных к брюссельской драме
10 июля 1873 года (около 8 часов вечера)
Примерно около года я живу в Лондоне вместе с г-ном Верленом. Мы сотрудничали в газетах и давали уроки французского языка. Его общество стало невыносимым, и я изъявил желание вернуться в Париж.
Четыре дня назад он оставил меня, чтобы отправиться в Брюссель, и прислал мне телеграмму, приглашая приехать к нему. Я прибыл два дня назад и поселился вместе с ним и его матерью на улице Брассёр, в доме № 1. Я по-прежнему говорил о своем желании вернуться в Париж. Он отвечал мне:
"Что ж, поезжай, и тогда ты увидишь!"
Сегодня утром он пошел в пассаж Сен-Юбер, чтобы купить револьвер, который он мне показал, когда примерно в полдень вернулся. Затем мы пошли в "Мезон де Брассёр" на Гранд-Плас, где продолжали говорить о моем отъезде. Когда мы вернулись домой около двух часов, он запер дверь на ключ и уселся передо мной; затем, взяв револьвер, выстрелил два раза со словами:
"Получи! Я покажу тебе, как уезжать!"
Выстрелы эти были сделаны с расстояния трех метров; первая пуля попала мне в кисть левой руки, вторая меня не задела. Его мать была при этом и оказала мне первую помощь. Я отправился затем в больницу св. Иоанна, где мне сделали перевязку. Верлен и его мать сопровождали меня. Когда перевязка была закончена, мы втроем вернулись домой. Верлен все время просил меня не покидать его, но я не соглашался и около семи часов вечера ушел из дома в сопровождении Верлена и его матери. Когда мы подошли к площади Руп, Верлен обогнал меня на несколько шагов, а затем вернулся ко мне: я увидел, что он полез в карман за своим револьвером; я сделал полукруг и вернулся назад; встретил полицейского, которому сообщил обо всем, что со мной случилось, и тот пригласил Верлена проследовать в участок.
Если бы последний позволил мне беспрепятственно уехать, я бы не стал выдвигать против него обвинения за нанесенную мне рану.
А. Рембо.
Вот уже около двух лет г-н Рембо живет на средства моего сына, который много натерпелся из-за его вздорного и злобного характера: он познакомился с ним в Париже, затем они жили в Лондоне. Мой сын приехал в Брюссель четыре дня тому назад. Почти сразу же по прибытии он получил письмо от Рембо, который спрашивал, можно ли ему приехать. Он дал утвердительный ответ по телеграфу, и Рембо поселился у нас два дня назад. Сегодня утром мой сын, намереваясь предпринять путешествие, купил револьвер. После прогулки они вернулись домой около двух часов. Между ними произошла ссора. Мой сын схватил револьвер и дважды выстрелил в своего друга Рембо: первым он был ранен в левую руку, второй даже не задел его, так как не был прицельным. Однако пули мы не нашли. После перевязки в больнице св. Иоанна Рембо высказал желание вернуться в Париж, и я дала ему двадцать франков, потому что денег у него не было. Потом мы пошли провожать его на Южный вокзал, и тут он обратился к полицейскому с просьбой арестовать моего сына, который не питал к нему никаких злых чувств и совершил свой поступок в момент помутнения рассудка.
10 июля 1973 года
Я приехал в Брюссель четыре дня назад, в состоянии тоски и отчаяния. С Рембо я знаком более года. Я жил с ним в Лондоне, откуда уехал четыре дня тому назад, чтобы поселиться в Брюсселе, с целью оказаться поближе к моим делам, поскольку у меня идет процесс о раздельном проживании с живущей в Париже женой, которая утверждает, будто я поддерживаю с Рембо противонравственные отношения.
Я написал жене, что, если она не приедет ко мне через три дня, то я пущу себе пулю в лоб; и именно для этой цели я купил сегодня утром револьвер в пассаже Сен-Юбер, вместе с кобурой и коробкой патронов, потратив на все двадцать три франка.
После моего приезда в Брюссель я получил письмо от Рембо, который спрашивал, может ли он приехать ко мне. Я послал ему телеграмму о том, что жду его; и он приехал два дня назад. Сегодня, увидев, как я тоскую, он решил покинуть меня. Поддавшись мгновенному безумию, я выстрелил в него. В тот момент он не стал выдвигать обвинение против меня. Я отправился вместе с ним и моей матерью в больницу св. Иоанна, чтобы ему сделали перевязку, и мы вместе вернулись домой. Рембо непременно желал уехать. Моя мать дала ему двадцать франков на дорогу; и именно тогда, когда мы провожали его на вокзал, он заявил, будто я хочу его убить.
П. Верлен.
ВОПРОС: Находились ли вы когда-нибудь под судом и следствием?
ОТВЕТ: Нет.
По правде говоря, я точно не знаю, что вчера произошло. Я написал моей жене, живущей в Париже, чтобы она приехала ко мне — она мне ничего не ответила; с другой стороны, друг, к которому я очень привязан, приехал ко мне в Брюссель два дня назад, а потом решил меня покинуть, чтобы вернуться во Францию; все это повергло меня в отчаяние, я купил револьвер с намерением покончить жизнь самоубийством. Вернувшись домой, я поссорился с этим моим другом: несмотря на все мои мольбы, он хотел меня покинуть; в бредовом состоянии я выстрелил в него, ранив в руку. Револьвер тогда выпал из моих рук, и второй выстрел произошел случайно. Я немедленно ощутил самое живейшее раскаяние в том, что совершил; мы с моей матерью проводили Рембо в больницу, чтобы ему сделали перевязку; рана оказалась несерьезной. Несмотря на мои просьбы, он упорствовал в своей решимости вернуться во Францию. Вчера вечером мы пошли провожать его на Южный вокзал. По дороге я вновь стал умолять его; я даже встал перед ним, словно желая загородить ему путь, и пригрозил, что пущу себе пулю в лоб; быть может, он решил, что я угрожаю именно ему, но у меня этого и в мыслях не было.
ВОПРОС: Каковы причины вашего пребывания в Брюсселе?
ОТВЕТ: Я надеялся, что моя жена приедет ко мне сюда, как она сделала в прошлый раз, после того как мы расстались.
ВОПРОС: Мне не понятно, почему отъезд друга мог повергнуть вас в такое отчаяние. Не существует ли у вас с Рембо других отношений, помимо дружеских?
ОТВЕТ: Нет, это клевета, распущенная моей женой и ее семьей с целью скомпрометировать меня; это обвинение содержится в том самом иске о раздельном проживании, который моя жена подала в суд.
С содержанием ознакомились, подтвердили подлинность и заверили подписью:
П. Верлен, Т.Т’Серстевенс, К. Лигур.
12 июля 1872 года
Примерно два года тому назад я познакомился в Париже с Верленом. В прошлом году, вследствие его раздоров с женою и ее семьей, он предложил мне отправиться с ним за границу; мы должны были зарабатывать себе на жизнь тем или иным способом, поскольку у меня нет никаких личных средств, а Верлен живет лишь на свои трудовые доходы да на небольшие деньги, которые он получает от матери. В июле прошлого года мы оба приехали в Брюссель, где провели около двух месяцев; увидев, что в этом городе нам делать нечего, мы отправились в Лондон. Там мы жили вместе до самого последнего времени, занимая общую квартиру и живя вскладчину.
В результате ссоры, произошедшей между нами в начале минувшей недели, ссоры, возникшей из-за того, что я упрекал его в беспечности и в непозволительных выходках по отношению к некоторым нашим знакомым, Верлен почти без всякого предупреждения покинул меня, даже не сообщив, куда он уезжает. Тем не менее, я предположил, что он направляется в Брюссель или будет там проездом, поскольку он сел на пароход, отходивший в Антверпен. Затем я получил от него письмо с пометкою "В море", которое я вам представлю: в нем он уведомлял меня, что намерен призвать к себе жену, а если она не откликнется в течение трех дней, он покончит с собой; он также просил меня писать ему до востребования в Брюссель. Я отправил ему туда два письма, в которых просил его вернуться в Лондон или позволить мне приехать к нему в Брюссель. Именно тогда он прислал мне телеграмму, чтобы я приезжал. Я желал опять сойтись с ним, так как у нас не было никаких причин расходиться.
Уехав из Лондона, я прибыл в Брюссель во вторник утром и направился к Верлену. Его мать была с ним. У него не было никаких определенных планов: он не хотел оставаться в Брюсселе, так как опасался, что ему нечего будет делать в этом городе; я же, со своей стороны, не желал возвращаться в Лондон, как он мне предлагал, поскольку наш отъезд неминуемо должен был произвести слишком неприятное впечатление на наших друзей, и я решил вернуться в Париж. Верлен то высказывал намерение сопровождать меня, чтобы, как он говорил, расправиться с женой и ее родителями, то отказывался ехать со мной, так как Париж был связан для него со слишком тяжелыми воспоминаниями. Он находился в состоянии чрезвычайного волнения. Однако он энергично настаивал, чтобы я остался с ним: он то приходил в отчаяние, то впадал в ярость. В его мыслях царил полный разброд. В среду вечером он выпил сверх меры и сильно захмелел. В четверг он ушел из дому в шесть часов утра и возвратился лишь в полдень; он был вновь пьян и показал мне купленный им пистолет, а на мой вопрос, что он намерен сделать с ним, ответил шутя: "Это для вас, для меня, для всех!". Он был крайне возбужден.
За то время, пока мы все сидели в нашей комнате, он несколько раз спускался, чтобы выпить вина; он по-прежнему хотел помешать мне осуществить мое намерение уехать в Париж. Я твердо стоял на своем и даже попросил его мать дать мне денег на эту поездку. И вот, выбрав подходящий момент, он закрыл на ключ дверь, выходящую в коридор, и, загородив ее стулом, сел на него. Я стоял как раз напротив него, прислонившись спиной к стене. Сказав мне: "Вот тебе, раз ты уезжаешь!" или что-то в этом роде, он направил на меня пистолет и спустил курок; пуля попала мне в кисть левой руки; за первым выстрелом почти сразу последовал второй, но в этот раз Верлен не целился в меня, так как дуло пистолета было направлено в пол.
Тут же Верлена охватил приступ сильнейшего отчаяния из-за того, что он совершил; он кинулся в смежную комнату, занимаемую его матерью, и повалился на кровать. Он словно обезумел: сунул мне в руки пистолет и стал умолять меня выстрелить ему в висок. Все поведение его свидетельствовало о том, что он глубоко раскаивается во всем случившемся.
Около пяти часов вечера он и его мать проводили меня сюда, чтобы мне сделали перевязку. Вернувшись в гостиницу, Верлен и его мать предложили мне либо остаться с ними, чтобы они ухаживали за мной, либо вернуться в больницу до полного выздоровления. Так как рана, на мой взгляд, не была слишком серьезной, я выразил желание уехать в тот же вечер во Францию — к матери, в Шарлевиль. Мои слова снова повергли Верлена в отчаяние. Его мать вручила мне двадцать франков на эту поездку, и оба они пошли провожать меня на Южный вокзал. Верлен словно обезумел, он всячески уговаривал меня остаться; но при этом не вынимал руки из кармана, где у него был пистолет. Когда мы дошли до площади Руп, он обогнал меня на несколько шагов, а затем вернулся ко мне; его поведение внушало мне опасение, что он снова может дойти до крайностей; я повернулся и побежал. Именно тогда я попросил полицейского арестовать его.
Пуля, засевшая у меня в кисти, еще не извлечена, здешний врач говорит, что это можно будет сделать не раньше, чем через два-три дня.
ВОПРОС: На какие средства вы жили в Лондоне?
ОТВЕТ: В основном на те деньги, которые г-жа Верлен посылала сыну. У нас также были уроки французского языка, которые мы давали совместно, но уроки эти много не приносли: ближе к концу, это было франков двенадцать в неделю.
ВОПРОС: Известна ли вам причина несогласий между Верленом и его женой?
ОТВЕТ: Верлен не хотел, чтобы его жена продолжала жить у своего отца.
ВОПРОС: Разве она не ссылается также на оскорбительную для нее близость вашу с Верленом?
ОТВЕТ: Да, она даже обвиняет нас в противонравственных сношениях; но у меня нет никакого желания заниматься опровержением подобной клеветы.
С содержанием ознакомились, подтвердили подлинность и заверили подписью:
А. Рембо, Т.Т’Серстевенс, К. Лигур.
18 июля 1873 года
Ничего не могу прибавить к тому, что я сказал на первом допросе относительно причины совершенного мною покушения на Рембо. Я был в тот момент в состоянии полного опьянения, мне полностью отказал разум. Верно, что следуя советам друга моего Муро, я на какое-то время отказался от мысли покончить с собой; я решил записаться добровольцем в испанскую армию; но, поскольку обращение мое по этому поводу в испанское посольство ни к чему не привело, я вновь стал задумываться о самубийстве. Именно в таком расположении духа я купил в четверг утром револьвер. Зарядил я его в кабачке на улице Шартрё; на этой улице я оказался, желая навестить друга.
Не помню ничего о бурной ссоре, произошедшей у меня с Рембо: вероятно, она и явилась причиной того поступка, который вменяется мне в вину. Моя мать, с которой мы увиделись после моего ареста, сказала мне, что я намеревался поехать в Париж, чтобы сделать последнюю попытку примирения с женой, причем я не хотел, чтобы Рембо сопровождал меня; но сам я об этом не помню совершенно ничего. Впрочем, в предшествовавшие покушению дни у меня царил полный разброд в мыслях, абсолютно лишенных всякой логики.
Я вызвал Рембо телеграммой вовсе не для того, что вновь жить вместе с ним; когда я посылал эту телеграмму, у меня было намерение завербоваться в испанскую армию; я просто хотел попрощаться с ним.
Помню, что в четверг вечером я приложил все усилия, чтобы удержать Рембо в Брюсселе; однако, делая это, я подчинялся чувству сожаления и желанию доказать ему своим поведением, что в совершенном мной поступке не было никакого злого умысла. Кроме того, я хотел, чтобы он полностью излечился после ранения, прежде чем вернется во Францию.
С содержанием ознакомились, подтвердили подлинность и заверили подписью:
П. Верлен, Т.Т’Серстевенс, К. Лигур.
18 июля 1873 года
Я подтверждаю подлинность всех моих прежних показаниий о том, что Верлен, прежде чем выстрелить в меня из револьвера, сделал все возможное, чтобы удержать меня при себе. Верно, что в какой-то момент он выказал намерение поехать в Париж, чтобы сделать последнюю попытку примирения с женой, и хотел помешать мне сопровождать его; но планы у него менялись каждую секунду, и он был неспособен принять какое бы то ни было решение. Поэтому я не могу найти никакой серьезной причины для покушения, совершенного против меня. К тому же рассудок его был в полном расстройстве: он находился в состоянии опьянения, он напился с утра, как делал это всегда, если оставался предоставленным самому себе.
Вчера из моей кисти извлекли ранившую меня револьверную пулю: врач сказал мне, что через три-четыре дня рана моя полностью заживет.
Я рассчитываю вернуться во Францию к матери, которая живет в Шарлевиле.
С содержанием ознакомились, подтвердили подлинность и заверили подписью:
А. Рембо, Т.Т’Серстевенс, К. Лигур.
Я, нижеподписавшийся, Артюр Рембо, 19-ти лет, литератор, проживающий постоянно в Шарлевиле (Арденны, Франция) заявляю во имя достижения истины, что в прошлый четверг, около двух часов, когда г-н Поль Верлен, находившийся в комнате своей матери, выстрелил в меня из револьвера, легко ранив меня в руку, г-н Поль Верлен был в состоянии такого опьянения, что совершенно не сознавал, что он делает.
Заявляю о моем внутреннем убеждении в том, что г-н Верлен, покупая это оружие, не имел никаких враждебных намерений по отношению ко мне и не имел также никакого преступного умысла, когда закрыл за нами обоими дверь на ключ.
Заявляю, что причиной пьянства г-на Верлена были постоянные мысли о раздорах с его женой г-жой Верлен.
Сверх того, заявляю, что целиком и полностью отказываюсь в его пользу и по доброй воле от всякого судебного, уголовного или гражданского, преследования, отвергая с сегодняшнего дня все выгоды, которые будут или могли бы проистекать вследствие предпринятых Общественным министерством действий против г-на Верлена в наказание за поступок, о котором идет речь.
А. Рембо
Суббота, 19 июля 1873 года
В четверг около 8 вечера я отправился в гостиницу Куртре на улице Брассёр с целью навестить Верлена и его мать. Я узнал о том, что произошло, от Рембо. Похоже, что Верлен, прежде чем осуществить свое намерение самоубийства, хотел поехать в Париж, чтобы сделать последнюю попытку примириться с женой. Рембо прежде высказывал намерение поехать в Париж, Верлен же этому противился по той причине, что их одновременный приезд в Париж после довольно продолжительного отсутствия выглядел бы как свидетельство аморальных отношений и также сделал бы невозможным его примирение с женой. Наверное, Рембо упорствовал в своем решении, невзирая на все просьбы Верлена, и тот в минуту помрачения рассудка выстрелил в него из револьвера. Рембо добавил, что в момент покушения Верлен находился в состоянии полного опьянения…
Указатели
Хронология жизни Поля Верлена
1844. — 30 марта родился в Меце.
1853–1962. — Годы учебы в лицее Бонапарта (Кондорсе).
1862. — Сдает экзамен на степень бакалавра.
1864. — Поступает на службу в страховую компанию, а затем
в Ратушу.
1867. — Смерть Элизы Монкомбль.
1869. — Обручение с Матильдой Мотэ де Флервиль.
1870. — Венчание с Матильдой Мотэ.
1871. — Осада Парижа и Коммуна. Верлен возглавляет
"пресс-бюро" коммунаров. После победы Тьера прячется в деревне у родных.
— 10 сентября Рембо приезжает в Париж по
приглашению Верлена.
— 30 октября у Верлена рождается сын Жорж.
1872. — В январе Верлен переезжает к Рембо после
попытки задушить жену.
— В феврале Матильда подает первый иск о раздельном
проживании. Рембо временно "изгнан".
— 7 июля Верлен уезжает из Парижа вместе с Рембо.
— С июля по сентябрь Верлен и Рембо странствуют по
Бельгии, затем перебираются в Англию.
1873. — 3 июля Верлен уезжает из Лондона и 4 июля
прибывает в Брюссель. Рембо шлет умоляющие
письма Верлену, в ответ Верлен призывает его в Брюссель.
— 10 июля Верлен стреляет в Рембо, и его
приговаривают к двум годам тюремного заключения.
1873–1874. — Верлен отбывает наказание в тюрьме Монса.
— В апреле суд принимает решение удовлетворить
иск Матильды Мотэ о раздельном прживании.
1875. — 16 января Верлен выходит из тюрьмы.
— В феврале Верлен предпринимает тщетные попытки
примириться с Матильдой.
— В мае встречается с Рембо в Штутгарте.
1875–1877. — Преподает в Стикни, затем в Борнемауте
(Англия).
1877–1879. — Преподает в коллеже Ретеля, где учится
Люсьен Летинуа.
1879. — В августе уезжает вместе с Летинуа в Англию. В
конце года оба возвращаются во Францию.
1880–1882. — Находится рядом с Летинуа в Куломе, Реймсе и
Париже.
1883. — Смерть Люсьена Летинуа 7 апреля.
1885. — В феврале суд признает раздельное проживание
супругов Верлен разводом.
— В марте Верлен попадает в тюрьму за жестокое
обращение с матерью.
— В середине мая выходит из тюрьмы.
— В сентябре попадает в больницу в связи с болями в
колене. Вплоть до 1895 года проводит большую
часть жизни в различных больницах.
1886. — Смерть матери 21 января.
1895. — Издает "Полное собрание стихотворений" ("Poesie
completes") Артюра Рембо в издательстве Ванье.
1896. — 8 января умирает от воспаления легких.
Хронология жизни Артюра Рембо
1854. — 20 октября родился в Шарлевиле (Арденны).
1960. — Родилась его сестра Изабель.
1862. — Поступает экстерном в заведение Росса.
1865. — Поступает в коллеж Шарлевиля в шестой класс.
1866. — Переходит в четвертый класс, миновав пятый.
1869. — Получает первую премию за латинские стихи.
1870. — 24 мая посылает первое письмо Теодору де Банвилю.
— 29 августа совершает первый побег из дома.
— 7 октября совершает второй побег.
— 1 ноября доставлен домой полицией.
— 31 декабря пруссаки подвергают бомбардировке
Мезьер.
1871. — 25 февраля совершает третий побег.
— 13 и 15 мая отправляет письма "Ясновидца".
— 14 июля вновь пишет Банвилю.
— В конце августа посылает письмо Верлену.
— В середине сентября приезжает в Париж.
1872. — В феврале возвращается в Шарлевиль.
— В мае приезжает в Париж по призыву Верлена.
— В июле уезжает в Бельгию вместе с Верленом.
— В сентябре оба поэта поселяются в Лондоне.
— В декабре возвращается в Шарлевиль.
1873. — В январе приезжает в Лондон по призыву Верлена.
— В апреле возвращается в Арденны.
— В мае встречается на бельгийской границе с
Верленом.
— 27 мая оба поэта возвращаются в Лондон.
— 3 июля Верлен, а за ним Рембо уезжают в Брюссель.
— 10 июля Верлен стреляет в Рембо.
— После лечения Рембо возвращается в Арденны.
— Публикует "Сезон в аду" в Бельгии.
1874. — Живет в Лондоне вместе с поэтом Жерменом Нуво.
— В конце августа перебирается в Рединг.
1875. — Январь проводит в Шарлевиле.
— В феврале приезжает в Штутгарт.
— В начале марта встречается с Верленом и
передает ему "Озарения".
— В мае отправляется пешком в Италию.
— Поздней осенью возвращается в Шарлевиль.
1876. — В мае записывается в колониальные голландские
войска, в Батавии дезертирует и возвращается во
Францию. В конце декабря приезжает в Шарлевиль.
1877. — Приезжает в Вену, откуда его вскоре высылают.
— Бремен и Гамбург. Работает переводчиком в цирке,
посещает Швецию и Данию.
— Возвращается в Арденны.
1878. — Гамбург, Париж, Вогезы, Сен-Готар, Швейцария,
Генуя, Александрия.
— В декабре становится управляющим каменоломней в
Ларнаке на Кипре.
1879. — В июне возвращается во Францию из-за болезни.
1880. — Весной вновь отправляется на Кипр, затем в Египет
и в Аден.
Поступает на службу в фирму Виане и Бардея.
1881. — Работает на фирму Бардея. Исследует Огаден.
1883. — 10 декабря посылает доклад в Географическое
общество в Париже.
1886. — Занимается продажей оружия эфиопским племенам.
1888–1890. — Возглавляет факторию в Хараре.
1891. — 9 мая 1891 отплывает во Францию из Адена.
— 22 мая ему ампутируют правую ногу в Марселе.
— В июле отправляется в Рош.
— 23 августа возвращается поездом в Марсель.
— 28 октября исповедуется и причащается.
— 10 ноября умирает на руках у сестры Изабель.
Творческая деятельность Поля Верлена
Поэтические сборники
· "Сатурнические стихотворения" (1866): первая книга Верлена, значительную часть которой составили стихотворения, написанные в юности под заметным влиянием Шарля Бодлера, Теофиля Готье и парнасцев.
· "Галантные празднества" (1869): вторая книга Верлена, если не считать вышедшей в 1868 году маленькой брошюрки под названием "Подружки" (состояла из нескольких стихотворений, посвященных теме Лесбоса; ничтожный тираж был немедленно конфискован полицией; позднее "Подружки" вошли в сборник "Параллельно").
· "Добрая песня" (1870): третья книга Верлена, целиком посвященная Матильде Мотэ де Флервиль. Поэт начал работу над сборником сразу после помолвки в июне 1869 года (основная часть его написана в Париже и в Фампу, на родине матери). Книга вышла в свет 12 июня следующего года, за два месяца до венчания, и стала свадебным подарком Матильде.
· "Романсы без слов" (1874): название сборнику дала строка самого Верлена из стихотворения "Климене" в "Галантных празднествах". Представляет собой лирический дневник, в котором описываются впечатления, связанные с путешествием по Бельгии и Англии. Стихи сборника создавались с весны 1872-го по весну 1873 года.
· "Мудрость" (1881): "книга новообращенного" по оценке самого Верлена, который начал создавать ее в бельгийской тюрьме. Основная часть стихотворений написана в 1875–1879 годах в Англии.
· "Давно и недавно" (1885): сборник издан, когда Верлен уже стал знаменитым. Сюда вошли, помимо пьес, написанных недавно, стихотворения, по разным причинам не включенные в предыдущие сборники. Самое прославленное стихотворение — "Искусство поэзии" — было написано в апреле 1874 года по случаю двухсотлетия "Поэтического искусства" Буало. В раздел "Недавно" входит "Crimen amoris" ("Преступление любви").
· "Любовь" (1888): книга "католических" стихов Верлена, написанных, по его собственному признанию, в духе "не клерикальном, но вполне правоверном". Более трети стихотворений сборника объединены в цикл, посвященный памяти Люсьена Летинуа.
· "Параллельно" (1889): книга, в которой Верлен, по его собственным словам, "как бы притворяется приверженцем дьявола".
· "Счастье" (1891): книга, которую обычно считают заключительной частью трилогии (две первые — "Мудрость" и "Любовь").
· "Песни к ней" (1891): книга посвящена Эжени Кранц.
· "Сокровенные обедни" (1892): книга представляет собой еще одно собрание католических стихов и посвящена памяти Шарля Бодлера.
· "Эпиграммы" (1894): последний прижизненный сборник Верлена.
· "Плоть" (1896): книга вышла через месяц после смерти Верлена. Состоит из шестнадцати стихотворений, посвященных Эжени Кранц.
· "Инвективы" (1896): друзья Верлена протестовали против издания этой книги, в которой слишком много места отдано раздраженной брани.
· "Посмертные произведения" (1903): в этот сборник входит последнее стихотворение Верлена "Смерть!".
Прозаические сочинения
· "Проклятые поэты" (1884): первое издание состоит из трех эссе, посвященных Тристану Корбьеру, Артюру Рембо и Стефану Малларме. Во второе издание включена автобиография самого Верлена.
· "Записки вдовца" (1886): книга относится к так называемой "прозе воображения" (в отличие от прозы автобиографической). Составившие ее разнородные миниатюры были написаны в основном в 1883–1884 годах для газеты "Ле Ревей" (в состав редакции входил друг и позднее биограф Верлена Эдмон Лепеллетье).
· "Мои больницы" (1891): книга воспоминаний.
· "Мои тюрьмы" (1893): продолжение книги воспоминаний.
· "Исповедь": начата незадолго до смерти и не завершена.
Творческая деятельность Артюра Рембо
Издательская традиция публикаций
· "Сезон в аду" или "Пора в аду" ("Une Saison en enfer", 1873): единственное прижизненное издание, вышедшее под наблюдением самого Рембо.
· "Стихотворения" ("Poesies", 1869–1871): в сборник входят пьесы, собранные посмертно.
· "Последние стихотворения" ("Derniers vers", 1872): пьесы, изданные прижизненно Верленом, без ведома автора, в 1886 году вместе со стихотворениями в прозе "Озарения" ("Illuminations") — большая часть ученых придерживается мнения, что они были созданы после "Сезона в аду"; другие отстаивают версию об их более раннем происхождении.
· В 1886 году парижский журнал "Вог" ("Vogue") без ведома Рембо публикает некоторые из его стихов и большую часть "Озарений".
· В 1891 году (поздней осенью и скорее всего посмертно) выходит сборник под названием "Ковчег" ("Reliquaire").
Библиография
I. Мемуары
1. Berrichon P. La vie de Jean-Arthur Rimbaud. P., 1897
2. Delahaye temoin de Rimbaud. Textes reunis et commentes — avec des inedits — par Frederic Eigeldinger et Andre Gendre. Neuchatel, 1974
3. Izambard G. Rimbaud tel que je l’ai connu. P., 1963
4. Lepelletier E. Paul Verlaine, sa vie, son oeuvre. P., 1907
5. Rimbaud raconte par Paul Verlaine. Introduction rt notes de Jules Mouquet. P., 1934
6. Rimbaud I. Reliques. Rimbaud mourant — Mon frere Arthur — Le dernier voyage de Rimbaud — Rimbaud catholique. P., 1921
7. Verlaine (ex-Mme Paul). Memoires de ma vie, precedes d’une introduction de M.F.Porche. P., 1935
II. Научно-критическая литература
1. Андреев Л.Г. Феномен Рембо//Пред. К кн.: Рембо А. Поэтические произведения в стихах и прозе. М., 198
2. Дорофеев О.А. Созвездие в зеркальной перспективе//Пред. к кн.: Верлен. Рембо. Малларме. Стихотворения. Проза. М., 1998
3. Карре Ж.М. Жизнь и приключения Жана-Артюра Рембо. Пер. Бенедикта Лившица. Спб., 1994
4. Косиков Г.К. Два пути французского постромантизма: символисты и Лотреамон//Пред. к кн.: Поэзия французского символизма. Лотреамон. Песни Мальдорора. М., 1998
5. Aressy L. La Derniere Boheme. Verlaine et son Milieu. P., s.d.
6. Bonnefoy Y. Rimbaud par lui-meme. P., 1970
7. Bornecque J.-H. Verlaine par lui-meme. P., 1966
8. Bouillane de Lacoste H. de. Rimbaud et le probleme des "Illuminations". P., 1949
9. Coulon M. Au coeur de Verlaine et de Rimbaud. P., 1925
10. D’Eaubonne F. Verlaine et Rimbaud ou la fausse evasion. P., 1960
11. Etiemble R. Le Mythe de Rimbaud. T.1–4. P., 1952–1961
12. Etiemble R., Gauclere Y. Rimbaud. Nouvelle edition revue et augmentee. P., 1966
13. Fumet S. Rimbaud mystique contrarie. P., 1966
14. Gascar P. Rimbaud et la Commune. P., 1971
15. Matucci M. Les deux visages de Rimbaud. Neuchatel, 1986
16. Morice L. Verlaine. Le Drame religieux. P., 1946
17. Mouquet J. Rimbaud raconte par Paul Verlaine. P., 1934
18. Porche F. Verlaine tel qu’il fut. P., 1933
19. Riviere J. Rimbaud. P., 1915
20. Sabatier R. La Poesie du XIX-e siecle. T.2: Naissance de la poesie moderne. P., 1977