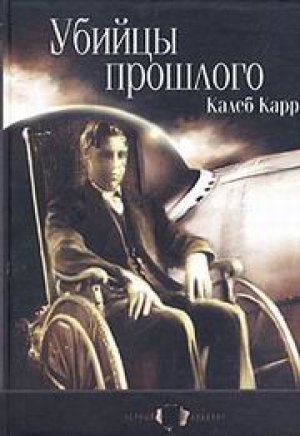
Эта книга посвящается СЮЗАН ГЛАК
Всякому, у кого есть проблема,
стоит обсудить ее с Сюзан
У меня лишь один светильник, что направляет мой путь, и это светильник опыта.
Я не знаю другого способа судить о будущем, кроме оценки его в свете прошлого.
Патрик Генри, 1775
Глава 1
Сентябрь 2024 года, где-то в горах Митумба в Центральной Африке
Мы выступаем на рассвете, поэтому приходится писать быстро. Судя по всему, мои преследователи совсем близко: разведчики, в последние два дня доносившие, что корабль-призрак неуклонно движется к северо-востоку, выжигая все на своем пути, видели его неподалеку от озера Альберт. Вождь Дугумбе, предоставивший мне еду и кров, настаивал, чтобы его воины сражались против врага вместе со мной, но уступил моим уговорам и вместо этого предложил прикрыть мое бегство полусотней своих людей. Я поблагодарил его, но заметил, что большой отряд лишь выдаст мое присутствие и что я возьму с собой только моего доброго друга Мутесу (когда-то он вытащил меня, полностью обессиленного, из горной чащи) да пару-тройку воинов, вооруженных французским и американским автоматическим оружием. Мы направимся прямо к озеру, где я надеюсь найти дорогу в мир, куда более отдаленный, чем эти горы.
Порой мне кажется, что прошли годы с тех пор, как судьба забросила меня в эти края и связала с племенем Дугумбе, хотя на самом деле это случилось всего девять месяцев назад. Но в то время реальность для меня утратила всякий смысл. Именно желание вернуть реальности ее смысл заставило меня выбрать своим убежищем этот далекий, прекрасный уголок Африки, изнуренный племенными войнами. Жестокость этих стычек казалась мне тогда чем-то незначительным и отступала на второй план перед тем фактом, что питавшие их давние распри передавались из поколения в поколение лишь изустно; я полагал, что здесь смогу быть хоть немного уверен в том, что поведением окружающих меня людей не управляют невидимые руки тех, кто, овладев поразительными, но от этого не менее зловещими, технологиями нашего "информационного века", смог стереть грань между правдой и выдумкой, между реальностью и тем жутким миром, в котором нельзя уже доверять ни глазам, ни ушам, ни собственному сердцу.
Здесь нет ни газет, ни телевидения, и, главное, нет компьютеров, а значит, и проклятого Интернета. На все это Дугумбе наложил запрет. Его объяснения просты, но ничуть не наивны: он утверждает, что информация не есть знание. Поучения старейшин, передаваемые мудрейшими из уст в уста, доверенные лишь человеческой памяти, — вот что, по словам Дугумбе, составляет истинное знание. Средства массовой информации способны лишь отвратить человека от этой мудрости и опутать его смятением и неразберихой, которые вождь называет худшими из зол. В былые времена я, человек западной культуры, обладатель двух докторских степеней, лишь посмеялся бы над подобными речами (откровенно говоря, законы и обычаи племени Дугумбе и по сей день приводят меня в глубокий ужас). Но в мире, пропитанном сознательно искаженной информацией и сфабрикованными «истинами», которые разжигали конфликты помасштабней, чем племенные розни Дугумбе, я принимаю к сердцу философию старого вождя еще ближе, чем он сам.
Вот я уже слышу его — далекий, но ясный, наводящий ужас грохот, предвестник прибытия корабля-призрака. Он спустится с неба или поднимется со дна озера Альберт. Окрестности займутся пожаром, — особенно если Дугумбе все же окажет сопротивление командирам корабля, необычайным брату и сестре. Уходящее время подгоняет мою руку, хоть мне и самому уже не слишком ясно, для чего эти записки. Пишу ли я для того, чтобы сохранить остатки здравомыслия, уверить себя в том, что все это произошло на самом деле? Или ради некой высшей цели, — скажем, чтобы попытаться клином вышибить клин и распространить эти записи через Интернет, ставший ныне моим персональным демоном? Конечно, второй вариант имеет смысл лишь в том случае, если хоть кто-то мне поверит. Но нельзя давать волю сомнениям. Кто-то должен это услышать, и главное — кто-то должен попытаться понять… Понять величайшую истину нашего века: информация — это вовсе не знание.
Глава 2
Теперь-то мне кажется, что все это мог заметить любой достаточно внимательный наблюдатель. Заметки о поразительной полосе «открытий» в истории, антропологии и археологии несколько лет не сходили с первых страниц газет, однако все открытия было принято объяснять гигантским прогрессом этих наук, который стал возможен из-за непрерывного развития и взаимообогащения информационных и биотехнологий. Поэтому те, кто мог бы обнаружить присутствие направлявшей их таинственной силы, просто не обращали на это внимания, и жили в свое удовольствие. О да, до того, как все это началось, даже я был доволен своей жизнью…
По современным капиталистическим стандартам дела мои шли неплохо. Были деньги и было профессиональное признание. Психиатр по образованию, я преподавал криминальную психологию и психиатрию в университете Джона Джея в Нью-Йорке, где родился и вырос. Университет когда-то был скромным колледжем уголовного судопроизводства, однако масштабная приватизация тюрем первых двух десятилетий нашего века превратила его в одно из богатейших учебных заведений страны. Развития университета не смогли остановить даже экономический крах 2007 года и последовавший за ним длительный спад мировой экономики: мы готовили лучших в Америке сотрудников исправительных заведений, а в сложившейся к 2023 году ситуации, когда из-за драконовских законов о наркотиках и бродяжничестве более двух процентов населения страны сидело за решеткой, Соединенным Штатам позарез нужны были квалифицированные тюремщики. Поэтому университет был в состоянии платить мне и другим преподавателям основных дисциплин более чем пристойный оклад. Кроме того, получив свою вторую докторскую степень в области истории, я написал книгу "Психологическая история Соединенных Штатов", сразу ставшую бестселлером, и поэтому мог себе позволить жить на Манхэттене.
Именно эти две специальности — криминология и история — привели 13 сентября 2023 года в мой офис красивую и загадочную даму. День стоял мрачный, а воздух над городом был нечист и смог так недвижен, что мэр обратился к горожанам с просьбой не выходить на улицу без крайней необходимости. Дело моей посетительницы было, несомненно, неотложным: с самого начала мне стало ясно, что она чем-то глубоко потрясена, и, усаживая ее в кресло, я старался обходиться с ней как можно мягче.
Мертвым голосом она спросила у меня, действительно ли я профессор Гидеон Вулф, и, получив утвердительный ответ, сообщила, что ее зовут миссис Вера Прайс. Я тут же вспомнил, что Вера Прайс была женой Джона Прайса, одного из известнейших специалистов по спецэффектам в кино и сценических постановках. Несколькими днями ранее он был убит в Нью-Йорке у собственного подъезда. Убит он был, добавлю, необычайно жутким способом: неизвестное оружие разодрало его тело буквально в клочья, и опознание удалось провести только после анализа ДНК.
Я принес вдове свои соболезнования и спросил, как продвигается расследование дела. В ответ я услышал, что расследование не продвигается никак и, возможно, вообще никуда не продвинется, если я не предоставлю ей свою помощь — все потому, что «они» этого не позволят. Раздумывая над тем, кто же может скрываться под словом «они», я слушал, как миссис Прайс рассказывала о своей семье. У них с мужем было двое детей. Один ребенок умер во время стафилококковой эпидемии 2006 года, унесшей жизни сорока миллионов человек по всему миру. Второй ребенок, дочь, училась в старших классах, и «они», по словам миссис Прайс, угрожали ей тоже.
— Кто же эти "они"? — спросил я наконец, заподозрив истерическую паранойю. — Что им от вас нужно? И почему вы пришли именно ко мне?
— Я вспомнила ваше прошлогоднее телевизионное интервью, — ответила она, роясь в сумочке, — и скачала его. Вы специалист по криминологии и истории, верно? Тогда, — она достала серебристый компьютерный диск и бросила его на стол, — взгляните на это. Они конфисковали оригинал, но я нашла копию в банковском сейфе мужа.
— Но…
— Не сейчас. Я только хотела передать вам диск. Приходите ко мне сегодня вечером, если надумаете чем-нибудь помочь. Вот адрес.
Послышался шорох бумаги, и прежде чем я успел что-нибудь сказать, она уже была за дверью. Я лишь в недоумении покачал головой и вставил диск в дисковод.
Чтобы просмотреть записанные на него изображения, хватило минуты. Я тут же выхватил из чехла мобильный телефон и, потрясенный и возбужденный, начал уже набирать знакомую последовательность цифр, как вдруг припомнил слова Веры Прайс: «они» следят. Я дал отбой и снял трубку с обычного телефона на моем столе — кто бы ни были эти «они», они не могли его подслушивать. Пока не могли.
Я снова набрал номер и услышал раздраженный голос Макса Дженкинса.
— Макс, — сказал я своему старому другу, бывшему полицейскому, а ныне частному детективу, — никуда не уходи.
— Что значит "никуда не уходи"? Хули ты так со мной разговариваешь, англо-саксонская бледная немочь? Я иду обедать.
— Да ну? — парировал я. — А если я скажу, что в этот самый момент рассматриваю возможное свидетельство того, что Тарик Хальдун не убивал президента Форрестер?
Макс помолчал секунду, потом снова взорвался:
— Ты что, думаешь, я от этой чепухи аппетит потеряю?
— Постой, Макс…
— Я жрать хочу!
— Макс, заткнись, а? Мы говорим об убийстве президента.
— Это ты говоришь об убийстве президента, а я лично хочу обедать.
Я вздохнул.
— А если я принесу тебе пожрать?
— Только быстро!
Глава 3
Двадцать минут спустя мы с Максом сидели перед старым письменным столом, уставленным компьютерами, в его офисе на Двадцать второй стрит неподалеку от Гудзона, время от времени откусывая от вегебургеров, которые я купил в кафетерии, и не отрываясь смотрели на главный экран. То, что мы увидели, настолько захватило и меня, и пресыщенного Макса, что мы даже не стали предаваться обычной тоске по далеким дням, предшествующим опустошительной эпидемии кишечной палочки 2021 года, — по тем дням, когда за натуральным гамбургером еще не надо было отправляться в самые дорогие рестораны города.
На экране перед нами проходили до боли знакомые сцены трехлетней давности: партийный съезд в большом зале одного из отелей Чикаго, впечатляющая фигура президента Эмилии Форрестер, которая, промокая со лба капли пота, быстро поднимается на сцену, чтобы дать согласие на выдвижение на второй срок. И лицо на заднем плане — лицо убийцы, известное теперь каждому жителю страны.
Анонимные цифровые снимки сцены убийства были обнаружены год назад; всего через два месяца у лица появилось имя: Тарик Хальдун, мелкий служащий из афганского консульства в Чикаго. Правосудие сработало быстро: Хальдун, все время жалобно кричавший о своей невиновности, в какие-нибудь несколько месяцев был осужден пожизненно и недавно начал отбывать приговор в тюрьме строгого режима близ Канзас-Сити. В результате дипломатические отношения между Соединенными Штатами и Афганистаном, которые и раньше не отличались прочностью, оказались на грани разрыва. Но нас с Максом сейчас заботило совсем другое.
Серия снимков на диске, что передала мне миссис Прайс, прервалась, не доходя до последовавшей за убийством сцены всеобщей паники. Экран затемнился на несколько секунд, а затем на нем вновь появились снимки момента убийства, на которых вместо лица Хальдуна было аккуратно очерченное пустое место. Потом экран вновь потемнел и наконец представил нам третью версию происшедшего. На этот раз лицо человека на заднем плане, наводящего пистолет, было совершенно иным: азиатские черты принадлежали, возможно, китайцу, но ни в коем случае не афганцу.
Я обернулся к своему заросшему бородой другу.
— И что ты об этом думаешь?
Макс, уставившись в экран, пожевал ломтик картофеля-фри, потом отшвырнул одноразовую тарелку.
— Думаю, что картошку они жарят на антилопьем дерьме.
— Диск, Макс, — сказал я нетерпеливо. — Он доказывает, что эти кадры подделаны, или не доказывает?
— Возможно, — пожал плечами Макс. — Когда дело доходило до обработки изображений, Прайс был лучшим из лучших, и все знают, что никаким снимкам веры нет, если ты не видел все своими глазами. Но мои программы не находят ничего подозрительного.
Это означало очень многое. Макс, как и большинство современных частных детективов, во всех случаях, — от идентификации фальшивки до анализа ДНК, — полагался исключительно на компьютер. Если его программы, а они были лучшими в мире, не обнаружили на изображениях следов преднамеренной манипуляции, значит, что-то было не так. А поскольку это «что-то» имело прямое отношение к, пожалуй, самому громкому политическому убийству последних лет, выводы, которые могли последовать из существования диска, а также поведение доведенной до отчаяния Веры Прайс и слова, что она произнесла в моем офисе, немало меня встревожили.
— Если Прайс действительно был в чем-то замешан, — пробормотал Макс, — нам бы стоило поглядеть на место, где его убили.
— Полиция там все тщательно осмотрела.
— Я и сам работал в полиции, Гидеон, — ответил Макс, поглаживая бороду. — Надо посмотреть на это своими глазами. И вот еще что…
Он сощурился, придвигаясь ближе к компьютеру.
— Я тут нарыл на этом диске еще что-то. Зашифрованное. Хорошо зашифрованное. Потребует времени на расшифровку, но держу пари — оно там есть…
— Давай по порядку, — сказал я. — Если это не просто шуточки гения спецэффектов, то у нас уже есть одна серьезная проблема. Вторая нам сейчас ни к чему.
— Ты сам притащил мне это дерьмо, Шерлок, — Макс рыгнул, и, нахмурившись, принялся стучать по клавиатуре. — Блин, так и знал, что ты вместо еды притащишь какую-нибудь пакость…
Глава 4
В тот вечер Макс остался прочесывать тротуар рядом с домом Прайсов на Сентрал-Парк-Уэст, а я поднялся в пентхаус для встречи с безутешной вдовой. Я нашел ее сидящей в обнимку с дочерью в огромной гостиной с окнами, выходящими в парк, и сообщил что просмотрел содержимое диска и теперь вполне понимаю ее страхи, но мне все же надо знать, кто такие эти «они», о которых она так настойчиво говорила днем. Миссис Прайс объяснила, что, найдя диск среди вещей мужа, она первым делом сообщила о нем в ФБР; однако те немедленно конфисковали диск и не слишком тонко намекнули, что любое упоминание об этом с ее стороны может оказаться весьма опасным как для нее, так и для ее дочери. Обнаружив копию диска, она тут же хотела ее уничтожить, но вспомнила мое интервью общественному телеканалу. Я спросил, знает ли она, поймать другое такси до Трайбеки. Но мир полон людей, у которых полно проблем, и множество этих типов в конце концов оказываются за рулем нью-йоркских такси, поэтому мое путешествие по верхнему уровню Вестсайдского суперхайвея было не более приятным, чем дорога от Сентрал-Парка.
Входя в свою квартиру, я все еще размышлял об этих типчиках с проблемами. Надо было как-то убить время до звонка Макса, и я включил компьютер, распечатал первый раздел вечернего выпуска "Нью-Йорк Таймс" и устроился на диване с бутылкой литовской водки в одной руке и газетой в другой.
События прошедшего дня заставили меня взглянуть на газетные сообщения в новом, непривычном для меня свете. Вдруг я почувствовал, что не верю до конца ни одному из них, и мне пришло на ум предупреждение Томаса Джефферсона о том, что по-настоящему осведомленным человек может быть лишь если он не доверяет газетам. «Таймс», в частности, детально описывала события в дюжине "горячих точек" по всему миру, где принимали участие дипломатические или военные силы Соединенных Штатов, и прозрачно намекала, что вследствие "дела Хальдуна" Афганистан может вскоре оказаться в этом списке. Мне подумалось, нет ли еще где-нибудь компьютерных дисков со странными, до сих пор не раскрытыми деталями событий, которые спровоцировали каждый из этих кризисов. С этой тревожной мыслью я уснул.
Через несколько часов меня разбудил звук пылесоса. Он выехал из стенного шкафа и начал искать спрятанные под ковром электронные датчики, пытаясь выполнить программу по уборке квартиры. В последнее время такое случалось все чаще и чаще: я ничего не смыслил в домашнем хозяйстве. Недавно окончательно бросил заниматься настройкой и подкруткой своего "умного дома", и лишь наблюдал, как неделя за неделей обезумевшие приспособления пытаются убирать квартиру, варить кофе, включать и выключать свет, и бог знает что еще, в любое время дня и ночи — и, как правило, с поразительной неэффективностью.
Проклиная спросонья блистательный ум, который нашел способ ужимать микросхемы до размеров молекулы и породил все эти так называемые «умные» системы, я принялся гоняться за пылесосом по всей квартире. Не успел я загнать эту штуку в корраль и выключить ее, как начал звонить телефон, и я едва успел схватить трубку до того, как мой не менее интеллектуальный автоответчик попытался перевести звонок на сотовый.
Это был Макс.
— Двигай сюда. Я сломал шифр — и нашел еще кучу всяких гадостей. Черт, Гидеон, это дело начинает меня пугать.
Глава 5
Когда я вошел в офис Макса, приходя в себя от очередной поездки на такси, он включил, одну за другой, все свои системы подавления прослушки, а затем подвел меня к стойке с приборами для анализа и идентификации ДНК, стоявшей у окна, из которого открывался прекрасный вид на реку.
— На кирпичной стене рядом с местом убийства я нашел несколько волосков, — объяснил Макс, показывая на гудящие приборы. — Я пропустил их через карманный анализатор прямо там, но результаты оказались полной чепухой. Я проверил их на стационарном оборудовании, и получил то же самое. Некоторые образцы принадлежали Джону Прайсу, а вот остальные… Остальные — человеку, который сидит в тюрьме.
— В тюрьме? Но как тогда…
— Погоди с вопросами, Гидеон, а то мы проторчим здесь до утра. Пока я пытался понять, как же заключенный мог угрохать нашего парня, я нашел вот эти штучки.
Он положил мне на ладонь несколько металлических катышков размером с комочки мышиного помета.
— Как ты думаешь, что это?
— Понятия не имею, — мрачно ответил я.
— Я тоже не знал, пока не сделал анализ на следы. На них кровь Прайса. — Макс глубоко вздохнул. — Ты знаешь, в каком состоянии было тело Прайса?
Я кивнул.
— Полицейские сказали, что его практически в пыль разнесло.
— Ага, вот этими самыми штучками, — сказал Макс, внимательно разглядывая один из шариков. — Как ты думаешь, с какой скоростью они должны были для этого двигаться?
— А это вообще возможно!
— Конечно. Теоретически. Если я брошу в тебя кусочком свинца, он тебя не убьет. Другое дело, если я выстрелю им из пистолета. Выпусти его с достаточной скоростью — и тело жертвы практически испарится. Только вот скорость должна быть охренительной. К тому же никто не слышал звуков выстрелов, даже привратник. По крайней мере, он так говорит.
— Так как же…
— Гидеон, я же просил тебя — погоди с вопросами. Ну, — он направился к своему компьютеру, — я тут покорпел, и все-таки одолел шифр Прайса. Хотя, между нами, я абсолютно не понимаю, ради чего он так сурово все это прятал.
Макс нажал на клавишу, и на экране появился зернистый фрагмент старого фильма, изображавший некое подобие — но нет, понял я, это и в самом деле был немецкий концлагерь середины двадцатого века. Перед нами были кадры кинохроники: изможденные, надрывающиеся заключенные, офицеры СС, затем… чей-то силуэт. Сероватый движущийся человеческий силуэт, безо всяких характерных признаков, наподобие того пробела во второй версии снимков убийства президента Форрестер.
— Ну вот, — сказал Макс, глядя в мое ошеломленное лицо, — теперь давай свои вопросы.
Я сделал глубокий вдох.
— Это Дахау?
— Неплохо, профессор. Полчаса назад я нашел эту пленку в Интернете. Хорошо известный материал — за исключением нашего таинственного гостя.
Я продолжал всматриваться в силуэт.
— Что-то в нем кажется мне очень уж знакомым… Вот тут, когда он поворачивается в профиль…
— Угу. Теперь, может, ты мне расскажешь, как все это связано с волосками человека, который сидит в тюрьме, и с какой-то суперпушкой, что превратила Джона Прайса в кучку желе, причем практически беззвучно?
Я с трудом оторвался от экрана, где снова и снова прокручивался фрагмент фильма из концлагеря.
— Как его имя? Того, который в тюрьме?
Макс пересек комнату и подошел к другому столу.
— Это я тоже узнал — влез в тюремную базу. Куперман, Эли Куперман.
Я резко обернулся.
— Антрополог Эли Куперман?
— Он самый. Ты с ним знаком?
Я покачал головой.
— Лично с ним — нет, но я знаю его работы. Весьма острые и полемические, и, надо сказать, блестящие. Происхождение первобытных культур.
— За это он и сидит. Его взяли во Флориде, на старом индейском кладбище. Раскапывал могилы; по крайней мере, так говорят шишки из местной резервации. Куперман не оспаривал обвинение. Племя согласилось с приговором федерального суда — пять лет в местной гостюрьме. — Макс недоуменно нахмурился и понизил голос. — Но вот что странно: на следующий же день после того как его посадили, на прошлой неделе, индейцы залили все кладбище бетоном. Такие вот святыни…
— Может, они не хотели допустить дальнейшего осквернения?
— Может, — Макс пожал плечами. — Вопрос в том, откуда на месте убийства взялся волос этого Купермана?
— Ты уверен, что это именно его волос?
Макс снова пожал плечами.
— Всемирная база ДНК не может ошибаться. Так что если у него вдруг не объявится однояйцевого близнеца…
— Об этом я и говорю.
— О чем "об этом"?
— О Купермане, — ответил я, с удивлением глядя на Макса. — У него есть брат-близнец.
— Да пошел ты! — Макс громко сглотнул.
— Иона Куперман, археолог, не менее известный ученый, чем его брат.
— Про него ничего не было в результатах моих запросов.
— Господи, Макс, — сказал я, подходя к анализатору ДНК, — в этом вшивом Интернете представлена вся сумма человеческих знаний — и ты хочешь сказать, что они упустили такой простой факт?
— Эй, не прикалывайся ко мне насчет Сети — пара случайных ляпов не означает…
Внезапно чудесный вид из окна прямо передо мной с грохотом разлетелся на сотни мелких осколков. Повинуясь инстинкту, я бросился на пол, а когда поднял глаза, то увидел, что Макс — безрассудно, подумал я в первый момент — все еще стоит посреди комнаты в полный рост. Я закричал, чтобы он лег на пол, но он все странно раскачивался в свете компьютерного экрана. Потом я заметил каплю крови у него на лбу и перевел взгляд на экран монитора сзади от него — он был залит чем-то куда более плотным, чем кровь. Пока я пересекал комнату вприсядку, словно краб на суше, ноги его подкосились, и он плавно рухнул на колени. Когда я наконец дополз до него, он уже упал лицом вниз, и я увидел, что пуля, столь аккуратно вошедшая ему в лоб, вышла из затылка и снесла большую часть мозга и приличный кусок черепа.
Глава 6
Лишь два дня спустя, на борту грязного, набитого пассажирами старого «Боинга-767», летящего из Вашингтона в Орландо, я ощутил силу удара, который нанесла мне смерть Макса. До этого я был слишком занят полицейскими допросами и попытками спрятать все следы нашего расследования. Но когда в трех рядах от меня я заметил крупного мужчину, который мог бы быть копией Макса, меня словно ударили в грудь кувалдой. Потерю единственного человека, связывавшего тебя с детством, нелегко пережить; пережить ее при таких обстоятельствах я мог, только получив ответы на все свои вопросы, и для этого был готов пойти на многое.
Первым делом я попытался поговорить с несколькими знакомыми в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне. То, что я от них услышал, и то, как проходили эти встречи, чуть не заставило меня опустить руки: под покровом дружелюбия скрывалось решительное предостережение отказаться от дальнейшего расследования, связанного с убийствами Джона Прайса и Макса Дженкинса. Очевидно, министр юстиции и директор ФБР и так не слишком хорошо ко мне относились — по их мнению, в своей книге я самым неблагоразумным образом уложил выдающихся личностей американской истории под стеклышко психологического микроскопа и вдобавок что-то на этом заработал. Но помимо личной неприязни я услышал в этих предупреждениях кое-что еще, и после нескольких встреч чувствовал себя абсолютно сбитым с толку. В моем деле быстро привыкаешь к пустым угрозам со стороны местной полиции, которая всегда подозрительно относится к тем, кто копается в биографиях политиков; но когда к делу подключились федералы, мне стало не по себе.
И все же я полетел во Флориду, чтобы попытаться встретиться с доктором Эли Куперманом, антропологом и арестантом. Он сидел в одной из новых государственных тюрем, управляемых корпорациями, — в исправительном центре Бель-Айл близ Орландо. Здание изначально было построено под школу, однако не слишком отличалось от тюрьмы из-за высокого уровня подростковой преступности во все более превращающихся в гетто американских пригородах. Когда во Флориде, как и во всей Америке, наказание стало важней образования, каменную глыбу без окон с легкостью превратили из места обучения в место заключения.
Я прибыл в Бель-Аил в полдень, попросил о свидании, и к моему изумлению оказалось, что доктор Куперман не только согласен говорить со мной, но и сам настаивает на встрече. Встречу он, однако, потребовал перенести на вечер следующего дня.
В семь часов, когда я занял свое место за прозрачным пуленепробиваемым барьером на втором этаже тюремного здания, на улице уже начало темнеть. Вскоре в комнату за барьером вошел охранник, а за ним мужчина среднего роста и телосложения со смуглым лицом и вьющимися каштановыми волосами, в изящных очках в черепаховой оправе. Это был Эли Куперман. Он сразу узнал меня, как и я его, и решительно уселся напротив. Охранник включил переговорное устройство.
— Доктор Вулф, — сказал Куперман с улыбкой, — какая честь для меня. Я читал вашу книгу, она восхитительна.
Казалось, что лишение свободы ему абсолютно безразлично.
— Доктор Куперман, — я кивнул, отвечая на его комплимент, — я тоже много читал о ваших работах, хотя не вполне понимаю, каким образом они привели вас сюда.
— Не вполне понимаете? — Куперман снова улыбнулся. — Что ж, надеюсь, вы скоро все поймете. Кстати…
Он расстегнул рукав голубой рубашки, завернул его, нажал несколько клавиш на маленькой гибкой клавиатуре, наклеенной на запястье, вновь застегнул рукав, и взглянул на меня с прежней улыбкой.
— Ну вот, у нас есть еще несколько минут. Как бы вы хотели их провести?
Я решил, что "несколько минут" осталось до конца нашей встречи, и задал вопрос напрямик:
— Расскажите мне, какое отношение к смерти Джона Прайса имеет ваш брат.
Куперман дружески взмахнул рукой:
— На это у нас еще будет масса времени. Я думаю, Малкольм сможет объяснить вам все гораздо подробнее, чем я.
— Малкольм?…
— Не беспокойтесь, скоро вы все узнаете. Да, примите мои соболезнования по поводу мистера Дженкинса. Мы надеялись, что он тоже присоединится к нам.
Я был в полном недоумении:
— Присоединится? К нам?
— Да. — Куперман придвинулся к стеклу перегородки. — Понимаю, что вы совершенно сбиты с толку, но, пожалуйста, постарайтесь говорить как ни в чем не бывало. Иначе охранник…
Он вдруг замолчал, и помещение наполнил необычный звук: глухой, рокочущий шум, исходивший будто бы сразу со всех сторон — даже из глубины моего черепа. Звук быстро усиливался; его мощь нарастала, и наконец металлические столы и стулья в помещении тоже начали заметно вибрировать.
— Хм, — сказал Куперман, вновь глядя на часы. Казалось, что шум ничуть его не удивил. — Довольно быстро. Должно быть, они были ближе, чем я думал.
Звук становился все громче. Я бросился к единственному окну и выглянул в темноту. Снаружи ничего не было видно, кроме светильников на верхнем крае тюремной стены, потом что-то заслонило и их. Какая-то темная масса, размерами раза в два больше товарного вагона, надвигалась на нас сверху.
— Что за черт? — прошептал я и обернулся к Куперману. Тот изо всех сил орал в переговорное устройство, пытаясь перекричать усиливавшийся шум:
— Доктор Вулф! Доктор Вулф! Отойдите от окна! Пожалуйста!
Я последовал его совету и, как оказалось, вовремя — расшатанные вибрацией прутья решетки вдруг вылетели из креплений, а армированное оконное стекло даже не разбилось, а скорее взорвалось. Я подбежал к перегородке и увидел, что охранник Купермана вопит от ужаса, зажав уши. — Что это? — проорал я в микрофон. — Куперман, что происходит?
Куперман улыбнулся, но прежде чем он смог мне что-либо объяснить, стена за его спиной затряслась, и через несколько секунд обвалилась наружу, открыв провал в ночь размером в десяток квадратных футов. Когда пыль осела, я увидел за этой дырой на расстоянии около трех футов от здания что-то вроде металлической стены. С тюремного двора сквозь непрекращающийся шум донеслись выстрелы.
Куперман кричал в переговорное устройство:
— Все в порядке, доктор Вулф! Не волнуйтесь! Только спрячьтесь под стол, хорошо?
Я тут же последовал совету Купермана, и это вновь спасло меня — на этот раз от разлетевшихся осколков пуленепробиваемой перегородки. Когда я вылез из-под стола и повернулся к нему, он жестом позвал меня перебраться через остатки перегородки и подойти ближе. Я послушался, и оказался лицом к лицу с охранником Купермана и вторым служителем. Оба они держали пистолеты наизготовку. Куперман обратился к ним, пытаясь перекричать шедший снаружи рев:
— Мистер Суини! Пожалуйста! Это не приведет ни к чему хорошему! Если вы с мистером Фаркасом немедленно уйдете, я обещаю…
Прежде чем Куперман успел закончить, мы стали свидетелями еще одного необычайного явления: на поверхности металлической стены снаружи провала зажглось множество зеленых огоньков, очертивших проем люка. Люк быстро открылся с шипением, очевидно, вызванным разницей давлений. За ним в тускло освещенном проходе стояли четверо мужчин. Мужчины были в комбинезонах, а девушка — в облегающем сером трико: в иных обстоятельствах я бы назвал его "соблазнительно облегающим".
С изумительной ловкостью она перепрыгнула через трехфутовый провал, отделявший проход от здания тюрьмы. При свете стали видны, во-первых, прямые, доходившие до подбородка волосы странного серебристого цвета, обрамлявшие тонкие черты ее лица, и, во-вторых, некое устройство в ее руке — предположительно, оружие, на вид гораздо более сложное и совершенное, чем любое из виденных мной раньше. Девушка навела это устройство вначале на одного охранника, затем на другого. У Суини, охранника Купермана, было достаточно здравого смысла, чтобы бросить свой пистолет и направиться к двери, оставшейся невредимой. Второй же, Фаркас, по глупости выстрелил, хотя от страха не смог даже прицелиться. Пуля попала в стену прямо над девушкой; она на мгновение пригнулась, затем устремила на охранника взгляд, в котором было не меньше изумления, чем гнева. Девушка прицелилась в охранника и, казалось, собиралась уже выстрелить, но потом перевела прицел на стол, стоявший у выхода из комнаты, и нажала на курок. Под беззвучным потоком высокоскоростных пуль стол рассыпался на кусочки.
Выстрели она в охранника, тело его было бы разнесено в клочья — так же, как тело Джона Прайса.
Осознав это, Фаркас выронил пистолет и кинулся к выходу. Когда он исчез, девушка подняла вверх дуло своего супероружия, грациозно переступив, перенесла вес на одну ногу, улыбнулась, кивнув, мне и Куперману, затем коснулась воротника своего костюма.
— Все в порядке, — проговорила она, глядя в потолок. — Они со мной.
Вновь обращаясь к нам, она показала на пролом в стене.
— Не хотелось бы тебя торопить, Эли, но…
— Торопи сколько хочешь, Лариса, — Куперман разбежался и перепрыгнул сквозь провал в металлический проем. — Быстрей, доктор Вулф! — позвал он меня оттуда, и я наконец понял, что это какой-то корабль или летательный аппарат.
— Да, доктор Вулф, поспешите, — сказала девушка, приближаясь ко мне с наигранной скромностью. — Моему брату так хотелось встретиться с вами, и мне тоже.
Она вгляделась в мое лицо и озадаченно улыбнулась.
— В жизни вы не так привлекательны, как на фотографии на обложке вашей книги, не так ли?
Я все еще не мог прийти в себя, и выдавил только:
— Что — не так ли?
Девушка радостно засмеялась и взяла меня за руку:
— Сможете перепрыгнуть или надо подогнать судно поближе?
Я потряс головой, пытаясь взять себя в руки.
— Перепрыгнуть я смогу, но что…
— Сначала надо прыгнуть, — ответила она, разбегаясь для прыжка и таща меня за собой. — Потом все станет вам гораздо понятнее!
Ощущая пожатие изящной, но сильной руки, я махнул через узкий провал за тюремной стеной, навсегда покинув весь мир и реальность, какими я их знал.
Глава 7
Внутри корабля царил пронизывающий холод, который ощущался особенно остро после теплого вечера Флориды и спертой духоты тюремного зала для посещений. Не успел я выпрямиться после приземления на тихо подрагивающую палубу, как меня прошибло ознобом, и рука, направлявшая мой прыжок, сразу принялась растирать мне спину.
— Не ожидали, верно? — спросила девушка, которую Эли Куперман назвал Ларисой. Я глядел в ее огромные черные глаза, так контрастировавшие с необычайными серебристыми волосами, и смог лишь утвердительно кивнуть, будто онемев от охвативших меня чувств. Невысказанное любопытство было, должно быть, прямо-таки написано у меня на лице (отчего бы, думал я, создателю этого корабля атмосферу на его борту не сделать поуютней), и она тут же принялась объяснять:
— Мой брат подошел к созданию сверхпроводимости при обычных температурах ближе, чем кто-либо, но нам все же приходится охлаждать значительную часть корабля ниже сорока пяти по Фаренгейту.
Она спрятала свое поразительное оружие в кобуру на левом бедре, одарила меня очаровательной ухмылкой и взяла под руку.
— Постарайтесь согреться, доктор Вулф…
Прежде чем я нашел в себе силы спросить, где мы находимся, между нами появилось, сверкнув очками, обаятельное лицо Эли Купермана. Широко улыбаясь, он потянул за руку одного из мужчин в комбинезонах, ожидавших нас внутри корабля. Лицо этого человека почти точно повторяло черты Купермана и отличалась только оправа очков — стальная, а не черепаховая, как у Эли; вне всяких сомнений, то был его брат-близнец, тот самый археолог, на запрос о котором Интернет не дал Максу ответа.
— Доктор Вулф, — сказал Эли Куперман с довольным видом, — вижу, вы уже познакомились с Ларисой. А это мой брат Иона…
Иона Куперман, не менее обаятельный, чем его брат, протянул мне руку:
— Очень приятно с вами познакомиться, доктор Вулф. Мы с нетерпением ожидали вас. Последние несколько недель мы только и обсуждали вашу книгу…
— А это, — Эли широким жестом указал на двух мужчин, стоявших поодаль, — доктор Леон Тарбелл, эксперт в области документов (я пожал руку невысокому жилистому человеку средних лет, чьи покрасневшие глаза, несмотря на улыбку, горели огнем), и профессор Жюльен Фуше, специалист по молекулярной биологии.
Ко мне шагнул крепко сложенный седобородый мужчина лет шестидесяти, и мое сердце на мгновение замерло — естественная реакция на встречу с человеком, который невероятно обогатил науку нашего столетия, а кроме того, уже четыре года как считался погибшим в авиакатастрофе.
— Не может быть, — прошептал я, пожимая его большую, энергичную руку. — Вы… вы же погибли!
— Слухи о моей смерти сильно преувеличены, — ответил, хрипло засмеявшись, Фуше. — Пришлось прибегнуть к этой уловке, чтобы скрыть мое внезапное исчезновение. Моя работа с Малкольмом и Ларисой заняла меня полностью и стала вызывать массу неприятных вопросов…
— Так, джентльмены, — вмешалась Лариса, — у вас еще будет достаточно времени для взаимных восторгов. А сейчас пора по местам.
Остальные согласно кивнули и разошлись.
— Эли, орудийную башню — к бою! — прокричала им вслед Лариса. — Я подойду вплотную! Леон, для боевого маневра мне понадобится полная мощность.
Из люка на мгновение показалась голова Леона Тарбелла.
— Боевого маневра? — спросил он, проницательно глядя на Ларису. — Ты хочешь сказать — для маневра уклонения?
В ответ Лариса уклончиво улыбнулась, и Тарбелл вновь спрятался, как чертик в табакерку.
Разбежавшись по своим постам, члены команды принялись выкрикивать рапорты и ответы, и их голоса слились в возбужденном хоре, который мог бы звучать при спуске на воду старого доброго морского судна. Услышав негромкий свистящий звук, я обернулся и увидел, что проход, сквозь который мы попали на корабль, закрывается люком, быстро и плавно скользнувшим сверху. Как только люк встал на место, вспыхнули светильники в полу коридора. Они осветили стены, обшитые, к моему удивлению, не обычными пластиком и блестящим металлом в хайтековском стиле, а прекрасными деревянными панелями. Каждую третью или четвертую панель украшали искусно подсвеченные картины в элегантных рамах.
У меня отвалилась челюсть.
— Восхитительно, — прошептал я.
— Благодарю вас, доктор.
Лариса была, казалось, поглощена собой, она мягко огладила свои бедра, потом подняла на меня взгляд. Когда она увидела, что я смотрю не на нее, лицо ее вытянулось.
— А, вы про корабль, — она вновь взяла меня за руку и повела за собой. — Это все Малкольм — он просто обожает такие нелепости.
— Вы тоже меня поразили, Лариса — если вы, конечно, разрешите мне вас так называть…
— Разрешаю, — ответила она, не замедляя шаг. — Лариса Трессальян, если точней. Можете отметить очарование свистящих в моем имени, хотя это довольно банально.
В ее милом имени было что-то смутно знакомое; я попытался было вспомнить, но сбился с мысли, когда она другой рукой коснулась воротника, очевидно, получив еще один неслышный мне вызов.
— Да, братец?… Конечно, я как раз веду его в каюту, чтобы он мог… привести себя в порядок…
Она взглянула на меня с более чем прозрачным намеком, потом неожиданно остановилась и отвернулась от меня.
— Где?… С земли и с воздуха?… Бегу.
Когда Лариса вновь обернулась ко мне, ее лицо изменилось: игривый котенок превратился в предвкушающего добычу хищника.
— Боюсь, доктор, что с отдыхом придется подождать, — сказала она и, взяв меня за руку, перешла на бег. — Нас ждут другие развлечения!
Глава 8
Узкий проход вывел нас к деревянному лестничному пролету, украшенному богатой резьбой и устланному коврами. Пока мы поднимались, гул корабельного двигателя, работающего, по словам Ларисы, на сверхпроводящих магнитогенераторах, способных развивать невообразимую мощность без загрязнения окружающей среды, стал стихать. Я ощутил, что корабль двинулся вперед, то и дело совершая плавные, но заметные нырки и подъемы.
Поднявшись на верхнюю палубу, я оказался перед круглым прозрачным иллюминатором в фюзеляже или обшивке судна и, глянув в него, увидел, что мы летим на высоте около сотни футов над землей, в точности следуя профилю земной поверхности, словно гигантская крылатая ракета.
— Любоваться будем потом, — сказала Лариса, потянув меня дальше. — На нас идет оперативная группа местной полиции и полиции штата, а за ними и федералы подоспеют.
— Но как же вы… — пробормотал я, останавливаясь перед трапом, ведущим к отверстию в потолке прохода, — с одним-единственным кораблем…
Лариса резко обернулась и коснулась пальцем моих губ. Ее глаза искрились уверенностью.
— Взгляните вон оттуда, — сказала она, указывая на трап, и я поднялся по ступенькам.
Наверху была круглая площадка футов пятнадцати в диаметре, напоминавшая орудийную башню какого-то фантастического танка с прозрачной броней. Центр площадки занимала громадная пушка, снабженная сиденьем для стрелка. Сбоку от орудия были стойки с аппаратурой слежения, за которыми сидел Эли Куперман, внимательно следя за показаниями аппаратуры. Очертания орудия показались мне знакомыми: оно походило на сильно увеличенную версию устройства, что висело на бедре у Ларисы.
— Это рейлганы, электромагнитные пушки, — сказала она, снова прочитав мои мысли по лицу, и, протиснувшись мимо меня по узкому трапу, достала из кобуры свое оружие. — Принцип прост: металлические пулю или снаряд, помещенные между двух параллельных проводников, ускоряет сильное электромагнитное поле, а не расширение газов после взрыва пороха. Эффект вы уже видели.
Она убрала свой рейлган в кобуру и еще раз коснулась моего лица:
— Я часами могла бы рассказывать про наше вооружение, но Малкольму не терпится увидеть вас.
Она была так близко, что я решился открыться ей в своих сомнениях:
— Послушайте, Лариса, что все это значит? Зачем я здесь?
Она мягко улыбнулась.
— Не беспокойтесь. Несмотря на все, что вы здесь видели, уверяю вас — это один из последних оплотов здравомыслия на Земле. А вы здесь оттого, что мы нуждаемся в вашей помощи.
Лариса проскользнула мимо меня в башню и заняла сиденье перед большим рейлганом.
— Пройдите дальше по коридору. Нужную дверь вы узнаете, как только ее увидите, — сказала она.
— Лариса, первая волна приближается, — сказал Эли Куперман, оборачиваясь к ней. Его лицо было серьезно.
Лариса взялась за рычаги на передней панели.
— Вам бы лучше уйти, доктор, — обратилась она ко мне с улыбкой, — жаль, если вы потеряете голову в самом начале нашего… знакомства.
Девушка повернула рычаг управления влево, и внезапно башня с палубой пришли в движение, направленное в сторону люка, в котором я стоял, высунувшись по пояс. Считаные секунды оставались до того, как палуба надвинется на люк, и я юркнул вниз, с грохотом приземлившись на пол коридора. Затем я двинулся вперед, мимо деревянных панелей обшивки, картин, дверей, пока не увидел перед собой большой, закрытый дверью проход, отличавшийся от остальных более искусной отделкой и черно-золотой надписью на двери:
MUNDUS VULT DECIPI
Я обратился к ошметкам медицинской латыни, которую учил много лет назад, но без успеха. Делать нечего: оставалось лишь пройти в дверь и встретиться с хозяином корабля — не самая привлекательная перспектива. Учитывая все, что я узнал о его сестре, о корабле и о тех действиях, за которые, как я знал, был в ответе Малькольм Трессальян, — где я мог слышать его имя? — я решил, что он окажется жутковатой личностью, возможно — обладающей физическим и духовным могуществом. Но встречи было не избежать, так что я послушно постучал в дверь и вошел.
Бак представлял собой коническую надстройку, покрытую тем же прозрачным материалом, что и орудийная башня Ларисы. Три его уровня — наблюдательный купол наверху, капитанский мостик и пост управления в середине, и небольшой зал для совещаний внизу — соединялись открытыми металлическими трапами. Вообще-то все здесь было выдержано в аскетичном техническом стиле, который я и ожидал увидеть с самого начала. Но после знакомства с несколько архаичным интерьером другой части корабля этот стиль мне показался неожиданным и даже неприятным.
Дверь, сквозь которую я прошел, вела в заднюю часть носового поста управления. В полутьме я разглядел двух мужчин, склонившихся за пультом, на фоне простиравшейся под нами картины медленно разрушающихся пригородов южной Флориды. С трепетом я сделал шаг вперед, потом еще один. И тут человек, сидевший слева, весело заговорил со мной, не отрывая глаз от пульта:
— Доктор Вулф! Замечательно — вам удалось удрать от Ларисы. Полагаю, что нашим преследователям такое не под силу.
И тут он неожиданно обернулся, или, вернее сказать, повернулось его сиденье, которое оказалось инвалидным креслом на колесах. Даже в полутьме я разглядел, что в кресле сидел вовсе не образец физической силы, каким я его себе представлял, а хрупкое, жалкое существо, вид которого абсолютно не вязался с его энергичным голосом.
— Наверно, я должен был произнести этакое напыщенное приветствие, — продолжал он в том же дружеском тоне, — но ведь такое не для нас с вами, а? Я думаю, вам больше хотелось бы получить ответы на кое-какие вопросы.
Глава 9
— Я Малкольм Трессальян. Моя сестра уже рассказала вам обо мне или с самого вашего прибытия так и заигрывала без перерыва?
— Да… то есть нет… я имел в виду, что она…
Трессальян рассмеялся, подъехал ближе, и я в первый раз смог как следует рассмотреть его лицо.
— Вам следует знать, что она очень редко интересуется мужчинами, но если уж заинтересуется — упаси господь…
Я улыбнулся его словам, хотя лицо Трессальяна занимало меня гораздо больше. Его тонкие черты и серебристые волосы напоминали мне Ларису, однако глаза были совершенно другими — необычайно светлого, какого-то сверхъестественно голубого цвета. Но в этом лице было нечто куда более примечательное: взгляд, который много раз я наблюдал у детей, надолго оказавшихся за решеткой, у шизофреников, слишком долгое время лишенных помощи врача, — невидимая рана, нанесенная непрерывными, жестокими мухами. Клеймо, видимое так же ясно, как родимое пятно.
— И я должен извиниться перед вами, — благожелательным тоном говорил Трессальян, — за способ, которым вас доставили на корабль.
Он переменил позу, чтобы встать из кресла. Должно быть, для него было важно приветствовать меня стоя, несмотря на боль, которую причинила эта попытка. Он достал пару алюминиевых костылей, прикрепленных по обе стороны кресла, продел в них предплечья и с усилием поднялся на ноги. Я не знал, что сделать, чтобы помочь ему, и к тому же чувствовалось, что помощи он не желал. Поднявшись, он подошел ко мне и подал руку, удовлетворенный, что встать ему удалось.
— Однако, — продолжил он, — я думаю, что вы понимаете: мы не могли допустить, чтобы вас постигла судьба мистера Дженкинса.
Лицо его посерьезнело.
— Я уверен, что Эли выразил вам свои соболезнования — позвольте добавить к ним мои собственные. Это ужасный случай, даже для бессмертного монстра по имени ЦРУ.
— Значит, это и правда были правительственные агенты, — сказал я тихо. На мгновение передо мной мелькнуло лицо Макса.
Трессальян сочувственно кивнул:
— Вы с ним подошли слишком близко к разгадке убийства Джона Прайса.
— К разгадке его убийства, — спросил я осторожно, — или к разгадке компьютерных изображений, которые он подделывал?
Улыбка вернулась на лицо Трессальяна.
— Они взаимосвязаны, доктор, как вы, наверное, и предполагали. Ваша смерть могла вызвать нежелательное замешательство в обществе. И все же если бы вы стали упорствовать, они скорее всего нашли бы способ тихо убрать вас со сцены.
— Но почему? — спросил я невольно. — Что, в конце концов, происходит?…
Человек, сидевший за консолью управления, прервал меня, проговорив уверенно и жестко:
— Лариса готова к бою. Противник в пределах нашей досягаемости, и она перевела управление кораблем на себя.
Трессальян вздохнул, но остался спокойным.
— Тогда, полковник, познакомьтесь с доктором Вулфом, раз вам сейчас все равно нечем заняться.
Человек поднялся из-за бесполезного пульта управления, и я сразу же обратил внимание на его военную выправку, подчеркнутую строгим костюмом с воротником-стойкой, напоминавшим военную форму без знаков различия. Он повернулся к нам быстрым, отработанным движением, и то, что я увидел в этот момент, заставило меня испустить бестактный вздох изумления.
Его тяжелые брови низко нависали над пронизывающим взглядом темных глаз, а крепко сжатые челюсти, казалось, вот-вот разлетятся от усилия вдребезги, но мое потрясение было вызвано не этим: правая сторона его лица была изуродована самым жутким шрамом из всех, что я видел. Шрам оттягивал в сторону правый глаз и кривил губы полковника в вечной гримасе, продолжаясь прожилкой седины в его черных как смоль волосах.
— Доктор Вулф, — сказал Трессальян, — позвольте представить вам полковника Юстуса Слейтона.
— В отставке, — добавил полковник тихо, с той ноткой угрозы в голосе, которая дает понять, что с его обладателем следует вести себя крайне осмотрительно.
— Тот самый полковник Слейтон, — спросил я, протягивая руку, — который чуть было не изменил ход Тайваньской кампании?
Казалось, что мой вопрос немного смягчил его, и он с силой пожал мне руку.
— Ход этой кампании было не изменить никому, — ответил Слейтон. — Я и мои люди могли оказать лишь символическое сопротивление. Нас принесли в жертву, только и всего.
— Жертва на алтарь торговых интересов пекинских коммуно-капиталистов, — кивнул я, — и все же вы дрались круто.
— Вы как всегда великолепны, доктор, — сказал Трессальян. — Очень немногие понимают смысл той операции. Но вот чего вы не знаете, так это того, что после ранения на Тайване и возвращения на родину полковник стал одним из ведущих специалистов Пентагона по разработке новых вооружений. Разумеется, пока я убедил его…
— Малкольм, — прервал его полковник Слейтон, — прежде чем вы продолжите рассказ, я бы хотел напомнить вам о ДНК-диске доктора.
Трессальян заметно смутился.
— Ах да, полковник, ну разумеется. Я должен еще раз извиниться перед вами, доктор, но события последних дней заставляют нас быть бдительными. Вы не возражаете?…
— Нет, конечно, нет, — сказал я, доставая бумажник и извлекая из него свой идентификационный ДНК-диск. — Черт! На самом деле, — продолжил я, вырвав из головы волос и передавая его полковнику вместе с диском, — после всех этих дел я бы не стал клясться, что я — это я.
Мы с Трессальяном наблюдали за тем, как Слейтон достал портативный считыватель ДНК (вроде того, что всюду носил с собой Макс) и вставил в него диск и волос. Через несколько секунд он вынул их, кивнул и вернул мне диск.
— Прекрасно, с этим покончено, — сказал Трессальян, направляясь к металлическому трапу, который вел в обзорный купол. — Теперь, доктор, я буду рад ответить на любые ваши вопросы, но сейчас, я думаю, вам лучше посмотреть на Ларису за работой.
Я поднимался по лестнице вслед за Трессальяном, передвигавшимся медленно, но уверенно. Слейтон отставал на несколько ступенек, то ли страхуя Трессальяна от случайного падения, то ли присматривая за мной, а скорее всего, то и другое. Я ощущал присутствие полковника, где бы он ни находился, не в последнюю очередь из-за таинственного и тревожащего шрама на его лице. Сегодня почти любой орган и любая ткань человеческого организма (исключая мозг) выращивают в медицинских лабораториях, и из кусочка кожи полковника можно было сделать неотличимую копию, вырастить ее и, словно лоскут материи, пересадить в нужное место. То, что он оставил нетронутым обезображивающий его шрам, многое говорило о его характере. "Что же делает подобная личность на службе у этого странного субъекта, с трудом одолевающего бок о бок со мной крутые ступени?" — спрашивал я себя.
Но эти раздумья вмиг вылетели из моей головы, как только мы оказались внутри обзорного купола, из которого открывался ничем не ограниченный вид во все стороны, — зрелище в которое я мог поверить лишь с большим трудом
Глава 10
Купол окружала величественная панорама ночного неба. Но насладиться зрелищем мне не пришлось: нас преследовали самое меньшее пять «Джеронимо» — военных вертолетов "Апач Марк V", переоборудованных под нужды местной полиции и ФБР. Их пушки изрыгали сверкающие очереди трассирующих пуль. Внизу, поблескивая маячками и лупя из бортовых крупнокалиберных орудий, сновала по улицам целая свора «хаммеров» последней модели. По моим прикидкам, жить нам оставалось несколько секунд, тем более что мы еще не открыли ответного огня.
Но тут я понял, что пули и снаряды летят мимо округлого, вытянутого фюзеляжа корабля, из-за убиравшихся в корпус крыльев и светящейся «головы» напоминавшего гигантскую летучую рыбу. Трессальян посмотрел на мое озадаченное лицо (похоже, он был так же проницателен, как и его сестра), коснулся воротника своей рубашки и заговорил с Ларисой — заговорил, как я только что догадался, воспользовавшись системой связи, для надежности имплантированной прямо в тело.
— Сестричка?… Да, доктор Вулф здесь, наблюдает и волнуется. Учти, что мы направляемся прямиком к побережью, так что не стоит тратить лишние… Лариса?… — Снисходительно качнув головой, он отнял пальцы от воротника и широким жестом обвел сцену, что разыгралась вокруг. — Советую вам не пропустить это зрелище, доктор; полагаю, оно устроено специально для вас.
В этот момент орудийная башня корабля открыла огонь из большого рейлгана. Его заряды были пропорционально больше тех, которыми стрелял маленький рейлган Ларисы. Я с трепетом следил за разрушениями, которые нес поток снарядов, то перемещавшийся от одного преследователя к другому, то сбивавший тонким пучком колесо с «хаммера» или установленный на «Джеронимо» пулемет, то широкой очередью превращавший очередную единицу техники в облако разлетающихся осколков — и частей тел. Все это шоу, как сказал Трессальян, было устроено в мою честь. Причем Лариса не только пыталась произвести на меня впечатление своими летными и боевыми навыками, но и, казалось, давала мне понять, что я ввязался в смертельную битву.
Но за что шла эта битва?
Мною владели возбуждение, ужас и, признаюсь, некоторое удовлетворение (в конце концов, наши преследователи исполняли приказы людей, которые убили Макса), но мой разум был ясен и все так же дотошен.
— Их пули, — сказал я, — не попадают в нас.
— Говорят, что человек, управляющий электромагнитными силами, правит всеми известными силами Вселенной. Я не претендую, что овладел ими до конца, но мы достаточно понимаем эти технологии, чтобы создавать поля, способные влиять на куда более сложные формы материи, чем летящие в нас пули. Даже без защитных полей опасность была бы невелика: надстройки и обшивка нашего судна, и даже его прозрачные детали, состоят из современных композитных смол. Прочнее, чем высококачественная сталь гораздо большей толщины, и при этом значительно легче. — Трессальян остановился, глядя на меня. — Вы, я вижу, в смятении, — сказал он наконец. — Однако поверьте мне — правительства всего мира не оставили нам другого выбора…
— Всего мира! — повторил я шепотом. — Но я думал…
— Да, мы действуем в глобальном масштабе. Взгляните сюда, доктор.
Трессальян повернулся и проковылял к невысокому столу в центре купола, на котором разместились видеомониторы. — Возможно, так вам будет легче понять.
Я замер перед экранами, на которых разворачивались картины военных передвижений: флоты в открытом море, эскадрильи дистанционно управляемых истребителей-бомбардировщиков в небе, их безлюдные кабины, набитые компьютерным оборудованием, команды авианосцев, снаряжающих все новые самолеты бомбами и ракетами.
— Что это? — спросил я.
— Это причина, по которой убили вашего друга мистера Дженкинса, — ответил Трессальян. — Американский экспедиционный корпус готовится к массированному наступлению.
— На кого? Куда они направляются?
— Туда же, куда и мы. В Афганистан.
Глава 11
— Афганистан… — пораженно промолвил я. — Но зачем? И как вы получаете эти кадры?
— Со спутников, — просто ответил Трессальян. — С наших спутников.
В голове у меня словно замкнулась какая-то цепь:
— Спутники… Спутники! Тот самый Трессальян — Стивен Трессальян, — который разработал четырехгигабайтную спутниковую систему связи, человек, создавший современный Интернет!
— Он был моим отцом, — Малкольм неопределенно кивнул. — Это и вправду один из его грехов, один — среди множества прочих. Но в конце концов он заплатил за свои грехи, и его капиталы позволили нам затеять это предприятие.
— Но что это за предприятие, черт побери?
Чем вы занимаетесь?
— Гораздо более важный вопрос, — сказал Трессальян, уходя от ответа, — чем занимается ваше правительство?
— Мое правительство? Оно такое же ваше, как и мое!
Трессальян покачал головой, мой вопрос, казалось, позабавил его.
— Вот уже много лет это не так. Все находящиеся на этом корабле отреклись от своих наций и государств, по большей части именно из-за подобной, — он указал на экраны, — политики.
— Что вы имеете в виду? — спросил я. — Что они собираются делать?
— На первый взгляд, в настоящий момент они собираются полностью уничтожить огромный комплекс подземных сооружений, служивший главным тренировочным лагерем исламских террористов на протяжении последних двадцати лет.
Я вновь взглянул на экраны.
— Возмездие за убийство Хальдуном президента Форрестер? — спросил я.
Трессальян кивнул.
— В вашей стране как-никак приближаются выборы. Однако это решение, принятое вашим правительством, несет в себе определенную проблему. Правительство США, кажется, начинает подозревать об этой проблеме, но, учитывая горы политической риторики, которая привела к развертыванию военных действий, не может допустить, чтобы кто-нибудь еще — например, вы — раскрыли истину. Видите ли, Тарик Хальдун — не террорист и конечно же не убивал президента Форрестер.
— Но ведь диск…
— Человек на этих снимках, — Трессальян коснулся лежащей на столе клавиатуры, и на экране появились кадры, которые мы с Максом изучали часами, — на самом деле актер афганского происхождения, пользовавшийся некоторым успехом в индийской киноиндустрии конца двадцатого века. Мы позаимствовали его лицо.
Он пожал плечами и улыбнулся:
— Откуда мне было знать, что в Чикаго работает афганский дипломат, который мог бы сойти за двойника нашего актера? Не беспокойтесь. Разумеется, мы подготовили мистеру Хальдуну побег из тюрьмы. В любом случае, настоящим убийцей президента Форрестер был… — еще одно прикосновение к клавиатуре, и кадр на экране сменился второй фотоверсией событий, в которой у убийцы было азиатское лицо, — вот этот человек. Хун Тин-Синь, майор китайской службы внешней безопасности.
Я задумался, полностью отрешившись от бушующего за прозрачной оболочкой танца огня и смерти.
— Вы намеренно исказили факты убийства?
— Боюсь, что так.
— Значит, Прайс сфабриковал эти кадры для вас — именно вы и были тем "частным клиентом", о котором мне рассказала его жена.
— Опять в точку, доктор. Никто из нас не желал смерти мистеру Прайсу, но он пытался нас шантажировать, а когда Лариса и Иона встретились с ним, чтобы предупредить его от неверного шага, набросился на них. Швырнул Иону со всего размаху об стену и наделал бы дел, если бы… если бы Лариса…
Кусочки головоломки, окружавшей двойное убийство Джона Прайса и Макса, начинали складываться в единый узор, но я все еще не понимал, что за цель была у Трессальяна. И я задал ему прямой вопрос.
— У меня есть на то причины, — ответил он, вновь вздохнув, на этот раз глубже, и неожиданно передернулся всем телом. — У меня есть…
Но тут глаза Трессальяна широко раскрылись, и его скрутил новый приступ боли.
— Вам… простите меня, доктор, мне кажется…
Он вдруг обхватил руками голову и упал с приглушенным криком. Полковник Слейтон оказался рядом с ним прежде, чем я успел что-либо понять.
— Мне кажется… полковник, мне надо немного отдохнуть, — с трудом проговорил Трессальян сквозь сжатые зубы. — Надеюсь, наш гость извинит меня…
Он тяжело дышал; Слейтон закинул руку Трессальяна себе на шею и поднял его искалеченное тело как пушинку.
— Простите меня, доктор, — задыхаясь вымолвил тот, — я знаю, что вы хотите получить ответ на свои вопросы. Вечером, мы поговорим вечером, за ужином… А сейчас — вспомните…
С неимоверным усилием он поднял голову и, преодолевая мучения, взглянул на меня. Я никогда не забуду этот взгляд: он был полон непокорства, но, в отличие от сестры, в Трессильяне чувствовалась темная, внушающая страх сила.
— Вспомните, — продолжал он, — надпись, что вы видели на двери…
И, увлекаемый Слейтоном, он исчез за дверью.
Внезапный приступ у Трессальяна, передвижения войск на экранах, кипевшая снаружи битва — не говоря уже о том, что я остался один — все это обратило мою тревогу в настоящую панику. Я попытался успокоиться, сосредоточившись на последней фразе Трессальяна и вспоминая обрывки латыни, которую я учил так давно, чтобы разгадать наконец загадку таинственной надписи.
Не знаю, как долго я стоял, созерцая, как Лариса расправляется с нашими преследователями, и бормоча, как идиот: "Mundus vult decipi". Эти слова я повторял вновь и вновь, уставясь на потоки пуль и снарядов, расчерчивающих пространство вокруг корабля. "Mundus — это мир, так-так. Vult — хочет? желает? Хочет чего?"
Пространство взрезал пульсирующий звук корабельной сирены. Я замер на месте. Звук был не так уж резок, но его хватило, чтобы понять: происходит нечто очень важное. Я обвел взглядом горизонт, пытаясь увидеть, что же случилось, и тут же увидел ответ.
Прямо перед нами расстилалась бескрайняя ширь Атлантического океана.
Я резко обернулся: за моей спиной неожиданно раздался голос, усиленный и искаженный корабельной системой громкой связи, но несомненно принадлежавший Жюльену Фуше:
— Тридцать секунд до перехода… двадцать пять… двадцать…
Мы приближались к кромке воды, не снижая скорости. Фуше продолжал с пятисекундными интервалами свой обратный отсчет до «перехода», что бы это ни значило, и тут меня пробил озноб понимания: подстегнутый нарастающим ужасом, я сумел перевести надпись на двери.
— Mundus vult decipi, — сказал я вслух. — "Мир хочет быть обманутым"!
Еще не осознав до конца пугающего смысла этих слов, я почувствовал было радость победы — чувство, тут же сменившееся ужасом, когда наше судно, пролетев над береговой линией, на полной скорости нырнуло в глубины открытого моря.
Глава 12
Как только корабль полностью ушел под воду, на его корпусе зажглись мощные прожекторы, осветившие чудовищный вид прибрежных глубин Атлантики. Мы направлялись на север, вдоль берега континента. То, что я увидел, ничуть не напоминало идиллические сцены подводной жизни, возникавшие в памяти из детских книжек и фильмов. Мы плыли в коричнево-бурой жидкости, заполненной отбросами. Все это непрерывно перемешивалось прибрежными течениями, но чище не становилось. Временами можно было определить источник загрязнения — особое отвращение вызывали обширные пространства, заполненные медицинским мусором или останками крупного рогатого скота, — но по большей части все сливалось в единую неразличимую массу.
Эти наблюдения и одинокие раздумья совершенно сломили мой дух. Я, конечно же, знал, что за годы, прошедшие с финансового кризиса 2007-го, забота об окружающей среде стала для большинства стран непозволительной роскошью, однако увидеть последствия собственными глазами — это был шок.
Казалось, что прошло немало времени, прежде чем меня проводили в мою каюту. На этот раз мной занялась не Лариса Трессальян (я решил, что она ухаживает за своим братом, пораженным загадочным недугом), а диковинный человечек, которого мне представили как доктора Леона Тарбелла. "Специалист по документам" был единственным членом команды корабля, с которым я не был прежде знаком лично или хотя бы понаслышке. Но остальные члены команды обращались с ним на равных, и это придавало ему в моих глазах определенный интерес.
— Как вам здешний интерьер? — приветливо спросил меня Тарбелл, когда мы спускались по деревянной лестнице на нижнюю палубу корабля. Его неуловимый акцент да и все его поведение отличались некой двусмысленностью: несмотря на очевидное дружелюбие, он, казалось, получал удовольствие от томившей меня тревоги.
Тарбелл вытащил из кармана пачку новых бездымных и предположительно "безопасных для здоровья" сигарет, которые американской табачной промышленности недавно пришлось выпустить на рынок под судебным и политическим давлением блока восточно-азиатских стран, и предложил мне закурить. Я отказался. Закурив, он продолжил:
— Мне все это не по вкусу, я предпочитаю современность. В ней есть минимализм, сила, атлетизм — сексуальность, наконец.
— Некоторые просто назвали бы ее уродливой, — быстро добавил я, не подумав, что Тарбелл может обидеться, но он лишь рассмеялся:
— Это верно! Современный стиль действительно может быть уродлив, — тут его пламенный взгляд стал еще более возбужденным, — уродлив и сексуален!
Вскоре я убедился, что для Тарбелла весь мир людей и вещей делился на две части: "сексуальные!" объекты, и объекты, «сексуальностью» не обладающие. Несмотря на простоту этой философии, она показалась мне столь же правомерной, как и любая другая, но была, по крайней мере, забавнее прочих, особенно если учесть энергическую комичность, с которой Леон высказывал свои утверждения. Словом, я с удовольствием посмеялся вместе с ним по дороге к моей каюте, немного сбросив владевшее мной напряжение.
Убранство небольшой каюты, предоставленной в мое распоряжение, напомнило фотографии с трансатлантических лайнеров начала двадцатого века. По сравнению с зябкими сорока пятью градусами[1] в коридоре, внутри было тепло. Деревянные стенные панели, небольшая прозрачная секция наружного корпуса корабля в форме иллюминатора, затемнявшаяся по желанию нажатием кнопки, стеклянные абажуры тонкой работы, санитарное оборудование из мрамора и керамики, походившие на настоящий антиквариат, — все это создавало атмосферу гостеприимства и так резко отличалось от высокотехнологичного интерьера носовой части, что я вновь пришел в замешательство.
— Прошлое и будущее бок о бок, — сказал Тарбелл, кивнув. — Можно сказать, что на борту этого судна время не существует. Таков уж Малкольм!
Мысли мои вновь обратились к хозяину корабля.
— Он поправится?
Тарбелл уверенно кивнул:
— Приступы через некоторое время проходят.
— Но что с ним?
— Мне несколько неудобно говорить об этом с вами. Возможно, он сам вам все расскажет. Или, возможно, Лариса. — Хлопнув меня по плечу, Тарбелл демонически ухмыльнулся: — Она положила на вас глаз — счастливчик! Женщина редкой красоты, обаятельная, великолепная — и сексуальная! Думаю, вы присоединитесь к нашей маленькой компании!
Уже уходя, он добавил:
— Вы найдете в каюте все, что вам нужно, включая чистую одежду. Обедаем мы в носовой палубе, начало через полчаса. Малкольм сказал, что вы любите водку — приходите, я поделюсь с вами своим личным запасом!
Было ясно, что эти люди знали обо мне почти все, начиная с размера и предпочитаемого мной стиля одежды (в шкафу не было ни одной вещи, которую я не мог или не захотел бы надеть), до выбора спиртного. Способ, которым они получили эти сведения, занимал меня не больше чем примерная стоимость постройки корабля, на борту которого мы находились. Отец Малкольма и Ларисы, Стивен Трессальян, создатель спутниковой системы, преобразовавшей современный Интернет, был одним из богатейших людей мира. А еще он был лидером и вдохновителем группы информационных технократов, которые в ходе кризиса 2007 года объединили свои личные и корпоративные фонды, чтобы гарантировать платежеспособность американского правительства, подобно тому, как это сделали Дж. П. Морган и его партнеры столетием раньше. Чтобы не допустить контроля Вашингтона над экономикой и информацией Трессальян и его союзники использовали этот факт как дубинку, нанеся смертельный удар и так уже изрядно пострадавшей концепции приватности, или неприкосновенности личной жизни.
Наследники информационного магната обладали, таким образом, практически неограниченными ресурсами, но это не помогло ответить ни на один из вопросов, крутившихся в моей голове, пока я умывался и переодевался к обеду: чем на самом деле заняты эти люди и почему они, как сказала мне Лариса, решили, что нуждаются во мне?
Через двадцать минут я уже направлялся в носовой отсек, намереваясь на этот раз получить вразумительные ответы.
Глава 13
Стол для совещаний на нижней палубе носового отсека был накрыт изысканной скатертью и сервирован фарфоровой посудой, серебряными приборами и свечами. Пространство за иллюминаторами окрасилось в густые сине-черные тона, а это означало, что мы, оставив позади прибрежный мусор, повернули к востоку, в открытую Атлантику. Мощные прожекторы корабля вонзали в эти легендарные глубины столбы света, но, восхищаясь окружавшей нас красотой, я не мог отделаться от ощущения, что в этой красоте есть нечто необычное, странное, даже пугающее. Я попытался объяснить это ощущение тем, что нахожусь в непривычном месте — и вдруг понял, что на самом деле меня поразило полное отсутствие за бортом признаков жизни.
Тарбелл уже стоял у стола вместе с Куперманами. Я совершенно не представлял себе, кто и где готовил эту еду, но аппетитнейшие запахи, наполнявшие помещение, говорили сами за себя. Тарбелл предложил мне рюмку водки (какой-то неизвестной мне русской марки) из личных запасов, а Эли Куперман тут же спросил:
— Вы ведь любите жареного барашка, доктор Вулф? С кровью, верно? Он будет готов через несколько минут.
— У нас обычно нет времени как следует поесть днем, — добавил Иона Куперман, направляясь к небольшой двери, ведущей на камбуз, где у кухонной плиты сосредоточенно колдовал Жюльен Фуше, — поэтому мы стараемся сделать ужин как можно более изысканным.
Элегантные фарфор и столовое серебро были, несомненно, старинной работы.
— Полагаю, что вам это удалось, — только и смог сказать я, отхлебнув предложенной Тарбеллом водки и пытаясь привести мысли в порядок: ведь с этого самого места я только что следил за кипением битвы, — и продолжил, — чем же вы все так заняты днем, когда не штурмуете тюрьмы? Я был бы благодарен за объяснение.
— Штурм не был запланирован! — почти прокричал Фуше с камбуза. — Личный проектец lesfreres Киреrmап[2] полностью вышел из-под контроля!
— Да ладно тебе, Жюльен, — откликнулся Эли. — Этот проект ничуть не хуже других. Ты же видел статистику: со времен экономического краха увлечение азартными играми превратилось в настоящую эпидемию, и я не мог допустить, чтобы какие-то байки, совершенно абсурдные с точки зрения антропологии, подвели под это рациональную базу. Если б мы смогли подбросить туда наши доказательства…
— "Подбросить"? — перебил я его с изумлением. — То есть вы ничего оттуда не крали?
Иона Куперман послал мне доброжелательный взгляд.
— Надо сказать, доктор Вулф, что в том захоронении абсолютно нечего было красть.
— Можно просто Гидеон.
— С удовольствием, Гидеон. Вы, должно быть, знаете, что индейские племена, называющие себя "коренными американцами", на самом деле не были первыми обитателями этого континента. Об этом известно уже давно. Однако многие племена постарались скрыть или уничтожить все, что могло бы свидетельствовать истинность этого вывода. Они боялись — и у них были для этого основания — что если они предстанут обычными завоевателями, занявшими место своих предшественников, то потеряют эмоциональное и историческое оправдание многим своим сомнительным занятиям, — например, появлению целого поколения азартных игроков, не вылезающих из казино.
— Захоронение во Флориде исследовала группа из Гарварда, — продолжил Эли, — и мы с Ионой попытались подбросить кое-какие артефакты, чтобы доказать, что…
Эли вдруг умолк, услышав звуки колес кресла Малкольма Трессальяна на центральной палубе уровнем выше. Я понял, что все собравшиеся внизу беспокоятся за здоровье своего предводителя. Напряжение исчезло с их лиц, когда он подал голос:
— Ну какой же ужин без профессиональной дискуссии из-за разницы во взглядах! Хотя, доктор Вулф, вскоре вы поймете, что по вечерам эти споры приобретают порой весьма личный характер.
Медленные, тяжелые шаги Трессальяна по металлическим ступеням означали, что он спускается на костылях, и когда он наконец предстал перед нами, в его голубых глазах не было и следа прежних мук. За спиной Трессальяна я увидел полковника Слейтона, готового, если потребуется, немедленно прийти ему на помощь, и Ларису, выглядевшую после тяжелого боя с силами правопорядка еще привлекательней.
— Ну, джентльмены, кого мы сегодня бьем? — продолжал Трессальян. Я обратил внимание на то, что никому и в голову не пришло осведомиться о том, как он себя чувствует, раз он оправился от жестокого приступа, истерзавшего его голову, а затем и тело. Я решил вести себя так же, припомнив слова Тарбелла о том, что эти припадки случались довольно регулярно, и допустив, что Малкольм, как и в тот первый раз, когда я увидел его выбирающимся из кресла, вовсе не жаждал помощи и сострадания.
— Но, Малкольм, это же нелепо! — заорал Фуше, возникая из двери камбуза. — Эли и Иона все еще утверждают, что их выходка во Флориде вполне стоила тех проблем, что она нам принесла!
Все разом зашумели, и в воцарившемся гаме Лариса подвинулась ближе ко мне.
— Простите, что не смогла сама проводить вас в каюту, — сказала она тихо. Ее темные глаза мерцали в мягком свете столовой даже чуть ярче, чем серебристые волосы. — Все в порядке?
— О да, превосходно, — ответил я, вновь чувствуя ужасную неловкость от ее присутствия. — Доктор Тарбелл постарался помочь мне обустроиться, хотя это было нелегко. А ваш брат, он…
— Теперь с ним все в порядке, — она еще понизила голос. — Но мы сможем поговорить об этом позже.
Спор вокруг стола продолжался, пока Трессальян наконец не поднял руки:
— К порядку, джентльмены. Иона, Эли — я думаю, в ближайшем будущем нам придется просить вас ограничить действия, касающиеся азартных игр, чисто информационными рамками. Мы не ставим вам в вину ваше усердие, ибо все понимаем размах проблемы и ложные посылки, лежащие в ее основе. Но сейчас мы первым делом должны заняться задачами поважней. Я уже не говорю о том, что мы непростительно невежливы с нашим гостем, который, если я не ошибаюсь, не понимает и десятой доли того, о чем мы тут говорим.
Я улыбнулся и покачал головой: — Нет, Малькольм, вы не ошибаетесь.
— Тогда прошу садиться, а Жюльен подаст на стол, — Трессальян уселся во главе стола, указав мне на место рядом. — Доктор, мы постараемся прояснить ситуацию, после чего вы сможете оценить, как наши идеи работают в Афганистане.
Он наклонился ко мне, и его голубые глаза сверкнули:
— И тогда вы сможете понять, привлекает ли вас жизнь в центре котла, где варится глобальный хаос…
Глава 14
Вскоре из двери камбуза появился Фуше с подносами, уставленными простой, но изысканно приготовленной едой. Посмотрев на Трессальяна, я сразу понял, что все они годятся для человека, страдающего тяжелым нервным заболеванием. Мои впечатления подтвердились, когда я обнаружил, что он совершенно не употребляет алкоголя.
— Простите, — сказал я, продолжая изучать его, — но вы сказали "глобальный хаос"?
— Разумеется, исключительно с достойной целью, — поспешил ответить он. — Ну, по крайней мере, в целом. Однако чтобы понять эту цель, вам, боюсь, придется для начала усвоить философию, которую мы все здесь разделяем.
— Я весь внимание.
Трессальян кивнул.
— Итак, с чего начать? Возможно, нам послужит простое наблюдение. Как вам понравились прибрежные подводные виды?
Я в потрясении поднял на него глаза. Так вот зачем корабль провел столько времени в грязных прибрежных водах? Чтобы произвести на меня впечатление, подобно тому, какое произвела на меня Лариса, умело управлявшая большим рейлганом во время битвы с нашими преследователями?
— Гнетущее зрелище, — ответил я осторожно.
— А океан вокруг нас? — продолжал Трессальян. — Вы не заметили, что в нем чего-то не хватает?
— Рыбы, должно быть, — пошутил я, но осекся, заметив, с какой серьезностью смотрит на меня вся команда. — Господи! Неужели все и в самом деле так плохо?
— То, что вы видите вокруг, говорит само за себя, — полковник Слейтон провел пальцем вдоль шрама на щеке. — Прибрежные воды Атлантики превратились в самый настоящий свинарник, потому что правительство лжет, будто заставило весь мир строго следовать рыбоохранному законодательству. А на самом деле жалкие остатки основных видов рыб загнаны в дальние уголки океана, где их непременно найдут, и очень скоро истребят.
Он продолжал аккуратно ощупывать свой шрам, и я вспомнил, что именно "официальная ложь" правительства сделала его тайваньскую кампанию столь губительной.
— Да, — мрачно согласился Трессальян. — Конечно, хотелось бы надеяться, что все это лежит за гранью современных норм человеческого поведения. Однако же если принять во внимание разглагольствования, которыми нас кормили целое поколение, наш век должен был отойти от этих норм, не правда ли, доктор?
— Что вы имеете в виду?
— Согласитесь, что на заре нашего века человечество получило уникальную возможность улучшить и себя, и планету. У него были для этого все необходимые средства, — голос Трессальяна приобрел отчетливую ироническую нотку. — Но наступил век информации.
Его тон озадачил меня.
— В значительной мере благодаря вашему отцу…
— Да. В значительной мере благодаря моему отцу, — проговорил он жестко, безо всякой иронии.
Я отодвинул тарелку и наклонился к нему.
— Недавно вы назвали его работу «грехом». Почему?
— Перестаньте, доктор, — ответил Трессальян, поигрывая узким серебряным ножом. — Я думаю, что вы прекрасно знаете, почему. Более того, я подозреваю, что вы согласны с моей оценкой.
— Возможно, я разделяю некоторые из ваших убеждений, — сказал я, тщательно взвешивая слова, — однако я мог прийти к ним по иным причинам.
Он вновь улыбнулся.
— О, сомневаюсь. Но давайте все же попробуем разобраться. — Трессальян с трудом поднялся на ноги, оставив на тарелке добрую половину своего ужина, и начал медленно обходить стол. — Действительно, мой отец и его коллеги добились того, что большая часть населения Земли получила доступ к современному Интернету, который весьма заманчиво — и, надо сказать, успешно — рекламировался как "мир неограниченной информации". В эпоху торжества, в эру буйного расцвета капитализма и всемирного свободного рынка им не составило труда распространить убеждение в том, что, входя в Интернет, человек становится частью безграничной системы свободы, истины — и вместе с тем могущества. Человечество уселось за терминалы и принялось работать мышкой, а тех, кому не давали покоя философические сомнения, легко обольстили верой в то, что они распространяют демократические ценности свободного обмена не только товаром и информацией, но и идеями. Иными словами, их убедили в том, что они меняют мир к лучшему. — Он вновь обратил взгляд к океану, и выражение его лица чуть смягчилось. — А в это время загрязнение воды и воздуха росло, как никогда ранее, необъяснимо и неуклонно. Мир охватили новые пандемии, для лечения которых не существовало лекарств. Нищета, анархия и столкновения опустошали все новые уголки Земли. — Приподняв брови, он вздохнул: — И рыба — рыба исчезла.
Когда он снова посмотрел на меня, лицо его излучало парадоксальное, тревожащее спокойствие.
— Как это могло случиться, доктор Вулф? Как это могло произойти в эпоху, когда свобода информации и свобода торговли, по общему мнению, творят новый и благой мировой порядок?
В этот момент корабельная система громкой связи вновь издала нежный пульсирующий сигнал, и полковник Слейтон объявил, что через две минуты произойдет очередной "переход".
— Мы на несколько часов поднимемся в стратосферу, доктор Вулф, — произнес Трессальян. — Как вы относитесь к кофе и десерту на высоте семидесяти тысяч футов?
Я и не заметил, что, пока мы ужинали, корабль стал двигаться под углом к горизонтали, и всего через несколько секунд сквозь волнующуюся поверхность океана стал виден колеблющийся диск почти полной луны. Не снижая скорости, корабль, приводимый в движение мощью сверхпроводящих магнитогенераторов, взмыл из воды к небесам так плавно, что на столе не звякнула ни одна чашка.
Полковник Слейтон молча прошел к трапу и принялся подниматься в среднюю палубу к пульту управления кораблем.
— Нет нужды связываться с островом, полковник, — бросил ему вдогонку Трессальян. — Я уже перепроверил приборы. Мы прибываем на заре.
— Простите, Малкольм, — ответил полковник, не сбиваясь с шага, — но с военной привычкой к резервному дублированию не так-то легко справиться.
Трессальян улыбнулся мне.
— Исламские террористы в Афганистане, — объяснил он, — отказались обратить внимание на наши предупреждения об атаке американцев, так что нам придется заставить их уйти. Вместе с ними в туннелях находятся женщины и дети, и я не хочу, чтобы на моих руках оставалась их кровь.
— Но каким образом вы собираетесь их заставить?…
— Я бы мог вам объяснить, — ответил Трессальян, отвернувшись от иллюминатора и тяжело переставляя ноги, — но думаю, что вам будет полезней увидеть это самому.
Глава 15
Когда корабль выровнялся в холодном и разреженном воздухе стратосферы, Трессальян возглавил торжественную процессию и повел ее в обзорный купол верхней носовой палубы. По пути мы заглянули в пост управления на средней палубе, чтобы прихватить инвалидное кресло Трессальяна, и я увидел и услышал, как, подчиняясь командам Слейтона, мерцали и гудели приборы в консоли, отметив про себя, что мой первый восторг, вызванный заложенными в корабль фантастическими техническими возможностями, поутих.
Поразительно, до чего быстро человеческий разум привыкает к плодам прогресса и начинает принимать их как нечто обыденное. По правде говоря, в моей ускоренной адаптации сыграли свою роль и водка Тарбелла, и становящиеся все более откровенными намеки Ларисы, но основная заслуга принадлежала соблазняющему могуществу технологий, о котором только что рассуждал мой гостеприимный хозяин, — отказавшись, впрочем, объяснить мне цель нашего путешествия в Афганистан вплоть до нашего прибытия на место.
Устроившись в доставленном для него кресле, он объяснял:
— Пока обычный среднестатический гражданин был полностью захвачен массовой эйфорией вокруг информационных технологий, а компании-производители гордо именовали себя "агентами нового демократического порядка", реальная экономическая и информационная власть, далекая от какой бы то ни было децентрализации, сконцентрировалась в руках небольшого числа мегакорпораций. Они контролировали не только содержание информационных потоков, но и развитие конкретных технологий для получения и обработки информации. И хотя в вашей стране по крайней мере боролись за обладание этим мощнейшим из средств влияния, экономический крах 2007 года положил конец этой борьбе. В мире, который рушился на глазах, Вашингтону не оставалось больше ничего, как обратиться за помощью к людям вроде моего отца. Помощь эта была предоставлена, но — за определенную цену…
— Проще говоря, — подытожил спустившийся к нам с капитанского мостика полковник Слейтон, — правительство они купили.
Трессальян улыбнулся ему, затем вновь обратился ко мне:
— У полковника несомненный дар краткости, который ошибочно почитают сухостью и равнодушием, но не забывайте: никто не пострадал от воздействия информационных технологий больше, чем участники Тайваньской кампании, которые посвятили себя целям поважней, чем рынки Китая. Да, информационные технократы, и мой отец в их числе, купили правительство, и с тех пор все законодательные инициативы и материальные ресурсы были отведены от программ регулирования, от медицинских и экологических исследований, от сферы образования, от программ помощи отсталым странам — даже от военных разработок — короче, от всего. Все сэкономленные таким образом средства были брошены на подъем старых рынков и создание новых.
— Допустим, — согласился я, от близости Ларисы чувствуя себя все более непринужденно. — Предположим, я согласен с вами — так что с того? Вы сами говорили, что подобное на протяжении человеческой истории происходило не раз.
— Нет, Гидеон, — сказал Жюльен Фуше, охватывая мясистой рукой крохотную чашку с эспрессо. — Малкольм сказал отнюдь не это. Начало событий было, возможно, не таким уж оригинальным, но каким будет их финал? Аналогов тому, что происходит сегодня, в мировой истории попросту нет. Плотину прорвало; человеческое общество, и без того пресыщенное избытком информации, теперь в ней просто захлебывается. Скажите, вам ведь знакомо понятие "локальный экстремум"? Момент, после которого темп и интенсивность процесса возрастают так резко и радикально…
— …что количественные изменения переходят в качественные, — закончил я за него. — Да, профессор, я в курсе.
— Ну, в таком случае, — продолжил Фуше, — позвольте довести до вашего сведения, что мировая цивилизация только что достигла этого момента.
Некоторое время я сидел молча. Пусть его слова звучали совершенно неправдоподобно, но просто так отвергнуть их я не мог — слишком серьезен был источник сведений.
— Вы хотите сказать, — наконец решился спросить я, — что последние поколения информационных технологий качественно настолько превосходят все мировые достижения прошлого — такие, как, скажем, печатный станок — что их внедрение повлечет качественный сдвиг в самой структуре общества?
— Precisement,[3] — согласно кивнул Фуше. — И не удивляйтесь, доктор. Создатели этих технологий уже столько лет твердят, что они несут огромные сдвиги. А мы, — те, кто собрался здесь, — считаем эти изменения… — подбирая подходящее слово, он отпил глоток эспрессо, — зловещими.
Затем настал черед Леона Тарбелла.
— Гидеон, "век информации" не породил никакого свободного обмена знаниями, — сказал он. — Все, что у нас есть — это свободный обмен некими данными, которые бесполые стражи инфотехнологий сочтут дозволенными.
— Да и сама сущность этих технологий подразумевает, что никакого реального, адекватного знания больше не существует, — добавил Эли Куперман. — Ведь обрывки информации, которым эти стражи позволяют просочиться сквозь системы доставки, крайне беспорядочны и принципиально неверифицируемы. Причем в лучшем случае это просто неверные сведения. В худшем — намеренная, расчетливая ложь, простенькая либо затейливая, масштабная, подкрепленная сфабрикованными доказательствами и подделанными цифровыми изображениями. А возможность проверить источники сведений появилась слишком поздно, — когда эти технологии уже завоевали мир.
— И не забывайте, — присовокупил Иона Куперман, — ведь уже не одно, а несколько поколений детей выросло только на этих модифицированных, некорректных данных…
— Эй, эй, помедленней! — заорал я, подняв руки. Последовала передышка. Я глубоко вдохнул. — Все это выглядит как какая-то теория заговора, худшего разбора технопаранойя. Ради бога, да с чего вы решили, что люди спокойно съедят фальшивку, которая приведет к изменению фундамента целых обществ?!
Воцарилось странное молчание. Затем все, один за другим, обернулись к Трессальяну. Не глядя на меня, он медленно развел пальцы, затем сжал их. Через некоторое время он все же поднял на меня глаза, улыбаясь незнакомой блуждающей улыбкой.
— Видите ли, мы знаем это, доктор, — тихо произнес он, — поскольку этим мы занимались и сами.
— Вы?
Трессальян кивнул.
— Правда, всего лишь несколько раз. И позволю себе заявить, что самое выдающееся дело такого рода у нас еще впереди — если вы нам поможете.
— Но… — Я пытался понять. — Но мне казалось, вы против таких действий.
— Ну да, против. — Трессальян с трудом развернул свое кресло и подкатил к самому переднему краю купола. Его голос наполнился гневом и отвращением. — Человеческое общество поражено болезнью, доктор. Да, это бестолковое и ограниченное общество заражено информационной чумой. А чем занимаемся мы? — Успокаиваясь, он устремил взгляд в мрачное темнеющее небо. — Если повезет, наша работа станет антибиотиком, который толкнет общество на борьбу с инфекцией. Это при условии, — его черты исказила мука сомнения, — что мы не уморим пациента.
Я хотел было просить Трессальяна пояснить эти странные слова, но вдруг корабельная сирена запела вновь. Слейтон объявил, что мы снижаемся до "крейсерской высоты" — это невинное выражение, которое я скоро выучил, означало не путешествие для развлечения, а полет на высоте нескольких сотен футов над землей, как это было во Флориде, когда я впервые ступил на борт корабля. Все вскочили и сгрудились вокруг Трессальяна. Волнение росло. Я как мог старался не отстать от остальных, но все равно двигался замедленно, так как мне нужно было переварить услышанное. Неужели все это говорилось всерьез? Неужели они все на самом деле верят в манипуляции с распространением в обществе важной информации — да еще и для того, чтобы донести до этого самого общества, до чего в наше время просты — и опасны — подобные обманы? Бред, бессмыслица…
И тогда, все еще трепеща от близости Ларисы, я припомнил кадры убийства президента Форрестер с диска, который дали нам с Максом. Уже год как миру успешно скормили версию этого события, которая даже отдаленно не напоминала правду. А теперь сильнейшая мировая держава собирается применить военную силу на основании содержащихся в ней сведений — сведений, сфабрикованных Трессальяном и его командой, которые сейчас торопятся успеть к началу схватки, чтобы — что? Просто наблюдать за событиями? Вместе с чудо-кораблем принять в них участие? Или управлять событиями, навертев еще больше информационных фальшивок? Почти страшась узнать правду, я молча отвернулся к окну и стал вместе с остальными вглядываться в окружающую нас темноту.
Даже в смятении, я не преминул отметить, что высота нашего полета снова изменилась, хотя на внутреннем давлении это никак не отразилось. Мы снова летели низко над водой, и я с изумлением узнал, что на сей раз это были воды Аравийского моря — и, следовательно, что в стратосфере скорости нашего корабля превосходят скорости любого сверхзвукового самолета. Пока я смотрел на освещенные луной волны, проносящиеся внизу под нами, Лариса повернулась и прошептала мне на ухо:
— Я не то чтобы не согласна с тем, что они говорят, доктор, — уверяю вас, что я разделяю их мнения, — но попробуйте просто забыть о них и насладиться полетом. Неужели какая-нибудь философская дискуссия может заставить биться ваше сердце сильнее, чем этот корабль? Сомневаюсь. Так что в своих раздумьях о том, присоединяться к нам или нет, подумайте и об этом. — Я обернулся к ней. — Вы и я могли бы объехать весь мир, побывать в любом его уголке, и никто нам не помешает, все правила будем устанавливать мы сами. Ну как, вы в игре?
Я снова взглянул в иллюминатор.
— Господи… я бы сказал, что да, — неуверенно ответил я и попытался овладеть собой. — Но все это так… Словом, импульсивность никогда не была мне свойственна.
Она сдержанно улыбнулась мне.
— Знаю.
— И что, это вас не смущает?
Она хмыкнула.
— Смущает, но не слишком. В конце концов, это одно из тех качеств, за которые мы вас выбрали. — Она легко коснулась моей щеки. — Но лишь одно из них…
Не поворачиваясь, Трессальян громко окликнул нас:
— Сестричка! Прости, что отвлекаю вас — но, может быть, ты объяснишь, какой путь выбрала к цели? К географической цели, я имею в виду.
Лариса, помедлив с ответом, бросила на меня еще один изучающий взгляд.
— Валяешь дурака, братец? Мы снизимся к югу от Карачи, затем по долине Инда поднимемся на север. Радарам мы не по зубам, а река — это мертвая зона после ядерных ударов Кашмирской войны, так что никто нас не увидит. Потом на тридцать пятой параллели повернем к западу, пока не упремся в Гиндукуш; затем — на север, к долине Амударьи. Нужный нам лагерь разбит вдоль афганской границы с Таджикистаном. Мы прибудем сразу после восхода солнца, как назначено. К тому времени аппаратура будет готова.
— Отлично. — Как только на горизонте слабо показалась темная прибрежная полоса, Трессальян отвернулся от прозрачного проема и остановил взгляд на мне. — Тогда, доктор, задавайте ваши последние вопросы.
— Вопросы… — протянул я, пытаясь сосредоточиться. — Да, вопросы у меня есть. Но сейчас я хочу знать только одно, — я нарочно подошел и наклонился, чтобы заглянуть ему в лицо. — О каком вранье, вроде истории об убийстве Форрестер, я еще не знаю? Какую ложь я держу за правду?
— Вы имеете в виду, — ответил Трессальян, — информацию, делающую ваши представления о реальности абсолютно ненадежными?… Ее заведомо больше, чем вы подозреваете, доктор. И, вероятно, больше, чем вы сможете поверить…
Глава 16
Как описать то, что последовало дальше? Как объяснить, что из скептического (хоть и очарованного) наблюдателя абсурдных (если не безумных) прожектов Малкольма Трессальяна я стал их рьяным участником? В этом сыграло роль многое, и не в последнюю очередь та саднящая рана, которую нанесло мне убийство друга, произошедшее на моих глазах, — а также то, что с начала событий мне ни разу не удалось нормально выспаться.
Но мое мгновенное духовное преображение, нельзя оправдать одним лишь нервным и физическим истощением. Каскад интеллектуальных, зрительных и физических раздражителей, что обрушился на меня в те предутренние часы, обратил бы в истовую веру любую из закоренелых в скепсисе душ. Все это я говорю вовсе не в оправдание своих поступков, — мои слова скорее свидетельство всему слышанному, виденному и пережитому с тех пор, как мы приблизились к побережью Пакистана и вторглись вглубь континента.
Слова Ларисы оказались правдой: долина некогда прекрасной и щедрой реки Инд, колыбель одной из величайших и таинственнейших цивилизаций древности, в ходе идущей и поныне индийско-пакистанской войны за Кашмир обратилась в радиоактивную пустыню. Но утверждения моей прекрасной спутницы о необитаемости долины было, строго говоря, не вполне верным. Мчась над руслом реки, чьи берега были густо усеяны разлагающимися телами и белеющими скелетами, мы несколько раз видели группы местных жителей — вероятно, самых несчастных и жалких людей планеты. Фермеры и крестьяне с безнадежно искалеченными телами и безнадежно искалеченными жизнями — следствие непримиримого национализма и религиозного фанатизма обеих сторон, как врагов, так и их собственных соплеменников. В свете луны, хромая и подволакивая ноги, эти немощные призраки спускались с холмов к реке, чтобы наполнить ведра ее отравленной водой и затем вскипятить ее в бессмысленной попытке обезвредить атомный яд. Тогда они смогут протянуть несколько дней или недель, обреченные на расплату за прегрешения своей нации, отвергнутые теми, кто выжил, словно радиоактивные прокаженные.
Все мы были угнетены увиденным. Даже мое неуемное любопытство к новым товарищам исчезло без следа. Но хуже всех пришлось Малкольму. Всем известно, что зарождение в Индии на рубеже столетий новой, особо воинственной кровожадной волны национализма совпало в этой стране с ростом экономического и социального доминирования информационных и сетевых технологий. От Ларисы я узнал поздней, что Малкольм всегда считал своего отца и подобных ему людей лично ответственными за то, что созданные ими системы могли применяться — и применялись — для умножения лжи и ненависти в обществах, подобных индийскому. Применялись эти системы бездумно, беспорядочно и бессмысленно, точно так же, как на рынки проталкивались обычные потребительские товары.
Той ночью гнев и отчаяние Малкольма, а также то, что я принимал за чувство вины, вырвались на волю, и вскоре начался новый приступ. Он захрипел и обхватил голову руками, а Лариса, мгновенно распознав эти признаки, не замедлила прийти на помощь. Шепча брату на ухо что-то успокаивающее, она взяла его правую руку в свои, а затем извлекла из внутреннего кармана его пиджака маленький шприц и вколола его в вену левой руки. Через несколько секунд он задремал, все еще судорожно подергиваясь, и Лариса накинула ему на ноги одеяло.
Лишь удостоверившись, что Малкольм уснул, прочие члены команды приступили к своим обязанностям. Полковник Слейтон спустился в центральный пост, чтобы взять на себя управление кораблем, Фуше и Тарбелл ушли проверять, не отразились ли на работе двигателя все эти "системные переходы". Что до братьев Куперман, то Лариса попросила их подготовить меня к посещению Афганистана, пока она присматривает за братом. Иона ответил, что, по его мнению, всем членам экипажа непременно следует отдохнуть перед прибытием, однако братья согласились показать мне арсенал и научить обращаться с основной амуницией, которая мне понадобится по прибытии.
По пути Эли заявил, что в ходе знакомства я смогу задать по меньшей мере несколько вопросов о деятельности их группы, раз уж меня начали вводить в курс дела, то непременно следовало рассказать немного об истории группы и о том, что группа успела предпринять ранее.
К тому времени, как мы достигли арсенала, — отсека, заполненного стойками с оружием, не похожим на все, с чем я был знаком прежде, — Эли и Иона успели поведать мне, что они с Малкольмом, учившиеся на одном курсе Йеля, были первыми членами команды. Куперманы, с детства идеалистически противостоявшие господству инфотехнологий во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и в образовании, проявили интерес к юному Трессальяну, полагая его своим идейным противником: ведь именно тогда Малкольм унаследовал империю своего отца, скончавшегося при трагических обстоятельствах. Братья хотели выяснить, намерен ли он прекратить использование дешевой рабочей силы Третьего мира в производстве компьютерных систем, и вести дела компании с большей этичностью и ответственностью.
Обнаружив, что жизненная философия Малкольма куда ближе к их собственной, чем можно было ожидать от наследника империи Трессальяна, Эли и Иона начали проводить долгие часы в компании молодого человека с седыми волосами и в инвалидном кресле. Вместе они взламывали корпоративные и правительственные базы данных, сея страх и разрушения в мире информации. Со временем Малкольм предложил перейти на следующий уровень — перейти к действиям, куда более дерзновенным, и близнецы без колебаний взялись за то, что стало первым шагом на долгом пути подрыва глобального информационного общества изнутри, его же собственным оружием, и, кроме того, указывало на серьезные уязвимости и слабые звенья нового мирового порядка. Результат их действий получил скандальную известность под именем "Конгресса дураков" 2010 года.
Используя ресурсы корпорации Трессальяна и соблюдая притом строжайшую секретность, Малкольм и братья Куперман создали воображаемого, «цифрового» кандидата в Конгресс США. Примечательно, что им удалось провести добрых граждан южного Коннектикута и уверить их в существовании этого до крайности добродетельного создания. Они зашли весьма далеко, обеспечив победу своего «кандидата» на выборах путем хитроумных манипуляций с искусно подделанной биографической информацией и видеоновостями в Интернете. И когда подлинные новостные телекамеры не обнаружили следов новоиспеченного лидера в Вашингтоне, куда он должен был прибыть, разгорелся общенациональный скандал. Столь масштабной была реакция на это событие и столь ужасными карами грозили федеральные власти, что Малькольм, Эли и Иона сочли за благо на время оставить распространение фальшивок, окончили университет и добились успехов в соответствующих областях деятельности. Когда же в жажде зла они вновь отдались своей пагубной страсти, последствия оказались куда более ошеломляющими — и весьма опасными.
К тому времени к Куперманам и Малкольму присоединилась Лариса, обладательница научных степеней по физике, химии и технологии (и другого, куда более мрачного опыта, к которому я вернусь далее). Следующей своей целью молодые люди избрали ни много ни мало как целый европейский континент, над которым в 2017 году собрались тучи кровопролитного международного конфликта. Экономические неурядицы, принесенные кризисом 2007 года, вынудили правительство США отозвать с Балкан последние миротворческие отряды, и присущая этому региону атмосфера всеобщей вражды накалилась до предела. Европейский Союз со своим всегдашним малодушием там, где речь идет не о деньгах, а о человеческих жизнях, тем не менее отказался восполнить оставшуюся после ухода американцев дорогостоящую дыру и даже помешал сделать это Великобритании — единственному государству, готовому взять на себя решение проблемы. Все закончилось тем, что спустя десятилетие после экономического краха Балканы пережили взрыв резни и репрессалий невиданного размаха.
Замыслив новую хитрость, чтобы показать бессилие информационных технологий перед лицом древних распрей, Малкольм привел в команду двоих новых участников: Жюльена Фуше, с которым он и братья Куперман вместе учились в Йеле, и Леона Тарбелла, эрудированного ученого и исследователя, чьим коньком было не что иное, как фальсификации высочайшего качества. Трудно поверить, что целые армии, и по сей день рассредоточенные по Европе, были приведены в боевую готовность несколькими листками бумаги, сотворенными огромным, вальяжным Фуше и маленьким весельчаком Тарбеллом, но ручаюсь, что все было именно так. Жюльен Фуше использовал свой опыт, чтобы на молекулярном уровне воссоздать бумагу и чернила, повторяющие образцы столетней давности, а Тарбелл, используя надиктованный Малкольмом текст, превратил эти материалы в подборку писем, предположительно написанных британским государственным деятелем Уинстоном Черчиллем в адрес не более и не менее как Гаврилы Принципа — сербского националиста, застрелившего австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда и положившего начало цепи событий, увенчавшихся Первой мировой войной. Из поддельных документов выходило, что Принцип был британским агентом, а убийство эрцгерцога — результатом заговора, составленного двуличным Черчиллем и другими британскими политиками, чтобы разжечь войну, которая должна была привести к триумфу и всемирной экспансии Британской империи.
Этот замысел был еще нелепей, чем дело с "Конгрессом дураков", но удался и он, в первую очередь из-за стремительных и умелых действий Малкольма, подтасовавшего в Интернете и в служебных информационных системах материалы истории «открытия» фальшивых писем, да так, что подделки были признаны подлинными задолго до того, как осторожные исследователи смогли предложить более скептические и весьма научные версии их происхождения. Германия со всего размаху угодила в расставленную командой Трессальяна ловушку, заявив, что ее представители не станут заседать в европейских властных структурах вместе с британскими, пока Лондон официально не отречется от Черчилля и не возьмет на себя полную ответственность за войну. Франция тоже ухватилась за подвернувшуюся возможность высказать Англии свое благородное негодование, и в точности так же поступили все страны, принимавшие участие в Первой мировой. Англичане, однако, не согласились с очернением образа своего величайшего героя двадцатого столетия, и вскоре вся Европа уже трещала по швам; прокатилась волна национальных протестов и демонстраций, прозвучало несколько прямых угроз начала военных действий.
Малкольм и сам оказался не в силах предвидеть жесткость реакции на его «европейский» проект, а также опасность положения, в котором оказались он и его команда. Расследованием обстоятельств занялись не только полиция и научный мир, но и несколько европейских спецслужб, среди которых особой рьяностью отличалась британская. Никто из членов группы не хотел, чтобы точка в его жизни была поставлена пулей SAS.[4] Понимая, что игра идет по иным, новым правилам и сопряжена с опасностью для жизни, Малкольм решил искать помощника — человека, который направил бы его усилия так, чтобы они превратились в систематическую кампанию.
Он изучил досье оппозиционно настроенных офицеров всего мира, но полковника Юстуса Слейтона нашел не он, а Лариса, рекомендовавшая его вниманию брата. И, полюбопытствовав, что связывало девушку с таким человеком, как Слейтон, я наткнулся на нечто, повергшее меня в глубокий шок.
После окончания университета эта яркая, красивая девушка, которой я так увлекся с первой же встречи, стала наемным убийцей — киллером международного класса.
Глава 17
Открытие это как громом поразило меня. Ошеломленный и растерянный, я оцепенело замер посреди комнаты, пытаясь прийти в себя, а тем временем Эли подобрал мне пару отлично защищенных, но при этом очень легких ботинок и комбинезон совершенно обычного вида, который в действительности оказался сверху донизу покрыт высокопрочной новейшей броней. Иона же после долгих колебаний извлек с одной из многочисленных стоек какой-то пистолет и, насильно всунув его в мою ладонь, осведомился:
— Вот этот, кажется, вполне хорош. Как он вам, Гидеон, — не правда ли, удобно сбалансирован?
— Э… — промямлил я. — Удобно… удобно — что?
— Это нервно-паралитический прерыватель с большим радиусом действия, — ответил Иона, приподнимая мою безвольную руку и пытаясь вложить в нее оружие. — Иными словами, это полицейский шокер, только куда более сложно устроенный. Действие абсолютно безболезненно и не оставляет последствий. Я решил предложить его вам, поскольку вы врач и высоко цените человеческую жизнь, но вам потребуется защита…
— Простите, — медленно произнес я, — не могли бы вы повторить последнюю фразу?
Эли удрученно поцокал языком, оглядывая мои ноги в штанинах комбинезона.
— Вы, как назло, попадаете ровно между двумя размерами, Гидеон. Мы потратили кучу времени, подбирая одежду для вас, но, боюсь, придется обойтись тем, что есть.
— Механизмы наведения на цель и открытия огня очень легко приводятся в действие, — продолжал Иона, ничего не замечавший, кроме своего пистолета, — у Малкольма получилось даже улучшить первоначальную конструкцию модели, которая попала к нам через Слейтона, покинувшего Пентагон. Можно выбрать ручное или голосовое управление…
— Иона, — окликнул я его, с трудом сохраняя спокойствие. — Честное слово, я уделю этому пистолету все внимание. Буквально через минутку, ладно? Только еще раз повторите то, что вы сказали перед этим. Прошу вас.
— Ого-го, — засмеялся Эли, разворачивая отвороты штанин моего комбинезона так, чтобы они доставали до ботинок. — А ведь я предупреждал тебя, Иона, что не стоит болтать об этом!
— Что-что? — переспросил Иона, выпустив наконец мою руку. — Вы о Ларисе, что ли? — Я медленно кивнул. — Не понимаю, отчего вас это так шокирует. Разве не очевидно, что у такой женщины, как она, есть собственное прошлое?
— Прошлое?… — тупо повторил я. — Но… как? Я имею в виду, почему она…
— Что ж, — промолвил Иона, — насколько мне известно, она всегда испытывала некое восхищение перед жестокими людьми — особенно профессиональными киллерами политико-корпоративного профиля. Полагаю, что свою первую акцию она провела через контакт в Германии и очень быстро поняла, что отлично с этим справляется. Уже через год на ее счету были трое руководителей транснациональных компаний и двое глав государств. Спросите ее, каких именно.
— Отлично, — сказал Эли, вставая. — Да, вот еще что, Гидеон — датчики на вашем комбинезоне считывают показатели вашего организма и автоматически вводят нужные микроклиматические и физиологические настройки. Но в Афганистане может возникнуть…
Я быстро поднял ладонь протестующим жестом.
— Еще одну секунду, Эли. Всего одну чертову секунду, ладно? — Я снова повернулся к Ионе. — Но… я не понимаю, зачем? Не может же быть, чтобы ей нужны были деньги.
— Разумеется, нет, — ответствовал Иона, расстегивая карман на рукаве куртки моего комбинезона и демонстрируя обнаружившуюся там гибкую панель управления миниатюрных размеров. — Углеводород в микротурбине, обратите внимание, функционирование идет при сотне ватт. Непревзойденная целостность брони…
Я прикрыл рукой карман, не давая ему взглянуть на панель, и настойчиво вопросил:
— И все же — зачем?
Иона пожал плечами.
— Вы же с ней общались. У нее есть устойчивые моральные принципы, хоть и довольно своеобразные. И у нее, и у Малкольма. Взять, скажем, тот случай, когда ее выследил полковник Слейтон…
— Случай, когда она позволила Слейтону себя выследить, — уточнил Эли, помогая мне выбраться из комбинезона.
— Верно, — согласился Иона. — Видите ли, Гидеон, ее целью было завлечь его для приватной беседы и убедить его присоединиться к нашему делу. У нее это получилось. Глядите: вот Слейтон парится в Пентагоне и пытается разобраться, кто да как предал его и его людей на Тайване. И вот он слышит про совершенное в Тайбэе убийство некоего американского софтверного магната. Убитый, сообщает оставленная на месте преступления анонимная записка, поплатился за то, что аморальным образом сколачивал состояние, пользуясь жутким законодательством о принудительном труде, которое ввел Китай на Тайване после воссоединения. Это вызвало интерес Слейтона — с его-то биографией! Но он оказался в тупике, ведь никаких улик не было. Китайская полиция долго не хотела сдаваться, но и их расследование не принесло результатов. Однако, как уже отметил Эли, Лариса в конце концов сама позволила полковнику найти себя, чтобы сделать ему деловое предложение.
В очередной раз мгновенно утратив интерес к теме, Иона принялся обследовать полки с оружием.
— Так, большая часть всего этого вам вряд ли когда-нибудь понадобится… улучшенные противотанковые и противовоздушные артиллерийские орудия, вы их уже видели… мини-устройства с ядерным зарядом…
— Иона, — начал я, — если можно, еще пару слов о… что?!! — Я приблизился к полке с невзрачными штуками, похожими на баллоны со сжатым воздухом. — Ядерные устройства? Какого черта они здесь?!
— Это все Слейтон, — ответил Эли. — Когда Лариса и Малкольм окончательно убедили его дезертировать, он прихватил из Пентагона все, что не было приколочено гвоздями. У него был допуск высшего ранга, так как он…
— …Был одним из высших чинов в отделе исследований и разработок оружия, — закончил я за него, припомнив слова Малкольма. — Так все же, отчего он согласился перейти на вашу сторону?
— Ну, все мы раздумывали над этим, — ответил Эли. Он улыбнулся, заметив, с какой опаской я приближаю лицо к ядерным устройствам.
— Ох, да полно тебе, Гидеон, — он взял один из них и бросил мне. Вскрикнув от ужаса, я поймал его, поднял на Эли глаза и узрел его расплывающимся в улыбке. — Конечно, они не заряжены, — со смехом сказал он. — Думаешь, мы совсем ненормальные? — Я глянул на него с сомнением, и он кивнул. — Вопрос понятен. Но они не опасны.
— Ладно. Тогда сами с ними и играйте, — ответил я, перекидывая обратно пустой баллон. — Вы говорили про то, чем тут занимается Слейтон.
Эли рассмеялся. Рассказ продолжил Иона.
— Он работал в одном из наиболее приоритетных проектов в американской военной истории — слышали когда-нибудь о "технологии влияния"?
— Нет, — ответил я. — Звучит это, однако, весьма жутко.
— В привычном смысле — вовсе нет, — возразил Иона. — Это в основном развитие технологий контроля за населением — поиск способов заставлять население верить в то, что нужно Пентагону. Вам известно, что раз в несколько лет большая часть населения Феникса начинает заявлять о вторжении НЛО? Это работа отдела Слейтона: эскадрильи воздушных войск летят предельно синхронизированно, в тесном боевом порядке, и самолеты оборудованы новейшими бортовыми огнями.
— То есть, по-вашему, после Тайваня он был сыт по горло работой на правительство, — сказал я, — а затем в ходе работы над "технологией влияния", начал задумываться над возможностью нейтрализации массовых обманов — и именно поэтому решил присоединиться к вам?
— Ну, примерно так, насколько мы можем судить, — ответил Иона. — Он никогда не отличался откровенностью, наш полковник. В любом случае, именно от него мы получили чертежи большинства представленных здесь образцов оружия, а также тех, что вы увидите позднее. Американцы отказались от большинства из них в силу либо провала опытного образца, либо чересчур высокой стоимости производства. Но для Малкольма все это не представляло проблемы.
Я еще раз сделал глубокий вдох, оглядывая лежащее вокруг "железо".
— И что было дальше? Я имею в виду вашу работу.
— А дальше дел у нас действительно стало по горло, — сказал Иона, поглядев на ближайшие часы. — Чтобы поведать вам все связанные с ней истории, у нас сейчас нет времени, но я полагаю, что раз уж мы ожидаем от вас доверия, то вам стоит услышать самые значительные из них.
— Да, — согласился я, — думаю, так и есть.
Они обменялись краткими, «говорящими» взглядами, которые так присущи близнецам, затем кивнули друг другу, и Эли сказал брату: "Тебе — Евангелие, мне — кости".
— Э-э… извините? — промямлил я.
Иона повернулся ко мне.
— Все верно. Вначале Малкольм полагал, что мы направим наши усилия на религию в целом, потому что люди принялись убивать друг друга из-за религиозных убеждений с невиданным со времен Крестовых походов энтузиазмом. И, поразмыслив о Крестовых походах и о прочем, он решил атаковать христианство как таковое. — К моему безмерному ужасу и возмущению, Иона подобрал с пола три ядерные канистры и принялся жонглировать ими. — Так что вышло еще одно задание для Леона и Жюльена — по работе с документами. Вы же наверняка слышали об этом — "Пятое Евангелие"?
Эти слова, прозвучавшие от человека, жонглирующего бомбами, заставили меня пошатнуться. "Пятое Евангелие" — текст, несколько лет назад обнаруженный в труднодоступной местности в Сирии, — было известно всему миру. Написанный якобы апостолом Павлом в середине первого столетия нашей эры, документ расписывал необходимость лжи о жизни Христа и сотворенных им чудесах с целью распространения веры, а также инструкции предводителям сект по устройству подобных мистификаций. Вряд ли нужно говорить далее о плодах такого «разоблачения»: если "Конгресс дураков" и споры из-за Черчилля интересовали, по крайней мере, вначале, лишь политиков да историков, то битвы из-за "Пятого Евангелия" охватили и разделили весь мир на его противников и сторонников, и породили бесчисленное множество вебсайтов и онлайновых СМИ, посвященных этом спору.
— Так это были вы? — спросил я в ошеломлении. — Но это же самый научно апробированный документ в истории!
— Да уж, сработано неплохо, — отвечал Эли.
— Господи, — прошептал я, не замечая, что мои слова вызвали у братьев усмешку.
— Для следующего шага, — сказал Эли, — нам пришлось развернуться на 180 градусов. — Произнося это, он шагнул к брату и принялся перехватывать мелькающие в воздухе бомбы и швырять их назад. — Уверен, что вы, Гидеон, наслышаны о "'Homo inexpectatus".
Мой шок мгновенно обернулся полным недоверием.
— Ну вот это уж точно пиздеж, — сказал я, подняв палец. — Это не может быть делом ваших рук. Наука доказала его абсолютную подлинность!
— Ну конечно, — сказал Эли, чуть не уронив на пол одну из бомб. — Подлинность подтверждена наукой, потому что создавали его именно ученые. То есть мы. И, разумеется, Жюльен. Видите ли, Малкольм решил, что если уж религии нанесен удар, то будет лишь справедливо, если и науке достанется. Так что мы с Ионой состряпали несколько скелетов, чья анатомия соответствовала современной таким образом, что, будучи сравнительно малы, они, несомненно, принадлежали вполне взрослым особям — а Жюльен произвел маленькую манипуляцию на молекулярном уровне. Затем Иона и я подбросили его археологам во время раскопок в глухих местах…
— …Южной Африки, — закончил я и совершенно неожиданно для себя вновь оказался в подвешенном состоянии. Находка останков, о которых шла речь, стала причиной невиданного международного скандала, так как даже самые отъявленные скептики среди ученых не смогли представить ни единого довода в опровержение того, что этим скелетам пять миллионов лет. Иными словами, предполагаемое существование некого "недостающего звена" между человекообразными обезьянами и человеком было дискредитировано, как и теория эволюции в целом, ибо стало очевидным: человек, как две капли воды похожий на современного, существовал бок о бок с примитивными человекообразными. "Homo inexpectatus" сделал с наукой то же, что "Пятое Евангелие" с религией; менее чем за три года две самые незыблемые концепции мира были повергнуты в прах.
— Невероятно, — пробормотал я, смолчав, однако, о своем отчетливом ощущении, что Куперманы не договаривают всего до конца.
— Ну, вы пока что только услышали обо всем этом, — сказал Эли. — Подождите, пока вам не представится случай увидеть… — Он внезапно замолчал, бросив взгляд на часы. — Ух ты, уже поздно! Простите, Гидеон, но нам и в самом деле стоит отдохнуть хотя бы пару часов.
Иона кивнул.
— Поверьте, лишним это не будет. Мало ли как пойдут дела в Афганистане.
— Что вы имеете в виду? — осведомился я, немного обеспокоившись.
— Ничего, — уклончиво отвечал Эли, собирая бомбы и укладывая их на полку. — Увидите сами. Идемте, а по дороге можем поговорить о других наших проделках, если хотите.
— О других проделках? — повторил я, уже вконец сбитый с толку, но они уже выпихнули меня из арсенала и затем препроводили по коридорам наверх в мою каюту.
По дороге я выяснил, что под "другими проделками" подразумевались куда менее значимые свершения, которые, — как, к примеру, побег Куперманов из флоридской тюрьмы, — были попросту забавами для поддержания командного духа. Но итог всех сегодняшних откровений оставался прежним: Малкольм был прав, утверждая, что его группа с невероятной легкостью дирижирует современными представлениями о мире и ходом общественных дискуссий.
Мистифицируемое этими людьми общество увидело себя в совершенно новом эмпирическом контексте, подобно жертвам специалистов по "восстановлению памяти о прошлых жизнях" конца двадцатого века. Привычка полагаться на информационные технологии стала причиной того, что все — даже те, кто, вроде меня самого, воображал себя природным скептиком, — приняли на веру шокирующие новые «факты», порожденные этими системами, и спорили лишь о деталях, не подвергая сомнению источники этих фактов. И потому предъявленные Малкольмом обвинения нельзя было не признать абсолютно и безоговорочно правдивыми.
Осмысление всего этого помешало мне, крайне утомленному, быстро уснуть в небольшой, но роскошной кровати моей каюты. Однако глубокий и беспокойный сон, которым я забылся, не принес мне отдохновения: я был резко и грубо разбужен пульсирующим воем корабельной сирены.
Мы прибыли в Афганистан.
Глава 18
Некоторое время я пытался не обращать внимания на завывание корабельной сирены, но затем к нему добавился настойчивый стук в дверь моей каюты. Я заставил себя подняться на ноги и вскоре узрел широкое бородатое лицо Жюльена Фуше. Он был облачен в бронежилет и вооружен.
— Пора, доктор, — сказал он, протягивая мне мой комбинезон, ботинки и тот самый пистолет, что Иона показал мне в арсенале. — Американцы вскоре перейдут в наступление, но наши друзья-мусульмане пока не спешат проявлять сговорчивость. Сложилась достаточно деликатная ситуация и Малькольм полагает, что ваша помощь после приземления может быть весьма ценной.
— Моя помощь? — переспросил я, влезая в комбинезон. — Но почему?
— Их лидер — человек весьма неврастеничный и непредсказуемый. Похоже, он твердо вознамерился публично пожертвовать собой, и это было бы нам весьма на руку, если бы только он не собрался прихватить с собой своих жен и детей, пообещав им почетные места в раю. Малкольм полагает, что у вас, доктор, есть все шансы убедить его изменить решение. — Видя мою упорную борьбу с комбинезоном, Фуше нетерпеливо принялся помогать мне. — Tonnerre,[5] Гидеон, можно подумать, вы никогда не одевались без посторонней помощи!
При попытке сосредоточиться мне в голову пришел вопрос.
— Знаете, Жюльен, я не могу понять одного. Президента Форрестер убили китайцы, а не афганцы, ведь так? И поэтому мы здесь. Но что заставило китайцев пойти на это?
— У вашей мадам Президент были точно такие же сомнения, — ответил Фуше, — хотя она хорошо их скрывала. После того как ей показали снимки резни, учиненной в 2018 году над членами культа Фалун Гонг, она сообщила своему правительству о том, что намерена вынести вопрос о торговом статусе Пекина на рассмотрение Конгресса.
— Правительству? Но как об этом узнали китайские спецслужбы?
— Гидеон, — проворчал Фуше, выталкивая меня в коридор, — вы и вправду так наивны? Уже в начале столетия китайцы взяли за правило иметь хотя бы одного своего человека в американском правительстве, — еще одно доказательство того, что даже увеличение торговли с внешним миром ничуть не повлияло на китайскую манеру вести дела. С другой стороны, если бы правда об убийстве Форрестер выплыла наружу, остановить международный кризис нельзя было бы никакими деньгами. А война между Америкой и Китаем стала бы…
— …Катастрофой, — кивнул я. — Так вот зачем Малькольм подделал ту пленку!
Фуше улыбнулся.
— Ему свойственно творить зло во благо.
Мы прошли в среднюю часть корабля, и Фуше, сдвинув в сторону одну из висящих на стене коридора картин в позолоченных рамах, извлек спрятанную за ней панель управления.
— Все уже ушли вперед, чтобы расчистить путь, а Лариса прикроет нас огнем.
Внезапно часть палубы подо мной начала подниматься, и под ней обнаружился люк с выдвигающейся изнутри лестницей, которая шла вниз и заканчивалась в нескольких футах над поверхностью земли. Из люка доносились голоса, звуки вертолетов и дизельных двигателей.
Но прежде всего я обратил внимание на исходящий от земли невероятный жар, и объяснить это явление я не мог.
— Да, — сказал Фуше, заметив мой испуг. — Аппарат запущен. У нас осталось меньше часа.
— Осталось до чего? — нервно осведомился я. Фуше тем временем начал спускаться вниз по ступеням.
— До того момента, когда любое человеческое существо, имевшее глупость остаться здесь, сгорит как бумага, — ответил Фуше, спрыгивая на землю и махая мне рукой. — Давайте сюда! Время поджимает!
Местность, окружавшая корабль, не слишком отличалась от большинства других стран "аналогового архипелага", безнадежно отставших в гонке цифровых технологий и отказавшихся от борьбы. Но хаос, охвативший долину Амударьи, всполошил даже одну из самых отсталых наций.
Из широких проходов-туннелей, укрепленных гигантскими деревянными балками и заложенных мешками с песком, появились толпы людей; некоторые в военной форме, остальные — в традиционном мусульманском одеянии, и все они торопливо направлялись к большому скоплению автобусов, вертолетов и джипов. Женщины несли на руках младенцев, многие их которых плакали, что было ничуть не удивительно: шум, жара и громадный силуэт трессальянова корабля ужаснули бы и более искушенных людей. Меня, к примеру. Глядя вперед, сквозь пыль, поднятую вращающимися лопастями вертолетов, я разглядел Слейтона, Тарбелла и Куперманов, рассыпавшихся веером с оружием наизготовку. Они направлялись к одному из входов в туннель, причем им пришлось применить парализаторы против человека, который порывался остановить их, приняв за американский спецназ. Когда мы с Фуше последовали в туннель вслед за ними, я окликнул его:
— Жюльен! А что это за "аппарат"?
— Весьма расплывчатое название, да? — со смехом отвечал Фуше. — Это оружие, над разработкой которого ВВС вашей страны трудились в конце двадцатого века, но им не удалось создать успешный образец. Полковник Слейтон обеспечил нас чертежами, Малкольм и Лариса довели их до ума — и вот вам филиал преисподней в нужном месте.
— Но как он функционирует? — осведомился я, ощутив, что температура воздуха растет с каждой минутой, хотя солнце лишь только что показалось на востоке.
— Полное уничтожение озонового слоя над ограниченным участком местности, — крикнул Фуше в ответ. — У американцев так и не получилось поддержать стабильность озоновой дыры или ликвидировать ее, когда отпадет надобность!
— А вы, значит, это все можете, — пораженно констатировал я. — Но где же эта чертова штука?
— Проектор — на острове в Северном море, принадлежащем Малкольму! Управляется через спутниковый комплекс Трессальяна!
Вдруг близко от нас послышались короткие звуки пистолетных выстрелов. Фуше подлетел ко мне, с поразительным проворством обхватил меня своими огромными руками и отработанным движением откатился под прикрытие ближайших скал. Посмотрев вверх, мы поняли, что стрелял один из пилотов, пытавшийся удержать людей, рвущихся в и без того перегруженный вертолет. Через несколько секунд его машина оторвалась от земли и полетела на северо-восток.
— Не поднимайтесь на ноги, — скомандовал мне Фуше, — пока мы не получим от полковника сигнал, что путь свободен.
Тяжело дыша и мотая головой, я глянул на своего спутника.
— Жюльен, — с трудом произнес я, — какого черта вы здесь вообще делаете?
Он снова улыбнулся.
— В данный момент — спасаю вашу шкуру, Гидеон.
— Да нет, ну вы же знаете, что я имею в виду, — сказал я. — Что вы делаете в этой тусовке? Вы же были одним из самых прославленных и уважаемых в своей области ученых!
— Да, — кивнул он, — и одним из самых несчастных. — Затем по сигналу полковника Слейтона он потянул меня вверх. Пока мы сквозь пыль и жару пробирались к нужному входу в туннель, его голос смягчался:
— Видите ли, Гидеон, моя жена стала одной из первых жертв эпидемии стафилококка. — Я попытался было выразить свое сочувствие, но он жестом прервал меня. — Многие миллионы людей разделили мою беду. Больше всего меня потрясло то, что за несколько лет до этого она сама предсказала причину своей собственной смерти. Понимаете, она была хирургом. И она неоднократно повторяла мне, что финансовый пресс вынуждал ее коллег и обслуживающий персонал делить свое внимание между таким числом пациентов, что, экономя драгоценные минуты, они стали игнорировать базовые правила — такие, например, как мытье рук. Известно ли вам, что единственной причиной эпидемии чумы 2006 года стало падение уровня больничной гигиены? А почему? Почему люди этой профессии, доктора и медсестры, от которых зависит множество жизней, испытали такое давление?
Он сплюнул. В голосе его слышались гнев и печаль:
— Да потому что в нашем мире священной целью стал успех, а не здоровье, гедонизм, а вовсе не умеренность. И ничто не послужило внедрению и пропаганде этой философии больше, чем Интернет и все, что с ним связано. Все это бессмысленное, бесконечное навязывание ненужных товаров тем, кто в них не нуждается и тем, кто не может себе их позволить — и в один прекрасный день человеческое участие оказалось полностью погребено под напором безумной алчности. Политиков, страховые компании, даже врачей и медсестер — всех их так сильно скрутила необоримая жажда наживы, что они забыли о том, что их первейший долг — служить и излечивать. Они пренебрегли всеми важнейшими принципами и практиками, — даже такими простыми, как мытье рук…
Вот оно что. Мотивы, по которым Фуше вступил в экипаж корабля, казались мне самыми неясными, потому что молекулярная биология не имеет отношения к изменению истории и к сражению с информационным обществом. Но оказалось, что причина его добровольного изгнания — личная, а не профессиональная.
— В любом случае, — продолжил он, — будучи наставником Малкольма и lesfreres Киреrmап, я поначалу воспринимал их просто как яркую группу университетских шутников. Но когда позже я узнал, насколько глубоки и серьезны их убеждения, я принял решение разделить их судьбу. И если мы достигнем цели — если Малкольм прав и большинство населяющих нашу планету народов можно предупредить об угрозах нашего века — тогда, возможно, гибель миллионов в кошмаре эпидемий начнет что-то значить.
Его глаза сузились (он продолжал наблюдать за остальными членами группы) и голос набрал силу:
— Ага! Я вижу, что все готово, чтобы войти в туннель. Ваш выход, Гидеон!
События следующего часа (или около того) напоминали странный, но забавный коктейль из визита в психбольницу для преступников и инсценировки подросткового приключенческого романа. Братья Куперман остались охранять вход в туннель, а Слейтон, Тарбелл, Фуше и я через подземную часть лабиринта исламских террористов попали в огромный зал, увешанный шелковыми знаменами. Молодые женщины, закутанные вуалями и, казалось, необычайно прекрасные и человек двенадцать детей сидели лицом к стенам. А в центре, на куче подушек, брошенных на роскошный ковер, развалился их единственный властелин, известный своей жестокостью Сулейман ибн Мухаммед. Одного взгляда на зал мне хватило, чтобы догадаться: ибн Мухаммед — убежденный приверженец полигамии. А внимательно посмотрев в его глаза, я убедился и в его пристрастии к опиуму, тошнотворный сладковатый аромат которого, смешанный со стойким запахом земли, создавал вокруг удушливую, тяжелую атмосферу.
Было очевидно, что ибн Мухаммед невменяем, так что я сосредоточился на его женщинах. Общаясь с ними через Тарбелла, который оказался превосходным переводчиком, я рассказал им, что вскоре случится с этим кусочком земли, стараясь использовать с своей речи столько живописных метафор из прочитанного в колледже Корана, сколько смог припомнить. Пока я говорил, температура даже здесь, в подземелье, продолжала расти и достигла тревожного градуса. Я обратил их внимание на то, что это сделали вовсе не американцы, а это означает, что женщины и дети вовсе не станут мучениками и не попадут после смерти в рай. Ибн Мухаммед пытался протестовать, но не мог произнести ничего связного; и в итоге женщины все же взяли детей и последовали за нами наружу, где смогли погрузиться в один из последних транспортов и покинуть опасную зону, оставив своего господина поджариваться в том, что уже совсем скоро должно было стать подземной печью.
Наша команда быстро и без приключений вернулась на борт, где нас приветствовал Малкольм. Его состояние за это время значительно улучшилось. Когда корабль взял курс на север, Трессальян засыпал нас потоком вопросов о нашей миссии, но что касается меня, то я был до предела вымотан и заявил, что не буду способен к разговорам до тех пор, пока не получу мало-мальски существенного отдыха — посущественней того, что мне удалось перехватить утром. Длинными коридорами, спотыкаясь, я добрался до своей каюты. Здесь было темно, если не считать свечи, горящей на старинном ночном столике…
В свете этого единственного во всей комнате низкотехнологичного устройства я разглядел лежащую в моей постели Ларису, обнаженную (под одеялом) и улыбающуюся мне самой неотразимой из своих улыбок. В обычном положении я бы не счел подобное зрелище непривлекательным, но принимая во внимание то, что я услышал утром, ничего обычного в этой ситуации не было.
Лариса тут же прочла беспокойство на моем лице.
— Ох, боже мой, — вздохнула она. Серебряные волосы, разметавшиеся вокруг головы, еще больше подчеркивали сияние ее темных глаз. — Вижу, мальчики успели разболтать.
— Да, — признал я.
Она внимательно изучала меня, и я мог бы поклясться, что под ее показным смущением углядел подлинную досаду.
— Вконец запугали тебя, да?
Я помотал головой.
— Да нет, не сказал бы. Но я любопытен, Лариса. Видишь ли, они не сказали мне того, что я по-настоящему хочу знать.
— Да? — Она обмакнула палец в расплавленный свечной воск. — Что бы это могло быть?
Я сделал пробный шажок внутрь комнаты.
— Что двигало тобою и твоим братом во всех этих поступках? Изначально — что? Прости, но я все же психиатр — ты, должно быть, знаешь, о чем я спрашиваю. Малкольм бы точно понял.
Лариса лишь продолжала улыбаться.
— Да. Мы оба понимаем. Ну… — Она приподняла скрывающее ее одеяло. — Залезай в постель, доктор, я все тебе объясню.
Я окончательно переступил порог комнаты и запер за собой дверь каюты, а в это же время первый из беспилотных американских истребителей-бомбардировщиков начал сбрасывать свой груз, поливая смертью мгновенно воспламенившуюся афганскую равнину.
Глава 19
Людям свойственно скрывать присущую им жестокость и безжалостность под маской респектабельности, а вовсе не зла, и это ни для кого не секрет; впрочем, очевидность этого явления не делает его менее печальным. Мое собственное детство прошло среди уважаемых в обществе, но втайне склонных к насилию взрослых; поэтому с теми, кто не просто пострадал от плохого обращения, но пострадал от рук людей, считающихся весьма достойными, я чувствовал особенное родство. Я с уверенностью могу сказать, что именно поэтому мои товарищеские отношения с Ларисой и Малкольмом укрепились так сильно именно в то утро, когда наш корабль летел на север. В своей жизни я исследовал довольно много примеров неблагополучного детства, но их случай стал для меня абсолютно уникальным. И если существовала история, которая могла пробудить в моем сердце знакомые муки скорби и ужаса, то именно эту историю рассказала мне Лариса в неверном свете свечи в тиши моей каюты.
Я уже упоминал о том, что Стивен Трессальян, отец Малкольма и Ларисы, был одним из первых и самых влиятельных лидеров информационной революции. Общепризнанный вундеркинд, Трессальян-старший еще подростком начал разрабатывать оборудование и программное обеспечение для системы интернет-маршрутизации, ставшей международным стандартом и краеугольным камнем его империи. Успех принес ему славу, богатство и красавицу жену, киноактрису, обладательницу изысканного, утонченного, но, в сущности, ничем не примечательного склада ума — того, что в Голливуде обычно сходит за интеллект. Дальнейшие громкие нововведения в сфере передачи данных добавили еще больше блеска его и без того громкому имени.
Портрет Стивена Трессальяна, нарисованный средствами массовой информации, с самого начала изображал личность куда более значительную, чем средний информационный барон. Он высказывался о прогрессе в социальной и политической сферах, который несут миру информационные технологии, говорил об этом много, часто и чрезвычайно талантливо, так, что почитателей у него хватало как среди мировых лидеров бизнеса и политики, так и среди рядовых интернет-пользователей. Когда в 1991 году технократический магнат и его супруга объявили о рождении первенца, это вызвало жгучий интерес таблоидов и телевидения. Едва начав ходить, Малкольм проявил чудесную одаренность, достойную сына своего родителя, но честолюбие Трессальяна-старшего не было удовлетворено потомком, который сможет повторить его достижения. В отличие от большинства отцов, Стивен Трессальян желал наследника, который бы превзошел его самого, еще больше прославив свою фамилию. И он начал изыскивать способы искусственно прирастить зарождающийся сыновний гений.
По зловещему совпадению в середине 90-х годов ученые университетов и институтов вмешивались в генетическую структуру, отвечающую за интеллект, изменяя биохимические механизмы памяти и обучаемости мышей и других мелких животных. От широкой общественности результаты исследований, даже промежуточные, держались в секрете, а особо любопытным напоминали извечную биологическую истину: "мыши — не люди". Но об исследованиях пошли слухи, и явилось безумное предположение о возможности генетически модифицировать человеческих младенцев, — в утробе матери или сразу после рождения, — чтобы увеличить их способность осмыслять и усваивать информацию.
За «правильные» деньги всегда нетрудно найти ученых, страстно желающих поставить такой эксперимент, пусть даже этот эксперимент незаконен; вот отчего трехлетний Малкольм оказался в крохотной частной клинике в Сиэтле, в городе, откуда родом были его родители.
Как и всегда — тому, кто горит желанием проводить эксперименты, пусть даже незаконные, нетрудно за соответствующую цену найти согласных на все его требования ученых. Вот каким образом Малкольм, в возрасте трех лет, оказался в маленькой частной клинике в Сиэтле, там же, где жили его родители. Официальной версией, которую Стивен Трессальян и выбранный им врач-генетик изложили с невероятным искусством, стало заражение новым штаммом устойчивого к антибиотикам бактериального энцефалита, который незадолго до этого проявился в разных уголках мира. В тщательно отрепетированных, очень убедительных выражениях, вызвавших сочувствие общества, Трессальян и его не менее честолюбивая жена со слезами на глазах объявили, что болезнь Малкольма протекает в очень тяжелой форме и что он может быть выписан из клиники с сильным поражением нервной системы. Истинной причиной такого прогноза были, конечно, эксперименты, которые должны были изменить разум ребенка.
Меня все еще бросает в дрожь при мысли о том, чем стали для Малкольма эти несколько недель. Вначале казалось, что «лечение» идет успешно, и мальчик демонстрировал резкое повышение умственной активности; для трехлетнего ребенка это было время резкой дезориентации. Но затем, в середине курса инъекций, его организм восстал. Элементарные жизненные функции — дыхание, метаболизм, работа вестибулярного аппарата — оказались нарушены, и к тому же мальчика мучили необъяснимые приступы сильнейших болей по всему телу. Врач-генетик имел собственное объяснение: он говорил Стивену Трессальяну, что ресурсы человеческого мозга небезграничны, и если основная активность нейронов уходит на поддержание функций более высокого порядка, то прочие системы организма начинают страдать от ее нехватки. Однако этот врач не был терапевтом, а Трессальян был слишком предан своим планам (и слишком боялся, что все откроется), чтобы привлечь медика-специалиста. Затем, несмотря на ужасающие побочные эффекты, интеллектуальная мощь мальчика продолжала расти по экспоненте, а результаты удовлетворили даже его отца. Через три месяца Стивен Трессальян завершил проект, убедив себя, свою жену и всех, кто знал об этом, что эксперимент был его даром — сыну, генетическим исследованиям, а также будущему человечества.
Что с того, что Малкольм покинул клинику не на своих двоих, а на маленьких трогательных костылях в помощь внезапно отказавшим ногам, а волосы его непостижимым образом приобрели оттенок серебра? Что с того, что на лицах репортеров, встретивших его у дверей клиники, отразился ужас? И что с того, что мальчик теперь был достаточно умудрен, чтобы понять, чем вызван этот ужас? Куда важней было то, что ум ребенка теперь должен был стать — нет, уже стал! — поистине выдающимся, а Стивен Трессальян заполучил достаточно экспериментальных данных, чтобы в следующий раз проделать все это гораздо лучше.
Поскольку — да, был и следующий раз. Вскоре после того как Малкольма выписали, его мать забеременела снова и на сей раз именно она стала пациентом частной клиники, так как нанятый Трессальяном генетик определил, что реакция Малкольма на «лечение» и не могла быть иной на этой стадии физического развития. Плод, который вскорости должен был стать Ларисой, получил усовершенствованный курс инъекций in utero[6] что не замедлило сказаться положительным образом: после рождения у нее не оказалось ни одного из физических недостатков брата, а интеллект проявился поразительно мощно. Лариса по всем статьям стала оправданием риска, на который пошли ее родители.
Конечно, волосы цвета серебра, с которыми Лариса появилась на свет, вызвали некоторые вопросы, но Стивен Трессальян отказался говорить об этом иначе, как о совпадении, и больше упирал на различие между своими детьми, чем на их сходство.
— Он так и не догадался о самом главном, что роднило нас с моим братом, — промолвила Лариса, когда мы лежали вместе в постели.
Да, вместе — потому что поведанный ею рассказ превратил мою тревогу из-за ее профессии наемной убийцы в чувство, куда более глубокое, чем страстное влечение.
— И что это было? — шепотом спросил я, касаясь серебра ее волос и глубоко глянув в темные глаза.
С небрежной усмешкой она посмотрела в потолок.
— Мы оба были слегка больны на голову. По крайней мере, я не знаю, как это назвать по-другому.
Непохоже, чтобы она говорила всерьез.
— Ну да, конечно, — ответил я, подражая ее интонации. — А ваши родители об этом не догадывались?
Это не было похоже на серьезное заявление.
— Мама догадывалась, — ответила Лариса. — Она истерически твердила отцу, что мы ее убиваем и что мы оба безумны — все то время, пока мы ей подсыпали яд.
Я приподнялся на локте, выпустив прядь ее волос, с которой играл.
— Подсыпали яд?!
Казалось, Лариса не слышит меня.
— Отец никогда этому не верил, — продолжала она. — По крайней мере, пока мы не сбросили его с самолета. Тогда — лишь тогда — он наконец понял, что это правда.
Глава 20
Я сел.
— Сколько же лет вам было? — только и смог я вымолвить.
Лицо Ларисы по-детски скривилось.
— Мне было одиннадцать, когда мы позаботились о маме. С папой было покончено приблизительно годом позже.
Растерявшись, я спрятался под маской психиатра.
— И что они… все это… это было обдумано заранее?
Она недоуменно взглянула на меня.
— Гидеон! Продумано все, что делаем мы с Малкольмом. Нас для этого и вывели. Но если ты спросишь, были ли у нас причины для этого, я отвечу: да, были. — Она снова принялась разглядывать потолок. — И не так уж мало.
Я продолжал смотреть на нее, погружаясь в профессиональную объективность, чуть раздосадованный своей реакцией.
— И что это за причины? — спросил я.
Она вдруг улыбнулась мне слабой, неподдельно радостной улыбкой и снова прижалась ко мне своим теплым телом.
— С тобой было приятно, — сказала она. — Я не думала, что мне понравится.
Я ответил ей самой лучшей своей улыбкой.
— Дар красиво льстить, скорее всего, не значился среди целей всех этих генетических преобразований.
— Извини, — рассмеялась она. — Я просто… Я приложил палец к ее губам.
— Лариса, не нужно рассказывать об этом, если тебе не хочется.
Она взяла меня за руку.
— Нет, я расскажу, — ответила она просто. — Все это и в самом деле заурядно. — Она снова уставилась в потолок. — Отец вывел меня умней и красивей, чем была моя мать. И не стоит удивляться, что в один прекрасный день он решил, что займется сексом не с ней, а со мной. — Я содрогнулся от ужаса, но Лариса продолжала свой рассказ с бесстрастием, не свойственным жертвам подобных травм. — А она решила, что это моя вина. Так что он меня трахал, а затем она меня за это избивала. Малкольм всякий раз пытался остановить их. Но для этого ему не хватало физической силы. — Ее глаза засветились любовью и восхищением. — Надо было видеть, как он замахивался на них костылями, обзывал их всеми грязными словами, которые можно придумать…
— …и которые они заслужили, — подхватил я. — Ты же понимаешь это, правда?
Она кивнула.
— Понимала когнитивно, как говорится. Что до эмоций, то тут все сложней. Так что пришло время, когда мы решили, что должны от них избавиться. Сперва от мамы, потому что она была не только жестокой, но и абсолютно бесполезной. Чтобы покончить с отцом, нам пришлось повременить, позволив ему закончить сооружение своих спутников.
— Вы продолжали сносить все это, — спросил я в ошеломлении, — потому что вы хотели, чтобы он закончил четырехгигабайтную спутниковую систему?
— Так ведь я понимала, какую ценность она будет представлять для Малкольма и меня, когда отец будет мертв, — откликнулась Лариса. — Реструктуризация всего Интернета? Да, я могла выдержать его объятия еще несколько раз, чтобы нам с братом достались все эти выгоды. Затем, когда система была готова и отлажена, отца пригласили на экономический саммит 2007 года. Поэтому мы подождали окончания встречи. В Вашингтон, на саммит, мы полетели вместе с ним, и вместе были на приеме у президента. А на обратном пути в Сиэтл нас было лишь трое. Он был очень доволен собой, а почему бы и нет? Он и его друзья — самые могущественные люди в этой стране. Он напился. Свалился с кресла против аварийного люка и вывалился из него во время захода на посадку… по-видимому. — Она коротко вздохнула и подняла палец. — К счастью, его прелестные детишки оказались достаточно умны, чтобы пристегнуть ремни и не устраивать паники, пока пилот выравнивал самолет. — Она помотала головой. — Я никогда не забуду его глаз…
Теперь, когда она рассказала все, занятые мной позиции беспристрастия незаметно для меня самого стали рушиться под напором глубокого сопереживания, в котором слышались отголоски пережитого мной самим. В этот критический миг я лишь коснулся ее лица и произнес:
— Наверно, легко убивать, пройдя через все это.
Она пожала плечами.
— Наверно. Но мне кажется, что прошлое не только облегчило убийства, но и побудило меня убивать. Это же чудесно — уничтожать людей, которые уж точно заслужили смерть. У меня даже появился вкус к этому чувству. Помню, когда я застрелила Раджива Карамчанда…
— Так это ты застрелила его? — Карамчанд был президентом Индии, отдавшим приказ об атомной бомбардировке Кашмира. Его убийство так и осталось нераскрытым, несмотря на усилия множества спецслужб.
Лариса улыбнулась и кивнула.
— Так вот, когда я это сделала, то почувствовала себя точно так же, как в момент, когда увидела отца, падающего из самолета. Человек, принимающий на себя ответственность за жизнь и благополучие других людей, а потом предающий тех, кто ему доверился — мне и правда трудно представить худшую подлость. К тому же… — она перевернулась на живот и заговорила быстрее. — Подумай вот еще о чем: почему табу на убийство обладает такой силой? Это же нелепо. Политический лидер может послать людей на смерть, казнить их; руководители корпораций могут пойти на любое преступление ради прибыли — и при этом они неприкосновенны. С какой стати? Почему Карамчанд должен был чувствовать себя в большей безопасности, чем любой из его солдат или пакистанцы, которых он уничтожал? Почему глава предприятия, наживающийся на рабском труде, должен быть застрахован от ужаса, которым мучаются его работники? Убийства — единственный способ заставить этих людей чуть более серьезно подумать о том, что они творят. А заодно и остальные как следует поразмыслят, чьим приказам подчиняться и чему верить — словом, как раз то, чем мы сейчас занимаемся, разве нет?
Я взвесил ее слова.
— Да, с этим можно согласиться, — медленно ответил я. — Хотя я до сих пор не понимаю своей роли во всем этом.
Лариса обвила руки вокруг моей шеи, всем своим видом выражая довольство.
— Делать меня счастливой — разве этого недостаточно? — Но видя, что я продолжаю смотреть на нее вопросительно, она шутливо насупилась. — Нет? Ладно, — на самом деле Малкольму был нужен человек, умеющий создавать психологические портреты. Мы составили список кандидатов, и ты с твоим профессиональным опытом занял первое место в этом списке. А затем, — она прервалась, чтобы поцеловать меня, — затем, когда я увидела ту твою фотографию…
Когда она в следующий раз оторвалась от моих губ, я спросил:
— Но зачем вам психологические портреты?
— У нас очень разные противники, — прошептала она в ответ. — Их реакции зачастую совершенно непредсказуемы. Например, американцы, с этим их дурацким налетом на Афганистан. У них же были подозрения, что запись с Хальдуном — фальшивка. Мы даже сделали им несколько явных намеков. Но они пошли напролом. Малкольм хочет, чтобы ты попробовал прогнозировать подобные вещи. И, конечно, иногда выполнять работенку, вроде той, что сегодня, в туннеле…
Лариса резко оборвала речь, когда корабль вдруг резко тряхнуло — толчок, не похожий на все, что я пережил за время, проведенное на борту. Я потянулся к подсвеченной прозрачной приборной панели в корпусе рядом с кроватью и обнаружил снаружи слабое, тусклое свечение: очевидно, мы снова поднялись в стратосферу. И тут на фоне туманных сгустков и космической тьмы я увидел множество светящихся объектов, несущихся в нашу сторону. Большинство, пролетая мимо, оказывались довольно небольшими; но размеры других по мере их приближения вызывали тревогу.
Небо снова озарилось вспышкой, и корабль вновь содрогнулся, сбросив меня с постели. Поднявшись на ноги, я увидел, что Лариса уже наполовину одета в комбинезон и держит руку возле горла, активируя хирургически вживленный коммуникатор, связывающий ее с Малкольмом.
— Да, братик, милый, — произнесла она с видом скорее раздраженным, чем обеспокоенным неожиданной угрозой. — Конечно, я их вижу, их было бы трудно не увидеть. Мы с Гидеоном идем в орудийную башню. Скажи Жюльену, чтобы он переключил все мощности на внешние поля, все, что найдутся, — сам знаешь, как непредсказуема вся эта хрень.
Я принялся торопливо одеваться.
— Что происходит? — спросил я, пытаясь разделить ее хладнокровие.
— Наши поклонники из Министерства обороны, — проворчала она, осматриваясь. — Должно быть, кто-то из их пилотов углядел наш корабль в Афганистане. Похоже, по такому случаю они решили вытащить на свет божий все свои игрушки: АИ, ЛЗАР, ПУРД — вижу даже один ЛКБ.
— Лариса, — попросил я, застегивая свой комбинезон, — загадочные аббревиатуры мне покоя не прибавят.
Даже оказавшись под ударом (казалось, опасность лишь вдохновляла ее), Лариса оставалась игриво-уклончивой.
— Не прибавят, нет, но выучить их вам, доктор, все же придется, — сказала она, быстро поцеловав меня. — Поверьте, вас ждет экзамен. — Она принялась указывать на проносящиеся в небе объекты. — Легкие атмосферные ракеты, они же ЛАР — это те, что поменьше. Потом перехватчики увеличенного радиуса действия, или ПУРД, атмосферные истребители…
— АИ, — сказал я, глядя на фантастический вид за иллюминатором.
— И самая зловредная дрянь, — она указала на что-то вроде спутника или платформы вдалеке, — вон тот ЛКБ — лазер космического базирования. Все это часть ОСПРО — объединенной системы противоракетной обороны, направленной против баллистических ракет, ну ты слышал все эти глупости про "Звездные войны".
Она схватила меня за руку, и мы устремились в коридор.
— Какова их точность? — спросил я.
— Об их меткости беспокоиться нечего, — откликнулась Лариса, направляясь к лестнице, ведущей в артиллерийский пост, где находился гигантский рейлган. — Парням из ОСПРО еще ни разу не удавалось попасть во что-нибудь преднамеренно. Но они палят в белый свет как в копейку всей огневой мощью. Получается вроде перестрелки шариками из жеваной бумаги, вот только даже единственное случайное попадание может стать фатальным.
Мы добрались до лестницы и полезли наверх.
— Напоминает стрельбу по тарелочкам, — со смехом сказала Лариса, когда мы вошли в орудийную башню. Эли Куперман уже ждал нас там. — Не беспокойся, вся их армада управляется автоматикой, так что никого ты не убьешь.
Она забралась на сиденье рейлгана и напоследок улыбнулась мне той отстраненной улыбкой, что сбила меня с пути истинного всего несколькими часами ранее.
А теперь я понял, что улыбаюсь ей в ответ.
Глава 21
Лариса управляла огнем рейлгана, отбивая шедшие со всех направлений атаки вражеских истребителей, средних и крупных (чтобы отразить те, что поменьше, хватало магнитных полей корабля). Стратосфера озарилась огненными вспышками взрывов и беспорядочным, но от этого не менее опасным огнем лазера космического базирования. Моя же роль в сражении заключалась в том, чтобы помочь Эли определить, какой из радаров сообщает противнику информацию о нашем местонахождении.
С самого начала было ясно, что преодолеть защиту, сделанную по технологии «стелс», смогут лишь немногие, самые совершенные радары. Сложная и уникальная комбинация волн, отражаемых и поглощаемых поверхностью нашего корабля, тщательно фиксировалась и, после соответствующих вычислений, могла выдать нас. (Американцы, вероятно, уже определили эту нашу "цифровую подпись", когда засекли корабль в Афганистане.) Управляясь с комплексом аппаратуры орудийной башни, Эли действовал спокойно, но энергично и споро, даже весело, что было, как я уже понял, обычной манерой поведения членов команды. Вскоре данных было достаточно, чтобы определить врага — радар на некой далекой британской базе. Версию Эли подтвердил Леон Тарбелл, который был занят перехватом и расшифровкой переговоров между американскими и английскими ВВС.
Нам нужно знать содержание переговоров, объяснил Эли, потому что теперь, когда наш корабль выследили, следует отступить из стратосферы вниз, где нас могут встретить более традиционные, но не менее опасные воздушные силы. Если мы узнаем, что это будут за силы, то с такими данными полковник Слейтон сможет запрограммировать бортовые компьютеры на маневр уклонения с нужной скоростью. Эли, похоже, был абсолютно уверен в успехе, и пока мы обсуждали тактику воздушного боя с самолетами, ведомыми человеком и с беспилотными устройствами, я невольно заразился его воодушевлением бывалого пирата.
Удивительно, но это мое воодушевление лишь возросло после того, как отключилась бортовая система оповещения, что было признаком потери высоты. Следовательно, мы должны были приготовиться к новому и, может, более жестокому сражению. Теперь нашим врагом была не какая-то там противоракетная система, которая с самого начала так и напрашивалась на обман, а военные истребители, полные решимости сбить нас. Стычки такого рода происходили, конечно, уже не раз, что подтверждали данные радиоперехвата последних нескольких месяцев, согласно которым корабль Малкольма стал чем-то вроде мифа среди летчиков и моряков нескольких стран. Учитывая мощь вооружения воздушных флотов стран вроде Англии и США, учитывая высочайший уровень подготовки пилотов, управляющих самолетами и лично, и, как в случае с американским рейдом в Афганистан, дистанционно, с безопасного удаления, с собственных кораблей и военных баз… Порой мы были близки к тому, чтобы искать спасения в бегстве.
Так вышло и на этот раз. Едва мы снизились до облаков над Северным морем недалеко от 59-й параллели, как нам тут же преградили путь истребители королевских ВВС. На фоне заходящего солнца самолеты казались темными угловатыми силуэтами, что придавало им весьма устрашающий вид. Обернувшись к Ларисе, я увидел, что она смотрит на них с оценивающим видом, кивая и дерзко улыбаясь. Но в ее глазах я уловил и некоторую озабоченность.
— Гидеон, — обратилась она ко мне, — будь добр, разузнай, что происходит там, впереди. — Она взялась за рычаги управления пушки, но стрелять не стала. — Брату не нравится использовать смертельное оружие в ситуациях вроде этой, но если в этих штуках и вправду нет пилотов, то я собираюсь доставить себе маленькое удовольствие…
Бегом спустившись с лестницы и промчавшись по коридору, я оказался в центральном посту корабля, где были Малкольм и полковник Слейтона. Слейтон спокойно, но быстро вводил информацию в один из управляющих терминалов.
— Это новейшие «ультра-стелс» Объединенных наступательных сил, — сказал он. — Штурмовики "первого дня войны", чрезвычайно низкая уязвимость, вооружены ракетами класса AIM-10 «Предатор», которые могут нести биологические, ядерные или обычные боеголовки.
— Пилотируются людьми? — спросил Малкольм.
— Боюсь, что да. Они еще не придумали систему дистанционного управления этой моделью. — Слейтон повернулся и посмотрел на Трессальяна очень серьезно. — Похоже, из этой переделки нам не выбраться, не открыв ответного огня.
Я отметил, что Малкольм, все это время пребывавший в лихорадочном волнении, оказался глубоко поражен этим известием, но прежде, чем он смог ответить, по громкой связи раздался голос Тарбелла:
— Они обращаются к нам! — объявил он, и из динамиков послышался голос одного из пилотов: "Неопознанная воздушная цель! Вы нарушили воздушные границы Англии. Следуйте в нашем сопровождении к ближайшему аэродрому, или будет открыт огонь!"
Коснувшись клавиатуры лежащего перед ним пульта управления, Малкольм едко среагировал:
— Воздушные силы Англии? Но мы-то в воздушном пространстве Шотландской Республики. Следовательно, вы не уполномочены требовать от нас ответа. — Он повернулся к Слейтону. — Мы можем удрать от них?
Слейтон пожал плечами.
— До сих пор мы следовали этой тактике. Удрать-то мы сможем, но теперь им известна наша «подпись» и они последуют за нами, куда бы мы ни направились. Если мы решим появиться на острове, одной эскадрильей дело не обойдется. Можно уйти под воду, но это снизит скорость — не слишком, но достаточно, чтобы попасть под удар «Предатора». К тому же вряд ли открытое море остановит их от применения ядерного оружия. Единственный выход, который я вижу, — подняться обратно в стратосферу, но… Я прервал возникшую паузу.
— Но — что?
Малкольм, лицо которого становилось все бледнее, нервно хрустнул костяшками пальцев.
— Полковник Слейтон пытается быть тактичным, Гидеон. Суть в том, что этот наш рейд на редкость затянулся, и вы, наверно, заметили, что кое-какие обстоятельства приобрели неотложный характер. Я имею в виду свое возвращение на остров для медицинских процедур.
На лбу его, как и в прошлый раз, выступили капельки пота, предвестники нового приступа. Теперь, когда я знал о том, как возник его загадочный недуг, я сочувствовал ему куда горячей, чем в начале нашего знакомства. Во мне росло уважение к его стоицизму.
— Надо сказать, это вызывает раздражение, — вот как Малкольм прокомментировал ситуацию. — Ладно, тогда, полковник, раз уж мы должны… — Он на миг прервал речь и прислушался, затем приложил руку к кнопке вживленного коммуникатора. — Ты уверена? — спросил он у сестры. Затем он вытянул шею, вглядываясь в пространство за прозрачной обшивкой корпуса. — Далеко это? Я не вижу… нет, погоди, вот же они!
Мы со Слейтоном проследили за его взглядом, и увидели, что с тыла к нам приближается еще одна эскадрилья. Самолеты с виду были куда более обычны, чем британские «ультра-стелс» и были не так быстры. Мы поняли, что это старые модели. И все же они бесстрашно мчались сюда, чтобы противостоять великолепным силам наших преследователей. Когда они приблизились, я смог рассмотреть широкие андреевские кресты, нарисованные на их фюзеляжах.
— Наши друзья из шотландских республиканских ВВС, доктор Вулф, — пояснил Слейтон, отвечая моему изумленному взгляду.
Одним из итогов перекраивания национальных границ Британии, английского национального переопределения, последовавшего за разногласиями по вопросу переписки Черчилля — Принципа, возложившей вину за Первую мировую войну на британских политиков, стало решение парламента Шотландии официально провозгласить национальную независимость. Мир не знал, что косвенную ответственность за это историческое решение несла команда Малкольма, подсунувшая фальшивку. К тому же Малкольм, продав контрольный пакет акций "Трессальян Корпорейшн" и потратив часть суммы на тайное приобретение у Шотландии крохотных Гебридских островов, смог полностью посвятить себя кампании по дезинформации. Вырученные суммы была весьма существенны и позволили Эдинбургу оказать серьезное вооруженное сопротивление попыткам Англии вновь подчинить себе северного соседа. Даже годы спустя Малкольм продолжал щедро вкладывать средства в то, что Лондон продолжал упорно именовать "шотландским мятежом", а весь мир "шотландской войной за независимость". Практические результаты этой щедрости мы теперь видели вокруг.
— Они и вправду атакуют англичан? — спросил я. — Непохоже, чтобы у них были шансы на победу.
— Атаки не будет, — сказал Слейтон. — Они летают на устаревших «харриерах», вооруженных неэффективными ракетами «спарроу». Но сейчас главное не это, а то, что они задержат английские самолеты, а мы тем временем погрузимся поглубже.
Так и вышло: в считаные мгновения наш корабль был снова под водой. Мы быстро пересекли залив Пентленд и устремились на запад, в сторону Атлантики, а затем на юго-запад. Проплывая на небольших глубинах, мы видели, как неспокоен океан над нами. Когда мы вновь поднялись наверх, волны бушевали с такой силой, что я порадовался тому, что мы не плывем, а летим над ними на высоте футов в пятьдесят.
Уже через несколько минут на горизонте показался пункт нашего назначения: посреди океана виднелись семь крохотных клочков суши. Когда мы приблизились, я смог разглядеть их живописные отвесные скалы, потайные гроты и обдуваемые всеми ветрами зеленые равнины.
— Ну, Гидеон, — произнес Малкольм (радость, что наше путешествие близится к концу, смягчила его муки), — приветствую вас здесь. Здесь, на Островах На Краю Света…
Глава 22
Острова На Краю Света — так с незапамятных времен прозвали этот небольшой архипелаг, официально именующийся Сент-Кильда. Большую часть года его надежно охраняли океанские волны, которые в этом месте столь яростны, что корабли не рискуют приближаться к его берегам; потому-то Сент-Кильда стала для Малкольма и его команды идеальным укрытием. С 1930 года остров был необитаем, если не считать морских птиц — бакланов, чаек-моевок, альбатросов и так далее; они водились здесь в большом изобилии и разнообразии, а стаи их были так огромны и густы, что их появление изменяло цвет ландшафта. Но случайного путника более всего поражала царившая здесь плотная, почти осязаемая атмосфера тайны: иссеченные морем скалы и остатки древнего вулкана были свидетелями прошлого, полного темных загадок и опасных авантюр. Пусть это рассуждение страдает излишним романтизмом, но когда мы приземлялись на одном из этих островов, я был всецело во власти романтических настроений.
На главном острове архипелага, носившем имя Хирта, близ обветшалых руин маленькой деревеньки, возраст которой насчитывал несколько столетий, Малкольм устроил базу для своих операций. Строения были умнейшим образом спроектированы так, что походили на окружавшие их древние каменные развалины, но технологии, что применялись при строительстве этих зданий, не имели с прошлым ничего общего.
Системы обеспечения и обслуживания были полностью автоматизированы, так что не требовали присутствия человека; можно было не появляться на острове неделями или даже месяцами. Что до интерьеров, то они повторяли стилевые контрасты помещений корабля: функциональный минимализм лабораторий и постов управления контрастировал со старинной роскошью кают и гостиных. В здании, имитировавшем церковь, в действительности размещался проектор озонового оружия; последний, кроме всего прочего, использовался для поддержания стабильности погодных условий на островах, так как климат северной Атлантики временами показывал свой нрав.
Лариса и полковник Слейтон помогали Малкольму: ему был необходим режим для восстановления сил, а нужными лечебными процедурами и медикаментозной терапией он занялся сам, так как питал понятную неприязнь к докторам. Мне же тем временем показали комнату, из которой открывался замечательный вид на мрачную пещеру среди скал и волнующееся за ней море.
Следующие две недели Малкольм в одиночестве восстанавливал свои силы, а затем шел работать в лаборатории — это была его святая святых; я же проводил время с остальными, исследуя острова, изучая разрабатываемые группой технологии, обдумывая последствия наших недавних эскапад. Это было бурное время, и по его прошествии я вдруг понял, что мои слова и действия ничем не напоминают слова и дела доктора Гидеона Вулфа, жителя Манхэттена, профессора университета Джона Джея, достойного американского гражданина и уважаемого члена общества, — теперь я был больше похож на человека, который, как и другие, отказался от гражданства своей страны и стал человеком без родины. В миг, когда в тюрьме Бель-Айл я ступил на борт корабля Малкольма, я поставил себя вне закона — в лучшем смысле этого слова, убеждал я себя; но вряд ли эти тонкости имели бы значение для властей, попадись я им в руки. И я с головой погрузился в новую жизнь: днем обсуждал проекты новых мистификаций, изучал новые технологии и новые виды оружия; ночью же все более страстно пленялся очарованием Ларисы.
Сейчас все это кажется сном, в который я бы с радостью вернулся, если бы мог забыть пробудивший меня ужас.
Возбужденный эмоционально и умственно, я не смог распознать некие признаки, предвещавшие этот грядущий ужас. Первый из этих признаков все еще живет в моей памяти.
Однажды вечером, когда солнце ярко освещало поверхность пещеры за освинцованным эркером моей комнаты, — в то время года на Сент-Кильде становилось темно лишь на три часа, — я случайно наткнулся на пиджак, который был на мне во время побега из тюрьмы, и обнаружил в его кармане доставшийся мне от миссис Прайс компьютерный диск. Первая же мысль, пришедшая мне в голову при виде этого диска, была о Максе. Он припомнился мне не таким, каким я видел его в последний раз, — большую часть его головы тогда снесла пуля ЦРУшного снайпера, — но живым, всегда исполненным добродушных шуток и смеха. Затем я вспомнил об информации на диске — обо всей информации. Я был так сосредоточен на обстоятельствах смерти президента Форрестер, что совсем позабыл о том, что Макс подобрал ключ и расшифровал вторую серию изображений, старую съемку нацистского концлагеря и внедренный туда цифровыми методами неопознаваемый силуэт.
Я вставил диск в компьютерный терминал, встроенный в грубый письменный стол возле эркера, загрузил те самые кадры и пересмотрел их снова.
— Что-то любопытное?
От голоса стремительно вошедшей в незапертую дверь Ларисы я чуть вздрогнул и издал тихий, довольный стон, когда она бросилась мне на колени. Быстро поцеловав меня, она вперила свои темные глаза в монитор.
— Что это за чертовщина? Набиваешь руку на пересмотре истории?
— Хочешь сказать, что тебе это незнакомо? — удивленно спросил я.
Лариса покачала головой.
— Нет, и что бы это ни было, законченным оно не выглядит.
— Макс нашел это на диске, который дала нам жена Прайса, — ответил я, поставив запись снова. — Я совсем забыл о нем, а когда увидел снова, то подумал, что это еще одна работа Прайса для твоего брата.
— Если и так, то я ничего об этом не слышала. — Лариса вскочила с моих колен и подошла к светящейся панели возле моей кровати. — Может быть, Леон в курсе. — Она нажала несколько кнопок. — Леон, поднимись в комнату Гидеона, хорошо? Он тут обнаружил что-то странное.
Через несколько минут в мою комнату ворвался Леон Тарбелл, изо рта его свисала сигарета.
— Ну, Гидеон, что у вас там за тайны? — спросил он. — Я был сильно занят, когда вы… — Он внезапно прервался, увидев кадры на экране. — Что это такое, черт побери? — После того как я снова объяснил, откуда взялся диск, сосредоточенный взгляд Тарбелла еще пристальней впился в серую фигуру на мониторе. — Я знаю, кто это, — сказал он завороженно и вместе с тем испуганно. — Да, я уверен — видите? Когда он поворачивается в профиль. Я знаю, что видел этот силуэт раньше.
— То же самое ощутил и я, когда впервые посмотрел это, — кивнул я. — Но не смог соотнести с…
— Подождите! — Выражение внезапного узнавания появилось на сатанинском лице Тарбелла, и он устремился к компьютеру. — Думаю, у меня получится… — Он начал что-то набирать на клавиатуре и замолк. А потом на экране стала быстро появляться и исчезать новая последовательность изображений.
— Что это, Леон? — спросила Лариса. — Прайс делал для Малкольма еще какую-то работу, кроме задания с Форрестер?
Тарбелл пожал плечами.
— Лариса, милая, если уж Малкольм ничего не сказал тебе, то и никому из нас не скажет. Но что касается этого загадочного типа… — Он указал на экран, где вновь появился застывший кадр пленки из концлагеря. Тарбелл с торжествующим видом нажал еще несколько кнопок на клавиатуре. — То… вот он!
Внезапно таинственный силуэт идеально заполнила фотография — фотография человека, чье имя было всем нам хорошо известно.
— Сталин, — потрясенно молвил я.
— Да, это Сталин, — согласилась Лариса, выглядевшая не менее растерянной, чем я. — Но зачем Прайс поместил его в нацистский лагерь смерти?
Тарбелл лишь еще раз пожал плечами, а я спросил:
— А вы думаете, что это важно? Я имею в виду, может, стоит спросить Малкольма…
— Нет, Гидеон, — твердо сказала Лариса. — Только не сейчас. Я только что от него, он всю ночь работал и доработался до нового приступа.
Мое внимание переключилось на состояние здоровья Малкольма.
— А все же чем он там занимается, в этой лаборатории? — поинтересовался я вслух.
Смутившись, Лариса пожала плечами.
— Он ничего не рассказывает, но трудится над этим уже несколько месяцев. Что бы это ни было, я бы предпочла, чтобы он бросил этим заниматься: ведь он отчаянно нуждается в отдыхе. А что до этого… — Она перегнулась через меня и выключила экран терминала, затем извлекла диск и бросила его Тарбеллу. — Я бы сказала, что это просто еще один фильм, над которым работал Прайс. Забудьте его, доктор Вулф. — Она повернула мое лицо к себе и поцеловала меня. — Я требую всего вашего внимания прямо сейчас.
Тарбелл прокашлялся.
— Надо же, — сказал он, запихивая диск в карман и покидая комнату так же торопливо, как и вошел. — Я же говорил, Гидеон, — ты везунчик…
Может, и так. Но везение, как известно, приходит и уходит; и знай я тогда, как близко время, когда удача отвернется от меня, и как много изменит в моей судьбе найденный диск, я бы ни за что не позволил отвлечь себя. Даже Ларисе. Потому что полная версия изображений, что мы рассматривали, очень скоро запустит механизм преступления. Преступления настолько невероятного и непостижимого, что весь наш бессмысленно суетный мир оно повергнет в шок и замешательство. А еще оно станет причиной моего изгнания в африканские джунгли, где я сейчас дожидаюсь прибытия моих прежних товарищей и переживаю такое смятение, ужас и полный крах всех надежд, равного которому не испытывал всю свою жизнь.
Глава 23
Мы все еще ждали, когда Малкольм наконец выйдет из своей лаборатории и объявит о начале работы над новой обманной затеей, и временами хранить терпение становилось довольно трудно, но я признаю: нам с Ларисой, как не раз подчеркивал Леон Тарбелл, переносить ожидание было проще, чем остальным. В действительности Тарбелла жутко потрясла простая мысль, что кто-то в группе может вступить в сексуальные отношения, к которым он не будет причастен, что, во-первых, он чуть не погиб от удара током предполагаемого "костюма для виртуального секса" (на самом деле представлявшего собой тонкие и длинные резиновые штаны со встроенными электродами), а во-вторых, спустя несколько дней взял из замаскированного под коровник здания маленький вертолет и отправился в Эдинбург. Когда он готовился к взлету, я заметил, что Глазго все ж поближе, но на его подвижном и живом лице отразилось лишь глубочайшее презрение.
— Пьяные рабочие, наркоманы-героинщики! — взревел он. — Нет, Гидеон, услугами проституток Эдинбурга пользуются озабоченные адвокаты и политики-извращенцы — сексуальней этих девочек свет не видывал, в самый раз для меня!
Двигатели загрохотали, он взлетел и был таков.
Так начался тот примечательный вечер, один из немногих вечеров, который я проводил в одиночестве, так как Лариса решила остаться со своим все еще больным братом и проследить, чтобы этой ночью он отдыхал, а не работал в своей лаборатории. Вновь я поймал себя на раздумьях о том, что за дело поглощает его время и силы, — и тут мне пришло на ум, что раз уж Ларисе, по ее словам, ничего не известно, то скрытный и неразговорчивый полковник Слейтон, возможно, знает что-нибудь. Выяснив, что Слейтон устроился в комнате, одновременно бывшей переговорным пунктом и диспетчерской, я решил посмотреть, может ли обладающий профессиональными навыками психолог побудить его рассказать что-нибудь о деятельности Малкольма.
Диспетчерская располагалась в фальшивой таверне напротив такой же фальшивой церкви, скрывающей озоновый проектор Малкольма. Под таверной было большое подземное помещение в несколько сотен ярдов; в нем располагалось оборудование для перехвата мировых электронных коммуникаций как служебного, так и частного характера. Правительства США и их англоговорящие союзники несколько десятилетий использовали похожую систему под названием «Эшелон». Но для работы «Эшелона» требовалось несколько таких сооружений, оборудование каждого из которых занимало целые акры: Малкольм снова обогнал весь мир и вышел на следующий уровень технологического развития.
Я несколько раз постучал в дверь, снаружи отделанную под дерево, и не получил ответа. Но полковник, несомненно, был там и работал, так как из-за двери я услышал неясные вибрирующие шумы. Поэтому я тихо вошел — и сразу же оказался перед странной картиной, как бывало уже несколько раз после моего прибытия на корабль.
Верхний свет был потушен, и темноту комнаты без окон освещали десятка два мониторов. Большинство из них были невелики, но некоторые занимали добрую часть стены. Мелькающие на них очертания поначалу казались бессмыслицей, но стоило моим глазам привыкнуть к неяркому стробоскопическому свету, как я увидел в них быстро сменяющие друг друга отрывки текстов, зашифрованные и раскодированные; иногда проскакивали чертежи и диаграммы. На всех экранах изображения были разными. А подслушанная мной снаружи какофония — внутри она была просто оглушительной — была смешением хора десятков звуковых сигналов, разборчивых и зашифрованных.
Посреди всего этого у пульта управления сидел Слейтон. Он всматривался в два самых больших монитора, хотя информация на них мелькала слишком быстро, чтобы усвоить ее. Я хотел спросить, чем именно он занят, но не смог привлечь его внимание даже довольно громкими и театральными покашливаниями. Тогда я сделал один или два шага и, оказавшись ближе… застыл на месте.
Очутившись рядом с ним, я увидел, что по длинному шраму на его щеке бегут слезы. Выражение его лица, однако, оставалось таким же бесстрастным, как обычно; лишь еле заметная дрожь крепко сжатых челюстей выдавала его чувства. У человека, подобного Слейтону, даже столь неявные признаки означают бурю эмоций. От этого зрелища я пришел в полное замешательство и тихо попятился к двери. Но не успел я сделать и пары шагов, как полковник прикоснулся к одной из светящихся клавиш на панели. Звук в комнате сразу стал гораздо тише, что лишь усилило мое смущение. Затем, не поворачиваясь, Слейтон негромко произнес:
— Вы, доктор, видите и слышите данные, которые передают военные ведомства разведслужб всего мира.
— О, — вот и все, что я смог из себя выдавить.
— Скажите, — продолжал Слейтон, — правда ли, что чувствительности человеческого слуха недостаточно, чтобы распознать обман?
Мне ничего не оставалось, как продолжать этот разговор.
— В общем, так и есть, — признал я. — Подобные интерпретации всегда основаны лишь на оценке эмоций, что субъективно и не поддается алгоритмизации.
Полковник хмыкнул.
— Ну, возможно. Возможно, я просто стал лучше слышать с годами. Но я могу сказать вам абсолютно точно, доктор, что вот это… — он снова включил звук на полную громкость, — это — голос самой лжи…
Не знаю, сколько я простоял там, в оцепенении созерцая неподвижную фигуру Слейтона, который продолжал вглядываться в свои бесчисленные мониторы. Затем он снова сделал звук тише; не скрываясь, промокнул влажные щеки платком и развернул свой стул так, чтобы видеть меня.
— Чем могу быть полезен, доктор Вулф? — осведомился он, изучая меня с любопытством.
— Я… Мне было интересно… — Пока я искал слова, мне показалось, что Слейтон извлекает удовольствие из моей неловкости; но затем, вглядевшись в его лицо, отказался от своих подозрений. — На самом деле меня волнует состояние Малкольма. Если бы я мог сделать для него что-нибудь по части медицинской помощи…
— Думаете, что ему нужна помощь психиатра? — Вопрос звучал странно, но, казалось, был задан совершенно искренне.
— Нет, я имел в виду не это, — ответил я. — Но я все же врач, и могу распознать хроническую боль, когда ее вижу. И потом, Лариса поведала мне его… историю.
— Вот как? — Глаза Слейтона сузились. — Ну, раз уж вы в курсе дела, то должны понимать, что никто, и вы в том числе, не в силах помочь ему. Болеутоляющее и отдых — вот и все, что ему остается.
— Ясно, что с лекарствами проблем у него нет, — сказал я, обнаружив брешь в его рассуждениях. — Но отчего он так мало отдыхает?
Уголок рта полковника дернулся и на его лице появилось что-то похожее на улыбку.
— Хороший вопрос, доктор, — сказал он. — Но я не могу на него ответить — и никто из нас не может. По той простой причине, что никто из нас — и даже Лариса — не знает, что за работа лишает его сна.
— Ясно. — Оглядев комнату, я осведомился: — А вас?
Призрачная улыбка начала обретать реальные очертания.
— Мы с Ионой собираем и устанавливаем новый голографический проектор для корабля. Он позволит нам передвигаться невидимо и избегать неприятностей вроде тех, что были во Флориде.
— А это возможно?
Слейтон утвердительно наклонил голову.
— В Пентагоне мы подошли довольно близко к созданию этой штуки. Малкольм считает, что он лишь проработал детали.
— О, — я продолжал гнуть свою линию, сделав легкий отвлекающий маневр. — Но ведь это… это все же не объясняет все, что здесь происходит? — я указал на экраны.
Не знаю, какого ответа я ожидал, задавая столь прямой вопрос, но реакция полковника застала меня врасплох. Слейтон добродушно рассмеялся и подвинул мне свободный стул.
— Садитесь, доктор, и я все объясню, — сказал он. — Раз уж наш план целиком зависит от вас…
Глава 24
Я присел рядом с полковником, и он продолжил:
— В некоторых церковных и монашеских орденах до сих пор практикуется самобичевание. Вы, доктор, полагаете, что это извращение?
— Это крайность, — отозвался я, вместе с ним глядя вверх, на мониторы. — Но не извращение. А как насчет вас, полковник? Неприятные свет и звуки заменяют вам хлыст?
— Отчасти в некотором роде так оно и есть, — ответил Слейтон с откровенностью, столь же впечатляющей, как и все остальное в этом человеке. — Большую часть моей жизни, доктор, весь этот мир, — он махнул рукой на экраны, — был пустыней, где я странствовал, сражаясь за то, чтобы обратить туземцев-язычников в демократическую веру. Пока не… — он вдруг утерял нить беседы, но взял себя в руки и закончил, — …одно дело узнать, что твой бог — лишь колосс на глиняных ногах. И совсем иное — понять, что его ноги в крови, и это кровь не только твоих врагов, но и твоих друзей, и ты сам — соучастник их убийства. И понять при этом, что ты сам — соучастник их убийства. Соучастник из-за собственного недомыслия…
Я увидел, что в его глазах вновь закипели слезы, и заторопился:
— Полковник, вы вспоминаете тайваньскую кампанию. Но вы не можете…
— Босния, Сербия, Ирак, Колумбия и да, еще Тайвань, — перебил он меня, — да любое из полудюжины других мест, где я убивал и посылал своих ребят на смерть во имя свободы. Можете ли вы себе представить, каково было обнаружить, что единственная свобода, которая на деле интересует мое начальство, — это свобода их богатеньких хозяев проворачивать сделки в этих странах? Я не дурак, доктор Вулф. По крайней мере, не хочу считать себя дураком. Отчего я раньше не понимал этого, абсолютно не понимал? Международные торговые союзы и военные альянсы, чьи полномочия мы обеспечивали, — разве они избавили хоть кого-нибудь от тирании, эксплуатации или неравенства, как это было обещано? Принесли ли они настоящую свободу хоть одной несвободной стране?
Слейтон затряс в воздухе сжатым кулаком.
— А мы по-прежнему подчиняемся. Льем ради них кровь наших врагов и шлем на смерть наших солдат. Тогда, на Тайване, стало ясно, что мы оказались там лишь затем, чтобы там и сдохнуть, и что Вашингтон вовсе не собирался препятствовать Пекину захватить власть, и что на самом деле они были союзниками коммуно-капиталистов. Я не выступал в защиту правительства Тайваня тогда, доктор, и не выступаю сейчас — но почему мои войска гибли за этот циничный союз? И, самое главное, — его грудь тяжело вздымалась, — почему я не увидел этого?
Я пожал плечами: не было смысла отделываться необязательными словами. И тихо произнес:
— Mundus vult decipi.
Он снова улыбнулся беглой улыбкой.
— Спасибо, доктор.
— Простите?
— Я совершенно серьезен. Спасибо, что не стали снисходительно утешать меня фальшивыми рацеями. Да, каждый хочет быть обманутым. Хотел этого и я. Мне хотелось верить всему, что мне рассказывали в детстве на школьных уроках. Когда мой отец вернулся домой из Персидского залива в пластиковом мешке и мы похоронили его на Арлингтонском кладбище, мне хотелось верить, что эта война не была дракой за нефть. Гены, унаследованные от раба-африканца, говорили, что я идиот, но я не слушал. Я объявлял войну любой попытке раскрыть мне глаза на обман. А потом, на Тайване… все это рухнуло. Ко времени, когда меня взяли на работу в Пентагон, я был призраком — одним из тех, кто, будучи обманут, теперь учился обманывать сам. И я бы остался призраком, если бы не встретил Малкольма. И даже сейчас, когда я в этой команде, мне все равно чего-то недостает. — Он повернулся ко мне, его лицо было исполнено решимости. — И вы, доктор, можете помочь мне найти это «что-то». Захваченный врасплох, я спросил:
— Почему я?!
Слейтон встал и принялся расхаживать по комнате.
— Психология и американская история, доктор. Мне нужен эксперт. — Он скрестил руки на груди и крепко сжал их. — Думаю, вы удивитесь, если я скажу, что приложил немало усилий, чтобы заполучить вас в команду.
Изумленный, я едва не рассмеялся.
— Допускаю, что так и было.
— Убедить их было нетрудно, особенно после того, как они прочли вашу книгу, — Слейтон взял в руки лежащий на приборной панели экземпляр "Психологической истории США" и принялся листать ее, — и увидели вашу фотографию, — продолжил он тоном проницательного родителя, не слишком одобряющего занятия своего чада. — Он нашел нужную страницу и принялся вчитываться в текст, затем пораженно посмотрел на меня. — Вы действительно считаете, что смерть матери Джефферсона повлияла на написание Декларации Независимости?
Для ответа я подбирал слова куда тщательней, чем когда писал книгу.
— Близость этих событий по времени всегда вызывала ощущение, что их последовательность неслучайна. Отношения Джефферсона с матерью были, по общему мнению, весьма сложными.
Слейтон кивнул.
— Было время, когда подобная мысль вызвала бы у меня отвращение, доктор. Да и сама эта книга была бы мне отвратительна. Вы силой заталкиваете американский народ на психоаналитическую кушетку и приходите к выводу, что его разъедают неврозы.
— А многих — нечто похуже неврозов, — отважился возразить я.
— Да, — сказал Слейтон. — И я уже сказал, что прежде проклял бы вас за такое. Но сейчас… — Он снова умолк и стал смотреть на световые пятна, пляшущие на полу.
— Полковник, — сказал я, — пожалуйста, не думайте, что я пренебрегаю вашими чувствами, но вы, конечно же, понимаете, что все, через что вы прошли, Америке не в новинку? То, что вы называете «обманом», на деле всего лишь потребность верить в прирожденное философское и этическое превосходство Соединенных Штатов — в то, что называют нашим "комплексом нравственной исключительности". И это убеждение у нас существует с самого начала. Любая страна идет на ужасные преступления во имя захвата и удержания верховной власти, и наша не составляет исключения. Метод объяснения этих преступлений выработали, чтобы помочь людям жить в мире с собой.
— Все это верно, — отозвался Слейтон, не поднимая глаз. — Но вы и я собираемся потрясти самые основы этого комплекса исключительности.
Оказалось, что утешительные проповеди ему вовсе не нужны!
— Мы? — переспросил я.
Слейтон медленно кивнул. Затем его отрешенность исчезла, и он повернулся ко мне лицом.
— Я говорил с Малкольмом около часа тому назад. Нападение на Афганистан привело его в ярость, и что из того, что нам удалось спасти людей? Он согласился с моим предложением: наш следующий проект будет нацелен на те самые лживость и лицемерие, которые объясняют все — от рабства моих предков до этого самого афганского рейда. Разработать все детали он поручил нам с вами.
— О! — я принял это сообщение с восторгом: я думал, что смогу принять участие в следующей акции, но что сам буду ее разрабатывать… — А хорошие идеи у вас есть?
— Пока нет, — ответил Слейтон. — Я давно сижу здесь с вашей книгой, пытаясь что-нибудь сообразить, но всякий раз, когда приступаю к обдумыванию, у меня просто сносит голову…
Тут он замолчал и поднял голову, прислушавшись к шумам системы перехвата.
— Вот оно, снова, — прошептал он. — Уже в третий раз за вечер.
— Что — в третий раз за вечер?
Слейтон покачал головой, все еще вслушиваясь, и тут до меня дошло, что его "отлично настроенный" слух мог из невнятного гула выуживать отдельные сообщения.
— Это Моссад, — сказал он. — Израильская разведка. Трижды за вечер я перехватывал обрывки переговоров их оперативников в Европе. Они продолжают обсуждать некую террористическую деятельность, сосредоточенную вокруг какого-то немецкого концлагеря.
Я подумал.
— Это может быть воинствующее крыло "Новой Германии". С тех пор как в Австрии пришла к власти "Партия Свободы", их друзья по другую сторону границы час от часу ведут себя все шумней.
— Может, и так, — промолвил Слейтон не слишком убежденно. — Но израильтяне, судя по виду, слишком гоношатся, так что на чисто европейские дрязги не похоже. Ну что ж, — он выключил системы видео- и аудиоперехвата, — у нас с вами, доктор, и без них есть чем заняться.
Вот так остался почти незамеченным еще один признак надвигающейся страшной трагедии, которая вскорости увлекла нас в свои пучины. Даже сейчас я стараюсь не думать о том, сколько жизней могли бы спасти мы со Слейтоном, если бы вслушались в таинственные сообщения, уловленные системой перехвата. Раздумья об упущенных возможностях — верный путь к безумию.
Глава 25
Каким хитроумным, каким важным представлялся тогда план, что состряпали мы со Слейтоном в следующие несколько дней! И как я был горд, работая бок о бок с человеком, чьи деяния вдохновляли юных и заставляли устыдиться зрелых! Пусть в нашем партнерстве ни о каком равенстве не заходило и речи, все ж как наставник Слейтон был весьма снисходителен и терпим, хотя порой ему случалось быть резким, и мы быстро вошли в эффективный рабочий ритм, что позволило набросать план атаки уже через сутки. Пролетело еще 48 часов, и на исходе третьего дня мы уверились, что для достижения цели наш план подходит идеально, хотя для полной уверенности необходимо было опробовать его на наших коллегах.
Для этого мы выждали еще сутки, пока Тарбелл не вернулся со своей экскурсии. С довольной улыбкой на лице, пошатываясь и слегка хромая, Леон вошел в комнату, где мы все (кроме Малкольма) собрались перед ужином, — и во всеуслышание объявил, что готов приличным образом перекусить ("Как только шотландцы с такой своей кухней умудряются не отдать концы?") и насладиться беседой (последние несколько дней он, по всей очевидности, провел в компании "бесконечно сексуальных" женщин, и горячо заверял нас в истинности этой оценки). Посреди этих заверений Слейтон кивнул мне: еще раньше он решил, что наш план я буду представлять в одиночку, заявив, что сам живет в мире дел, а не слов, и все перепутает. Я пропустил мимо ушей некоторое пренебрежение, прозвучавшее в его словах, так как понимал, откуда оно взялось, — и принялся в общих чертах обрисовывать то, к чему мы пришли.
В предисловии я отметил, что успехи группы опираются прежде всего на единственном факторе — правдоподобии. Все мистификации принимались публикой за чистую монету по той причине, что в каждой из них был заложен некий глубинный смысл. Американские политики, скажем, для большинства людей были немногим больше, нежели телевизионным сигналом, а любой из тех, кто осознавал необычайное коварство Уинстона Черчилля и его готовность жертвовать жизнями людей во имя политических целей, легко поверил и в его переписку с Принципом. Что до Иисуса, то достоверных сведений о его жизни очень мало. Даже тысячи находок, сделанных археологами и антропологами за много лет, не помогли обосновать теорию эволюции… Наконец, при всем восхищении фальшивкой с изображениями убийства президента Форрестер следует признать, что люди всегда с готовностью взваливали на исламских террористов что угодно. Следовательно, первая наша задача была в том, чтобы обеспечить плану твердую историческую основу, опираясь все на те же внешне достоверные факты. Эту часть все приняли без особых возражений, но затем задача чуть усложнилась. Я объявил, что полковник Слейтон и я предлагаем использовать в качестве отправной точки убийство Джорджа Вашингтона, каковое заявление было встречено непониманием, отразившимся на всех лицах, означающим, что либо наши коллеги не знали о том, что Вашингтон был убит, либо подзабыли, в чем там было дело. Я пояснил, что их неосведомленность вполне понятна, поскольку это убийство, словно неприглядную страницу американской истории, замели под своего рода психологический коврик. Но, продолжал я, Вашингтон действительно был убит: он слег с инфекцией горла, и врачи прописали в качестве лечения кровопускание. Однако же врачи эти были тайно подкуплены группой бизнесменов и политиков (в нее входили и несколько других "отцов-основателей"), которые хотели, чтобы Отец Нации заткнулся навеки. В последние месяцы жизни Вашингтон начал сознавать, какой масштаб приняла распродажа юных Соединенных Штатов богатеям и торговому сословию, и намеревался заявить об этом — заявить публично. Но власть того времени, будучи на удивление схожа с нынешней, не могла допустить разоблачений. Результат — убийство, совершенное ножом для кровопускания.
Фуше прокомментировал этот рассказ, заявив, что он может стать отличной основой мистификации, поскольку обращается к начальному периоду истории США и в то же время таит неистощимый дискуссионный потенциал. Но что за мистификацию, спросил он, мы намерены создать на основе этой истории? Тут нам пришлось раскрыть карты: сама история, собственно, и была мистификацией. Мы со Слейтоном установили, что хотя насильственная смерть Вашингтона от рук продажных политиков позволяет провести четкую параллель между тогдашней ситуацией и современным положением дел в Соединенных Штатах, в ее основании нет ни одного исторического факта.
Воцарилось молчание, а затем общество разразилось взрывами хохота и негодующими возгласами, за которыми последовали бурные аплодисменты. Лариса не терпела розыгрышей и заявила, будто с самого начала знала, что я блефую, но долго притворяться не смогла. А затем, когда все успокоились, мы принялись обсуждать потенциал нашего замысла.
Прежде всего, если наш удар будет нацелен в американскую концепцию "морального превосходства", нет смысла брать на мушку лидеров страны. Граждане США сильно дистанцированы от своих местных и национальных представителей, которых Слейтон называл "платной прислугой корпораций", поэтому попытка спровоцировать широкомасштабный кризис национальной философии, мотивировав их действия пороком и коррупцией, была обречена на провал. Точно так же не было смысла затрагивать малоизвестных людей и события, так как публика редко интересуется историей. Однако несмотря на то, что большинство людей затруднились бы с ответом на вопрос, когда и при каких обстоятельствах образовались Соединенные Штаты, подавляющее большинство людей выросло со смутным, но глубоким убеждением в том, что рождение нации стало великим шагом, сделанным открыто и честно под руководством Джорджа Вашингтона. Если обыграть эти представления в духе беззастенчивого таблоида, то последующий за этим скандал имеет все шансы оказаться в центре внимания общества, а заодно побудить американцев пересмотреть некоторые из присущих им фундаментальных нравственных предрассудков в отношении своей страны.
Сюжет с убийством годился для этого наилучшим образом, годился даже больше, чем старый добрый секс-скандал. В конце концов, народное сознание уже давно связало слова «президент» и «секс-скандал», а заговоры с целью убийства все еще до крайности притягивали и возбуждали публику, доказательством чему служит реакция общества на фокус Малкольма и его команды с изображениями гибели Эмили Форрестер. А учитывая широкую известность того, что Вашингтон, как и многие в его время (да сегодня, раз уж на то пошло), был фактически убит некомпетентными врачами, то последующее «откровение» о том, что убийство было результатом заговора, вызовет у страны и мира не больше скепсиса, чем за нашим обеденным столом. Короче говоря, раздор будет вновь посеян внешне достоверными фактами.
К концу вечера мы достигли согласия в том, что план хорош настолько, что его можно представить Малкольму. Слейтон вызвался исполнить эту обязанность, что он и сделал на следующий день. Все то время, что он провел с нашим немощным предводителем за закрытой дверью, я мерил шагами пол своей комнаты, а лежавшая на кровати Лариса убеждала меня, что все пройдет без сучка и без задоринки. Так оно и вышло: со встречи Слейтон явился с весьма довольным видом и сообщил, что Малкольм одобрил наш план и хочет, чтобы остальные приступали к изготовлению документов, которых требует эта задача.
И все же казалось странным то, что Малкольм не прервал свое затворничество хотя бы для того, чтобы лично одобрить наш план. Спросив у Слейтона, доволен ли он отзывом Малкольма, я получил положительный ответ, но видел, что в действительности он несколько обескуражен приемом, оказанным нашему труду. Меня однако же не покидали сомнения, хотя на протяжении нескольких последующих загруженных работой дней я пытался, как мог, приписать это равнодушие непрекращающейся затяжной битве, которую Малкольм ведет с собственным телом, и сопровождавшей ее эмоциональной и интеллектуальной неустойчивости. В редкие минуты передышки я уличал себя в желании задать ему прямой вопрос: что кроется за всем этим?
Мне так и не представилось случая сделать это, пока мы снова не взошли на корабль, чтобы пересечь Атлантику и попытаться изменить восприятие рождения нации и национального образа Соединенных Штатов Америки, что сложились в мире. В этом путешествии я обнаружил, что нехватка энтузиазма у Малкольма вовсе не связана с нашим проектом и что опасения, охватившие нашего предводителя, обусловлены его более полным знанием обстоятельств, — опасения, которые вскоре подтвердил все тот же маленький компьютерный диск, что я однажды обнаружил в кармане куртки.
Глава 26
В основу "мистификации Вашингтона", как мы назвали наш план, легли два комплекта поддельных документов. Первый состоял из признаний, сделанных на смертном одре тремя заговорщиками, мучимыми совестью. Признания принадлежали Томасу Джефферсону (из-за его личных грешков и лицемерия в вопросах рабства общество давно было готово к любым обвинениям в его адрес), Джону Адамсу, чей страстный, временами иррациональный федерализм навеки сделал его вечной мишенью популистов; и, наконец, одному из хирургов, оперировавших Вашингтона. Второй набор фальшивок состоял из нескольких писем Вашингтона его близким друзьям, где он говорил о своем намерении выступить перед нацией с предупреждением о растущей власти тех, в чьей собственности были богатства страны.
Ко времени, когда мы со Слейтоном составили тексты, Леон с Жюльеном уже окончили манипуляции с составом чернил и бумаги, так что документы скоро приобрели окончательный вид. Мы взошли на корабль и направились в сторону Нью-Йорка и Вашингтона, чтобы упрятать плоды наших рук в разные архивы. Братья Куперман занялись тем, что внедряли в содержимое различных вебсайтов сфабрикованные нами документы и журнальные статьи, которые, будучи найдены, говорили бы в пользу нашего подлога. Вскоре после отплытия было решено, что небо наверняка кишит воздушными патрулями, разыскивающими таинственный самолет, невесть каким образом скрывшийся в районе Северного моря, и что лучше пересечь Атлантику под водой. Мы вновь погрузились в пустынные воды и направились к юго-западу, чтобы двигаться над поверхностью дна, пока не достигнем континентального шельфа, где мир меняется к худшему.
Опускаясь ниже, мы пересекли хребет большой подводной горной цепи, носившей название "Берег Дикобраза", и направились в сторону плато Дикобраза, лежавшего на глубине приблизительно в три тысячи футов. Для большинства обычных подводных лодок такие глубины немыслимы, но наш корабль отличался от них множеством примечательных особенностей. Ландшафт океанского дна был куда эффектней, чем то, что нам довелось наблюдать в предыдущее плавание, так как на сей раз мы опустились куда глубже; но эта красота лишь подчеркивала гнетущее отсутствие каких бы то ни было признаков жизни. Ко мне быстро вернулась та же странная смесь восторга и печали, что владела мной в путешествии на восток. И когда Малкольм по системе громкой связи пригласил меня пожаловать к нему в обзорный отсек, его подавленный голос прозвучал в тон невеселому настрою.
Когда я вошел, он в полном одиночестве сидел в своем инвалидном кресле и созерцал драматический пейзаж, который высвечивали мощные лучи прожекторов. Я тихо приблизился, и он указал мне на стоящий рядом стул.
— Присядьте, Гидеон, — сказал он. — Прошу вас.
Он массировал свой лоб и, казалось, пребывал в сильном расстройстве; вдруг он вздрогнул и указал на примечательное зрелище: одинокую рыбу длиной примерно двадцать пять футов, странное создание, отчасти напоминавшее акулу. Но для акулы ее движения были слишком вялыми и замедленными, а глаза, отнюдь не по-акульи неподвижные и черные, ярко светились во тьме.
— Это сонная акула, — пояснил Малкольм. Его лицо повеселело при виде этой твари. — Глубоководная рыба. — Неожиданно он снова помрачнел. — Ее приманивают генераторы акустических волн, спускаемые на дно рыбацкими флотами. Должно быть, наверху сейчас траулер, и это создание будет мертво еще до захода солнца. Мясо ее не слишком ценится, зато от глаз, как считается во многих частях Азии, возрастает мужская сила. — Он раздраженно вздохнул. — Никогда не мог понять, отчего народы, которые не в силах контролировать прирост населения, так беспокоятся за свою мужскую силу.
Я хотел было ответить, но Малкольм предостерегающе поднял руку, призывая к молчанию. Он следил, как сонная акула грациозно плывет к поверхности океана и к собственной смерти. Потом прошептал:
— Так замечательно воочию видеть чудеса нашего мира, Гидеон, безо всяких лекарств… — Через несколько секунд, заметил я, его зубы заскрежетали, а брови страдальчески изогнулись. — …и так мучительно, — выдохнул он. По его телу прошла заметная дрожь. — От боли время сжимается… минуты, часы, дни — они истончаются. — Наклонившись к стеклу, он выдохнул: — Сколько времени я смотрю на тебя, мой бедный обреченный друг?
Казалось немыслимым переносить такие страдания, не теряя контроль над собой. Но он подождал, пока акула не исчезнет из поля зрения, и лишь затем отказался от дальнейшей борьбы, достав из кармана шприц.
— Я надеюсь, вы простите меня, Гидеон, — вымолвил он, вводя иглу в вену левой руки. Затем он откинулся назад и на минуту прикрыл глаза.
— Малкольм, — сказал я осторожно. — Позвольте мне задать вопрос. Не стали ли эти приступы сильнее или чаще?
Он кивнул.
— Если бы я мог больше отдыхать… — произнес он, открывая глаза. — Но на это нет времени. Во всяком случае, сейчас, — глубоко вздохнув, он наконец повернулся ко мне. — Вы отлично поработали на острове, Гидеон. Другие, несомненно, тоже, и все же учитывая, что это был ваш первый опыт, я счел нужным лично сообщить вам: великолепно проделанная работа.
Я облегченно улыбнулся.
— Мы с полковником Слейтоном беспокоились, что, может быть, на самом деле вам так не кажется.
— Потому что я не принимал в ней участия? Да, я сожалею об этом. Но на меня навалилось столько работы, которую я пока что способен делать, и я должен был это… предусмотреть. Но это не связано с вашими достижениями, — они исключительны. По правде говоря, все, что беспокоит меня в этом проекте, это то, что он может оказаться слишком хорош.
Я не сразу нашелся, что ответить.
— Не думал, что мистификация может быть "слишком хорошей".
— Может — если создается для того, чтобы быть разоблаченной, — отвечал Малкольм. — Эта мысль не приходила вам в голову, Гидеон?
— Какая?
— Что наша работа все же должна быть разоблачена.
Мое замешательство усиливалось.
— Я думал, в этом все и дело.
— Ну, что все дело — это вряд ли, — в голосе Малкольма слышалось явное разочарование, ставшее еще заметней, когда он с досадой круто развернул свое кресло. — Едва ли полдела! — продолжал он; лечение восстанавливало как его силы, так и его страстность. — Это наше «открытие» было частью общего плана — ведь эти фальсификации мы сеяли повсюду лишь для того, чтобы привлечь внимание к опасностям нашего времени, а вовсе не для запудривания мозгов!
Я пожал плечами и попытался успокоить его.
— Это неизбывная дилемма, Малкольм. Лишь по-настоящему качественная мистификация послужит делу, о котором вы говорите, — но в то же время качество подделки помешает разоблачить обман. Полагаю, что разоблачением дела ваших рук вам придется заняться самому.
— Я пробовал! — взорвался он. — Наверняка Лариса рассказала вам: мы дали понять американцам, что снимки убийства Форрестер были подделкой. И что? Над Афганистаном до сих пор кружат эти мерзкие беспилотные штуки! А на прошлой неделе я разослал сообщение о письмах Черчилля в английское и немецкое посольство, и какова же была реакция? От немцев — отказ, ведь они не заинтересованы в раскрытии этой мистификации, а англичане, мол, не готовы шокировать публику такими извращенными, эгоистичными, а главное, ничем не подкрепленными опровержениями! — Он с трудом овладел собой. — Я не рассказывал об этих мыслях остальным, Гидеон, и я хочу просить вас не передавать им эти мои слова. Но порой я сомневаюсь в целесообразности всего нашего плана. Нам требуется другое лекарство, лекарство посильнее — и мы должны действовать решительнее.
Припоминая его «пунктик» насчет секретности, я постарался ничем не выдать своего удивления.
— Это то, над чем вы сейчас работаете?
— Нет. — Твердость его тона была поразительной, и черты лица мгновенно разгладились; затем он несколько раз потряс головой, явно чувствуя себя не в своей тарелке. — Это всего лишь возможность. — Он с силой ударил по подлокотнику кресла. — Я не хочу это обсуждать! Я просто хочу, чтобы вы с полковником придумали что-то вроде гарантии. Я хочу быть уверенным… — Он развернул кресло так, чтобы видеть мое лицо, и поднял палец. — Я хочу быть полностью, абсолютно уверен в том, что нас в конечном счете разоблачат. Мы заходим куда дальше, чем с убийством Форрестер, — мы же дразним самый дух сильнейшей нации мира, страны, которой даже не нужно рисковать жизнями своих солдат, чтобы навязать всему миру свою политическую мораль. И мы должны проделать все очень точно.
Было непросто принять эту мысль после стольких попыток добиться того, чтобы наша мистификация стала венцом правдоподобия; возбужденный своей работой, я хотел было поспорить с Малкольмом, но неожиданно из динамиков послышался голос Тарбелла:
— Гидеон! Ты где, в башне?
Смущенно взглянув на Малкольма, я нажал кнопку на клавиатуры.
— Я в обзорном куполе, Леон. Я тебе нужен?
— Нет, оставайся там, я сейчас поднимусь, — последовал ответ. — У меня есть для тебя кое-что интересное.
Эту очень неловкую минуту ни я, ни Малкольм не произнесли ни слова; затем он сказал очень тихо и с некоторым раскаянием:
— Я знаю, Гидеон, что все это может показаться странным. И я понимаю, что должен чувствовать человек, вложивший в это дело столько, сколько вложили вы. Но существует огромная опасность, что эта фальшивка превратится в историческую аксиому, так как может обмануть сразу и всех. Я виновен в этом так же, как и вы. Именно поэтому…
— А, вот ты где! — Это был Тарбелл, прыжками поднявшийся по лестнице из поста управления. — И вы тоже, Малкольм, — это может представить для вас некоторый интерес, так как касается нашего старого приятеля, мистера Прайса.
Лицо Малкольма вновь потемнело, на этот раз еще быстрее.
— О чем вы, Леон? — спросил он со страхом.
— Гидеон — или, вернее, его друг мистер Дженкинс — наткнулся на результаты одного из проектов, над которым работал Прайс. Мы предполагали, что это был фильм, но теперь, Гидеон, я не так в этом уверен. — Метнувшись к терминалу, Тарбелл уселся перед ним и вызвал что-то на экран. Я поспешно последовал за ним — впрочем, не так поспешно, как Малкольм.
— Вот, — сказал Леон. — Расшифровки. После того вечера, Гидеон, я запрограммировал глобальную систему слежения вылавливать любые сообщения, содержащие комбинации слов «Дахау» и "Сталин".
Тут Малкольм резко выдохнул — негромко, Тарбелл даже не услышал, но я на него взглянул. Он вжимался спиной в свое кресло и выглядел хуже, чем когда-либо. Однако же было очевидно, что это не физические страдания.
— До сих пор мне не везло, — продолжал Леон. — Но затем последовало несколько результатов, один за другим. И все — от израильской разведки. — У меня вдруг отчего-то противно засосало под ложечкой: я вспомнил ту ночь, когда полковник Слейтон сидел и слушал взволнованные переговоры агентов Моссада о террористах и немецком концентрационном лагере. — Разумеется, они знают о съемке, — радостно продолжал Тарбелл. — Что странно, так это то, что они, кажется, считают ее подлинной! Сейчас десятки их оперативников ищут одного своего приятеля, которому впервые удалось получить полный вариант съемки. — Возбуждение Тарбелла начало спадать, глаза сузились. — И вот это и непонятно. Почему им понадобилось разыскивать одного из своих же людей…
— Его имя. — Это был Малкольм, которому наконец удалось справиться с шоком и заговорить.
Тарбелл повернулся к нему.
— Простите, Малкольм, — что?
— Его имя, черт побери! — закричал Малкольм, стиснув подлокотник кресла пальцами так, что они побелели.
Тарбелл от неожиданности отшатнулся.
— Я… я не знаю. Они его не упоминали. Я бы сказал — намеренно не упоминали.
Быстрым движением Малкольм придвинул свое кресло к экрану. Несколько секунд он изучал его содержимое, затем крепко сжал плечо Леона. — Соберите всех внизу, Леон, — сказал он, пытаясь сдержать распиравшую его бурю чувств. — Немедленно, прошу вас.
Тарбелл все понял и мгновенно исчез, чтобы выполнить приказ. Когда он вышел, Малкольм с пустыми, широко раскрытыми глазами повернул свое кресло прочь от экрана монитора и медленно поехал обратно, к прозрачной стене.
— Малкольм? — в конце концов произнес я. — Что это?
— Вы сумели взломать код этих изображений? — спросил он так же тихо.
— Макс сумел, — ответил я.
На секунду кивнув, Малкольм прошептал: "Он был отличным специалистом в своем деле, ваш друг мистер Дженкинс…"
— Хотите, чтобы Леон принес этот диск?
Малкольм поднял руку.
— Без надобности. У меня есть полная версия.
Ситуация начала проясняться, и я снова ощутил неприятный озноб.
— Значит, Прайс все же сделал их для вас.
— Да, — прошептал Малкольм, снова кивнув. Последовало долгое молчание, а затем он продолжил. — Ну, Гидеон, боюсь, что вашему проекту насчет Вашингтона придется подождать. Если я прав… — Он опустил голову и обхватил ее руками. — Но я должен ошибаться. На самом деле, Гидеон, мы должны молиться, чтобы я оказался безумцем, каким иногда кажусь.
Глава 27
Безумец или нет, Малкольм оказался прав в испугавших его подозрениях касательно таинственных переговоров израильтян, где шла речь об изображениях Сталина. Когда мы собрались в нижней носовой палубе за столом, служившим нам то для ужинов, то для совещаний, Малкольм показал нам полную версию этих изображений и рассказал об их происхождении; и хотя всего несколько месяцев назад я с трудом представлял себе степень опасности, которую несет такая, казалось бы, случайная частица визуальной документации, теперь я был достаточно осведомлен о могуществе умно представленной дезинформации, чтобы понять, что мы лицом к лицу столкнулись с возможной катастрофой.
Сами по себе фотографии были довольно обычны: всего-навсего несколько отдельных снимков Иосифа Сталина, осматривающего различные части концлагеря Дахау и сделанных приблизительно в конце 30-х годов. Дахау был первым из крупномасштабных немецких лагерей уничтожения промышленного типа, а советский правитель был заснят на фабрике смерти, разглядывающим пленников за работой, жестоких охранников, казни и последующую ликвидацию трупов. Все это он рассматривал с явным одобрением, порой даже усмехаясь, затягиваясь трубкой и обмениваясь разговорами и шуточками с высокими эсэсовскими чинами, в числе которых на одном из снимков был Генрих Гиммлер. Из фотографий становилось ясно, что советское правительство проводило геноцид не только на собственной территории, но перед вторжением Гитлера в Россию приняло участие и в нацистском холокосте.
— Но для чего это понадобилось, Малкольм? — спросил Иона, как и все мы глубоко озабоченный увиденным.
— Русская власть деградировала от обычной нестабильности к опасной, даже абсурдной, — заявил Малкольм, крепко сжав рычаги кресла. — Захватив власть, правое крыло использовало в четырех мятежных регионах ту же тактику, что сравняла с землей Чечню. Ядерное оружие и технологии разрушительной силы продаются любому, у кого достаточно валюты. На полях и фабриках используется фактически рабский труд, а токсичные и ядерные отходы сбрасываются в неглубокие хранилища в Сибири, отчего растет сепаратистское движение в этом регионе. Каждая новая проблема наращивает ошибочность решений центрального правительства, и сегодня все выглядит так, словно Россия становится той самой "черной дырой" современного мира, крах которой утянет за собой всю цивилизацию. Но эта самая цивилизация ничего не предпринимает! Зарубежные инвестиции в Россию взлетели до абсурдно высокого уровня, но никто до сих пор не отважился высказать правду вслух: информационные и телекоммуникационные компании на российском рынке раздуты больше всех. Аргумент, будто займы и инвестиции принесут реформы, был и остается одной из выдумок, извлеченных из аналогий с китайской моделью. Вложение денег в такой ситуации подобно попытке залить огонь бензином. — Он перевел дух и откинулся назад, его гнев начинал потихоньку угасать. — Другими словами, я полагал, что может быть востребовано некое общедоступное переопределение места России в мире и в историческом процессе.
— Для ваших целей было бы трудно подобрать более… провокационную тему, Малкольм, — произнес Тарбелл, и в его голосе не было ни капли удивления или иронии.
Малкольм мрачно кивнул.
— Или худшего кандидата на выполнение этого задания, как выяснилось позднее. Я нанял Джона Прайса, поскольку ни у кого из нас не было такого опыта в сфере обработки изображений, как у него. Но я всегда сомневался в нем. Не только оттого, что он был "свободным художником", хотя и это меня очень беспокоило. Но нанимать людей из тех мест, где предательством приправляют все блюда дружеского застолья… Это был мир моей матери, и уже поэтому следовало держаться от него подальше. Но я думал, что мы сможем контролировать Прайса.
— Я полагала, что мы его контролировали, — сказала Лариса. Ее тон ясно давал понять, что она ни на секунду не сожалеет о том, что стала палачом Прайса.
— Иногда, Лариса, — сказал Малкольм, — смерть человека не кладет конец исходящей от него угрозе.
— Что же это была за угроза? — спросил я, обводя глазами стол.
— Я изучил переговоры, перехваченные Леоном, — ответил полковник Слейтон. — И если сопоставить их с теми, что слышал я сам, то ситуация паршивая. Хуже того, она расширяется подобно лесному пожару. Израильтяне явно озабочены каким-то необычным откликом террористов на эти новые разоблачения насчет холокоста, причем отклик этот судя по всему, пойдет от одного из их собственных агентов. Вероятно, от того, кто обнаружил фотографии.
— Фанатик? — спросил Эли. Малкольм кивнул с таким выражением, что стало ясно: он винит сам себя.
— Вот почему я вначале заморозил этот проект и лишь затем рассказал о нем вам. Я понял, что есть исторические события, которыми нельзя даже пытаться играть, такое неистовство эмоций они вызывают. Сейчас мы говорим о том, что, вероятно, стало самым черным моментом человеческой истории. Даже пытки и зверства Средневековья не могут сравниться с этим… систематическим безумием. — Малкольм потряс головой. — Этот человек, возможно, потерял семью в холокосте. Или, может, лишился душевного равновесия, просто размышляя над этим.
При этой мысли меня обуял ужас: это было не просто похоже на правду. Более того: мне доводилось иметь дело с похожими личностями, и я знал, на что они были способны.
— Каким бы ни было объяснение, — продолжал Малкольм, — сейчас этот человек пополнил ряды тех, кого мир должен страшиться более всего и тех, кто в первую голову отвечает за холокост: фанатиков.
— В отличие от большинства разведслужб, — сказал полковник Слейтон, — Моссад просто кишит ими. Но они очень старательно замалчивали имя этого человека в переговорах, где не гарантировано отсутствие прослушивания. Наверняка касательно этого есть внутренняя инструкция.
— Это понятно, — рассудил Фуше. — Отношения Израиля и Америки весьма напряжены с тех самых пор, как Израиль выступил в турецкой гражданской войне на стороне курдов. Возможно, что у них не было выбора, ведь они зависят от воды, текущей с курдских территорий, но это ничего не меняет в том, что Турция остается союзником Америки.
— Я проверил переговоры ЦРУ, — сказал Тарбелл. — Никто, думаю, не удивится, если я скажу, что они знают еще меньше нас. Они в курсе того, что у Израиля проблемы с одним из их собственных людей, но никто не понимает, в связи с чем. А когда ЦРУ блуждает в потемках, что ж… беда идет своей дорогой.
— Но это не наша дорога, — твердо сказала Лариса. — А вот об этом израильтянине и вправду стоит поволноваться. Кто он такой? А для начала — как он сумел добыть эти снимки?
— И что он собирается с ними делать? — добавил Малкольм. — Мы должны ответить на эти вопросы. Не израильтяне, не американцы, не кто-то еще. Я хочу, чтобы именно мы нашли этого человека, надежно спрятали копии его фотографий и прикончили его.
Жесткий финал этой реплики застал меня врасплох.
— Но… когда снимки будут у нас, мы можем сдать его их же людям, — сказал я.
— Нет, — возразил Малкольм с той же холодной решимостью в голосе. — Вернувшись в Израиль, он начнет болтать и распускать слухи, а это еще хуже, чем сами снимки. Ну а если он исчезнет, — или еще лучше, если до того, как он исчезнет, мы заставим его сообщить своему начальству, что снимки поддельные, — тогда все быстро забудется.
Я взглянул на окружающие меня лица. Я понимал, что в словах Малкольма есть резон, и все же надеялся, что кто-нибудь возразит ему.
Желающих, однако, не нашлось.
— Где мы начнем? — официально вопросил Фуше.
— К несчастью, — сказал Малкольм, — если бы в нью-йоркской резиденции Прайса оставалась какая-нибудь информация, то, думаю, его жена предоставила бы ее Гидеону. Значит, остается… — На его лице появилось глубокое отвращение.
— Лос-Анджелес, — кивнул Иона.
Слейтон побарабанил пальцами по столу.
— Это будет непросто — в городе беспорядки, как и во всей южной Калифорнии.
— Снова вода, — согласился Эли.
— Да, — сказал Малкольм, — но у нас нет выбора. Установите курс так, чтобы приблизиться к Лос-Анджелесу со стороны моря, полковник, — мне бы не хотелось, чтобы нам помешал кто-нибудь вроде Национальной гвардии или ополчения. Люди, которые так долго живут при нехватке воды, могут оказаться похуже любых фанатиков-националистов.
— Понял, — ответил Слейтон, вставая.
— Давайте надеяться, что это будет просто, — произнес Малкольм, пока остальные поднимались вслед за Слейтоном. Я выходил из комнаты последним и был уже у двери, когда услышал его негромкое бормотание: "Как бы то ни было, давайте еще раз понадеемся на невозможное…"
Глава 28
События, что привели к "водной войне", в последние пять лет охватившей весь юго-запад Америки, сегодня изучены так хорошо, что вряд ли найдется человек, не знакомый с их подробностями. Правда, это предположение находится в противоречии с тем, что чрезмерное развитие пригородов, изначально принесшее хаос и насилие в самый солнечный уголок Соединенных Штатов, продолжается и в других таких же теплых и засушливых частях мира. И, возможно, в этом случае, как и во многих других, было бы неверно принимать историческую осведомленность за нечто иное, нежели интеллектуальную суету. Как бы там ни было, эти страницы пишутся вовсе не за тем, чтобы описать зачин этих жестоких стычек. Я лишь хочу рассказать, что вышло из наших попыток отыскать в пересохшем Лос-Анджелесе связь между Джоном Прайсом и неизвестным агентом Моссада, который сначала наложил руку на снимки Сталина, а затем бежал от собственного народа.
Следуя указаниям Малкольма, мы остерегались неба южной Калифорнии, не оттого, что там нас ждала опасность, но лишь в силу полной непредсказуемости ситуации. Повсюду подразделения Национальной гвардии (а в некоторых случаях и федеральные войска) тщетно пытались навести порядок среди сражений между бандами и отрядами ополченцев, каждый из которых был свято уверен, что именно их городок или округ имеет самое законное право претендовать на когда-то общую воду. Сражения эти велись то палками и ножами, то с помощью танков и переносных ракетных комплексов, захваченных в стычках с федеральными или местными войсками. И хоть было крайне сомнительно, что наш корабль поразит один из этих снарядов (особенно сейчас, когда мы могли путешествовать под прикрытием голографического щита), лучше было последовать голосу разума и приблизиться с моря. Поэтому мы на полчаса или около того взмыли в стратосферу и дождались темноты, прежде чем спуститься до крейсерской высоты полета над Тихим океаном неподалеку от острова Каталина.
Во время этого спуска мы получили серию снимков со спутника, из которых узнали, что, хотя на улицах Лос-Анджелеса все еще много сил калифорнийской Национальной Гвардии, в самом городе к югу от гор Санта-Моники царит относительное спокойствие. Севернее этой линии, однако, наша разведка с воздуха обнаружила скопление "горячих зон", показывающее, что жители долины Сан-Фернандо (которые первыми испытали на себе нехватку воды) бунтуют и выступают против властей с присущей им безумной решимостью. К счастью, наш путь лежал в фешенебельную западную часть Лос-Анджелеса, начисто лишенный стиля и вкуса город в городе — Беверли-Хиллз, где находился столь же ужасающе безвкусный дом Джона Прайса.
Голографический проектор помог нам замаскировать корабль под окружающую среду. Так проникли мы в этот маленький богатый городок. Разведгруппа в составе полковника, Ларисы, Тарбелла и меня самого направилась в общественный парк. Оттуда мы прошли по обсаженным пальмами улицам и довольно легко проникли в дом Прайса, который, как участник расследования убийства, все еще оставался в распоряжении полиции. Несколько часов поиска принесли нам всего одну зацепку, которая казалась по меньшей мере обнадеживающей. Тарбелл, копаясь в безобидных на вид документах, сумел найти записку от некоего Ари Мачена, известного кинопродюсера израильского происхождения. По сообщению полковника Слейтона, у Мачена были связи в различных департаментах правительства Израиля и, в частности, в Моссаде. Мы забрали с собой записку с дразнящими упоминаниями о "русском деле" и покинули здание, весьма старательно избегая столкновений с вооруженными до зубов полицейскими, что патрулировали район с псами, натренированными на вынюхивание запасов воды. Расхищение и незаконное хранение воды процветали везде, даже в Беверли-Хиллз.
Вернувшись на борт корабля, мы ретировались на безопасную высоту, чтобы сложить воедино обрывки сведений и составить близкий к истине сценарий тех нескольких дней, что Джон Прайс провел в Лос-Анджелесе, прежде чем улететь в Нью-Йорк навстречу своей гибели. Задача стала куда легче, когда Тарбелл восстановил архив электронной почты нашего героя и обнаружил переписку между гением спецэффектов и Ари Маченом. Письма эти были составлены в очень осмотрительных выражениях. Любой, кто не видел фотографий Сталина, счел бы эти послания рутинной перепиской продюсера с одной из важных шишек киноотрасли. Но нам были известны и сталинские материалы, и связи Мачена в Израиле, поэтому не составило труда определить, что Прайс показал снимки Мачену, не уточнив притом, что это подделка. Потрясенный Мачен связался со своими друзьями из Моссада, руководившими студией, где Мачен на тот момент вел дела. С учетом того, как сильно за последние тридцать лет выросло влияние индустрии развлечений на американскую политику, правительство Израиля — как и некоторых других стран, по словам Слейтона, — сочло нужным иметь своих людей в коридорах власти Голливуда.
Прайсом повелевала жадность: за экземпляр фотографий Мачен пообещал ему целое состояние, — поставив, однако, условие, что Прайс не оставит себе копий. Попытка обмана, было сказано Прайсу, чревата визитом в его дом неких гостей, которые будут просто счастливы его прикончить.
Из тона переговоров становилось ясно, что Мачену нравилась роль учтивого и крутого сионистского агента. Слейтон разделял это мнение. Дело в том, что их с Маченом пути пересеклись несколькими годами ранее на одной из вашингтонских вечеринок с коктейлями. В тот вечер Мачен похвалялся тем, что некогда был агентом Моссада, что на его счету убийства нескольких палестинских лидеров и что из лаборатории в Лос-Аламосе, Нью-Мехико не без его помощи пропали несколько компьютерных дисков с жизненно важными для Америки ядерными секретами. По-видимому, Мачена в последнее время все больше бесила трещина в американо-израильских отношениях из-за поддержки Израилем турецких курдов (еще один опасный конфликт, вызванный дефицитом воды). Он использовал свое высокое положение в одной из ключевых отраслей Америки для содействия делу Израиля, а также для выполнения поручений израильского правительства, — поручений, носивших разведывательный характер.
Соблазнившись деньгами, Прайс согласился с более чем зловещими условиями Мачена по сталинским снимкам, но вскоре из-за своей неуемной алчности поплатился жизнью в споре с Ионой и Ларисой по делу Форрестер, принявшем опасный оборот. (По иронии судьбы, если бы он обуздал свой темперамент и выполнил угрозу, разоблачив подделку, и если бы правительство США поверило ему, то это еще верней послужило бы высшей цели Малкольма.) Вплоть до этого момента воссозданная нами картина событий была совершенно ясна, но у нас пока не было ответа на вопрос о том, где порвалась цепочка разоблачений, начатая Прайсом и Маченом. Знал ли Мачен лично того агента, который сейчас в бегах и прячется от Моссада? Или фотографии Сталина доставил в Израиль другой посредник, участвовавший в комбинации? Увы, на эти вопросы мог дать ответ лишь сам Мачен, поэтому я приготовился сопровождать полковника Слейтона и Ларису в Бель-Эйр, обращенный в крепость. Там, за электронными барьерами высшей степени защиты, с прошлого десятилетия укрывались самые богатые граждане Лос-Анджелеса, чтобы под охраной частных войск наслаждаться своим успехом (и целыми морями доставляемой самолетом воды).
Мне могут задать уместный вопрос: как я мог выказывать или испытывать так мало беспокойства насчет попытки, которая в случае удачи привела бы к убийству человека? Как врач, я приносил клятву не причинять вред, и, когда мы готовились нанести визит Ари Мачену на его роскошной вилле в Бель-Эйр, я сказал себе, что в любом случае не стану палачом израильского агента, даже если мы узнаем его имя и местонахождение. Но я не отрицаю, что ушел от ответа на вопрос, следует его убивать или нет. И нет мне оправдания. Тренированный человек, коего признали опасным рыцари плаща и кинжала, — это реальная угроза. Со времени, когда я ступил на борт корабля Малкольма, я неоднократно убеждался, что та якобы игра, в которую он вместе со своей командой вовлек весь мир, пахнет смертью, а это значит, что новые экономические, политические и социальные иерархии не уступают в жестокости своим историческим предшественникам.
Перед тем как мы покинули корабль, я принял поцелуй и страстное объятие Ларисы с той же готовностью, с какой я смирился с ее прошлым и с ее профессией наемного убийцы, и без единого вопроса или сомнения страстно ответил на них, готовый сделать все, что от меня потребуют. Возможно, я мог сделать иной выбор; возможно, я был должен сделать его; но держу пари, что те, кто так полагают, никогда не сталкивались с суровой реальностью союза могущественных врагов, настаивающих на том, что этот человек должен быть в тюрьме либо ликвидирован.
Вот и я никогда не сталкивался.
Глава 29
В Америке информационного века есть множество роскошных домов, где прежде обитали люди, вдохнувшие в них жизнь. Теперь эти дома в руках богатых международных проходимцев, которые не столько живут в этом мире, сколько порхают по нему, по пути хватая власть и все удовольствия, до которых дотянется их рука. Ари Мачен был именно таким человеком, а его вилла в Бель-Эйр была именно таким местом. Укрыв свой корабль от посторонних взоров, мы приблизились к ней. Стояла туманная ночь. Построенный в середине двадцатого века с редчайшим для Лос-Анджелеса вкусом, дом, казалось, просто умолял поселиться в нем и сделать его своим жилищем человека, которой посадит растения, расставит мебель и проявит индивидуальность, не нанимая «асексуальных», по выражению Леона Тарбелла, дизайнеров и декораторов. На каждой комнатке этого дома лежала печать грусти, но эта аура лишь соответствовала целям, с которыми мы сюда явились.
Выводя из строя сперва шнырявших по участку тяжеловесных охранников, а затем систему электронного наблюдения, Лариса ни разу не улыбнулась своей хищной улыбкой. Возможно, эта «работа» была для нее настолько важна, что она отказывалась смотреть на нее как на спорт. С оружием наготове, молча, мы проникли в дом и уловили признаки жизни в хозяйской спальне наверху. Вряд ли нужно уточнять, что произошло затем; достаточно сказать, что Мачен был подвержен сразу всем сексуальным неврозам, что присущи людям, чья склонность возбуждаться от применения силы с головой выдает их невероятную слабость. Одного вида странно одетых и вооруженных незваных гостей хватило, чтобы отправить нескольких орущих проституток обоих полов (Мачен никогда бы не признался в этом сам, но на ушах его гостей были клейма) в другую комнату, где Лариса и заперла их, заставив перед этим заткнуться. Мачен тем временем попытался сорвать древний «кольт» 45-го калибра с увешанной старинным оружием стены, но ему помешал Слейтон, который, как мне показалось, обошелся с продюсером крайне грубо и оскорбительно. Вернулась Лариса, и мы с ней заняли позиции у дверей и окон, не спуская глаз с участка и его окрестностей.
Слейтон же тем временем начал допрос.
— Разве вы не помните меня — или все же помните, мистер Мачен? — осведомился Слейтон, привязав хозяина дома шнуром от занавесок к его собственной кровати.
Мачен — смуглый крепыш-коротышка лет пятидесяти, с реденькими волосами и поросячьими глазками — нервно замотал головой и, пытаясь укрыть наготу, подцепил ногой простыню.
— Вы из ЦРУ? — Он попробовал высвободиться. — Вы работаете на палестинцев?
— Два самых логичных варианта, если учесть ваши прошлые подвиги, — ответил Слейтон, разворачивая стул и садясь на него верхом. — Но отложим вопрос о том, кто мы такие. — Полковник осмотрелся; казалось, ситуация и забавляет его, и внушает отвращение. — Я в восторге от вашей коллекции, — сказал он, изучая стену с оружием. — Вы полагаете, что она пригодится в вашем бизнесе? Или это трофеи, добытые в ходе героической службы родине?
— Я… Я гражданин Америки, — проговорил Мачен.
— Да, — медленно ответил Слейтон. — Не перестаю удивляться великодушию этой страны. — Он встал, подошел к увешанной оружием стене, снял старинный револьвер и открыл его барабан. — Так, — произнес он оценивающе, — полые пули. — Он принялся целиться из него в разные стороны и наконец направил дуло на Мачена.
Тот слегка дернулся в сторону и в попытке сохранить видимость того, что он полагал мужеством, заявил:
— Меня уже пытали раньше… сирийцы!
— Чудесно, — отвечал Слейтон. — Тогда вы знаете, чего ждать. — По смуглому лицу Мачена разлилась бледность, а Слейтон придвинулся ближе. — Недавно вы приобрели кое-какие материалы у нашего общего знакомого, Джона Прайса.
Снова собравшись с духом, Мачен сказал:
— Конечно. Я нанимал его несколько раз.
Дуло револьвера тут же оказалось возле его шеи, и из горла пленника вырвался невольный стон.
— Раз уж пистолеты принадлежат вам, рискну предположить, что вы знаете их свойства, — тихо сказал Слейтон. — Если я нажму на этот спусковой крючок, то оставшихся у вас мозгов не хватит, чтобы накормить кошку. Мистер Прайс уже мертв. Нам известно, что ответственность за это вы не несете, потому что ее несем мы. Поэтому отнеситесь к ситуации со всей серьезностью. Итак: у вас сохранились связи с Моссадом, и купленные материалы вы переправляли к ним. Но где-то на этом пути они были утеряны. — Слейтон взвел курок. — Где же?
— Я… — Мачен был в таком ужасе, что вместо того, чтобы пытаться прикрыться и сохранить достоинство, принялся, словно младенец, отпихивать ногами покрывало. Но его еще хватило, чтобы заявить: — Я мог бы умереть за Израиль!
— Ты и умрешь за Израиль, — заверил его Слейтон, — если не будешь со мной разговаривать. — Хныканье Мачена стало более отчетливым, и Слейтон сокрушенно поцокал языком. — Тебе же никогда в своей жизни не доводилось убивать вооруженного человека, так ведь, Ари? Те палестинцы, которых ты прикончил, были связаны, точно как ты сейчас. Потому-то тебе так страшно сейчас.
— Нет! — выкрикнул Мачен, зажмурившись. Возможности разоблачения лжи, которую он нагородил вокруг себя, хватило, чтобы заставить его подчиниться. — Один из моих контактов — Дов Эшкол… то, о чем вы говорите, я отдал ему. Но он… — Едва придя в себя, Мачен резко замолчал. Но было поздно.
— Но он исчез, не так ли? — спросил Слейтон. Подтверждения от Мачена не требовалось; теперь оставались лишь заключительные вопросы. — Что ты знаешь про Дова Эшкола? И можешь ли предположить, где он сейчас?
— Я не могу, — Мачен заикался. — Вы не понимаете… Дов…
Пока Слейтон угрожал Мачену, я пригляделся к нашему пленнику и, кажется, уловил нечто.
— Секунду, полковник, — попросил я. И спросил у Мачена: — Это ведь Эшкол угрожал убить Прайса, если он оставит себе копии, не так ли?
С явным облегчением от того, что не пришлось говорить это самому, Мачен кивнул:
— Эшкол — контрразведчик старой школы, и если кто-то из людей Моссада переметнулся или даже если просто проявил слабость, и нужно о нем позаботиться, то зовут именно его. Он… если я расскажу вам еще что-нибудь, он вернется за мной.
— Может, вернется, а может, нет, — сказала Лариса. — Зато мы уже здесь. Так что говори — откуда он вернется?
— Не знаю, — ответил Мачен, и Слейтон вдавил дуло револьвера в его череп с такой силой, что я содрогнулся. — Не знаю! — закричал Мачен. — Никто не знает! Он исчез!
— Почему? — спросил Слейтон.
— Он думал, что реакция на этот диск последует немедленно и будет жесткой, — объяснил Мачен. — Но просочились слухи, что правительство собирается провернуть все без липшего шума и даст русским шанс все объяснить. Эшкол не смирился с этим. Он взорвался и заявил, что займется этим сам. — Отчаянно пытаясь взять себя в руки, Мачен продолжал: — Вы должны понять, Эшкол не… ну, он экстремист. И еще… его прадед и прабабка пережили холокост. А другие члены его семьи не пережили.
Я снова испытал ужас, обуявший меня при словах Малкольма, ранее высказавшего такое предположение. Теперь, когда Мачен подтвердил его, этот ужас вернулся. Должно быть, он отразился на моем лице, потому что когда я повернулся к Ларисе, она посмотрела на меня с озабоченностью. Но я лишь покачал головой и постарался сосредоточиться на допросе.
— Удалось ли Моссаду хотя бы напасть на его след? — спросил полковник.
Мачен помотал головой.
— Они ожидали, что он захочет предать фотографии огласке — сбросит их в какую-нибудь группу новостей или выложит в Сеть. Они отслеживают корреспондентов с наибольшим числом контактов на Среднем Востоке, но пока что никаких результатов.
— Никаких следов с тех пор, как он исчез? — Спросил Слейтон.
— Нет, да их и не будет. Если Эшкол уходит на дно, даже Моссаду не по силам его разыскать. Он слишком хорош.
Вдруг дом наполнился низким гулом, и я было подумал, что начинается землетрясение, но затем понял, что на землетрясение это не похоже, как и на все, что я слышал и чувствовал раньше. Словно подтверждая мою догадку, Лариса тут же положила руку на воротник своего комбинезона.
— Да, братик? — Выражение ее лица ничуть не изменилось, когда она кивнула и сказала: — Понятно. — Она взглянула на Слейтона и затем на меня, прислушиваясь к низкому, растущему гулу. — Это служба безопасности Бель-Эйр — охранники Мачена должны были отдать рапорт три минуты назад. Транспорт с личным составом и отряд пехоты уже в пути. — Она распахнула пару французских окон, ведущих на балкон.
Через несколько секунд воздух снаружи завибрировал и задрожал, как раскаленное марево, затем открылось то, что казалось трещиной в структуре самой реальности. Показался Жюльен, а за его спиной корабельный коридор, и все это словно повисло в воздухе. Это причудливое зрелище было результатом частичного отключения корабельного голографического проектора и вызвало крики проституток в соседней комнате, а Мачен стал извиваться с удвоенной силой.
— Да кто вы такие? — прохрипел он.
Вместо ответа Слейтон развязал его, меж тем как Фуше энергично замахал руками.
— Бегом, быстро! — заорал он.
Мы выскочили на балкон. От гула корабля дом Мачена задрожал, и коллекция оружия с грохотом осыпалась на пол. Некоторые экземпляры при этом выстрелили, а Мачен исторг новые стоны, но наши мысли были заняты побегом. В считанные секунды Лариса, Слейтон и я оказались на борту, и корабль взмыл в воздух.
Теперь мы знали имя — а вскоре хакерский опыт и усилия Тарбелла позволили нам увидеть лицо человека, которого мы искали, жесткое и устрашающее. Из дальнейшего мониторинга служебных переговоров израильтян мы поняли, что Мачен не соврал: начальство Дова Эшкола и вправду рассчитывало на то, что мучительное чувство, вызванное у непокорного оперативника сталинскими фотографиями, найдет выход в публикации этих материалов тем или иным способом. Но все мы подозревали чуть ли не предвидели: так легко мир не отделается.
Глава 30
Не зная, покинул ли Дов Эшкол Калифорнию или даже Соединенные Штаты, мы снова искали убежища в тихоокеанских глубинах. Тарбелл, которому теперь помогали Куперманы, все еще взламывал базы данных и прослушивал переговоры американских и израильских разведок, чтобы создать полный портрет беглеца. Тем временем остальные снова собрались за столом, чтобы подкрепиться импровизированным обедом, что приготовил Жюльен, и обсудить то немногое, что удалось выудить из Ари Мачена.
Обсуждение привело к поистине обескураживающим выводам. Утверждение Мачена, что если Эшкол залег глубоко на дно, то разыскать его не по силам даже Моссаду, было очень похожим на правду, если вспомнить, что Эшкол не обнаружен и по сей день. Все мы были согласны с тем, что если поиски Израиля не увенчались успехом, то шансы Соединенных Штатов (единственная держава помимо Израиля, оказавшаяся в курсе проблемы) и вовсе стремятся к нулю. Не обнадежило нас и подтверждение интуитивного предположения Малкольма, что Эшкол происходит из семьи переживших холокост. Начальство считало этого человека крайне вспыльчивым и жестоким, и если его кровавые наклонности, которые волею случая уже обернулись против его же сограждан, берут начало в гневе за судьбу родных и нации, то вряд ли его смутят цифры жертв, когда придет время измыслить наказание для соучастников геноцида в нацистской Германии, не изобличенных ранее.
Чтобы определить, какую форму примет это наказание, потребовалась достоверная информация, и в несколько часов Леон, Эли и Иона добыли ее. С помутившимися взорами, голодные, они вошли и вывалили на стол груду записей и несколько фотографий Эшкола, каждая из которых не походила на остальные. Все это они принялись растолковывать нам, а Жюльен тем временем принес им поесть. Собранные сведения не позволяли усомниться в том, что Эшкол — крайне опасный тип, зато нам стало ясно, что наша команда преуспеет в выслеживании этого человека куда больше, чем израильтяне и американцы.
— Да, он убийца, настоящий мясник, — молвил Тарбелл, запихивая в рот еду, — но при этом он, так сказать, играет за нас.
В ответ на наши озадаченные взгляды Иона, поглощавший пищу с куда меньшей жадностью, пояснил:
— Он владеет стандартными приемами укрытия и маскировки, то есть умеет менять внешность и языки, но настоящий секрет его успеха в том, что он информационный наркоман. Он блестящий аналитик, он может изготовить любые документы, удостоверяющие личность, может получить доступ куда угодно и к чему угодно, а затем затереть все следы своего присутствия. Он умудрился надуть даже универсальную базу данных по ДНК.
— Я полагала это невозможным, — удивилась Лариса.
— Это возможно, — ответил ей Эли, — но очень, очень сложно. Фокус в том, чтобы добыть подтверждающие образцы. Если ты собираешься, скажем, путешествовать самолетом под именем человека, которого на самом деле уже нет в живых, то на регистрации ты должен предъявить образец его ДНК. Взять его лучше у того, кто хоть как-то похож на тебя. И самое важное: его смерть не должна быть отражена в базе данных. У Эшкола, похоже, имеется целая коллекция двойников и, думаю, ты догадываешься, где он их добыл.
— У убитых им оперативников Моссада, — кивнул полковник Слейтон.
— И у арабских агентов, которых он тоже не щадил, — подтвердил Тарбелл, сверяясь с записями и просматривая фотографии. На некоторых снимках Эшкол носил традиционное арабское одеяние. — Нарциссизм незначительных отличий, а? Ваш коллега Фрейд был бы доволен, Гидеон. В любом случае, некрологи им не положены, на чьей бы стороне они не выступали, и их смерть не фиксируется в базе данных ДНК. Как доноры образцов они поистине идеальны, ведь отследить их практически невозможно.
— Эшкол несколько раз попадался, — продолжил Иона, а Тарбелл вновь вернулся к еде. — Первый раз в 2011 году, ему было двадцать шесть. Расчленил тело своей жертвы, как это назвали в Моссаде.
— В этой игре такие вещи, в общем, не новость, — заметила Лариса. — Своеобразный трофей.
— Верно, — согласился Эли, снова зарываясь в свои записи, — так что они просто отпускали его с предупреждением. Несколько раз. Вот тут-то мы и можем его подцепить. Ни израильским, ни американским спецслужбам не известен modus operandi[7] Эшкола, а мы уперлись в это только тогда, когда стали делать перекрестные ссылки на имена его жертв, извлеченных из самых защищенных файлов Моссада. Эти имена были чуть ли не в каждой базе данных по передвижениям агентов, что нам удалось взломать. Выплыло несколько совпадений, затем еще несколько.
— За эти годы он выполнил несколько внеплановых поездок, — вставил Иона. — Не думаю, что это был туризм — он бы не стал так тщательно заметать следы.
— Ты утверждаешь, что он творит частную вендетту, — мрачно и негромко заметил Малкольм.
Эли кивнул.
— Неонацисты, скинхеды, арабские интеллектуалы в зарубежных университетах, которые горячо выступали против мира с Израилем, — все они погибали при загадочных обстоятельствах, когда Эшкол пребывал в их стране под чужим именем. В нескольких случаях мы можем даже определить город, где они были убиты.
Малкольм медленно кивнул, молча вглядываясь в океан за окном, как он делал всегда, когда события принимали тревожный оборот.
— Полагаешь, мы можем его выследить? — осведомился Слейтон, тут же поняв настроение Малкольма и приняв на себя роль лидера. — Используя вот этот метод?
— А мы уже приступили, — ответил Иона, радостно кивнув.
— И? — спросила Лариса.
— И, — отозвался Эли, — такое впечатление, что он действительно покинул Соединенные Штаты и направился в Париж. Два дня назад.
Последовало общее обсуждение. Отчего Эшкол должен был улететь в такое хорошо просматриваемое место, как столица Франции? Не оборачиваясь, Малкольм дал тихий уверенный ответ:
— Оружие. Ему нужно оружие.
Фуше, похоже, совсем сбился с толку.
— Но он быстро передвигается, Малкольм. Вряд ли он может себе позволить танк или даже ружье особо крупного калибра, обычные статьи французского оружейного экспорта. Взрывчатые вещества несложно достать где угодно, так почему же… — Жюльен замер на полуслове, а его глаза расширились от внезапного понимания.
Малкольму даже не было нужды видеть его лицо.
— Да, Жюльен, — сказал он. — Твои соотечественники заявляют, что во Франции было и всегда будет невозможным достать плутоний оружейного класса. Но иракцы могли достать плутоний где угодно, а механизм — в Париже. А точнее, в городке на юго-восток от Парижа.
Мы тут же поняли, к чему клонит Малкольм. В 2006-м иракский президент и давняя «немезида» Запада Саддам Хусейн решил оспорить экономическое эмбарго, уже два десятилетия наложенное на его страну. Он заявил, что владеет ядерными технологиями. Запад был потрясен нелепостью этих слов, так как новейшие данные мониторинга иракских оружейных объектов не выявили возможностей, некоторые позволили бы Саддаму сооружать подобные устройства. Чтобы придать своим утверждениям убедительности, Саддам отправил террориста-смертника взорвать боевое ядерное устройство на одной из самых процветающих курдских территорий на охраняемом союзниками севере страны. Человек был перехвачен, устройство — отобрано, и его миниатюрный механизм в конечном счете был разрешен к продаже во Франции.
— Предлагаю всем занять посты по расписанию, — продолжил Малкольм. — Берем курс на Францию — и как можно быстрее, полковник. У нас нет времени беспокоиться из-за вмешательства наших обычных противников.
Все поднялись и стали расходиться.
Эли спросил:
— А как насчет израильтян и американцев? Дадим ли мы им знать, что происходит?
Малкольм пожал плечами.
— Разумеется, но не думаю, что они поверят. Особенно если информация придет из анонимного неподтвержденного источника. Но все же сообщим. — Снова глядя на море, он добавил: — Сообщим, что этот удивительный век породил монстра — монстра, который может использовать их собственные средства лучше, чем они способны себе представить…
Еще несколько секунд я наблюдал за Малкольмом — тот бросил взгляд вниз, извлек шприц и вонзил его в руку; а я вдруг спросил себя: о ком это он? Только ли о Дове Эшколе?
Глава 31
Быстро добраться до Франции было даже важнее, чем оставаться невидимыми для ВВС США и их союзников, но осторожностью пренебрегать не следовало. Чтобы избежать обнаружения, Малкольм и Эли начали генерировать новую «подпись» нашего корабля на радарах — такую, чтобы радиолокационные отметки наземных станций слежения ни в коем случае не совпали бы с теми, что были, без сомнения, зафиксированы американцами и англичанами в наших встречах над Афганистаном и Северным морем. Эта затея потребовала подмены для Эли, дежурящего в посту наблюдения орудийной башни. Я был немного знаком с этим занятием, и Лариса весьма логично предложила мне занять пост Эли. Правда, та же логика требовала более формальных отношений, но Ларисе не составило труда ее опровергнуть, поскольку чем больше времени мы проводили вместе, тем больше ей этого хотелось, — беспрецедентный случай в моей жизни, сказал я ей.
— Почему же? — спросила Лариса со смехом, взяв меня под руку и таща по коридору в своей неподражаемой манере, такой воинственной и соблазняющей. — Твои прежние романы были настолько никудышными? Не могу поверить — нет, только не потрясающий доктор Гидеон Вулф!
— Сарказм — генетически ущербная форма юмора, Лариса, — сказал я, обняв ее за талию и крепко прижав к себе. — И что бы там ни говорили женщины про уважение к мужчинам, посвятившим себя работе, это отнюдь не значит, что они хотели бы иметь таких рядом с собой.
— Они и не должны, — откликнулась Лариса с уверенным кивком. — Нормальная женщина заслуживает куда большего, чем просто законной доли внимания.
— Как удачно, — заметил я с улыбкой, — что мне уже не вернуться назад, к прежней жизни. Выкуп, назначенный за мою голову, и все такое.
Лариса вдруг остановилась как вкопанная и повернулась ко мне с выражением неприятного удивления на лице.
— Гидеон, ты же не хочешь сказать, что действительно думал об этом.
Я пожал плечами.
— Не совсем так. Но поинтересоваться было вполне естественно.
За время нашего с ней знакомства выражение неуверенности появлялось у нее на лице довольно редко; теперь же, похоже, застыло на нем надолго.
— О, — только и сказала она, уставившись вниз, на палубу.
— Лариса? — Сбитый с толку, я погладил ее по лицу. — Я же не планировал ничего такого, мне лишь стало интересно… — Она кивнула и впервые на моей памяти промолчала. И в ее молчании было что-то невыразимо наивное и печальное, и я обнял ее и привлек к себе.
— Прости меня, — сказал я тихо.
Я должен быть умнее, сокрушенно твердил я себе, и не допускать таких дурацких промахов. Любой, прошедший то, что прошла Лариса, не позволяет себе быть настолько эмоционально уязвимым. Но будь это так, она бы гораздо спокойнее отнеслась к возможности предательства. Любой разговор, и даже простую болтовню об уходе или о расставании такие люди воспринимают как грубое бессердечие. Посему я заткнулся и продолжал держать ее в объятиях, надеясь, что это загладит мою глупость… но знал, что это не поможет.
Однако и здесь я вновь заблуждался, как это часто бывало в наших с ней отношениях.
— Все в порядке, — наконец выговорила она, тихо, но убежденно.
— Уверена? — спросил я.
— Иногда мне нравится вести себя по-детски, Гидеон, — откликнулась она, — но это не значит, что я ребенок. Я знаю, что ты не хотел меня обидеть. — Конечно, она была права; я припомнил свои недавние мысли о том, что она не похожа ни на одну из женщин, что я знал раньше, и не удержался от смешка.
Она автоматически отметила это.
— Что смешного-то, невообразимая ты свинья?
— Да есть тут один забавный момент, — спокойно ответил я. — Предположение, что это я мог бы бросить тебя.
— Верно, — сказала она, ее очаровательное самообладание вернулось к ней. — Мысль и правда абсурдная, раз уж ты об этом говоришь.
— Ладно, — сказал я, нежно ее встряхнув. — Не стоит развивать ее дальше.
Она прижалась лицом к моей груди и сказала тихо — так тихо, что я не был уверен, что это предназначалось для моих ушей:
— Ты не бросишь меня, Гидеон.
Знай я тогда, что этому эпизоду суждено стать последним в ряду благополучно завершившихся конфликтов, и знай я, каких чудовищных сложностей можно было избежать, я бы постарался растянуть его любым способом. Для начала я мог бы не обратить внимания на корабельную сирену, что принялась завывать, как обычно, очень некстати. Но, прижимая к себе Ларису я, глупец, полагал, что наши отношения не таят опасности и риска. Не в силах постичь значение этого момента, я разжал объятия. Теперь-то я понимаю, что это была одна из моих нескольких роковых ошибок; но это запоздалое понимание не облегчает мук воспоминаний.
Через несколько минут после сирены мы с Ларисой вновь шли по коридору. За углом послышались чьи-то шаги, и у ведущего в башню трапа мы лицом к лицу столкнулись со Слейтоном.
— У нас все еще нет новой «подписи», — произнес он с непонятной и нехарактерной для него дрожью в голосе. — Поздно, слишком поздно — вы-то уже их заметили? — Его слова показывали, что этот вопрос он уже задал всем членам команды. И тут же, не дождавшись ответа и ничего не объясняя, полез вверх по трапу. — Не может быть, что они все-таки построили эти штуки, — бормотал он, поднимаясь, — они же не такие идиоты!
Вслед за полковником мы забрались в башню, где он тут же направился к одной из стен и, опершись руками на прозрачный купол, вперил взгляд в окружавшую нас тьму. Я не смог найти на изогнутом горизонте стратосферы ничего вообще; у Ларисы, пристально изучавшей ту же область, результат был тот же.
— Полковник? — сказала она. — Что случилось? Вы что-то выловили на датчиках?
Слейтон кивнул, и тут же с отвращением мотнул головой.
— Птичья стая — вот что они показывают. Я бы и сам в это поверил, но какие, к черту, птицы на такой высоте?
Я подвинулся ближе к нему.
— Не могли бы вы слегка посторониться, полковник? Что это, как вы думаете, вон там такое?
Слейтон снова потряс головой.
— Смерть, доктор, вот что это такое. А самое худшее — то, что я, может, сам разработал эту смерть.
Глава 32
— Мы в Пентагоне давно носились с этой идеей, — рассказывал Слейтон, ни на миг не отрывая глаз от темного, покрытого туманом горизонта позади корабля. — Мы, видите ли, долгое время пытались разрешить проблему современных средств наблюдения. За последние пятьдесят лет выход каждой новой системы электронного обнаружения провоцировал новый виток развития технологии «стелс». А когда появились компьютеры, эта гонка пошла по нарастающей. Все крупные державы искали выход из этой ситуации, то есть новое надежное решение, но не было технологии, что сделала бы возможным такой скачок. Так было принято думать в то время. На деле же зерно будущего решения было заронено годами раньше, во время наркотической войны — "полицейской акции", как нам приказали ее называть — в Эквадоре и Колумбии. И заронили это самое зерно подразделения, которыми командовал я. — Мимолетная гордость пробежала по лицу полковника, на секунду рассеяв его мрачность. — Мы стали использовать для разведки маленькие радиоуправляемые снаряды «трутень», оборудованные множеством камер и микрофонов, и эта тактика оказалась успешной. Но мы и понятия не имели, что натолкнулись на нужное решение.
— Но какое решение? — спросила Лариса. — У этих устройство нет возможностей радара или "стелс".
— Совершенно верно, — подтвердил Слейтон, коротко улыбнувшись. — Они им не нужны, в том-то вся и прелесть. Мы все так привыкли работать с информацией электронного происхождения, что забыли про базовые инструменты, которыми наделил нас Бог — наши глаза и уши. Ими и стали наши снаряды. Когда первые эксперименты прошли успешно, мы начали улучшать их аэродинамику и уменьшать размеры аудиовизуальных устройств. Мы хотели добиться не только увеличения дальности полета, но и возможности проникать почти всюду, не поднимая тревоги. После войны слухи дошли до Пентагона, и «трутни» стали стандартом. А затем, когда десять лет назад миниатюризация основных видов оружия пошла полным ходом, выпуск вооруженных «трутней» стал неизбежен. Они управляются дистанционно и абсолютно точно сбрасывают обычный и ядерный боезапас. Так это выглядело в теории. Преимущества были очевидны, — шрам Слейтона побагровел в слабом освещении оружейной башни, а интонация снова сделалась горестной, — но очевидны были и опасности. Какой-нибудь иностранный шпион в американской лаборатории мог легко украсть не только чертежи, но и сам прототип. К счастью, конструкция оказалась просто ужасной, а ее системные проблемы выглядели неразрешимыми. Проект был закрыт еще при мне. Но, судя по всему, они его возобновили.
— А может, и нет, — сказал я. — Полковник, по всему, что мы знаем, корабль с тем же успехом мог фиксировать метеоритный дождь. Или какую-нибудь космическую пыль.
Мои попытки найти альтернативное объяснение были так жалки, что Слейтон отмахнулся от них со справедливым пренебрежением.
— Покажите мне метеориты, летящие строем, курсом на перехват, доктор, и тогда я… — Внезапно черты его лица застыли и помертвели. — Там, — сказал он тихо. Я вновь вглядывался в пространство, но не увидел причины его тревоги. Но, обернувшись к Ларисе, я обнаружил, что она сконцентрировалась на том, что видел полковник: на ее лице проступили те же мрачные опасения.
— Где? — спросил я; но вместо ответа полковник лишь повернулся, приблизился к клавиатуре на консоли управления и включил корабельную громкую связь.
— Это Слейтон, — объявил он, — «трутни» сейчас в ста пятидесяти ярдах от нас. Следует передвигаться так тихо, как это возможно. Не шуметь. Разговаривать, понизив голос. Самое важное — двигатели, Жюльен, их нужно приглушить до минимума. И пусть Иона вырубит голографическую проекцию.
Безотлагательность приказов полковника побудила меня снова обшарить глазами стратосферу, я твердо вознамерился хоть краем глаза уловить таинственные изобретения, что ввели его в такое беспокойство. И я увидел то, что и завораживало, и пугало: десятки снарядов размером с баскетбольный мяч, выглядевшие так, будто вышли из фантазий Джона Прайса. У них были большие «глаза» — вскоре я понял, что это ячейки для изощренных оптических приборов. Выступы со сложными аудиодетекторами и оперенные корпуса с системой наведения лишь усиливали сходство снарядов с гигантскими насекомыми. К тому же каждый снаряд щетинился тонкими антеннами — программируемые детонаторы, пояснил Слейтон, приберегая подробные разъяснения для общего обсуждения.
— Пожалуйста, помните, — сказал он, — если не ошибаюсь, каждая из этих штук несет на себе ядерный заряд, способный обратить в пар весь корабль. Мы продолжим движение с величайшей осторожностью.
Словно отвечая Слейтону, «трутни» вдруг метнулись вперед, окружая нас. Их многочисленные пытливые глаза выглядели весьма угрожающе. Следуя указаниям полковника, корабль постепенно снижал скорость, пока не стало казаться, что мы просто-таки ползем. Как же это действовало на нервы! От страха я с трудом контролировал свой голос и все же, понизив его до шепота, задал вопрос:
— Полковник, неужели кто-то способен пустить в ход ядерное устройство на такой высоте?
Он кивнул, пристально глядя на плавающие вокруг нас снаряды.
— Полагаю, что они снабдили «трутней» рентгеновскими лазерами — они приводятся в действие с помощью ядерной энергии, и разрушительный потенциал их огромен, но выпадение заряда минимально.
— Минимально?… — прошептала Лариса.
— На их взгляд, угроза, которая исходит от нас, перевешивает все риски, — сказал Слейтон. — Даже если они до сих пор не понимают, в чем состоит эта самая угроза. Это очень характерно для машины американской национальной безопасности, — да вы, доктор, и сами об этом писали.
— Но защитит ли нас голографический проектор? — спросил я.
— Должен, — отвечал полковник. — Невооруженный глаз примет наш корабль за безобидный сгусток атмосферного тумана.
Лариса кивнула.
— А на «трутней» проектор действует точно так же, как на глаз человека.
— То есть сила этих снарядов превращается в их слабость, — подытожил Слейтон. — Но я уже говорил, что мы не успели ввести в действие новую цифровую «подпись», так что они, скорее всего, будут прикованы к старой, пока не дождутся проявления человеческой или механической активности. Мы должны контролировать уровень шума, который создаем и мы сами, и наш корабль. — Видя, что «трутни» ведут себя спокойно и не проявляют враждебности, полковник немного расслабился. — По крайней мере, сейчас они выглядят одураченными. — Он снова позволил себе бегло улыбнуться. — Интересно, что бы сказали они там, внизу, если б знали, что преследуют не именно меня…
После эпизода с проектором напряженности у всех поубавилось; но, начав движение в гнезде «трутней», мы двигались осторожно и говорили вполголоса, как инструктировал нас Слейтон. Уже через полчаса мы слегка приуныли, но делать было нечего.
Я все еще недвижно стоял рядом с Ларисой, когда услышал ее тихий разговор с братом через вживленный коммуникатор. Она говорила мягким, успокаивающим тоном, и вскоре у меня сложилось впечатление, что прессинг общей ситуации и, в частности, то, что мы переживали сейчас, отразился на Малкольме не лучшим образом. Это чувство подтвердилось, когда Лариса попросила меня зайти в каюту брата, где он отлеживается после острого приступа головокружения. Кто-нибудь, сказала она, должен попытаться развлечь его разговором в это трудное время. Сама же она собиралась оставаться на посту, чтобы в случае неполадок голографической системы быть готовой открыть огонь по "трутням".
Крадучись, чтобы не шуметь, я спустился из башни и начал двигаться к хвостовой части корабля.
Комната Малкольма представляла собой подобие капитанской каюты старинного парусника, с широким окном со свинцовыми переплетами в дальней ее части. Войдя, я было решил, что он все еще в обзорном куполе, но тут заметил валявшееся за грубым столом перевернутое кресло. На полу в неуклюжей позе лежал Малкольм.
— Малкольм! — ахнул я быстро, но негромко: в окне по-прежнему виднелись «трутни». Стараясь не шуметь, я поставил на место кресло, а затем поднял его самого, с испугом ощутив, до чего легким было его тело. Уложив Малкольма на деревянную кровать, я ослабил его воротник и начал искать пульс.
Но сколько ни искал — нащупать не мог.
Глава 33
Малкольм пришел в сознание, но моей заслуги в том не было. Я просто еще не успел предпринять ничего, чтобы привести его в чувство, как все его тело вдруг задергалось в конвульсиях, словно от электрического шока. Затем он сделал резкий глубокий вдох и затрясся в кашле, недостаточно громком или отчетливом, чтобы привлечь внимание наших стражей снаружи. Я налил стакан воды из оловянного кувшина и дал ему отхлебнуть. Переведя дыхание, он прошептал:
— Сколько я был без сознания?
— Не знаю. Я нашел вас на полу. — Я вопросительно приподнял брови. — У вас не было пульса, Малкольм.
Он отпил еще немного воды и кивнул.
— Да, — выдохнул он, — в последнее время это приключается со мной все чаще. — Он откинулся назад и попытался расслабиться. — Один из самых непредсказуемых симптомов моего состояния — самопроизвольное отключение основных жизненных функций. Но оно никогда не длится долго. — Он с некоторым испугом взглянул на деревянный навес своей кровати. — Жаль, что я не могу припомнить, вижу ли в это время сны…
— А вы определили, что провоцирует приступы? — спросил я, чуть удивленный его отношением. — Не в переутомлении ли дело?
Малкольм пожал плечами.
— Вполне вероятно. Однако… — Он перекатился на живот и взглянул в окно, нахмурившись при виде «трутней». — Все там же, да? Ну, изнурен я или нет, а нужно возвращаться к Эли…
Но он не смог даже сесть.
— Никуда вы сейчас не пойдете, — сказал я. Он потянулся за шприцем, но я отобрал его. — Не думаю, что вам показано самолечение, приводящее к нервно-паралитическому кризису.
Еще в первую нашу встречу я понял, что гордость для Малкольма превыше всего; он желал бы забыть о своей беспомощности и, скрывая свою слабость, шел на нечеловеческие усилия. Поэтому я не знал, как он отнесется к моим врачебным предписаниям. К моему удивлению, он ответил полным признательности взглядом, словно мальчик, которому вместо школы позволили остаться дома.
— Хорошо, — сказал он спокойно. — Но мне понадобится кресло. — Он, казалось, даже воспрял, услыхав, что его принуждают отдохнуть. Но я знал, что в этом он никогда бы не признался, поэтому лишь кивнул и подкатил инвалидное кресло к кровати, позволив ему взобраться на него самому. — Спасибо, Гидеон, — сказал он, и это была благодарность за то, что я не пытался ему помочь.
— Скажите лучше спасибо, что о вас так беспокоится сестра, — сказал я. — Бог знает сколько бы вы пролежали на полу, если бы она не попросила меня спуститься. И кто знает, в каком состоянии мы нашли бы вас?
Взмахом руки Малкольм признал справедливость этого утверждения. Затем после секундной паузы он взглянул на меня с явным любопытством.
— Вы с Ларисой… наверно, вы сильно нравитесь друг другу. — Предположив, что он еще не до конца пришел в себя, я натянуто улыбнулся. — Каково это? — спросил он.
Я ожидал от Малкольма вопроса о наших отношениях с Ларисой, но не такого. Его сознание все еще затуманено, решил я.
— Вы хотите знать, каково быть влюбленным в вашу сестру? — спросил я.
— Быть влюбленным в женщину, — сказал Малкольм. — И быть любимым ею — на что это похоже?
Пока он произносил эти слова, по ясности его взгляда и речи я понял, что ошибался, и что, несмотря на слабость, он прекрасно владел собой. Осознание этого придавило мой дух словно камнем. Утрата чудеснейшей из человеческих радостей была самым ужасным из всех последствий того, что Стивен Трессальян сотворил со своим сыном. Было невыразимо мучительно видеть, что Малкольм сам не мог ответить на свой вопрос, но знать причину этого было мучительней вдвое. Отчаянно пытаясь найти ответ, который не выдал бы моей горечи, я наконец произнес:
— Между Ларисой и "любой женщиной" огромная разница.
Малкольм обдумал это утверждение.
— А вы знаете это? — наконец спросил он. — Я имею в виду — эмпирически.
— Я так думаю, — ответил я. — Во всяком случае, я в это верю. Вот что важно.
— Да, — сказал он, в задумчивости дотрагиваясь до губ. — Важная вещь, не так ли? Вера…
Около минуты мы сидели молча. Слышалось лишь тяжкое, хрипящее дыхание Малкольма. Затем он повторил:
— Вера… Я недостаточно изучил ее, Гидеон. Я сосредоточился на обманах — обманах нашего века и на своих попытках разоблачить их путем обмана. Но я должен был внимательней отнестись к вере, поскольку именно из-за веры мы оказались там, где мы есть. — Малкольм оживился, и мне показалось, что это оживление вызвано тем, что мы обсуждаем волнующий его предмет, а вовсе не улучшением физического состояния. — Что же это такое, Гидеон? Что заставляет человека вроде Дова Эшкола настолько посвятить себя тому, во что он верит, что ради своей веры он готов на любое преступление?
Эта беседа несла ему забвение от боли, и я решил делать все, что от меня зависело. Вот так, в неестественном и пугающем молчании медленно плывущего корабля, окруженного и внимательно изучаемого механическими посланниками наших врагов, мы пытались обнажить ум человека, за которым охотились.
— Вера такого рода зависит, разумеется, от многих факторов, — сказал я. — Но основным я бы назвал страх.
— Страх? — повторил Малкольм. — Страх чего? Бога?
Я покачал головой.
— Те страхи, о которых я говорю, появляются куда раньше, чем мы сталкиваемся с концепцией Бога. Людей, кем бы они ни были, с самого рождения тревожат два главных страха. Первый — страх, вызванный чувством абсолютного одиночества, изолированности от ближнего. Второй — это, разумеется, страх смерти. Неважно каким образом, эти страхи затрагивают любую из жизней, и именно они отчасти в ответе за все происходящие преступления. Даже за те преступления, что совершил Эшкол.
Я замолчал и некоторое время разглядывал Малкольма. Он качал головой и, казалось, становился спокойней, хотя его голубые глаза не отрывались от снарядов за окном.
— Продолжайте, — произнес он через полминуты. — Нам нужно знать, как действует его разум.
— Хорошо, — ответил я, — но только если вы способны хранить спокойствие. — Он нетерпеливо взмахнул рукой, что я счел хорошим знаком. — Итак, — сказал я, — большинство людей стараются потопить первый из названных страхов, то есть страх изоляции, идентифицируя себя с какой-либо группой. Религиозной, политической, этнической, неважно — этот механизм стоит даже за большей частью сегодняшнего массового производства и за самой массовой культурой. Что угодно, лишь бы это создавало иллюзию преодоления стены отчуждения и давало чувство общности.
— Что создает громадные возможности для манипуляции, — прошептал Малкольм, его глаза понимающе расширились.
— И столь же громадные возможности для манипуляторов, — согласился я. — Их также именуют лидерами. В основном они преодолевают свои собственные страхи путем создания такой категории идентичности, что подошла бы максимально большому числу людей, общим у которых будет лишь то, что все они испытывают потерянность и разобщенность.
— Мы говорим о руководителях Эшкола?
— Отчасти, но не обязательно. Его израильские командиры подпадают под категорию, которую мы только что обсудили. Это более или менее общая разновидность лидеров, включающая почти всех, вовлеченных в политические, религиозные, экономические и культурные движения. Но Эшкол? Его случай никак нельзя назвать общим, и если мы хотим понять его, мы должны перейти на другой уровень обсуждения.
Малкольм вздохнул.
— Фанатизм, — произнес он с отвращением.
— Да. Обычный лидер и его последователи используют лишь желание разорвать изоляцию, но фанатичный лидер и его сторонники привлекают в дело еще и второй глубинный страх, страх смерти. А под смертью я имею в виду тотальную аннигиляцию — полное забвение каждой составляющей части земного существования человека и его наследия. Лидер, который обещает своему народу, что приверженность его законам и учению не только объединит, но и поможет избежать смерти, достигнуть некоего бессмертия духа через достойные дела, — такой лидер обретает величайшую власть, несравнимую с обычной, и создает принципиально иной тип последователя. Такой убежденный последователь скорее всего пренебрежет большинством общепринятых норм поведения оттого, что только лидер указывает ему, что хорошо, а что нет. А определение пристойного или достойного у такого лидера может быть весьма специфичным, дабы не ограничивать характера действий, которых он сможет требовать от своих сторонников.
— Хорошо, — согласился Малкольм, забарабанив пальцами по ручке кресла. — Но в таком случае кто это? Что за лидер приказывает Эшколу?
— Я не думаю, что кто-то отдает ему приказы в том смысле, какой вы имеете в виду. Но у него есть лидеры самого худшего разбора. И о нем вы, Малкольм, упомянули сами, когда мы впервые услышали об Эшколе: это его родные. Жертвы событий, случившихся почти сто лет назад.
Малкольм был явно сбит с толку.
— Но они мертвы. И они не были никакими лидерами.
— Не в буквальном смысле, — пояснил я. — И тем большую опасность они представляют. Они олицетворяют все достоинства национального и религиозного наследия Эшкола, поскольку они мертвы так давно, что у них нет изъянов. Они требуют, в его понимании, безусловной веры — и абсолютного отмщения, такого же безжалостного, какой была их гибель. Даже если его попытка отомстить приведет его к смерти, ему обещано вечное единение в их объятиях. Весьма важно, что порочность, которую он воплощает, порочность, присущая любому фанатизму, использует атрибуты любви — ибо это дань их памяти. Эшкол — убежденный одинокий волк, и даже израильтянам известно: он реагирует лишь на один голос, коллективный голос, что в его воображении исходит от убитых предков.
— Так что, — сказал Малкольм, продолжая мою мысль, — увидев фотографии Сталина, он ничуть не усомнился в их подлинности.
Я кивнул.
— Эшкол почти наверняка обратился в параноика. У него было время проникнуться чудовищностью катастрофы, связать ее с событиями в жизни его семьи и его собственной, и решить, что она продолжается и требует его личного вмешательства. Судя по его действиям, можно утверждать: он подозревает весь мир в заговоре с целью уничтожения евреев. Самих евреев, правда, — во всяком случае, некоторых из них, — он в этом не подозревает. Паранойя создает невероятное внутреннее напряжение, которое не облегчить никакими опровержениями: он видит лишь доказательства того, во что верит. Так что, когда он увидел фотографии Сталина, он увидел именно то, что всегда хотел видеть, — свидетельство своей правоты и оправдание своих действий.
Все еще вглядываясь в снаряды, Малкольм прошептал:
— Mundus vult… — Но, по-видимому, на сей раз это утверждение не принесло ему удовлетворения, и он откинулся на спинку кресла, переводя дух. — Боже, Гидеон…
— Обо всем, что я сказал, вы уже знали или хотя бы догадывались. Меня тревожит лишь одно: сможем ли мы поймать его? Если я прав и если он действительно ни с кем не связан и может бродить по миру как призрак, не оставляя следов, тогда в чем же наше преимущество?
Малкольм сжал кулаки, но голос его был по-прежнему тих.
— Наше преимущество — мы сами. Нам это по силам. Никто не доберется до него, прежде чем…
Похоже, что Малкольм не желал договаривать, но я хотел абсолютной уверенности в том, что мы правильно поняли друг друга и положение вещей, поэтому посмотрел на него и переспросил:
— Прежде чем?…
Внезапная суета и движения за окном отвлекли от беседы нас обоих: «трутни» в беспорядке удалялись от нашего корабля в направлении, откуда пришли. Испытывая безмерное облегчение, я все же недоумевал и не находил объяснений происшедшему. Но затем из динамиков послышался голос Эли:
— Все в порядке: заработала наша новая «подпись», здесь их больше ничто не удерживало. Мы вроде как в безопасности.
Малкольм повернулся и коснулся клавиатуры у своей кровати.
— Отлично сработано, Эли. Жюльен, переходим на прежнюю скорость. Через час я хочу быть над Францией.
Взявшись за колеса кресла, Малкольм бросил на меня еще один критический взгляд.
— Знаете, Гидеон, мы с вами пришли к замечательной идее касательно того, что нужно будет сделать прежде, чем мы доберемся до Эшкола. И — я понимаю, это звучит чудовищно! — следует внушить эту идею остальным. — Он развернул кресло и направился к двери. — Может, голова этого человека и бурлит планами мести, как вы говорите, — но они умрут вместе с ним.
Глава 34
Теперь мы снова могли дать полный ход, и по желанию Малкольма всего за час достигли если не Франции, то по крайней мере Ла-Манша. Наш путь из стратосферы вниз завершился над каналом к северу от Гавра и, вновь уйдя под защиту голографического проектора, мы заняли крейсерскую высоту и пролетели прямо над городом, вдоль Сены, что текла, извиваясь, по одной из самых перенаселенных французских пригородных конурбаций. Эта местность, как и все во Франции, с каждым годом становилась все больше похожа на Америку, что отражалось в деталях и внешних признаках, выглядевших сущей нелепицей, потому что их фоном была прекраснейшая историческая часть Нормандии.
Но самым тревожным элементом этой картины было ее жутковатое освещение. Человек, выросший в американском пригороде, был с детства привычен к неясному, колеблющемуся свету, что проливался из сотен тысяч компьютерных мониторов через окна на темные улицы и дворы. Уровень преступности во Франции был ниже, и потому французы могли позволить себе освещать улицы особо утонченным образом, потакая к тому же своей нелюбви к занавешиванию окон, каждое из которых струило свет все тех же мониторов, вездесущих во Франции, в США или в каком угодно уголке цифрового мира, — свет, не просто заметный, но преобладающий.
С приближением к Парижу скопления жилых домов под нами становились все гуще, а сияние бесчисленных мониторов все ярче. Мы с Малкольмом с носовой палубы следили за тем, как меняются пейзажи внизу. Вскоре к нам присоединился Жюльен, у кого было, несомненно, больше всех поводов прийти в уныние от увиденного. Фуше признался, что давно понял: его родная страна, со всеми ее притязаниями и возражениями, на деле оказалась столь же восприимчива к недугам информационной эпохи, как и любая другая. К эмиграции его подтолкнуло не что иное, как тупое отрицание этого факта его коллегами-академиками и интеллектуалами. Но осознание это не помогло ему спокойно лицезреть, как прославленное наследие его старой доброй родины обменяли на билетик в сообщество современных технократических стран.
— Некоторые пытаются отнестись к этому философски, — сказал он, скрестив руки и теребя бороду. — Но философия лишь ужесточает обвинение. Вы читали Камю? "Для характеристики современного человека хватит одной фразы: "Он блудил и читал газеты". Теперь бы это звучало так: "Он мастурбировал и лез в Интернет". — Густые брови Фуше взмыли вверх. — Или последовательность действий должна быть иной? — Он пытался посмеяться над тем, что при других обстоятельствах могло показаться забавным, но ни я, ни, конечно же, Малкольм не разделили его шутку.
Спустя несколько безмолвных минут вошла Лариса и принесла новость если не воодушевляющую, то по крайней мере ободряющую: Тарбеллу удалось опознать находящегося в окрестностях Парижа человека, который регулярно продавал через Моссад израильскому правительству краденые технологические секреты и новейшие вооружения. Раз Эшкол летел в Париж, то его встреча с этим человеком была более чем вероятна: ведь по сведениям Леона этот субъект мог раздобыть почти все, вплоть до миниатюрных ядерных устройств.
Торговец жил и вел все дела на дорогой вилле у озера недалеко от средневекового города Труа в провинции Шампань, к юго-востоку от Парижа. Поэтому мы сохранили направление движения и увеличили скорость, прекрасно понимая, что вероятность остаться в живых после встречи с Эшколом для этого типа весьма невелика.
Мы летели быстро, однако недостаточно быстро. Едва наш корабль достиг холмистых окрестностей Труа, как Леон извлек из сети сообщения французской полиции об убийстве в доме торговца оружием. С учетом рода занятий убитого случай не стали разглашать, но даже в собственной, предположительно, защищенной переписке полиция отмечала полное отсутствие улик. Очевидно, израильтяне не спешили признаваться ни в том, что с размахом вели дела с мертвым торговцем, ни в том, что в его смерти мог быть виновен один из их собственных оперативников. Нам не оставалось ничего, кроме как запрограммировать нашу систему мониторинга на отслеживание продаж авиабилетов с вылетом из Парижа. Сопоставив полученную информацию с той, что была в базах данных Тарбелла и братьев Куперман, мы могли узнать, куда Эшкол направится дальше.
Ответ на этот вопрос для многих из нас был, мягко говоря, неожиданным.
— Куала-Лумпур? — повторил я вслед за Тарбеллом. — Малайзия? Он лезет в самый центр полномасштабной войны…
— Ой-ой, — Леон поднял палец. — Не война, а "вмешательство ООН", будь любезен, Гидеон. Они там к этому очень скрупулезно подходят.
— Хорошо, — сказал я сердито, — он собирается в самый центр вмешательства ООН, которое привело к крупнейшей мясорубке со времен Вьетнама? Какого черта?! Он что, ищет смерти?
— Вообще-то психиатр здесь вы, Гидеон, — сказал Фуше. — Этот вопрос мы должны задавать вам, non?[8]
Я нанес ему легкий, но быстрый тычок, однако он увернулся с изумительным проворством, знакомым мне еще по Афганистану.
— Не смешно! — заявил я. — Надеюсь, никто тут не думает, что и мы туда собираемся?
— Почему нет? — спросила Лариса.
— В самый центр малазийской войны?
— Ах-ах, — снова сказал Тарбелл. — Это не…
— Леон, да заткнись же! — Никто из них даже тревоги не испытывал, и это несказанно раздражало меня. — Мне напомнить вам, что в Малайзии сейчас войска всех западных стран? Настоящие войска: не ополчение и не полиция, а армии! Напомнить вам, что за два года боевых действий малайцы уже настолько лишились ума, что позволяют этим армиям хозяйничать на своей территории за плату? Вы же не ждете, чтобы я плясал от радости среди всего этого?
— Дорогой? — проворковала Лариса с легким смешком, подходя ко мне и обвивая руками шею. — Ты же не хочешь сказать мне, что ты боишься, правда?
— Конечно, боюсь! — заорал я, что еще больше ее развеселило. — Извини, просить можно многого, но это…
— Это необходимо, — заключил Малкольм, у которого был наготове еще один обескураживающий, но неопровержимый довод. — Нужно ехать, Гидеон. Есть лишь одно объяснение, отчего Эшкола потянуло в Куала-Лумпур. Малайцы финансируют военные действия участием в одном из колоссальнейших черных рынков планеты, отмывая деньги наркобизнеса Третьего мира. Они торгуют всем, от редких животных до людей, и делают гигантский бизнес на краденых информационных технологиях и базах данных. Однако Эшкола все это не интересует. Он хочет заполучить нечто иное, и это «нечто», если я не ошибаюсь, родом из Японии. — Теперь все веселье рассеялось без следа. — Японская экономика так и не пришла в себя после краха 2007 года. Япония и Малайзия шли на что угодно, чтобы восстановить экономику хотя бы частично. Ни денег, ни ресурсов на модернизацию энергетики у них нет: они все еще зависят в первую очередь от атомной энергии, и так и не смогли заглушить свои бридерные реакторы.
На лету поймав мысль, которая мне была пока что недоступна, Эли внезапно схватился за голову.
— Бридерные реакторы!
— Что? — спросил я быстро. — Что такое "бридерный реактор", черт бы вас драл?
— Ядерные реакторы, которые производят пригодный для использования плутоний из обедненного урана, — сказал Иона. — В свое время были признаны перспективными.
— Из-за проблем безопасности от этой идеи отказались почти все страны мира, — продолжил Малкольм, — а еще из-за огромного соблазна, который представляли для террористов внушительные объемы плутония, находящиеся на гражданских объектах. — Малкольм со значением глянул на меня. — Как и для людей, ведущих дела с террористами. Дельцы японского черного рынка — предположительно, без ведома правительства — регулярно продают этим людям значительные количества избыточного плутония. В…
— В Куала-Лумпуре, — сказал я, смиренно падая на стул.
— Вообще-то нет, — сказал Иона. — Столицу контролирует ООН. Большинство серьезных сделок черного рынка заключается в Гентинг-Хайлендс,[9] возвышающемся над городом, давнем прибежище азартных игр. Куала-Лумпур — единственное место, где союзники позволяют посадку самолетов, поскольку и город, и аэропорт под их контролем. Эшкол проследует сначала туда, вероятно, выдавая себя за какого-нибудь члена гуманитарной миссии, а затем перейдет фронт и направится в горы.
Я принял эту новость так, как смог — уронил голову на стол и испустил несколько протяжных вздохов. Затем буркнул:
— Ну и на что похожа малайская еда?
— Вряд ли у тебя получится ее отведать, — ответил Тарбелл. — Там вообще-то сейчас война, знаешь ли…
Глава 35
Было время, когда я рассматривал влияние африканских племенных войн на окружающую среду, испытывая одновременно и ужас, и восхищение. Те же чувства владели мной последние девять месяцев. Конечно, я знал, что эта реакция в значительной степени вызвана фотографиями стычек, разносимыми мировыми новостными службами; и все же, полностью осознавая эти манипуляции, я был поглощен и взволнован происходящим в той же мере, как и весь остальной мир. Поэтому мне не было дела до других, куда более разрушительных кампаний, развернутых против тропических лесов в других частях мира союзом лесных, сельскохозяйственных и скотоводческих фирм, что были частью огромных корпораций. Эти корпоративные монстры, в свою очередь, правили новостными службами, фокусирующими внимание публики в первую очередь на Африке и подобных местах. Уровень истребления тропических лесов, ничуть не менее важных для здоровья планеты, чем их африканские аналоги, сильно превышал все, что могли натворить даже в самых жестоких своих сражениях люди вроде моего друга, вождя Дугумбе, и его врагов. Но бизнес есть бизнес, а торговля есть торговля, поэтому мир так и не увидел последствий широкомасштабной дефолиации, кроме как в случайных свидетельствах независимых журналистов.
Такое положение вещей сохранялось до тех пор, пока не стало слишком поздно. То есть до тех пор, когда ученые начали не предсказывать, а докладывать об изменениях состава воздуха, сопровождавших исчезновение этих природных кислородных лабораторий. Глобальное разрушение атмосферы, когда мировая общественность наконец его заметила, вызвало повсеместную панику и беспрецедентное движение за спасение оставшихся лесов, отнюдь не миролюбивое, а весьма агрессивное. Результатом стало создание специальных "наблюдательных отрядов" ООН, — а на самом деле многонациональных вооруженных сил: их забрасывались в места, которые еще можно было спасти, — в Бразилию, в различные части Центральной Америки, в Малайзию.
Бразильцы и жители Центральной Америки отнеслись к этому сравнительно спокойно. Но жители Малайзии, ведомые своим древним воинственным духом, восстали против иностранного вторжения. Они решили, что не позволят отобрать один из немногих источников дохода, который остался у них после краха 2007 года, без соответствующей компенсации. На выплату компенсаций не пошла или не захотела пойти ни одна западная страна. Так вспыхнула война нового типа, война за ресурсы, в сравнении с которой поблекли вооруженные конфликты мира за нефть и воду. Правда, Восточную Малайзию удалось подавить довольно легко благодаря щедрому пожертвованию, предложенному ООН соседним Брунеем, чей султан был рад восстановить репутацию своего крохотного княжества, погрязшего в скандалах. Но в Западной Малайзии дела пошли по-другому.
Вторгшись по трем направлениям, войска ООН столкнулись с неожиданно жестким сопротивлением. Плененных захватчиков пытали до смерти, а их изуродованные тела с торчащим изо рта флажком ООН подбрасывали к линии фронта. В конце концов союзные войска закрепились в большинстве городов на полуострове, но несколько из них остались непокоренными. Эти-то города и стали каналами сообщения с горными джунглями, в которых союзники вязли, как в смертельной трясине. Сами же города стали словно магнитом приманивать мошенников и торгашей всего мира. Таков был монстр, в чью пасть волокли меня мои друзья.
Наше путешествие началось в Марселе, так как именно этот город выбрал Эшкол, чтобы покинуть Францию. Имя "Винсент Гамбон", что значилось в его авиабилете, вскоре объявилось в списке пассажиров суперэкспресса, направляющегося из Труа на юг. Как только поезд отошел от станции, наш корабль последовал за ним, под защитой голографического проектора слившись с французским ландшафтом так, чтобы Эшкол не смог нас засечь. В Марсель поезд прибыл за несколько часов до отправления самолета, так что и у нас, и у него было достаточно времени, чтобы добраться до аэропорта.
Малкольм решил, что к самолету нужно держаться так же близко, как к поезду, даже пока он еще на земле. Эта перспектива вызвала беспокойство не только у меня, но и у других членов команды. Дело даже не в трепете, испытываемом при въезде в один из самых переполненных и перегруженных международных аэропортов. Опасный настолько, насколько опасна разновидность русской рулетки, которую мы зовем "воздушным путешествием", полет на нерегистрируемом и фактически невидимом летательном средстве в самое пекло этого адского цирка казался верхом глупости. Но Лариса, правившая кораблем, предвкушала эту эскападу с таким восторгом, что мне оставалось лишь надеяться на ее генетически улучшенную скорость реакции и стараться не слишком часто смотреть вверх.
Но оказалось невозможным, поскольку это и пугало, и веселило. Я и не догадывался, что корабль, так медленно и грозно паривший над стенами тюрьмы Бель-Аил, способен на почти игривую резвость, с какой мы метались в марсельском международном аэропорту "Ле Пен" среди взлетающих, садящихся и выруливающих по взлетной полосе самолетов. Здесь было чего страшиться: темп, с которым самолеты садились и взлетали, был настолько высок, что десятки коммерческих бортов то и дело резко меняли курс, чтобы не врезаться друг в друга. Но Лариса, маневрируя в опасной близости от них, казалось, находила в этом некое извращенное удовольствие. Даже вскрикивая от испуга, я так и не почувствовал смертельной опасности, и уже через несколько минут мои вопли стали периодически перемежаться хохотом.
Так или иначе, я вовсе не расстроился, когда гигантский аэробус Эшкола, в коем была заключена почти тысяча доверчивых душ, размещенных на двух с половиной пассажирских уровнях, взмыл в небо и взял курс на юго-восток. У себя в башне мы, попав в облако выхлопа из четырех его огромных двигателей, почти ослепли. В эти напряженные минуты мы едва избежали столкновения с другим переполненным чудищем, что, сбившись с курса, явился из Африки, причем из переговоров авиадиспетчерской службы выяснилось, что никто из его экипажа не говорит ни по-английски, ни по-французски. Используя навигационный компьютер и собственный опыт, Лариса быстро вывернулась из этой затруднительной ситуации и заняла безопасную позицию чуть сбоку и сверху от самолета Эшкола. На мой взгляд, мы были все же слишком близко: через окна самолета я мог видеть гнетущую тесноту внутри самолета и стать свидетелем неожиданного появления в одном из верхних отделений нескольких живых кур, которые, похоже, пытались овладеть летными навыками.
Были и другие мучительные минуты, пока мы прокладывали свой путь через множество самых перегруженных авиатрасс мира и сквозь полдюжины временных зон. Затем, когда мы достигли востока и юга Индии, интенсивность движения начала идти на убыль. Но передышка была недолгой. С приближением к Куала-Лумпуру стаи гражданских самолетов сменились военными. Повсюду были истребители-бомбардировщики, пилотируемые и беспилотные, транспортные самолеты, самолеты-радиолокаторы и самолеты-заправщики. Солнце садилось прямо за нами, отбрасывая чудесный золотой свет так, что становились видны клубы дыма, валящие из джунглей Западной Малайзии — очевидно, союзники ООН, в попытке предотвратить уничтожение лесов малайцами, проделали эту работу сами. А может, слепыми и неспособными к логическим суждениям их сделал гнев на то, что какая-то общепризнанно слабая страна побивает их в войне не то в одиннадцатый, не то в двенадцатый раз за тридцать лет.
Как бы то ни было, по мере нашего приближения к разбитому столичному аэропорту Субанг острота конфликта становилась все очевиднее. Пока лайнер Эшкола не приземлился, нам пришлось уворачиваться не только от других самолетов, но и от артиллерийских снарядов дальнего действия, которыми били по столице со стороны того самого Гентинг-Хайлендса, куда нам, похоже, вскоре предстояло направиться.
Разрушения, что нанесла аэропорту война, не слишком-то удручали взор, потому что Субанг был одним из сооружений, выстроенных архитекторами двадцатого века с целью предвосхитить будущее; из этого самого будущего их попытки смотрелись совершенно глупо. И никто даже не расстроился, когда многие знаменитые и не менее уродливые небоскребы Куала-Лумпура, и даже двойная башня Петронас (некогда высочайшее здание мира), были повреждены или даже сметены с лица Земли. Сложнее было примириться с разрухой, царящей в историческом районе города. В колониальную эпоху Куала-Лумпур обрел чуть ли не самые лучшие в мире образцы поздневикторианской архитектуры, — к примеру, старое здание Секретариата и прославленный Мавританский вокзал. Оба эти здания уже не существовали, и мир, страдающий от нехватки кислорода, не слишком по ним горевал. Может, именно потому моя антипатия к обеим сторонам конфликта начала перерастать в настоящий гнев, когда мы со Слейтоном, Ларисой и Тарбеллом высадились на поле к западу от аэропорта.
Вскоре я начал понимать, что именно гнев наилучшим образом годится для первой встречи с Довом Эшколом. Его мы опознали сразу, как только он прошел таможню Субанга. Все мы изучили его фотографии, на которых он был в разных одеяниях, а также перечень его привычек и поступков, но бородатый, дикоглазый Эшкол выглядел куда большим безумцем, чем мы того ожидали. Одетый, как и предрекал Иона, в форму всемирной благотворительной организации "Врачи без границ", Эшкол прошел сквозь толпу потных мусульман и индусов, встречавших пассажиров этого самолета, и многочисленных военных, большими шагами, словно неприкасаемый, — как видно, им он и был. Нас не удивило, что ему не задали ни одного вопроса — какой беглец станет искать приюта в зоне военных действий? — и вскоре мы сидели в такси, в старом, вонючем, раздолбанном «лексусе», колеся по городу вслед за Эшколом. Быстро выяснилось, что его целью была обветшалая, построенная в мусульманском стиле башня под названием "Комплекс Дайабуми" — по-видимому, у Эшкола там была назначена встреча.
По дороге наш таксист начал хныкать о сомнительной этичности преследования другой машины. Интонации выдавали его желание стрясти побольше денег. Слушая болтовню таксиста, я снова вспомнил о Максе и тихо рассмеялся при мысли о том, как быстро он нашел бы общий язык с маленьким человечком за рулем. Что бы Макс сказал о моих недавних приключениях? Нет сомнений, что он восхитился бы Ларисой и жестко осудил Эшкола, ситуацию в Малайзии и многое другое из того, что мы успели раскопать. Но вряд ли он бы одобрил наши теперешние действия. Я пытался уверить себя, что это неодобрение было бы результатом бесконечного Максова цинизма и его неверия в благородство и высокоморальность чьих-то мотивов. В этом неверии Макса укрепила служба в нью-йоркской полиции. Но поиски самоуспокоения в попытке принизить философию и намерения моего покойного друга встревожили меня еще больше. Ко времени, когда мы остановились против Комплекса Дайабуми, я понял, что должен полностью выбросить из головы образ Макса.
Едва войдя в здание, мы увидели, что Эшкол уже выходит из него, сопровождаемый человеком, который, если судить по его лицу и одежде, был малайзийским мусульманином. Большинство индуистов и буддистов страны, выходцев из Индии и Китая, приняли сторону союзников, отплатив этим за годы дурного обращения со стороны исламских властей. Выбор такого спутника, как малайзийский мусульманин, свидетельствовал о том, что Эшкол и в самом деле собирается пробраться в горы, контролируемые малайзийцами.
Мы вернулись на заполненную толпами площадь перед зданием и подождали. Эшкол со своим спутником отправился в старом японском полноприводном автомобиле по Каракскому шоссе, в сторону горной вершины в милю высотой, что находилась за линией фронта и была центром Гентинг Хайлендс. Затем Лариса подала знак брату, и мы тут же оказались на темной, заброшенной площади за Национальной мечетью, где была назначена встреча с кораблем. С его борта Эли уже установил тщательную спутниковую слежку за автомобилем Эшкола. Мы продолжили свое неторопливое преследование, настроенные несколько мрачно. Наш путь лежал в крупнейший в мире центр незаконной торговли и разнузданного гедонизма, настоящий малайзийский Лас-Вегас.
Но по пути нас ожидало множество ужасов. В самом начале одиннадцатимильной трассы, ведущей к курорту и покрытой ямами от бомб, мы наткнулись на машину Эшкола и ее водителя. Неизвестному мусульманину, что провел Эшкола через пропускные пункты союзников, отплатили за это перерезанным горлом; дальше Эшкол, по-видимому, пошел пешком. Очевидно, он не был расположен оставлять свидетелей в живых, и этот вывод, как ни странно, лишь ободрил меня: это означало, что он вознамерился во что бы то ни стало выжить, и исключало возможность того, что он станет "живой бомбой" — единственно надежным способом совершить теракт.
Если бы я учел другое объяснение его действий, — то, что ему просто нравилось убивать, — я бы внимательнее отнесся к голосу, что приписал бедному Максу, и убедил бы своих товарищей повернуть назад.
Глава 36
Задолго до начала войны группа больших белоснежных отелей вокруг дорогого казино "Приют Гентинг-Хайлендс" была самым пышным, самым популярным центром азартных игр Юго-Восточной Азии. Чтобы придать курорту черты "места для семейного отдыха", со временем были построены и другие развлекательные аттракционы, отличные от казино. Но на эту уловку клюнули лишь немногие, и основным развлечением остались игорные дома, двадцать четыре часа в сутки заполненные толпами посетителей. Война повредила несколько отелей и нанесла туризму несомненный ущерб, и все же полчища стойких приверженцев азартных игр со всего мира продолжали свои набеги в Гентинг. Эти постоянные клиенты и служащие в малайской армии немусульмане (мусульманам запрещается входить в казино) не давали столам простаивать, поддерживая параллельно и вспомогательные отрасли бизнеса, — проституцию, торговлю спиртным и наркотиками, воровство, — которые издавна процветают в местах скопления людей, одержимых иррациональным стремлением расстаться со своими деньгами.
Но к 2023 году эти сравнительно заурядные и даже старомодные промыслы уже не были главным бизнесом Гентинг-Хайлендса, что стало ясно, как только Слейтон, Лариса, Тарбелл и я высадились на крыше старого заброшенного отеля "Игорный Парк", который за время войны не раз бывал под бомбежкой. На усыпанных камнями и все же бесшабашно оживленных улицах Гентинга кипела торговля, которую можно описать лишь как светопреставление. В бетонных колодцах располагались стойки с оружием, порой весьма хай-тековым, и торговцы навязчиво предлагали его отрядам малайзийских солдат, приезжим перекупщикам и террористам. Узнавая в нас иностранцев, продавцы постоянно подходили, чтобы осведомиться, не желаем ли мы купить и увезти домой «слуг» — таков был здешний эвфемизм для обозначения рабов; более проницательные мужчины и женщины вовлекали нас в негромкие беседы касательно любых высокотехнологичных устройств, которые только есть на белом свете. Бесчисленные толпы болтали, выпивали, курили, стреляли из ружей, пускали фейерверки и приставали друг к другу настолько грязно, что даже мусор на земле, наверное, был чище… И все это происходило под непрерывный аккомпанемент обстрела Куала-Лумпура из артиллерийских батарей, окружавших курорт, а гигантский передвижной радар обшаривал небо в поисках признаков авиации противника. Все вместе создавало ошеломляющую картину, особенно если вспомнить подспудную причину происходящего: желание остального мира просто продолжать дышать.
Сумятица, царившая на курорте, нас не касалась. Мы хоть и потеряли Эшкола из виду, но, достаточно зная о том, как и зачем он оказался в Гентинг-Хайлендс, были уверены, что вновь засечем его. Мы навели справки о покупке плутония оружейного класса, — подобные вопросы не вызвали ни малейшего удивления или тревоги у торговцев, к которым мы обратились, — и нам сообщили, что сделки такого рода находятся в исключительном ведении генерала Тунку Сайда. Штаб-квартира генерала располагалась в кегельбане, рядом с казино. Снаружи это здание напоминало то, чем служило весьма эффективно, — бетонное бомбоубежище без окон. Сайд, по всей видимости, принявший после начала войны полномочия военного диктатора Гентинга, присматривал также за игорным бизнесом. Но самые серьезные прибыли он извлекал не из него, а от продажи наиболее экзотического товара. У Ларисы, разумеется, с собой имелся ручной рейлган, и после краткого совещания мы решили продемонстрировать его Сайду в надежде, что желание обзавестись столь ценной технологией побудит его поделиться с нами всей информацией об Эшколе, что только у него есть.
Когда мы подходили к охранникам у кегельбана, я отметил, что мое сердце бьется совершенно спокойно и размеренно. Я знал, что за моей спиной достаточный опыт разрешения конфликтов, — особенно после Афганистана с его мусульманскими экстремистами, — чтобы совладать с любыми фанатиками, что могут оказаться внутри. (Эта бравада, само собой, покоилась на знании того, что мою спину прикроет Лариса.) Однако же солдаты на часах у входа в здание были совсем не похожи на террористов, с которыми мы столкнулись в Афганистане: их опрятная одежда и учтивое поведение среди общего безумия были особенно не к месту. Ища их доверия, мы по очереди представились, и один из охранников доложил о нас старшему офицеру, майору Самаду. Вскоре появился и сам майор, окруженный солдатами. Он выбранил охранников за то, что они не стоят по стойке «смирно», и выслушал наше предложение. Достав небольшой коммуникатор, он тихо заговорил с кем-то, кто мог быть, предположил я, самим генералом Саидом. Несколько минут спустя мы шли по темному коридору вслед за майором.
— Пожалуйста, простите этих людей, — произнес он убедительным тоном и на чистом английском. — В таком месте, как это, трудно поддерживать дисциплину.
— Это понятно, — ответил полковник Слейтон. — А вашему командиру не приходит в голову привести в порядок улицы?
— Постоянно, — вздохнул Самад, — но нашему правительству нужны деньги, видите ли. Мы потеряли последний из наших «F-117», а они, как вы знаете, полковник, и без того безнадежно устарели. Казино обеспечивают нам достаточно денег для закупки во Франции новейших противовоздушных вооружений, но для приобретения нового самолета доходов от азартных игр не хватает. Поэтому мы миримся с этим оскорблением очей Аллаха там, снаружи, — он показал в сторону центра города, — и молимся, чтобы Пророк, да будет его имя благословенно и да пребудет душа его в мире, простил нас, поскольку мы сражаемся именем его и ради триумфа истинной веры в Малайзии.
Слейтон кивнул.
— Сколько самолетовылетов в день на вас совершается?
— Мы не знаем точно, — ответил Самад, — хотя вчера, нам казалось, мы насчитали не менее девяноста семи… — Его прервал внезапный звук падающих кеглей и вежливые аплодисменты, раздавшиеся откуда-то спереди. — Ага! — просиял Самад. — У генерала, похоже, все идет отлично!
Кегельбан, в который мы зашли, был роскошно обставлен, но почти пуст. Здесь были две или три группы охранников, стратегически размещенных на большом пространстве. Возле одной из пар дорожек стояли, прихлебывая кофе, несколько очень хорошо одетых малайских офицеров. Кофе, похоже, разливали из большого расписного самовара на затемненной стойке бара. Низенький человечек — его форма отличалась лишь тем, что была выглажена лучше, чем у остальных, а галуны и знаки отличия сияли заметно ярче — отправлял по дорожке шары, один за другим. Он явно был начинающим, но недостаток умения с лихвой возмещал энтузиазмом.
Это, сообщил майор Самад, и был генерал Тунку Сайд, бич Куала-Лумпура и проклятие Объединенных Наций.
Маленький военачальник, извещенный о нашем визите, перешагнул ограждение и, ухмыляясь в аккуратно подстриженные усы, пожал руку каждому из нас, кроме Ларисы.
— Ужасно интересная игра этот боулинг, мои неверные друзья! — сказал он. Английский его был даже безупречней, чем у Самада. — Я, однако, не уверен в его происхождении: одни говорят, что это голландское изобретение, другие — что его выдумали англичане. Но, полагаю, нет никакой разницы, потому что и те, и другие в свое время правили Малайзией!
Ужасный взрыв снаружи вдруг сотряс здание, и с высокого потолка посыпались штукатурка и бетонная пыль. Еще нескольких взрывов, и мной овладело постыдное желание укрыться под ближайшей скамьей. Но генерал Сайд лишь глядел вверх, уперев руки в бока.
— А теперь те же голландцы и англичане бомбят нас, — сказал он удивленно и рассерженно. — Бомбят прекрасные здания, которые сами когда-то и понастроили в нашей стране. Неверные, можно ли представить? И ради чего? Ради тропических лесов? Ради кислорода? Чушь! — Тут он внезапно спохватился. — О, простите меня, и — не желаете ли кофе, неверные? Чаю? Может, сыграем партию? — Мы медленно направились к его игровой дорожке, которую несколько солдат очищали от камней и мусора. — Говорят, американцы — мастера в этом виде спорта, — он указал в сторону телевизора над стойкой бара, — и похоже, что это правда! — На огромном экране несколько американских профессионалов были поглощены боулингом. — У нас есть специальный канал, "Боулинг Чэннел", знаете? Их девиз — 'Боулинг всегда и везде". Конечно, он ловится лишь случайно, потому что противник постоянно глушит… — Едва он произнес эти слова, как экран покрылся снегом помех. Генерал, казалось, вот-вот закричит, но, подавив свой гнев, он лишь грустно вздохнул: — Я понимаю, что мы все на войне, неверные, но я спрашиваю вас — разве это вмешательство не кажется неуместным? Лариса шагнула вперед.
— Если позволите, генерал, думаю, я смогу помочь.
Это вызвало снисходительное хихиканье генерала, и остальные офицеры засмеялись за ним вслед.
— Вы должны простить нас, госпожа неверная, — наконец смог произнести Сайд. — Нас веселит не ваш пол, хотя ваш отец, муж или брат должны корчиться от мук позора, зная, что вы появляетесь на людях в таком виде. Но как может женщина…
Лариса жестом призвала их к молчанию и отвернулась, положив руку на воротник комбинезона и сказав что-то тихо и неразборчиво.
Генерал Сайд кивнул полковнику.
— А. Так она блаженная.
— Блаженная? — повторил Слейтон.
— В глазах Аллаха, — объяснил Тарбелл, кивая и улыбаясь своей улыбочкой. — Генерал решил, что Лариса не в своем уме.
Генерал Сайд пожал плечами.
— Она носит мужскую одежду и говорит сама с собой, доктор Тарбелл. Возможно ли, что я неправ?
— По-видимому, возможно, генерал, — констатировал я, глядя на экран телевизора. — Если вы обратите внимание…
Неожиданно трансляция боулинга возобновилась, вызвав у офицеров вокруг нас восторженные крики и аплодисменты. Я верно предположил, что Лариса попросила Малкольма через один из спутников создать устойчивый сигнал и обеспечить трансляцию канала «Боулинг» (о, как бы я хотел видеть лицо Малкольма при получении такого запроса!) прямо на Куала-Лумпур.
— Мои высокие неверные гости! — экспансивно вскричал Сайд. — Вы, право, слишком добры к нам, слишком добры! Вы завоевали нашу дружбу, пусть вы даже проклятые язычники! Скажите, можем ли мы что-нибудь сделать для вас? Майор Самад говорит, что вы разыскиваете плутоний?
— Вообще-то мы разыскиваем человека, — сказал Тарбелл, доставая страницу со своими записями про Эшкола и его фотографию.
Генерал Сайд был сбит с толку.
— Человека? Не плутоний?
— Человек, которого мы разыскиваем, прибыл за плутонием, — пояснил полковник Слейтон. — Вот почему мы пришли к вам.
В первый момент Сайд выглядел раздосадованным, словно заподозрил нас в чем-то дурном.
— И как его имя?
Тарбелл протянул ему фото и бросил взгляд в свои записи.
— Он использует имя и документы Винсента Гамбона, работника "Врачей без границ".
Как по команде, генерал Сайд и все офицеры сделали от нас шаг назад, и дружеское выражение на их лицах сменилось враждебностью. Сайд положил руку на пистолет, висевший у него на поясе.
— Этот Гамбон — он ваш друг?
— Нет, — быстро ответил я, чувствуя, что это недоразумение может легко стать фатальным. — Он наш враг. Мы ищем его, потому что он похитил у нас нечто чрезвычайной важности.
Лицо Сайда просветлело, и он убрал руку с оружия.
— Ну, в этом случае, — сказал он, — вас заинтересует то, что я покажу.
Генерал кивнул одному из офицеров, и тот повел нас к проходу за стойкой для хранения обуви. Мне послышались приглушенные крики. Офицер распахнул дверь в комнату для переодевания, и за ней обнаружился…
Эшкол. Он сидел, привязанный к тяжелому деревянному стулу, с кляпом во рту, а ноги его ниже колена были плотно примотаны к передним ножкам стула. Под его голыми ступнями на большой скорости вращалась электрическая щетка с металлической щетиной, постепенно сдирая кожу с мяса. Он сдавленно кричал, и из уголков его рта стекали струйки слюны, а безумные глаза широко раскрылись в мучительной агонии.
Когда я вновь посмотрел на генерала Сайда, то больше не видел того ухоженного, изысканного человека, который так очаровал меня минуту назад. Теперь было ясно, чего он боялся, а улыбка на его лице напомнила мне о том, что исламские лидеры много столетий пытали пленников, сдирая кожу со ступней ног.
— Вот он, ваш враг! — гордо провозгласил генерал. — И вам, неверные, без сомнения, будет приятно узнать, что смерть его будет очень медленной!
Глава 37
Я был так ошеломлен, что не мог двинуться с места, и видел, что трое моих товарищей пребывают в таком же состоянии. Мы потратили столько часов на подготовку к яростной схватке с Эшколом, что просто растерялись и не знали, что делать дальше теперь, когда мы обнаружили его в таком состоянии, да еще и в таком месте. Конечно, можно было просто закрыть дверь и позволить генералу Сайду закончить дело, начатое с таким энтузиазмом. Но при всех наших недавних заявлениях "остановить Эшкола любой ценой" никто из нас не был кровожаден настолько, чтобы обречь его на медленную смерть под пытками. К тому же когда Лариса рассказывала Малкольму о последних событиях, тот напомнил ей: мы не уверены, что Эшкол никому не рассказывал о сталинском диске. Чтобы не допустить распространения слухов, которые могут быть даже вреднее фактов, требовалось, чтобы он объявил своему начальству о поддельности снимков, а затем умер.
Один за другим мы приходили к тому, что его следует вытащить из этой комнаты, из этого здания и из этого города; но не кто иной, как хитроумный Тарбелл, понял это первым и взял ситуацию в свои руки.
— Скажите, генерал, — сказал он, равнодушно разглядывая корчащегося Эшкола, что произвело на Сайда впечатление. — Что же этот человек сделал вам?
— Он грязная свинья, доктор Тарбелл! — объявил генерал, сплюнув в сторону Эшкола. — Начать с того, что он опозорил меня в глазах моей семьи. Он хотел купить плутоний и обещал за него большую сумму денег. А затем, по дороге сюда, он убил человека, которого я послал его сопровождать. Зачем? Я не могу сказать, и он тоже не скажет.
— Он убивал и раньше, и тоже беспричинно, — объяснил Тарбелл. — Мы полагаем, что так он заметает следы. Он мог бы даже попытаться убить вас после того, как состоится сделка.
— Меня? — вскричал потрясенный генерал. — Здесь?
Тарбелл угодливо захихикал.
— Нелепо, не правда ли?
Сайд расхохотался вслед за ним.
— Нелепо! Да он же просто сумасшедший! — Вдруг смех генерала оборвался, и он глянул на Эшкола с безмерным гневом. — Но парень, которого он убил, был, видите ли, двоюродным братом моей жены. Проку от него было немного, но как я выгляжу после этого? Не только в глазах моей семьи, но и всего этого нечестивого сброда снаружи? Очень плохо, неверные, очень плохо. Кроме того… — Сайд подошел к своей дорожке и взял со стола для подсчета очков папку бумаг, — у нас есть свои пути сбора информации. Было ли вам известно, что этот ваш враг — на самом деле агент ЦРУ?
Генерал поместил лист бумаги с распечаткой на освещенный стол, и содержимое страницы спроецировалось на широкий экран над дорожкой для боулинга. Это была копия файла ЦРУ, утверждающая, что оперативник агентства под псевдонимом Винсент Гамбон проник в местное отделение "Врачей без границ" в курдском секторе Турции. Именно от курдов, как я уже упоминал, Израиль получает существенную долю своей воды, к большому неудовольствию турок и их американских союзников. Здесь могла крыться причина, почему Эшкол убил несчастного настоящего Гамбона. Сайд явно ничего об этих обстоятельствах не знал, о чем свидетельствовали его дальнейшие слова:
— Без сомнения, его истинной целью было подорвать наше здешнее укрытие — вероятно, с помощью того ядерного устройства, что мы у него обнаружили! — Сайд приподнял небольшой рюкзак с логотипом "Врачей без границ", таким же, как и на одежде Эшкола. — А устройство он собирался заряжать плутонием, который мы же были готовы ему продать! — Другой рукой генерал схватил металлический контейнер с радиоактивным материалом и воздел ее вверх; затем через открытую дверь комнаты бросил взгляд назад. — О, душа этого человека — яма порока, неверные, и я сделаю так, что он будет жалеть о каждой минуте своего мерзкого существования, пока не сдохнет!
— Очень даже понятно, — сказал Тарбелл, оглядываясь вокруг, и, как мне показалось, в уме прикидывая, сколько здесь солдат. — Совершенно понятно! — еще раз с жаром подтвердил он. Затем посмотрел на Слейтона с Ларисой, и оба они замотали головами, словно говоря, что попытка прорваться силой обречена на провал. Их оценку Леон признал неохотным кивком. — Но все же я полагаю, — продолжил он, вновь поворачиваясь к Сайду, — что вы упускаете наилучшую возможность.
— Я? — изумился Сайд. — Как это, доктор?
— Ну, я прекрасно понимаю, что вы желаете убить этого человека медленно, — рассудил Тарбелл. — Но отчего же тайно? Вы же сами говорили, что обитатели этого смехотворного места — безмозглый сброд. Почему бы не воспользоваться возможностью и не показать им ваш железный кулак?
Генерал Сайд обдумал этот вопрос и снова просиял в улыбке.
— А! Я понял вас, доктор Тарбелл, — публичная казнь!
Тарбелл ухмыльнулся ему в ответ.
— Совершенно верно.
Лицо Сайда на миг стало серьезным.
— Она должна будет быть быстрой?
— О нет, вовсе не обязательно, — заверил его Леон.
Генерал в задумчивости принялся расхаживать по залу.
— Мы могли бы устроить ее в старом театре. Они любят свой театр, эти дегенераты, и мы могли бы поставить там нечто особенное. — Он продолжал размышлять над этим. — Я мог бы распять его, — предложил он.
Тарбелл скептически задрал голову.
— Ну, — сказал он. — Это как-то банально, не правда ли? Не говоря уже о подтексте — вы же не хотите, в конце концов, выставить его мучеником.
— Да, да, правда, — Сайд снова зашагал взад-вперед, а затем остановился и повернулся к Тарбеллу. — Ну, тогда, доктор, я готов выслушать ваши предложения.
Тарбелл заговорщически отвел генерала в сторону.
— Я не уверен, что длительность смерти так уж важна. Моя идея будет такова: пусть ваши люди выведут его на высокое открытое место, предварительно переодев в вашу собственную форму.
— Мою форму? — запротестовал генерал. — Но зачем нужно…
— Полагаю, — успокоительно вставил Тарбелл, — что американцы держат вас под постоянным спутниковым наблюдением?
— О, клянусь пророком, мир ему и благословение Аллаха, это воистину так! — Генерал Сайд мгновенно разволновался. — Двадцать четыре часа в сутки! Я практически не могу покинуть это место… — Вдруг он замолчал, поняв идею. — А! Блестяще, доктор Тарбелл! Воистину, для неверного это чудесная мысль! — Он прошел в комнату для обуви и принялся изучать Эшкола. — Надо будет сбрить его бороду, подстричь усы, но иначе, чем сейчас…
Я не понимал ровным счетом ничего.
— Подстричь усы? — переспросил я. — Для чего?
— Чтобы американцы приняли его за генерала Сайда, — объяснил Слейтон с улыбкой, уловив нить мысли Леона.
— И тогда, — подвела итог Лариса, глядя на Тарбелла с радостным восхищением, — они убьют его сами; достаточно будет единственной ракеты, управляемой со спутника.
Сайд изумленно уставился на Ларису.
— Превосходное понимание! На самом деле, если учесть, что вы и не правоверная, и женщина, для вас это вдвойне превосходно!
Терпение Ларисы было на исходе, и Тарбелл это видел: он быстро взял генерала под локоть и увел его в сторону со словами:
— Его смерть станет не только уроком для всех здешних подонков, но и убедит американцев в том, что вы мертвы — и они приостановят спутниковое наблюдение.
— И я смогу выбираться наружу! Блестящий во всех отношениях план! — Сайд повернулся к своим офицерам и принялся отдавать приказы. — Мы воспользуемся крышей отеля "Игорный Парк", и пусть эти дураки взрывают то, что от него осталось. Сообщите управляющему казино, что через час игра должна быть приостановлена. Клиентов выгнать наружу, если понадобится — под дулом автоматов, а всех людей на улицах тоже согнать на площадь, чтоб смотрели!
В вихре этих лихорадочных действий Слейтон тихо сказал нам, чтобы мы следовали за ним в комнату для переодевания. Там я приладил вращающуюся щетку так, чтобы она больше не касалась ступней Эшкола, а Слейтон тем временем прошептал на ухо пленнику:
— Продолжай кричать, или нас всех прикончат. — С прекращением мук черты Эшкола расслабились, но после слов Слейтона снова напряглись. — Слушай, Дов Эшкол, — продолжал полковник. — Мы знаем, кто ты, знаем, зачем ты здесь, и знаем, каков твой план. Но если ты хочешь избежать того, что генерал задумал сделать с тобой, делай все, что тебе сказано. — Эшкол быстро кивнул в перерывах между сдавленными воплями, а Слейтон обернулся к нам. — Нам нужен его рюкзак — мы не можем оставить такое устройство этим людям. Хорошо бы прихватить и плутоний тоже. Лариса, передай брату, чтобы забирал нас с крыши казино примерно через час.
— А что будет, когда генерал не получит обещанной казни? — спросил я.
— Гидеон, в самом деле, — рассердился Тарбелл, — ну что за вопрос! Когда генерал поймет, что его драгоценная казнь не состоится, мы уже будем на борту корабля и далеко отсюда.
— О, — сказал я, когда мы вернулись в комнату. — Да, ну конечно. — При этой мысли я вздохнул чуть свободнее и ободряюще хлопнул Тарбелла по спине. — Отличная работа, Леон! Ты бы сумел продать лед эскимосам, дружище!
Тарбелл рассмеялся тихо, но с обычным сатанинским удовлетворением.
— Да, — согласился он, взглянув на меня, — это и впрямь почти пугает, не правда ли? Ничего не могу с собой поделать, Гидеон. Большой риск, блеф, когда на карту поставлено все, — они так сексуальны! В эти моменты я и впрямь думаю, что могу уболтать кого угодно и на что угодно!
Даже сейчас, сидя в ожидании, пока рассветные лучи пробьются сквозь африканскую тьму, в пламени горящего передо мной светильника я вижу ухмыляющееся лицо моего блестящего и странного маленького друга; и хотя видение заставляет меня улыбнуться, я содрогаюсь в печали. Есть один бесполый дух — зловещий предвестник смерти, которого даже Леон не мог бы убедить отказаться от злого намерения. Пока мы смеялись, этот дух парил неподалеку.
Глава 38
Удачным наш план станет, лишь если Эшкол сможет идти. К тому же мучения, на которые генерал Сайд обрек своего пленника, пробудили во мне нечто вроде сочувствия — пусть этот человек заслужил презрения за все, что сотворил. Вот две причины, по которым я старался, как мог, хорошенько очистить, обложить ватой и забинтовать кровоточащие ступни Эшкола. В своем отвращении к пыткам, которые он претерпел, я позабыл, что человек с его подготовкой и темпераментом мог бы бежать и на кровоточащих ногах, если бы решил, что это послужит его фанатической цели. То, что я сделал, было не милосердием, а глупостью, и лишь я один должен был поплатиться за ошибку. Если б так и сталось, то в свершившейся за этим трагедии был бы хоть какой-то смысл, пусть даже извращенный.
В час, назначенный для смерти Эшкола, все мы потянулись за майором Самадом к месту казни, на крышу того самого заброшенного отеля, где мы высаживались. Следуя разумным советам Тарбелла, малайцы соорудили на крыше фальшивый командный пункт, из которого генерал Сайд якобы отдавал приказы войскам. Полковник Слейтон был почти уверен, что мы уже под наблюдением спутника: ведь США за последние тридцать лет накопили колоссальный опыт операций дальнего наблюдения в процессе попыток определить местонахождение неуловимых лидеров противника. Когда мы вернулись к Сайду, предусмотрительно оставшемуся вне зоны видимости в полуразрушенном номере на первом этаже отеля, полковник объявил, что правдоподобие сцены и реквизитов непременно обеспечат желаемый результат. Генерал Сайд был счастлив услышать такое заверение от собрата-офицера, и велел своим людям привести Эшкола.
Все шло по плану. Пленник был в форме, очень похожей на форму Сайда, а растительность на его лице в точности соответствовала образцу. Генерал выразил некоторое беспокойство насчет явной разницы в весе между ним и его двойником, но Слейтон сказал ему, что это не имеет значения, ведь американские спутники вряд ли заметят разницу при наблюдении сверху. Полковник и Сайд продолжили углубляться в подробности деталей операции, все больше и больше напоминая двух коллег, что окончательно отвлекло генерала. Пока генерал Сайд был поглощен разговором, Лариса и Тарбелл незаметно вернулись к кегельбану, чтобы забрать рюкзак Эшкола и контейнер с плутонием. Вскоре они вернулись с обоими этими предметами, но то, что показалось тогда нам удачным ходом, обернулось позднее грубым промахом.
К десяти вечера генерал объявил, что пора начинать: люди Сайда должны были отвести Эшкола на крышу и там привязать его к тяжелой бетонной плите. Когда мы вышли наружу, то увидели, что небо вокруг курорта наполнено красивой дымкой, которая широким ореолом окружила часть звездного неба над нами. Внизу по приказу генерала Сайда собралась огромная толпа. Вооруженные солдаты оцепили все пространство по периметру, но зрители явно не нуждались в поощрениях и издавали кровожадные крики радости, от которых кровь стыла в жилах.
Пока люди Сайда впятером привязывали Эшкола, словно Прометея, к бетонной плите, снизу вверх, почти к самому краю крыши, подлетело то, чего я надеялся (и даже рассчитывал) больше никогда в жизни не видеть: беспилотный «трутень», наш спутник из стратосферы, — и был он, конечно же, не один. В считаные секунды «трутни» окружили всю крышу, и генерал Сайд с крайним беспокойством в голосе осведомился у полковника, что это за штуки. Выяснению этому, впрочем, помешала срочная необходимость отдать сильно напуганным солдатам приказ сохранять спокойствие и оставаться на местах. Слейтон как мог убеждал генерала, что «трутни» лишь средства наблюдения, но мы с Ларисой и Тарбеллом понимали весь ужас ситуации. Начать с того, что «трутни» могли в любой момент, повинуясь приказу, уничтожить крышу или даже весь отель целиком. Куда хуже было то, что мы, члены команды корабля Малкольма, были теперь опознаны американцами. Теперь и побег на корабле, и его дальнейшая маскировка вырастали в целую проблему, ведь после этого случая новые аномалии в показателях радаров начнут, вероятно, приписывать нам.
Ситуация и так была из рук вон, а стала еще хуже. «Трутни» не бросились атаковать нас, — вероятнее всего, из-за растерянности, в которую происходящее на крыше повергло их операторов, но их появление дало Эшколу шанс и заставило действовать, применяя все, чему его учили. Вывернувшись из рук пятерых, что должны были приковать его к бетону, трех из них он уложил бешеной серией свирепых ударов, тычков и уверток. Вырвав пистолет у одного из поверженных противников и воспользовавшись им, столкнул еще двоих с крыши. Но Эшкол был достаточно умен, чтобы понимать, что с одним лишь обычным пистолетом ему не совладать с ситуацией. Очевидно, даже связанный и пытаемый, он догадывался, что Лариса носит на боку крайне необычное оружие. Поэтому, градом пуль заставив нас рассеяться и искать укрытие, он метнулся к ней. Очень искусно притворившись, будто собирается нанести удар, он выхватил рейлган из кобуры и откатился к дальнему краю крыши со своей добычей, пока Лариса, готовая к рукопашному бою, смотрела на него в немом изумлении.
Мы были в беде, хотя тогда лишь мы четверо понимали, настолько эта беда велика. Остальные, впрочем, тоже недолго оставались в неведении. Пока «трутни» сновали по краям крыши, словно зеваки в шумной перебранке, пытающиеся понять, чью сторону им занять, Эшкол продолжал лавировать среди осколков камня с живостью, поразительной даже для здорового человека, не говоря уже о том, кто лишь недавно пережил долгие часы пыток. После нескольких минут этого шоу он поймал на мушку несчастного малайского солдата и выстрелил из рейлгана. Я никогда прежде не видел эту штуку в деле, — на человеке, — эффект был одновременно и более потрясающим, и менее жестоким, чем я ожидал. Большая часть тела солдата просто исчезла, как это случилось и с телом Джона Прайса. А оставшиеся куски были отделены от туловища аккуратно и полностью, да так, что напоминали добротные протезы, которые никогда и не были частями человеческого тела.
Из-за воцарившейся паники генерал Сайд потерял половину своих людей, но оставшиеся сохраняли похвальную стойкость перед лицом, казалось бы, неминуемой смерти. По передвижениям Эшкола, впрочем, скоро стало ясно, что его интересуют вовсе не малайцы.
Он принялся, крича, требовать свой рюкзак и контейнер с плутонием, каким-то образом заприметив, как Лариса и Тарбелл несли их на крышу. Собрав все свое мужество, короткими перебежками и прыжками я добрался до Ларисы, но она сообщила мне, что все это у Леона. Где был Леон, не знали ни она, ни другие. Генерал Сайд закричал Эшколу, что рюкзака и контейнера на крыше нет, что было, по известным ему сведениям, правдой. Тем временем Слейтон, Лариса и я ползали на четвереньках, упорно шепча имя Тарбелла. Мои попытки найти его были не то чтобы отчаянными, а скорее до глупости шумными. Затем из-за шахты лифта послышался его шепот:
— Гидеон! Тихо ты, идиот, из-за тебя убьют нас обоих!
Я все еще не видел его, но меня успокоило то, что он жив.
— Ты ранен, Леон? — окликнул я его.
— Еще нет! — отвечал он. — Но, впрочем, если ты настаиваешь… о нет, только не это. — Ужас, зазвеневший в его голосе, говорил о том, что Эшкол неподалеку. Посмотрев наверх, я увидел этого громилу, лежащего на лифтовой кабине в укрытии от выстрелов малайцев, направившего рейлган вниз, в сторону от меня Я услышал, что он требует рюкзак и контейнер и взамен предлагает Тарбеллу его жизнь.
— Ты, лживый евнух! — воскликнул Леон. — Мы слишком хорошо тебя знаем… — Что последовало вслед за этим, было предсказуемым, но неотвратимым кошмаром. Эшкол и раньше, как уже говорилось, демонстрировал склонность к ненужным убийствам, и Леон знал, что не получит пощады, в которой Эшкол столько раз уже отказал другим. Причин, чтобы убийца пощадил Леона, — таких, к примеру, как отсутствие у Эшкола оружия, укрытия или боевых преимуществ, — не было. И все же тихий звук выстрела из рейлгана швырнул меня из укрытия и заставил рвануться прочь с громким воплем.
Эшкол тревожно обернулся. Может, он решил, что я не повел бы себя так глупо, не будь у меня другого чудодейственного оружия; а может, он посвятил мертвым предкам все, что осталось в нем от человека и потому не мог поверить, что подвергнуть себя опасности можно всего-навсего из братских чувств или сильного горя. Как бы там ни было, он оказался в замешательстве — в замешательстве, которое, вероятно, спасло мне жизнь. Несомненно, его ошеломление усилилось стократ, как и смятение генерала Сайда, его людей и, кажется, американских «трутней», когда небо над отелем раскололось, открыв Жюльена, стоявшего в проеме корабельного люка.
В руках у него был парализатор дальнего действия, наведенный на место, где лежал Эшкол. Но тот, как и в иных подобных ситуациях, в которые он не раз попадал на протяжении своей карьеры, просто исчез со своей позиции — исчез, полагаю, еще до того, как Фуше спустил курок. Внезапные неистовые крики малайзийцев (их нервы не выдержали зрелища свободно парящего в воздухе кричащего француза) свидетельствовали, что Эшкол устремился вниз на улицу по разрушенной лестнице. Однако же ни один солдат не пожелал пуститься в погоню, пока увещевания генерала Сайда не перешли в прямые угрозы.
Когда войско наконец двинулось с места, Слейтон с Ларисой бросились ко мне, но я уже ринулся к лифтовой шахте и обогнул ее.
От Леона не осталось ничего, кроме руки: вероятно, именно в ней он держал рюкзак и контейнер, судя по тому, как убийца заботился о ее сохранности. Этих предметов здесь уже не было, хотя в ту минуту это меня абсолютно не интересовало. Я упал на колени и, вконец измотанный горем, тихо засмеялся сквозь слезы: средний палец мертвой руки Леона был поднят, как и в тот миг, когда наш друг встретил смерть. Чуть погодя Лариса обняла меня, попыталась поднять и отвести к корабельному люку; но в своей скорби я не желал покидать этого места. С улицы по нам принялись палить войска, а «трутни» направились к открытому люку, намереваясь изучить его, чтобы их операторы могли решить, атаковать или нет, а я все не уходил, пока вдруг не понял, что же, во имя Господа, нужно сделать с рукой Тарбелла.
Мне вдруг пришло в голову, что Леону пришелся бы по душе устрашающий эффект, который может произвести этот одинокий, зловещий остаток его земного существования, если кинуть его сверху на толпу. Может, эта шутка покажется отвратительной, богомерзкой и даже нелепой, если вырвать ее из контекста; но, окруженный противоестественным, безумным насилием, я счел эту мысль вполне уместной.
Пинком ноги я отправил вниз останки необычного маленького человека, ставшего моим настоящим другом с минуты прибытия на корабль Малкольма, — отправил, чтобы помочь ему сыграть последнюю шутку над миром.
Глава 39
Я мало что могу рассказать о нашем бегстве и о том, как мы удалялись на безопасное расстояние. Шок притупил мои чувства. Мы вернулись на борт, и задраенный люк вместе с реактивацией полной голографической проекции вокруг корабля отбросили «трутней», так что мы смогли без приключений долететь до побережья и нырнуть в Малаккский пролив. Но факт оставался фактом: четверо из нас были замечены и, без сомнения, опознаны. Плохо было уже одно то, что спутник засек Слейтона; но, опознав Ларису, наши противники станут задавать неудобные вопросы о Малкольме и, возможно, об острове Сент-Кильда, так как с неизбежностью обнаружится, что им владеет все тот же Малкольм. Но ни эта угроза, ни глубокая скорбь по погибшему Тарбеллу не повлияли на решение Малкольма оставаться поблизости от Куала-Лумпура до тех пор, пока мы не узнаем, куда направился Эшкол, ныне столь серьезно вооруженный.
Мы настроили все корабельные системы на отслеживание передвижений морского и воздушного транспорта, гражданского и военного. Мы перехватывали частные разговоры по сотовым телефонам, электронную почту, закрытые сайты Интернета, даже радиопередатчики небольших коммерческих рыболовных судов. Эшкол мог быть где угодно в Малайзии, но раз он здесь, то неизбежно проявит себя, тронувшись с места, чтобы покинуть страну, и Малкольм желал, чтобы мы ни на миг не упускали его из виду.
Поначалу я участвовал в этом, не особо вникая и скрепя сердцем. Обстоятельства смерти Тарбелла, как и смерть Макса, обнажили ту сторону поведения человека, дурнее которой я не встречал даже за все годы изучения привычек преступников. Но если смерть Макса побудила меня к поиску ее объяснения и к мести тем, кто грубо злоупотребляет властью, то судьба Леона подтвердила давнюю догадку о том, что участие в играх с подобными ставками, даже продиктованное лучшими намерениями, не просто навлекает гибель, но и развращает. А если вкратце, трагические события, что мы сейчас переживали, порождены коллективными желаниями, владевшими всеми игроками, вожделевшими торжества собственных принципов, а не одним лишь Довом Эшколом.
— Так что ты сказал, Гидеон? — спросила Лариса в постели, в моей каюте, после двенадцати часов относительно молчаливого дежурства в башне. — Что мы ничуть не лучше Эшкола?
— Нет, — сказал я, пораженный некорректностью упрощения. — Но ты не можешь отрицать, что если бы мы не влезли во все это, то его бы тихо замучили в кегельбане Сайда. А что, если Малкольм не ухватился бы за дело с фотографиями Сталина? Эшкол просто продолжал бы делать то, что делают сотни агентов разведки каждый день. И не было бы никакого кризиса.
Лариса села.
— Я никогда не видела особого проку в "что было бы, если бы", — твердо произнесла она — Понятие добродетели в подобных ситуациях весьма относительно, как и во всех случаях, когда решаются вопросы власти и силы. И, выражаясь относительно, я хочу сказать, что во всей этой заварухе мы единственные, кто хотя бы пытается делать что-то хорошее.
Я уставился в потолок.
— Как там было в том изречении — весь вред в мире от добрых людей?
Лариса рассердилась еще пуще. Возможно, думал я, в глубине души она со мной согласна.
— Чтобы верно понимать такие изречения, важно знать, кто их автор.
— Кажется, это был Генри Адамс,[10] — ответил я, — кто, как известно, всю свою жизнь оставался лишь наблюдателем властных игр. В отличие от своих предков.
— Точно, — Лариса снова прилегла, изо всех сил пытаясь задуть искру непонимания между нами. — Дело не в том, что Леон погиб, Гидеон, а в том, что на его месте мог оказаться любой. — Она ласково улыбнулась. — Смерть его была так схожа с прочими. Конечно, так типично…
Я усмехнулся вместе с ней, тихо и грустно.
— Он был неподражаем. Даже получая удовольствие, он делал это с таким пренебрежением! Кстати… — Я повернулся на бок, и мое лицо оказалось так близко к лицу Ларисы. — Никому не случилось выяснить, откуда он родом? Я пару раз спрашивал, но он все уходил от ответа.
— Однажды он рассказывал мне, — ответила Лариса, — вот только не знаю, сколько здесь правды. Это было сразу после того, как он присоединился к нам, и, думаю, он пытался соблазнить меня, вызвав сочувствие. Видит бог, если бы не секс, он бы в жизни мне этого не поведал. Он заявил, что его мать была сибирской проституткой во Владивостоке, а отец — командированный из Англии руководитель телекоммуникационной компании. Мать была убита во время русской бомбежки. После этого бабушка увезла его в Индонезию, подальше от войны, и оплачивала его обучение, работая на конвейере по производству микрочипов. В итоге это ее и убило. Он принялся воровать, а позднее — подделывать документы, чтобы закончить образование.
— М-да, — прикинул я, — это объясняет довольно многое в его взглядах. А если это и неправда, то лишь он один был способен такое выдумать…
Лариса не могла не задать мне вопрос — хотя, может быть, предпочла бы не спрашивать:
— Так что, это теперь для тебя проблема? Что же нам делать дальше?
Я задумался на несколько минут.
— Не отрицаю, у меня и вправду есть кое-какие вопросы, — наконец высказался я. — Но также я знаю, что раз уж эта ситуация сложилась не без нашего участия, то и разгребать ее тоже нам. Может, нам и вовсе не стоило вмешиваться во все это, но дела не пойдут лучше, если мы теперь просто возьмем да и выйдем из игры.
Лариса притянула меня к себе.
— И правда…
Не думаю, что она утешилась моими высокими словами. Меня-то они точно не успокоили. Наша беседа зашла в тупик, и я с облегчением услышал донесшийся из динамиков голос Малкольма, приглашающий всех присоединиться к нему на баке корабля. Похоже, мы все же нашли того, за кем гнались так упорно. Пока мы с Ларисой пробежали все коридоры, корабль на хорошей скорости рвался к поверхности воды, и мы присоединились к остальным (один лишь Жюльен замешкался в лаборатории) в самое время, чтобы полюбоваться, как он взмывает к небесам над проливом. И тут-то приподнятому настроению, внушенному голосом Малкольма, пришел конец.
Воды прямо под нами кишели американскими военными кораблями, которые не замедлили начать обстрел. Наши электромагнитные поля отклоняли снаряды, либо подрывали их на безопасном расстоянии, и все же оставалось неясным, как флот смог засечь нас.
— Они умнеют на глазах, — сказал обеспокоенный Слейтон, с пульта управления ведущий корабль под градом огня. — Они отследили колебания, исходящие от корабля в воде, и возмущения воздуха, отражаемого нашей поверхностью, а затем начали ковровую бомбардировку.
— Но разве они не рискуют задеть друг друга? — спросил я. — Или другие корабли, что окажутся поблизости?
— Конечно, — сказал Малкольм, придвигая свое кресло ближе к полковнику. — Но им важней не упустить нас, — и это неудивительно.
На миг я замер в недоумении, но Эли быстро объяснил:
— Около четверти часа назад мы засекли армейские радиопереговоры, что кто-то удрал на бомбардировщике «Б-2». Самолет простаивал на дальнем аэродроме, потому что единственный малайский пилот, который умел на нем летать, был убит. В любом случае, там у них в эфире царит страшная паника и сумятица насчет ядерного устройства.
— Эшкол, — сказала Лариса. — Этот поганец еще и летать умеет?
— Он — настоящий секретный агент, — кивнул Иона. — Мы у него на хвосте, но малайцы говорили и о вас, четверых, и о том, что они видели на нашем корабле. Американцы, судя по их переговорам, пришли к выводу, что таинственный корабль, о котором они слышали и который с переменным успехом пытаются настигнуть все эти месяцы, как-то связан и с похищением «Б-2». Похоже, в этот раз будет жарко.
— Но почему? — спросил я. — Они не могут нас выследить.
— Нет, — продолжал Иона, — но мы должны гнаться за самолетом Эшкола, а это…
— А это старая американская модель, — продолжил Слейтон, — и даже когда он был у них на вооружении, американцы знали, как пресечь работу его систем «стелс». Они думают, что наш корабль сопровождает Эшкола, а не преследует его. Они зафиксируются на нем и будут отслеживать воздушные возмущения, которые они засекли при нашем вылете из моря.
— А нам непременно надо оставаться так близко от Эшкола? — спросила Лариса. — Мы можем следить за ним и из стратосферы, раз такое дело…
— Ага, и где мы будем слишком далеко, чтобы помешать ему совершить непоправимое, — обрубил Малкольм.
Лариса кивком признала его правоту.
— Тогда мы просто собьем его.
— Американцы, может, и готовы рисковать радиоактивным выбросом, — ответил Малкольм, — но я — нет. Нет, сестрица, на этот раз, боюсь, эти кретины нас поимели. Временно.
— Временно? — спросил я, встревоженный его признанием преходящих трудностей куда больше, чем гремящими вокруг взрывами. — Что вы имеете в виду? И что мы сможем сделать потом?
— Зависит от ядерного устройства Эшкола, — сказал Эли. — Жюльен как раз изучает его чертежи. Если в нем есть электронные компоненты, которые можно аккуратно вывести из строя…
— …и которые есть, как мы знаем, в его самолете, — добавил Иона.
— …тогда, — закончил Эли, — мы сможем сбить его импульсом.
— Импульсом? — переспросил я, восприняв это слово поначалу в его психологическом значении, но затем припомнил тип корабля, на котором летел. — А, электромагнитным импульсом, — произнес я, вздохнув с облегчением при мысли о том, что у нас все же имеется шанс на победу.
Это чувство усилилось, когда Жюльен внезапно ворвался в коридор.
— Tonnerrel — вскричал он с довольным видом. — Оно работает!
Глава 40
В следующие несколько часов надежды, что породил замечательный план моих товарищей, разбились вдребезги о неистощимое коварство Эшкола. Скоро стало ясно, что его блестящий, по общему признанию, план побега зиждился на четырех китах. Первое: в случае, если кто-нибудь вылетит за пределы Малайзии на «Б-2», — быть может, морально устаревшем, но все еще смертоносном, — союзники будут преследовать его, чтобы захватить или, если это окажется невыполнимым, сбить. В воздушной битве у Эшкола не было ни единого шанса против эскадрильи более мощных и современных самолетов, что будут посланы на перехват. Таким образом, у него оставалось лишь одно оружие — сам самолет. Если он будет лететь лишь над густонаселенными районами и уклоняться от боя, ни одна страна не допустит, чтобы ее ВВС обрушили на землю горящие обломки крушения, которые унесут сотни, если не тысячи жизней. В конце концов, тактика Эшкола равным образом оказалась эффективной и по отношению к нашему кораблю, так как мы собирались остановить его менее разрушительным способом, нежели сбив его. И потому нам оставалось лишь выжидать все то время, пока оставался риск, что вывод из строя электрических систем «Б-2» повлечет последствия, не менее гибельные, чем любое сражение.
Положение стало вдвойне опасней, когда вслед за Эшколом на сравнительно малых высотах мы достигли границ Таиланда, где он старался держаться ближе к северу, над переполненными предместьями Бангкока. В это время ВМС США и ВВС Англии заменили путаную систему слежения за нашим кораблем своей собственной: огонь корабельных пушек, что так жестоко обстреляли нас при подъеме из вод Малаккского пролива, сменился огнем с истребителей, пытавшихся принудить к посадке и нас, и самолет Эшкола. Они не стали пускать в ход ракеты, опасаясь, надо полагать, тех же самых последствий, что объясняли их нежелание сбивать Эшкола. Мы поначалу предположили, что ситуация разрешится, как только первый эшелон посланных на перехват самолетов достигнет своей "точки возврата".[11] Но когда мы летели над Бенгальским заливом, с находящихся там авианосцев сорвалась новая, свежая эскадрилья. Стало ясно: союзники намерены сделать все, что в их силах, чтобы положить конец тому, что они, без сомнения, считали крупнейшим террористическим заговором.
Так что мы направились в "индийский закат",[12] имея на хвосте самолеты союзников, изрыгающие почти непрерывный огонь, и с Эшколом, умно прокладывающим курс в соответствии с плотностью населения внизу, — впереди. Его генеральный курс лежал, похоже, на вест-норд-вест, но извилистый путь, которым он летел, не позволял предположить конечную точку полета. Мы, конечно же, страшились того, что он держит курс на Россию, и одно время, когда он свернул в направлении Кавказа, нам показалось, что наши опасения подтверждаются, но Эшкол вдруг двинулся на запад, в Турцию, лавируя от города к городу вдоль Черного моря по направлению к Стамбулу.
— Возможно ли, что на самом деле он хочет просто сбежать? — спросил Жюльен, стоя рядом со мной, братьями Куперман и Ларисой позади Малкольма и Слейтона, сидящих за консолью управления.
Иона пожал плечами.
— Может, он тянет время и выжидает, когда внимание к нему ослабнет и он сможет сделать то, что планирует.
— Хотел бы я, чтоб так оно и было, — ответил Малкольм, неотрывно глядя на большой черный самолет, летевший чуть ниже и впереди нас. Было все трудней разглядеть «Б-2» на фоне темнеющей поверхности ночной земли и это почему-то пугало, хотя было не так уж важно. — Но все же не дадим себя одурачить, — продолжил Малкольм. — В душе Эшкол террорист, с той же тягой к общественному вниманию, что и любой террорист. То, что с него не спускают глаз, боюсь, делает его лишь опасней.
— Нам пора подумать о решении, — произнес полковник Слейтон очень ровным голосом, таким ровным, что я понял: положение наше весьма безрадостно, и Малкольм имеет в виду именно это. — Понятно, что мы не хотим сбивать его над населенными землями, но помните, пожалуйста, о том, что находится у него на борту. Оборвать его полет означает минимизировать последствия, а не избежать их.
— Я учел это, полковник, ответил Малкольм. — И если он продолжит движение на Россию, то мы, вероятно, будем вынуждены прибегнуть к этому варианту. Но до тех пор, пока остаются и другие возможности…
Речь Малкольма прервал звук взрыва совсем рядом с кораблем, показавший, что пилоты союзников пришли к тому же самому выводу, что и полковник Слейтон. Теперь они пускали ракеты, взрывая их поблизости и от нашего корабля, и от «Б-2» в надежде на последствия разрывов. Ничего, конечно, не вышло — магнитные поля нашего корабля сбивали с толку системы наведения ракет типа «воздух-воздух», а уж Эшкола и подавно ничто не могло запугать. Но сама бесплодность этой попытки, похоже, привела пилотов союзных войск в ярость: они вплотную сели на хвост «Б-2», тем самым сильно увеличивая шансы на столкновение.
Пока мы летели через Балканы на север в сторону Польши, ситуация делалась все опаснее и неустойчивее. Нам следовало уворачиваться от самолетов союзников, от «Б-2», от ракет и от огня пушек, — все это было чересчур даже для Слейтона, и управление взяла на себя Лариса. Несмотря на мои чувства и абсолютное доверие Ларисе, замена эта меня не успокоила, поскольку Слейтон, как я знал точно, никогда не позволил бы гневу взять над собой верх, а Лариса? Как вырвалось когда-то у Малкольма, когда он рассказывал мне о смерти Джона Прайса: "Ну, это же Лариса…"
Не думаю, что в этот миг все остальные почувствовали себя в безопасности — разве что Малкольм; и именно Малкольм первым заметил драматическое изменение курса "Б-2".
— На восток, — произнес он так тихо, что я едва расслышал его сквозь гул самолетов и взрывы. — На восток, — повторил он более настойчиво. — Он повернул на восток!
Полковник Слейтон склонился над одним из навигационных мониторов, и его голос сделался, к моему вящему испугу, еще более сдержанным.
— Если он не сменит курс, то выйдет на прямую, соединяющую густозаселенные области: Белосток, Минск, Смоленск… — Он поднял глаза и взглянул на «Б-2», страшась назвать последнее звено этой цепи.
— Москва, — медленно объявил Малкольм. Его лицо стало пепельно-серым, а слова — скупыми, но решительными: — Лариса, Гидеон — оба в башню. — Ларисе не нужно было повторять дважды. Она вскочила и за руку потащила меня к двери. — Подождем, пока он пройдет Смоленск, — крикнул Малкольм нам вслед. — Если смены курса не будет…
Лариса обернулась.
— Он уже слишком близко. Разве не так, брат? На этой скорости…
— На этой скорости, сестричка, твоей руке лучше бы не дрогнуть.
Остаток этой части моей истории будет ужасающе прост и лаконичен, словно бесплодная пустыня. Я бы с радостью приукрасил ее, если бы это могло повлиять на ее исход. Лариса и я едва ли обменялись словом за время на посту в башне. В следующие три четверти часа, пока под нами проносились неопознанные восточная Польша и западная Россия, в прозрачной полусфере царило молчание, которое не прерывали даже звуки пушечного огня и ракетных взрывов, так как самолеты союзников отказались от преследования задолго до того, как мы вступили в непредсказуемое воздушное пространство непредсказуемой рухнувшей империи — России. Я не знаю, о чем думала тогда Лариса, и не догадался спросить ее после; что до меня, то я раздумывал о том, что же творится в ее голове, когда она готовится оборвать чью-то жизнь. Это казалось неизбежным: Эшкол вел себя так, что у нас не было иного выбора, кроме как прикончить его. Нам оставалось лишь надеяться, что от падения самолета пострадает не слишком много людей, размышлял я в тот миг.
Мне и в голову не приходило, что корабль Эшкола может просто-напросто исчезнуть из виду, однако где-то между Минском и Смоленском так и случилось. Ни на моих приборах, ни на экранах систем слежения, как вскоре уведомил нас Малкольм, не было и признаков «Б-2». Я пребывал в глубоком замешательстве до тех пор, пока Лариса не предложила простейшее из возможных объяснений: самолет Эшкола разбился. Мое настроение резко скакнуло вверх при этой мысли, но я принудил себя проявить скепсис. Разве мы не увидели бы пожара? Разве не заметили бы падения? Разве Эшкол, в конце концов, не катапультировался бы в случае неминуемой аварии? Не обязательно, ответила Лариса, самолеты, бывает, разбиваются и без видимых последствий вроде сильного взрыва, и порой так внезапно, что заметить его падение было бы весьма сомнительно. Условия ночного полета порой сбивают с толку настолько, что пилот может до самого конца так и не узнать о том, что обречен.
В любом случае, следовало срочно повторно проверить и область предполагаемого падения, и настройки бортовых систем, так что мы с Ларисой вернулись из башни в носовую палубу. Но никто из нас так и не смог обнаружить ни следов аварии, ни признаков сбоя в работе устройств. Мы предположили, что самолет Эшкола потерпел крушение в каком-нибудь лесу или в поле, и обломки можно будет обнаружить лишь после восхода солнца.
Откуда нам было знать? Что могло бы заставить нас вновь прослушать Малайзию и узнать о похищении чего-то большего, чем «Б-2»? И даже если бы мы каким-то чудом узнали, что на этом самом «Б-2» была установлена краденая американская система «стелс», настолько новая и засекреченная, что о ее похищении даже в самой Америке была осведомлена лишь горсточка людей, — что могли бы мы предпринять, чтобы обойти ее защиту? Все эти вопросы до ужаса спорны. В ту же ночь — и во все последующие ночи — властвовал лишь один несомненный факт.
В тот самый миг, когда все мы почти поверили в удачу и в то, что счастье изменило Эшколу, горизонт на северо-востоке вдруг озарился красочным, ослепительным светом. Ничто не мешало обзору, и внезапно возникшее зарево приковало наше внимание; понимая ужасную правду, никто из нас не произнес ни слова на протяжении неотвратимой развязки.
Ядерный гриб, налитый всеми ужасными цветами, высвобожденными взрывом, стал медленно подниматься над тем, что недавно было Москвой.
Глава 41
Кошмарное облако ядерного взрыва, парализовавшее всех, стало развеиваться задолго до того, как кто-либо из нас смог вымолвить хоть слово. Первым заговорил Эли, задав вопрос, волновавший сейчас каждого: как смог Эшкол уйти от нас? Ответа, конечно же, не было ни у кого, и вопрос обвинением, повис в воздухе на все то время, что заняло возвращение на Сент-Кильду. Лишь там полковник Слейтон, после многих часов, проведенных в диспетчерской, сможет найти объяснение. Но тогда мы все лишь покачали головами и продолжали молча смотреть на происходящее, пребывая в замешательстве, вызванном не только наблюдаемой трагедией, но и тем, что не знали, как быть дальше.
Из этого чудовищного окаменения нас вывел, разумеется, Малкольм. Голосом, схожим со скрипом мельничных жерновов, что так отвечал смертной бледности его лица, он отдал Ларисе приказ направить корабль в пылающий город, что исторгло у нас вздох недоверчивого изумления. Видя, до чего Малкольм опустошен, Лариса мягко намекнула, что это может быть опасным, но гневный и резкий ответ ее брата гласил, что на некоторое время корабль защитит нас от радиации и что он, как и мы все, должен видеть разрушения собственными глазами. Без дальнейших пререканий Лариса приняла управление, и мы полетели навстречу крушению иллюзий, да такому, какое за всю мировую историю испытали всего несколько человек.
Не существует слов, чтобы описать все это; во всяком случае, мне таких слов не найти. Может, описать, сколько теней — отпечатков тел — я обнаружил в том, что обычно называют «серым» пеплом? Или бесконечное множество оттенков того, что для самоуспокоения именуют "выжженной землей? Что может передать тошнотворный вид тысяч испепеленных и искалеченных человеческих тел, живых и мертвых, что избежали полного испарения? Но отвернуться я не мог. Когда-то я слышал, что разрушение противоестественным, но неодолимым образом притягивает взор, но не ожидал, что испытаю это сам при виде кошмарной панорамы.
Понятно, что эпицентром взрыва стал Кремль, в чьих стенах безумный Иосиф Сталин когда-то пил перцовку и разрабатывал планы геноцида (хотя и не того геноцида, в котором обвинял его Дов Эшкол). От этого места и его окрестностей не осталось ничего, как и от торговых улиц близ Тверской (Сталин когда-то перестраивал их по собственному проекту). С лица Земли были сметены модный Арбат и средневековое Замоскворечье по ту сторону Москвы-реки. Мощности миниатюрной бомбы оказалось достаточно, чтобы вырвать само сердце города — и всей России. И все это во имя мести за воображаемый грех, в который так желал верить неуравновешенный Эшкол, чтобы найти наконец рациональное объяснение судьбе своих предков и с гордостью предстать перед теми, кто умер так давно.
Mundus vult decipi.
Страшное турне по лежащему в руинах городу, предпринять которое Малкольм счел столь необходимым, стоило ему слишком дорого: чувство вины, истощение и шок в сочетании с его хроническим недомоганием вызвали кризис, который не стал неожиданностью ни для кого из нас. По правде говоря, поразительно, что больше никто из нашей команды не сломался тогда под тяжестью увиденного. Полковник Слейтон снова перекинул чудовищно скрюченную левую руку Малкольма через свое плечо, приподнял его практически невесомое тело и направился в корму. Лариса на миг крепко прижалась ко мне, каким-то образом поняв, что все, чему мы были свидетелями, навсегда изменило наши отношения. После она бросилась за братом, поддержав его бессильно болтающуюся руку, пока Слейтон нес его. Эли взял курс на Сент-Кильду, а затем все оставшиеся разошлись в поисках уединения, чтобы примириться с непостижимым.
Мы еще не прибыли на шотландский берег, когда я решил, что больше не стану участвовать в большой игре Малкольма. Сомнения (к которым я должен был прислушаться) впервые появились у меня тогда, когда мы только узнали о Дове Эшколе. Эшкол, человек, патологически готовый принять фальшивку, способный пойти из-за нее на беспрецедентное массовое убийство, — вот что за мысль оглушительно грохотала в моем черепе. Сколько еще на свете таких, как он? Разве можно множить обман, навлекая на мир новые катастрофы? Разве жалобы Малкольма на то, что мир не расположен признать себя обманутым нашей скрупулезно проработанной ложью, не подтвердились столь чудовищным образом? Теперь я понимал: действия Малкольма и команды не стали противоядием от ослепившего человечество информационного дурмана. Я нес ответственность за то, что один из безумцев свихнулся окончательно, — пусть эта ответственность была косвенной, — и этого было достаточно, чтобы выйти из игры.
Было трудно прийти к этим умственным и нравственным выводам, но этот труд казался просто чепухой в сравнении с эмоциональными, да и практическими вопросами, встающими передо мной из-за решения покинуть корабль. Первое и самое главное — Лариса. Много лет назад я уверился в невозможности найти женщину, которая не просто примирится с моими жизнью и трудами, а примет их с восторгом; и теперь, когда я наконец ее обрел, решиться на разрыв было непросто. Ведь наше естественное влечение друг к другу крепилось еще и теми узами, что часто возникают между людьми, пережившими насилие в детстве. Правда, имелся шанс, что ради меня Лариса покинет своего брата. Думать иначе было настолько больно, а мозг мой так отупел, что остаток пути до Сент-Кильды я все больше и больше зацикливался на этой мысли.
Эта дурная фантазия, которая бросила вызов и моей профессии, и моему знанию характеров Малкольма и Ларисы, оказалась достаточно могущественной, чтобы повлиять на мои думы о том, как справиться со статусом международного преступника. Сдамся ли я на милость правосудия? Буду ли объяснять, что не принимал личного участия в заговоре, повлекшем гибель миллионов людей? Стану ли рисковать свободой? Нет, не стану; но с учетом умений и навыков, что я приобрел у Малкольма, я смогу свыкнуться с жизнью международного изгнанника, и даже получать от нее удовольствие. Если, конечно, Лариса уйдет со мной.
Когда наш корабль проносился над островом Скай, мои грезы стали уже совсем детальными и романтическими: мы с Ларисой, живущие в бегах, берущие все, что нужно и все, что пожелаем, у мира, который не в силах помешать нам.
И поэтому когда Лариса, убедившись, что ее брат спокойно спит, добралась до моей каюты и со слезами упала в мои объятия, я счел это признаком того, что любовь ко мне начала перевешивать преданность брату. Я не сказал ей ничего ни об этих мыслях, ни о моих иллюзорных планах на будущее, полагая, что будет честней вначале обговорить все с Малкольмом.
Я продолжал умалчивать об этом на протяжении нескольких последующих дней на Хирте, когда остальные по-прежнему искали возможность примириться с увиденным и пережитым. Это было нелегкое время: несмотря на то, что мы избегали этой темы в разговорах, все мы были вынуждены просматривать новости и репортажи о московской трагедии. Наше общее, хоть и невысказанное горе становилось глубже по мере того, как росло число жертв. Правда о Дове Эшколе в конце концов выплыла наружу, но при этом говорилось и об имевшихся у него сообщниках, что сумели спастись на каком-то новейшем летательном аппарате. Поэтому к опасениям обитателей острова добавилась возможность нападения на Сент-Кильду.
Эти опасения, правда, поубавились, когда после двух дней ухода за братом Лариса объявила, что Малкольм наконец связался с Эдинбургом. Шотландский парламент отказался выдавать ООН информацию о местонахождении Малкольма в обмен на его обещание дополнительно профинансировать борьбу шотландцев за независимость. Испытав облегчение от мысли, что на некоторое время нас оставят в покое, все вернулись к размышлениям о недавнем прошлом и о неясном будущем. Я хотел было заняться тем же самым, но Лариса поймала меня за руку.
— Он хочет видеть тебя, — сказала она, указывая на убежище Малкольма. Оно было расположено так, чтобы никто не смог проникнуть в его личную лабораторию. — Но ему нельзя волноваться, Гидеон, — он идет на поправку, но все еще болен. — Она поцеловала меня торопливо, но нежно. — Я скучаю по тебе.
Я запустил руку в ее серебряные волосы и улыбнулся.
— Это просто непристойно.
Она еще крепче прижалась ко мне.
— Ужасно непристойно, — прошептала она.
— Лариса, — тихо произнес я. — Есть кое-что… — Я заглянул в ее глаза, но вместо любопытства обнаружил в них одну лишь тяжкую усталость. — Господи, тебе срочно нужно отдохнуть.
Она кивнула, но все же переспросила:
— Кое-что? О чем ты?
— Об этом поговорим позже, — ответил я, веря, что у нас еще будет на это куча времени и все еще желая, словно богатый жених, обсудить вначале все с ее братом и лишь затем сообщить ей самой. — Иди, отдыхай.
Она вздохнула с признательностью, еще раз поцеловала меня и быстро умчалась прочь, оставив приоткрытой дверь в жилище брата.
Я шагнул внутрь, твердо зная, что именно скажу, исполненный надежд, что Малкольм одобрит мой план. Я и не подозревал, что он намеревается открыть мне свой величайший секрет и поведать нечто невероятное. Невероятное как раз настолько, чтобы я заключил, что он и в самом деле сошел сума.
Глава 42
Жилище Малкольма на острове было даже более спартанским, чем его корабельная каюта, а удобств тут было немногим больше, чем у немногочисленных жителей Хирты два века назад. На дальней от входа стене виднелся такой же, как у меня, эркер, выходивший на столь же скалистый и загадочный участок побережья. Перед эркером в кресле сидел Малкольм, купаясь в мягких солнечных лучах Сент-Кильды и наблюдая за сотнями морских птиц на скалах все с той же радостью, которую мне и прежде случалось ловить на его лице. Эта радость свидетельствовала о том, что маленький мальчик, много лет назад переступивший порог ужасной больницы, еще не совсем погиб в нем. И все же его облик, полный юной свежести, парадоксальным образом должен был напомнить мне, в какой степени Малкольм зависим от Ларисы, и дать мне понять, насколько нелепа мысль о том, что он одобрит мой план убежать с ней.
Он почувствовал мое присутствие, но не обернулся.
— Гидеон, — сказал он. Голос его выдавал не столько бодрость, сколько попытку казаться сильным. Он секунду помедлил, и я было собрался с мыслями, чтобы изложить ему мое дело, но прежде чем я успел произнести хоть слово, он спросил: — Что у нас с материалами по делу Вашингтона?
Его вопрос застиг меня уже с раскрытым ртом, но теперь впору было и вовсе уронить челюсть на пол.
— Прошу прощения? — невнятно переспросил я.
— Ваш план Вашингтона, — повторил он, продолжая созерцать птиц. — Сколько вам нужно времени, чтобы привести его в действие?
Я кое-как собрался с мыслями и выдавил:
— Вы шутите.
Все еще не оборачиваясь, Малкольм кивнул, будто ждал именно такого ответа.
— Вы полагаете, что из-за того, что случилось в Москве, мы должны приостановить работу. Вы считаете, что это может случиться снова.
В тот момент пелена иллюзий спала с моих глаз. Нетвердым шагом я двинулся к стулу из красного дерева с прямой спинкой и рухнул на него, внезапно поняв все безрассудство своих планов также ясно, как и то, насколько Малкольм предан своей затее. Эмоциональные протесты и заявления были бы бессмысленны, поэтому я ответил так рассудительно и веско, как только был способен:
— Малкольм… вы же сами говорили о том, что все, что вы делаете, влечет ужасные последствия.
— Я говорил, — спокойно, но твердо возразил Малкольм, — о том, что мы делаем нашу работу чересчур хорошо. Дов Эшкол подтвердил это.
Почти невероятное заявление.
— Да. Я бы сказал — подтвердил со всей несомненностью.
— Следовательно, мы поняли это и продолжаем. — Казалось, он до сих пор был не готов посмотреть мне в глаза. — Мы с вами уже обсуждали: нам нужна уверенность, что все наши будущие проекты будут разоблачены в разумные сроки. Мы оставим массу зацепок — даже не зацепок, а явных несоответствий, таких, что любой тупица…
— Малкольм? — прервал я его, слишком шокированный, чтобы продолжать слушать, но все еще пытаясь говорить отчетливо и спокойно. — Малкольм, я не могу больше участвовать в этом. То, чем вы заняты, не только губительно, а и попросту опасно. Вы не можете не признать этого. — Он не отвечал, и во мне начало расти недоверие. — Неужели вы в самом деле станете это отрицать? Ваше дело, ваша игра, может быть, кажется вам осуществимой. Но там, в том мире, живут миллионы людей, которым ежедневно нужно осмыслять тысячи частиц новой причудливой информации, и у них нет времени и средств отделить реальность от очевидной фальшивки. Мир зашел слишком далеко, умы людей слишком напряжены, и мы понятия не имеем, на что клюнет следующий сумасшедший. Что вы намерены делать, если мы осуществим эту нашу последнюю затею, а какой-нибудь псих-американец с антикорпоративными и антиправительственными взглядами — а таких там в избытке! — увидит в ней причину, чтобы взорвать еще одно федеральное здание? А то и что-нибудь помасштабней? — Я замолчал и попытался увести разговор в сторону от моральной и политической диалектики, — увести с поля, на котором он был непобедим, — чтобы сделать упор на том, что прямо касалось и его, и остальных. — И еще: как долго вы рассчитываете выходить сухим из воды? Вспомните, с каким трудом нам удалось ускользнуть в этот раз, и чего нам это стоило. Вам стоит придумать что-нибудь другое, этот способ не…
Я прервался на полуслове, увидев, что его рука медленно поднимается.
— Хорошо, — сказал он, и в голосе его были печаль и горечь. — Ладно, Гидеон. — Он наконец развернул свое кресло; его голова поникла так сильно, что подбородок почти касался груди. Подняв затем голову, он так и не посмотрел мне в глаза; но горе в его лице было неподдельным и я исполнился жалости. — Я должен был сделать что-нибудь, чтобы предотвратить гибель Леона, — мягко произнес он. — Но каждый из нас знает, чем рискует.
— "Знает, чем он рискует"? Малкольм, ради всего святого — это же не война!
Эти гипнотические, тревожащие голубые глаза наконец встретились с моим жестким, пристальным взглядом.
— Не война? — переспросил он. Затем потянулся за парой костылей, прикрепленных сзади к его креслу. — Вы полагаете, — продолжал он окрепшим голосом, — что война не решает проблем. — С большим трудом он пытался встать на ноги, и хотя мне, как никогда прежде, безумно хотелось помочь ему, я сдержался и на этот раз. — Вы думаете, что такое лечение не поможет одолеть болезнь, от которой страдает мир. Отлично. — Он сделал несколько шагов в мою сторону. — Что бы вы прописали вместо войны?
Я просто не мог поддерживать разговор на таком уровне, и сказал об этом.
— Малкольм, речь не о «болезнях» и «рецептах». Цивилизация намеревается идти своей дорогой, и если вы будете пытаться ей мешать, вы лишь натворите еще больше бед. Может, вы и правы, может быть, информационное общество ведет нас к высокотехнологичному средневековью. А может, и нет. Может, мы просто не понимаем его. Может быть, Жюльен ошибается, и это вовсе не момент "локального экстремума". Может быть, во времена, когда Гутенберг выпустил свою первую Библию, тоже были люди вроде нас, что сидели в какой-нибудь технологически продвинутой коляске с лошадью и кричали: "Вот оно! Теперь все кончено!" Я не знаю. Но дело в том, что этого не знаете и вы! Единственное, что мы действительно знаем — невозможно остановить перемены и нельзя остановить развитие технологий. В прошлом нет ничего, что говорило бы о такой возможности.
Пока я говорил, Малкольм с медлительностью часовой стрелки развернулся, чтобы снова взглянуть на птиц.
— Все верно, — прошептал он.
Я готовился услышать возражения, и его слова прозвучали для меня полной неожиданностью.
— Вот как? — переспросил я, не понимая его.
Малкольм кивнул.
— Да. В прошлом нет ничего, что говорило бы в пользу такой возможности, — то есть пока что нет.
Он снова побрел к окну, а я последовал за ним, вдруг ощутив сильную нервозность.
— В прошлом — пока? Что вы имеете в виду? Малкольм, это бессмыслица.
Во время последовавших объяснений Малкольм, казалось, все меньше отдавал себе отчет в том, кто я такой и почему нахожусь в его комнате. Отсутствующее выражение и блеск его глаз, когда он смотрел на ослепительную синеву небес над морем, показались мне первым признаком серьезного душевного расстройства.
— А что, если в той комнате, — он указал на смежную с лабораторией комнату, — за прочной, очень толстой дверью вы найдете устройство, способное изменить и даже уничтожить историю и время — по крайней мере, в том виде, в котором мы их понимаем? Говоря коротко, когда станет возможным передвигаться сквозь временной континуум и вносить изменения в прошлое, «история» перестанет быть устойчивой фиксированной хронологией. Она превратится в живую лабораторию, где мы будем ставить эксперименты, чтобы улучшить текущие состояния нашей планеты и нашего биологического вида.
Если бы я воспринял эти заявления всерьез, то был бы крайне потрясен, но теперь я лишь больше уверился в том, что рассудок его помутился.
— Послушайте, Малкольм, — сказал я, кладя руку ему на плечо. — Постарайтесь понять: как врач, я обязан сообщить вам, что вы пережили, вероятно, довольно тяжелое потрясение, и возможно, не одно. Учитывая, через что нам всем пришлось пройти, я не удивлен. У вас есть друзья в Эдинбурге и, несомненно, они выяснят, услугами каких больниц мы сможем воспользоваться без излишнего шума. Если вы позволите мне провести кое-какие анализы и предложить курс лечения…
— Вы все же не ответили на мой вопрос, Гидеон, — заметил Малкольм. Его голос звучал все так же бесстрастно.
— Ваш вопрос? — переспросил я. — Ваш вопрос о путешествиях туда и обратно по времени — вы это имеете в виду?
Он медленно покачал головой.
— Не "туда и обратно". Никто всерьез не верит в возможность создания замкнутого временного туннеля, позволяющего субъекту переместиться в одном направлении и затем вернуться ровно в ту самую точку, из которой он отправился. На данном этапе это просто неосуществимо.
— Вот как? А движение в одну сторону, стало быть, осуществимо?
Малкольм не обратил внимания на мой сарказм.
— Физически эта задача не является особо сложной или необычной, — произнес он. — Как и в большинстве случаев, это вопрос в основном энергии. Электромагнитной энергии. А единственно доступный способ получения такого количества энергии…
— …сверхпроводники, — закончил я со внезапным содроганием, смутно припоминая статью, читанную мной по этому вопросу несколько месяцев назад. Я посмотрел на пол. Я все еще не верил, но меня отчего-то била крупная дрожь. — Микроминиатюрные сверхпроводники, — добавил я, и моя способность схватывать вошла в противоречие с моим неприятием его слов.
— Звучит знакомо, не правда ли? — Малкольму становилось все труднее сдерживать эмоции по мере того, как он продолжал. — Представьте себе, что вы не обязаны принимать настоящее, что досталось вам в наследство от прошлого. Вместо этого вы можете сконструировать иной набор исторических детерминант. Вы говорите, Гидеон, что современному миру нельзя помочь нашими средствами и что лекарств для этого нет. Что ж, эта же мысль пришла мне на ум более года назад. Но вопрос вовсе не в том, чтобы приостановить нашу деятельность. Мы должны были ее жестко упорядочить, и это частью объясняет то, что мы привлекли вас. Но мы были и будем должны продолжать делать то, что и раньше, пока не придет день, когда мы сможем изменить текущие условия нашей теперешней реальности, изменив прошлое. — Он поднес руку ко лбу, очевидно, ощутив последствия контролируемого, но от этого не менее сильного душевного волнения, с которым он произносил свой монолог. — И этот день уже недалек, Гидеон. Совсем недалек.
Я снова присел на стул. Самые тяжкие случаи безумия зачастую проявляются в нарочито рациональных формах; и я сказал себе, что ощущение тревоги, пришедшее тогда, когда я еще не утратил доверия к его словам, объясняется именно этим. К тому же я понимал, что не существует способа заставить его пройти мало-мальски серьезную программу восстановления, лечения и психотерапии. И все же я предпринял последнюю, неубедительную попытку достучаться до него:
— Малкольм, мне кажется, вы не отдаете себе отчета в том, что за язык используете. И в том, как он влияет на вас. — Он молчал — я счел это признаком явного интереса к тому, о чем я собирался говорить. — Вы говорите о "конструировании прошлого", — продолжал я. — Не кажется ли вам примечательным то, что вы вкладываете в эти слова, учитывая вашу личную историю? Не сомневаюсь, что вы хотели бы изменить настоящее, что "досталось в наследство" вам лично — у вас на это есть все основания. Но вы должны выслушать следующее, — я встал и шагнул к нему. — Вы можете использовать средства, разработанные вашим отцом, чтобы уничтожить мир, к созданию которого он приложил руку. Вы можете привести общество в смятение, одурманить его, навязав свою версию истории, вы можете даже наблюдать гибель людей и разрушение целых городов, и твердить себе, что это необходимый и благородный крестовый поход во имя борьбы со злом. Но в конечном счете вы все равно остаетесь тем, кто вы есть: вы все так же больны, все так же нуждаетесь в этих костылях и этом кресле, и все так же полны гнева и душевной боли. Вы не хотите менять прошлое в целом, Малкольм, — вы хотите изменить свое прошлое.
Несколько долгих минут никто из нас не произнес ни слова. Затем сверкающие глаза Малкольма сузились, и он кивнул раз или два. Добравшись до своего кресла, он медленно опустился в него, затем взглянул на меня и осведомился:
— Вам есть что сказать, Гидеон, помимо того, что и так совершенно очевидно?
Оскорбления от пациентов, страдающих манией величия, — самое обычное для меня дело; но должен признаться, что теперь я почувствовал себя задетым.
— Неужели вы можете называть это очевидным, — ответил я, стараясь не выдать голосом своей досады, — и при этом продолжать делать то, что вы делаете?
Он презрительно хмыкнул.
— Гидеон, — произнес он, качая головой с откровенным разочарованием. — Вы что же, вообразили себе, что я не проходил программ вроде тех, что вы предлагаете? В юности я все перепробовал: психотерапию, электрошок, медикаментозное лечение, что угодно — за исключением, правда, дальнейшей генной терапии, что мне кажется вполне простительным. И я выяснил, что мной движет, выяснил, как глубок мой гнев и в какой степени мотивы моих поступков являются личными, и в какой — философскими. Но в заключение я скажу вам то же самое, что говорил всем врачам, которых только видел. — Маниакальный блеск в его глазах немного угас, сменившись глубокой печалью. — На деле это ничего не меняет, не правда ли?
— Ничего не меняет? — повторил я в изумлении. — Господи, Малкольм, но если вы знаете, что ваши действия основаны на ваших личных предубеждениях и нерешенных проблемах…
— О, они решены, Гидеон, — отмахнулся он. — Я решил, что ненавижу мир, созданный моим отцом и ему подобными. Мир, где мужчины и женщины могут грубо влезть в генетическую структуру своих детей, просто чтобы улучшить их интеллектуальные показатели и чтобы те, когда вырастут, могли разрабатывать новые, еще более эффективные способы удовлетворить идиотские потребности общества. Мир, где интеллект измеряется способностью накапливать информацию, у которой нет ни контекста, ни цели, помимо дальнейшего ее распространения — и все равно человечество рабски служит ей. А известна ли вам, Гидеон, горькая правда, отчего информация поработила наш биологический вид? Потому что человеческий мозг обожает ее: он играет с получаемыми частицами информации, сортирует их и хранит, словно очарованный ребенок. Но при этом мозг терпеть не может глубоко изучать их и кропотливо выстраивать единую систему понимания. Но ведь только этот труд и порождает знание. Все остальное — пустая забава.
— И какое отношение все это имеет к осознанию вами ваших личных мотиваций? — осведомился я, не скрывая, что тирада эта меня порядком утомила.
Малкольм снова покачал головой.
— Гидеон, но сейчас это и есть мои личные мотивации. Я понимаю, что вы считаете, будто мне нужно лечиться. Но этой дорожкой я уже ходил, и — сказать вам что-то? В итоге я оказался там же, с чего и начал. Считается, что человек, отправляющийся в дорогу, знает, где он находится и что его окружает. Но он все там же. Как вы считаете, Гидеон, что должны делать люди после того, как они выяснили свои личные мотивации? Слагать с себя полномочия? Отказываться от своей роли в мире? Кого в истории человечества не стимулировали на действие его личные мотивы? И о каком развитии можно было бы вообще говорить, если бы не эти стимулы?
— Но это не главное, — возразил я. — Если вы на самом деле познали себя, то ваше поведение может измениться.
— А, чудодейственная мантра психолога! — почти закричал Малкольм. — Да, Гидеон, оно действительно может измениться, но как измениться? Сделаемся подобными Христу и подставим другую щеку алчности, эксплуатации, разрушению? Будем спокойно смотреть на то, как гибнет мир, потому что наши мотивы могут оказаться не совсем объективными? Знаете, да я скорее пойду и утоплюсь. Потому что вы говорите не об изменениях, Гидеон, вы говорите о параличе!
— Нет, — сказал я. — Я говорю о решении этих проблем теми способами, что не приводят к гибели миллионов людей.
— Я не разрушал этот город! — заорал он, и по дрожи, охватившей его тело, я понял, что новый приступ близок. Но, как ни стыдно мне признавать это, я был слишком потрясен его словами, чтобы что-нибудь предпринять. — Не я тренировал Дова Эшкола, — продолжил он, — и не я выпустил его в мир. И не я создал общество, столь зацикленное на коммерции, что оно отказывается регулировать даже самые опасные виды торговли! Но я скажу вам, что я сделал. Я перенес серию жестоких испытаний, позволивших мне обрести уникальную перспективу взгляда и, возможно, способность воздействовать на это самое общество. Может, мне отказаться от этого, ибо мои мотивы носят личный характер, а это так пугает людей вроде вас? Позвольте мне дать вам совет, Гидеон: следите за чистотой собственных побуждений, а мои предоставьте мне. — Он развернул кресло к окну и поднял вверх сжатый кулак. — Я знаю, почему я тот, кто я есть, но я не позволю тем, кто сделал меня таким, одержать окончательную победу. Я никогда не примирюсь с их попытками сделать весь мир гигантским ульем, где люди, во имя выгоды невидимых хозяев, играют с информацией вечно, а в итоге так и не знают ничего.
Это последнее роковое слово, почувствовал я, знаменовало собой завершение чего-то гораздо большего, чем этот разговор. Я не стал спорить, так как спор со столь всеобъемлющим психозом был бы бессмысленным. В некоторых его словах содержалась несомненная истина, хотя я и не мог оценить, сколь велика ее доля. Я был абсолютно уверен лишь в двух вещах, и в них я был уверен еще тогда, когда вошел в эту комнату. Я не мог ни оставаться на этом острове, ни участвовать в дальнейших проектах. Я хочу, чтобы Лариса ушла вместе со мной.
Все мое волнение перед перспективой сообщить об этом Малкольму испарилось само собой после его безумного монолога, поэтому я подал все это в довольно легкомысленной манере. Но лишь я закончил, как его лицо отразило столь неприкрытую угрозу, что я пожалел о своей дерзости.
— Я не уверен, что мне нравится эта мысль — отпустить вас в вольное плавание, Гидеон, — сдержанно высказался он, — теперь, когда вам известны все наши секреты. И вы на самом деле считаете, что Лариса уйдет вместе с вами?
— Если вы не встанете на ее пути, — ответил я со всей храбростью, на какую был способен. — А что до ваших секретов, то чего вы боитесь? Я — преступник, не забывайте, и я вовсе не стремлюсь к контакту с любыми властями. Но даже если б стремился — кто в целом мире поверил бы мне?
Малкольм задрал голову, обдумывая это заявление.
— Наверное…
Внезапно он начал хватать ртом воздух, а его руки взлетели к вискам. Я вскочил, чтобы помочь ему, но он отмахнулся от меня.
— Нет! — проговорил он, стиснув зубы и нащупывая в кармане свой шприц. — Нет, Гидеон. Это больше не ваша забота. Забирайте вашу нежную совесть и убирайтесь — сейчас же!
Что оставалось мне делать? Только подчиниться. После всего, что было сказано, прощания были бы неуместны, даже нелепы. Я просто подошел к двери и открыл ее. Весь гнев испарился, все сожаления умолкли. Выходя наружу, я оглянулся — Малкольм сидел, нашаривая шприцем вену руки и шепча что-то сквозь стиснутые зубы.
Я вдруг поймал себя на сожалении о том, что вся его болтовня о путешествиях во времени была столь явным бредом; теперь, когда все было сказано и сделано, в настоящем у этого человека и впрямь оставалось немного.
Глава 43
Оставался последний нерешенный вопрос: насколько подробно стоит рассказывать остальным о нашей беседе (если это можно назвать беседой) с Малкольмом? Я знал, что все они чрезвычайно преданы ему, хоть и каждый по-своему, и я отнюдь не собирался портить эти отношения. Но они имели право знать, что его поведение и речи заставили меня усомниться в его нормальности. Так что я попросил их прийти в мою комнату, и на закате все собрались у меня. Свой рассказ я вел, сидя в эркере окна; снаружи виднелась маленькая пещера, и вездесущие стаи морских птиц оживленно щебетали, разыскивая пищу. Это мешало мне говорить, приглушив голос, но я чувствовал, что сейчас так будет лучше. В своем описании я пытался сохранять непредвзятость, но вместе с тем быть искренним и ничего не упустить. Я подчеркнул упорный отказ Малкольма брать на себя какую бы то ни было ответственность за московскую трагедию, и подробно поведал о его неподдельной убежденности в том, что вскоре он сможет путешествовать во времени.
— Он случайно не говорил, чью конфигурацию взял за основу? — подал голос Эли. К моей тревоге и удивлению, он выглядел чрезвычайно заинтересованным.
Я затряс головой.
— Что?
— Не Геделя, нет? — продолжал свои расспросы Эли. — Кэтрин Керр? А может, Торна?
— Ну уж не Торна, — убежденно возразил Иона. — Даже Малкольму не по силам создать пространственно-временной туннель — в лаборатории…
— Эли? Иона? — Я слегка встревожился и дал это понять. — Если будете ему потакать, вы сделаете только хуже. Это — фантазия, потенциально опасная фантазия, основанная на множестве старых и новых психологических травм…
— Ты это знаешь точно? — Интонация была как у Малкольма, но голос принадлежал Ларисе. Она сидела рядом со мной, но смотрела в сторону; на лице ее была глубокая озабоченность. Она, казалось, с первой секунды моего выступления знала, что вскоре кризис наступит и для нее.
— Если это так, Гидеон, — вмешался Жюльен, — тогда вам известно больше, чем многим блестящим исследователям, что изучают этот предмет уже на протяжении нескольких поколений.
— Слушайте, я же читал Эйнштейна и Хокинга, — запротестовал я. Затем добавил в некотором смущении: — Ну, как бы то ни было, я читал Эйнштейна. Но я читал и о Хокинге. Они оба считают, что парадоксы, неотъемлемо присущие самой идее путешествий по времени, отменяют ее физическую возможность.
— Они отменяют лишь один из ее типов, — возразил Эли. Затем произнес те же слова, что и Малкольм: — Закрытый временной туннель. Но существуют и другие способы перемещения во времени, пусть они не слишком привлекательны…
— Полагаю, — твердо произнес полковник Слейтон, — что это не лучший момент для научной дискуссии о путешествиях по времени. — Он сурово посмотрел на меня. — Гидеон, я сожалею о том, что мне приходится говорить вам это, но все выглядит так, будто у вас есть некие личные причины для того, чтобы подвергать сомнению здравомыслие Малкольма. Уверен, вы сознаете это — и сознаете то, что мы это сознаем.
Жюльен, Эли и Иона отвели глаза, явно чувствуя себя неловко. Лариса же, напротив, придвинулась ближе.
— Ваше суждение несколько неожиданно, не так ли, полковник? — сказала она. — Гидеон не сделал ничего, что послужило бы основанием для подозрений или для неуважения.
— Гидеон прекрасно осведомлен о моем к нему уважении, Лариса, — ответил Слейтон. — Но он знает и о том, что я должен был задать этот вопрос.
Я кивнул Ларисе, подтвердив справедливость слов полковника и одновременно пытаясь безмолвно поблагодарить ее за заступничество.
— Я понимаю, полковник, — сказал я. — Но, поверьте, никакие личные интересы не заставили бы меня пойти на подобное искажение фактов, и даже не в силу этических соображений. Я считаю Малкольма своим другом. Не что иное, как дружба, побуждает меня сейчас предостерегать вас. Больше ничего я сделать не могу. Я сообщил ему, что не могу больше принимать участие в этой затее, и после довольно напряженного момента он согласился с тем, что я должен оставить группу. Так что случая разрешить вопрос о его психическом здоровье у меня больше не будет. Но я должен сообщать вам, что, по моему мнению, этим следует заняться, и заняться серьезно.
Полковник Слейтон выслушал все это и медленно кивнул. Его лицо можно было назвать почти взволнованным. Жюльен и братья Куперман, с другой стороны, не скрывали своего расстройства.
— Но, — в конце концов заговорил Эли, — куда ты направишься, Гидеон?
Я бросил быстрый взгляд на Ларису, но она не поднимала глаз.
— Я еще не решил.
— Существуют предписания о вашем аресте, — уведомил меня Слейтон. — Вопрос о США вообще не стоит, но даже Европа может быть для вас опасна.
— Знаю.
Впервые с начала моральных мучений из-за участия в затее Малкольма я начал трезво обдумывать возможность расставания с этими людьми. Вместе мы пережили столь многое за столь краткое время, что мысль об уходе жестоко терзала меня.
— Думаю направиться на юг, — продолжал я, отвернувшись от них. — Попробую найти место, где никто не обращает внимания на все это. — Я сделал попытку пошутить и улыбнуться: — Если кто-нибудь захочет меня проводить, то я не против.
Слейтон, Жюльен и Куперманы попытались улыбнуться в ответ, но вышло у них это не более убедительно, чем у меня. Настало время прощаться, и все мы это знали. Первым приблизился Слейтон, протянув мне свою сильную руку.
— Кто-нибудь из нас доставит вас в Шотландию на вертолете, Гидеон. У нас имеется аварийный резерв различных валют, так что с пустыми карманами не останетесь. И еще вам понадобятся личные документы и диски взамен прежних. Но будьте осторожны: мы можем настроить их под вашу ДНК так, что с обычным считывающим устройством проблем не будет; но если их прогонят через всеобщую базу ДНК, вам несдобровать. И хорошо бы вам взять пару пистолетов.
— Спасибо, полковник, — тихо сказал я, пожимая его руку.
Он взглянул мне в лицо. Его глаза сделались прозрачными и водянистыми, и у правого глаза проступил длинный шрам, — обычно, глядя на полковника, я уже не замечал этого шрама.
— И не слишком тревожьтесь за Малкольма. Он переутомлен. Мы присмотрим за ним и убедимся, что он пришел в себя. Когда это произойдет, вы сможете вернуться, Гидеон. Я знаю, что некоторые стороны этой борьбы вам не по душе; но теперь, когда и вы побыли ее участником, думаю, заново приспособиться к привычному миру вам будет… трудновато.
— Уверен, что вы правы, полковник, — ответил я. — Но не стоит держать в команде человека, на которого нельзя полностью положиться. А потом — ну… слишком много вопросов, вот и все.
Слейтон на секунду прикоснулся к своему шраму, затем сжал мое плечо.
— Полагаю, вы правы. Но я сожалею о том, что вы уходите, доктор Вулф. — Он медленно направился к двери. — Что до меня, то я и раньше видел сжигавших города безумцев. Может, не такого масштаба, но и этого достаточно, чтобы знать истинного виновника. Так что поверьте моему слову, Гидеон: вам не стоит взваливать это на себя.
Когда чеканные шаги Слейтона зазвенели по уличному булыжнику, ко мне зашли Эли и Иона. Эли одарил меня той же самой щедрой улыбкой, что сияла у него на лице, когда я впервые увидел его в тюрьме Бель-Аил.
— Я задолжал тебе один побег из тюрьмы, — сказал он. — Так что если ты попадешься и получишь шанс сделать тот самый телефонный звонок…
Я рассмеялся и пожал ему руку. Затем перевел взгляд на Иону.
— И ничто из того, что я говорил, не встревожило ни одного из вас?
— Насчет Малкольма? — откликнулся Иона. Я кивнул, и он продолжил: — Полковник прав, Гидеон. Психическое и физическое состояние Малкольма очень тесно связаны — я думаю, что ты разберешься, как и почему, не хуже любого из нас. Но мы все же знаем его с юных лет. Он приходит в норму, если дать ему отдохнуть.
— Но… эта затея с путешествиями во времени…
— Всего лишь стресс и усталость, Гидеон, поверь нам, — ответил Эли, вскинув голову. — С другой стороны…
— С другой стороны, — закончил за него Иона, — я непременно хочу быть поблизости. На всякий случай. Это будет похлеще драки за место в Гарварде или Йеле.
Все было ясно, ничего недосказанного не осталось, — оба брата почти одновременно сняли очки в едином жесте сдерживаемых чувств.
— Ну… до свидания, Гидеон, — сказал Иона.
— И помни, что сказал тебе полковник Слейтон, — произнес в свою очередь Эли. — Жизнь там, снаружи, может теперь показаться тебе ужасно чуждой. Только свистни, и мы заберем тебя назад.
Оба, выходя за дверь, помахали мне, но выглядели и, очевидно, ощущали при этом явную неловкость. Я повернулся к Жюльену, вдруг ощутив, как к горлу подступает огромный ком. Фуше тактично привстал и предостерегающим жестом поднял руку, кивнув в сторону Ларисы.
— Пойду прогрею вертолет, Гидеон, — сказал он. — Скоро стемнеет, а ночной полет всегда привлекает меньше внимания.
Когда он вышел, я повернулся к Ларисе. Обхватив себя руками, она недвижно стояла, не сводя взгляда со скалистой пещеры за окном. Готовый увлечь ее нежными, неотразимыми грезами о нашем совместном будущем, я улыбнулся и шагнул к ней…
Но тут на меня нахлынуло, внезапно и резко, то же самое чувство, что поразило меня в начале нашей последней ссоры с Малкольмом: мгновенная утрата иллюзий, жуткая и опустошающая, словно удар бритвой в сонную артерию. Угрюмое лицо Ларисы предельно ясно и жестко давало понять, что, заставив ее выбирать между братом и мной, я неизбежно проиграл бы и что соперничество будет тщетным. Я понял, что все мои отчаянные фантазии порождены предумышленным избеганием и отрицанием всего того, что я знал об их общем прошлом. К тому же не только он нуждался в ней, но и она сама достойно ценила связующие их узы. Лишь эти узы любви помогли им хранить хрупкую, ограниченную способность к душевной близости и верности обязательствам на протяжении всего их погубленного детства и во все последующие годы. Я был просто глуп, считая, что наши чувства друг к другу перевесят эту привязанность; было чудовищной ошибкой даже надеяться на то, что она предаст и его, и себя.
— Скоро стемнеет, — сказала она, глядя в небо, — времени мало… — она еще крепче обхватила себя руками, — …и слава богу, — выдохнула она, давая понять, что попытки продолжать разговор бессмысленны.
Я удерживал себя в нескольких футах от нее, хотя это отнимало у меня все силы.
— Если ему станет хуже, Лариса…
— Я знаю, что тогда делать.
Я глубоко вдохнул и, испытывая неловкость, продолжил.
— Есть то, о чем я решил не рассказывать при всех: он упомянул о самоубийстве. Это могло быть преувеличением в пылу спора, а могло быть и правдой. Ведь он действительно измотан так, что от него мало что осталось.
Она кивнула.
— Я верну его к жизни. У меня всегда получалось.
Меня поразил ее голос, произносящий эти слова: голос самой вечности, голос разбитого сердца. Маленькая девочка, строившая тайные планы вместе со своим больным, но храбрым братцем, что так отчаянно вступался за нее, пыталась пробиться сквозь жесткий панцирь самообладания женщины, чтобы сказать, что она ни за что не оставит его, и все же отчаянно, страстно желает, чтобы я не уходил. Однако же в эти мучительные минуты она не издала ни звука. Но когда я уже решил, что панцирь останется неодолимым, а крик — безмолвным, и собрался было выдавить "ну, пока" и заставить себя уйти, — произошел взрыв. Она развернулась, кинулась ко мне в безмерном горе, смахивая слезы, и спрятала лицо у меня на груди, как делала много раз прежде.
— Нет, — бормотала она, молотя меня кулаками со всей силой, на которую была способна. — Нет, нет, нет…
Я нежно взял ее запястья, поцеловал ее серебряные волосы и прошептал:
— Береги себя, Лариса. — Потом осторожно отвел ее руки и выбежал из комнаты вон. Ее рыдания слышались мне еще долго, даже после того, как я оказался на борту вертолета, низко летевшего над ледяной Северной Атлантикой.
Глава 44
Я бежал на юг. Пока мы летели в Эдинбургский аэропорт, Жюльен — истый галл, он знал толк в сердечных делах, и потому все понимал и сочувствовал мне — пытался меня утешать. Он уверял, что никто не знает своего будущего, что мы с Ларисой по крайней мере живы, и что мы слишком хорошо подходим друг другу, чтобы расстаться вот так внезапно и навсегда. Парадоксальный эффект от его слов лишь больше укрепил в мрачном убеждении, что я навсегда потерял эту странную, удивительную женщину, которую искал всю жизнь. Когда мы приземлились в аэропорту Уильям Уоллес, Фуше вылез наружу, крепко обнял меня, расцеловал в обе щеки и заверил, что мы еще встретимся. Но затем вертолет поднялся в воздух, а я остался стоять внизу; с собой я взял лишь небольшую сумку с двумя пистолетами внутри, парализатором и рейлганом — оба из композитного пластика, который не по зубам ни одной из охранных систем. Не успел я вздохнуть и собраться с мыслями, как пришлось бороться с охватившим меня чувством жуткого одиночества. Я был вправду одинок, и это чувство невообразимого одиночества заставило меня усомниться в моральных принципах, из-за которых я оказался в положении столь незавидном.
Все следующие дни были даже более путаными и странными. Куда бы я ни шел — в ресторан, в отель, в бар — всюду были новости о московской катастрофе и о ходе ее расследования. Сообщалось о таинственном летательном аппарате, что, по слухам, сопровождал на задание террориста-смертника. Сам же я, по сведениям различных спецслужб и полиции, был на его борту, и моя фотография, вместе с фотографиями Слейтона, Ларисы и бедняги Леона, мелькала на общественных телеэкранах с пугающей частотой. Я был вынужден изменить внешность и подделать идентификационные диски еще до выезда из Эдинбурга. И еще я был вынужден мириться с тем, что вижу лицо Ларисы всюду, даже в самых неожиданных местах, а это было и вовсе невыносимо.
Из Эдинбурга я морем добрался до Амстердама (путешествовать самолетом я не мог, так как авиакомпании были обязаны проверять идентификационные диски по всеобщей базе данных ДНК). Оттуда я двинул на юг автобусом, поездом и даже автостопом. Я пытался скрыться в неприметном уголке этого мира и, в надежде сохранить свои свободу и рассудок, сколько мог, держался районов, где информационные технологии были распространены не так широко.
Первое мне удалось, второе — не слишком. Я все еще не знал в точности, куда направляюсь. Дни проходили, сливаясь в недели; постоянная необходимость подделывать документы, взламывать банковские базы данных (когда иссякли деньги, полученные на Сент-Кильде), и постоянно врать обо всех подробностях моего существования — все это полностью истощило меня эмоционально и умственно. Положение ухудшилось еще более, когда рядом с одним итальянским кафе я увидел газетный терминал. На первых полосах всех газет, что высвечивались на экране, были заголовки со словом «Вашингтон» и изображения первого президента Америки. Я долго рыскал в поисках места, где продавалась "Нью-Йорк Таймс", нашел, уплатил и с бьющимся сердцем дождался распечатки. Мои бывшие товарищи вновь, стало мне ясно, перешли к активным действиям; единым духом проглотив две порции неразбавленной граппы, я вчитывался в подробности. Все шло так, как мы рассчитали; не сбылась лишь надежда Малкольма на грубые ошибки в содержании фальшивки. В историю поверили везде, особенно в Европе: здесь всегда с готовностью принимали любое подтверждение нравственной ущербности Америки.
Шок имел множество последствий. Воспоминания о моем недавнем участии в этой афере наводили тревогу даже теперь, когда я был так далек от этого. Более того: я знал, что любая новость, которую я прочту или увижу, может оказаться ложью, каких бы важных вещей она ни касалась. Так начала распадаться последняя, хрупкая связь с реальностью, что я так лелеял в эти недели. Я начал много пить; себе я говорил, что это необходимо, чтобы заручиться благосклонностью местных жителей таким образом, чтобы никак при этом не выделяться и чтобы ни одному полицейскому в округе не пришло в голову разослать мое фото по Сети или проверить мои диски по всеобщей базе данных. Сказать правду, мне просто больше нечем было бороться с предельным отчуждением.
Продвигаясь к югу Апеннинского полуострова, я все ниже падал в алкогольный мрак, а когда по причине ненадежности электронных банковских услуг в этой полуанархистской части страны у меня начались трудности с деньгами, падение перешло в деградацию. Достигнув Свободного Неаполя, я уже походил на местного бродягу; но в ином случае я бы не оказался в захудалом кабаке и не узрел бы на его стене бессмысленный атрибут убранства, который изменил все.
В оцепенении я оторвал взгляд от вонючего стола, на котором вот уже около часа покоилась моя голова, и увидел пожелтевший плакат с рекламой африканских красот. Этой штуке было никак не меньше сорока лет — реликт давней эпохи, когда Темный Континент еще не обезлюдел от СПИДа и племенных войн. Но он воспламенил мое пьяное воображение. Фантастические видения страны буйных джунглей, продуваемых всеми ветрами саванн, изумительной живой природы, и все это к тому же не заражено чумой информационных технологий, так как Африка была самым большим из островов "аналогового архипелага", — все это гвоздем засело в моем размякшем мозгу. Я даже провел одну ночь в попытке протрезветь, чтобы понять, есть ли в этой идее хоть какой-то смысл.
К своему изумлению, я обнаружил, что смысл в ней имеется, а трезвость позволила мне оценить реальные масштабы нынешних бедствий континента. Решено: войны и болезни мне куда больше по душе, чем тюрьма и безумие. Так что я привел себя в порядок, напялил личину респектабельного американского бизнесмена с дурной привычкой к азартным играм и направился к печально известному неаполитанскому ростовщику. Решив, что ничем не рискует и что деньги его уплывут не дальше местных игорных домов с высокими ставками, тот с радостью ссудил мне денег, которые мне были нужны для достижения своей заветной цели.
За недели, проведенные здесь в качестве завсегдатая худших питейных заведений и наркопритонов города, я свел знакомство с двумя особенно гнусными типами. Это были французские летчики. Они занимались контрабандой оружия на "аналоговый архипелаг", а свободное время проводили в Неаполе, на улицах которого можно было достать гашиш и героин наилучших сортов. Посетив одну из их нор, я выяснил, что сейчас они доставляют партию товара в Афганистан, но должны вернуться через неделю.
Эта следующая неделя была полна тревог, но и надежд. Я все более убеждался, что скоро окажусь на земле, которую информационная революция обошла стороной, где не имеют значения все те сложные философские и социальные вопросы, что завели мою жизнь в тупик, и куда не проникли непрерывные упоминания о московской катастрофе, с непременными рассуждениями о загадочном "корабле-призраке".
Бросив пить и начав тратить деньги не на выпивку, а на книги о путешествиях, я зашел так далеко, что стал мечтать о том, как начну в Африке новую жизнь. Мне не помешали даже многочисленные напоминания тех же книг о том, что большая часть видов живой природы — основная приманка туристов прошлого — ныне полностью вымерла. Кроме того, из-за повсеместно распространенных на материке болезней и беспорядков всем путешественникам-иностранцам было нужно, во-первых, сделать кучу прививок, а во-вторых, поддерживать связь с консульствами своих стран или с представителями ООН. Этим рекомендациям я последовать, понятно, не мог; первой — потому что это означало предоставить врачу образчик ДНК, второй — по еще более очевидным причинам. Но я был по-прежнему поглощен своими мечтами и продолжал лихорадочные приготовления к поездке.
Когда французские летчики наконец вернулись из Афганистана, то вначале они не желали и слышать о том, чтобы переправить меня в Африку, ни за какие деньги. Одно время казалось, что плану моему не суждено осуществиться, но вскоре удача (или то, что я принимал за нее) повернулась ко мне лицом. Местный торговец предложил французам доставить большую партию стрелкового оружия человеку, чье племя оккупировало столицу Руанды Кигали. Летчики настаивали на том, чтобы доставить оружие парашютом, так как за пределами Руанды никого, даже других африканцев, нельзя было уговорить приземлиться в гниющих руинах этого города, где местные отряды дрались среди усеянных трупами улиц, словно псы над отравленной костью. Их условия были приняты, и сделка состоялась. Летчики сообщили мне, что на обратном пути собираются приземлиться на заправку в Найроби, и если я согласен высадиться в Кении, то они готовы взять меня с собой — если у меня, конечно, еще сохранилась та сумма, которую я сулил им ранее.
Так что два дня спустя я лежал на зачехленных парашютах, сложенных, в свою очередь, на шести ящиках чудовищно устаревшего французского оружия. Чтобы обойти Судан с его беспредельно свирепой гражданской войной, самолет пролетел Красным морем до побережья Эритреи, откуда можно было без опасений лететь вглубь континента: война, голод и чума выкосили население не только Эфиопии, но и далеко за пределами Эритреи. Заключительным этапом нашего полета должен был стать безумный рывок над охваченной войной Угандой. Наверно, чтобы как следует подготовиться к этому опасному маневру, оба пилота вкололи себе изрядное количество припасенного героина. Все перечисленное делало жизнь весьма нескучной; но добавление в общую картину зенитного артобстрела сделало это приключение еще более захватывающим. Летчики к тому моменту не слишком хорошо справлялись даже с обычными условиями полета, поэтому битва разразилась совсем уж некстати. Как только мы получили прямое попадание в один из двигателей и начали стремительно терять высоту, они заплетающимися языками стали злобно орать друг на друга, а я уже не видел путей к спасению. Пилоты, однако, видели: один из них схватил пистолет, быстро метнулся ко мне и, угрожая пулей, приказал надеть один из парашютов. Меня, очевидно, сочли подходящим для выброски балластом, и, хоть я и пытался спорить на ломаном французском, было ясно, что в случае неповиновения меня просто пристрелят и выкинут тело за борт.
Я прыгнул.
Поздней я понял, что мое приземление около водопадов Мерчисон, стоившее мне всего-навсего небольшой трещины левой берцовой кости, было истинным чудом, так как я никогда раньше не прыгал с парашютом, а первый свой прыжок сделал над немыслимо прекрасной, но и столь же коварной территорией Центральной Африки. Конечно, даже маленькая трещина может причинить исключительную боль и, собрав воедино как свои умения, так и немногочисленные пожитки, я принялся стонать все громче и громче. Ошибка. Части того отряда, что стрелял в наш самолет, отследили полет моего парашюта и теперь надеялись захватить пленного. Без всякого сомнения, они были сильно разочарованы, что это оказался всего-навсего я, причем разочарование сопровождалось знакомством с гуманным действием пистолета-парализатора, который я приготовил заблаговременно.
Чтобы определить место, где я нахожусь, потребовались весьма смелые гипотезы. После нескольких часов ковылянья сквозь довольно высокую растительность я вдруг наткнулся на широкое водное пространство. Я знал, что мы не настолько уклонились к югу, чтобы оказаться у озера Виктория, следовательно, это могло быть лишь озеро Альберт. Я был на северном берегу, а из этого озера, как мне вроде бы вспоминалось, берут начало истоки Белого Нила. Следуя их направлению, можно попасть в Судан, но туда я точно не хотел идти. Восток и юг — это Уганда с ее бойней, а запад? На западе опустошенная войнами страна, которой за последние четверть века сменяющие друг друга режимы дали столько имен, что остальной мир вновь вернулся к древнему общему названию: Конго. Методом исключения отбросив остальные варианты, я принял решение направиться туда, в эту великую неизвестность, и захромал по горам Митумба, без малейшего представления о том, куда иду и что буду делать, когда доберусь.
Проходили дни. Сведения о полном уничтожении живой природы, что я прочел еще до вылета, оказались правдой. Мне ни разу не попались следы зверей, больших хотя бы настолько, чтобы их можно было съесть, и я не слышал звуков жизни, за исключением разносящегося по горам эха выстрелов. Весь мой рацион составляли насекомые, дождевая вода, которая собиралась в громадных листьях, да корешки, обладающие болеутоляющим (а также галлюциногенным) эффектом. Последнее хотя бы позволило мне временами забывать о боли, пульсирующей в ноге. Но измененное сознание не мешало понимать, что скоро я буду мертв. И когда в конце долгого перехода я снова узрел озеро Альберт (ведь компаса у меня не было, а те, кто думает, что новичку легко сориентироваться в дикой местности по одним только звездам и солнцу, явно никогда не пробовали этого сами), то просто сел на пригорок и рыдал от тоски, пока от голода и усталости не потерял наконец сознание.
То, что меня привел в чувство и затем унес на себе человек, говорящий по-английски, удивляло куда меньше, чем то, что я вообще остался жив.
— Ты полный дурак, — со смехом сказал высокий, сильный мужчина в солдатской одежде, перебросивший меня через плечо. — Ты что, приехал посмотреть на горилл, а затем обнаружил, что они все мертвы?
— Дурак? — повторил я. Повернув голову, мотающуюся вверх-вниз, я увидел еще нескольких идущих рядом солдат; их камуфляжная форма выгорела на солнце, но винтовки блестели. — Почему ты зовешь меня дураком?
— Всякий чужак в Африке — дурак, — ответил мужчина. — Тут людям не место, разве что ты родился здесь. Как твоя нога?
На самом деле моя нога пульсировала от боли при каждом его шаге, но я спросил лишь:
— Как вы узнали?…
— Мы видели, как ты прыгнул из самолета. И приземлился. И застрелил наших врагов! Мы думали, что джунгли заберут тебя. А потом ты начал причитать, как женщина. Это могло привлечь наших врагов. Так что мы решили, что лучше спасти дурака, чем самим стать большими дураками и позволить убить себя из-за него.
— Звучит логично, — согласился я. — Ты хорошо говоришь по-английски.
— Когда я был ребенком, тут была школа, где ему обучали, — ответил он. — За горами.
— А… — Желая знать, сколько мне еще так висеть, я поинтересовался: — А куда мы, кстати говоря, идем?
— Мы доставим тебя к нашему вождю, Дугумбе. Он решит, что с тобой делать.
Я еще раз бросил взгляд на воинов. Выглядели они довольно свирепо.
— А не свойственно ли ему, случаем, сострадание?
— Сострадание? — снова засмеялся этот человек. — Понятия не имею. Но он справедлив, даже к дуракам. — Не останавливаясь, он перебросил меня на другое плечо и прибавил: — Это, должно быть, что-то очень ужасное.
— Что — это? — спросил я, вздрогнув от боли.
— То, что загнало тебя сюда, — просто ответил он. — Ты должен быть загнан. Это понятно. Ни один дурак не выбрал бы это место сам.
Глава 45
Вскоре я знал, что этого человека звали Мутеса. В последующие месяцы он и его семья стали моими спасителями, приняв меня к себе на правах не то подопечного, не то домашнего любимца. Именно они вызвались мне помочь, когда вождь их, уже упоминавшийся выше Дугумбе, заявил, что я не могу остаться в передвижном вооруженном лагере его племени, не имея попечителя.
Дугумбе воображал себя просвещенным деспотом. Наряд его представлял собой продуманное сочетание деталей традиционного костюма и современных стандартов военной формы. Вождь любил также пересыпать свою речь обвинениями и угрозами в адрес Запада. Основой же его собственных жизненных установок был, по его словам, главный завет одного из его предков: "Хорошими бывают только слабые люди, но они хорошие лишь потому, что недостаточно сильны, чтобы быть плохими". За всей этой хвастливой мишурой обнаруживалась, однако же, удивительная ясность мысли, и даже эрудиция, и в скором времени его отношение ко мне смягчилось. Из-за того, что оба мы осуждали технологически развитый мир за пределами Африки, мы с Дугумбе на самом деле вскоре стали добрыми приятелями. Но моя изначальная признательность и добрые чувства к Мутесе, его жене и семерым детям оставались неизменно сильны.
Дугумбе с самого начала ясно дал понять, что семья, что согласится приютить и кормить меня, — еще не все, и что я буду обязан занять место в рядах его впечатляющего войска. Это были пять сотен дисциплинированных, закаленных в боях и, надо сказать, абсолютно беспощадных мужчин. Я, разумеется, не собирался делиться с ними уникальной техникой из своего рюкзака. Мне также повезло в том, что Мутеса и его отряд были достаточно далеко от места моего падения и потому решили, что я просто застрелил их врагов из обычного оружия. К тому же меня совсем не прельщало участие в племенной войне с американской или европейской винтовкой в одной руке и грубым самодельным мачете — в другой, и я спросил Дугумбе, есть ли у его племени какой-нибудь военный врач. Тот ответил, что у его племени, конечно же, есть шаман; но, надо признать, что когда дело доходит до боевых ран, западная медицина порой справляется с ними куда лучше. Так я стал полевым хирургом, опираясь на полученные в медицинской школе навыки, а также (и даже в большей степени) основные правила гигиены и стерилизации.
Всю зиму и весну мы провели в военном походе в горах. Я потратил много времени, изучая растения с лечебными свойствами, известные племени Дугумбе. В конце концов нам удалось составить примитивную аптеку. Это было очень кстати, потому что никаких лекарств в западном смысле этого слова здесь не было. Когда эпидемия СПИДа достигла пика, западные фармацевтические компании — после громких благотворительных акций с завозом ничтожных количеств анти-ВИЧ препаратов — прекратили поставлять в нищую Африку не только эти дорогие лекарства, но и средства против остальных заразных болезней, выкашивающих континент, вроде "сонной болезни", малярии, дизентерии. Нужда заставила женщин таких племен, как племя Дугумбе, искать новые лекарства в джунглях (шаман больше полагался на заклинания и нелепые снадобья из высушенной плоти людей и животных), и они открыли несколько растений, действующих как сильные анальгетики и антибиотики. Некоторые из них, вроде того корня, что я попробовал, едва попав в Африку, вызывали серьезные побочные эффекты, от галлюцинаций до летального исхода; но в малых дозах могли быть очень полезны. Мне показалось, что в этом есть некая ирония: ведь прояви те самые фармацевтические компании, что хладнокровно списали Африку со счетов, хоть немного прозорливости, они могли бы получить громадные прибыли.
Дугумбе решил отказаться от участия в местной ярмарке рабов из-за необходимости двигаться дальше. Этим он спас меня от мучительных угрызений совести. Хотя торговля людьми в Африке никогда не прекращалась, в последние годы ее возросший размах достиг масштабов, что были в древности. Я часто слышал, что Дугумбе упоминает о работорговле как о благородном обычае, но предпочитал пропускать эти слова мимо ушей. Точно так же я не стал придавать значения разным будоражащим аспектам фольклора племени, и в особенности нелепым указам шамана. Я был очень доволен тем, как хитроумно смог вырваться из лап всемогущего информационного общества. Ночные разговоры с Дугумбе об этом зле лишь укрепляли мое довольство, и я закрывал глаза не только на пустячные склоки, лежавшие в основе большинства военных конфликтов, но и на частности вроде вреда, наносимого чистыми и мудрыми обычаями тем которых я любил с каждым днем все больше. Долгое время местные ритуалы и обычаи не доставляли мне особых тревог, и так было вплоть до самого лета, когда я столкнулся с проблемой настолько серьезной, что едва не лишился жизни.
Однажды вечером, подойдя к группе брезентовых палаток, что служили домом семье Мутесы, я застал всех в необычайно торжественном настроении. Мутеса вышагивал вокруг с видом властного патриарха, что резко контрастировало с его обычно веселой и игривой манерой общения с женой и детьми. Жена же его, добрая Нзинга, оставалась абсолютно безмолвной, а это было очень необычно. Четверо сыновей Мутесы, как обычно, занимались чисткой своих и его винтовок, а три девочки сгрудились в одной из палаток. Все они плакали, и громче всех плакала старшая, Ама, которой было всего тринадцать.
Я спросил Мутесу, что за беда пришла в его дом.
— Никакой беды, Гидеон, — отвечал он. — Мои дочери плачут по глупости.
— А я? — выкрикнула Нзинга, что готовила ужин. — Я тоже плачу, потому что я дура?
— А в тебе говорит твоя непокорность! — заорал в ответ Мутеса. — Заканчивай готовить мне еду, женщина, и приготовь свою дочь! Скоро придет шаман.
— Скоро придет мясник, — произнесла Нзинга, проходя мимо нас в палатку, где прятались ее дочери. Мутеса замахнулся на нее, но я удержал его руку, но не думаю, что он и вправду ударил бы ее. И все же его явно что-то мучило, и эта неловкость словно заражала все вокруг.
— Зачем придет шаман, Мутеса? — спросил я. — У тебя кто-то болен? Если так, я могу…
— Ты не должен вмешиваться, Гидеон, — твердо сказал Мутеса. — Я знаю, что вы на Западе этого не одобряете. Но время Амы пришло.
Все было абсолютно, предельно ясно. Я охнул от ужаса, поняв, о чем идет речь, и сжал руку Мутесы.
— Ты не должен этого делать, — сказал я тихо, но с гневом. — Мутеса, умоляю тебя…
— А я умоляю тебя, — ответил он, и его голос смягчился. — Гидеон, так приказал Дугумбе. Отказ означает смерть девочки, а если ты вмешаешься, то умрешь тоже.
Он освободился от моего захвата, — на лице его был уже не гнев, но глубокая печаль, — и проследовал за своей женой в палатку, чтобы утешить дочь. А я ошеломленно стоял там и пытался понять, что же делать, чтобы остановить этот отвратительный ритуал перехода, который должен был свершиться.
Из-за шока я плохо соображал. А когда я услышал трескотню старух, собравшихся вокруг палатки и несущих идиотский бред про "вступление во взрослую жизнь", то и совсем потерял голову, выскочил наружу и заорал, чтобы они заткнулись и убирались вон. Но они совершенно проигнорировали меня, дав понять, что мой статус чужака делает меня полностью невидимым в столь важный миг ритуала. Как бы то ни было, я продолжал бесноваться и орать на них до тех пор, пока не пришел шаман, в сопровождении нескольких вооруженных людей довольно угрожающего вида. В руке шаман держал ужасный нож, и это зрелище, а также брошенный им пронзительный взгляд, вернули меня в палатку, где Мутеса уже держал трясущуюся, рыдающую девочку.
— Мутеса, — сказал я, охваченный дрожью, понимая, что остановить этот кошмар нельзя. — Хотя бы скажи шаману, чтобы он позволил мне подготовить ее. У меня есть лекарства, которые смягчат боль, и к тому же мы должны обработать нож и рану.
— Гидеон, тебе нельзя вмешиваться! — еще раз заявил Мутеса. — Это не обсуждается. Все будет сделано так, как делалось всегда. — Мне показалось, что он вот-вот расплачется сам, когда он произнес: — Она — ребенок женского пола, Гидеон. Боль тут ни при чем, важна лишь церемония. — От этих слов Ама в ужасе пронзительно завизжала, и Мутеса крепче обхватил ее. Приказав ей молчать, он потащил ее наружу, к собравшейся толпе.
Крики Амы были ужасны и до того, как обрезание началось; но когда нож вонзился в тело, послышался самый страшный и невыносимый звук в моей жизни. Я схватился за голову и подумал, что сейчас сойду с ума, но вдруг мне в голову пришла мысль. Я метнулся к своему рюкзаку и достал парализатор. Если я не могу остановить это неописуемое действо, то хоть облегчу мучения ребенка.
Я выскочил наружу и увидел картину столь вопиющую, что она навеки запечатлелась в моей памяти. Не было никакого специального места, отведенного для процедуры, ни даже куска ткани на земле. "Ребенка женского пола" держали так, чтобы всем было хорошо видно, как ее гениталии отрезают прямо в грязь, словно кастрируют животное. Неожиданным воплем я нарушил ход церемонии, и при виде оружия шаман с окровавленным ножом в руке сделал шаг назад, освободив мне линию огня. Я тут же нажал на спусковой крючок, тело Амы подскочило в воздух на несколько дюймов, и сознание покинуло ее, безболезненно и милосердно.
— Она просто спит! — заорал я, используя те немногие слова, что знал на их языке. Затем я быстро направил оружие на стражей шамана. — Скажи шаману, что он может продолжать, Мутеса, — сказал я по-английски, откидывая полотнище у входа в палатку и заходя внутрь. — И да простят вас ваши боги.
Глава 46
Нет нужды говорить, что после того вечера все для меня переменилось в лагере Дугумбе. О да, я спорил об этом с вождем, многажды пытаясь убедить его на протяжении многих ночей. Но по большей части он находил мои заявления разве что забавными, хотя в нескольких случаях они довольно сильно его разозлили. Женщину, что получает наслаждение от секса, сказал он, нельзя подчинить. Она станет переходить из палатки в палатку, как шлюха, но шлюх в его в лагере не будет. Далее он сказал мне, что хотя ему нравится мое общество и он выражает мне благодарность за усилия от имени своего народа, впредь мне стоит вести себя более осмотрительно — он, Дугумбе, может вынести ровно столько (но не больше) дерзости от человека, особенно белого человека, и ему не хотелось бы делать меня примером для назидания. Я понимал, что угроза, крывшаяся в его словах, была реальной, и закруглил этот разговор. Взамен я решил тайком делать все, что мог: учил матерей перед ужасным обрядом давать девочкам анальгетики и, когда мы смогли их получить, опиаты. Но на деле многие из этих женщин, сами прошедшие эту пытку, не были склонны облегчать страдания дочерей, собственной плоти и крови, поэтому увечья творились тем же манером, что и прежде.
Ничего не вышло и с моим парализатором. Я знал, что солдаты, присутствовавшие при церемонии, доложат о нем Дугумбе (хотя шаман, не желающий признать, что чьи-то возможности превосходят его собственные, вряд ли бы пошел к вождю). Поэтому ночью я тайно прокрался за пределы лагеря и зарыл аккумуляторы излучателя. Когда Дугумбе потребовал показать ему эту вещь, я преподнес ему ее как дар, и, когда парализатор не произвел никакого эффекта, он отбросил его прочь, заявив, что солдаты глупы, а Ама потеряла сознание просто от боли. Это поставило меня в затруднительное положение, так как у меня осталось лишь оружие, которое убивает. Поэтому я стал вести себя крайне осмотрительно, избегал споров (что означало избегать шамана), и сосредоточился на моих врачебных обязанностях.
Но разочарование сделало жизнь здесь еще труднее, и вскоре я уже задавался вопросом, действительно ли, попав в Африку, я смог избегнуть зла "века информации". Чем была "мудрость предков" народа Дугумбе, как не «информацией»? Неписаная, верно, но не менее могущественная — и поддающаяся манипуляции. Чем занимался Мутеса в своей палатке? Он пытался уверить себя в том, что было абсолютной ложью, и в душе он чувствовал, что это ложь. Но чтобы сохранить свое место и лояльность племени, он должен был принять эту ложь. Разве не мог он аккуратно вывести слова Mundus vult decipi над входом в свою палатку? То зло, которого я бежал, садясь в самолет французских летчиков под Неаполем, — не было ли оно изначально присуще человеческому роду, независимо от времени и технологического уровня являющимся всюду, где бы ни утвердился человек?
И не был ли прав Малкольм, говоря, что мы не сможем ничего изменить, пока не научимся преобразовывать прошлое?
Такие мысли кипели в моей голове не только днем, но даже и во сне. Однажды ночью в эти сны ворвался знакомый звук — глубокий гул корабля Малкольма, который использовали для того, чтобы устрашать врагов или выводить из строя их аппаратуру. Просыпаясь, я решил, что эту ассоциацию породило мое подсознание. Так я думал, но затем Мутеса растолкал меня и передал слухи о странном летательном аппарате, что направляется в сторону лагеря с северо-востока, и я понял, что звук был настоящим.
— Говорят, что они ищут тебя, Гидеон, — торопливо сообщил он мне, — и что если на них нападут, то они воспользуются солнечной силой и уничтожат целые поля, леса, даже деревни.
Я сел на своей постели, пытаясь осмыслить происходящее. Ясно, что корабль прилетел, и ясно, что прилетел он за мной: он приближался, повторяя путь, которым шел сюда я сам. Мои передвижения по Европе и затем по Африке моим друзьям было, конечно же, нетрудно отследить. И с учетом тех чувств, что я с недавнего времени начал испытывать как к лагерю, так и ко всему "аналоговому архипелагу", вначале появление корабля казалось мне чем-то добрым и желанным. Но стоило моей голове проясниться, как пришли мысли, повергшие меня в глубокий ужас.
Зачем они явились? Мой разрыв с Малкольмом был полным и окончательным, и я слишком хорошо его знал, чтобы надеяться, будто он примирится с человеком, высказавшим такие серьезные сомнения в его труде. Поэтому не примут меня и остальные, несмотря на все теплые чувства, что мы питали друг к другу. Даже Лариса не желала, чтобы я оставался с ними, если не верю в то, что они делают. Тогда отчего? У меня нет особых технических знаний, в которых бы они нуждались, и успешно проведенная операция по Вашингтону подтверждала это. Так чего же они хотят?
Все возможные объяснения вели к единственному выводу. Малкольм был искренен, говоря, что не хочет отпускать меня в вольное плавание, раз уж я в курсе его секретов, и мысль об этой уязвимости так истерзала его изменчивый разум, что он принял решение положить конец хотя бы одному из своих страхов. Навсегда.
Следующие два дня — наверно, следует сказать "два последних дня" — громоподобный гул все длился, пробуждая в горах эхо, а в деревнях на горных склонах — множащиеся толки. Все это время я пытался найти другое — любое другое — объяснение ситуации, но так и не нашел. Я не знаю, зачем Ларисе или другим нужна моя смерть, разве что Малкольм был так убедителен, что смог их уговорить. Возможно, он даже сфабриковал доказательства того, что я их предал. Каким бы ни был ответ, я, похоже, никогда этого не узнаю.
Все, что я знаю точно — нельзя допустить, чтобы приютившие меня люди стали случайными жертвами этого непрекращающегося безумия. Я должен идти.
Светает, и я слышу, как Мутеса рядом с моей палаткой собирает вещевой мешок. Он настоял на том, что проводит меня до побережья, и это, должно быть, отчасти следствие нашей дружбы, а отчасти дань невысказанной благодарности за облегчение страданий несчастной Амы. Трудно будет прощаться с ним и его семьей; но больше мне не по ком тосковать. Случайные жемчужины мудрости Дугумбе — особенно его предостережение, что информация не является знанием — никак, к сожалению, не улучшают его образ действий. И, благодарный за его заботу, наедине с этими страницами я заявляю, что его определение знания не является благом ни для племени, ни для человечества в целом.
Я сказал ему, что, когда корабль прилетит, он не должен вступать с ним в бой, и не должен колебаться перед тем, чтобы открыть им мое местонахождение. Надеюсь, что он примет мой совет; правда, его воинственная гордость может не позволить ему так поступить.
Сквозь брезент палатки я слышу, как Мутеса шепотом зовет меня. Я должен идти. Если мы дойдем до побережья, я решил, что опубликую этот документ где-нибудь в Интернете, пусть пользы от этого будет немного. А после этого — у меня нет ни малейших иллюзий — я могу и буду спасаться бегством; но если Малкольм и остальные действительно хотят моей смерти, то я, похоже, уже мертв.
Глава 47
Берег Занзибара. 3 часа ночи, два дня спустя
Я старался излагать эту историю быстро, но завершить ее смогу еще быстрей, так как после всего, что случилось за последние двенадцать часов, совершенно ясно, что никто написанному не поверит. Мы живем в мире, который отличен от того, что существовал всего пятьдесят с лишним часов назад, от мира, где я начал эти записки. Насколько этот мир отличается от предыдущего, я пока не знаю и сам; я видел лишь малую часть. Но если по этой части судить обо всем остальном, тогда запросто может случиться, что на всей земле одни лишь мы, на борту этого корабля, осведомлены о произошедшей с миром невероятной трансформации. Все остальные могут лишь воспринять эту новую реальность как то, что всегда имело место; и в этом случае мои записи покажутся не просто невероятными, а безумными.
Я говорю "на борту этого корабля", потому что, как это ни странно, здесь и нахожусь. На борту огромного электромагнитного летательного аппарата, который вплоть до вчерашнего утра я считал самым потрясающим изобретением Малкольма Трессальяна. Я пишу, а на кровати рядом со мной спит Лариса, вымотанная, как все мы, попытками постигнуть случившееся. Это ничуть не уменьшило моей радости от возможности снова быть с ней и от открытия, что на самом деле никто из моих друзей не хотел проливать мою кровь. Радость настолько захватила нас, что это счастливое время обрело черты нереальности, и каждый миг я ожидаю пробуждения в лагере Дугумбе, под звуки походной кухни и чистки оружия. Наверное, именно поэтому я не могу спать, то есть не лягу спать, пока не допишу эту заключительную главу. Если и в самом деле в следующий раз мне суждено проснуться в этом новом мире, то может статься, эти страницы напомнят мне о том, как этот мир возник.
Не прошло и двенадцати часов после выхода из лагеря, как мы с Мутесой остались вдвоем; те несколько человек, что были с нами, сбежали. Они просто не вынесли зрелища корабля Малкольма, что возник на горизонте у нас за спиной. Я и сам был близок к чему-то подобному. Но Мутеса был, как всегда, стоек и решителен: для нас он нашел укрытие в дупле гигантского баобаба, и был готов сражаться плечом к плечу со мной, пока нам не придет конец. Он настоял, чтобы я вооружился, и я неохотно извлек наружу рейлган. При этом я абсолютно не представлял, как смогу обратить его против Ларисы и всех остальных, и спросил себя, не будет ли лучше для всех, если я просто-напросто сдамся.
К смятению Мутесы, именно так я и решил поступить. Когда корабль приблизился к дереву, где мы прятались, он настоял на том, что проводит меня до покрытой травой поляны на равнине, окружавшей баобаб, чтобы увериться, что меня не пристрелят, как собаку. Неясно, как он собирался этому помешать, но я был рад его компании в своей, возможно, последней прогулке по этой земле.
Бесстрашия Мутесы поубавилось, когда корабль начал медленно снижаться рядом с нами до тех пор, пока дно корпуса не скосило верхушки колеблющейся травы. Затем в средней части корпуса замигали маленькие зеленые огоньки, и в отворившемся люке показался Фуше, а за ним стояла Лариса! При виде ее мое сердце забилось сильней, несмотря на весь испытываемый мною страх: она казалась еще прекрасней, чем раньше, такой прекрасной… я даже не сразу заметил, что она что-то выкрикивает мне полным отчаянья голосом сквозь шум работающих двигателей. Прошло еще несколько минут, и, разобрав ее слова, я прогнал улыбку со своего лица.
— Малкольм исчез, — говорила она, — пропал.
Лариса и Фуше продолжали жестами звать меня на борт, а я все пытался найти в этой ситуации какой-то смысл. Но смысл ждал меня на борту, а не здесь, не снаружи, не на этой поляне. Я повернулся к Мутесе, чтобы попрощаться, и увидел, что он улыбается: я рассказывал ему о Ларисе (хотя о корабле не говорил), и, увидев ее теперь, он, очевидно, заключил, что у меня все будет хорошо. Я крепко обнял его. На прощанье он сказал, что мне не стоит огорчаться из-за возвращения в свой мир, поскольку его мир на самом деле ничем не лучше, и что ему показалось, будто я уже понял это. Я улыбнулся и кивнул. А затем побежал к кораблю и одним прыжком оказался внутри — и в объятиях, по которым не переставал тосковать ни днем, ни ночью.
Затем последовало столь же крепкое объятие и почти столько же поцелуев от Фуше, и эти двое повели меня в нос корабля, где ждали полковник Слейтон и братья Куперман. Мы обменялись теплыми приветствиями. Мое облегчение от того, что подозрения оказались столь далеки от истины, стремительно росло. Но прежде чем приступить к сколько-нибудь серьезному обсуждению происшедшего, следовало укрыться от нападения здешних племен, так как своими усилиями найти меня мои друзья неумышленно нажили здесь полчища врагов. Озеро Альберт показалось нам самым подходящим приютом, и вскоре мы скрылись под его гладью. Но на дне нас поджидали все военные и промышленные отходы, все человеческие и животные нечистоты, весь гниющий мусор и отбросы, что сваливали сюда на протяжении долгих лет упадка Африки. Вскоре наступила ночь, милосердно избавив нас от необходимости созерцать отвратительные картины; и, когда мы собрались за столом для обсуждений, то наружное освещение корабля включать не стали, — отчасти из-за страха быть обнаруженными, отчасти чтобы избежать зрелища мерзостей, царивших вокруг.
Крепко сжав руку Ларисы в своей, я стал слушать историю исчезновения Малкольма. Рассказ не занял много времени. Успех "дела Вашингтона" поверг его в глубокую депрессию. Он был убежден, что мистификация будет быстро разоблачена, что приведет к повсеместному признанию опасной ненадежности современных информационных систем. То, как в течение зимы и весны эта история превращалась в еще один повод для пустословия прессы и пересмотра академических концепций, совершенно ошеломило его. Летом он сначала перестал регулярно выходить к столу, а затем и вовсе стал покидать лабораторию так редко, что остальные терялись в догадках, как он вообще еще жив. Наконец после того, как его дверь оставалась запертой целых три дня, Лариса взяла свой рейлган и выстрелом вышибла дверь.
В лаборатории стоял диковинный аппарат, подобного которому никто в команде никогда не видел. Невозможно было, впрочем, определить, каков был изначальный замысел этой конструкции, поскольку она была сильно повреждена в результате не то приступа гневной ярости, не то некой аварии в работе, повлекшей взрыв. Но как бы то ни было, Малкольм исчез. Не было ни его самого, ни его тела, ни следов крови, и тогда Лариса вспомнила мое предупреждение о возможности самоубийства. Следующие несколько дней она и все остальные с корабля и с вертолета искали хоть какой-нибудь его след в море. Еще несколько дней они истощали свое воображение, пытаясь строить версии, куда и как мог он пропасть, и наконец признали себя неспособными раскрыть эту тайну. Тогда Лариса решила, что пришло время разыскать меня (задача, которая отняла у них неделю) и узнать, нет ли у меня каких-нибудь своих соображений о том, куда могло завести душевное состояние ее отчаявшегося брата.
Все это потрясло меня, но не удивило; и я изо всех сил постарался выдвинуть несколько убедительных альтернатив самому худшему варианту. Но эта попытка была безнадежной с самого начала, и, как только это стало очевидным, все начали один за другим подниматься и расходиться по комнатам, чтобы постичь единственно возможное объяснение случившегося: Малкольм, доведенный до отчаяния не только провалом мистификации с убийством Вашингтона, но также и неудачей своей последней технической разработки, в ярости разломал устройство на куски и выбросился в море. То, что тело самоубийцы было не найдено, не удивило никого: даже самое совершенное улавливающее оборудование чудесного корабля могло потерпеть поражение в поисках тела Малкольма на просторах Северной Атлантики. Его могли разорвать на части морские хищники, или оно просто ушло глубоко на дно.
Лариса, конечно, предполагала, что худший из возможных вариантов неизбежен. Но, учитывая уникальную и горькую природу общего прошлого брата и сестры, это предположение никак не могло смягчить окончательный удар. И я был благодарен судьбе за то, что могу быть с ней рядом и хоть немного утешить. Может, и не о такой романтической встрече мечталось мне многие месяцы: ведь всю ночь мы так и провели за столом для обсуждений. Но когда она придвигалась ко мне ближе, я, по крайней мере, чувствовал, что она сможет пережить эту потерю и что у нас с ней и в самом деле есть общее будущее. К рассвету мы оба пребывали в том смутном, скорбном состоянии полной опустошенности, что так часто сопутствует горю. Но затем, еще до того, как мы осознали это, начало происходить нечто очень странное:
Яркие лучи солнца осветили корабль.
Непонятным образом воды озера Альберт очистились от всей грязи, что еще вчера так бросалась в глаза, и зрелище это было столь невероятным, что мы с Ларисой могли разве что подняться, подойти к прозрачному корпусу и простоять так несколько минут с изумленной улыбкой. Тут ворвались остальные, не по одному, а шумной толпой, выкрикивая новости и спрашивая — довольно скептически, даже, помнится, с насмешкой — видели ли мы, что произошло. Случившееся было абсолютно необъяснимо: ночью мы не слышали никаких звуков работающей техники, да и не существовало техники, способной на такое, ни в Африке, да и нигде в мире. Казалось, это не могло быть ничем, кроме как чудом. Но потрясения лишь начинались.
Включив голографический проектор, мы взлетели над поверхностью воды и обнаружили, что на западном берегу озера не осталось ни малейших следов военного конфликта. Более того, там виднелись животные! Те самые виды, которые, как я читал, а затем видел собственными глазами, считались в Африке вымершими, теперь были повсюду, и вся местность стала напоминать тот пожелтевший старый плакат, что я видел в неапольской забегаловке. Никто из нас не мог вымолвить ни слова, но это было не обычное наше молчание, полное ужаса и мрачных предчувствий, а тихий восторг, изредка прерываемый смехом и изумленными восклицаниями.
Вопрос о том, что нам делать дальше, возник далеко не сразу. Я предложил направиться к побережью и посмотреть, не удастся ли нам по пути найти какой-нибудь ключ к происходящему. Но путешествие лишь поразило нас еще больше. Процветающие города и деревни усеивали тот самый ландшафт, где прежде можно было найти лишь призрачные руины да следы войн и эпидемий. Диких животных было очень много, и временами попадались роскошные автобусы, полные туристов. По мере приближении к берегу признаки процветающей цивилизации становились все более частыми и впечатляющими, и так было, покуда мы наконец не достигли моря и не увидели — Занзибар.
Убогий остров Занзибар, что в древности был центром работорговли, а в наши дни — ветхим, изъеденным хворями пережитком зловещего прошлого. Но теперь? То, что предстало перед нашими глазами теперь, больше было похоже на Гонконг. Вернее, на то, как выглядел бы Гонконг, если бы у его строителей были не только деньги, но и вкус. В центре прекрасного зеленого острова располагался сверкающий город, и его высоко взметнувшиеся здания подчеркивали цвета моря, материковых джунглей и снежно-белых коралловых пляжей. В общем, это был оазис просвещенных технологий и красоты — словом, то, чему не было объяснения.
Наш корабль сейчас покоится под волнами, омывающими берега этого оазиса. У нас все еще нет ясных ответов, да и от систем связи и слежения корабля не слишком много толку. Похоже, у нас проблемы с соединением и поддержкой связи со спутниковыми системами. Но даже когда нам удается соединиться, мы слышим странные сообщения со всего мира, смысл которых столь же неясен, как и все то, что мы увидели в Восточной Африке. В сообщениях проскальзывают упоминания о конфликтах там, где их быть не должно, а еще чаще мы слышим поразительные сведения, судя по которым на многих прежде раздираемых войной территориях сейчас царят мир и процветание. И все это говорит в пользу невероятного предположения, тем не менее объясняющего происходящее: Малкольм и вправду достиг успеха и сумел подчинить себе время.
Если это так, то созданный им аппарат, должно быть, самоуничтожился после выполнения задания. Скорее всего, так и было задумано, но именно поэтому у нас нет ни малейшего представления — куда, а тем более «когда» отправился Малкольм. За ужином тем же вечером мы попытались точнее определить, куда и в какую точку истории он должен был направиться, чтобы сделать то, чему мы стали свидетелями. Но полученный нами перечень вероятностей оказался бесконечен. К тому же мы пока не представляем себе полного масштаба всех эффектов. Если допустить, что невозможное на самом деле имело место, мы должны отправиться странствовать по миру (как когда-то и предлагала мне Лариса), жить по собственным законам и высматривать вокруг себя то, что может быть следами или делом рук покинувшего нас друга и брата, тем самым продолжая попытки разгадать тайну пункта его назначения. Но время и история — бесконечные паутины, и даже легкое прикосновение к любой из их бесчисленных нитей может вызвать изменения, которые трудно вообразить. Поэтому может статься, что истину мы никогда не узнаем.
Но коль скоро он справился с этим, то оставил ли ключ к разгадке? Записи? Мы так и не смогли найти ничего, но, вернувшись на Сент-Кильду, продолжим поиски. Но даже обнаружив эти документы, поймем ли мы их до конца, чтобы суметь повторить его эксперимент? И захотим ли мы этого? Все больше вопросов без ответов. Единственное, в чем мы уверены — что бы ни случилось, Малкольм никогда не вернется. Не думаю, что он захотел бы этого, даже если бы ему грозила смерть. Улучшенный вариант современного мира все же остается современным миром и годится Малкольму ничуть не больше предыдущего. Пережитые им ужасные физические и эмоциональные страдания сделали его человеком, которому Время не может предложить ничего хорошего. Может, он отомстил, уничтожив саму идею Времени. И, может, испытывал при этом, пусть даже мимолетно, обычное человеческое удовлетворение — чувство, которого в этой реальности он был бесповоротно и трагически лишен.
Что до нас, то мы ободрены крохотной надеждой на то, что Малкольм воплотил свою главную мечту. Никого эта мысль не греет так, как Ларису. Без сомнения, она будет скучать по брату, с которым делила столько тайн и печалей, которые едва бы вынес кто-нибудь другой. Но убил ли он Время или Время убило его, — как бы то ни было, она знает, что теперь он обрел покой, и мучения, что казались ему столь нескончаемыми, стали ныне преходящими треволнениями беспокойного мира, безумие которого он сумел слегка усмирить.
Caleb CARR
Killing Time
2000