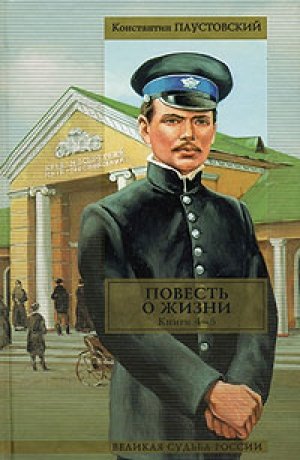
Книга четвертая
Время больших ожиданий
Предки Остапа Бендера
В февральский день 1920 года во время пронзительного норда деникинцы бежали из Одессы, послав напоследок в город несколько шрапнелей. Они лопнули в небе с жидким звоном.
Белые оставили после себя опустошенный город. Ветер наваливал около водосточных труб кучи паленой бумаги и засаленных деникинских денег. Их просто выбрасывали. На них нельзя было купить даже одну маслину. Магазины закрылись. Сквозь окна было видно, как толпы рыжих крыс-пацюков судорожно обыскивали пыльные прилавки. Базарные площади – все эти Привозы, Толчки и Барахолки – превратились в булыжные пустыни. Только кошки, шатаясь от голода, неуверенно перебегали через эти площади в поисках объедков. Но ни о каких объедках в то время о Одессе не могло быть и речи.
Жалкие остатки продовольствия исчезли мгновенно. Холод закрадывался в сердце при мысли, что в огромном и опустелом портовом городе ничего нельзя достать, кроме водопроводной воды с привкусом ржавчины. Водопровод каким-то чудом еще качал из Днестра тонкую струю этой воды.
Я жил в то время в Одессе, в пустом санатории доктора Ландесмана на Черноморской улице.
Вместе со мной в санатории поселилось несколько журналистов. В их числе был и петроградский журналист Яша Лифшиц – человек чрезмерно деятельный и не интересовавшийся ничем на свете, кроме политики и газетной работы. О нем я писал в предыдущей своей автобиографической повести «Начало неведомого века».
Незадолго до прихода советских войск Яша сказал мне, что надо выметаться от Ландесмана, так как большевики, когда войдут в Одессу, санаторий национализируют, а нас все равно выкинут.
– Возможны крупные неприятности! – произнес Яша роковым голосом.
Какие именно могут быть неприятности, он не объяснил. Но так как в те времена ожидание неприятностей было повседневным состоянием людей, то я его и не спрашивал.
Мы с Яшей сняли по соседству с санаторием дворницкую у оборотистого домовладельца, священника-расстриги Просвирняка.
Дворницкая стояла в заглохшем саду, окруженном высокой оградой из камня «дикаря». Со стороны улицы ее защищал двухэтажный дом. Жить в этой дворницкой в то немирное время было спокойно, как в крепости. Недаром сам Просвирняк называл дворницкую «Форт Монте-Кристо».
До нас Просвирняк сдавал дворницкую профессору Новороссийского университета по кафедре политической экономии, обрусевшему немцу Швиттау. Профессор переделал дворницкую под маленький удобный особняк, окружил его куртинами маргариток, перевез в дворницкую свою библиотеку, но вскоре, предчувствуя приближение опасных времен, бросил все и бежал в Константинополь.
Профессорская библиотека состояла почти сплошь из немецких книг по экономике, таких аккуратных, что казалось, к ним ни разу никто не прикасался. К тому же они представлялись мне неимоверно скучными из-за своего готического шрифта.
Книги источали острый запах лизола и гвоздики. С тех пор этот запах стал для меня признаком вяжущей скуки, в особенности запах гвоздики – черных, похожих на маленькие обойные гвозди семян тропического растения.
Но зато в библиотеке у профессора стояли и все восемьдесят шесть томов энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Это было завидное богатство.
Живя среди книг и вещей, оставленных Швиттау, я за глаза составил представление об этом профессоре. Он, конечно, был доволен собой, чисто умыт, румян, носил русую бородку и золотые очки, и в глазах его присутствовал тот водянистый блеск, какой бывает у застарелых девственников. Мне был неприятен этот мой воображаемый предшественник. Поэтому при каждом удобном случае я держал окна раскрытыми настежь, чтобы выветрить из дворницкой добропорядочный профессорский дух.
Прежде чем перейти к описанию дальнейших событий, следует сказать несколько слов о Черноморской улице. Я полюбил эту маленькую окраинную улицу и был уверен, что она самая живописная в мире.
Самый путь из города на Черноморскую улицу был своего рода лекарством от невзгод. Я часто испытывал это на себе. Иногда я возвращался из города в полном унынии из-за какой-нибудь неудачи. Но стоило мне войти в безлюдные переулки, окружавшие Черноморскую, – в Обсерваторный, Стурдзовский или Батарейный, – услышать шелест старых акаций, увидеть темный плющ на оградах, освещенных золотеющим солнцем зимы, почувствовать веяние моря на своем лице, и тотчас возвращались спокойствие и душевная легкость.
Все эти переулки состояли из оград. Дома скрывались в глубине садов за глухими калитками. Переулки приводили на Черноморскую улицу. Она тянулась по краю высокого обрыва над морем. Слово «тянулась» здесь вряд ли подходит, так как улица была недлинная. Ее можно было пройти за несколько минут.
С Черноморской улицы открывалось море – великолепное во всякую погоду. Слева внизу были хорошо видны Ланжерон и Карантинная гавань, откуда уходил, изгибаясь, в море обкатанный штормами старый мол. Справа крутые рыжие берега, поросшие лебедой и пыльной марью, шли к Аркадии и Фонтанам, к туманным пляжам, где море часто выбрасывало сорванные с якорей плавучие мины.
Черноморская улица была морским форпостом Одессы. Мимо нее проходили все пароходы, шедшие в порт и уходившие из него. Шум ее садов говорил о разной силе ветра. Мы научились определять ветер по этому шуму, как моряки по шкале Бофорта.
Существовали и другие звуки, даже незначительные, но и они сообщали нам о состоянии погоды. Так, например, частый стук созревших каштанов о тротуар свидетельствовал, что ветер крепчает и доходит до четырех баллов.
Черноморская улица всегда была безлюдна. Редкие ее обитатели предпочитали сидеть дома. Поэтому когда на ней появился однажды черный угольщик со своей клячей, то это было встречено как фантастическое событие. Прежде всего потому, что древесный уголь в то время продавался на вес золота. И еще потому, что угольщик, бесстрашно разоблачая свою частноторговую сущность, кричал мохнатым, мрачным голосом ласковые слова:
– Вот уголь, уголек, уголечек!
Среди неуютного быта тех дней Черноморская улица казалась хотя и обманчивым, но все же «островом спасения» для заброшенных на нее жизненной бурей людей.
В то время Илья Арнольдович Ильф{1} еще не был писателем, а ходил по Одессе в потертой робе, со стремянкой и чинил электричество. С этой стремянкой на плече Ильф напоминал длинного и тощего трубочиста из андерсеновской сказки.
Ильф был монтером, работал он медленно. Стоя на своей стремянке, поблескивая стеклами пенсне, Ильф зорко следил за всем, что происходило у его ног, в крикливых квартирах и учреждениях.
Очевидно, Ильф видел много смешного, потому что всегда посмеивался про себя, хотя и помалкивал.
Десятки Остапов Бендеров, пока еще не описанных и не разоблаченных, прохаживались враскачку мимо Ильфа. Они не обращали на него особого внимания и лишь изредка отпускали остроты по поводу его интеллигентского пенсне и вздернутых брюк. Иногда они всё же предлагали Ильфу соляную кислоту (в природе ее в то время давно уже не было) для паяльника или три метра провода, срезанного в синагоге.
Ильф в таких случаях вступал в оживленный торг, исключительно с целью выслушать новейший набор одесских острот, клятв и проклятий.
Мода на клятвы часто менялась. Она зависела от многих вещей: от положения на фронте гражданской войны, от стоянки или отсутствия в Константинополе английского дредноута «Сюперб» или от поведения балтийского матросского отряда, который, как говорили, занимал под постой дом мукомола Вайнштейна.
Самой модной была тогда клятва: «Чтоб мне не дойти туда, куда я иду». В этой клятве содержался явный намек на опасность хождения по одесским улицам.
Но Ильфу недолго пришлось чинить электричество. Вскоре одесская электростанция остановилась, и, как уверяли одесситы, навсегда.
Я вспомнил об Ильфе и его персонаже – бесстрашном плуте Остапе Бендере – потому, что даже в те суровые дни плутовство процветало в Одессе. Оно заражало даже самых бесхарактерных людей. Они тоже начинали верить в древний закон барахолки: «Если хочешь что кушать, то сумей загнать на Толчке рукава от жилетки».
Плутовство вползло наконец и в нашу среду литераторов и журналистов.
Советских денег у нас с Яшей Лифшицем не было ни копейки. Соленой камсы осталось на один день. В письменном столе валялось два черных сухаря. Они распространяли тот же ненавистный запах лизола и гвоздики, как и профессорская библиотека.
Следовало что-то предпринять, чтобы не пропасть от истощения. Но, как нарочно, голова гудела, и ни я, ни Яша ничего не могли придумать. Да и что придумаешь в опустошенном городе, где еще не было ни учреждений, ни газет, ни базаров, ни, наконец, советских денег! Приходилось ждать, пока все это наладится; но ждать было почти невозможно: нас уже шатало и тошнило от голода.
Поэтому мы предпочитали лежать в дворницкой, укрывшись с головой своими потертыми пальто, и все-таки чего-то дожидаться.
В дворницкой холод стоял густым слоем, как в леднике. Жестяную «буржуйку» мы топили старыми газетами и быстро доводили ее до белого каления. Но она так же стремительно остывала, как и разъярялась.
На пятый день после занятия Одессы советскими войсками к нам пришел мой школьный товарищ по Киеву Володя Головчинер. Недели за две до этого я встретил его на Дерибасовской, где Володя, несмотря на свою подслеповатость, золотые очки и потрепанный, но барский вид, торговал с рук зажигалками.
Володя привел с собой сморщенного, как обезьянка, человечка, говорившего так быстро и невнятно, будто во рту у него было полно голышей.
– Вот, – сказал Володя Головчинер и неопределенно показал на человечка, – имею честь представить товарища Торелли – это псевдоним. А «в миру», как выражается ваш расстрига-домовладелец, он носит фамилию Блюмкис. Он одесский репортер. У него есть одна идея.
Мы высунули головы из-под пальто и молча рассматривали виновато улыбавшегося товарища Торелли, имевшего какую-то идею.
– Торелли или Торичелли? – придирчиво спросил Яша. Он был немного туг на ухо.
– Торелли, – уныло повторил Володя Головчинер. – Да это не важно. Идея его имеет отношение к нашему бедственному существованию. Упомянутый товарищ Торелли – в миру Блюмкис – находится в таком же пиковом положении, как и вы двое и даже я, Владимир Головчинер, сын киевского профессора-стоматолога и чемпион по плаванию. Эту идею товарищ Торелли имеет изложить сам, поскольку это позволят ему его речевые способности.
Володя любил говорить ерническим языком. Я к этому привык еще в гимназии.
Тогда Торелли что-то произнес, но так быстро, что мы услышали только треск, будто кто-то проиграл стремительную дробь на турецком барабане.
– Позвольте, я переведу, – бесстрастно сказал Володя Головчинер. – Товарищ Торелли считает, что его идею следует принять немедленно и, по возможности, без смеха.
Оказалось, что товарищ Торелли снимает комнату у расстриги Просвирняка в двухэтажном доме, выходящем на улицу. Он узнал от расстриги, что мы столичные журналисты. Столичным журналистам Торелли завидовал, хотя ни за что не согласился бы променять Одессу даже на работу в самом «Русском слове». Вы спросите: почему? Очень просто. В Одессе можно было «сделать» любую сенсацию. Написать, например, в газете «Одесская почта», что на рабочей окраине Пересыпи лопнул меридиан и катастрофа для города была предупреждена только благодаря героическим усилиям пожарных команд. В Москве и Петрограде такой номер никогда не прошел бы.
Но дело сейчас не в этом, заметил Торелли. Дело в том, чтобы спастись от голода. Для этого нужно объединиться не меньше чем четырем опытным журналистам. Надо пойти на риск, но зато, может быть, завтра же мы будем, как нежно выразился Торелли, «кушать» хлеб и нам, может быть, даже дадут аванс – по нескольку «лимонов» на каждого. «Лимонами» в то время назывались советские бумажные деньги достоинством в миллион рублей.
Сущность своей идеи Торелли объяснить отказался, требуя безусловного доверия.
– Разглашать раньше времени – значит сглазить! – сказал он убежденно.
Мы не удивились этому. Нам было теперь все равно: пропадать так пропадать, риск так риск! Мы отупели от голода и согласились на все.
– Тогда, – сказал Торелли, – завтра я заскочу за вами и буду сопровождать вас в город.
Он надел соломенное канотье – его он до тех пор держал за спиной – и, игриво сказав: «Привет, привет!», исчез.
– Да-а, – задумчиво произнес Яша Лифшиц. – «Все сметено могучим ураганом». Все продано, и все проедено.
– Вы о чем? – спросил Володя.
– О том, что рваное соломенное канотье товарища Торичелли не головной убор для зимних одесских нордов.
– Представьте себе, – сказал Володя, – что у него есть сестра. У нее год назад отнялись ноги. Она почти не может ходить. Они живут в одной комнате. Как терпеливо он ухаживает за ней! Под его жалкой оболочкой бьется великодушное сердце. Тема, достойная Шекспира!
– Что он собирается выкинуть, этот Торичелли? – спросил Яша. – Как бы мы не влипли в какую-нибудь идиотскую историю.
Володя сказал, что все может быть, и ушел. Мы снова натянули на головы пальто. Но я долго не мог согреться и уснуть.
Проснулся я на рассвете, когда воздух за окном, похожий на воду, подкрашенную грязноватым ультрамарином, был даже на взгляд груб и насыщен ледяным ветром. Очевидно, этот ветер задувал прямо с полюса. Я с отвращением подумал, что скоро надо вставать, идти в город, а ветер будет врываться за шиворот и костенить тело.
Может быть, не ходить? Сжаться под пальто, собрать в комок все свое слабое тепло и потом, засыпая, вынуть из него, как из елочной ваты, невесомый и радостный сон – синий, тонкий, оставляющий такое же ощущение нежности, какое бывает, если прикоснешься своей щекой к щеке спящего ребенка.
Я ждал такого сна, но вместо него услышал, как в саду ядовито зашипел норд. Потом в это шипение вошел настойчивый и грубый стук в дверь, – это пришел за нами товарищ Торелли.
В город мы шли через Александровский парк. Норд хлестал в лицо гравием и швырял шершавую пыль. Цинкового цвета море катило из рассветного цинкового тумана гремящие мутные валы. Противно и назойливо верещал цинковый флюгер на крыше маленькой обсерватории в парке.
– Весны не будет, – сказал Яша. – Солнца тоже не будет! Ничего больше не будет! Все это еще одна иллюзия недорезанных интеллигентов.
Торелли тонко пискнул и поперхнулся. Я не сразу сообразил, что он смеется. На его обветренных глазах блестели красноватые слезы.
– Куда вы нас ведете? – придирчиво спросил Яша. – Я предчувствую жалкую авантюру.
– Клянусь честью, что я вас доведу только до первого советского учреждения, – торопливо ответил Торелли. – Должны же они в конце концов открыться, эти учреждения! Кстати, вы сами согласились на риск.
На углу Канатной улицы нас ждал Володя Головчинер.
В городе было пусто. По Канатной процокали копытами всадники с красными лоскутками на потертых мерлушковых папахах. Они даже не посмотрели на нас. Изо всех подворотен высунулись мальчишки, и тотчас по дворам прокатились мощные материнские крики:
– Назад, чтоб вас хвороба взяла! Это же несчастье, а не дети! Назад!
Мальчишки скрылись.
Потом медленно проехала, сотрясая окна, расхлябанная грузовая машина с поломанной мебелью. В кузове машины сидел красноармеец с винтовкой и курил. Мальчишки снова появились в подворотнях, но так же внезапно исчезли под новые хриплые вопли: «Назад, байстрюки! Чтоб вы горели огнем на том свете!»
Чудесный, бодрый запах махорки пронесся, завиваясь, по улице. Я невольно проглотил слюну.
– Не отставайте от этой машины, – сердито прошептал нам Торелли. – Тут будет дело!
Мы прибавили шагу. Грузовик выехал на Ришельевскую, свернул к Оперному театру и остановился около темного здания. То был один из домов, оставшихся от времен Ришелье и де Рибаса{2}. Такие здания придавали Одессе благородные черты Генуи, Флоренции и даже, как утверждали некоторые одесситы, самого Парижа.
На тротуаре около этого классического здания лежало имущество рядового советского учреждения (очевидно, учреждение это большую часть своей жизни проводило на колесах): оборванные рулоны бумаги, линялые плакаты из кумача, обернутые вокруг древков, расшатанные канцелярские столы, нервные этажерки, привыкшие падать навзничь от грубого хлопанья дверей, выгоревшие портреты в рамах, выкрашенных сизой морилкой, погнутый бак для кипяченой воды и множество ящиков.
Все это имущество охранял матрос с такой рыжей проволочной шевелюрой, что бескозырка у него не прикасалась к голове, а как бы стояла в воздухе, опираясь на эту шевелюру.
На дверях здания был прибит кусок холста с надписью: «Одесский Опродкомгуб».
– Сюда! Быстро! – сказал Торелли, рванулся в сторону и выскочил на маленькую площадь Пале-Рояль около Оперного театра. Там страж с проволочными волосами не мог нас заметить.
Сейчас Торелли совсем не казался таким жалким, как вчера на Черноморской или каким был еще час назад. Отблеск вдохновения упал на его лицо. Но я не представлял себе ничего, что могло быть причиной этого вдохновения. Глаза Торелли лукаво поблескивали в щелках припухших век.
– Прежде всего надо выяснить, – сказал он, – что значит Опродкомгуб?
Я знал это сокращенное название и объяснил его. Оно означало: «Особый продовольственный губернский комитет».
Торелли присел, хлопнул себя по коленкам костлявыми лапками и залился тихим смехом.
– Лучшего учреждения, – пропищал он, – нам и не нужно. В самый раз!
Тогда обозлился Володя Головчинер.
– Слушайте, синьор Торичелли, – сказал он. – Объясните нам, что это за манифарги, или, проще говоря, что это за штучки. Иначе мы бросим вас и уйдем.
Володя называл «манифаргами» все, что было ему непонятно.
Тогда Торелли изложил свою «идею», свой план, показавшийся нам одновременно и невероятно опасным, и неслыханно глупым.
– Послушайте, – сказал он, – вы же знаете, что такое учреждение? Или вы не знаете? И вы тоже знаете, что ни одно уважающее себя учреждение не может жить, если оно не издает какой-нибудь информационный листок или бюллетень про свою работу? Или, худо-бедно, не имеет собственного информационного отдела. Вы это знаете? Очень хорошо! А вы не подумали, что для этого отдела нужны газетчики? Особенно репортеры. И знаете ли вы, что если нет информационного отдела, то начальник учреждения, будь он хоть сам мистер Форд{3}, начнет барахтаться в делах, как цыпленок в луже? Мы откроем в Опродкомгубе информационный отдел. Мы напечатаем роскошный бюллетень на ротаторе о прибытии в Одессу для раздачи нетерпеливому населению трех бочек выдержанной камсы из Очакова и вагона кукурузы и моченых помидоров из Тирасполя. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что в Одессе начнется жизнь! – крикнул Торелли. – Жизнь!
– А почему вы уверены, что в этом учреждении еще нет информационного отдела? – спросил Яша. – Вы слишком много на себя берете, товарищ Торичелли.
– Ха! – воскликнул Торелли. – И еще раз «ха»! И, если хотите, двадцать раз «ха»! Вы же видите, что они еще не втащили в дом даже свое барахло. Они еще сосунки. Ну, а если тут информационный отдел есть, так это же не единственное учреждение в Одессе. Пойдем в другое. И откроем информационный отдел там.
Мы промолчали, подавленные логикой Торелли.
– Требуется солидный человек в очках, чтобы он говорил по-русски, как актер Качалов{4}, – сказал Торелли. – Самый подходящий для этого, по-моему, товарищ Головчинер. Он будет у нас начальником отдела. Вы, – он показал на меня, – заместителем, товарищ Лифшиц – экономистом, а я – репортером. Но главное – проскочить мимо матроса, мимо этого рыжего голиафа с винтовкой. Пошли! Быстро! В таких делах волынка – первая опасность.
Мы с деловым видом подошли к входу в таинственный Опродкомгуб. Торелли шел сзади, фальшиво насвистывая и стараясь спрятаться за нашими спинами.
Рыжий часовой сидел на ящике и держал за передние лапы белую мохнатую собачку.
– Служи дяде! – говорил матрос нарочито грозным голосом. – Служи дяде, черт мохнатый, цуцик-пуцик! Служи дяде!
Собачка виляла хвостом и повизгивала, явно показывая, что ей слишком лестно такое обращение. Но служить она не умела.
– Вот приблудилась с ночи, – сказал нам матрос, – и не уходит. Такая обходительная собачка, не поверите! Голодная, стерва! Придется взять ее с собой в команду. Ой же, и придется! – ласково сказал он, начал трепать собачку по спине и приговаривать: – Ой же, и надо взять такую дурную смешную собачку! Ой же, и следует взять на матросское снабжение такую кудлатую псину!
Собачка молотила хвостом и подвывала от восторга.
Мы проскочили мимо матроса под суровые своды Опродкомгуба. Я посмотрел на своих спутников. Они растерянно улыбались.
– Ах, какой парень! – неожиданно сказал Яша Лифшиц.
– Кто? – спросил Торелли.
– Конечно, не вы!
По темным коридорам красноармейцы, топая бутсами, тащили канцелярские шкафы. Дверцы у шкафов сами по себе распахивались и тотчас захлопывались с оглушительным треском. Красноармейцы вполголоса ругались.
– Значит, так, – сказал Володя Головчинер. – Мы сейчас узнаем, в какой комнате сидит начальник этого учреждения, пойдем к нему и попросим принять нас на работу.
Торелли взмахнул руками, отступил и с ужасом и презрением посмотрел на Володю.
– Вы что? – спросил он свистящим шепотом. – Окончательно сумасшедший? Или нет? Или у вас еще не прорезались зубы? Вы хотите, чтобы нас прямо отсюда отправили в Чека и разменяли на мелкую монету? Пришли с улицы – и бенц! – прямо к начальнику! Кто мы? Что мы? Желтая пресса! Бульварные журналисты! Вы угробите всех. Стоило мне стараться и придумывать такой замечательный план, чтобы из-за вас обмишуриться навеки! Разве так поступают?
– А как? – растерянно спросил Головчинер.
Мы с Яшей тоже опешили.
– Раз не знаете, так положитесь на меня! – высокомерно произнес Торелли. – Я подскажу вам все, что нужно делать. Никаких начальников! Мы сами начальники! За мной!
Торелли пошел вперед, а мы, горько сожалея, что впутались в эту историю, неуверенно пошли следом за ним.
К счастью, никто не обратил на нас внимания, и мы наконец попали в пустой и пыльный коридор на втором этаже. Он кончался уборной с выломанной дверью и черной лестницей.
– Пожалуй, лучше всего будет здесь, – сказал Торелли и толкнул первую же дверь.
Она открылась, и мы вошли в пустую комнату. В ней не было ничего, кроме валявшихся на полу справок о прививке оспы и плаката с надписью: «Борись с трихинозом свиней!»
Торелли поднял плакат, достал из кармана синий карандаш, перевернул плакат чистой стороной, положил на подоконник и написал на нем витиеватым писарским почерком: «Информационный отдел». Потом подумал и приписал внизу шрифтом немного помельче: «Завотделом – Головчинер В. Л.».
Мы следили за действиями Торелли, не спуская с него глаз, как кролики, зачарованные гремучей змеей.
Торелли достал из кармана брюк бумажный пакетик с несколькими кнопками, вышел в коридор и приколол плакат к двери.
– Вот и все! – сказал он и радостно потер руки. – Все обдумано. Первый акт отошел. Теперь остается только ждать дальнейших событий. Присаживайтесь, прошу вас, на подоконники!
У Володи Головчинера была пачка кубанского табака, черного и сухого, как торф. Мы расселись на пыльных подоконниках, закурили и начали ждать. Говорили мы шепотом. Один Торелли насвистывал вальс из «Веселой вдовы»{5}.
– Черт его дери, – неопределенно сказал Яша. – Может быть, нас действительно расстреляют?
Торелли презрительно фыркнул.
Мы сидели и прислушивались к беспорядочному шуму, постепенно заполнявшему учреждение. Где-то даже зазвонил, как вызов из преисподней, надтреснутый телефон.
За окнами был виден Ланжероновский спуск, но не весь, а только один его живописный кусок. Море синело: норд уже иссякал.
– Мы самозванцы, – опять сказал Яша мрачным голосом. – Нас разоблачат в три счета. Лучше, пока не поздно, уйти.
Тогда возмутился Торелли.
– Это мне страшно нравится! – воскликнул он. – Браво и бис! Не смешите меня. Где вы видите самозванцев? Разве мы не будем честно работать? Если мы нашли подходящее место для приложения интеллигентских сил, так это простой здравый смысл, и только!
– Вы Спенсер{6}, Торелли, – сказал Володя. – Кант!{7} Президент Пуанкаре!{8} Вы подвели железную базу под мое шаткое звание заведующего информационным отделом. У меня после ваших слов выросли крылья.
– Тише! – вдруг сказал злым шепотом Яша. – Хватит паясничать! Кто-то идет.
Действительно, по коридору кто-то шел, бряцая шпорами. Шаги были чугунные, как у Командора. Человек со шпорами остановился против нашей комнаты, густо прокашлялся, помедлил и распахнул дверь.
Мы вздрогнули.
В дверях стоял, очевидно, один из отчаянных командиров прославленных партизанских отрядов. Косматые седеющие брови густо свисали над его черными глазами. Плохо выбритое лицо отливало синеватой чернотой. На поясе у него висел мощный маузер с деревянным прикладом. Через плечо была перекинута полевая сумка. Нагрудные карманы френча были туго набиты пистолетными обоймами, махоркой, зажигалками и скомканными бумажными деньгами. От обилия этих вещей оба кармана лопнули, и при каждом движении человека с маузером из прорех в карманах сыпалась драгоценная махорка.
Человек с маузером пристально осмотрел нас, потом прикинул глазом величину комнаты и сказал неожиданно тонким, как дудочка, голосом:
– Доброго здоровьица, други! Будем знакомы. Карп Поликарпович Карпенко. Бывший работник на ниве народного образования, а ныне ваш комендант. Кто здесь заведующий столь замечательным отделом? Кажется, товарищ Головчинер Be Эль? Он здесь?
– Да, это я, – осторожно ответил Володя.
– Покорнейше прошу, – сказал комендант, – не позже, чем через час, представить мне точный реестрик потребного вам имущества, заверенный вашим подписом. Не зевайте, пока имущество не расхватали другие, более нахальные отделы. Информационный отдел всегда, знаете, остается в дураках. Имею на этот счет опыт. А почему? Потому, что интеллигенты, дорогой мой товарищ Be Эль Головчинер, разводят нюни со всяким барахлом. Когти и кулаки надо показывать! Вот! – Комендант показал нам красный волосатый кулак. Он даже повертел им в разные стороны, чтобы мы лучше его рассмотрели. – Как говорится, сто раз покрути перед носом, а один раз стукни! Сразу всякое хрюкало хвост подожмет, и воцарится полнейший порядок. И эта штука, – он похлопал по маузеру, – тоже прочищает мозги лучше, чем технический нашатырь. Не беспокойтесь. Вас я не дам в обиду, поскольку от отца унаследовал почтение к трудовой интеллигенции. Оно, знаете, совершенно правильно сказано у поэта: «Сейте разумное, доброе, вечное…»{9}
Он внезапно замолк и прислушался. Из коридора доносилось кряхтенье нескольких человек. Комендант распахнул дверь, выскочил из комнаты и закричал плачущим бабьим голосом:
– Очи у вас повылазили, что ли! Балет мне устраиваете! Тут же информационный отдел, а вы сюда прете несгораемый шкаф, надлежащий до бухгалтерии. Назад!! Спускайте его по этой черной лестнице в первый этаж. Все здание сотрясаете, полы побили, как черепицу. Что это за чертовы люди, ей-богу! Противно даже на вас смотреть!
После сильного пыхтения за дверью вдруг раздался удар. В коридоре что-то обрушилось, треснула оконная рама, со звоном полетели стекла, и комендант снова закричал отчаянным голосом (так обыкновенно кричат, хватаясь за голову):
– Удерживай!!! Удерживай его, чертяку. А то завалите здание! Удерживай, говорю!..
И вот тогда мы впервые почувствовали как бы подземный толчок. Дом вздрогнул, качнулся. Громоподобный грохот покатился с нашего второго этажа на первый. Чердак у нас над головой затрясся, и с потолка белой чешуей посыпалась штукатурка. Было слышно, как, топая бутсами, разбегались люди.
Второй удар землетрясения слился с хриплым воплем коменданта:
– Тикайте с площадки, матери вашей черт! Разве сами не видите, что делается! Тикайте!
Внутреннее это опродкомгубовское землетрясение стихло так же внезапно, как и началось. Мы вышли в коридор. В нем туманом висела известковая пыль. В полу зияли борозды, будто коридор пропахали тяжелым плугом. Угол у окна был отбит. Внизу, на первом этаже, на площадке черной лестницы, лежал на боку, отдыхая, слетевший со второго этажа злополучный стальной шкаф, опутанный рваными веревками. Перила лестницы были начисто отломаны. Они чудом висели на одной ржавой проволоке.
Над шкафом, как над покойником, грустно стояли, опустив головы, носильщики-красноармейцы. Очевидно, они были из хозяйственной команды: никакой выправки у них я не заметил.
Комендант тоже стоял около шкафа в глубоком раздумье. Он увидел нас и ударил носком сапога по шкафу. Раздраженно зазвенела шпора.
– Видали бугая? – спросил комендант. – Чуть людей не поубивал. Так пришлите мне, товарищ Головчинер, реестрик. И не стесняйтесь. Составляйте с «походом».
С этой минуты мы поверили, что «гениальный» план Торелли удался если не совсем, то, по крайней мере, наполовину.
Реестр был составлен. Торелли отнес его коменданту. При этом он успел подружиться с ним и войти в курс жизни Опродкомгуба. Комендант оказался, по словам Торелли, «мировым хлопцем».
Мы повеселели, особенно когда в комнате появились первые столы и стулья. Повеселел даже Яша. Он перестал каркать, хотя время от времени и вспоминал о грозном часе, когда придется заполнять анкету.
Но наши испытания на этом не кончились. В коридоре снова послышались шаги, но теперь уже нескольких человек. Мы быстро, сели за свои пока еще пустые столы. На них не было даже чернильниц.
Дверь снова распахнулась, и в комнату вошел хилый молодой человек в пальто, перешитом из солдатской шинели, и в линялой студенческой фуражке. Он близоруко приглядывался к нам сквозь толстые стекла очков.
Это был начальник Опродкомгуба, бывший студент-юрист Харьковского университета, товарищ Агин.
За ним вошла его свита. Она состояла из здоровых парней в плотных гимнастерках и скрипучих кожаных портупеях.
Появление Агина было похоже на выход римского императора Марка Аврелия{10} – прекраснодушного философа и поэта – в окружении гремящих мечами и латами легионеров.
Нам долго не верилось, что этот болезненный и мягкий человек был начальником учреждения, ведавшего снабжением Одессы, – учреждения шумного, грубого, которое тотчас же обсели, пытаясь прорваться в него, всякие деляги, рвачи, хапуги, рукосуи и «леваки».
Агин был тих, но непоколебим, и потому кипящие багроволицые толпы тайных и явных спекулянтов, равно как и раскаленные их мечты о баснословной наживе, стихали, как волны, у дверей его кабинета.
– Оказывается, у нас есть даже информационный отдел! – сказал Агин, пожевал губами и усмехнулся.
У меня упало сердце.
Агин обвел всех нас глазами и снова усмехнулся.
– Кто заведует им? Вы? Очень рад, товарищ. Как ваша фамилия? Головчинер? Вы не родственник известного сиониста Головчинера? Нет? Ну, тем лучше. Иногда однофамильцы тоже могут причинить неприятности. А это ваши сотрудники? Все журналисты? Очень, очень рад! Надеюсь, мы сработаемся, хотя функции вашего отдела мне еще недостаточно ясны.
Торелли издал какой-то непонятный длинный звук, обозначавший, очевидно, утверждение, что мы, конечно, сработаемся.
Агин обернулся к нему, наклонил несколько набок голову, как бы вдумываясь в стремительную тираду Торелли и ожидая ее продолжения. Но Торелли покрылся обильным потом и молчал.
– Ага, понимаю, – сказал Агин и дружески улыбнулся Торелли. – Вы совершенно правы.
Он попросил Володю Головчинера прийти через час к нему в кабинет на совещание заведующих отделами для обсуждения плана работ, кивнул нам и вышел.
Володя Головчинер стоял белый, по словам Торелли, «как мукомол».
Через два томительных часа Володя вернулся румяный и веселый, крикнул нам с порога: «Встать, халдеи!» – и роздал всем по сто тысяч рублей, по талону на получение хлеба и по анкете из ста двадцати вопросов. Но сейчас уже анкета нас не пугала. Мы поздравили и поблагодарили Торелли. Он сиял, как победитель, и троекратно, по-московски, облобызался с нами.
К вечеру отдел приобрел вид настоящей редакции. На маленьком столике стоял новенький ротатор.
Над ним висел огромный плакат: красноармеец в зеленом богатырском шлеме всаживал штык в чешуйчатое брюхо дракона. Из пасти дракона било косматое малиновое пламя. Внизу была надпись: «Долой гидру контрреволюции!»
Над столом у Володи Головчинера висел лист картона. На нем в кружочках из листьев дуба были напечатаны портреты вождей. Непостижимым образом все вожди походили друг на друга, как братья. Объяснялось это тем, что жидкая типографская краска расползлась по картону и очертания всех лиц слились в одно мутное пятно.
Плакаты прислал нам в знак особого расположения комендант Карп Поликарпович Карпенко.
Жизнь снова казалась прекрасной, а теплый хлеб из соседней временной пекарни, подгорелый и пахнущий хмелем, – необыкновенно вкусным. Я никогда еще не ел такого душистого хлеба с такой хрустящей горбушкой.
Все обошлось, но все же на душе у Яши и у меня было неспокойно. Однажды ночью Яша, ворочаясь на жесткой, без тюфяка койке, сказал мне:
– Вы там как хотите, а я завтра пойду к Агину и расскажу про все это безобразие. Про то, как мы попали в Опродкомгуб.
– Ну что ж, пойдемте.
Наутро мы пришли к Агину. В тот день признаки весны уже появились в Одессе. Солнечный свет стал плотнее. Над морем плыли, разваливаясь и открывая синие небесные провалы, громады белых облаков.
Даже в кабинете у Агина чувствовалось приближение весны. От сырых полов, в тех местах, куда падал из окна солнечный свет, клубился пар.
Агин вежливо выслушал нас, откинувшись на спинку кресла, и, кивая головой, тихо засмеялся.
– Я ждал этой исповеди, – сказал он, – но, признаться, несколько позже. Я все знаю. Нельзя сказать, чтобы я был восхищен вашей выдумкой, – она лежит слишком близко от криминала. Но поскольку это изобрели не вы, а тот маленький человек с плохой итальянской фамилией, то на вас нет особой вины. А я был бы никуда не годным руководителем, если бы не догадался, что здесь дело, несомненно, подмоченное.
– Как же вы догадались? – спросил Яша.
– Прежде всего у нас по схеме нет никакого информационного отдела. Он свалился на Опродкомгуб как снег на голову. Кое-что начал подозревать с первой же минуты милейший наш комендант, Карп Поликарпович. Он первый же и доложил мне, что люди, видно, интеллигентные, никак не жулики, должно быть, хорошие работники, и не стоит подымать шума и губить их. Но, признаюсь, мне нелегко было задним числом включить этот самозваный отдел в структуру учреждения. Самое удивительное, что этот отдел действительно оказался нужным. Отсутствие его было бы явным ущербом. За что и примите мою благодарность.
Лабиринты из фанеры
Вдоль тротуаров зацвели старые акации. Все вокруг было усыпано их желтоватыми цветами.
Опродкомгуб к весне переехал с Ришельевской в самую гущу этих уличных акаций – в «Северную гостиницу» на Дерибасовской.
Первые годы революции отличались необыкновенной непоседливостью учреждений. Они постоянно переселялись. Шумно заняв какой-нибудь дом, учреждение прежде всего строило внутри множество фанерных (или, как говорят на юге, «диктовых») перегородок с такими же фанерными хлипкими дверями.
Фанерный лабиринт из одного какого-нибудь учреждения, если бы его вытянуть в одну линию, мог бы, пожалуй, опоясать стеной всю Одессу по окружавшей город Портофранковской улице.
Фанерные перегородки, никогда не доходившие до потолка, пересекались под самыми причудливыми углами, резали надвое лестничные площадки, создавали темные, загадочные переходы, тупики и закоулки.
Если бы с этих учреждений, заполненных перегородками, можно было снять крыши или сделать вертикальный разрез дома от чердака до подвала, то перед пораженными зрителями открылась бы картина запутанного человеческого муравейника. Он был заполнен особой породой человеко-муравьев. Они исписывали за день горы бумаги и прятали их на ночь, как в соты, в фанерные клетушки.
На фанерные перегородки полагалось клеить кипы приказов, объявления и огромные, как простыни, стенные газеты.
В фанерном коридоре ставили цинковый бак для кипяченой воды с прикованной к нему на цепи жестяной кружкой. Около бака усаживалась курьерша – тетя Мотя или тетя Рая, – и с этой минуты учреждение начинало полностью действовать.
Иногда даже казалось, что никакое учреждение немыслимо без фанерных перегородок и курьерш, и только при наличии курьерш и фанеры учреждение расцветает, кипит ключом, и работа его подвергается всестороннему обсуждению как со стороны собственной «тети Моти», так и всех «тетушек Моть» из соседних – дружественных или враждебных – учреждений. Каждая «тетя Мотя» блюла авторитет своего заведения. «Правила внутреннего распорядка» были для нее скрижалями, не подлежащими критике и, очевидно, врученными коменданту самим Саваофом на высотах административного Синая!
В этих лабиринтах из фанерных перегородок можно было увидеть много любопытных вещей и в первую очередь кассу – унылую клетушку за прорезанным в фанере кривым окошком.
В Опродкомгубе над окошком кассы было написано синим карандашом: «Товарищи! Сумму пишите прописью и не утруждайте кассира резанием денег. Режьте сами! (Основание: приказ по Опродкомгубу № 1807)».
Эта загадочная и несколько устрашающая надпись «Режьте сами!» объяснялась просто: кассир получал деньги большими листами и поневоле тратил много времени на то, чтобы разрезать их на отдельные купюры. Это занятие кассиру надоело, и он начал выдавать заработную плату большими, неразрезанными листами.
В зависимости от стоимости купюры листы с напечатанными на них деньгами ценились по-разному. К примеру, тысячерублевок было отпечатано на листе двадцать штук, и потому лист стоил двадцать тысяч рублей, а десятирублевок – шестьдесят штук, и лист с ними соответственно стоил шесть тысяч рублей.
Но не всегда кассир мог расплатиться одними цельными листами. Иногда ему приходилось выкраивать ножницами из листа нужную сумму.
Против этого кассир не восставал: в конце концов, такая операция брала немного времени. Скандалы вспыхивали из-за того, что некоторые заносчивые сотрудники отказывались брать деньги целыми листами, а требовали расплаты нарезанными купюрами.
В таких случаях старый и желчный кассир захлопывал фанерное окошечко кассы и кричал изнутри:
– Что! У вас руки отсохнут, если вы порежете деньги? Не хотите сами, так дайте вашим деткам. Пусть они получат удовольствие!
Захлопывание окошечка было со стороны кассира сильным, хотя и запрещенным, приемом, своего рода психической атакой. Я испытал ее на себе и убедился, что захлопнутое окошко кассы действует просто панически на всех служащих, но особенно на многосемейных и алкоголиков. У каждого появлялась необъяснимая уверенность, что окошечко никогда уже больше не откроется, что все деньги розданы до последней копейки и что их больше вообще не будет в природе.
Самый несговорчивый получатель денег всегда сдавался перед захлопнутым фанерным окошком и начинал даже каяться. Тогда кассир открывал окошечко, долго и горестно смотрел поверх очков на протестанта и качал головой.
– Стыдитесь, молодой человек! – говорил он. – Скандалить вы умеете, а чтобы чуточку помочь финансовым работникам и порезать деньги самому, так на это вас никогда не хватает. Пишите сумму прописью вот тут, где красная птичка.
С целью просветить сотрудников Опродкомгуба в области денежного обращения кассир приклеил к фанерной перегородке около кассы образцы советских денег, имеющих хождение по стране, а рядом образцы денег, хождения не имеющих.
То была редкая коллекция бумажных денег. Ее не украли только потому, что предусмотрительный кассир приклеил деньги к фанере столярным клеем и их нельзя было отодрать от нее никаким способом. Но все же на второй день появления этой коллекции комендант Карпенко обнаружил попытку стащить коллекцию, – кто-то начал выпиливать лобзиком кусок фанеры с наклеенными деньгами.
В то время почти все деньги носили прозвища. Тысячные ассигнации назывались «кусками», миллионы – «лимонами». Миллиардам присвоили звучное прозвище «лимонардов». Все мелкие деньги тоже носили самые неожиданные наименования. Особенно нежно одесситы называли бумажную мелочь в тридцать и пятьдесят рублей.
Среди денег, не имевших хождения, были совершенно фантастические: например, сторублевки, напечатанные на обороте игральных карт. Их выпускал какой-то захолустный город на Украине – не то Чигирин, не то Славута. Были одесские деньги с видом баржи, белогвардейские «колокола» и «ермаки», украинские «карбованцы», сторублевые «яешницы», «шаги» и еще множество всяческих банкнот и «разменных знаков», чья ценность обеспечивалась сомнительным имуществом разных городов – от Крыжополя до Сосницы и от Шполы до Глухова.
Наша стена около кассы Опродкомгуба выглядела живописно. Почти каждый сотрудник, получая деньги, проделывал с ними одну и ту же операцию: он прижимал к фанере денежный лист, накладывал сверху кусок бумаги и изо всей силы тер по ней, чтобы убрать с денежного листа лишнюю липкую краску.
После этого деньги отпечатывались и на бумаге и на фанере с такой четкостью, что, как уверяли остряки, с них можно было делать оттиски и пускать их в обращение наравне с настоящими деньгами.
После получки все покрывалось оттисками липких денег. На пальцах, на столах, на бумагах и книгах мы находили номера денежных серий и подпись народного комиссара финансов.
Ячная каша
Сотни тысяч рублей, которые мы получали под видом заработной платы, целиком уходили на обед в соседней нарпитовской столовой. Там изо дня в день мы съедали две-три ложки ячной каши, сдобренной зеленым, похожим на вазелин веществом. Торелли уверял, что это было оружейное масло.
Кроме того, мы питались горелым хлебом и мидиями.
Хлеб отличался удивительной особенностью: корка и мякиш существовали в нем обособленно. Они образовывали как бы два чуждых друг другу геологических пласта. Между этими пластами находилось пространство, заполненное мутной кисловатой влагой, горьким хлебным квасом.
Были любители, которые высасывали этот сок и утверждали, что он вылечивает опухоли на суставах.
Такие опухоли появились тогда от недоедания и холода. К ним нельзя было прикоснуться без того, чтобы тотчас же не возникала резкая и длинная боль. Кроме того, при каждой попытке помыть руки опухшие места лопались и кровоточили. В холод они сильно болели, а в тепле начинали нестерпимо чесаться.
Я пил хлебный сок и могу засвидетельствовать, что опухоли от этого не исчезали, но зато начиналась тяжелая изжога.
Мясо морских ракушек – мидий – мы варили с солью. В нем чувствовался сильный привкус ихтиола.
Кроме того, мидий надо было добывать самим на Ланжероне, отдирая их ножом от прибрежных скал, конечно, в тихую и теплую погоду. Поэтому мидии были только летней пищей.
Лета мы ждали с нетерпением. Летом я начинал ловить бычков и султанку. На широких молах в порту уже зеленели огороды, окруженные изгородью из ржавых труб и рваного листового железа. Чудно пахли листья помидоров, обещая недалекий урожай «красненьких» (так в Одессе звали помидоры). Призрак голода бледнел, но не уходил. Голод прятался рядом. Мы все время чувствовали его близость и знали, что при малейшей оплошности он появится снова, еще более мучительный и зловещий, чем раньше.
Что касается меня, то я считал себя совершенно счастливым, когда мне удавалось достать несколько таблеток сахарина. Я пил с ним чай из сушеной свеклы с горелой хлебной коркой и чувствовал, как свежесть и сила вливаются в меня целыми зарядами, обновляя скудеющую кровь.
Деньги уходили на ячную кашу и на воду, – за ведро воды приходилось платить пятьсот рублей. Больше их почти ни на что не хватало, даже на спички и дрова. Акациевые дрова, похожие по цвету на серу, продавались в Одессе только щепками и только на вес.
Поэтому дрова приходилось воровать. Я не стыжусь признаться в этом хотя бы потому, что дело это было опасное и подчас грозило смертельным исходом.
Конечно – что говорить! – мы предпочли бы топить нашу верную «буржуйку» газетами и бумагой. Но старые газеты тоже приходилось воровать.
С точки зрения морали воровство дров и газет было явлением одного порядка. Но с практической точки зрения газеты, понятно, не могли идти ни в какое сравнение с дровами. Газета давала мимолетное тепло, вернее – намек на него, но зато засыпала паленой бумагой и желтым своим пеплом весь двор и сад, вызывая нарекания расстриги Просвирняка.
Дрова мы воровали преимущественно в Аркадии. Это была ближайшая к Одессе дачная местность на берегу моря.
Когда наступало лето, то Аркадия напоминала руины римских вилл – Боргезе, Альдобрандини или Конти. Сухой плющ обвивал треснувшие колонны с отбитой штукатуркой. Ее отбивали нарочно, желая убедиться, что колонны кирпичные и не годятся на дрова.
Ящерицы грелись в оконных проемах, где цвел, крепко зацепившись за разбитые каменные подоконники, золотой дрок. Ласточки гнездились в пилястрах. В лоджиях, как в огромных каменных чашах, буйно разрастался пыльный татарник.
На мраморных плитах муравьи прокладывали широкие аппиевы дороги{11}. Подобно разрушенному с южной стороны Колизею{12}, стоял тоже осыпавшийся с юга, со стороны моря, знакомый цементный бассейн. Он зарос по дну сухими злаками и бессмертником.
Хотя этим руинам и было всего каких-нибудь два года, но воздух древности уже завладел ими. Он сообщил окраске пустынной Аркадии пыльный и бронзовый налет Пергама{13} и Эллады{14}.
Так было летом. Зимой же, особенно в ненастные ночи, когда мы отваживались проникать в Аркадию, руины грозно чернели. В них выл январский норд и швырял в лицо заряды сухого снега. Тогда невозможно было представить себе, что над этими развалинами когда-нибудь подымется летнее солнце Одессы и легчайший шум ветра будет равномерно пробегать по листве уцелевших столетних деревьев.
Мы с Яшей воровали дрова всего три раза за зиму, но, правда, удачно. Два раза мы притащили по одной половице, а однажды нам удалось даже выломать раму от дверей.
Этих дров нам хватило на всю зиму, но только потому, что Яша открыл замечательный способ мгновенно раскалять «буржуйку» и так же мгновенно кипятить на ней чай. Все дело было в том, чтобы топить тоненькими, как солома, лучинками. Это давало буйное, но короткое пламя и брало ничтожное количество дров.
Я хорошо помню наши ночные походы за дровами. Сначала мы ходили днем на разведку и выискивали дачу, где еще не все деревянные части были разворованы. При этом Яша вел со мной очередной запальчивый спор о подлинности пьес Шекспира или об экономических последствиях Версальского мира{15}.
После разведки мы отправлялись в главный поход. Мы засветло шли к Аркадии по морскому берегу, где нас зимой вряд ли кто мог заметить. Мы несли с собой под пальто коловорот расстриги Просвирняка и его же маленький охотничий топор. За это расстрига получал от нас по строгому соглашению растопку для самовара. Дровами же мы делились только с Торелли, – его больной сестре, лежавшей без движения, нужно было постоянное тепло.
Около Аркадии, в заброшенной будке, где в доисторические времена продавали сельтерскую воду с сиропом, мы дожидались темноты.
В темноте мы находили выбранную днем дачу. Шли мы к ней осторожно, поминутно прислушиваясь. При малейшем шуме мы прятались за первой же оградой.
Мы боялись вовсе не милиции. В Аркадии ее не было, да и не могло быть. Кому бы пришло в голову охранять развалины, сады, свистящие голыми ветвями, и холодное побережье, затянутое черным дымом штормовых ночей? Мы избегали встреч не с милицией, а с мелкими бандитами, воровавшими дрова для продажи, с жадными торгашами. Ими кишели в то время базары.
В первую же ночь мы нарвались на них, и они чуть не подстрелили нас из обреза. При этом они изрыгали на нас такие чудовищные угрозы, что волосы становились дыбом и леденела кровь.
Тяжелее всего было выламывать половицы. Это следовало делать совершенно бесшумно, но заржавленные гвозди всегда предательски взвизгивали. Руки у нас были изорваны в кровь, ногти обломаны, а ноги дрожали от напряжения.
Половицы были невероятно тяжелые, будто чугунные. С величайшим трудом, изнемогая и спотыкаясь, мы вдвоем едва дотаскивали их до своей дворницкой.
Я разводил огонь в «буржуйке», а Яша падал на продавленный матрас на полу, проклинал себя, «буржуйку», Одессу, Антанту и все на свете, стонал и клялся, что больше ни за что не пойдет воровать дрова.
У меня тоже было невесело на душе. Мне казалось, что мы с Яшей совсем опустились, и если так пойдет дальше, то мы превратимся в обыкновенных дровяных воров. Но соблазн горячего чая был так велик, что мы тут же забывали эти жалкие вылазки собственной совести. После чая Яша тотчас засыпал, а я лежал на жесткой профессорской тахте и долго прислушивался к звукам ночи.
Блокада
В туманной области человеческих воспоминаний заключено на первый взгляд много таинственных, а на самом деле просто необъясненных вещей.
Например, воспоминания о больших событиях бывают подчас такими же зыбкими, как, скажем, воспоминания о самом сереньком деньке.
В своих писаниях я старался избежать этой зыбкости, но не уверен, что это мне вполне удалось. Память зачастую оставляет нам субъективный облик времени, тогда как мы думаем, что он объективен и точен. Так, например, вся жизнь в Одессе в конце 1920 года и в 1921 году сохранилась в моей памяти как некий сравнительно мирный отрезок времени среди гремящих и ошеломляющих событий. Чем это объяснить?
В те годы Одесса опустела. Часть рабочих ушла на север, в Советскую Россию, с первыми же частями Красной Армии, с продовольственными и матросскими отрядами. Это было еще до появления интервентов и Деникина. Часть же населения отхлынула из Одессы в деревню, спасаясь от голода и белых мобилизаций.
В городе почти не было больших заводов. Самыми крупными предприятиями считались джутовая фабрика, консервные фабрики и судоремонтные мастерские. Над городом властвовал порт с его люмпенами – грузчиками, босяками и жлобами. А на обширных городских окраинах засел упорный и изворотливый одесский обыватель.
Во время интервенции оставшиеся в Одессе рабочие всячески поддерживали подпольщиков-большевиков.
Подпольщики скрывались в каменоломнях и в самом городе. Несмотря на аресты и расстрелы, они работали так смело, что им удалось даже провести при французах и деникинцах областную конференцию большевиков, регулярно выпускать подпольную газету «Коммунист», распространять множество прокламаций, поддерживать бастовавших работников типографий, трамвая и телеграфа, взорвать поезд с военным имуществом интервентов и, наконец, создать военно-революционный комитет, который принял временную власть над городом в первые дни занятия Одессы советскими войсками.
Незадолго до взятия города, когда бои с белыми шли уже у Берислава и Перекопа, деникинская контрразведка расстреляла девять молодых большевиков-подпольщиков. Перед казнью их изощренно пытали, и средневековые эти пытки потрясли даже толстокожих одесских обывателей. Я помню рассказы об Иде Краснощекиной, проявившей непостижимую твердость и несокрушимое мужество. На нее обрушилась вся ярость контрразведчиков.
Перед казнью подпольщики написали письмо своим товарищам на свободе. В этом письме были простые и берущие за сердце слова: «Мы умираем, но торжествуем».
В этих словах был заключен молодой пыл и великая вера в неизбежность победы, – тот пыл и та вера, что с тех пор стали неотъемлемым качеством революционной молодежи.
Ко времени второго прихода деникинцев ряды рабочих в Одессе еще сильнее поредели. Почти все заводы были закрыты. Порт зарастал сорной травой. Жизнь явно замирала, и только бешеная спекуляция пылала пышным и ядовитым пламенем.
Кроме того, в Одессе существовал большой разрыв между сознанием людей, пришедших с севера и живших уже в третьем году революции, и сознанием одесситов, живших в революции только первые месяцы.
Мне тоже пришлось пережить не одну, а три октябрьские революции: первую в Москве в октябрьские дни 1917 года, вторую в 1919 году в Киеве и третью в 1920 году в Одессе.
В Одессу революция принесла с собой не только сложившиеся на севере формы государственности и быта, но и привела на черноморский юг новых людей, воспитанных революционной бурей и чуждых практическому опыту обывателя-одессита.
Появились решительные и неумолимые люди (их всех одесситы без всякого разбора звали «комиссарами»), точно знавшие, что нужно для победы революционного сознания среди пестрого, чрезмерно экспансивного и склонного к анархическим поступкам населения Одессы.
Кажущееся спокойствие тогдашней одесской жизни объяснялось еще и тем, что зима 1920 года и весь 1921 год были в Одессе временем блокады. Море месяцами лежало, как мертвый плат, без единого пароходного дыма.
От Советского севера Одесса была отрезана разрушенными железными дорогами, налетами всяческих банд, «дикими территориями», где не было никакой власти, взорванными мостами.
Это и вызывало ту некоторую обособленность одесской жизни, какую нельзя было не заметить даже при самом беглом знакомстве с революционными событиями на нашем юго-западе.
Я часто просыпался на профессорской тахте и слушал ночь. С некоторых пор это стало любимым моим занятием.
Ночь наливалась тишиной. Я долго вслушивался в эту гудящую тишину и улавливал иногда далекий звук пушечного выстрела. Это французская канонерка «Ля Скарп» обстреливала каждую ночь Очаков.
Веская тишина и перекаты пушечного гула означали блокаду.
До сих пор я только читал это слово в исторических книгах или в старых, как зеленоватый налет на бронзе, морских романах. Но все же я довольно ясно представлял себе блокаду.
Что это было? Пустое море, где зловеще проносились быстрые сторожевые суда, бессмысленный орудийный огонь с моря по окраинным огородам, погасшие маяки, взорванный у входа в порт транспорт, стеньги его мачт над водой, далекий луч прожектора рядом с мерцанием Млечного Пути и легкость во всем теле от недоедания.
Если таковы были, по моему тогдашнему разумению, приметы блокады, то одесскую блокаду можно было назвать классической.
Все, о чем сказано выше, стало в то время содержанием одесской жизни. Хотя по временам нам самим казалось, что реальность так густо переплелась здесь с фантастикой, что их друг от друга нельзя отделить.
Несмотря на голод, ледяную сырость в домах, на разруху и одиночество (Яша ближе к весне переехал в город, и я остался на Черноморской один), я чувствовал временами приливы необъяснимого подъема. Я приписывал это своей молодости, хотя и не был тогда так особенно молод – мои годы уже подходили к тридцати. Но я ощущал себя восемнадцатилетним. Ко всему взрослому – положительному и благоразумному – я был враждебен, хотя временами и робел перед ним, как мальчишка.
Все в Одессе вызывало у меня такое юношеское состояние, даже длившаяся всю весну и лето блокада.
Представление о блокаде, как я уже упоминал, связано с морем, где нельзя увидеть на горизонте ни одного пароходного дыма. Так было тогда в Одессе. И это мне нравилось.
Море было таким пустынным, как в те времена, когда человек не научился строить даже плоты. Можно было неделями и месяцами всматриваться с бульвара вдаль и не увидеть ничего, кроме вспышек солнца в колебании волн.
Изредка на горизонте появлялась эскадра причудливых парусных кораблей. Они надменно плыли под белыми тугими парусами, но, приблизившись, превращались в грозные снеговые горы и неожиданно швыряли в потемневшую воду молнии и раскаты грома.
Море отзывалось на голоса этих туч, превращая один гром в сплетение многих гулких громов. Они сотрясали морские дали по всем направлениям.
Я пользовался всяким свободным днем, чтобы уйти из города на самые отдаленные станции Большого Фонтана. Начиналась весна. Приход ее на это степное побережье был трогательнее, чем в местах, богатых растительностью. Может быть, потому, что здесь был очень виден каждый цветок, тянувшийся из-под заржавленных рельсов заброшенного трамвая, каждая трепещущая бабочка, сушившая крылья в теплых струях морского воздуха.
Этот воздух подымался равномерными и сильными вздохами из-под крутых рыжих обрывов, подымался от пляжей, заваленных после войны обломками пароходов и дубков. Мне казалось, что горячий ток воздуха исходит даже от корпуса эскадренного миноносца «Занте». Он был выброшен на прибрежные скалы у Большого Фонтана, вклинился в них, и никто даже не пытался снять его с этих скал.
В его каютах и трюмах ворчала, вливаясь и выливаясь, вода. По бортам уверенно карабкались на палубу крабы – погреться на склепанных железных листах.
А море продолжало быть таким пустынным, что мы, кажется, не удивились бы, если бы заметили на нем бронзовые носы греческих трирем или цветные паруса финикиян, хотя это и были давно исчезнувшие древние суда.
Понятия древности и пустынности всегда соприкасаются. Ведь в баснословные времена трирем людей на земле было мало, и потому, конечно, были очень пустынны все ее моря и материки.
Сейчас же Черное море было пустым из-за блокады и еще потому, что белые, бежав из Одессы, увели с собой весь так называемый торговый флот – все пассажирские и грузовые пароходы, буксиры, баржи и катера пароходных обществ РОПИТа («Русского общества пароходства и торговли»), Черноморско-Дунайского пароходства и Добровольного флота.
Флот был уведен в разные порты Средиземного моря. Там белое командование распродавало его заграничным компаниям.
Белые увели и частные пароходы, даже такую рухлядь, как пароходы знаменитого судовладельца Шаи Крапотницкого. Шая был посмешищем морской Одессы. Он был легендарно скуп и вероломен. Ему не верили в долг даже извозчики. Служить на пароходах Крапотницкого соглашались только отпетые неудачники. Жалованье из Крапотницкого вытряхивали в прямом смысле этого слова, хватая его за шиворот.
Шае принадлежал допотопный колесный пароход «Тургенев», ходивший из Одессы в Аккерман и описанный Катаевым в повести «Белеет парус одинокий». Часть уроженцев Одессы оспаривает это утверждение и уверяет, что «Тургенев» принадлежал пароходной фирме «Мишурес и сыновья».
Где-то на мусорных задворках Нефтяной гавани, на «корабельном кладбище», осталось несколько развалившихся пароходов, предназначенных на слом, и среди них проржавевший насквозь «Димитрий», тоже принадлежавший пресловутому Шае. Этот пароход чуть не сыграл трагическую роль в моей жизни.
Порт был недвижим, как лагуна. Он потерял прямое назначение и превратился в садок для скумбрии и бычков, в излюбленное место престарелых рыболовов.
Молы заросли овсом (от рассыпанного зерна) и пахучей желтой ромашкой. Причальные тумбы покрылись такой слоеной ржавчиной, что на них с трудом можно было прочесть литую надпись. Она сообщала, что тумбы эти изготовлены на одесском судостроительном заводе Беллино – Фендерих.
На широких молах портовые сторожа разводили огороды.
Из бесчисленного множества огородов, какие я видел в жизни, эти были самыми живописными. В терпких зарослях помидоров хозяин ставил вместо скамейки ящик. На нем можно было посидеть, покурить и послушать всякие разговоры.
По всем огородам стояли пугала и другие хитроумные сооружения, чтобы отгонять воробьев. Пугала изображали бродяг и пропойц в рваных тельняшках и брюках клеш из дырявой мешковины.
На тряпичные головы этих бродяг были напялены детские ватные капоры или продавленные котелки. Эти заломленные котелки придавали пугалам несколько игривый и вместе с тем бесстыдный вид. Казалось, что владельцы этих котелков вот-вот исполнят «танец смерти» или канкан.
Самой большой популярностью пользовалось пугало из огорода на Карантинном молу. Оно изображало прощелыгу в шкиперской каскетке, с бутылкой водки в руке. Прощелыгу этого прозвали «Жорой с Дюковского сада».
Вместо водки в бутылке была морская вода. Но это не мешало завсегдатаям порта восхищаться ловкой выдумкой хозяина огорода и шумно его приветствовать.
Из всяческих сооружений против воробьев пользовалась всеобщим признанием только маленькая ветряная мельница. Ее фанерные крылья вертелись от морского бриза и ударяли по осколкам стекла, подвешенным на шпагате. От этого получался довольно приятный и дробный звон, нестерпимый для воробьев.
Были еще бамбуковые шесты с привязанными к ним разноцветными тряпками. Они развевались по ветру, скручиваясь в клубки и распускаясь.
Все это (в том числе и пугала в порту) было косвенными приметами блокады. Она проходила в Одессе пока что спокойно (в начале лета даже старый знакомец «Ля Скарп» удалился от одесских берегов), и потому ей сопутствовали разные мирные, а иной раз и идиллические занятия жителей.
Война с белополяками не дошла до Одессы. Было тихо. Только изредка в море, всегда в стороне Очакова и Кинбурнской косы, возникали орудийные громы. Это врангелевский крейсер «Кагул» приходил из Крыма и бессмысленно обстреливал берег. Его тут же прогоняли наши береговые батареи, и «Кагул» охотно возвращался в Севастополь с видом исполненного долга, – немилосердно дымя, перекатывая стальным носом груды сияющей пены и развевая на гафеле грот-мачты{16} выцветший андреевский флаг.
Были еще и другие блокадные приметы. Маленький кусок черствого кукурузного хлеба и десяток абрикосов считали вполне достаточной пищей.
Мы, работники Опродкомгуба, знали, какое нечеловеческое напряжение требовалось, чтобы прокормить впроголодь город, насытить, как в евангельской притче, пятью хлебами несколько тысяч человек.
Хлеб давали по карточкам, или, как тогда выражались в Одессе, «по литерам». Это выражение объяснялось тем, что на карточках были отпечатаны все буквы алфавита, от «А» до «Я», и хлеб выдавался в зависимости от литеры: по «А» больше всего, а по «Я» давали почти невесомое его количество, очевидно, только для канареек.
Я получал хлеб по литере «К».
Мне нравилось стоять в длинных очередях. Жизнь каждой очереди была хотя и короткой, но увлекательной. Очередь жила головоломными слухами, анекдотами, внезапно возникавшей паникой, насмешливым обсуждением высказанной кем-нибудь житейской мудрости и, конечно, скандалами. Они взрывались внезапно, как фугасные снаряды, но затихали медленно – так же, как рассеивается пыль после взрыва.
Драки случались редко и носили безопасный характер взаимного толкания в грудь растопыренной пятерней.
В одесской очереди я видел удивительную сцену. По скупости слов и выразительности жеста она представляется мне образцом уличных скандалов.
В очереди стоял кроткий старец-еврей в длинном, до пят, потертом черном пальто и пыльном котелке. Улыбаясь и покачивая головой, он добродушно рассматривал очередь через необыкновенно толстые очки. Время от времени он вынимал из кармана пальто маленькую книгу с выдавленным на черном переплете золотым щитом Давида, прочитывал одну или две страницы и снова прятал книгу в карман.
Это был, конечно, ученый, может быть, даже цадик, старый философ с Портофранковской улицы. Все злоключения жизни не могли смутить его ясный дух, его расположения к людям и погасить улыбку в его голубоватых детских глазах.
Около очереди вертелся и приглядывался к ней развязного вида молодой человек в маленькой кепке с пуговкой. На ногах у него сверкали растоптанные туфли канареечного цвета.
Кожаная обувь была в то время большой редкостью. Все ходили в деревяшках. Весь город наполнился их дробным стуком. По утрам, когда одесситы бежали на службу, стук учащался, и если закрыть глаза, то можно было подумать, что все население Одессы разыгрывает на кастаньетах скачущий танец. Поэтому канареечные туфли развязного молодого человека вызвали в очереди тихую зависть. Она выражалась в восхищенных взглядах и вздохах.
Молодой человек соображал, как бы незаметнее и без скандала втереться в очередь. Наконец он увидел старика с книгой. Старик этот, естественно, показался ему воплощением кротости и непротивления злу. Тогда молодой человек решился. Он ловко просунул плечо между стариком и его соседом по очереди, деликатно отжал старика назад, стал перед ним и небрежно сказал:
– Я извиняюсь!
Старик, все так же кротко улыбаясь, согнул руку, немного отвел в сторону свой маленький острый локоток, примерился и вдруг стремительно и сильно ударил этим локотком молодого человека в грудь под самую «душу». При этом старик сказал совершенно спокойно, как бы внося поправку:
– Нет, это я извиняюсь!
Молодой человек икнул, отлетел и ударился спиной об акацию. Кепка упала у него с головы. Он подобрал ее и пошел, не оглядываясь, к перекрестку. Только на перекрестке он наконец обернулся, погрозил старику кулаком и сказал, всхлипывая:
– Каторжанин! Старый бандит!
Очередь молчала. Коллективная мысль, захваченная врасплох этим событием, еще не оформилась и не получила ясного выражения. А старик вытащил из кармана книгу, углубился в нее, выискивая, очевидно, какую-нибудь истину, пригодную для обсуждения с приятелями-стариками в тихих дворах Портофранковской улицы.
Дни блокады казались безмятежными некоторой части населения Одессы только из-за полной неосведомленности о том, что происходит вне города. На самом же деле положение для молодой еще Советской власти было грозным и напряженным. Нужна была большая находчивость и вера в свои силы, чтобы выйти из нависшей над городом опасности.
Дело в том, что после бегства белых из Одессы на окраинах города и в немецких колониях, во всех этих Либенталях, Люстдорфах и Мариенталях, застряло около семидесяти тысяч деникинских офицеров и солдат.
Союзники рассчитывали, опираясь на них, поднять в Одессе восстание и поддержать его с моря огнем своих кораблей.
Кроме того, в предместьях – на Молдаванке, Бугаевке, в Слободке-Романовке, на Дальних и Ближних Мельницах – жило, по скромным подсчетам, около двух тысяч бандитов, налетчиков, воров, наводчиков, фальшивомонетчиков, скупщиков краденого и прочего темного люда.
Настроение этого разнообразного и нервного общества было неясным. Бандиты вообще отличаются истеричностью и непостоянством привязанностей. Никто не мог знать, как они себя поведут, если случится восстание.
В Одессе в то время было мало советских войск. А между тем союзная эскадра уже крейсировала у берегов Одессы, выслав вперед для разведки итальянский миноносец «Ракия».
И вот произошел случай, резко изменивший всю обстановку. Миноносец «Ракия» наскочил на мину на траверзе{17} Большефонтанского маяка. Внешним проявлением этого события был только легкий гул, докатившийся до города с моря. Но он никого не встревожил.
По приказу Одесского губкома рыбаки с Золотого берега, Большого Фонтана, с дачи Ковалевского и из Люстдорфа – люди опытные и спокойные – немедленно вышли на своих шаландах к месту взрыва, подобрали уцелевших итальянцев, сняли с тонущего миноносца убитых и доставили их на берег раньше, чем успели подойти на помощь корабли эскадры.
Тела погибших итальянцев привезли в Одессу. Командующему эскадрой было передано радио. В нем сообщалось, что город, удрученный этим несчастьем, берет на себя похороны доблестных итальянских моряков, приглашает командира эскадры прибыть на торжественную церемонию и просит выслать для отдания последних почестей погибшим отряды моряков.
Адмирал ответил согласием, – больше ему ничего не оставалось делать.
А наутро от порта до Куликова поля около вокзала, где была приготовлена братская могила, выстроились красноармейские части и отряд наших моряков без оружия. На всех домах висели траурные флаги. Путь похоронной процессии был усыпан цветами и ветками туи.
Сто тысяч одесситов присутствовало на этих похоронах – почти все тогдашнее население города.
Гробы несли на руках портовые рабочие. За ними шли с винтовками, опущенными дулами к земле, загорелые итальянские матросы.
Играли оркестры с иностранных судов и сборный оркестр Одессы. Он не ударил в грязь лицом, и надрывающие сердце траурные звуки шопеновского марша заставляли чувствительных одесситок плакать, утирая глаза концами шалей.
В церкви Ново-Афонского подворья печально и похоронно звонили колокола. Крыши домов были черны от людей.
Над могилой говорили речи. Итальянцы слушали их, держа винтовки «на караул». Потом отдаленный прощальный залп кораблей слился с ружейным залпом на Куликовом поле. Братская могила превратилась в пирамиду цветов.
После похорон для иностранных моряков был устроен в бывшем кафе Фанкони ужин. На него товарищ Агин истратил почти весь неприкосновенный запас продовольствия.
После таких похорон не могло быть, понятно, и речи о бомбардировке и о восстании. Матросы иностранных кораблей не допустили бы этого. Они были благодарны за почет, оказанный большевиками их погибшим товарищам, и растроганы дружеским приемом.
Старый адмирал, похожий, как говорили, на Джузеппе Верди, понял, что дело пока что проиграно. Он отдал эскадре приказ возвращаться в Константинополь. И эскадра скрылась в вечерней черноморской мгле, оставив на произвол судьбы деникинских офицеров.
Одесский губком пошел на огромный риск, допустив в город отряды вооруженных иностранных матросов. Но это был благородный риск, и одесские большевики, устроив эти похороны, выиграли бескровное сражение у интервентов.
Работники губкома были уверены, что похороны вызовут порыв солидарности у матросов эскадры с нашими рабочими и солдатами и никакие приказы не смогут разрушить эту солидарность.
Вскоре блокада была снята. В порт пришли из Херсона первые парусные дубки с абрикосами.
Потом в одно безоблачное утро у Карантинного мола пришвартовались две пестрые, как писанки{18}, турецкие фелюги из Скутари – первые торговые суда в Одессе.
На следующий день газеты с торжеством сообщили, что в порт прибыло из Турции на двух фелюгах кило камней для зажигалок, стеклянные бусы, позолоченные браслеты и бочонок маслин.
Дело было, конечно, не в кило камней для зажигалок, а в том, что море отныне стало свободным. Оно, как мне казалось, даже сразу изменилось: весело зашумело под порывистым ветром и засверкало такой белоснежной пеной, какой я на нем до тех пор не видел.
Теперь каждый день уже можно было ждать в юго-западной морской голубизне появления желтых океанских труб, мощных корабельных корпусов, причудливых флагов, торжественных гудков и длинного грохота якорных цепей. Он всегда обещает мореплавателям законный отдых хотя и в чужой, но прекрасной стране.
Хитросплетение обстоятельств
Володя Головчинер любил глубокомысленно говорить, что жизнь наша зависит от причудливого и неожиданного сплетения обстоятельств. При этом в доказательство своей правоты он приводил слова из чеховского «Иванова»:
«Жизнь наша… Жизнь человеческая подобна цветку, пышно произрастающему в поле: пришел козел, съел – и нет цветка…»
Торелли соглашался с Володей и говорил, что, может быть, на всем земном шаре жизнь и течет закономерно, но что касается Одессы, то за это поручиться нельзя.
Он утверждал, что Одесса – взбалмошный город, где возможно все, вплоть до уличных боев из-за венских стульев. При этом Торелли вспоминал случай во время интервенции Одессы в 1919 году.
Интервенты разделили город на четыре зоны: французскую, греческую, петлюровскую и деникинскую. Каждая зона была отгорожена от соседней рядами венских стульев. Однажды петлюровцы воспользовались тем, что французский часовой отлучился с поста по нужде, и перетащили часть стульев к себе – отхватили большой кусок чужой территории. Возмущенный часовой поднял, по словам Торелли, «страшный шухер» и начал даже стрелять.
Но как бы там ни было, все же в том случае, о каком речь будет ниже, Володя Головчинер оказался прав: произошло причудливое и неожиданное сплетение (или, как говорил Володя, «хитросплетение») обстоятельств.
В самый разгар блокады, когда почти полная отрезанность от мира сообщала одесской жизни даже некоторый оттенок беззаботности, ранним летним утром ко мне в дворницкую постучался Торелли.
– Вставайте! – крикнул он мне через дверь. – Кажется, в Одессе началась новая интервенция.
Я вскочил. В Одессе можно было ожидать чего угодно. С обрыва над Ланжероном мы с Торелли увидели затянутый голубоватой и нежной дымкой порт, увидели, как пышно выразился Торелли, «розовоперстую Аврору» – тонкие пряди облаков над морем, освещенные тихой зарей, и на прозрачной воде порта – два огромных и неуклюжих океанских парохода под французским флагом.
Рядом с пароходами стоял элегантный и длинный, как серая сигара, французский контрминоносец «Лейтенант Борри». Прозрачный дым струился из его труб, а медные части пылали на палубе десятками жгучих солнц.
Мы пошли в порт, но нас туда не пустили. Порт был оцеплен отрядами красноармейцев и наших матросов.
Французские транспорты медленно и осторожно подтягивались к причалам.
Мы узнали, что контрминоносцем «Лейтенант Борри» командовал известный и весьма изысканный французский писатель-моряк Клод Фаррер, автор книги «В чаду опиума».
Само по себе это было тоже интересно. Но гораздо интереснее была высадка, тотчас же начавшаяся с французских транспортов.
С них в полном порядке и тишине спустились не зуавы и не кофейные сенегальцы и даже не солдаты французского Иностранного легиона, а наши русские солдаты в новенькой, с иголочки, защитной форме, но без оружия. Единственное, что отличало их от солдат старой царской армии, – это скрипучие краги из желтой глянцевитой кожи.
Солдаты выстраивались на пристани и уходили в казармы в сопровождении советских командиров.
Да, через час мы уже знали всё. Это «всё» заключалось в том, что во время Первой мировой войны по прихоти Николая Второго во Францию был отправлен корпус русской пехоты, так называемый Экспедиционный корпус. Солдат везли морем из Владивостока в Марсель.
Корпус высадился в Марселе и промаршировал через Париж перед восхищенными француженками, осыпавшими офицеров и солдат цветами.
Президент республики принял парад русских войск около Триумфальной арки. Солдаты прошли перед президентом с залихватской песней:
Потом в России произошла революция, русские солдаты, естественно, отказались воевать, и французы увели их в тыл, в лагеря для военнопленных. Там наши солдаты просидели несколько лет, требуя возвращения на родину и время от времени устраивая бунты, вызывавшие панику во французском правительстве.
В конце концов французы решили избавиться от русских, погрузили их на морские транспорты и, договорившись с Советским правительством, отправили под конвоем в Одессу.
Вся Одесса повалила на портовые спуски приветствовать русских солдат. Их обнимали, целовали, дарили цветы.
Но затем произошло нечто совершенно загадочное.
Когда разгрузка была окончена и транспорты тут же отвалили от причалов и в сопровождении контрминоносца «Лейтенант Борри» начали вытягиваться на рейд за Воронцовский маяк, со стороны нашей Черноморской улицы раздался громоподобный орудийный залп, и полоса шрапнели разорвалась перед носом транспортов.
Транспорты застопорили машины, а контрминоносец развернулся бортом к Одессе, и тотчас же на его боевой рубке замигали ослепительные вспышки фиолетового огня: миноносец начал какие-то торопливые переговоры с берегом.
На оцепленном Приморском бульваре устанавливали орудия. Сосредоточенные и суровые матросы с маузерами на поясах работали молча и быстро.
Тотчас же вся Одесса узнала, что в трюмах транспортов был спрятан большой груз оружия, вплоть до легких танков.
Французы решили одним ударом убить двух зайцев: избавиться от революционных русских солдат, а на обратном пути из Одессы в Константинополь зайти в Крым и выгрузить оружие Врангелю.
Одесские власти узнали об этом от солдат Экспедиционного корпуса и запросили по радио распоряжения из Москвы.
Москва приказала не выпускать французские транспорты и потребовать от французов, чтобы во избежание излишнего кровопролития врангелевское оружие было выгружено в Одессе.
Французы упорствовали. В Одессе говорили, что всю эту наглую и жульническую историю с оружием придумал генерал д’Ансельм. Даже его союзники – деникинцы – считали, что д’Ансельм глуп как пробка и скуп как Плюшкин.
Прошло два дня. Вся Одесса толпилась на берегу, гадая, чем все это кончится. Французы упорствовали и держали в котлах пар: трубы транспортов все время дымились.
Очевидно, французы искали какого-нибудь выхода из положения, в котором был бы хоть оттенок благородства. Но они, конечно, ничего не придумали, кроме применения грубой силы.
Из Константинополя в Одессу была отправлена сильная эскадра французских военных кораблей. Командующий эскадрой передал в Одессу радио с угрозой открыть по городу огонь из тяжелых орудий и снести весь город, если транспорты не будут отпущены.
Я помню до сих пор ту жгучую горечь и досаду, когда мы узнали, что Москва предложила выпустить французов, чтобы спасти Одессу. Тогда мы еще не были так сильны на море, чтобы принять бой со всей французской эскадрой.
В день ухода французских транспортов я пошел на Фонтаны, откуда было видно открытое море. С обрывистого берега я увидел морской горизонт, затянутый пеленой тяжелого и непроницаемого дыма. Это подходила французская эскадра. Она остановилась в нескольких милях от берега, дожидаясь своих транспортов.
Транспорты уходили полным ходом. За ними несся, юля и перебегая от транспорта к транспорту, контрминоносец «Лейтенант Борри». Все же одна из наших батарей не выдержала и дала вслед уходящим французам залп шрапнелью.
Я испытал тогда жестокую обиду за Францию и за французов, обиду за великую французскую культуру, за Дидро и Вольтера{19}, Гюго{20} и Стендаля, за Золя и Коро, за Пастера{21} и Делакруа{22}, за всех великих французов, которых никто из нас не отделял от русских. Они казались нам такими же родными, как Пушкин, Толстой, Чехов. Они были жестоко унижены политическими маклаками Франции и их представителем – надутым, как петух, генералом д’Ансельмом. Я представлял себе, с каким холодным презрением Стендаль или Гюго приказали бы расстрелять этого генерала за его трусливую подлость.
«День мирного восстания»
Электричество в Одессе давно не горело. О нем забыли. Лампочки обросли пыльной корой. Выключатели, если их случайно поворачивали, взвизгивали от ржавчины.
Единственным человеком из нас, который радовался этому, был Володя Головчинер.
– У каждого времени, – говорил он с апломбом, как будто открывал необыкновенную истину, – есть свой стиль. Стиль нашего времени – приближение к патриархальной жизни. Посудите сами, электричество ушло в невозвратное прошлое. Трамвайные рельсы зарастают крапивой. На площадях городов цветет картошка. Из воздуха исчезли последние молекулы копоти. Вместо обуви мы носим греческие котурны, а вместо водки пьем чистую воду. По-моему, это прекрасно. Начинается золотой век.
Однажды мне нездоровилось. Я не пошел в Опродкомгуб и до вечера пролежал у себя в дворницкой. Стояла поздняя весна. Цвели каштаны, и над морем взошел затуманенный месяц.
Я мирно читал при коптилке десятый том энциклопедии Брокгауза и Ефрона, как вдруг произошло нечто непонятное и тревожное – тонкий волосок в электрической лампочке под потолком начал желтеть и, далеко не дойдя до полного накала, остановился и замер. Он залил все вокруг таким тусклым и неприятным светом, как будто комната превратилась в морг.
Я оцепенело смотрел на лампочку, соображая, почему она горит так тускло. Очевидно, немощный ток с натугой протискивался по ржавым проводам, едва пробивался через пыльные соединения, обмотанные высохшей изоляционной лентой, и застревал в затянутых паутиной механизмах электрических счетчиков.
«В конце концов он разгорится», – уверял я себя, но свет не усиливался, а, наоборот, убывал. Но его все-таки было вполне достаточно, чтобы осветить ряды хмурых профессорских книг в дубовых шкафах.
Я подумал, что неожиданный свет загорелся, конечно, неспроста. Он был загадочным предостережением. Подумал так, конечно, не я один. В Одессе началась скрытая паника. Одесситы поняли, что появление света предшествует неприятностям. Но каким?
На это намекнул мне Торелли. Он постучался и вошел в дворницкую желтый, с побелевшими глазами. Через руку у него было перекинуто новенькое женское пальто с обезьяньим воротником.
– Я вас попрошу, – сказал Торелли торопливо, – повесить это пальто у себя на вешалке. На несколько дней. Это пальто моей сестры.
Я был озадачен, но взял у Торелли пальто и повесил в шкаф. Пальто было легкое и пахло духами. Очевидно, после болезни сестра Торелли Рахиль – еще молодая и миловидная женщина, рыжая от веснушек, – не надевала это пальто ни разу.
– А в чем дело? – спросил я Торелли.
– Дело в логике. – Торелли неестественно хихикнул и потер руки. – Мы с вами прекрасно знаем, что в Одессе угольного штыба для электростанции хватит всего на три ночи. А между тем станцию пустили. Значит, за три ночи что-то произойдет. И это «что-то» обязательно требует электрического света.
– Что же может случиться? – растерянно спросил я.
– Я знаю?! – Торелли пожал плечами. – Варфоломеевская ночь!{23} Избиение младенцев!{24} Похищение сабинянок!{25} Последний день Помпеи!{26} Что вам больше понравится. Привет, до завтра!
И он исчез, оставив меня в полном недоумении.
В конце концов, ничего не придумав, я лег спать. Выключатель, когда я повернул его, заверещал, но лампочка не погасла. Я начал вертеть выключатель. Он пищал все пронзительнее и злее, но лампочка продолжала гореть. Она даже не мигала. Тогда я влез на стул, обернул лампочку газетой и попытался вывинтить ее. Но она прикипела к патрону и потому лопнула со звуком выстрела и погасла, теперь уже навсегда.
Я лег, не закрывая окон. Гул моря то сонно вкатывался ко мне в дворницкую, то отливал из нее так равномерно, что быстро усыпил меня.
Проснулся я на рассвете. Капли росы собирались на ветках туи за окном. В саду было тихо и пусто. Только в углу, около стены, где всегда стояла старая бочка с известью, чернело нечто большое и бесформенное.
Я долго всматривался в эту черную кучу, похожую на копну сена. В куче было что-то пугающее, но я пересилил страх, вылез в сад через окно и подошел к ней.
Куча состояла из нескольких старых, но дорогих шуб. Была шуба на хорьковом меху, с бобровым воротником, было два старомодных демисезонных драповых пальто, были каракулевая женская шуба и меховой жакет из кенгуру.
Под слоем шуб я нашел низенькую, обитую штофом табуретку на вычурных золоченых ножках. Такую табуретку я видел как-то в театре на «Пиковой даме» под ногами у старой графини.
Я хотел вытащить табуретку, чтобы рассмотреть ее, но не рассчитал своих сил – поднял ее и тут же уронил. Мне показалось, что табуретка налита свинцом.
Я ударил по ней ногой и услышал, как внутри нее, под нарядным штофом эпохи Людовика XIV, звякнуло нечто металлическое. Тайна сгущалась. Но прежде чем заняться ее разгадкой, я побежал за хлебом в ближайшую лавку. Она была открыта только два часа в день. Я боялся опоздать и остаться без хлеба.
Когда я вернулся, то куча шуб оказалась уже прикрытой соломой и старыми листьями так тщательно, что никто бы и не подумал, что здесь что-то спрятано.
История эта, как все непонятное, начала меня раздражать. Я знал, что ключ от единственной калитки со двора в сад был у Просвирняка, и пошел к нему за объяснениями.
Поведение Просвирняка всегда было для нас своего рода барометром. Если при встрече с Яшей или со мной он отводил глаза, делал вид, что плохо нас слышит, и, разговаривая, перебивал нас и кричал на кухню работнице, бывшей монахине: «Неонила, не лейте так много постного масла!» – или еще что-нибудь в таком же роде, то это означало, что положение Советской власти в Одессе в какой-то, даже в самой маленькой степени пошатнулось.
Если же Просвирняк был настороженно-любезен и хохотал неестественным басом, подбирая снизу обеими руками свою черную бороду, то это свидетельствовало о крепости Советской власти.
На этот раз Просвирняк был сдержанно-любезен, но глаза у него побелели от злобы. Выслушав мой рассказ о залежах шуб и табуретке, он смиренно, но подчеркнуто ответил:
– Вам, глубокоуважаемый Константин Георгиевич, как советскому служащему хотя и с ограниченной, но все же с некоторой ответственностью за деяния ваших хозяев, надлежало бы знать, что с сегодняшнего числа в Одессе объявлен «День мирного восстания». Продлится этот день, по разъяснению властей, четыре дня.
– Я не был еще в городе, – ответил я. – Что это за «День мирного восстания»?
– Так вот, попрошу ознакомиться! – Просвирняк положил на стол передо мной серый листок бумаги. Руки его тряслись. – Собственноручно отклеил от стены своего дома вчера в одиннадцать часов вечера.
Я прочел приказ Одесского губисполкома о том, что в целях экспроприации у имущих классов богатств, являющихся отныне народным достоянием, в Одессе объявляется «День мирного восстания».
В этот день у всех без исключения граждан будут отобраны излишки вещей и продовольствия, кроме самых необходимых, указанных в списке.
Я просмотрел этот список. Там было напечатано: «Оставить в пользовании каждого гражданина комплект верхней носильной одежды, комплект белья, пару ботинок (кроме сапог), головной убор» и так далее, вплоть до «одной ложки столовой и одной чайной, ножа, вилки, кружки, самой необходимой посуды для варки пищи и ста граммов сахара».
«В случае нахождения золота и драгоценных вещей, иностранной валюты, а также предметов роскоши и спекуляции скрывающие их лица будут преданы суду, как за измену родине и контрреволюцию».
– Хана! – неожиданно сказал Просвирняк, и я даже вздрогнул. Впервые я услышал из его медоточивых уст крепкое слово.
– Так вот, Даниил Семенович, – сказал я, – будьте добры забрать из-под моих окон все ваши вещи и спрятать их, где вам будет угодно. Я, можете себе представить, не хочу быть расстрелянным из-за ваших шуб, траченных молью, и табуреток, набитых золотом.
– Вы глубоко ошибаетесь, Константин Георгиевич, – ответил расстрига нежным голосом и прижал руки к груди. – Напрасно гневаетесь. Две шубы, правда, мои, а табуретку принесла свояченица генерала Ренненкампфа. По сердолюбию своему не мог отказать, поскольку сам прятал при ней собственный скарб. Войдите в мое положение. Как стемнеет, я все унесу.
– Хорошо, – согласился я. – До вечера так до вечера.
Просвирняк, забыв, должно быть, что он расстрига, воздел руки к небу и сказал вдохновенным и лживым голосом, как с амвона (при этом глаза его на мгновение сверкнули бешеным огнем):
– Братоубийственные времена! Поистине нет предела человеческой скверне и проискам антихриста!
Он опустил руки и продолжал уже обыкновенным голосом:
– Вас я уважаю, но жилец из третьей квартиры, монтер товарищ Гаварсаки, повергает меня в смятение. Он скупает взрывчатые вещества. Когда-нибудь всех нас заберут вместе с ним и поставят к стенке. Ручаюсь головой! Опасайтесь его! Посматривайте, чтобы он не закопал в саду свою дьявольскую пиротехнику. А шубы – это пустое дело. Ну, в крайнем случае «товарищи» отберут. Я готов ко всему.
Я ушел, нисколько не сомневаясь, что Просвирняк не уберет из сада свои вещи. И я оказался прав. Когда я вернулся к вечеру вместе с Яшей, то куча вещей уже протянулась вдоль ограды целым валом. Вещи так же тщательно были укрыты соломой, как и первая куча, теперь уже казавшаяся мне ничтожной.
Около вала из вещей сидел на венском стуле и дремал почтенный старец с вылинявшими баками. Он выглядел настолько старомодно, что можно было подумать, будто в саду идет съемка фильма из времен Гончарова или Островского.
– Вещи вы, конечно, не убрали, – сказал я Просвирняку. – Ну, да бог вам судья. Но что за персонаж сидит в саду на стуле?
– Страж, – таинственно ответил Просвирняк. – Между нами говоря, вещей понатаскали со всей Черноморской: уж очень место укромное. Но людей, естественно, пробирает двойной страх. С одной стороны, все могут отобрать власти, а с другой, не ровен час, наскочат одесские налетчики. Вот и решили караулить по очереди. До минования опасности. Товарищ Гаварсаки тоже совался в сад со своей пиротехникой. Но я его не пустил.
– С какой пиротехникой?
– Сулеи хотел спрятать. Двухведерные бутыли с неизвестной жидкостью. Убогий умом человек этот Гаварсаки.
– Нда-а-а! – сказал Яша, ознакомившись с общим положением в саду и в доме. – Я могу предсказать, что дело у вас окончится хорошенькой катастрофой.
В городе в тот день меня прежде всего поразило невиданное уличное оживление. Особенно бросалось в глаза большое количество детских колясок всех сортов и вообще обилие всяких приспособлений для перевозки мелких вещей, вплоть до навьюченных, как мулы, велосипедов и маленьких деревянных платформ на низеньких колесиках. Среди детских колясок большинство представляло совершеннейшие развалины, связанные рваными веревками.
Весь этот поток детских колясок катился в сторону Греческого базара. Туда же, грохоча, резво бежали подталкиваемые сзади деревянные платформы. Туда же торопились запыхавшиеся люди с узлами и чемоданами. Туда же тащили настольные лампы и швейные машины, грудастые портновские манекены и зубоврачебные кресла.
Могучее это движение происходило в тишине. Особенно удивительно было полное молчание детей в колясках. Все дети, очевидно, спали богатырским сном. Никто из них ни разу не заплакал, не вскрикнул. Кроме того, все эти наглухо закрытые и закутанные в колясках дети были, очевидно, будущими исполинами: коляски прогибались под их неимоверной тяжестью. Колеса скребли по ободранным кузовам.
Стихийное движение колясок длилось весь день. Служащие Опродкомгуба наблюдали за ним из окон. Малейшая остановка или замедление вызывали у зрителей беспокойство. Люди, высунувшись из окон, тревожно окликали людей, толкавших коляски:
– Что там? Не пропускают? Тогда заворачивайте на Пересыпь. Туда придут в последнюю очередь.
– Да нет, пропускают, – неохотно отвечали с улицы. – Тут только одна коляска развалилась и всех задерживает.
– А что в ней? – с живым интересом спрашивали из окон.
– Да банки с халвой, – отвечали с улицы. – Там ее пудов пять, этой халвы. Целое депо!
Как только я пришел в Опродкомгуб, Торелли объяснил мне смысл происходящего в городе передвижения людей и колясок из одного квартала в другой.
Этой ночью изъятие излишков было произведено в районе Греческого базара. Поэтому жители других районов, скажем, Вокзального, где изъятия еще не было, свозят к Греческому базару, как в безопасное убежище, свои ценные вещи. А завтра, если очистится Вокзальный район, весь этот поток колясок и людей хлынет обратно, чтобы освободить место для вещей с Французского бульвара.
– Это как на войне, – сказал Торелли. – Вы же знаете, что снаряд редко попадает два раза в одно и то же место. Поэтому, чтобы спастись, лучше всего прятаться в свеженькую воронку. Так вот, наш Греческий базар и оказался такой воронкой.
Всю ночь мы с Яшей не могли уснуть. За окнами шмыгали, как летучие мыши, владельцы вещей, сваленных в саду. При малейшем шуме они будто проваливались сквозь землю.
Не могли мы уснуть еще и потому, что каждую минуту ждали появления отряда, производящего обыски. Никто из нас не знал, когда дойдет наконец очередь до нашей Черноморской улицы.
Поэтому мы с Яшей лежали, прислушиваясь к необъяснимым шумам, долетавшим с улицы и из сада, и развлекались тем, что старались найти причину каждого звука.
Из главного дома слышался тихий гул. То был слитный встревоженный шепот жильцов всех четырех квартир. Но в этом гуле все же выделялись нудные жалобы товарища Гаварсаки. Ему все не удавалось сбыть с рук свои сулеи с неизвестной взрывчатой жидкостью.
– Не к добру мы развеселились, – говорил Яша Лифшиц. – Я на вашем месте вытащил бы из вещей в саду эту табуретку с золочеными ножками и выкинул ее к чертям. Забросил бы в соседний двор, что ли? Вы понимаете, что из-за нее вы рискуете головой? Как вы докажете, что она не ваша?
– Так встаньте и выкиньте сами, – спокойно ответил я. – Будете иметь дело со всей оравой владельцев. А мне теперь все равно.
Яша промолчал, но по его сопению я понял, что он начинает злиться.
– Эй вы, представители имущих классов! – вдруг, вспылив, прокричал он в окно, за которым испуганно метнулась чья-то грузная тень. – Губернаторы и статс-дамы! Перестанете вы мельтешить у нас под окнами или нет? Спать не даете с вашим кодлом!
У Яши от гнева поднялся, как всегда, хохолок темных волос на затылке. В саду и в доме после Яшиного крика «воцарилась», как говорится, испуганная тишина. Я начал хохотать, уткнувшись лицом в подушку.
– Вы чего? – накинулся на меня Яша.
– Во-первых, – ответил я, – вы не знаете значения слова «кодло», а во-вторых…
Но я не успел досказать. В комнату без стука вошел со двора товарищ Гаварсаки. Он молча, но с укоризненным видом остановился в дверях. Он даже скрестил на груди руки.
– Вам что угодно, молодой человек? – спросил его Яша. – «Спокойной ночи!», как говорят в таких случаях хамам.
Но Гаварсаки даже не посмотрел на Яшу. Надо кстати сказать, что Гаварсаки обладал наружностью, которая могла смутить самого невзыскательного человека. Его длинное землистое лицо с вытянутым и несколько отогнутым в сторону черным носом, его маслянистые глаза, обведенные желтыми скорбными кругами, его заплетающиеся ноги и бубнящий голос выдавали неудачника, привыкшего безропотно сносить удары судьбы. Соображал Гаварсаки очень туго, и никогда нельзя было поручиться, что он понял все, что ему говорят.
Гаварсаки продолжал молчать и долго и внимательно, приоткрыв рот, осматривать дворницкую. Потом он наконец произнес:
– Можно бы поставить вот тут, за дверью… Так туда влезет только одна сулея. А их у меня три.
В глазах у Яши я увидел испуг.
– Что он говорит? – спросил Яша. – Чего он хочет?
– Или засунуть их в шкаф? – спокойно спросил самого себя Гаварсаки. – Вещи у меня аккуратные. Чистый эфир.
– Какой эфир? – с ужасом спросил Яша и сел у себя на койке.
– Я же вам говорю – чистый. «Этер сульфурикус». Вы что, шутите? За каждую сулею дают три пуда муки и бутылку лампадного масла. Это вам не жук начихал на скатерть. Если найдут, ну, тогда, конечно, вас под ноготь и к стенке! Но в дворницкую к вам они не зайдут. Клянусь жизнью. Это же нежилое помещение, подсобное. На что оно им сдалось! А у меня сулеи стоят прямо посередке комнаты, как на сцене. У меня от этого нервозность разыгрывается. Я, товарищи, теряюсь до головной боли.
Яша вскочил, вплотную подошел к Гаварсаки и сказал шипящим, неслыханно злым голосом:
– Вон отсюда, иначе я вышвырну вас за дверь, как щенка. Вон!
Гаварсаки с удивлением посмотрел на Яшу, поскреб в затылке и неохотно вышел из комнаты, осторожно прикрыв за собой дверь. Перед этим он спросил меня:
– Он что у вас? Сильно психический?
Яша запер дверь на ключ, задул коптилку, лег, долго ворочался в темноте и проклинал себя за то, что нелегкая принесла его на Черноморскую улицу.
Я начал засыпать. Странный, несколько резкий запах доходил до меня из глубокой дремоты. Я внезапно почувствовал, что теряю вес и у меня медленно, но верно останавливается сердце.
Оно ударило едва слышно в последний раз, потом затихло совсем без всякой боли и страха, и волна теплой, блаженной свежести окутала меня. Я даже засмеялся от наслаждения.
Тотчас я услышал, как будто из глубины вселенной раздался громоподобный рев Яши Лифшица:
– Вставайте! Скорее! Эфир!
Яша дернул меня за ногу. Я тяжело сел на койке и снова упал на нее. Яша схватил меня за плечи и, шатаясь, подтащил к низенькому оконцу дворницкой.
– Вылезайте в сад! – кричал он и толкал меня в спину. – О проклятый, сукин сын! Чертов пиндос Гаварсаки! Скорее! Мы пропадем! Скорее!
Я с трудом высунулся в окно. Оттуда кто-то подхватил меня и выволок в сад. Это был Торелли. За мной вылез в окно Яша. В дворницкой стоял сильный, неприятный запах.
– Заклинаю всех господом богом! – рыдающим голосом кричал Просвирняк, воздевая руки к небу. – Не курите здесь и не зажигайте огня! Покорнейше умоляю! Иначе дом взлетит на воздух. Не подходите к канализационным колодцам. Это смертельно!
Я пришел в себя. Чуть светало. Сад был полон испуганных жильцов. Все они жались к каменной ограде.
Под старой акацией лежала на подостланном одеяле сестра Торелли.
– В чем дело? – спросил я, озираясь. – Был обыск?
– Как бы не так! – ответил мне Торелли фальшивым бодрым голосом. – Бог вместо обыска предпочел сотворить чудо.
Тогда все жильцы вдруг начали, как по команде, смеяться. Женщины качались от смеха, прикрывая рты платками. Мужчины беззвучно тряслись. Торелли хихикал и взвизгивал, а Просвирняк похохатывал, приглаживая бороду. Даже Яша кашлял от смеха и отплевывался.
Мне стало страшно.
– Перестаньте! – крикнул я. – Что случилось?
Оказалось, что в два часа ночи отряд, производивший обыск, дошел до соседнего дома. Тогда обезумевший от страха Гаварсаки схватил свои сулеи с эфиром, вылил их в отлив в уборной и тотчас исчез в неизвестном направлении.
Тяжелые, ядовитые волны эфира хлынули в дом, ворвались по трубам в дворницкую, в соседний дом, начали сочиться сквозь фланцы и расползаться из канализационных колодцев по улице и дворам.
Все население нашего и соседнего дома успело бежать. Сестру Торелли едва вынесли на руках. Отряд отступил, обошел зараженные эфиром дома и, явно торопясь, чтобы не угореть, начал обыскивать дальние дома. К утру он ушел, грозя найти Гаварсаки хотя бы на дне морском и оторвать ему голову.
В тот же день вещи из сада рассосались по владельцам. Они исчезли удивительно быстро и незаметно. Расстрига подмел сад, потом прошел дождь, прибил пыль, смыл все следы ночного смятения, и снова синяя приморская тишина плотно окружила дворницкую и больше уже не исчезала.
Яша вернулся к себе в город. Вместо него ко мне на Черноморскую переехал Володя Головчинер.
Такова уж во все времена человеческая благодарность. Гаварсаки возвратился домой через неделю невредимый, но иссохшийся и очумелый. В квартирах еще попахивало эфиром.
И, несмотря на то что Гаварсаки спас жильцов дома от обыска, все они дружно обрушились на него. Почти не было дня, чтобы они не рассказывали о нем всяческих смехотворных и глупых историй.
Гаварсаки скреб затылок и безуспешно пытался найти у жильцов хоть каплю сочувствия. Но ее не было. Только Володя Головчинер терпеливо выслушивал его. Но когда Гаварсаки уходил, он тоже вздыхал и безнадежно качал головой:
– Нет, такой гражданин, конечно, керосина не выдумает!
Австрийский пляж
Карантинную гавань защищала от моря высокая стена из бетонных плит. Стена эта переходила в рейдовый мол.
Сильные зимние штормы пробили в этой стене широкую брешь и намыли под стеной со стороны моря небольшой песчаный пляж. Первыми начали пользоваться этим пляжем во время интервенции австрийские солдаты. Поэтому этот очень уютный, теплый и пустынный пляж и получил название «Австрийского».
До этого пляжа идти из города было дальше, чем до большого Ланжероновского. И на Австрийский пляж ходили только любители безлюдья. А может быть, и любители той морской старины, какая сохранилась главным образом на гравюрах в пожелтевших журналах. Потому что на Австрийский пляж надо было идти через порт, мимо вросших в землю, разряженных шарообразных мин и окрашенных в желтый и красный цвет буев, мимо каменных трапов к воде и сигнальных мачт, старых шаланд и бухт истлевшего каната, наконец, мимо загадочного маленького дома на молу с белой башенкой и проржавленным балконом. Первый этаж этого дома был глухой, без окон. Это придавало ему некоторое сходство с фортом или блокгаузом.
Дом покрывала марсельская черепица. Вокруг его флагштока часто пел ветер, а в окне второго этажа за плохо задернутой занавеской виднелись выцветшие карты на стене и сваленные на подоконнике книги. В этом морском доме никто не жил. Если бы мне разрешили поселиться в нем, то я, конечно, счел бы себя счастливейшим человеком на свете.
Я украсил бы этот дом не только новыми картами и книгами, но просквозил бы его морским воздухом, прогрел бы солнечным светом, казавшимся розовым среди сплошной синевы, залегшей вокруг.
Австрийский пляж был местом, как бы созданным для чтения тех книг, какие нужно читать медленно, часто откладывая их, чтобы порыться в песке и невзначай найти осколок горного хрусталя.
Он был прекрасным местом для дремоты. Ветер открытого моря щекотал глаза, и солоноватый кислород долго не уходил из легких, вызывая слабое опьянение.
На Австрийском пляже среди немногих его завсегдатаев я встречал Илью Ильфа (тогда у него еще не было псевдонима, и все звали его Илюша Файнзильберг). Мне нравилось его спокойное и грустное лицо. Всегда казалось, что какие-то полусны-полурассказы владеют им, и потому он часто засыпает на пляже и его приходится будить на закате.
Много лет спустя я прочел в «Записных книжках» Ильфа несколько записей. С тех пор я не могу избавиться от мысли, что все это пришло ему в голову именно тогда, в 1921 году, на Австрийском пляже. Приведу здесь одну такую запись.
«Раньше перед сном являлись успокоительные мысли. Например, выход английского флота, кончившийся Ютландским боем. Я долго рассматривал пустые гавани, и это меня усыпляло. Несколько десятков тысяч людей находилось в море. А в гаванях было тихо, пусто, тревожно».
«Я долго рассматривал пустые гавани». Тогда в Одессе не было, пожалуй, более привычного и грустного занятия, чем рассматривание пустых гаваней со множеством их подробностей. Они были особенно милы, эти подробности. Спокойный свет, жар полуденного солнца и близость тугой играющей волны придавали им живописность крайнего юга.
В жизни мне пришлось много действовать. Действие все время передвигало жизнь из одного положения в другое, вело ее по разным руслам и поворачивало под разными, подчас самыми причудливыми углами.
Но в этом не было ни суеты, ни лишних разговоров, ни беспорядочного общения с любыми людьми.
Наоборот, действие соединялось с жаждой наблюдений, разглядыванием жизни вблизи, как сквозь лупу, и стремлением придавать жизни (в своем воображении) гораздо больше поэтичности, чем это было на деле.
Я невольно подцвечивал и подсвечивал жизнь. Мне это нравилось. Она от этого наполнялась в моих глазах добавочной прелестью.
Даже если бы я очень захотел, то не мог бы уничтожить в себе это свойство, ставшее, как я понял потом, одной из основ писательской работы. Может быть, поэтому писательство сделалось для меня не только занятием, не только работой, а состоянием собственной жизни, внутренним моим состоянием. Я часто ловил себя на том, что живу как бы внутри романа или рассказа.
Вот это желание рассматривать жизнь сквозь увеличительное стекло сильно захватило меня в Одессе и было, безусловно, связано с шатанием по порту и с безмятежными часами, проведенными на Австрийском пляже.
Время сгладило острые, как зазубрины, горести и беды того времени. Память неохотно обращается к ним. Она предпочитает вспоминать прошлое в его светлом виде, сквозь тогдашние редкие радости. Они стали на протяжении дальнейших лет значительными и вескими. Нашу веру в счастливую долю своего народа не могли нарушить ни тиф, ни голод, ни обледенелая каморка, ни полная неуверенность в завтрашнем дне.
Молодость была непобедима. Она могла превратить Дантов ад в захватывающее зрелище. Опухая от голода, мы все же чувствовали слабый запах первого цветка за окном дворницкой и радовались этому.
Я воспринял и запомнил те грозные годы вместе со многими своими сверстниками как великую и неоспоримую надежду.
Эта надежда присутствовала всегда и во всем. Она проникала в сознание, как отблеск солнца сквозь тяжелые тучи зимнего одесского неба. И какой-нибудь замерзший, посыпанный солью мороза стебель лебеды во дворе вдруг освещался неизвестно откуда теплым светом, и в этом освещении уже чувствовалось сияющее приближение весны.
Однажды на Австрийском пляже ко мне и Володе Головчинеру подсел маленький картавый человек с томными глазами. В руке у него была выгоревшая морская фуражка, потерявшая всякую форму.
В фуражке этот человек носил целую груду абрикосов, которыми и стал нас угощать.
Когда мы сообща съели абрикосы, неизвестный человек назвал себя бывшим сотрудником газеты «Русское слово» Евгением Ивановым.
– Вы, наверное, уже слышали про меня, про Женьку Иванова? – спросил он, улыбаясь и показывая мелкие острые зубы. – Я заработал славу авантюриста. Но все это чистая одесская брехня! К вам у меня два предложения. И не с кондачка, а на полном серьезе.
Он лихо надел на затылок морскую фуражку и похлопал меня по плечу.
– Первое, – сказал он, – состоит в том, что через две недели в Одессе начнет выходить морская газета «Моряк». Вы видите перед собой технического редактора этой газеты. Идите работать ко мне. Я знаю вас понаслышке. Мы завинтим такую газету, что перед ней померкнут романы Дюма-отца и Буссенара. Мы будем печатать ее на специально заказанной бумаге из саргассовых водорослей{27}. Мы зажмем вот в эту жменю, – он сжал в кулак маленькие пальцы, – все моря земного шара и выдавим из них, как сок из ананаса, столько великолепного материала, что через пятьдесят лет за каждый номер «Моряка» коллекционеры будут платить по сто рублей золотом.
Это было, конечно, неслыханное вранье. Я смотрел на него. Он так увлекся, что в уголках его губ начала пузыриться, как у детей, слюна.
– Я не шучу, – сказал он, засмеявшись. – Хотите быть секретарем редакции? Согласны?
– Согласен, – ответил я, не задумываясь.
Но Володя Головчинер отказался работать в «Моряке», сославшись на то, что он не журналист и к тому же заведует отделом в Опродкомгубе.
– Ну и сидите в вашем Опродкомгубе, – пренебрежительно сказал Иванов. – Там вы не сможете достать даже бутылку патоки, чтобы устроить торжественный чай с кукурузными сухарями по случаю открытия редакции. Ведь не сможете! Ну, а второе предложение гораздо проще. Пока то да се, не раздеться ли нам с вами, не пойти ли вон на те скалы и не наколупать ли побольше мидий на ужин? Орудие производства у меня есть.
Он вытащил из-за пазухи зазубренный австрийский штык.
Володя не захотел лезть в воду. Он был великолепным пловцом, но на пляже его всегда разбирала лень.
Мы с Ивановым разделись и пошли к соседним скалам.
– Мидии, – сказал Иванов, – мы будем складывать в мою фуражку.
Ловля мидий свелась к тому, что я, раздирая себе в кровь руки, отковыривал мидий от скал тупым штыком, а Иванов складывал их в свою мокрую фуражку.
Но ловля длилась недолго. Довольно грубый женский голос закричал с пляжа:
– Женька! Куда полез? Выходи сейчас же!
– Маринушка, – закричал в ответ Иванов льстивым голосом, – да я же только…
– Долго я буду тебя ждать, босяк?! – снова закричала женщина, и я наконец увидел ее. – Вылазь, говорю! Хочешь схватить воспаление легких? Себя не жалеешь, так хоть бы о детях подумал.
– Моя жена, – сказал мне доверительно Иванов. – Марина. Приперлась-таки, стерва. Необыкновенная стерва! Но чудная женщина. Придется идти.
Марина оказалась волоокой и смуглой, как цыганка, огромной женщиной с черными усиками. Она потрясла руку мне и Володе и сказала:
– Приходите сегодня до нас вечером. Я достала шматок свинины. Зaжapим ее и слопаем с мамалыгой. А Женька у меня шкодливый, как кот. Его с глаз спускать нельзя. Даром что такой маленький и изящный, как балерина, а бабник первостатейный! Журналист он, правда, замечательный, у него к этому настоящий талант, но любит бросаться во всякие аферы и комбинации.
– Замолчи! – сказал Женька, прыгая на одной ноге и натягивая парусиновые штаны. – Лезешь не в свое дело, а хлястик на брюках оборван.
– Если он вас уже пригласил в «Моряк», – продолжала Марина, не обратив внимания на слова Женьки, – то вы вдвоем сделаете чудесную газету. Но только смотрите, чтобы он не зарапортовался. Характер у него кошмарный.
Так на Австрийском пляже я стал сотрудником газеты «Моряк» и до сих пор считаю, что мне повезло. Доказать это я смогу только дальнейшим рассказом.
Глицериновое мыло
За две недели, что остались до начала моей работы в «Моряке», случилось несколько событий. Самое печальное из них – смерть сестры Торелли.
Ее звали Рахилью. Она заболела новой в то время болезнью «испанкой». Это был жесточайший грипп с осложнениями.
Торелли перестал ходить в Опродкомгуб. Он сам ухаживал за сестрой, как санитар. Мы с Володей часто заходили проведать Рахиль, хотя Торелли каждый раз пугался и пытался выгнать нас, боясь, что мы заразимся.
Володя Головчинер достал где-то кусок старого глицеринового мыла и подарил его Рахили. Несмотря на жар и слабость, Рахиль всплеснула руками от радости и так покраснела, что веснушки на ее лице превратились в бледные пятнышки.
Не только Рахиль, но и мы рассматривали на просвет кусок этого чудесного мыла. Оно поблескивало золотистыми слоями и издавало тончайший, хотя и несколько усохший, запах.
Однажды Торелли надо было пойти в город, некого было оставить с Рахилью, и он попросил меня посидеть с ней, но только держаться подальше, у самой двери.
Я к тому времени уже ушел из Опродкомгуба и потому весь день был свободен.
Рахиль лежала с закрытыми глазами и улыбалась. Кусок глицеринового мыла она положила себе на грудь и сжимала его сильными пальцами скрипачки. Рахиль училась играть на скрипке у одесской музыкальной знаменитости – Наума Токаря.
«Знаменитость» прекрасно «ставила руку» своим ученикам и «делала им пальцы», но была человеком практическим и лишенным возвышенности.
«Как вы играете эту вещь! – кричал Токарь какому-нибудь ученику. – Где мягкость? Где файность? Где сладость? Представьте себе, что ваша мама Розалия Иосифовна сварила свое знаменитое варенье из черешен и вы ожидаете, что сейчас будете его кушать. У вас даже текут слюнки. Вот так надо играть эту вещь! Предвкушая! Предвкушая! Предвкушая! Предвкушая!»
При этом маэстро сердито отбивал такт ногой.
Рахиль редко упоминала о своей скрипичной игре. Сейчас она открыла воспаленные глаза и сказала мне:
– Не говорите ничего Абраму, но я знаю, что скоро умру. И он похоронит меня на еврейском кладбище, где лежат отец, мама и брат Аркаша. Оно очень скучное, это кладбище. Ради бога, не уверяйте меня, что я поправлюсь, что щеки у меня сделаются красными, как помидоры, и я еще, может быть, выйду замуж за кудрявого молодого человека в рубашке «апаш» и с серебряной цепкой от часов. Все это я уже сто раз слышала от Абрама. А вы лучше скажите мне, где остров Майорка.
– Зачем это вам?
– Нам читали лекцию про Шопена и сказали, что он там жил. Но потом я ни разу и не вспомнила про этот остров, а сегодня почему-то увидела его во сне. Там с холмов стекают мелкие-мелкие речки с очень чистой и теплой водой и такие широкие, как отсюда до Карантина. Они текут по зеленой траве, но над травой выше воды стоят всякие цветы и все время качаются от течения. Я шла через эти реки босиком, и мне было так приятно, что под ногами мягкая трава.
Рахиль открыла глаза, повернула голову и посмотрела за окно. Над акациями неслись по небу белые ядра маленьких облаков. Было похоже, что невидимые корабли выбрасывали их из старинных бронзовых пушек.
– Здесь, в Одессе, – сказал я Рахили, – живет сейчас поэт Георгий Шенгели. Еще во время войны я слышал в Москве, как он читал свои стихи на одном вечере. Я запомнил из них всего три строчки: «Есть острова, далекие, как сон, и нежные, как тихий голос альта, – Майорка, Минорка, Родос и Мальта…» Дальше я не помню. А Шопен действительно жил на Майорке с Жорж Санд. В заброшенном монастыре. Шопен тогда уже был смертельно болен, и потому его раздражало слишком яркое солнце этого испанского острова.
Я замолчал.
– А дальше? – спросила Рахиль и, не дожидаясь моего ответа, жалобно сказала: – Зачем я только родилась в этой семье, где рано или поздно у всех отнимаются ноги? Рыжая уродка! А разве такой я хотела быть? Мне бы качаться на палубе, чтобы ветер хватал меня за колени. Мне бы хохотать и петь. Вам не противно, что я так говорю? Я бы вам и сейчас спела, но грудь у меня стянута, как свивальником.
Она замолчала, перекатывая в руках кусок глицеринового мыла.
– Сделайте мне одолжение, – тихо попросила она, – пока нет Абрама. Налейте вон в то блюдечко воды, взмыльте ее этим мылом, а на комоде стоит сухой букет. Достаньте из него пустую соломинку и дайте все это мне.
Я сделал, как просила Рахиль. Она расщепила кончик соломинки, окунула соломинку в мыльную воду и медленно выдула большой мыльный пузырь.
Он оторвался от соломинки, чуть взлетел к потолку и остановился в воздухе, в немного пыльном солнечном луче, переливаясь бледным радужным блеском.
Рахиль прикрыла рот рукой, чтобы не потревожить своим дыханием легкий шар. Я тоже старался почти не дышать.
– Сейчас он золоченый, – сказала Рахиль. – А только что он был красный, как пожар.
Она осторожно пустила второй пузырь, третий, четвертый… Я тоже взял соломинку, начал выдувать пузыри, и вскоре вся комната замерцала от их мимолетных красок и блеска.
Часть пузырей опускалась на пол и лопалась, но большинство их играло с солнцем, летая по комнате и соединяясь иногда в разноцветные созвездия.
Внизу громыхнула на пружине парадная дверь. Дом слегка затрясся. Все пузыри сразу лопнули. На пол посыпалась мельчайшая водяная пыль.
– Спрячьте все! – быстро сказала Рахиль и закрыла глаза. – Я устала и хочу спать. Я ее никогда не увижу, никогда.
– Кого? – спросил я.
– Да эту Майорку. Идите. Спасибо вам. Мне что-то плохо.
В дверях я столкнулся с Торелли. Он узнал, что сестра засыпает, и на цыпочках вернулся в кухню, чтобы вскипятить воду.
А вечером он пришел к нам в дворницкую, сел на порог и неожиданно заплакал. И мы узнали, что Рахиль умерла внезапно, должно быть от разрыва сердца.
Торелли плакал, не вытирая слез, глядя на нас круглыми красными глазами, и сморкался в рваную наволочку.
Я нашел в книжном шкафу у Швиттау наполовину высохший пузырек с валерьянкой. Она почти не пахла. Я накапал ее в банку от консервов (она заменяла мне в то время стакан), сел на порог рядом с Торелли и дал ему выпить.
Он покорно выпил лекарство, потом упал головой на руки, и плечи его затряслись. Он со свистом втягивал воздух, прижимал к глазам наволочку и прерывающимся шепотом извинялся за беспокойство и за то, что закапал своими слезами мои пыльные рваные брюки из коричневого вельвета.
Врач, установивший смерть, сказал, что если бы не «испанка», то Рахиль могла бы выжить. Торелли рассказал, что она только сильно вскрикнула и сразу же перестала дышать.
Мы все: Яша, Володя Головчинер и я – пошли на похороны. В углу комнаты, где лежала Рахиль, стоял Гаварсаки и мял в руках замасленную кепку. Глаза его не выражали ничего, кроме горестной попытки понять, что происходит.
К выносу пришел Просвирняк. Он зло посмотрел на Рахиль, на ее стройные ноги в деревяшках и вполголоса сделал какое-то замечание синагогальному служке – распорядителю похорон. Служка подобострастно закивал в ответ и крикнул что-то нескольким безобразным старухам, шмыгавшим вокруг черного облезлого гроба. Очевидно, этот гроб, взятый «напрокат», уже сотни раз перевозил на расшатанных дрогах покойников из города на еврейское кладбище.
Старухи принесли откуда-то рваную коричневую шаль и завернули в нее ноги Рахили. Тогда расстрига с видом человека, исполнившего свой долг, торжественно вышел из комнаты.
– Наглец! – довольно явственно сказал ему вслед Яша. – Распоряжается, как у себя дома.
Но Просвирняк сделал вид, что не слышит Яшиных слов.
– Умоляю вас, – прошептал Торелли, – не трогайте его. Я опасаюсь скандалов.
Я впервые был на еврейских похоронах. Меня поразила их судорожная спешка. Приехали дроги, запряженные траурной пыльной клячей. Седой болтливый возница вошел в комнату, постучал кнутовищем по крышке гроба и сказал:
– А ну, герои, кто помоложе! Взяли! Подняли! Разом. Понесли! Осторожнее на поворотах. Того, кто строил эту лестницу, надо заколотить в гроб вместо этой девицы, чтобы ему икалось на том свете! Разве это лестница! Это головоломка, накажи меня Бог!
Потом мы долго шли по булыжным мостовым, и дроги перед нами подскакивали и неожиданно сильно дергались из стороны в сторону, будто хотели сбросить гроб на землю, как норовистая лошадь сбрасывает надоевшего седока.
Кладбище лежало в степи за городом. Степь уже выгорела, несмотря на раннее лето. Вдоль высокой кладбищенской ограды ветер нес теплую пыль.
Дроги зацепились колесом за ворота кладбища. Их надо было немного осадить, но кляча не хотела переступить назад, и возница начал бить ее по морде кнутовищем.
Торелли закричал на него. Возница сплюнул и сказал:
– Если вы такие нежные, так плакали бы лучше по сестре, чем по худой скотине.
Глаза у Торелли налились слезами. Он затопал узконосыми туфлями цвета апельсиновой корки и начал кричать на одной ноте пронзительным, доходившим до визга голосом:
– Мерзавец! Живодер! Молдаванский гицель!
Торелли был жалок в своем горе и гневе.
Возница только презрительно пожал плечами, поднял задок у дрог, освободил колесо, сел на козлы и поехал крупной рысью, нахлестывая лошадь и не оглядываясь, по длинной аллее кладбища к могиле. Вокруг не было ни одного дерева. Должно быть, их все порубили на дрова. Только одинаковые могильные памятники желтели по сторонам на грязной, неподметенной земле.
Могила была далеко. Мы бежали за дрогами вместе с толпой спотыкающихся кладбищенских нищих.
Гроб опустили в могилу. В ней валялось почему-то много битого стекла.
Торелли роздал нищим подаяние – по тысяче рублей каждому (в то время деньги уже поднялись в цене). Нищие брали деньги неохотно и не скрывали своего недовольства. Старуха с гноящимися глазами швырнула деньги на могилу Рахили и закричала:
– Что мне купить на ваши деньги? Дырку от бублика? Так покупайте ее сами, богачи!
Мы ушли подавленные. Торелли не мог успокоиться и всю дорогу до дома время от времени плакал. А синагогальный служка ковылял рядом и говорил:
– Я уже не узнаю людей, мосье Блюмкис. Чем так хоронить, так лучше самому лечь в могилу, клянусь матерью.
Несколько дней после похорон Рахили я никуда не выходил, только по утрам вылезал через окно в сад. Просвирняк держал сад на запоре, и потому там никогда никого не было. Изредка появлялся только сам Просвирняк, но, увидев меня, тотчас поворачивал и уходил, причем даже спина его выражала негодование.
После похорон Рахили мы с Володей Головчинером перестали считаться с Просвирняком. Да и никто с ним уже не считался, даже как с бывшим домовладельцем. Это для него казалось тягчайшим оскорблением. Примерно с тех пор он уже кипел жаждой мести, и его вначале скрытые мечты о перевороте и падении Советской власти приобрели характер мании, тяжелой душевной болезни. Чем меньше было надежд на перемену, тем расстрига все больше ссыхался, чернел, и в запавших его глазах появлялся диковатый блеск.
Встречаясь с нами, он не здоровался и что-то бормотал о «жидовствующих интеллигентах» и расплате за невинную кровь Христа.
Безумие его с каждым днем усиливалось. Даже его работница Неонила, безгласная женщина, боялась оставаться с ним одна в квартире и переселилась в маленький чулан при дворницкой. Каждый день она плакала и рассказывала нам, что Просвирняк грозится убить ее за то, что она «перекинулась к евреям и еретикам».
Она же рассказала нам, что вдовец Просвирняк расстригся после Февральской революции, чтобы второй раз жениться (это священникам было запрещено) на богатой греческой негоциантке. Но гречанка перед самой свадьбой испугалась расстриги, раздумала и уехала со своими капиталами в Грецию.
Однажды ночью я проснулся от звука, будто рядом со мной кто-то тихо скребет железом о железо. Звук шел из кухни. Дверь из чулана, где спала работница, выходила в кухню.
Я неслышно встал и подошел к стеклянной двери в кухню. В саду перед низким окном сидел на корточках Просвирняк и пытался открыть стамеской оконную задвижку.
Он был так поглощен этим занятием, что не заметил меня. Он хитро ухмылялся и что-то бормотал.
Мне стало страшно, и я неожиданно и громко вскрикнул. Просвирняк вскочил и, не оглядываясь, в несколько прыжков выскочил из сада во двор, а оттуда бросился в свою квартиру. Старый подрясник развевался за его спиной, как черные крылья.
Я разбудил Володю. Мы вышли в сад к окну, которое хотел открыть расстрига. На земле около окна лежала ржавая пятифунтовая гиря и немецкая бритва с костяной ручкой.
Володя пошел в милицию. Через два часа за Просвирняком приехала санитарная карета из психиатрической больницы. Два здоровых санитара связали Просвирняку руки и увезли его. Просвирняк только тихо стонал.
Испуганная работница уехала к родственникам в Тирасполь. Она боялась, что расстрига убежит из сумасшедшего дома и тогда непременно ее убьет.
Вскоре от нас съехал Торелли. Ему неприятно было оставаться в комнате, где умерла Рахиль. Потом по неизвестной причине, должно быть из-за истории с эфиром, арестовали Гаварсаки. А как-то ночью бежал из Одессы вместе со своей семьей некий профессор церковного права, приятель Просвирняка, занимавший две квартиры. К лету дом совсем опустел. В нем поселился сотрудник «Моряка» боцман Миронов, рыжий молчаливый человек родом из Херсона. Миронов ломал на пари одной рукой железные прутья из садовых решеток. Он завел в доме, во дворе и в саду корабельный порядок.
До начала работы в «Моряке» оставалось всего несколько дней. Я прожил их беззаботно.
Я прочел в энциклопедическом словаре все, что было там напечатано об острове Майорка, Шопене и Жорж Санд, попытался вспомнить все, что я читал об этом раньше, и решил, что если что-либо и украшает наше прошлое, то это отдаленность во времени.
Жизнь Шопена и Жорж Санд на Майорке была неустроенной, трудной, недоброй. Жорж Санд в то время уже теряла любовь к смертельно больному музыканту. Он был одинок. Его мучили ветреные ночи и дожди, боли в груди и кашель. Он понимал, что жизнь его сочтена по неделям и он уже не успеет написать ту поразительную музыку, какую он считал единственно достойной своего таланта.
Он думал, что жизнь его насильственно оборвана болезнью. Этого могло бы и не быть. Он тщательно искал в своем прошлом тот день, когда произошла роковая ошибка. О, если бы человеку дано было понимать эти ошибки не задним числом, когда ничто уже не поможет!
Но это не дано никому. Почти каждый уходит из жизни, не свершив и десятой доли того, что он мог бы свершить.
В позеленевших от сырости стенах старого монастыря, где в каждой комнате-келье висело чугунное распятие, Шопен роптал на Бога. Он боялся высказать свои мысли вслух, но его приводили в смятение рабьи человеческие молитвы, взывавшие к Богу о прощении грехов. Что значили эти ничтожные и жалкие человеческие грехи перед великим грехом кровопролития, обмана и ненависти, выпавшим на долю людей по милости Божьей!
И его, этого Бога, он воспевал в величественных звуках, в раскатах органа, в пряном дыхании роз, в нежных, как небесные струны, голосах причастниц.
Из монастырских коридоров тянуло плесенью, тленом. Черный лес шумел за решетчатыми окнами. И внезапно вся эта нарочно отысканная им и Жорж Санд романтика вдруг оборачивалась тоской по самой простой, даже бедной, но теплой – обязательно теплой – литовской комнате с невзрачным на вид роялем. Оборачивалась тоской по простой, деревянной, но удобной постели и жаждой покоя.
Он устал быть гением. Ему это было совсем ни к чему. Он носил это звание, или эту кличку, как обузу, приятную только для его близких и окружающих.
Но вот прошло какое-то время, и из его жизни с Жорж Санд на острове Майорка оно тщательно отобрало и выбросило все горькое и превратило эту жизнь в восхитительную поэму о самоотверженности любящих.
Поэма эта коснулась многих сердец, в том числе сердца рыжей еврейской девушки из Одессы, не видевшей в жизни ничего лучшего, чем воздушные пузыри из глицеринового мыла.
Я всюду возил с собой начатую еще в Таганроге повесть «Романтики». Писал я ее с большими перерывами и вообще считал чудом, что до сих пор не потерял рукопись.
Сейчас, в Одессе, я начал писать последнюю часть этой повести. Обычно, когда я втягивался в работу, я дичал: избегал людей, бродил сам по себе, вставал в два часа ночи и писал при коптилке, боясь, что Володя Головчинер проснется, и тогда мне не избежать ненужных расспросов.
И еще я заметил за собой одну странность, появившуюся во время работы: когда я писал о печальном, я искал горьких и резких впечатлений и таких же обстоятельств, как будто они могли помочь мне писать.
Поэтому однажды с раннего утра я ушел на еврейское кладбище, но вскоре сбежал оттуда, оглохнув от женских воплей, истерик и причитаний, испуганный видом желтых старушечьих пальцев, цеплявшихся за края гробов с такой силой, что их не могли оторвать даже несколько человек, потрясенный беззвучно кричащими и рвущими на себе волосы женами, пытавшимися броситься в открытые могилы мужей. Я вернулся в смятении от зрелища ничем не украшенного человеческого горя.
Я дописывал «Романтиков», когда однажды вечером ко мне вошел худой и несколько вертлявый юноша и назвался выпускающим будущей газеты «Моряк» Исааком Лившицем.
– Только не «ф», а «в», – сказал он. – Не Лифшиц, а Лившиц. Просят не смешивать с Яковом Лифшицем.
– Вы его не любите? – спросил я.
– Нет, почему же, – ответил Лившиц. (С первого же дня знакомства я начал звать его, как и все, Изей.) – Но он недолго проживет в наше время.
– Почему?
– В нем мало юмора.
Изя принес мне записку от Иванова с просьбой прийти завтра в редакцию «Моряка» – пора было готовиться к работе.
С Изей пришел высокий и неправдоподобно худой человек в обмотках, с профилем менестреля и прядью красивых каштановых волос, свисавшей на лоб. Он подал мне широкую дружелюбную руку и щелкнул по-военному каблуками. Потом он подошел к шкафу с профессорской энциклопедией, вынул первый том, перелистал его и выбрал все листки папиросной бумаги, которыми в книге были переложены цветные рисунки и карты.
– Эдя! – предостерегающе сказал Изя, но человек с профилем менестреля даже не взглянул на него. Он вынул второй том энциклопедии и тоже вытащил из него всю папиросную бумагу.
– Вот теперь покурим! – сказал он с удовольствием.
– Эдя, это некрасиво, – заметил Изя.
Высокий человек молча оторвал от папиросной бумаги короткую полоску, как-то особенно ловко зажал ее между пальцами, поднес ко рту, и вдруг в дворницкой раздалась тоненькая, как колокольчик, но вместе с тем громоносно-звонкая трель какой-то безусловно трогательной птахи.
– А это, по-вашему, красиво или некрасиво? – спросил высокий человек.
Это было необыкновенно. Я слышал, как в крошечном и горячем горле этой птахи пересыпался поющий бисер.
– Простите, – вдруг спохватился Изя, – я забыл познакомить вас. Это наш одесский поэт и птицелов Эдуард Багрицкий.
– Вы, как всегда, напутали, Изя, – сказал нарочито хриплым басом Багрицкий. – Следует произносить: «Багратион-Багрицкий, последний потомок княжеского кавказско-польского рода из иудейского колена Дзюба». Пошли купаться на Ланжерон!
Рубка мебели
В этой главе придется немного отступить от последовательного описания событий, чтобы дать некоторое представление об удивительном редакторе газеты «Моряк» Евгении Иванове и той обстановке, какая сложилась в редакции.
Должен оговориться, что Союз моряков назначил ответственным редактором газеты капитана дальнего плавания партийца Походкина. Иванов был только техническим редактором, но своим напором, изобретательностью и размахом он так сокрушительно действовал на уже одряхлевшего капитана, что тот почти отстранился от редактуры и предпочел сидеть у себя на даче в Аркадии.
У Иванова, ходившего, как я уже упоминал, в мятой морской фуражке, заштопанной кавалерийской шинели и в деревяшках на босу ногу, был вид прожженного портового жлоба. Но вместе с тем никто так не очаровывал людей, как этот картавый мальчик с невинными глазами. На вид Иванову было лет двадцать, тогда как на самом деле ему было уже под сорок.
Он был превосходным рассказчиком. Юмор не покидал его во всех, даже отчаянных, случаях жизни. Кроме того, Иванов был очень учтив.
Он не боялся в те годы целовать женщинам руку. Говорили, что однажды его чуть не расстреляли за это в городе Рыбнице на Днестре. Город этот славился красавицами молдаванками.
Иванов действительно работал репортером в «Русском слове» у Сытина. Бывший директор этой газеты Благов, богобоязненный и прижимистый старик, бежавший из Москвы в Одессу, подтверждал это обстоятельство из бурной жизни Иванова. При этом он добавлял, что Иванов обслуживал для «Русского слова» московские бега и крупно играл в тотализатор.
Иванов взял Благова к себе в «Моряк» старшим корректором. Благов оказался возмутительно придирчивым к орфографии. Достаточно было кому-нибудь из сотрудников сделать пустяковую ошибку, чтобы заслужить его вечное презрение. Его боялся сам Иванов, не говоря о наборщиках. Когда в типографию входил Благов, на них жалко было смотреть. Они теряли самообладание, как гимназисты на выпускном экзамене.
Иванов принадлежал к тому типу журналистов, которые разыщут интересный материал даже в сточной канаве или на заседании общества по страхованию мелкого рогатого скота.
Он не только умел найти и украсить материал (в то время «материалом» называли в газетах всякую интересную новость), но даже предвидел его. Он знал, где его искать, и часто догадывался по известным только ему приметам о том, что может вскоре произойти.
Точно так же он судил о возможных поступках людей по таким ничтожным признакам, что на них никто, кроме Иванова, не обращал внимания. Он знал, от каких мелочей зависят подчас людские побуждения и поступки. Он не боялся настойчиво рыться в этих мелочах, как в корзинке с мусором. И часто находил на дне этой корзины «алмаз или кинжал, заржавевший от крови», или, наконец, «бесстрашное человеческое сердце». Так любил выражаться наш метранпаж, старик Суходольский.
Экспансивный Суходольский кричал во весь голос Изе Лившицу и мне, секретарю редакции, верстая в типографии газету:
– Что могло бы получиться из нашего Женьки Иванова? Не знаете? Бальзак, чтоб вы так жили! Бальзак! Или Ломброзо!
Иванов подбирал для газеты сотрудников по своей системе. Их он оценивал по трем качествам. Прежде всего он брал молодых и при этом талантливых, потом опытных, так называемых «тертых», и, наконец, явных авантюристов и вралей.
Последняя категория людей привлекала Иванова, быть может, потому, что он сам являл хрестоматийный, но мирный тип прожектера, того самого, что хотел разбогатеть от одной курицы с яйцом.
Иванов всегда был в дыму проектов. Некоторые из них он осуществил у нас в «Моряке». Это сопровождалось то удачей, то более или менее крупным скандалом. Но большая часть проектов жила всегда несколько часов. Иванов с удивительной легкостью от них отрекался.
Первый осуществленный проект сгоряча показался нам интересным. Во всяком случае, он поражал новизной.
Иванов предложил перед заголовком, где у всех газет стояли слова: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», печатать другой лозунг, совершенно морской: «Пролетарии всех морей, соединяйтесь!»
На заголовке газеты был изображен Воронцовский маяк, бросавший четыре луча света. Слова о «пролетариях всех морей» были напечатаны на этих маячных лучах на четырех языках: английском, русском, французском и немецком.
Но этот номер «Моряка» с таким удивительным лозунгом был первым и последним. Иванова вызвали в губком. Он вернулся неестественно бледный и потому красивый и приказал, заикаясь, тотчас же разбить пышное клише с морским лозунгом и заказать новое, с тем же Воронцовским маяком, лучами света, но с правильным лозунгом.
Когда была снята блокада и в Одессу стали приходить иностранные пароходы, то на время их стоянки в порту «Моряк» печатал часть тиража для иностранных моряков на их родных языках.
Честь этого новшества, сделавшего «Моряка» популярным среди иностранных матросов, принадлежала Иванову.
После этого от переводчиков не было отбоя. Однажды в редакцию пришел даже переводчик с абиссинского языка – коричневый, приветливый и очень голодный человек. Но так как у Абиссинии не было своего флота и никак нельзя было ждать появления в Одесском порту пароходов под абиссинским флагом, то от услуг этого человека пришлось отказаться.
Абиссинец вышел из редакции со слезами на глазах. Но у Иванова было доброе и широкое сердце. Он вернул этого человека, расспросил его и узнал, что абиссинец – звали его Варфоломеем, – еще до революции присланный в Россию обучаться в Казанском университете, вынужден был потом работать парикмахером. Тогда Иванова осенила удачная мысль – назначить абиссинца штатным парикмахером при «Моряке», благо редакция буквально через неделю после выхода первого номера превратилась в шумный литературно-морской клуб. Через нее за день проходило множество народа, и потому у кроткого абиссинца быстро создалась обширная клиентура.
Старшиной всех переводчиков в «Моряке» был знаток английского языка, бывший фрахтовщик{28} и стивидор{29} Одесского порта, изысканно вежливый, сияющий от благодушия круглый человек по фамилии Мозер. То был великий знаток хитроумного фрахтового дела, всяческих крючковатых морских договоров и законов, знаток торговых флотов всего мира и морских традиций.
Он донашивал свои элегантные английские костюмы и среди нас, оборванных и отощавших, выглядел как настоящий лорд адмиралтейства.
Переводчицей на французский язык была жена Мозера – высокая и сухая, как англичанка, несколько чопорная и вполне светская дама, что в те годы производило на нас музейное впечатление.
Переводила она необыкновенно добросовестно. От каждой опечатки она заболевала, но тоже по всем правилам хорошего тона. Она лежала, стеная, весь день в своей комнате на старой софе, нюхала последние остатки выдохшейся ароматической соли и прижимала к виску кружевной платочек, смоченный под краном в коммунальной кухне. Там с утра до ночи властвовала некая тучная соседка «мадам» Зофер.
Эта почтенная матрона по нескольку часов подряд оглушительно развивала свои взгляды. Каждую фразу «мадам» Зофер начинала одними и теми же любимыми словами: «Во время оно…»
– Во время оно, – говорила она, – я в рот бы не взяла эту мамалыгу, когда я имела каждый день пшеничный арнаутский хлеб.
Через минуту ее голос гремел снова, но тема речи отличалась от только что высказанной сентенции на «сто восемьдесят градусов».
– Во время оно, – говорила она, – мы таки рожали нормальных детей, а вы, моя дорогая, рожаете бог знает кого – просто котят.
Мозер в первое время нашего знакомства стеснялась этих громовых и грубых речей «мадам» Зофер. Но освобождение от условностей происходит быстро, и вскоре Мозер совершенно спокойно говорила, нюхая соль:
– Опять она завела свою шарманку, эта хипесница!
А через месяц после работы в «Маяке» «мадам» Мозер уже свободно изъяснялась на одесско-морском жаргоне.
В «Моряке» мы печатали всё, что имело отношение к морю и морской профессии. Погоня за морским материалом всех времен и народов приобрела среди сотрудников характер бешеного соревнования.
Одно время чемпионкой оказалась Мозер. Она перевела прекрасные стихи полузабытого французского поэта-матроса Тристана Корбьера{30}. Мы напечатали их целым циклом, предварив статьей Жюля Лафарга{31} и биографической справкой. В ней было указано, что Тристан Корбьер с юных лет работал матросом, всегда ходил в клетчатом плаще и сабо, успел напечатать в 1873 году в Париже единственную книгу своих стихов и вскоре умер совсем молодым.
В своей статье Лафарг писал с французским изяществом, что стихи Корбьера «полны дерзости, сухой крепости, каламбуров, живости, нервной отрывистости слога и глубоко жалящей и иронической тоски».
Но вскоре боцман Миронов, наш сосед по Черноморской улице, вырвал пальму первенства из слабых рук Мозер. Он достал на старом грузовом английском пароходе, носившем необъяснимо нежное имя – «Сердце Елены» (пароход был обшарпанный, с пятнами сурика на бортах и с неистребимым запахом птичьего помета – гуано), рукописную книгу, которая называлась «Библия моряка».
Она была написана на австралийско-английском морском жаргоне и являлась, по нашему общему мнению, фольклором, не имеющим равного в мире.
В руки к Миронову попало несколько глав этой книги. Их надо было быстро переписать, так как пароход «Сердце Елены» через два дня уходил в Эдинбург. Это случилось, конечно, уже после снятия блокады. Перепиской книги под руководством супругов Мозер и Миронова занималась вся редакция.
Начиналась «Библия моряка» главой «Большая молитва». Так звали на парусных кораблях плиту песчаника, которой скоблили палубу. Кроме того, были еще камни поменьше. Они назывались по молитвам: «Патер ностер» («Отче наш»), «Аве Мария» («Здравствуй, Мария»), «Матер долороза» («Скорбящая Богоматерь») и «Мизерере» («Помилуй нас, Господи!»).
Чистить палубу «Большой молитвой» матросов заставляли в виде наказания.
В «Библии моряка» была изображена тяжелая доля матросов на старых парусных кораблях, плававших главным образом между портами Европы и Австралии вокруг мыса Горн.
Отдельные разделы были посвящены несвежей пище, «собачьим вахтам», болезням, гнилому воздуху трюмов и способам борьбы с этим бедствием в тропических водах.
Была глава «О хитростях океана» – обо всем неприятном, что могло ждать моряка в Атлантике и Тихом океане, главным образом в проклятых грохочущих сороковых широтах. То были не общие, расплывчатые описания, а рассказы об отдельных случаях, памятных для целых поколений моряков: об ураганах, смерчах, «цунами» – исполинских волнах во время подводных землетрясений, грозах, кораблекрушениях. И, конечно, о зловещих предвестниках опасности, в которых верили парусные (да и не одни парусные) моряки: огнях святого Эльма на верхушках мачт, кровавых радугах и «Летучем голландце». Говорили, что его снасти, несмотря на штормовые ветры, всегда были затянуты паутиной.
Рядом с этим были напечатаны «Предупреждения матросам» – имена капитанов, к которым нельзя было поступать на корабли из-за зверского их нрава (при этом точно перечислялись все преступления этих капитанов против матросов), списки «грязных собак», так называемых «шанхайеров» – вербовщиков (они работали главным образом в портах Латинской Америки и Китая). Они спаивали матросов и заставляли их в пьяном виде подписывать кабальные контракты с капитанами; список недобросовестных татуировщиков, адреса пивных в главных портах земного шара, где принимали в залог матросские вещи, адреса «бордингаузов» (дешевых гостиниц для моряков), где постояльцам не давали покоя «братья» и «сестры» из Армии спасения.
Знакомство с этой «Библией» несколько разрушало наивные и романтические представления о морском труде.
В самой жестокости этого материала чувствовался накопленный десятилетиями матросский гнев. «Библия моряка» принадлежала к так называемым взрывчатым книгам, хотя и не содержала в себе никаких лозунгов и призывов.
Боцман Миронов несколько затрудняет меня. Я хотел бы сейчас рассказать о нем – здесь это было бы кстати. Но, к сожалению, я уже напечатал рассказ об этом боцмане, а повторять себя по литературным законам нельзя.
Я попытаюсь написать о Миронове с такой же точностью, как и в рассказе, но несколько по-иному.
Самыми резкими отличительными чертами Миронова были глубокая молчаливость и дружелюбно-насмешливый взгляд. Взгляд этот он применял только к тем людям, кого считал «стоящими чудаками».
Миронов много плавал на Тихом океане. С биографией его вряд ли справился бы даже такой писатель, как Стивенсон. Да, пожалуй, никто даже из самых настойчивых писателей ее бы не осилил потому, что выпытать у Миронова что-либо о нем самом было невозможно.
Я все же выудил у Миронова некоторые черты его биографии. Она была революционной в самом ясном значении этого слова. Прежде всего, Миронов никогда не давал спуску собакам-капитанам и их прислужникам – боцманам. Он верил во всемогущее братство трудящихся и считал, что для революционной работы морская профессия самая подходящая.
– Возможности большие! – говорил он. – Как пароходный дым швыряет по ветру, так и мы разносим по всему миру слово «интернационал». Это понимать надо.
Потом я бился два месяца, пока установил, что, во-первых, Миронов видел первый пароход, сделанный из стекла, что, во-вторых, он два месяца просидел в тюрьме в Нью-Орлеане за то, что вступился за негров и устроил драку с полицией («Полисменов мы выворотили наизнанку», – скромно говорил он по поводу этой драки), и что, в-третьих, он был на архипелаге Кергуелен, носившем у моряков название «Островов Отчаяния».
Больше высосать из Миронова ничего не удалось. Я махнул на него рукой.
Его воспоминания, если можно так выразиться, носили преимущественно климатический характер.
– Вы были на Новой Гвинее? – спрашивал я Миронова.
– А как же! – меланхолически отвечал Миронов. – Конечно, был. Когда там плаваешь («там» – это значило в Меланезии), так эту Гвинею никак не обойдешь. Она всюду торчит поперек дороги.
– Ну и как?
– Что – как?
– Какие там места?
– Места вроде подходящие, – сообщал Миронов с некоторым сомнением. – Только там до того жарко – чистая парильня! Вам бы определенно не понравилось.
– А в республике Перу вы были? – спрашивал я его в другой раз.
– Бывал, понятно.
– Ну и как?
– Что – как?
– Какие там места?
– Гроб! – отвечал Миронов. – Солнце шпарит, как в топке. Дыхать абсолютно нечем. А вода в океане, между прочим, холоднющая, как лед. Хрен искупаешься!
Миронов долго ждал назначения на пароход и потому прижился в редакции «Моряка». Там он был своего рода справочным бюро по части знания множества пароходов и парусников.
В этом деле никто не мог соперничать с ним, даже сам Мозер. Поэтому Иванов взял Миронова в штатные сотрудники, но долго ломал голову над тем, как его наименовать, пока наконец Изя Лившиц не посоветовал наделить Миронова пышным званием «консультанта по мировому тоннажу».
По вечерам на Черноморской улице «консультант по мировому тоннажу» любил сидеть на скамейке во дворе, курить и, поглядывая на звезды, петь вполголоса совершенно сухопутную украинскую песню:
Он пел, покуривал, благодушествовал, ничего не подозревая и не догадываясь, что уже близок день его славы.
Редакция «Моряка» получила из Москвы, кажется от народного комиссара по иностранным делам, запрос по поводу уведенного белыми торгового флота. Списки уведенных судов составить было легко, но комиссариат просил сообщить ему все сведения о дальнейшей судьбе этих судов: где они сейчас и под каким флагом плавают.
Вызвали Мозера. Он развел руками. Кто мог знать, что сейчас происходит с этими пароходами? Пожалуй, из случайно попадавших в Одессу иностранных газет можно было выяснить судьбу двух-трех пароходов, не больше. Да и то вряд ли.
Мозер предложил созвать в редакции бывших пароходных агентов, капитанов и вообще многоопытных морских людей и выяснить, что удастся, путем перекрестных расспросов.
Так и сделали. Табачный дым из комнаты, где шло это «заседание», вытягивался через окно на бульвар, как из трубы парохода. Многоопытные морские люди сидели в расстегнутых кителях и мокрых тельняшках, вытирали пот, лысины их сверкали, как надраенная медь, голоса охрипли, но пока что была выяснена, и то лишь приблизительно, судьба только одного парохода.
В это время в редакции появился Миронов. Цепляясь за стулья и густо краснея, он подошел к Иванову и сказал ему таким шепотом, что было слышно в соседних комнатах:
– Вы это бросьте, Евгений Николаевич! Так у вас ни фига не получится. Пусть кто-нибудь записывает, а я буду рассказывать. При первой возможности можете проверить. Жизнью своей отвечу за каждую ошибку.
Морские люди переглянулись, усмехнулись и пододвинулись ближе к столу. Выжидательная тишина повисла в прокуренной комнате.
Миронов взял стул, сел немного поодаль от стола, крепко смял в кулаке свою потрепанную кепку и, глядя в угол комнаты, где дрожала на стене в свете заката нежная тень акации, сказал:
– Пишите! Пароход «Великий князь Алексей Николаевич». Принадлежал РОПИТу. Продан фирме «Мессажери Маритим» во Францию. Переименован в «Тулузу». Приписан к порту Марсель. Регулярно ходит под французским флагом из Марселя в Геную и на Корсику. Котлы почищены. Ремонт французы сделали, конечно, слабый. Команда французская, хлипкая, но старший помощник прежний, Григорий Павлович Мостовенко.
Среди морских людей возникло движение. Потом пронесся глубокий вздох.
– Пишите дальше, – невозмутимо сказал Миронов. – Пароход «Кострома». Океанский. Добровольного флота. Плавает под итальянским флагом из Бриндизи в Массову и Сомали с заходом до Александрии. Перекрашен в белый цвет и называется сейчас «Базиликата». Котлы никак не чищены. Поэтому полный тихоход. Держат его на несрочных рейсах, можно сказать, на задворках. Команда – все до одного негры.
Когда Миронов кончил перечисление пароходов, перламутровый рассвет уже просыпался над морем, осторожно запевали в платанах на бульваре птицы и сильно пахло из окна маттиолой.
Почти никто из морских людей не ушел. Все сидели бледные от усталости и рассвета. Он лился в окна холодноватой волной.
Это было поразительно и непонятно. Память у Миронова, очевидно, работала с феноменальной точностью.
Морские люди только качали головами, подходили к нему, крепко трясли ему руку и неохотно расходились по домам: хотелось еще поговорить «за родное море и за наши пароходы», знакомые до последней нагретой солнцем заклепки и царапины на дубовом планшире{32}.
Слух о Миронове прокатился по Черноморью. Возможно, что он дошел до Турции, а может быть, даже и до Греции. Есть у моряков своя загадочная и быстрая почта.
Комиссариат по иностранным делам прислал Миронову благодарность.
Смущенный своим триумфом, Миронов сбежал в родной Херсон, чтобы, как он выразился, прощаясь со мной и Володей Головчинером, «не дурить самому себе голову».
Чтобы закончить разговор об Иванове, необходимо было бы рассказать много всяких историй, связанных со строптивым нравом этого человека. Но пока я расскажу только одну такую историю.
Большая часть поступков Иванова, считавшихся дерзкими и своевольными, объяснялась его фанатической любовью к газете. Для него выше «Моряка» не было ничего на свете.
Он заразил этой любовью не только нас, сотрудников, но и свою жену Марину (она только по привычке сильно кричала и ругала мужа, но никто не обращал на это внимания) и двух своих девочек. Не было таких лишений, на какие он сам не пошел бы ради любимой газеты и какие не перенесла бы безропотно его семья.
Зима 1921 года выдалась в Одессе нордовая, штормовая. Холод ощущался тяжелее, чем, скажем, в Москве, потому что ноздреватый камень «дикарь», из которого был построен почти весь город, легко пропускал пронзительную сырость морской зимы. Дома и мостовые покрылись пленкой льда и блестели, как эмалированные. Ветер гудел в улицах, обращенных к северу, и нагонял тоску. Только в поперечных переулках он сбавлял свой напор, и там можно было еще отдышаться.
Снова у всех начали опухать и кровоточить суставы на пальцах. Море замерзло до Большефонтанского маяка. Льды затерли у входа в порт болгарский пароход «Варна».
Среди книг профессора Швиттау я нашел нетронутый отрывной календарь на 1916 год и повесил его на стенке: все-таки он давал представление о движении времени.
А движение это казалось все более медленным. Время как бы оцепенело от стужи. Между этой стужей и первыми теплыми днями лежал толстый слой пожелтевших и пыльных листков календаря.
В «Моряке» было холоднее, чем дома. Редакция помещалась в большом особняке рядом с Воронцовским дворцом. Стены особняка, расписанные бледными фресками, и разноцветные стекла в окнах, особенно синие, усиливали нашу морозную дрожь.
Все сбились в одну комнату, где стояла железная «буржуйка» с выведенной за окно закоптелой трубой. Из трубы изредка капал на головы и рукописи жидкий зловонный деготь.
Около «буржуйки» сидела неунывающая и шумная машинистка Люсьена Хинсон. О ней все говорили, что она «красивая, как итальянка», и все завидовали ей из-за лучшего места в комнате. Но вскоре и Люсьена тоже нахохлилась и скисла.
Заведующий хозяйством, крикливый румын Кынти, ходивший в толстой черной шинели, как в чугунной броне, не достал ни охапки дров. В свое оправдание он распахивал шинель, бил себя по карманам старого френча и кричал, что от Одессы до самой Винницы нет ни одного полена дров, – пусть его повесят рядом с памятником Дюку, если это не так.
– Перестаньте пылить своим френчем! – небрежно сказала ему Люсьена. – И вообще прекратите вашу шмекерию!
Никто из нас, даже сама Люсьена, не знал значения румынского слова «шмекерия». Кынти пришел от этого слова в исступление. Даже стоять около него представлялось опасным: он весь трещал, хрипел, вертелся, плевался, грозился и каждую минуту, казалось, мог взорваться с оглушительным громом и свистом.
Только через несколько дней мы узнали значение слова «шмекерия». Оно было совершенно невинным. В переводе на русский язык оно означало «жульничество».
Наконец пришел день, когда жизнь редакции вот-вот должна была оборваться и умереть: нельзя уже было держать в пальцах ручку.
Тогда Иванов приказал притащить из подвала особняка огромный, как готический собор, буфет из черного дуба и разрубить его на дрова.
Когда я вошел в редакцию, то услышал еще из обледенелого вестибюля веселый стук топоров, треск дерева, крики, смех и гудение огня в раскаленной «буржуйке».
Вдохновенный, бледный от гнева, Иванов командовал стремительной рубкой мебели. Он был разъярен тем, что непосредственный хозяин газеты – Одесский районный комитет водников – не позаботился о топливе для редакции. Иванов шел напропалую и играл ва-банк.
В самый разгар рубки в редакцию вбежал взъерошенный Кынти, воздел руки к небу и закричал, что сейчас созвано внеочередное, чрезвычайное, экстренное, срочное и пленарное заседание райкомвода, которое обсуждает вопрос о рубке мебели на топливо в редакции «Моряка».
Рубка пошла быстрее. Заседание продолжалось два часа и окончилось, когда весь буфет и вдобавок рассохшийся посудный шкаф были порублены на мелкие дрова. Они лежали у стены в кабинете редактора, а «буржуйка» исступленно гудела, как эскадрилья самолетов.
Райкомвод вынес Иванову строгий выговор с требованием, чтобы этот выговор был обязательно опубликован в очередном номере «Моряка».
У нас в «Моряке» работал под псевдонимом «Боцман Яков» одесский сатирический поэт-фельетонист Ядов.
Иванов заказал Ядову фельетон о рубке мебели, поместил его в очередном номере, а постановление райкомвода напечатал петитом в виде эпиграфа к этому фельетону.
Я запомнил только один куплет из этого фельетона:
После рубки мебели, или, как говорили по Одессе, «лихой рубки лозы в редакции „Моряка“, одесские морские власти начали относиться к Иванову с опаской и почти не вмешивались в дела газеты.
Полотняные удостоверения
До революции «Моряк» был маленькой нелегальной газетой. Печаталась она в Александрии, в Египте. Оттуда ее рассылали с верными людьми, главным образом с пароходными кочегарами, по разным русским портам.
Выходил «Моряк» редко и больше напоминал листовку, чем газету. Один из работников «Моряка» еще старого, александрийского периода, седоусый старец, слегка повредившийся на конспирации, уговорил Иванова выдать постоянным сотрудникам «Моряка» удостоверения, напечатанные на тонком полотне. Их можно было в случае надобности зашить под подкладку пиджака или пальто.
Мы, сотрудники «Моряка», не видели в этом смысла. Мы знали, что никто из нас не будет послан за границу ни с какими заданиями. Кроме того, мы не допускали мысли, что нам когда-нибудь придется уходить с этими полотняными удостоверениями в подполье.
Посмеиваясь, мы получили эти необыкновенные удостоверения, длинные, как детская игрушка «тещин язык», с печатью. На ней перекрещивались большие адмиралтейские якоря.
Пользоваться этими удостоверениями в обычных условиях было нельзя. Во-первых, нелегко было развернуть и прочесть мягкие тряпочки, а во-вторых, они вызывали полное недоверие у всех, кому бы мы их ни показывали.
В конце концов мы спрятали их на память, а для работы нам выдали обыкновенные удостоверения, отстуканные на машинке Люсьеной.
Вообще, с «Моряком» были связаны и некоторые другие странности. Начать хотя бы с того, что газета печаталась не на обыкновенной бумаге, а на обороте разноцветных чайных бандеролей. Бумаги в Одессе не было. Во всяком случае, скудных ее запасов хватало только на главную газету – «Одесские известия». Выход «Моряка» был разрешен, но печатать газету оказалось не на чем. К счастью, Иванов узнал, что на одесской таможне лежат большие запасы никому сейчас не нужных чайных бандеролей.
Эти бандероли были отпечатаны на листах тонкой, просвечивающей бумаги размером в развернутую газету.
Одна сторона этих глянцевитых листов была совершенно чистая. От краски бандерольная бумага не промокала.
Бандероли были разных цветов, в зависимости от сорта чая. Цвета почему-то выбирались бледные: сиреневые, желтоватые, серые и розовые.
В дореволюционное время бандерольные листы разрезались на узкие полоски. Их и наклеивали на пачки с чаем. На каждой такой полоске был обозначен сорт чая, его вес и отпечатан русский государственный герб – маленький двуглавый орел.
Вот из-за этих-то орлов нам долго не соглашались выдать бандероли. Иванов терял голос, доказывая, что печатание газеты на бандеролях ни в какой мере не является монархической пропагандой.
Мы старались выпускать газету разного цвета, в соответствии с разными днями недели. Например, по вторникам всегда сиреневую, а по средам – всегда розовую и так далее. Это довольно хорошо нам удавалось.
В исключительных случаях, для так называемых праздничных номеров, нам выдавали белую бумагу. Белой ее можно было назвать только в полном мраке. То была серая, рыхлая, очень толстая бумага, похожая на оберточную, прослоенная широкими и тонкими древесными стружками (даже со следами годичных слоев).
Краска на такую стружку почти не ложилась, и потому праздничные номера выглядели рябыми. Буквы на этой бумаге не отпечатывались, а выдавливались, как в книгах для слепых.
Но нас не пугала ни серая бумага, ни плохая краска. Из-за этого мы любили свою газету больше, чем если бы она была прилизанной и нарядной.
Мы вкладывали в работу много пыла, труда и выдумки. Поэтому лучшим вознаграждением для нас, сотрудников «Моряка», была его популярность. Газета расходилась мгновенно. Номера «Моряка» буквально рвали из рук.
Кроме полотняных удостоверений и бандерольной бумаги, у «Моряка» была еще третья особенность – множество преданных газете сотрудников, не получавших ни копейки гонорара. Они охотно довольствовались ничтожными выдачами натурой.
Выдавали все, что мог достать Кынти: твердую, как булыжник, синьку, кривые перламутровые пуговицы, заплесневелый кубанский табак, ржавую каменную соль (она тут же, в редакции, таяла, выпуская красный едкий тузлук) и обмотки из вельвета.
Эти блага распределяла между нами бурная Люсьена. В ответ на жалобы она только насмешливо пела, подражая каскадной певице и отбивая лихой такт деревяшками:
Все, конечно, терпели и не роптали, даже на вельветовые обмотки.
Иванов выдал шестьдесят полотняных удостоверений постоянным сотрудникам газеты.
Кроме постоянных сотрудников, у «Моряка» было множество рабочих корреспондентов и друзей газеты – тех людей, что в наше время зовутся «болельщиками».
Рабочих корреспондентов сначала было больше всего в Одессе и в ближайших портах – Очакове, Николаеве, Херсоне, Овидиополе, Збурьевке и Станиславе. Но по мере освобождения от белых Черноморского побережья число рабочих корреспондентов росло. Вскоре они появились в Ростове-на-Дону, Таганроге, Мариуполе, Бердянске, потом в Новороссийске и по Кавказскому побережью, наконец, в Крыму.
Одесские рабочие корреспонденты – от капитанов дальнего плавания до кочегаров и гальюнщиков – собирались в редакции, как в своем клубе. Весь день бурлил кипятильник, весь день Люсьена заваривала морковный чай, и гул голосов, густой кашель курильщиков и зычный смех раскачивали волнами дымно-табачный воздух.
Что касается постоянных сотрудников, то они представляли шумное, пестрое, насмешливое и живописное общество.
Иногда в этот редакционный «клуб» заходили старики (так мы называли всех, кому было больше сорока лет). Заходил знаменитый подпольщик во времена французской оккупации Одессы, старый большевик Ачканов, друг «Моряка» и его придирчивый покровитель; заходил седой и утомительно вежливый писатель Семен Юшкевич{33}; но главным образом в «клубе» собирались моряки и журналисты – народ нетерпеливый и горячий.
«Научитесь работать и ждать, – говорил нам изредка Ачканов, прислушиваясь к нашим разговорам. – Социализм не упадет вам прямо в карман, как финик с пальмы».
Мы прекрасно понимали, что для революционных преобразований нужно время, но все равно нам хотелось, пропуская трудные и напряженные годы, говорить о конечном результате революции, о победе и счастье.
Иногда мы засиживались в «клубе» до утра, и золотое свечение неба на востоке невольно казалось нам, поэтически настроенным юношам, отблеском приближающихся прекрасных времен, как бы отблеском недалекого золотого века.
Золотое свечение неба сливалось с золотым блеском утреннего моря. Даже степи по ту сторону Одесского залива, за Дофиновкой, светились от солнца и, казалось, готовились к празднику.
О чем только не говорили в «клубе»! О восстании «Потемкина» на Тендре, о расстреле революционного крейсера «Очаков» в Севастополе, об «Острове казненных» – Березани, о свойствах херсонских шхун – «дубков», о знаменитых бахчах за Санжейкой, о лучшем способе протирания маячных стекол, о ходе кефали, о греко-турецкой войне{34}, о дошедшей до Одессы книге Барбюса{35} «Огонь», о ремонте плавучего дока, о том, как делать брынзу и как стрелять из трофейных австрийских винтовок системы Манлихера.
Эти разговоры за морковным чаем были своего рода революционной, литературной, морской и бытовой энциклопедией. Но она была богаче любого, самого лучшего энциклопедического словаря, потому что мы слышали живой, образный, просмоленный и точный язык со множеством его великолепных интонаций.
То были россыпи языка, и потому, очевидно, молодые одесские писатели, ставшие со временем знаменитыми, почти все время проводили в этом революционном «клубе». Особенно часто там бывал Эдуард Багрицкий.
Невозможно рассказать здесь обо всех сотрудниках, хотя они этого и заслуживают. Придется остановиться только на некоторых, почти наугад, без выбора.
В «Моряке» было два фельетониста: бойкий одесский поэт Ядов («Боцман Яков») и прозаик Василий Регинин. Ядов, присев на самый кончик стула в редакции, торопливо и без помарок писал свои смешные песенки. На следующий день эти песенки уже знала вся Одесса, а через месяц-два они иной раз доходили даже и до Москвы.
Ядов был по натуре человеком уступчивым и уязвимым. Жить ему было бы трудно, если бы не любовь к нему из-за его песенок всей портовой и окраинной Одессы. За эту популярность Ядова ценили редакторы газет, директора разных кабаре и эстрадные певцы. Ядов охотно писал для них песенки буквально за гроши.
Внешне он тоже почти не отличался от портовых людей. Он всегда носил линялую синюю робу, ходил без кепки, с махоркой, насыпанной прямо в карманы широченных брюк. Только очень подвижным и грустно-веселым лицом он напоминал пожилого комического актера.
Ядов в Одессе был не один.
Жил в Одессе еще талантливый поэт, знаток местного фольклора Мирон Ямпольский.
Самой известной песенкой Ямпольского была, конечно, «Свадьба Шнеерсона»:
Она обошла весь юг. В ней было много выразительных мест, вроде неожиданного прихода на свадьбу Шнеерсона (под гром чванливого марша) всех домовых властей:
Песенку о свадьбе Шнеерсона, равно как и продолжение ее – «Недолго длилось счастье Шнеерсона», – мог написать только природный одессит и знаток окраинного фольклора.
Почти все местные песенки были написаны безвестными одесситами. Даже всеведущие жители города не могли припомнить, к примеру, кто написал песенку «Здравствуй, моя Любка, здравствуй, дорогая!» – Жора со Степовой улицы или Абраша Кныш? «Что? Вы его не знаете? Так это тот самый шкет, которого поранили во время налета на почтовое отделение в Тирасполе».
Мода на песенки в Одессе менялась часто. Не только в каждом году, но иной раз и в каждом месяце были свои любимые песенки. Их пел весь город.
Если знать все эти песенки, то можно довольно точно восстановить хронологию одесских событий.
Так, например, песенку «Ростислав» и «Алмаз» за республику, наш девиз боевой – резать публику!» пели в 1918 году, а песенку «Выйду ль я на улицу, красный флаг я выкину, ах, Буденному везет больше, чем Деникину!» пели в 1920 году, когда дело Деникина было проиграно.
Я помню, как вся Одесса пела «Мичмана Джонса», потом «Эх, хмурые будни, осенние будни», «Цыпленка», «С одесского кичмана бежали два уркана», «Дочечку Броню», «Вот Маня входит в залу».
После этого пошли уже более поздние песни, вроде знаменитой бандитской:
Эту песенку можно было петь без конца, потому что имена городов менялись в ней по желанию исполнителей – Харьков, Киев, Ялта, Голта, Сочи и почему-то вдруг далекая Вятка.
Поток одесских песенок не прекращался до сороковых годов. Но он заметно иссякал, а перед войной, в 1941 году, совсем высох.
Во время Отечественной войны шумные и легкомысленные одесситы, любители этих песенок, те, кого еще недавно называли «жлобами», спокойно и сурово, но с неизменными одесскими шуточками дрались за свой город с такой отвагой и самоотверженностью, что это поразило даже врагов.
Сражались и старые рыбаки, и морские люди, которым не хватало места на кораблях. Сражались отчаянно потому, что за их спиной была Одесса, город, где труд никогда не чурался веселья, город неугомонный, как шумный раскат черноморской широкой волны.
И естественно, что после войны родились новые песни о героизме одесских людей и их неизменной любви к своему городу.
Весной 1922 года я уехал из Одессы на Кавказ и несколько месяцев прожил в Батуме.
Однажды я неожиданно встретил на батумском приморском бульваре Ядова. Он сидел один, сгорбившись, надвинув на глаза старую соломенную шляпу, и что-то чертил тростью на песке.
Я подошел к нему. Мы обрадовались друг другу и вместе пошли пообедать в ресторан «Мирамаре».
Там было много народу, пахло шашлыками и лиловым вином «Изабелла». На эстраде оркестр (тогда еще не существовало джазов и мало кто слышал даже про саксофон) играл попурри из разных опереток, потом заиграл знаменитую песенку Ядова:
Ядов усмехнулся, разглядывая скатерть, залитую вином. Я подошел к оркестру и сказал дирижеру, что в зале сидит автор этой песенки – одесский поэт Ядов.
Оркестранты встали, подошли к нашему столику. Дирижер взмахнул рукой, и развязный мотив песенки загремел под дымными сводами ресторана.
Ядов поднялся. Посетители ресторана тоже встали и начали аплодировать ему. Ядов угостил оркестрантов вином. Они пили за его здоровье и произносили замысловатые тосты.
Ядов был растроган, благодарил всех, но шепнул мне, что хочет поскорее уйти из ресторана.
Мы вышли. Он взял меня под руку, и мы пошли к морю. Шел он тяжело, прихрамывая. Приближались сумерки. Опускалось солнце. Вдали, над Анатолийским берегом, лежал фиолетовый дым, а над ним огнистой полосой горели облака. Улицы нарядно пахли мимозой.
Ядов показал мне тростью на гряду облаков и неожиданно сказал:
Я посмотрел на него с изумлением. Он это заметил и усмехнулся.
– Это Фет, – сказал он. – Поэт, похожий на раввина из синагоги Бродского. Если говорить всерьез, так я посетил сей мир совсем не для того, чтобы зубоскалить, особенно в стихах. По своему складу я лирик. Да вот не вышло. Вышел хохмач. Никто меня не учил, что во всех случаях надо бешено сопротивляться жизни. Наоборот, мне внушали с самого детства, что следует гнуть перед ней спину. А теперь поздно. Теперь лирика течет мимо меня, как река в половодье, и я могу только любить ее и завистливо любоваться ею издали. Но написать по-настоящему не могу ничего. Легкие мотивчики играют в голове на ксилофоне.
– Но для себя, – сказал я, – вы же пишете лирические стихи?
– Что за вопрос! Конечно, нет. У меня, слава богу, еще хватает ума и вкуса, чтобы понять, что в этом отношении я конченый человек. Вот, говорят, люди сознают свою талантливость и гениальность. А я сознаю беспомощность. Это, пожалуй, тяжелее. Вы не помните, кто из замечательных немецких поэтов в одно прекрасное утро сел к столу и вдруг написал паршивенькие стихи? Мозг иссяк. Оказывается, этот поэт небрежно и просто преступно обращался со своим мозгом. После этого страшного утра он уже не написал ничего годного, даже для бульварной печати. Он переменил профессию и начал варить ядовитую жидкость от клопов. Хоть маленькая польза. Для человечества.
– Грех вам так говорить, Яков Семенович, – сказал я.
Я был искренне огорчен его словами.
– Милый мой, это все давно уже обдумано и передумано. Я не отчаиваюсь. Я раздарил свой талант жадным и нахальным торгашам-антрепренерам и издателям газет. Мне бы дожить без потерь до сегодняшнего дня – я, может быть, написал бы вторую «Марсельезу». А вам спасибо хоть на добром слове.
Мы распрощались. Первые тяжелые капли начали падать из непроглядной темноты. Я быстро пошел к себе, прислушиваясь к ровному шуму подходившего с моря дождя.
Больше я не встречал Ядова, но запомнил его лицо печального клоуна с глубокими складками около губ и тоскливыми глазами.
Василия Александровича Регинина{36} или, как его звали до старости, Васю Регинина, знала вся писательская и журналистская Россия.
Я увидел его впервые в Одессе, в редакции «Моряка». До этого я много слышал о нем от Яши Лифшица, Благова, Евгения Иванова и других старых журналистов.
Рассказы о Регинине казались неправдоподобными, похожими на анекдоты. Судя по этим рассказам, Регинин был журналистом той дерзкой хватки, какая редко встречалась в России. Таким журналистом был Стэнли, отыскавший в дебрях Африки Ливингстона из чисто спортивного интереса. Но в России почти не было журналистов такого темперамента, как Регинин. А между тем в повседневной жизни он был человеком благоразумным и даже осторожным.
До революции Регинин редактировал в Петербурге дешевые и бесшабашные «желтые» журналы вроде «Синего журнала» или такие журналы на всеобщую потребу, как «Аргус» или «Хочу все знать». Делал он эти журналы с изобретательностью и размахом. У этих журналов был свой круг читателей.
Серьезный, «вдумчивый» читатель привык к скучноватому, но строго «идейному» «Русскому богатству», к солидному «Вестнику Европы», к «Ниве» с ее прекрасными приложениями, к «Журналу для всех», наконец, к передовой «Летописи». Серьезного читателя раздражала всеядность хотя и хорошо иллюстрированных, но только занимательных регининских журналов.
Число «желтых» журналов росло. Естественно, между ними началась конкуренция и погоня за читателем. Для этого выдумывали разные приемы, более или менее низкопробные, как, например, знаменитый конкурс в «Синем журнале» на лучшую гримасу. Победитель на этом конкурсе должен был получить большую премию.
Желающих участвовать в конкурсе нашлось много. Фотографии гримас печатались в «Синем журнале» из номера в номер.
Тираж журнала сразу поднялся. Но конкурс не мог длиться долго. Пора было давать по нему первую премию и выдумывать какое-нибудь другое, столь же сногсшибательное рекламное занятие.
Тогда в петербургских газетах появилось объявление о том, что такого-то числа и месяца во время представления с дикими тиграми в цирке Чинезелли редактор «Синего журнала» Василий Александрович Регинин войдет совершенно один, без дрессировщика и без оружия, в клетку с тиграми, сядет за столик, где будет для него сервирован кофе, не спеша выпьет чашку кофе с пирожным и благополучно выйдет из клетки.
Подробнейший отчет об этом необыкновенном происшествии, в том числе и непосредственные впечатления самого Регинина, будет напечатан в «Синем журнале» в сопровождении большого количества фотографий. При этом исключительное право на печатание этих фотографий закреплено за «Синим журналом».
В день встречи Регинина с тиграми цирк Чинезелли был набит людьми до самого купола. Наряды конной полиции оцепили здание цирка на Фонтанке.
Регинин, густо напудренный, с хризантемой в петлице фрака, спокойно вошел в клетку с тиграми, сел к столику и выпил кофе.
Тигры растерялись от такого нахальства. Они сбились в углу клетки, со страхом смотрели на Регинина и тихо рычали.
Цирк не дышал. У решетки стояли наготове, с брандспойтами, бледные служители.
Регинин допил кофе и, не становясь к тиграм спиной, отступил к дверце и быстро вышел из клетки.
В то же мгновение тигры, сообразив, что они упустили добычу, со страшным ревом бросились за Регининым, вцепились в прутья клетки и начали их трясти и выламывать.
Вскрикивали, падая в обморок, женщины. Цирк вопил от восторга. Плакали дети. Служители пустили в тигров из брандспойтов холодную воду. Конная полиция отжимала от стен цирка бушующие толпы.
Регинин небрежно надел пальто с меховым воротником и, играя тростью, вышел из цирка с видом беспечного гуляки.
Я не очень верил этому рассказу о Регинине, пока он сам не показал мне фотографии – себя с тиграми. «Тогда, – сказал он, морщась, – я был мальчишка и фанфарон. Но мы вздули тираж „Синего журнала“ до гомерических размеров».
Я был знаком с Регининым в пожилом возрасте и в старости и заметил, что легкий налет буффонады сохранился у него до конца жизни. Он выражался в шутливости, в любви ко всему броскому, яркому, необыкновенному.
После Одессы Регинин переехал в Москву и редактировал там журнал «Тридцать дней», один из интереснейших журналов.
Весь свой опыт журналиста Регинин вложил в этот журнал. Он делал его блестяще.
В «Тридцати днях» он первый напечатал «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова, тогда как остальные журналы и издательства предпочли «воздержаться» от печатания этой удивительной, но пугающей повести.
В «Тридцати днях» Регинин собрал лучших писателей и поэтов и всю талантливую тогдашнюю литературную молодежь (сейчас это уже всё маститые писатели и даже «классики»).
С легкой гордостью Регинин говорил, что сотрудниками «Тридцати дней» были все без исключения писатели и поэты тридцатых годов. В этих словах не было преувеличения. Подобно тому как все дороги ведут в Рим, дороги всех писателей проходили через «Тридцать дней», особенно писателей молодых, начинающих. Недаром до сих пор писатели шутливо говорят:
Самая манера работы (или, как принято говорить, «стиль работы») Регинина отличалась живостью, быстротой и отсутствием каких бы то ни было стеснительных правил.
Регинин брал рукопись, быстро просматривал ее, говорил совершенно равнодушным и даже вялым голосом: «Ну что ж! Пишите расписку на триста рублей», – выдвигал ящик письменного стола и отсчитывал из него эти триста рублей. После этого он вздыхал, как будто окончил тяжелую работу, и начинался знаменитый регининский разговор: пересыпание новостей, воспоминаний, анекдотов, литературных сценок, шуток и эпиграмм.
Регинин прожил большую и разнообразную жизнь. Память у него была острейшая, рассказывал он неистощимо, но почти ничего не написал. Досадно, что он не оставил мемуаров. Это была бы одна из увлекательных книг о недавнем прошлом.
Несколько лет назад Регинин умер. Он умирал тяжело, но мужественно. В мужественности его последних дней на земле был итог его жизни, очень беспокойной, кипучей, отданной журналистике и искусству, жизни человека, который больше всего на свете любил сенсацию, литературу, театр, цирк и дружбу с талантливыми людьми.
Каким он был в Одессе, таким оставался и в Москве, через много лет после работы в «Моряке»: сухим, элегантным, очень быстрым в движениях, с лицом знаменитого французского киноактера Адольфа Менжу, со своей скороговоркой, шипящим смехом и зоркими и вместе с тем утомленными глазами.
Похищенная речь
В половине апреля, к вечеру, когда за окном редакции зеленел воздух и мерно мигал красным огнем Воронцовский маяк, ко мне в комнату осторожно вошел Изя Лившиц. Он тихо прикрыл за собой резную дверь (на ней были выточены из дерева тяжелые кисти винограда и гирлянды роз), на цыпочках подошел к столу и сделал классический жест, призывающий к молчанию, – прижал указательный палец к губам.
Изя тяжело дышал и был чрезвычайно взволнован.
В редакции уже никого не осталось, все разошлись, кроме абиссинца Варфоломея. Поэтому поведение Изи показалось мне неестественным.
– Ну, выкладывайте! – громко сказал я ему. – Что случилось?
Изя сделал страшные глаза, стиснул меня за плечо и едва слышно, одним только дыханием, прошептал:
– Молчите. И слушайте! – Он рассказал мне, изредка откидываясь и глядя на меня победоносно и испытующе, что только что заходил в типографию Одесского губкома и увидел там…
Изя задохся от волнения. Он замолчал, неловко скрутил папиросу, закурил, затянулся и только после этого рассказал о том, что он увидел в типографии губкома.
А увидел он набор недавно произнесенной Лениным в Москве речи о новой экономической политике{38}. Речь была набрана в виде брошюры, но еще не отпечатана. На первой странице перед текстом стояла надпись о том, что речь не подлежит оглашению и печатается на правах рукописи, то есть для небольшого числа посвященных.
Неясный слух об этой речи уже третий день бродил по Одессе. Но никто ничего толком не знал. Мы у себя в редакции знали только одно: что речь была произнесена и, конечно, напечатана во всех газетах Российской Федерации. Но в Одессе ее почему-то скрывали от населения.
Мы были уверены, что в этом виноваты работники Одесского губкома. Очевидно, они не были согласны с основными положениями ленинской речи. Впоследствии так оно и оказалось.
С другой стороны, нам, беспартийным, – Иванову, Изе и мне, – в те времена трудно было разобраться в этом. Мы ничего толком не знали. Мы были только глубоко возмущены тем, что от народа прячут ленинские слова. Это мы считали величайшим преступлением. Речь надо было достать и напечатать во что бы то ни стало.
Мы пытались добыть эту речь, но из этого ничего не вышло. В губкоме нам с усмешкой ответили, что мы напрасно интересуемся делами, которые нас не касаются.
И вот Изя Лившиц случайно увидел эту речь. Набор лежал в стеклянной кабине директора типографии. Директор куда-то на минуту отлучился. Прочесть речь Изя не смог: в типографии не было видно ни одного оттиска, да и задерживаться было нельзя. Изя забежал туда договориться с директором насчет клише для «Моряка». Он, конечно, не показал виду, что заметил набор ленинской речи, и тут же ушел.
– Мы должны или напечатать эту речь, – сказал Изя, – или признать себя последними трусами и слякотью. Ни трусом, ни слякотью я быть не хочу. И вы тоже. Поэтому слушайте: есть гениальный план! Наш метранпаж Суходольский три дня в неделю работает у нас, а остальные три дня – в типографии губкома. Там он свой человек. Надо его уломать, чтобы он ночью выдал нам готовый набор ленинской речи часа на два, на три. За это время мы успеем привезти набор в нашу типографию, отпечатать на вкладке к «Моряку», смыть краску и увезти обратно. Пошли к Иванову. Он один может уговорить Суходольского.
Мы тотчас пошли советоваться к Иванову. Он жил далеко, около Французского бульвара. Услышав о речи Ленина, Иванов побледнел и начал заикаться. Это было у него признаком страшного волнения.
С Ивановым мы пошли на квартиру к Суходольскому, в старый дом из выветренного песчаника. Мы с Изей ждали в подворотне. Мне казалось, что секундная стрелка на моих часах была намазана клеем. Она едва тащилась по циферблату, и каждая секунда давалась ей с величайшим трудом.
Время тянулось, и дело казалось проигранным. Разве такой ожиревший боров, как Суходольский, согласится на риск! Да никогда! Изя от досады несколько раз бил изо всей силы ногой по стене, стараясь сорвать на ней свое нетерпение.
Наконец Иванов вышел вместе с Суходольским. Глаза у Суходольского блестели, и он сказал нам таинственным шепотом: «Ай, босяки! Ай, умницы!» Такими словами Суходольский всегда выражал свое восхищение.
Оказалось, что сторожем при типографии губкома работает тесть Суходольского, «бриллиантовый старик».
Суходольский охотно взял на себя всю операцию похищения набора.
Все было сделано быстро и бесшумно. Мы вместе с Суходольским и сторожем незаметно вынесли тяжелый свинцовый набор речи, уложили на извозчика и поехали к нашей типографии. Там Иванов уже все подготовил: достал из склада бумагу и задержал на ночь надежных печатников. (Очередной номер «Моряка» уже допечатывался, и все наборщики давно разошлись.)
На общем совете мы решили напечатать речь отдельной вкладкой. Но брошюрный текст был шире нашего, газетного, и потому на вкладке помещалось не шесть колонок, как на странице «Моряка», а четыре, и сбоку еще оставалось большое пустое поле.
Но думать было некогда. Набор заложили в машину. Суходольский набрал заголовок. Машина тихо загремела и зашуршала листами бандеролей, печатая историческую речь.
Мы жадно читали ее при свете кухонной керосиновой лампочки, волнуясь и понимая, что история стоит рядом с нами в темной этой типографии и мы тоже в какой-то мере участвуем в ней.
Вкладку отпечатали, с набора тщательно смыли краску, отнесли набор на извозчика, и мы с Изей отвезли его обратно в типографию губкома и положили точно на то же самое место, где он лежал.
Никто нас не видел, кроме молчаливого сторожа. Мы не оставили никаких следов.
Домой идти не хотелось: через час должен был начаться рассвет. Мы были взволнованы и потому пошли в редакцию.
Варфоломей открыл нам дверь, обрадовался и поставил на печурку чайник.
Мы пили чай, сидя на кипах бандерольной бумаги. Богиня Аврора{39} едва проступала во тьме своим розовым пыльным хитоном.
Все мы были втайне горды тем, что завтра ленинская речь станет известна всей Одессе. Никто из нас не думал о последствиях дерзкого нашего поступка, хотя мы и понимали, что последствия могут быть для нас очень тяжелыми. Только метранпаж Суходольский качал головой и время от времени говорил, что на всякий случай хорошо бы незаметно смыться из Одессы.
А наутро 16 апреля 1921 года старые одесские продавцы газет – скептики, мизантропы и склеротики – пошли торопливо шаркать деревяшками по улицам и кричать хрипучими голосами:
– Газета «Морак»! Речь товарища Ленина! Читайте все! Только в «Мораке», больше нигде не прочтете! Газета «Морак»!
Как мы ни бились, но за все время существования «Моряка» не могли научить газетчиков кричать правильно. Они считали это требование нашим капризом, просто самодурством редактора и говорили: «Какая вам разница! Мы же продаем вашу газету, как никакую другую».
Номер «Моряка» с речью разошелся в несколько минут.
Одесса загудела, как потревоженное гнездо.
Мы ждали неприятностей и были готовы к ним. Но никаких осложнений не случилось, если не считать моей встречи на Греческой улице с секретарем губкома.
Красный от гнева, он мчался навстречу, потрясая номером «Моряка». Поравнявшись со мной, он остановился и крикнул:
– Украли! Наш набор! Бульварные штучки! Вы ответите! До чего вы дошли!
Я сделал невинное лицо. Ничего мы не крали. Это – поклеп! Где доказательства?
Секретарь задохся от возмущения.
– Вам нужны доказательства? – Он выхватил из номера «Моряка» вкладку с речью. – Вот! Все опечатки наши! И колонка брошюрная, широкая, – тоже наша! Вот вам доказательства!
Он судорожно засунул номер «Моряка» в рваный портфель и исчез среди отцветающих акаций.
Не знаю, время ли приучило нас ко всяким неожиданностям или наша молодость еще не перебродила и не выветрила из нас остатки мальчишества, – но мы были горды своим поступком.
Это ощущение подымало нас в собственных глазах, хотя мы и не говорили об этом.
Мы считали себя уже не простыми газетчиками. Чувство гражданственности, близости своей жизни к жизни страны наполняло нас молчаливой радостью.
Мнимая смерть художника Костанди
Чехов боялся одесских репортеров. Как известно, он неохотно делился своими литературными планами. Все разговоры об этом он заканчивал одной и той же просьбой:
– Только, ради бога, не говорите об этом одесским репортерам.
Я еще застал нескольких одесских репортеров из числа тех, что нагоняли страх на Чехова. Эти репортеры были, конечно, последними «королями сенсации». Их рассадником и надежным убежищем была одесская газета «Одесская почта», а вождем – издатель этой газеты, некий Финкель.
Главным содержанием этой газеты было подробнейшее описание всех пожаров, краж, убийств, мошенничеств и всех прочих уголовных происшествий.
Стиль статей в этой газете был феерический. Я помню, как по поводу какого-то пустякового постановления городской думы Финкель писал в передовой статье, что «следует выкрасить на радостях наше одесское небо в розовый цвет и аплодировать городской думе на крышах домов».
Старые репортеры рассказывали нам, молодежи, что если Финкель и был легендарен, то только своим гомерическим невежеством.
Из тех репортеров, которых боялся Чехов, у нас в «Моряке» застрял только один – Лева Крупник, человек с обманчивой внешностью. Сухонький и кроткий, этот старичок с вкрадчивым голосом ходил в заштопанном чесучовом пиджаке и в золотом пенсне и распространял старорежимный запах тройного одеколона.
Несмотря на эту идиллическую внешность, Лева был опасен, как ипритовая бомба. Иванов предупреждал меня об этом, но я не верил ему вплоть до одного чрезвычайного случая.
Летом я приходил в редакцию ранним утром. Я любил идти со своей Черноморской улицы до редакции медленно, выбирая, любой путь из четырех возможных. Все они одинаково приводили на бульвар, к Воронцовскому дворцу.
Там пышно пылала, зацепившись за старые колонны, настурция и всегда веял – именно веял, а не дул – портовый ветер, солоноватый и свежий. Он наполнял приморские улицы запахом только что вымытых палуб.
Я садился на парапет над обрывом к порту и некоторое время сидел, закрыв глаза. Так я лучше ощущал на лице дыхание этого ветра. Я различал в нем не только запах палуб, но и акаций, и высохших водорослей, и ромашки, что цвела в трещинах подпорных стен, и, наконец, дегтя и ржавчины. Но все эти запахи по временам смывал особенный послегрозовой запах, что налетал с открытого моря. Его ни с чем нельзя было сравнить и ни с чем спутать. Как будто холодноватое от купания матовое девичье плечо прикасалось к моим щекам.
Так я просиживал на парапете, теряя представление о времени, погружаясь внутренним взором в мерцающую даль Голконды{40}. Мне хотелось верить, и я в действительности верил, что эта цветущая страна существует на свете. Иногда мне казалось, что она приближается ко мне, наплывает, разгорается и гонит перед собой волны этого ветра, эти потоки легкого воздуха.
Подремав на парапете, я шел в редакцию. Дверь мне открывал абиссинец Варфоломей, наш редакционный парикмахер.
Он ночевал в некогда роскошной гостиной с облезлыми фресками на стенах. Они изображали богиню Аврору в розовом прозрачном хитоне. Она летела по небу среди бежевых облаков и сыпала из рога на землю алые цветы и акантовые листья.
Меня всегда умиляла наивность художника, написавшего позади Авроры в голубой морской дымке одесскую лестницу к морю и памятник Дюку – герцогу Ришелье.
В моей редакционной комнате стоял еще прохладный воздух ночи. Я садился к столу и до появления Люсьены (она всегда приходила вслед за мной) успевал кое-что написать «для себя». Я очень ценил эти два-три часа безлюдья в редакции.
Потом приходили сотрудники и заваливали мой стол исписанными узкими полосками бумаги. Я правил весь день статьи, телеграммы и заметки. Правил до изнеможения, до того, что у меня начинала тупо болеть рука. Примерно половину заметок приходилось мне самому переписывать наново, чтобы убрать из них неистребимый одесско-молдаванский стиль.
В конце концов я полюбил правку. Ее навыки очень помогли мне в работе над своими рукописями.
Я был секретарем редакции, иными словами, должен был делать все: от правки и раздачи заданий репортерам до приема авторов и прекращения молниеносных скандалов, возникавших между молодыми и старыми репортерами.
Кроме того, я почти каждый вечер верстал вместе с Изей Лившицем очередной номер газеты.
Однажды я пришел очень рано и застал в редакции Леву Крупника. Он сидел на подоконнике и плакал, прижимая к глазам клетчатый платок. Пенсне висело на черной тесемке на шее у Левы и качалось от его судорожного дыхания.
Я испугался и спросил, что случилось. Лева только отмахнулся от меня, подчеркивая этим жестом всю неуместность моего вопроса и мою неделикатность. Очевидно, горе его было так велико, что ему было не до расспросов.
Я налил в стакан воды и подал Леве. Он выпил ее вместе со своими слезами, снова махнул рукой и сказал:
– Лежит на столе… под простыней… Боже мой, боже мой!.. Вместе учились… восемь лет сидели на одной парте… вместе босяковали на Малой Арнаутской улице, и вот…
Он всхлипнул, высморкался и посмотрел на меня красными, припухшими глазками, ожидая сочувствия.
– Кто же умер? – несмело спросил я. – Кто-нибудь из ваших родных?
– Зачем? Слава богу, у меня нету родных.
– Так кто же?
– Художник Костанди{41}! – воскликнул Лева таким тоном, будто с моей стороны было просто глупо задавать такие вопросы. – Глава южнорусской школы художников, – добавил он уже более спокойно. – Мастер! Бриллиантовая рука! И золотое сердце. Добрее его не было человека на свете.
Лева был безутешен. Мне стало его искренне жаль. Я не знал, как успокоить его. Внезапно у меня блеснула счастливая мысль, и я сказал:
– Возьмите себя в руки, сядьте и напишите некролог о Костанди. Для завтрашнего номера.
Лева поймал качающееся пенсне, криво прицепил его к носу, слез с пыльного подоконника, отряхнул брюки и неожиданно сказал капризным голосом:
– Так дайте же мне, по крайней мере, бумаги. На чем я буду писать? У нас в редакции не допросишься четвертушки на раскурку.
Я дал ему чистые с одной стороны старые гранки, но он презрительно хмыкнул и сказал, что на обороте старых гранок можно марать все что угодно – хронику происшествий или халтурные фельетоны, – но писать об умершем большом художнике просто неприлично и неуважительно.
Он явно привередничал. Я приписал это, как он сам выразился, его «расстроенным чувствам». Я дал ему несколько листов хорошей бумаги, ценившейся в редакции на вес золота.
Он ушел в соседнюю комнату, долго сморкался там, вздыхал и царапал по бумаге пером.
Потом пришла Люсьена, ахнула, узнав, что умер Костанди, и сказала:
– Такой был чудный старик – и вдруг умер! А все эти бугаи, вроде Кынти, всякие жулики-рамолики живут и только морочат людям голову.
– Ах! – горестно воскликнул Лева. – Вы разрываете мое сердце, Люсьена Казимировна, своими грубыми выражениями!
– Подумаешь, какой сиреневый принц! – ответила Люсьена. – Нечего прикидываться безутешным, старик.
Потом Лева диктовал Люсьене некролог, и они ссорились из-за того, что старик требовал двух копий, а Люсьена божилась, что у нее осталась последняя копирка и с Левы хватит одной копии. Но все-таки Лева добился своего и ушел из редакции, захватив копию, очевидно на память.
Я прочел некролог, выправил его (в том месте, где Лева сравнивал кисть Костанди с божественной кистью Рафаэля) и послал в типографию.
Я вспомнил, как Лева тяжело вздыхал, уходя домой, и сказал Люсьене:
– Как вам не совестно преследовать этого несчастного, беззащитного старикана!
– Это кто несчастный? – спросила Люсьена. – Крупник? И это кто беззащитный, позвольте спросить? Тот же Крупник? Подождите, он еще подложит вам такую свинью, что вы проклянете день своего рождения. Вы все, московские, какие-то сентиментальные.
В это время пришел наш корректор Коля Гаджаев, юный студент Новороссийского университета, знаток левой живописи и поэзии.
Колины суждения отличались суровостью, краткостью и были бесспорны. Возражать ему никто не решался, так как ни у кого не хватало той эрудиции, какой обладал Коля.
Всех инакомыслящих Коля презирал и считал «мусорными людишками», – чем-то вроде тараканов. Говоря о своих идейных противниках, он морщился и, по всей видимости, испытывал физическую тошноту.
Из одесских поэтов он терпел только Эдуарда Багрицкого, снисходительно относился к Владимиру Нарбуту{42}, а Георгия Шенгели считал развинченным эстетом не только за стихи, но и за то, что Шенгели ходил по Одессе в пробковом тропическом шлеме.
– Коля! – крикнула ему Люсьена. – Вы слышали? Умер художник Костанди!
– Ваш Костанди не художник, а свиновод! – неожиданно закричал ей в ответ Коля и почернел от негодования. – Как можно так швыряться словом «художник»! Он всю жизнь держался за протертые штаны передвижников. Не говорите мне о нем!
Начали собираться сотрудники. Пришел репортер Аренберг, плотный человек со смеющимися глазами.
Он бурно радовался любой новости, будь то приход в порт норвежского парохода «Камилла Гильберт» или землетрясение в Аравии.
Его возбуждал самый ход жизни, все перипетии и подробности ее движения, все ее перемены, независимо от того, что это может принести с собой: беду или счастье. Это было для него вопросом тоже важным, но все же второстепенным.
По поводу смерти Костанди Аренберг высказался в том смысле, что Костанди – это, конечно, не Репин. Это вызвало новый взрыв негодования со стороны Коли Гаджаева, но теперь уже не против Костанди, а против Репина.
– Старый чудак, объевшийся сеном! – сказал Коля о Репине и ушел, даже не глядя по сторонам, очевидно от презрения ко всем нам.
У Репина были свои странности, и одна из них – вера в целебные свойства супа из свежего сена. Эта история с сеном особенно возмущала Колю.
Потом пришли Иванов и репортер Ловенгард, седой, высокий, с донкихотской бородкой и с палкой в руке, похожей на короткую пику. Всю жизнь Ловенгард обслуживал в газетах Одесский порт, знал его до последней причальной пушки и потому сказал, что о художнике Костанди он судить не может, так как никогда не слышал о его существовании, но вот капитан Костанди с парохода «Труженик моря» – тот был, конечно…
Но тут его перебили. Он сел в угол, положил руки на свою палку, закрыл глаза и так просидел довольно долго, о чем-то размышляя. Это была его обычная поза.
По вечерам я часто заходил в типографию проверить, как верстается очередной номер, поболтать с выпускающим Изей Лившицем и метранпажем Суходольским и вообще подышать воздухом типографии.
Со времени работы в «Моряке» я пристрастился к типографиям. Даже запах краски и свинца был для меня «сладок и приятен»{43}. Я полюбил наборщиков, их насмешливость, их обширные, хотя и случайные, познания, их безжалостные оценки и даже самую манеру набирать, покачиваясь около наборных касс, как качаются мусульмане, совершая намаз или читая Коран.
Темные, пыльные, низкие типографии, сырые оттиски, гул плоских печатных машин, пачки разноцветных бандеролей, рулоны бумаги, традиционные яростные схватки с корректорами, остывающий чай на подоконниках, вазон с геранью на окне, запах ее шершавых листьев – все это представлялось мне в несколько романтическом ореоле, очевидно, потому, что здесь рождались газеты и книги, географические карты и афиши, календари и расписания пароходных рейсов.
Кажется, я никогда не забуду черный и липкий от краски, грубый деревянный стол у открытого окна типографии. За окном, за железной ржавой решеткой, висели, чуть поникнув от зноя, листья каштанов. Не забуду лиловый блеск на асфальте во дворе и сырую гранку с оттиснутыми на ней строчками стихов неизвестного мне поэта:
На полях корректор написал жирным синим карандашом: «Не над горем, а над морем». Я прочел эту пометку корректора и подумал, что наборщик ошибся не так уж плохо. Почему не могут встать над человеческим горем облака, как образчик умиротворяющей красоты, как отвлечение, врачующее сердце?
Но в тот вечер, о каком идет речь, в типографии было шумно. Еще со двора я услышал негодующий голос Изи Лившица и хохот наборщиков.
Когда я вошел в типографию, Изя Лившиц бросился ко мне, размахивая сырой, только что оттиснутой гранкой с некрологом Костанди.
– Кто дал в газету эту гнусность? – закричал он с такой яростью, что у него побелели даже глаза. – Какой негодяй?!
– Крупник, – растерянно ответил я.
– Я так и знал. Подонок! Шантажист!
– А что случилось?
– Случилась чрезвычайно интересная вещь. – Изя зловеще усмехнулся. – Чрезвычайно интересная. Чтобы его стукнуло брашпилем{45} по башке, этого вашего «короля репортеров»! Случилось одно пустяковое обстоятельство. Я шел сейчас в типографию верстать газету и за два дома отсюда встретил воскресшего Костанди. И даже проводил его до Екатерининской улицы. И даже говорил с ним о будущей выставке его картин. И даже пожал его мужественную руку. И даже заметил пятно от синей масляной краски на его чесучовом пиджаке. И он нисколько не был похож на покойника, уверяю вас.
– Что это значит? – спросил я.
– Это значит, что Крупник гнусно наврал. Хотел заработать на мнимой сенсации лишних пять тысяч рублей. Вы скажете, что это бессмысленно, что за это его могут выгнать из «Моряка». Конечно, могут. Но Финкель за это не выгонял, и Крупник надеется, что и здесь все сойдет. Вранье – это его единственная верная черта. Он ей никогда и ни при каких обстоятельствах не изменяет. А изменяет он всем и всему.
– Давить надо таких, как этот Лева! – сказал метранпаж Суходольский. – Я его видеть не могу. У меня ноги трясутся, когда я его вижу. У меня к сердцу подпирает от его лживого голоса.
Мы с Изей вынули из номера некролог о Костанди. Наутро «Моряк» вышел без некролога, но тотчас же этот некролог был обнаружен нами в «Одесских известиях», тот же самый, до последней запятой, некролог, который мы только что выбросили из «Моряка».
Вскоре в редакцию примчался репортер Аренберг и, сияя от внутренней газетной сенсации, сообщил, что Крупник прямо из «Моряка» двинул в «Известия» и подсунул им некролог с теми же крокодиловыми слезами, какие он проливал у нас в редакции. Лева на всякий случай решил застраховаться.
«Известия» принесли Костанди свои глубочайшие извинения, а «Моряк» напечатал об этом случае стихотворный фельетон Ядова. Он кончался словами:
Крупник исчез. Взбешенный Женька Иванов потребовал, чтобы ему доставили Крупника на расправу, живого или мертвого. Но его нигде не могли найти. Дома он не ночевал.
Прошло недели две. Однажды я, как всегда, очень рано пришел в редакцию, вошел в свою комнату и отступил: на пыльном подоконнике опять сидел Лева Крупник и плакал. Пенсне висело на черной тесемке на шее у Левы и качалось от его судорожного дыхания.
– Извиняюсь, – сказал Лева прерывающимся голосом, – но вышла маленькая ошибка.
– Ошибка? – спросил я, чувствуя, как у меня холодеют руки.
– Да, – кротко согласился Лева. – Добросовестная ошибка. Оказывается, умер не художник Костанди, а чистильщик сапог Костанди. Однофамилец. Он жил в подвале того самого дома, где живет и художник. Легко, понимаете, спутать.
– Позвольте, – сказал я, приходя в себя, – вы же своими глазами видели его на столе, под простыней…
– В том-то и дело! – ответил, сморкаясь, Лева. – В подвале, понимаете, темно, а тут еще эта простыня… Кстати, я принес вам заметку о выставке Костанди. Она скоро откроется.
– Надо думать, – сказал я, – что это будет его посмертная выставка?
– Напрасно так шутите, – ответил с упреком Лева. – Это даже неприлично с вашей стороны!
– Знаете что! – сказал я. – Уходите! В «Моряке» вам больше нечего делать.
– Подумаешь! – воскликнул Лева сварливым голосом и встал. – Тоже мне газета! Паршивая свистулька! Я был одесским корреспондентом «Фигаро», а вы мне тычете в нос вашу селедочную листовку.
Я не успел ответить. Дверь распахнулась. На пороге стоял белый от гнева Иванов.
– Вон! – прокричал он ясным, металлическим голосом. – Вон немедленно!
Лева Крупник вскочил и засеменил к выходу, придерживая падающее пенсне.
Потом мы услышали, как он в сердцах плюнул на паркет в зале с богиней Авророй и застучал деревяшками по панели, навсегда удаляясь из «Моряка».
Так исчез из редакции последний из тех одесских репортеров, которых с полным основанием боялся Чехов.
«Что вы хотели, молодой человек?»
Патетический язык почти забыт. Современная жизнь требует простых выражений.
Но каким же языком описать то, по существу, неописуемое одесское торжище, которое в двадцатых годах нашего века носило название «Новый базар»?
Как изобразить этот базар нам, отвыкшим от приподнятых слов? Как рассказать о вчерашних сыпнотифозных, толпившихся около раскаленных сковородок, где скручивались, потрескивая и жарясь в собственном жиру, куски домашней украинской колбасы с чесноком – первого детища нэпа?
Как передать множество клятв, завываний, возгласов, жалоб, истерик, проклятий и ругани, смешанных в слитный гул, внезапно прерываемый пронзительным свистком милиционера? И как описать тяжеловесное бегство спекулянтов, обвешанных вещами, по потрясенной их топотом брусчатой мостовой? Как описать потерянные в этом бегстве пожелтевшие лифчики, бязевые солдатские кальсоны и пересохшие резиновые грелки цвета печени, покрытые шрамами трещин?
Поскольку патетический язык нам чужд, придется говорить об одесском базаре обыденными словами.
Прежде всего нужно упомянуть о нескольких правилах, без знания которых нечего было и соваться на Новый базар.
Первое правило состояло в том, чтобы, толкаясь по базару, обязательно сохранить на лице бесстрастное и даже скучное выражение и ни в коем случае не показывать вида, что вы хотите что-нибудь купить. Потому что в этом случае десятки людей начинали цепко хватать вас за рукава, или сильно дергать сзади за гимнастерку, или, наконец, тянуть за хлястик шинели и кричать почти трагически, с выражением отчаянной надежды:
– Что вы хотели купить, молодой человек?
Никто не спрашивал, что вы хотите продать. Спрашивать об этом было бессмысленно: все, что человек хотел продать, он таскал на руках или вешал себе на шею.
Если же человек ничего не нес с собою, но глаза его подозрительно бегали, ища покупателей, то базарные завсегдатаи тотчас догадывались, что он торгует фальшивыми драгоценностями, и насмешливо кричали ему в спину:
– Бриллиантовые розы из навоза! Кораллы из крахмала! Халцедоны из бердичевской короны!
Но все же бывали и исключения, когда нельзя было сразу догадаться, чем человек торгует. Так было, например, с одним довольно потрепанным французским матросом по прозвищу Лева.
Он отстал от военного корабля, застрял в Одессе и был совершенно уверен, что в те феерические времена гражданской войны и ниспровержения международного права никто его не выдаст как дезертира французскому правительству.
Низенький, всегда небритый и недовольный, с длинным черным носом и яростными, презрительными глазами, в синей грязной шинели, в берете, с алым помпоном, в рваном фиолетовом кашне, он молча бежал по Дерибасовской, энергично засунув руки в карманы шинели, и вдруг неожиданно, совершенно внезапно кричал, не останавливаясь, пронзительным фальцетом, слышным за несколько кварталов:
– Сами лучши! Сами крепки! Сами вечный!
Он никогда не называл свой товар. Его пробежка по Дерибасовской была похожа на смерч. Толпа завивалась вокруг него и потом шарахалась, прижимаясь к стенам. «Что он продает?» – растерянно спрашивали приезжие. Одесситы в ответ насмешливо пожимали плечами. Мальчишки восторженно свистели вслед матросу. С ближайшего поста навстречу матросу торопливо шел милиционер, держа в руке роговой черный свисток.
Увидев милиционера, матрос наконец выкрикивал свой товар:
– Сами лучши камешка! Для зажигалка! Сами длинный! Для зажигалка!
Под этот победный клич он исчезал в глубине Садовой улицы, где тлел в седом чаду постного масла Новый базар, прибежище мешочников, старых генеральш и карманных воров.
Он был очень скульптурной фигурой, этот матрос, весь как бы вылепленный из терракоты и подкрашенный яркими красками.
Второе базарное правило заключалось в том, чтобы соглашаться на первую же цену, какую вам давали за ваши вещи. Пренебрежение этим правилом могло окончиться катастрофой, как это и случилось со мной.
У Васи Регинина тяжело заболела жена, хрупкая и грациозная женщина, совершенно беспомощная во всяческих практических делах.
Кроме жены, у Регинина была еще маленькая дочь Кира, тихая девочка лет шести.
Регинин совершенно раскисал из-за частых болезней жены. Он растерянно носился по городу. Он глох от волнения, стараясь достать немного денег и какое-то фантастическое в то время лекарство (кажется, горчичник), а меня слезно упросил загнать на базаре его великолепный ватин.
То был добротный, легкий, как пух, ватин. По моим понятиям, он представлял огромную ценность.
Я не знал, почему Регинин попросил продать этот ватин именно меня. Насколько помню, он упоминал о моей находчивости и ссылался на собственную негодность для этого дела. Он льстил мне, и я поверил ему.
Я зашел к Регинину, взял ватин, свернул его рулоном и пошел на базар. Это было глупо с моей стороны, но тогда еще я не подозревал, куда иду. Я спокойно шел по Садовой улице, не зная, что это – прямая дорога в ад.
Сначала никто даже не хотел смотреть на мой великолепный ватин. Все вели себя так, будто впервые слышали о ватине. «Это что? – спрашивали меня. – Материал на обивку кушетки? Или теплая обертка для недоношенных младенцев?»
Я оскорблялся, но молчал даже в тех случаях, когда нахальные женщины отщипывали от ватина кусочки, раздергивали их по отдельным волокнам и нюхали неизвестно зачем.
Наконец добродушный старик с сантиметром на шее (из этого я заключил, что он портной) дал мне за ватин сто тысяч рублей. Это были хорошие деньги. Но я решил продать ватин не меньше чем за двести тысяч рублей и этим осчастливить Регинина.
– У вас есть мозги в голове? – удивленно спросил меня портной. – Берите деньги и не разыгрывайте из себя барона Нобеля{46}. Ваше счастье, что вы попали на честного человека.
Я отказался. Портной потоптался, потом сплюнул и ушел, покрикивая:
– Брюки галифе! Шьем перед глазами заказчика за два часа и с его материалом! Будут лежать как вылитые! Брюки галифе! Задаром! За триста тысяч рублей без приклада!
Следующий покупатель, маленький полупьяный грек, дал мне семьдесят тысяч. После него плаксивая женщина дала пятьдесят тысяч.
Время подходило к четырем часам, базар начинал пустеть. Грек снова вернулся откуда-то и предложил мне уже тридцать тысяч рублей.
Я послал его к черту. Тогда ко мне подошел босой парень в старой казацкой фуражке, сунул мне в руку десять тысяч рублей, сильно потянул у меня из-под локтя ватин и сказал:
– На, бери и катись с базара до своей Люсечки!
Я вырвал у него ватин и швырнул ему обратно его десятитысячную бумажку.
– Ах, ты так, зараза! – сказал парень и полез за пазуху.
В это время взвизгнула старуха в шляпе с бархатными анютиными глазками. Она доторговывала последним, свернувшимся в жгут малокровным пирожком с картошкой. В ответ на визг старухи засвистел милиционер. Парень независимо и медленно пошел прочь, шевеля лопатками под линялой рубахой.
– Уходите скорее, – сказала мне старуха. – У него нож за пазухой. Я уже не могу видеть крови на базаре и вечно попадать в свидетели.
Уже смеркалось. Мой базарный день был бесславно окончен. Так я думал тогда по своей непроходимой наивности.
Я ушел с базара. Я шел и вдруг вспомнил, что и грека, и плаксивую женщину, и парня в казацкой фуражке я видел в самом начале базарного дня в толпе за рундуком – всех троих вместе. Только сейчас до моего сознания дошло, что около меня работала одна и та же шайка «маравихеров». Так в Одессе звали шпану, занимавшуюся сбиванием цен и, при удобном случае, базарными кражами и грабежами.
В базарных воротах мне встретился полупьяный грек. Он курил козью ножку и не обратил на меня внимания.
Я шел, и какой-то едкий, пакостный запах преследовал меня до ближайшего перекрестка. На перекрестке меня окликнула торговка семечками.
– Вы же горите, молодой человек! – крикнула она мне. – С вас дым идет, как с паровоза.
Я оглянулся. Из свернутого ватина шел белый едкий дым.
Я развернул рулон. По нему расползался, чадя и вспыхивая, огненный узор.
Я хотел затоптать этот ползучий огонь, но напрасно: он извивался, как десятки маленьких змей, и расползался по ватину все дальше. Единственное, что мне оставалось сделать, – это отшвырнуть ногой горящий ватин на мостовую.
– Я думаю, – сказала торговка, – что у вас была на базаре крупная неприятность с «маравихерами», молодой человек. И они по злобе подожгли вам сзади ватин. Папироской.
Я вспомнил полупьяного грека в воротах базара. Это была его работа.
Вокруг горящего ватина собралась толпа. Торговка семечками рассказывала всем, крича и возмущенно жестикулируя, мою горестную историю.
Я не пошел к Регинину. Меня душили отвращение, гнев, стыд. Я проклинал всех, кто считал, будто в воровском и бандитском мире есть следы какой-то романтики. Сплошная чушь! Россказни для слюнтяев и доверчивых дураков.
Я поклялся себе страшной клятвой, что больше ни разу не пойду на базар.
Наутро мне надо было достать где-нибудь не меньше двухсот тысяч рублей – за эти деньги я обещал Регинину продать его ватин. Я ломал себе голову над этим, наконец решился и пошел к Мозеру. Он слыл среди нас человеком вполне состоятельным.
Мозер и его жена очень жалели меня, охали, возмущались, напоили чаем и дали два больших листа денег (каждый по сто тысяч рублей). Я свернул их в рулон и пошел к Регинину. Казалось, никогда в жизни я не испытывал такой легкости на душе, как в тот день.
Из этого случая с ватином вытекало третье базарное правило: никогда не носить вещей у себя за спиной. Потому, конечно, что их незаметно разрезали лезвием безопасной бритвы или поджигали, а потом эти испорченные вещи шли за бесценок.
Но избавиться навсегда от базара, несмотря на клятвы, мне, конечно, не удалось. Государственных товаров в городе почти не было, если не считать бязи, некоторого количества шапок-ушанок и ватников.
Эти шапки-ушанки с искусственной серой мерлушкой привозились почему-то спрессованными в огромные тюки. Тюки эти лежали в магазинах, их никто не распаковывал, и они распространяли запах тления.
На базар приходилось ходить за всем, особенно за лесками и рыболовными крючками.
Каждый раз после базара я возвращался в глухом раздражении, подавленный и униженный. Униженный зрелищем бесстыдной алчности, беспомощной нищеты, глумления над людским достоинством, животной грубости и обмана.
Особенно много было жульничества – мелкого, шмыгающего глазами и наглого.
В тени под всеми рундуками играли в «три листика», в «узелок», в «кости», передергивали и дрались. Испитые шулера рыдали в голос, размазывая по лицу кровь и грозясь рассчитаться с обидчиками такими изощренными способами, что от них холодела кожа на голове.
Бродячим сумасшедшим привязывали сзади, к отрепьям, пуки газет и поджигали их.
Иногда в укромных углах базара неожиданно собирались плотные толпы. Люди молча, с яростным любопытством продирались вперед, к середине толпы, где слышались тупые удары и заглушенные крики: там, зверея, били вора или обыскивали, раздевая догола, женщину, заподозренную в краже, под визгливый хохот деревенских простоволосых кулачек.
Иной раз невозможно было понять, что происходит. Вор вырывался и, кривляясь, избитый, весь в кровоподтеках, начинал изображать какой-нибудь похабный танец под дружный и одобрительный рев толпы, а раздетая женщина вцеплялась в волосы обокраденной, и обе они долго катались в пыли.
До одесского базара я никогда не видел такого скопления в одном месте человеческой скверны и злобы. И это было тем удивительнее и тяжелее, что рядом сверкало теплое море, шумел нарядный город, цвели акации, солнечный свет придавал золотой оттенок зданиям, на улицах, несмотря на голод, было много смеющихся людей, пахло цветами, и низко горели в морских далях чистые звезды, похожие на огни бакенов.
Но и на базаре попадались хорошие люди. Все это были чудаки или люди с изломанной, пустой жизнью, но здесь они казались образцами человечности.
Помню подслеповатого старика. Он торговал фотографиями для стереоскопа. Его постоянно окружали дети. Весь день он бесплатно показывал им виды Парижа и Рима, Москвы и острова Мадейра. Совершенно невозможно было понять, чем он живет. В то время ни единая живая душа (кроме Изи Лившица) не покупала фотографий для стереоскопа. Да и Изя покупал их только из жалости к этому старику.
Рядом со стариком стоял на мостовой выцветший, пыльный глобус. За пятьдесят рублей каждый желающий мог повертеть этот глобус и поискать на нем разные заманчивые страны и города, вроде острова Пасхи, реки Замбези или города Каракаса.
Невдалеке от этого старика поместился гадальщик-графолог. Гадал он по почерку. Весь день он сидел на скамейке и изучал в огромную лупу письма и конверты.
Гадал он сердито, выговаривая гадающим, и даже кричал на них. Но, несмотря на это, клиенты его любили, особенно женщины.
А кричал он вещи удивительные.
– Я же вам три раза уже нагадал, гражданочка, – кричал он заморенной женщине, – чтобы вы бросили этого вашего сожителя, если не хотите попасть вместе с ним в арестантские роты.
– Оно и верно, надо бы бросить, – неуверенно соглашалась женщина.
– Бросай, Верка! Видишь же, человек тебе желает добра, – уговаривали ее подруги.
– Выходит, – обиженно кричал гадальщик, – что я, как паразит, деньги с вас высасываю и получаю каждый раз по триста рублей. А все через вашу нерешительность! Это что за безобразие! Раз не хотите меня слушать, так и не ходите до меня. Я вам больше гадать не буду. Хватит.
В другой раз он кричал:
– Судя по начертанию букв, очень много об себе понимаете, отрок. Ходите таким фон-бароном и фон-трезвоном. А правильное соответствие жизни достигается только путем науки и терпения, а не нахальства и гавканья. Я давно замечаю, что вы всё крутитесь в компании с Витькой «Десятка треф» – вместо того чтобы честно работать и радовать престарелых родителей.
Но самым трогательным оказался старый торговец кепками Зусман, державший на задворках базара крошечную лавчонку с вывеской «Варшавские кепы».
Он весь день сидел в лавочке вместе с подручным – унылым, болезненным мальчиком Милей. Мальчик спал, похрапывая, а старик, нацепив очки, медленно читал газету, вздыхал и недовольно поглядывал на редких покупателей.
Мы как-то зашли к нему в кепочную вместе с Яшей Лифшицем.
– Зачем вам новая кепка? – сердито спросил Зусман Яшу. – У вас же еще вполне приличная.
– Это уж мое дело! – так же сердито ответил Яша.
– Привыкли разбрасываться кепками? – иронически спросил Зусман. – Ваше дело! Миля, дай этому товарищу какую-нибудь кепочку. А мне надо зайти до соседа.
Он ушел. Яша, посапывая от гнева на странного продавца, начал примерять кепки. Миля держал перед ним зеркало и два раза чуть не уронил его, засыпая.
Яша колебался. Он надел коричневую кепку и спросил меня, идет ли она ему.
Я не успел ответить. Вошел Зусман, мельком взглянул на Яшу и спросил:
– Миля, где же тот покупатель, который только что заходил до лавки?
– Так вот он, – уныло ответил Миля и показал на Яшу.
– Нет! – вскричал Зусман, отступил, всплеснул руками, и бородатое его лицо расплылось в счастливую улыбку. – Нет! Что ты выдумываешь, Миля! Это же передо мной стоит лорд в шотландской кепке, настоящий лорд Чемберлен{47}. А тот покупатель был, извините, совершенно затрушенный и смахивал на босяка.
– Так это же он, – так же уныло подтвердил Миля. – Только он в новой кепке.
– Ай-ай-ай! – закричал Зусман. – Что может сделать с человеком такая дешевая кепка за сто тысяч рублей! Если она, конечно, сшита хорошим мастером! Она может сделать чудо!
Яша не выдержал и расхохотался. Зусман тоже хохотал до слез, довольный своей выдумкой, и дружески похлопал Яшу по плечу.
– Торговля с нас делает артистов, – говорил он сквозь смех. – Из меня бы вышел комик, честное слово! Будем знакомы. Приходите когда до меня поговорить, а то можно пропасть в этой пустой лавке. Я вам сошью такую летнюю кепку, что сам Ллойд-Джордж{48} не имел и не будет иметь такой кепки никогда в жизни. Абы только достать хороший материал.
Все были очень довольны, а Миля снова уже сидел на табуретке за прилавком, клевал носом и всхрапывал.
– Сами можете убедиться, – сказал со вздохом Зусман и кивнул на Милю, – какой у меня собеседник. Это же только сойти с ума и умереть!
«Что вы хотели, молодой человек?» – спрашивали меня каждый раз на одесском базаре. Что я хотел? Я хотел одного: чтобы это капище нищеты и грязи было сожжено, развеяно по ветру. В конце концов так и случилось.
Да, кстати, Регинин поверил, что я продал его ватин за двести тысяч рублей. Обман обнаружился только через двадцать лет в Москве, и Регинин торжественно вернул мне эти двести тысяч рублей в виде двух десятирублевых бумажек выпуска 1939 года. При этом он по своей манере бесшумно трясся от смеха.
«Мопассанов я вам гарантирую»
В одном из номеров «Моряка» был напечатан рассказ под названием «Король». Под рассказом стояла подпись: «И. Бабель».
Рассказ был о том, как главарь одесских бандитов Бенцион (он же Беня) Крик насильно выдал замуж свою увядшую сестру Двойру за хилого и плаксивого вора. Вор женился на Двойре только из невыносимого страха перед Беней.
То был один из первых так называемых «молдаванских» рассказов Бабеля.
Молдаванкой в Одессе называлась часть города около товарной железнодорожной станции, где жили две тысячи одесских налетчиков и воров.
Чтобы лучше узнать жизнь Молдаванки, Бабель решил поселиться там на некоторое время у старого еврея Циреса, доживавшего свой век под крикливым гнетом жены, тети Хавы.
Вскоре после того, как Бабель снял комнату у этого кроткого старика, похожего на лилипута, произошли стремительные события. Из-за них Бабель был вынужден бежать очертя голову из квартиры Циреса, пропахшей жареным луком и нафталином.
Но об этом я расскажу несколько позже, когда читатель свыкнется с характером тогдашней жизни на Молдаванке.
Рассказ «Король» был написан сжато и точно. Он бил в лицо свежестью, подобно углекислой воде.
С юношеских лет я воспринимал произведения некоторых писателей как колдовство. После рассказа «Король» я понял, что еще один колдун пришел в нашу литературу и что все написанное этим человеком никогда не будет бесцветным и вялым.
В рассказе «Король» все было непривычно для нас. Не только люди и мотивы их поступков, но и неожиданные положения, неведомый быт, энергичный и живописный диалог. В этом рассказе существовала жизнь, ничем не отличавшаяся от гротеска. В каждой мелочи был заметен пронзительный глаз писателя. И вдруг, как неожиданный удар солнца в окно, в текст вторгался какой-нибудь изысканный отрывок или напев фразы, похожей на перевод с французского, – напев размеренный и пышный.
Это было ново, необыкновенно. В этой прозе звучал голос человека, пропыленного в походах Конной армии и вместе с тем владевшего всеми богатствами прошлой культуры – от Боккаччо{49} до Леконта де Лиля и от Вермеера{50} Дельфтского до Александра Блока.
В редакцию «Моряка» Бабеля привел Изя Лившиц. Я не встречал человека, внешне столь мало похожего на писателя, как Бабель. Сутулый, почти без шеи из-за наследственной одесской астмы, с утиным носом и морщинистым лбом, с маслянистым блеском маленьких глаз, он с первого взгляда не вызывал интереса. Его можно было принять за коммивояжера или маклера. Но, конечно, только до той минуты, пока он не начинал говорить.
С первыми же словами все менялось. В тонком звучании его голоса слышалась настойчивая ирония.
Многие люди не могли смотреть в прожигающие глаза Бабеля. По натуре Бабель был разоблачителем. Он любил ставить людей в тупик и потому слыл в Одессе человеком трудным и опасным.
Бабель пришел в редакцию «Моряка» с книгой рассказов Киплинга{51} в руках. Разговаривая с редактором Женей Ивановым, он положил книгу на стол, но все время нетерпеливо и даже как-то плотоядно посматривал на нее. Он вертелся на стуле, вставал, снова садился. Он явно нервничал. Ему хотелось читать, а не вести вынужденную вежливую беседу.
Бабель быстро перевел разговор на Киплинга, сказал, что надо писать такой же железной прозой, как Киплинг, и с полнейшей ясностью представлять себе все, что должно появиться из-под пера. Рассказу надлежит быть точным, как военное донесение или банковский чек. Его следует писать тем же твердым и прямым почерком, каким пишутся приказы и чеки. Такой почерк был, между прочим, у Киплинга.
Разговор о Киплинге Бабель закончил неожиданными словами. Он произнес их, сняв очки, и от этого лицо его сразу сделалось беспомощным и добродушным.
– У нас в Одессе, – сказал он, насмешливо поблескивая глазами, – не будет своих Киплингов. Мы мирные жизнелюбы. Но зато у нас будут свои Мопассаны{52}. Потому что у нас много моря, солнца, красивых женщин и много пищи для размышлений. Мопассанов я вам гарантирую.
Тут же он рассказал, как был в последней парижской квартире Мопассана. Рассказывал о нагретых солнцем розовых кружевных абажурах, похожих на панталоны дорогих куртизанок, о запахе бриллиантина и кофе, о комнатах, где мучился испуганный их обширностью больной писатель, годами приучавший себя к строгим границам замыслов и наикратчайшему их изложению.
Во время этого рассказа Бабель со вкусом упоминал о топографии Парижа. У Бабеля было хорошее французское произношение.
Из нескольких замечаний и вопросов Бабеля я понял, что это человек неслыханно настойчивый, цепкий, желающий все видеть, не брезгующий никакими познаниями, внешне склонный к скепсису, даже к цинизму, а на деле верящий в наивную и добрую человеческую душу. Недаром Бабель любил повторять библейское изречение: «Сила жаждет, и только печаль утоляет сердца».
Я видел из своего окна, как Бабель вышел из редакции и, сутулясь, пошел по теневой стороне Приморского бульвара. Шел он медленно, потому что, как только вышел из редакции, тотчас раскрыл книгу Киплинга и начал читать ее на ходу. По временам он останавливался, чтобы дать встречным обойти себя, но ни разу не поднял головы, чтобы взглянуть на них.
И встречные обходили его, с недоумением оглядываясь, по никто не сказал ему ни слова.
Вскоре он исчез в тени платанов, что трепетали в текучем черноморском воздухе своей бархатистой листвой.
Потом я часто встречал Бабеля в городе. Он никогда не ходил один. Вокруг него висели, как мошкара, так называемые «одесские литературные мальчики». Они ловили на лету его острые слова, тут же разносили их по Одессе и безропотно выполняли его многочисленные поручения.
За нерадивость Бабель взыскивал с этих восторженных юношей очень строго, а наскучив ими, безжалостно их изгонял. Чем более жестоким бывал разгром какого-нибудь юноши, тем сильнее гордился этим разгромленный. «Литературные юноши» просто расцветали от бабелевских разгромов.
Но не только «литературные мальчики» боготворили Бабеля. Старые литераторы – их в то время собралось в Одессе несколько человек, – равно как и молодые одесские писатели и поэты, относились к Бабелю очень почтительно.
Объяснялось это не только тем, что это был исключительно талантливый человек, но еще и тем, что он был признан и любим как писатель Алексеем Максимовичем Горьким, что он только что вернулся из легендарной Конармии Буденного и, наконец, он был в то время для нас первым подлинно советским писателем.
Нельзя забывать, что в то время советская литература только зарождалась и до Одессы еще не дошла ни одна новая книга, кроме «Двенадцати» Блока и перевода книги Анри Барбюса «Огонь».
И Блок и Барбюс произвели на нас потрясающее впечатление: в этих вещах уже явственно сверкали зарницы новой поэзии и прозы, и мы заучивали наизусть и стихи Блока, и суровую прозу Барбюса.
Вплотную я столкнулся с Бабелем в конце лета. Он жил тогда на 9-й станции Фонтана. Я был в отпуску и снял вместе с Изей Лившицем полуразрушенную дачу невдалеке от дачи Бабеля.
Одна стена нашей дачи висела над отвесным обрывом. От нее часто откалывались куски яркой розовой штукатурки и весело неслись вприпрыжку к морю. Поэтому мы предпочитали спать на террасе, выходившей в степь. Там было безопаснее.
Сад около дачи зарос по пояс сероватой полынью. Сквозь нее пробивались, как свежие брызги киновари, маленькие, величиной с ноготь, маки.
С Бабелем мы виделись часто. Иногда мы вместе просиживали на берегу почти весь день, таская с Изей на самоловы зеленух и бычков и слушая неторопливые рассказы Бабеля.
Рассказчик он был гениальный. Устные его рассказы были сильнее и совершеннее, чем написанные.
Как описать то веселое и вместе с тем печальное лето 1921 года на Фонтане, когда мы жили вместе? Веселым его делала наша молодость, а печальным оно казалось от постоянной легкой тревоги на сердце. А может быть, отчасти и от непроницаемых южных ночей. Они опускали свой полог совсем рядом с нами, за первой же каменной ступенькой нашей террасы.
Стоя на террасе, можно было протянуть в эту ночь руку, но тотчас отдернуть ее, почувствовав на кончиках пальцев близкий холод мирового пространства.
Веселье было собрано в пестрый клубок наших разговоров, шуток и мистификаций. Тогда уже в Одессе мистификации называли «розыгрышами». Потом это слово быстро распространилось по всей стране.
А печаль воплощалась для меня почему-то в ясном огне, неизменно блиставшем по ночам на морском горизонте. То была какая-то низкая звезда. Имени ее никто не знал, несмотря на то что она все ночи напролет дружелюбно и настойчиво следила за нами.
Непонятно почему, но печаль была заключена и в запахе остывающего по ночам кремнистого шоссе, и в голубых зрачках маленькой дикой вербены, поселившейся у нашего порога, и в том, что тогда мы очень ясно чувствовали слишком быстрое движение времени.
Горести пока еще властвовали над миром. Но для нас, молодых, они уже соседствовали со счастьем, потому что время было полно надежд на разумный удел, на избавление от назойливых бед, на непременное цветение после бесконечной зимы.
Я в то лето, пожалуй, хорошо понял, что значит казавшееся мне до тех пор пустым выражение «власть таланта».
Присутствие Бабеля делало это лето захватывающе интересным. Мы все жили в легком отблеске его таланта.
До этого почти все люди, встречавшиеся мне, не оставляли в памяти особенно заметного следа. Я быстро забывал их лица, голоса, слова, их походку, и много-много, если вдруг вспоминал какую-нибудь характерную морщину у них на лице. А сейчас было не так. Я жадно зарисовывал людей в своей памяти, и этому меня научил Бабель.
Бабель часто возвращался к вечеру из Одессы на конке. Она сменила начисто забытый трамвай. Конка ходила только до 8-й станции и издалека уже дребезжала всеми своими развинченными болтами.
С 8-й станции Бабель приходил пешком, пыльный, усталый, но с хитрым блеском в глазах, и говорил:
– Ну и разговорчик же заварился в вагоне у старух! За «куриные яички». Слушайте! Вы будете просто рыдать от удовольствия.
Он начинал передавать этот разговор. И мы не только рыдали от хохота. Мы просто падали, сраженные этим рассказом. Тогда Бабель дергал то одного, то другого из нас за рукав и крикливо спрашивал голосом знакомой торговки с 10-й станции Фонтана:
– Вы окончательно сказились, молодой человек? Или что?
Стоило, слушая Бабеля, закрыть глаза, чтобы сразу же очутиться в душном вагоне одесской конки и увидеть всех попутчиков с такой наглядностью, будто вы прожили с ними много лет и съели вместе добрый пудовик соли. Может быть, их вовсе и не существовало в природе, этих людей, и Бабель их начисто выдумал. Но что за дело нам было до этого, если они жили во всей своей конкретности, хрипящие, кашляющие, вздыхающие и выразительно подмигивающие друг другу на «мосье» Бабеля, о котором уже говорили по Одессе, что он такой же умный, как Горький.
Гораздо раньше, чем из его напечатанных рассказов, мы узнали из устных его рассказов о старике Гедали, вздыхавшем «об интернационале добрых людей», о происшествии с солью на «закоренелой» станции Фастов, о бешеных кавалерийских атаках, об ослепительной усмешке Буденного и услышали удивительные казачьи песни. Особенно одна песня поразила Бабеля, и потом в Одессе мы ее часто напевали, каждый раз все больше удивляясь ее поэтичности. Сейчас я забыл слова этой песни. В памяти остались только первые две строки:
Особенно томительной и щемящей была эта «звезда полей». Часто по ночам я даже видел ее во сне – единственную тихую звезду в громадной высоте над сумраком родных и нищих полей.
Вообще Бабель рассказывал охотно и много об Алексее Максимовиче Горьком, о революции и о том, как он, Бабель, поселился явочным порядком в Аничковом{53} дворце в Петербурге, спал на диване в кабинете Александра III и однажды, осторожно заглянув в ящик царского письменного стола, нашел коробку великолепных папирос – подарок царю Александру от турецкого султана Абдул Гамида.
Толстые эти папиросы были сделаны из розовой бумаги с золотой арабской вязью. Бабель очень таинственно подарил мне и Изе по одной папиросе. Мы выкурили их вечером. Тончайшее благоухание распростерлось над 9-й станцией Фонтана. Но тотчас у нас смертельно разболелась голова, и мы целый час передвигались как пьяные, хватаясь за каменные ограды.
Тогда же я узнал от Бабеля необыкновенную историю о безответном старом еврее Циресе.
Бабель поселился у Циреса и его мрачной медлительной жены, тети Хавы, в центре Молдаванки. Он решил написать несколько рассказов из жизни этой одесской окраины с ее пряным бытом. Бабеля привлекали своеобразные и безусловно талантливые натуры таких бандитов, как ставший уже легендарным Мишка Япончик (Беня Крик). Бабель хотел получше изучить Молдаванку, и, конечно, удобным местом для этого была скучная квартира Циреса.
Она стояла как надежная скала среди бушующих и громогласных притонов и обманчиво благополучных квартир с вязаными салфеточками и серебряными семисвечниками на комодах, где под родительским кровом скрывались налетчики.
Квартира Циреса была забронирована со всех сторон соседством дерзких и хорошо вооруженных молодых людей.
Бабель посвятил Циреса в цель своего изучения Молдаванки. Это не произвело на старика приятного впечатления. Наоборот, Цирес встревожился.
– Ой, мосье Бабель! – сказал он, качая головой. – Вы же сын такого известного папаши! Ваша мама была же красавица! Поговаривают, что к ней сватался племянник самого Бродского. Так чтобы вы знали, что Молдаванка вам совсем не к лицу, какой бы вы ни были писатель. Забудьте думать за Молдаванку. Я вам скажу, что вы не найдете здесь ни на копейку успеха, но зато сможете заработать полный карман неприятностей.
– Каких? – спросил Бабель.
– Я знаю, каких! – уклончиво ответил Цирес. – Разве догадаешься, какой кошмар может вбить себе в голову один только Пятирубель. Я не говорю за таких нахалов, как Люська Кур и все остальные. Лучше вам, мосье Бабель, не рисковать, а вернуться тихонько в папашин дом на Екатерининской улице. Скажу вам по совести, я сам уже сожалею, что сдал вам комнату. Но как я мог отказать такому приятному молодому человеку!
Бабель иногда ночевал в своей комнате у Циреса и несколько раз слышал, как тетя Хава шепотом ругала старика за то, что он сдал комнату Бабелю и пустил в дом незнакомого человека.
– Что ты с этого будешь иметь, скупец! – говорила она Циресу. – Какие-нибудь сто тысяч в месяц? Так зато ты растеряешь своих лучших клиентов. Лазарь Бройде со Степовой улицы обдурит тебя и будет смеяться над тобой. Они все перекинутся к Бройде, клянусь покойной Идочкой.
– Лягаши только ждут именно твоего Бройде, чтобы его захапать, – неуверенно отбивался Цирес.
– Как бы тебя не захапали раньше. Ты будешь пустой через того жильца. Никто не даст тебе и одного процента. С чего мы тогда будем доживать свою старость?
Цирес сокрушался, ворочался, долго не мог заснуть.
Бабелю не нравились эти непонятные ночные разговоры старухи.
Он чувствовал в них какую-то опасную тайну. Он тоже долго не засыпал, стараясь догадаться, о чем шепчет тетя Хава.
Ночи на Молдаванке тянулись долго. Мутный свет дальнего фонаря падал на облезлые обои. Они пахли уксусной эссенцией. Изредка с улицы слышались быстрые деловые шаги, тонкий свист, а иной раз даже близкий выстрел и женский истерический хохот. Он долетал из-за кирпичных стен. Казалось, что этот рыдающий хохот был глубоко замурован в стенах.
Особенно неприятно было в дождливые ночи. В железном желобе жидко дребезжала вода. Кровать скрипела от малейшего движения, и какой-то зверь всю ночь спокойно жевал за обоями гнилое, трухлявое дерево.
Хотелось встать и уйти к себе на Екатерининскую улицу. Там за толстыми стенами на четвертом этаже было тихо, темно, безопасно, а на столе лежала десятки раз исправленная и переписанная рукопись последнего рассказа.
Подходя к столу, Бабель осторожно поглаживал эту рукопись, как плохо укрощенного зверя. Часто он вставал ночью и при коптилке, заставленной толстым, поставленным на ребро фолиантом энциклопедии, перечитывал три-четыре страницы. Каждый раз он находил несколько лишних слов и со злорадством выбрасывал их. «Ясность и сила языка, – говорил он, – совсем не в том, что к фразе уже нельзя ничего прибавить, а в том, что из нее уже нельзя больше ничего выбросить».
Все, кто видел Бабеля за работой, особенно ночью (а увидеть его в этом состоянии было трудно: он всегда писал, прячась от людей), были поражены печальным его лицом и его особенным выражением доброты и горя.
Бабель много бы дал в эти скудные молдаванские ночи за то, чтобы сейчас же вернуться к своим рукописям. Но в литературе он чувствовал себя как разведчик и солдат и считал, что во имя ее он должен вытерпеть все: и одиночество, и керосиновую вонь погасшей коптилки, вызывавшую тяжелые припадки астмы, и крики изрыдавшихся женщин за стенами домов. Нет, возвращаться было нельзя.
В одну из таких ночей Бабеля вдруг осенило: очевидно, Цирес был обыкновенным наводчиком! Цирес жил этим. Он получал за это свой процент – «карбач», и Бабель был для старика действительно неудобным жильцом.
Он мог отпугнуть от старого наводчика его отчаянных, но вместе с тем и осторожных клиентов. Кому была охота глупо нарезаться на провал из-за скаредности Циреса, польстившегося на лишние сто тысяч рублей и пустившего в самое сердце Молдаванки какого-то фраера.
Да к тому же этот фраер оказался писателем и потому был вдвое опаснее, чем если бы он был простым сутенером или шулером из пивной.
Наконец-то Бабель понял намеки Циреса насчет кармана, полного неприятностей, и решил через несколько дней съехать от Циреса. Но несколько дней ему еще были нужны, чтобы выведать от старого наводчика все, что тот мог рассказать интересного. А Бабель знал за собой это сильное свойство – выпытывать людей до конца, потрошить их жестоко и настойчиво, или, как говорили в Одессе, «с божьей помощью вынимать из них начисто душу».
Но на этот раз Бабелю не удалось вынуть из старого Циреса душу. Бабеля опередил один из налетчиков, кажется Сенька Вислоухий, и сделал он это не в переносном, а в самом настоящем смысле этого слова.
Как-то днем, после того как Бабель ушел в город, Цирес был убит у себя на квартире ударом финки.
Когда Бабель вернулся на Молдаванку, он застал в квартире милицию, а у себя в комнате – начальника угрозыска. Он сидел за столом и писал протокол. Это был вежливый молодой человек в синих галифе из диагонали. Он мечтал тоже стать писателем и потому почтительно обошелся с Бабелем.
– Прошу вас, – сказал он Бабелю, – взять ваши вещи и немедленно покинуть этот дом. Иначе я не могу гарантировать вам личную безопасность, даже на ближайшие сутки. Сами понимаете: Молдаванка!
И Бабель бежал, содрогаясь от хриплых воплей тети Хавы. Она призывала проклятия на голову Сеньки и всех, кто, по ее соображениям, был замешан в убийстве Циреса.
Эти проклятия были ужасны. Вежливый начальник угрозыска даже посоветовал Бабелю:
– Не слушайте эти психические крики. Утром она была еще в уме и дала показания. А теперь она бесноватая. Сейчас за ней приедет фургон из сумасшедшего дома на Слободке-Романовке.
А за перегородкой тетя Хава равномерно вырывала седые космы волос из головы, отшвыривала их от себя и кричала, раскачиваясь и рыдая:
– Чтоб ты опился, Симеон (она называла Сеньку его полным именем), водкой с крысиной отравой и сдох бы на блевотине! И чтобы ты пинал ногами собственную мать, старую гадюку Мириам, что породила такое исчадие и такого сатану! Чтобы все мальчики с Молдаванки наточили свои перочинные ножички и резали тебя на части двенадцать дней и двенадцать ночей! Чтоб ты, Сенька, горел огнем и лопнул от своего кипящего сала!
Вскоре Бабель узнал все о смерти Циреса.
Оказалось, что Цирес сам был виноват в своей гибели. Поэтому ни единая живая душа на Молдаванке не пожалела его, кроме тети Хавы. Ни единая живая душа! Потому что Цирес оказался бесчестным стариком, и его уже ничто не могло спасти от смерти.
А дело было так. Накануне дня своей гибели Цирес пошел к Сеньке Вислоухому.
Сенька брился в передней перед роскошным трюмо в черной витиеватой раме. Скосив глаза на Циреса, он сказал:
– Спутались с фраером, мосье Цирес? Поздравляю! Знаете новый советский закон: если ты пришел к бреющемуся человеку, то скорее кончай свое дело и выматывайся. Даю вам для объяснения десять слов. Как на центральном телеграфе. За каждое излишнее слово я срежу вам ваш процент, так сказать, карбач, на двести тысяч рублей.
– Или вы с детства родились таким неудачным шутником, Сеня? – спросил, сладко улыбаясь, Цирес. – Или сделались им постепенно, по мере течения лет? Как вы думаете?
Цирес был трусоват в жизни и даже в делах, но в разговоре он мог себе позволить нахальство. Недаром он считался старейшим наводчиком в Одессе.
– А ну, рассказывайте, старый паяц, – сказал Сенька и начал водить в воздухе бритвой, как смычком по скрипке. – Рассказывайте, пока у меня не выкипело терпение.
– Завтра, – очень тихо произнес Цирес, – в час дня в артель «Конкордия» привезут четыре миллиарда.
– Хорошо! – так же тихо ответил Сенька. – Вы получите свой карбач. Без вычета.
Цирес поплелся домой. Поведение Сеньки ему не понравилось. Раньше Сенька в серьезных делах не позволял себе шуток.
Цирес поделился своими мыслями с тетей Хавой, и она, конечно, закричала:
– Сколько лет ты топчешься по земле, как последний дурак! Что ты отворачиваешься и смотришь на портрет Идочки? Я тебя спрашиваю, а не ее! Понятно, что Сеня не пойдет на такое дело. Будет он тебе мараться из-за четырех паскудных миллиардов. Ты на этом заработаешь дулю с маком – и все!
– А что же делать? – застонал Цирес. – Они сведут меня с ума, эти налетчики!
– Пойди до Пятирубеля. Может, он польстится на твои липовые миллиарды! Так, по крайности, не останешься в идиотах.
Старый Цирес надел люстриновый картузик и поплелся к Пятирубелю. Тот спал в садочке около дома, в холодке от куста белой акации.
Пятирубель выслушал Циреса и сонно ответил:
– Иди! Можешь рассчитывать на карбач.
Цирес ушел довольный. Он чувствовал себя как человек, застраховавший жизнь на чистое золото.
«Старуха права. Разве можно положиться на Сеню! Он капризный, как мотылек, как женщина в интересном положении. Что ему стоит согласиться, а потом, поигрывая бритвой, отказаться от дела, если оно представляется ему чересчур хлопотливым?»
Но старый, тертый наводчик Цирес ошибся в первый и в последний раз в жизни.
Назавтра в час дня у кассы артели «Конкордия» сошлись Сеня и Пятирубель. Они открыто посмотрели друг другу в глаза, и Сеня спросил:
– Не будешь ли ты так любезен сказать, кто тебя навел на это дело?
– Старый Цирес. А тебя, Сеня?
– И меня старый Цирес.
– Итак? – спросил Пятирубель.
– Итак, старый Цирес больше не будет жить! – ответил Сеня.
– Аминь! – сказал Пятирубель.
Налетчики мирно разошлись. По правилам, если два налетчика сходятся на одном деле, то дело отменяется.
Через сорок минут старый Цирес был убит у себя на квартире, когда тетя Хава вышла во двор вешать белье. Она не видела убийцы, но знала, что никто, кроме Сени или его людей, не смог бы этого сделать. Сеня никогда не прощал обмана.
«Тот» мальчик
На даче у Бабеля жило много народу: сам Бабель, его тихая и строгая мать, рыжеволосая красавица жена Евгения Борисовна, сестра Бабеля Мери и, наконец, теща со своим маленьким внуком. Все это общество Бабель шутливо и непочтительно называл «кодлом».
И вот в один из июльских дней в семье Бабеля произошло удивительное событие.
Для того чтобы понять всю, как говорят, «соль» этого происшествия, нужно сказать несколько слов о женитьбе Бабеля.
Отец Бабеля, суетливый старик, держал в Одессе небольшой склад сельскохозяйственных машин. Старик иногда посылал сына Исаака в Киев для закупки этих машин на заводе у киевского промышленника Гронфайна.
В доме Гронфайна Бабель познакомился с дочерью Гронфайна, гимназисткой последнего класса Женей, и вскоре началась их взаимная любовь.
О женитьбе не могло быть и речи: Бабель, студент, голодранец, сын среднего одесского купца, явно не годился в мужья богатой наследнице Гронфайна.
При первом же упоминании о замужестве Жени Гронфайн расстегнул сюртук, засунул руки за вырезы жилета и, покачиваясь на каблуках, испустил пренебрежительный и всем понятный звук: «П-с-с!» Он даже не дал себе труда выразить свое презрение словами: слишком много чести для этого невзрачного студента!
Влюбленным оставался только один выход – бежать в Одессу.
Так они и сделали.
А дальше все разыгралось по ветхозаветному шаблону: старик Гронфайн проклял весь род Бабеля до десятого колена и лишил дочь наследства. Случилось как в знаменитых стихах Саши Черного «Любовь – не картошка». Там при подобных же обстоятельствах папаша Фарфурник с досады раскокал семейный сервиз, рыдающая мадам Фарфурник иссморкала десятый платок, а студент-соблазнитель был изгнан из дома и витиевато назван «провокатором невиннейшей девушки, чистой, как мак».
Но время шло. Свершилась революция. Большевики отобрали у Гронфайна завод. Старый промышленник дошел до того, что позволял себе выходить на улицу небритым и без воротничка, с одной только золотой запонкой на рубахе.
Но вот однажды до дома Гронфайна дошел ошеломляющий слух, что «этот мальчишка» Бабель стал большим писателем, что его высоко ценит (и дружит с ним) сам Максим Горький – «Вы только подумайте, сам Максим Горький!», – что Бабель получает большие гонорары и что все, кто читал его сочинения, почтительно произносят слова: «Большой талант!» А иные добавляют, что завидуют Женечке, которая сделала такую хорошую партию.
Очевидно, старики просчитались, и настало время мириться. Как ни страдала их гордость, они первые протянули Бабелю, выражаясь фигурально, руки примирения. Это обстоятельство выразилось в том, что в один прекрасный день у нас на 9-й станции неожиданно появилась приехавшая для примирения из Киева преувеличенно любезная теща Бабеля – старуха Гронфайн.
Она была, должно быть, не очень уверена в успехе своей щекотливой задачи и потому захватила с собой из Киева, для разрядки, внука – восьмилетнего мальчика Люсю. Лучше было этого не делать.
В семье Бабеля тещу встретили приветливо. Но, конечно, в глубине души у Бабеля осталась неприязнь к ней и к заносчивому старику Гронфайну. А теща, пытаясь загладить прошлую вину, даже заискивала перед Бабелем и на каждом шагу старалась подчеркнуть свое родственное расположение к нему.
Мы с Изей Лившицем часто завтракали по утрам у Бабеля, и несколько раз при этом повторялась одна и та же сцена.
На стол подавали вареные яйца. Старуха Гронфайн зорко следила за Бабелем и, если он не ел яиц, огорченно спрашивала:
– Бабель (она называла его не по имени, а по фамилии), почему вы не кушаете яички? Они вам не нравятся?
– Благодарю вас, я не хочу.
– Значит, вы не любите свою тещу? – игриво говорила старуха и закатывала глаза. – А я их варила исключительно для вас.
Бабель, давясь, быстро доедал завтрак и выскакивал из-за стола.
Мальчика Люсю Изя Лившиц прозвал «тот» мальчик. Что скрывалось под этим южным термином, объяснить было почти невозможно. Но каждый из нас в первый же день появления Люси испытал на собственной шкуре, что это действительно был «тот» мальчик.
У Люси с утра до вечера нестерпимо горели от любопытства тонкие уши, будто кто-то долго и с наслаждением их драл. Люся хотел знать все, что его не касалось. Он шпионил за Бабелем и нами с дьявольской зоркостью.
Скрыться от него было немыслимо. Где бы мы ни были, через минуту мы замечали в листве тамарисков или за береговой скалой насквозь просвеченные солнцем Люсины уши.
Очевидно, от снедавшего его любопытства Люся был невероятно худ и костляв. У него с неестественной быстротой шныряли во все стороны черные, похожие на маслины глаза. При этом Люся задавал до тридцати вопросов в минуту, но никогда не дожидался ответа.
То был чудовищно утомительный мальчик с каким-то скачущим характером. Он успокаивался только во сне. Днем он все время дергался, прыгал, вертелся, гримасничал, ронял и разбивал вещи, носился с хищными воплями по саду, падал, катался на дверях, театрально хохотал, дразнил собаку, мяукал, вырывал себе от злости волосы, обидевшись на кого-нибудь, противно выл всухую, без слез, носил в кармане полудохлых ящериц с оторванными хвостами и крабов и выпускал их во время завтрака на стол, попрошайничал, грубил, таскал у меня лески и крючки и в довершение всех этих качеств говорил сиплым голосом.
– А это что? – спрашивал он. – А это для чего? А из этого одеяла можно сделать динамит? А что будет, если выпить стакан чаю с морским песком? А кто вам придумал такую фамилию Паустовский, что моя бабушка может ее правильно выговаривать только после обеда? Вы могли бы схватить конку сзади за крюк, остановить на полном ходу и потащить ее обратно? А что, если из крабов сварить варенье?
Легко представить себе, как мы «любили» этого мальчика. «Исчадие ада!» – говорил о нем Бабель, и в глазах его вспыхивал синий огонь.
Самое присутствие Люси приводило Бабеля в такое нервическое состояние, что он не мог писать. Он отдыхал от Люси у нас на даче и стонал от изнеможения. Он говорил Люсе «деточка» таким голосом, что у этого лопоухого мальчика, если бы он хоть что-нибудь соображал, волосы должны были бы зашевелиться на голове от страха.
Жаркие дни сменяли друг друга, но не было заметно даже отдаленных признаков отъезда тещи.
– Все погибло! – стонал Бабель и хватался за голову. – Все пропало! Череп гудит, как медный котел. Как будто это исчадие ада с утра до вечера лупит по мне палкой!
Все мы ломали голову над тем, как избавить Бабеля от Люси и его медоточивой бабушки. Но как это часто бывает, Бабеля спас счастливый случай.
Однажды ранним утром я зашел к Бабелю, чтобы, как мы условились с вечера, вместе идти купаться.
Бабель писал за небольшим столом. У него был затравленный вид. Когда я вошел, он вздрогнул и, не оглядываясь, судорожно начал запихивать рукопись в ящик стола и чуть не порвал ее.
– Фу-у! – вздохнул он с облегчением, увидев меня. – А я думал, что это Люська. Я могу работать, только пока это чудовище не проснется.
Бабель писал химическим карандашом. Я никогда не мог понять, как можно писать этим бледным и твердым, как железный гвоздь, карандашом. По-моему, все написанное химическим карандашом получалось много хуже, чем написанное чернилами.
Я сказал об этом Бабелю. Мы заспорили и прозевали те несколько секунд, безусловно спасительных для нас, когда Люся еще не подкрался по коридору. Если бы мы не спорили, то могли бы вовремя скрыться.
Мы поняли, что пропали, когда Люся победоносно ворвался в комнату. Он тут же кинулся к письменному столу Бабеля, чтобы открыть ящик (там, как он предполагал, были спрятаны самые интересные вещи), но Бабель ловко извернулся, успел закрыть ящик на ключ, выхватить ключ из замка и спрятать его в карман.
После этого Люся начал хватать по очереди все вещи со стола и спрашивать, что это такое. Наконец он начал вырывать у Бабеля химический карандаш. После недолгой борьбы это ему удалось.
– А-а! – закричал Люся. – Я знаю, что это такое! «Карандаш-барабаш, все, что хочешь, то и мажь!»
Бабель задрожал от отвращения, а я сказал Люсе:
– Это химический карандаш. Отдай его сейчас же Исааку Эммануиловичу! Слышишь!
– Химический, технический, драматический, кавыческий! – запел Люся и запрыгал на одной ноге, не обратив на меня никакого внимания.
– О боже! – простонал Бабель. – Пойдемте скорее на берег. Я больше не могу.
– И я с вами, – крикнул Люся. – Бабушка мне позволила. Даю слово зверобоя. Хотите, дядя Изя, я приведу ее сюда, и она сама вам скажет?
– Нет! – прорыдал Бабель измученным голосом. – Тысячу раз нет! Идемте!
Мы пошли на пляж. Люся нырял у берега, фыркал и пускал пузыри. Бабель пристально следил за ним, потом схватил меня за руку и сказал свистящим шепотом заговорщика:
– Вы знаете, что я заметил еще там, у себя в комнате?
– Что вы заметили?
– Он отломил кончик от химического карандаша и засунул себе в ухо.
– Ну и что же? – спросил я. – Ничего особенного не будет.
– Не будет так не будет! – уныло согласился Бабель. – Черт с ним. Пусть ныряет.
Мы заговорили о Герцене, – Бабель в то лето перечитывал Герцена. Он начал уверять меня, что Герцен писал лучше, чем Лев Толстой.
Когда мы, выкупавшись, шли домой и продолжали вяло спорить о Герцене, Люся забежал вперед, повернулся к нам, начал приплясывать, кривляться и петь:
– Я вас умоляю, – сказал мне Бабель измученным голосом, – дайте этому байстрюку по шее. Иначе я за себя не отвечаю.
Но Люся, очевидно, услышал эти слова Бабеля. Он отбежал от нас на безопасное расстояние и снова закричал, паясничая.
– У-у-у, зараза! – стиснув зубы, прошептал Бабель. Никогда до этого я не слышал такой ненависти в его голосе. – Еще один день, и я или сойду с ума, или повешусь.
Но вешаться не пришлось. Когда все сидели за завтраком и старуха Гронфайн готовилась к своему очередному номеру с «яичком» («Бабель, так вы, значит, не любите свою тещу»), Люся сполз со стула, схватился за ухо, начал кататься по полу, испускать душераздирающие вопли и бить ногами обо что попало.
Все вскочили. Из уха у Люси текла мерзкая и темная жижа.
Люся кричал без перерыва на одной ужасающей ноте, а около него метались, вскрикивая, женщины.
Паника охватила весь дом. Бабель сидел, как бы оцепенев, и испуганно смотрел на Люсю. А Люся вертелся винтом по полу и кричал:
– Больно, ой, больно, ой, больно!!
Я хотел вмешаться и сказать, что Люся врет, что никакой боли нет и быть не может, потому что Люся нырял, набрал себе в уши воды, а перед этим засунул себе в ухо…
Бабель схватил под столом мою руку и стиснул ее.
– Ни слова! – прошипел он. – Молчите про химический карандаш. Вы погубите всех.
Теща рыдала. Мери вытирала ватой фиолетовую жидкость, сочившуюся из уха. Мать Бабеля требовала, чтобы Люсю тотчас везли в Одессу к профессору по уху, горлу и носу.
Тогда Бабель вскочил, швырнул на стол салфетку, опрокинул чашку с недопитым чаем и закричал, весь красный от возмущения на невежественных и бестолковых женщин:
– Мамаша, вы сошли с ума! Вы же зарежете без ножа этого мальчика. Разве в Одессе врачи? Шарлатаны! Все до одного! Вы же сами прекрасно знаете. Коновалы! Невежды! Они начинают лечить бронхит и делают из него крупозное воспаление легких. Они вынимают из уха какого-нибудь комара и устраивают прободение барабанной перепонки.
– Что же мне делать, о господи! – закричала мадам Гронфайн, упала на колени, подняла руки к небу и зарыдала. – О господи, открой мне глаза, что же мне делать!
Люся бил ногами по полу и выл на разные голоса. Он заметно охрип.
– И вы не знаете, что делать? – гневно спросил Бабель. – Вы? Природная киевлянка? У вас же в Киеве живет мировое светило по уху, горлу и носу. Профессор Гринблат. Только ему можно довериться. Мой совет: везите ребенка в Киев. Немедленно!
Бабель посмотрел на часы.
– Поезд через три часа. Мери, перевяжи Люсе ухо. Потуже. Одевайте его. Я вас провожу на вокзал и посажу в поезд. Не волнуйтесь.
Теща с Люсей и Бабелем уехала стремительно. Тотчас же после их отъезда Евгения Борисовна начала без всякой причины хохотать и дохохоталась до слез. Тогда меня осенило, и я понял, что история с киевским светилом была чистой импровизацией. Бабель разыграл ее, как первоклассный актер.
С тех пор тишина и мир снизошли на 9-ю станцию Фонтана. Все мы снова почувствовали себя разумными существами. И снова вернулось потерянное ощущение крепко настоянного на жаре и запахе водорослей одесского лета. А через неделю пришло из Киева письмо от тещи. «Как вы думаете? – писала она возмущенно. – Что установил профессор Гринблат? Профессор Гринблат установил, что этот негодяй засунул себе в ухо кусок химического карандаша. И ничего больше. Ничего больше, ни единой соринки. Как это вам нравится?»
Каторжная работа
После происшествия с Люсей все ходили умиротворенные, в том настроении внутренней тишины, какое приносит выздоровление от тяжелой болезни. Изя называл это наше состояние «омовением души после трагедии».
Бабель начал много работать. Он теперь выходил из своей комнаты всегда молчаливый и немного грустный.
Я тоже писал, но мало. Мной овладело довольно странное и приятное состояние. Про себя я называл его «жаждой рассматривания». Такое состояние бывало у меня и раньше, но никогда так сильно оно не завладевало почти всем моим временем, как там, на Фонтане.
У Изи отпуск окончился. Он начал работать в «Моряке» и приезжал на дачу только к вечеру. Иногда он ночевал в Одессе. Я был, пожалуй, даже рад этому. Я бы, конечно, стеснялся заниматься при Изе постоянным и медленным разглядыванием того, что окружало меня, и тратить на какой-нибудь пустяк – колючую ветку или створку раковины – целые часы.
Никогда я еще не испытывал такого удовольствия от соприкосновения с мельчайшими частицами внешнего мира, как в то лето.
Чуть желтеющие от засухи июльские дни сливались в один протяжный успокоительный день. Я часто лежал у себя в саду в скользящей тени акации и рассматривал на земле все то, что попадалось на глаза на расстоянии вытянутой руки.
Но чаще я уходил на берег, подальше от жилья, переплывал на большую скалу метрах в сорока от пляжа и лежал на ней до сумерек. В скале была ниша. В ней можно было наполовину спрятаться от солнца, и до нее не доходила волна. С берега меня никто не мог заметить.
Я брал с собой книгу, но за весь день прочитывал только три-четыре страницы. Мне было некогда читать. Интереснее было ловить бычков или смотреть на старого краба.
Он часто выглядывал из-за выступа скалы и играл со мной в прятки. Как только мы встречались глазами, он тотчас же начинал сердито пятиться в шершавые красноватые водоросли, похожие на еловые ветки. Когда же я делал вид, что не замечаю его, он угрожающе подымал растопыренную клешню и осторожно подбирался ко мне, не спуская глаз с морковки, лежавшей рядом со мной. (Тогда мы питались преимущественно морковью и помидорами.)
Однажды, когда я зачитался, он успел схватить морковку, упал с ней в воду и исчез, как камень, на дне. Через минуту морковка вынырнула. Краб всплыл вслед за ней и снова пытался ее схватить, но я щелкнул его бамбуковым удилищем по панцирю, и он боком помчался в глубину. Мне даже показалось, что он вскрикнул от испуга. Во всяком случае, он с ужасом оглядывался на меня и вращал глазами.
Краб исчез, но волна принесла к скале сломанную ветку цветущего дрока. Я опустил руку в воду, чтобы взять эту ветку, и удивился: ладонь моя была под водой, но солнце заметно согревало ее, хотя между ладонью и поверхностью моря был слой воды в несколько сантиметров.
Мне трудно передать удивительное ощущение солнечного жара, смягченного морской водой, прикосновения солнечной радиации к моим пальцам, между которыми переливалась зеленоватая упругая вода.
Это было ощущение, очевидно, близкое к счастью. Я не ждал ничего лучшего. Вряд ли окружающий мир мог мне дать что-либо еще более прекрасное, чем это легкое и дружеское его рукопожатие.
Я вытащил ветку дрока, лег плашмя на нагретый камень и положил ветку у самых своих глаз.
На Фонтанах дрок цвел по обрывистым берегам. Но особенно богато он разрастался около дачных оград, сложенных из ноздреватого песчаника. Дрок дружил с этим камнем. Он, очевидно, любил жару. Горячие струйки воздуха вылетали из крошечных пор песчаника и создавали около оград уголки теплого, защищенного пространства.
Там дрок укреплялся и выбрасывал в вышину, как большой дикобраз, свои темно-оливковые стрелы-стволы.
Цветы дрока, рождаясь, тотчас же вбирали в себя, как кусочки нежнейшей мелкопористой губки, золотой цвет солнца.
Они хранили этот цвет, не ослабляя его яркости до поздней осени. Тогда его цветы наконец догорали над обрывами, подобно десяткам крошечных приморских маяков с золотым, далеко видным огнем.
Так постепенно я накапливал наблюдения. Все это были факты внешнего мира, но они быстро становились частицами моей собственной внутренней жизни.
Действительно, они ни на секунду не существовали вне моего сознания. Они тут же обрастали образами, густо покрывались каплями выдумки, как растение покрывается мельчайшей росой. За этой росой уже не видно самого растения, но все же ясно угадывается его форма.
Как-то мы разговорились об этом с Бабелем.
Мы сидели вечером на каменной ограде над обрывом. Цвел дрок. Бабель рассеянно бросал вниз камешки. Они неслись огромными скачками к морю и щелкали, как пули, по встречным камням.
– Вот вы и другие писатели, – сказал Бабель, хотя тогда я еще не был писателем, – умеете обволакивать жизнь, как вы выразились, росой воображения. Кстати, какая приторная фраза! Но что делать человеку, лишенному воображения? Например, мне.
Он замолчал. Снизу пришел сонный и медленный вздох моря.
– Бог знает, что вы говорите! – возмущаясь, сказал я.
Бабель как будто не расслышал моих слов. Он бросал камешки и долго молчал.
– У меня нет воображения, – упрямо повторил он. – Я говорю это совершенно серьезно. Я не умею выдумывать. Я должен знать все до последней прожилки, иначе я ничего не смогу написать. На моем щите вырезан девиз – «подлинность»! Поэтому я так медленно и мало пишу. Мне очень трудно. После каждого рассказа я старею на несколько лет. Какое там к черту моцартианство, веселье над рукописью и легкий бег воображения! Я где-то написал, что быстро старею от астмы, от непонятного недуга, заложенного в мое хилое тело еще в детстве. Все это – вранье! Когда я пишу самый маленький рассказ, то все равно работаю над ним, как землекоп, как грабарь, которому в одиночку нужно срыть до основания Казбек. Начиная работу, я всегда думаю, что она мне не по силам. Бывает даже, что я плачу от усталости. У меня от этой работы болят все кровеносные сосуды. Судорога дергает сердце, если не выходит какая-нибудь фраза. А как часто они не выходят, эти проклятые фразы!
– Но у вас же литая проза, – сказал я. – Как вы добиваетесь этого?
– Только стилем, – ответил Бабель и засмеялся, как старик, явно кого-то имитируя, очевидно Москвина. – Хе-хе-хе-с, молодой человек-с! Стилем-с берем, стилем-с! Я готов написать рассказ о стирке белья, и он, может быть, будет звучать как проза Юлия Цезаря. Все дело в языке и стиле. Это я как будто умею делать. Но вы понимаете, что это же не сущность искусства, а только добротный, пусть даже драгоценный строительный материал для него. «Подкиньте мне парочку идей, – как говорил один одесский журналист, – а я уж постараюсь сделать из них шедевр». Пойдемте, я покажу вам, как это у меня делается. Я скаред, я скупец, но вам, так и быть, покажу.
На даче было уже совсем темно. За садом рокотало, стихая к ночи, море. Прохладный воздух лился снаружи, вытесняя полынную степную духоту. Бабель зажег маленькую лампочку. Глаза его покраснели за стеклами очков (он вечно мучился глазами).
Он достал из стола толстую рукопись, написанную на машинке. В рукописи было не меньше чем сто страниц.
– Знаете, что это?
Я недоумевал. Неужели Бабель написал наконец большую повесть и уберег эту тайну от всех?
Я не мог в это поверить. Все мы знали почти телеграфную краткость его рассказов, сжатых до последнего предела. Мы знали, что рассказ больше чем в десять страниц он считал раздутым и водянистым.
Неужели в этой повести заключено около ста страниц густой бабелевской прозы? Не может этого быть!
Я посмотрел на первую страницу, увидел название «Любка Казак» и удивился еще больше.
– Позвольте, – сказал я, – я слышал, что «Любка Казак» – это маленький рассказ. Еще не напечатанный. Неужели вы сделали из этого рассказа повесть?
Бабель положил руку на рукопись и смотрел на меня смеющимися глазами. В уголках его глаз собрались тонкие морщинки.
– Да, – ответил он и покраснел от смущения. – Это «Любка Казак». Рассказ. В нем не больше пятнадцати страниц. Но здесь все варианты этого рассказа, включая и последний. А в общем, в рукописи сто страниц.
– Все варианты?! – пробормотал я.
– Слушайте! – сказал Бабель, уже сердясь. – Литература не липа! Вот именно! Несколько вариантов одного и того же рассказа. Какой ужас! Может быть, вы думаете, что это – излишество? А вот я еще не уверен, что последний вариант можно печатать. Кажется, его можно еще сжать. Такой отбор, дорогой мой, и вызывает самостоятельную силу языка и стиля. Языка и стиля! – повторил он. – Я беру пустяк: анекдот, базарный рассказ – и делаю из него вещь, от которой сам не могу оторваться. Она играет. Она круглая, как морской голыш. Она держится сцеплением отдельных частиц. И сила этого сцепления такова, что ее не разобьет даже молния. Его будут читать, этот рассказ. И будут помнить. Над ним будут смеяться вовсе не потому, что он веселый, а потому, что всегда хочется смеяться при человеческой удаче. Я осмеливаюсь говорить об удаче потому, что здесь, кроме нас, никого нет. Пока я жив, вы никому не разболтаете об этом нашем разговоре. Дайте мне слово. Не моя, конечно, заслуга, что неведомо как в меня, сына мелкого маклера, вселился демон или ангел искусства, называйте как хотите. И я подчиняюсь ему, как раб, как вьючный мул. Я продал ему свою душу и должен писать наилучшим образом. В этом мое счастье или мой крест. Кажется, все-таки крест. Но отберите его у меня – и вместе с ним изо всех моих жил, из моего сердца схлынет вся кровь, и я буду стоить не больше, чем изжеванный окурок. Эта работа делает меня человеком, а не одесским уличным философом.
Он помолчал и сказал с новым приступом горечи:
– У меня нет воображения. У меня только жажда обладать им. Помните, у Блока: «Я вижу берег очарованный и очарованную даль»{54}. Блок дошел до этого берега, а мне до него не дойти. Я вижу этот берег невыносимо далеко. У меня слишком трезвый ум. Ну спасибо хоть за то, что судьба вложила мне в сердце жажду этой очарованной дали. Я работаю из последних сил, делаю все, что могу, потому что хочу присутствовать на празднике богов и боюсь, чтобы меня не выгнали оттуда.
Слеза блестела за выпуклыми стеклами его очков. Он снял очки и вытер глаза рукавом заштопанного серенького пиджака.
– Я не выбирал себе национальности, – неожиданно сказал он прерывающимся голосом. – Я еврей, жид. Временами мне кажется, что я могу понять все. Но одного я никогда не пойму – причину той черной подлости, которую так скучно зовут антисемитизмом.
Он замолчал. Я тоже молчал и ждал, пока он успокоится и у него перестанут дрожать руки.
– Еще в детстве во время еврейского погрома я уцелел, но моему голубю оторвали голову. Зачем?.. Лишь бы не вошла Евгения Борисовна, – сказал он вполголоса. – Закройте тихонечко дверь на крючок. Она боится таких разговоров и может плакать потом до утра. Ей кажется, что я очень одинокий человек. А может быть, это и действительно так?
Что я мог ответить ему? Я молчал.
– Так вот, – сказал Бабель, близоруко наклонившись над рукописью. – Я работаю, как мул. Но я не жалуюсь. Я сам выбрал себе это каторжное дело. Я как галерник, прикованный на всю жизнь к веслу и полюбивший это весло. Со всеми его мелочами, даже с каждым тонким, как нитка, слоем древесины, отполированной его собственными ладонями. От многолетнего соприкосновения с человеческой кожей самое грубое дерево приобретает благородный цвет и делается похожим на слоновую кость. Вот так же и наши слова, так же и русский язык. К нему нужно приложить теплую ладонь, и он превращается в живую драгоценность.
Но давайте говорить по порядку. Когда я в первый раз записываю какой-нибудь рассказ, то рукопись у меня выглядит отвратительно, просто ужасно! Это – собрание нескольких более или менее удачных кусков, связанных между собой скучнейшими служебными связями, так называемыми «мостами», своего рода грязными веревками. Можете прочесть первый вариант «Любки Казак» и убедитесь в том, что это – беспомощное и беззубое вяканье, неумелое нагромождение слов.
Но тут-то и начинается работа. Здесь ее исток. Я проверяю фразу за фразой, и не единожды, а по нескольку раз. Прежде всего я выбрасываю из фразы все лишние слова. Нужен острый глаз, потому что язык ловко прячет свой мусор, повторения, синонимы, просто бессмыслицы и все время как будто старается нас перехитрить.
Когда эта работа окончена, я переписываю рукопись на машинке (так виднее текст). Потом я даю ей два-три дня полежать – если у меня хватит на это терпения – и снова проверяю фразу за фразой, слово за словом. И обязательно нахожу еще какое-то количество пропущенной лебеды и крапивы. Так, каждый раз наново переписывая текст, я работаю до тех пор, пока при самой зверской придирчивости не могу уже увидеть в рукописи ни одной крупинки грязи.
Но это еще не все. Погодите! Когда мусор выброшен, я проверяю свежесть и точность всех образов, сравнений, метафор. Если нет точного сравнения, то лучше не брать никакого. Пусть существительное живет само в своей простоте.
Сравнение должно быть точным, как логарифмическая линейка, и естественным, как запах укропа. Да, я забыл, что, прежде чем выбрасывать словесный мусор, я разбиваю текст на легкие фразы. Побольше точек! Это правило я вписал бы в правительственный закон для писателей. Каждая фраза – одна мысль, один образ, не больше. Поэтому не бойтесь точек. Я пишу, может быть, слишком короткой фразой. Отчасти потому, что у меня застарелая астма. Я не могу говорить длинно. У меня на это не хватает дыхания. Чем больше длинных фраз, тем тяжелее одышка.
Я стараюсь изгнать из рукописи причастия и деепричастия и оставляю только самые необходимые. Причастия делают речь угловатой, громоздкой и разрушают мелодию языка. Они скрежещут, как будто танки переваливают на своих гусеницах через каменный завал. Три причастия в одной фразе – это убиение языка. Все эти «преподносящий», «добывающий», «сосредоточивающийся» и так далее и тому подобное. Деепричастие все же легче, чем причастие. Иногда оно сообщает языку даже некоторую крылатость. Но злоупотребление им делает язык бескостным, мяукающим. Я считаю, что существительное требует только одного прилагательного, самого отобранного. Два прилагательных к одному существительному может позволить себе только гений.
Все абзацы и вся пунктуация должны быть сделаны правильно, но с точки зрения наибольшего воздействия текста на читателя, а не по мертвому катехизису. Особенно великолепен абзац. Он позволяет спокойно менять ритмы и часто, как вспышка молнии, открывает знакомое нам зрелище в совершенно неожиданном виде. Есть хорошие писатели, но они расставляют абзацы и знаки препинания кое-как. Поэтому, несмотря на высокое качество их прозы, на ней лежит муть спешки и небрежности. Такая проза бывала у самого Куприна{55}.
Линия в прозе должна быть проведена твердо и чисто, как на гравюре.
Вас запугали варианты «Любки Казак». Все эти варианты – прополка, вытягивание рассказа в одну нитку. И вот получается так, что между первым и последним вариантами такая же разница, как между засаленной оберточной бумагой и «Первой весной» Боттичелли.
– Действительно каторжная работа, – сказал я. – Двадцать раз подумаешь, прежде чем решишься стать писателем.
– А главное, – сказал Бабель, – заключается в том, чтобы во время этой каторжной работы не умертвить текст. Иначе вся работа пойдет насмарку, превратится черт знает во что! Тут нужно ходить как по канату. Да, так вот… – добавил он и помолчал. – Следовало бы со всех нас взять клятву. В том, что никто никогда не замарает свое дело.
Я ушел, но до утра не мог заснуть. Я лежал на террасе и смотрел, как какая-то сиреневая планета, пробив нежнейшим светом неизмеримое пространство неба, пыталась, то разгораясь, то угасая, приблизиться к земле. Но это ей так и не удалось.
Ночь была огромна и неизмерима своим мраком. Я знал, что в такую ночь глухо светились моря и где-то далеко за горизонтом отсвечивали вершины гор. Они остывали. Они напрасно отдали свое дневное тепло мировому пространству. Лучше бы они отдали его цветку вербены. Он закрыл в эту ночь свое лицо лепестками, как ладонями, чтобы спасти его от предрассветного холода.
Утром приехал из Одессы Изя Лившиц. Он приезжал всегда по вечерам, и этот ранний приезд меня удивил.
Не глядя мне в глаза, он сказал, что четыре дня назад, 7 августа, в Петрограде умер Александр Блок.
Изя отвернулся от меня и, поперхнувшись, попросил:
– Пойдите к Исааку Эммануиловичу и скажите ему об этом… я не могу.
Я чувствовал, как сердце колотится и рвется в груди и кровь отливает от головы. Но я все же пошел к Бабелю.
Там на террасе слышался спокойный звон чайных ложечек.
Я постоял у калитки, услышал, как Бабель чему-то засмеялся, и, прячась за оградой, чтобы меня не заметили с террасы, пошел обратно к себе на разрушенную дачу. Я тоже не мог сказать Бабелю о смерти Блока.
Близкий и далекий
Я видел, как ты сошел в тесное жилище, где нет даже снов. И все же я не могу поверить этому.
Делакруа
На побережье долго стояли молчаливые дни. Литое море тяжело лежало у порога красных сарматских глин. Берега пряно и пыльно пахли давно перезревшей и осыпавшейся лебедой. Изя Лившиц вспоминал стихи Блока:
В те дни мы без конца говорили о Блоке. Как-то к вечеру приехал из города Багрицкий. Он остался у нас ночевать и почти всю ночь читал Блока. Мы с Изей молча лежали на темной террасе. Ночной ветер потрескивал в ссохшихся листьях винограда.
Багрицкий сидел, поджав по-турецки ноги, на старом и плоском, как лепешка, тюфяке. У него начинался приступ астмы. Он задыхался и курил астматол. От этого зеленоватого порошка пахло горелым сеном.
Багрицкий дышал с таким напряжением, будто всасывал воздух через соломинку. Воздух свистел, гремел и клокотал в его больных бронхах.
Во время астмы Багрицкому нельзя было разговаривать. Но ему хотелось читать Блока, несмотря на стиснутое болезнью горло. И мы не отговаривали его.
Багрицкий долго успокаивал самого себя и бормотал: «Сейчас пройдет. Сейчас! Только не разговаривайте со мной». Потом он все же начал читать, и случилось нечто вроде желанного чуда: от ритма стихов одышка у Багрицкого начала постепенно утихать, и сквозь нее все яснее и крепче проступал его мужественный и романтический голос.
Читал он самые известные вещи, и мы были благодарны ему за это.
И стихи и этот голос Багрицкого почему-то казались мне непоправимо трагическими. Я с трудом сдерживал слезы.
Снова вернулась тишина, тьма, непонятное мерцание звезд, и опять из угла террасы послышался торжественный напев знакомых стихов:
Так прошла вся ночь напролет. Багрицкий читал, почти пел стихи о России, «Скифы», Равенну, что спит «у сонной вечности в руках». Только ближе к рассвету он уснул. Он спал сидя, прислонившись к стенке террасы, и тяжело стонал в невыразимо утомительном сне.
Лицо у него высохло, похудело, на беловато-лиловых губах как будто запеклась твердая корочка полынного сока, и весь он стал похож на большую всклокоченную птицу.
Через несколько лет в Москве я вспомнил эту белую корочку на губах Багрицкого. Я шел за его гробом. Позади цокал копытами по булыжнику кавалерийский эскадрон.
Больной, тяжело дышащий Самуил Яковлевич Маршак медленно шел рядом, доверчиво опираясь на мое тогда еще молодое плечо, и говорил:
– Вы понимаете? «Копытом и камнем… испытаны годы… бессмертной полынью… пропитаны воды, – и горечь полыни… на наших губах…»{59} Как это… великолепно!
Пыльное небо висело над скучной и душной Якиманкой. Во дворах кричали дети, играя в «палочку-выручалочку». Оркестр вполголоса заиграл траурный марш. Кавалерийские лошади, послушные звукам музыки, начали медленнее перебирать ногами.
А в то далекое утро в 1921 году Багрицкий уехал в Одессу первой же конкой, даже не напившись чаю и не заходя к Бабелю. Ему нездоровилось. Он тяжело кашлял, свистел бронхами и молчал. Очевидно, ночью он натрудил себе легкие.
Мы с Изей проводили Багрицкого до конки и зашли к Бабелю. Как всегда, во время несчастий нас тянуло на люди.
Бабель писал в своей комнате. Он тотчас отодвинул рукопись и положил на нее тяжелый серый голыш.
Изредка в комнату залетал вкрадчивый морской ветер, и тогда все вокруг, что могло легко двигаться: занавески на окнах, листки бумаги, цветы в стакане, – начинало биться, как маленькая птица, запутавшись в силке.
– Ну что ж, сироты, – с горечью сказал Бабель, – что же теперь мы будем делать? Второго Блока мы не дождемся, живи мы хоть двести лет.
– Вы видели его? – спросил я Бабеля.
Я ждал, что Бабель ответит «нет», и тогда мне станет легче. Я был лишен чувства зависти. Но всем, кто видел и слышал Блока, я завидовал тяжело и долго.
– Да, видел, – сказал Бабель. – И даже был у него на квартире на углу Пряжки и Офицерской улицы.
– Какой он?
– Совсем не такой, как вы себе представляете.
– Откуда вы знаете, что я о нем думаю?
– Потому, что я думал наверняка так же, как и вы. Пока его не увидел. Он вовсе не падший ангел. И не воплощение изысканных чувств и размышлений. Это седеющий, молчаливый, сильный, хотя и усталый, человек. Он очень воспитан и поэтому не угнетает собеседника своей угрюмостью и своими познаниями. Мы разговаривали с ним сначала в столовой и сидели друг против друга на гнутых венских стульях. Такие стулья нагоняют зевоту. Комната была унылая, совсем непохожая на жилище светлого рыцаря в снежной маске. А в кабинете его вовсе не пахло нильскими лилиями и опьяняющим черным шелком женских платьев. Пахло только книжной пылью. Обыкновенная квартира в обыкновеннейшем доме. Ну вот! У вас уже вытянулись лица. Вы уже недовольны и будете потом говорить, что я скептик, циник и у меня ничего не горит на сердце. И еще обвините меня в том, что я вижу только серую загрунтовку, которая лезет из-под великолепных красок. А самих красок я не замечаю. Все это у вас розовый гимназический бред! Красота духа, такая, как у Блока, обойдется и без золоченых рам. И без рыданий органа, и без всяческих благовоний. Блок был по натуре пророком. У него в глазах была даже пророческая твердость. Он видел роковую судьбу старого мира. Семена гибели уже прорастали. Ночь затягивалась, и казалось, что ей не будет конца. Поэтому даже неуютный, резкий свет нового революционного утра он приветствовал как избавление. Он принял революцию в свой поэтический мир и написал «Двенадцать». И он был, конечно, провидец. И в своих видениях, и в той потрясающей музыке, какую он слышал в русской речи.
Он умел переносить увиденное из одной плоскости жизни совсем в другую. Там оно приобретало для нас, полуслепых людей, неожиданные качества. Мы с вами видим цветы, скажем – розы, в разгар лета в скверах, в садах, но Блоку этого мало. Он хочет зажечь на земле новые, небывалые розы. И он делает это:
Вот вы жалеете, что не видели Блока. Это понятно. А я, если бы у меня было даже самое ничтожное воображение, то пытался бы представить себе с конкретностью, какая только возможна, все, что сказал Блок хотя бы в этих четырех строчках. Представить себе ясно, точно, и тогда мир обернулся бы одной из своих скрытых и замечательных сторон. И в этом мире жил бы и пел свои стихи удивительный человек, какие рождаются раз в столетие. Он берет нас, ничтожных и искалеченных «правильной» жизнью, за руку и выводит на песчаные дюны над северным морем, где – помните? – «закат из неба сотворил глубокий многоцветный кубок»{61} и «руки одна заря закинула к другой»{62}. Там такая чистота воздуха, что отдаленный красный бакен – грубое и примитивное сооружение – горит в сумерках, как «драгоценный камень фероньеры»{63}.
Я подивился хорошей памяти Бабеля: он всегда читал стихи на память и почти не ошибался.
– Вот, – сказал Бабель, подумав, – Блок знал дороги в область прекрасного. Он, конечно, гигант! Он один отзовется в сердце таким великолепным звоном, как тысячи арф. А между тем большинство людей придает какое-то значение тому, что в столовой у него стояли гнутые стулья и что во время мировой войны он был «земгусаром». Люди с охотой бегут на смрадный огонек предрассудков и невежественного осуждения.
Я впервые слышал от Бабеля такое сравнение, как «звон тысячи арф». Бабель был суров, даже застенчив в выборе разговорных слов. От всего цветистого в обыденном языке и блестящего, как золотая канитель, он досадливо морщился и краснел. Может быть, поэтому каждое слово из ряда так называемых приподнятых в его устах теряло искусственность и «било» наверняка. Но произносил он такие слова чрезвычайно редко, а сказав, тотчас спохватывался и начинал высмеивать самого себя. Этим своим свойством он иногда раздражал окружающих. В частности, Изя Лившиц не выносил этих подчас цинических нападений Бабеля на самого себя. И у меня тоже все столкновения с Бабелем – правда, довольно редкие – происходили из-за его глумления над собой и наигранного цинизма.
Но свой «звон тысячи арф» Бабель не высмеял. Я догадался из отрывистых его высказываний, что иногда он читал Блока наедине, по ночам, для самого себя. Тогда он сбрасывал маску.
Окончательно выдал Бабеля Багрицкий, любивший иногда с совершенно детским простодушием повторять чужие слова, если они ему нравились. Однажды, когда мы говорили о Блоке, Багрицкий откашлялся и не совсем уверенно произнес:
– Вы понимаете, мелодия только на арфах в унисон с глухим голосом поэта. Такой голос был у Блока. Я мог бы под звуки арф читать по-разному все его стихи. Честное слово! Я вытягивал бы, как тянут золотую нитку из спутанного разноцветного клубка, напев каждого стиха. Люди слушали бы и забывали, что есть время, жизнь и смерть, движение вселенной и бой собственных сердец. Какой-то чувствительный немецкий виршеплет, склонный к поэтическому насморку, написал-таки неплохие стишки. Я забыл, как его звали, этого многообещающего юношу. Стихи о том, что прекрасные звуки заключены внутри каждого человеческого слова. И звуки эти подчиняются только воле великих поэтов и музыкантов. Они одни умеют извлекать их из тугой сердцевины слова.
– Эдя, – сказал Изя Лившиц, – не повторяй и не искажай Бабеля. Я слышу дикую путаницу из его речей.
– Я так думаю сам, – скромно ответил Багрицкий.
– Да? – притворно удивился Изя. – С каких это пор ты стал такой красноречивый?
– Отстань! – рассердился Багрицкий. – Довольно с меня мальчиков с иронией и отроков, умных, как белые крысы. Дайте мне, наконец, дыхать, черт побери! Что вы все бегаете за мной и стараетесь доказать мне самому, что я не такой умный, как вам хочется!
Мне удалось потушить ссору, но Багрицкий еще долго ворчал на «интеллигентных выкрестов» и «вундеркиндов с Привоза».
Он был обижен тем, что Изя не понял всей прелести начатого разговора и влез в него, как скучный черт из сказки.
Багрицкий жестоко оскорблялся недостаточно уважительным отношением к поэзии. Из-за этого он иногда вступал даже в драки.
Вообще одесская литературная молодежь, кроме Бабеля и нескольких поэтесс, отличалась задиристостью. Иногда она пыталась решать литературные споры, даже такие отвлеченные, как спор о дольнике{64} или александрийском стихе{65}, тумаками, а то и хлесткими оплеухами.
Скандал с благородной целью
В городе появились афиши цвета жидкого помидорного сока. Они сообщали, что на днях на Пушкинской улице в каком-то пустующем зале состоится феерический вечер всех одесских поэтов.
Наискось через всю афишу большими буквами была оттиснута черная надпись:
«!В КОНЦЕ ВЕЧЕРА БУДУТ БИТЬ ПОЭТА ГЕОРГИЯ ШЕНГЕЛИ!»
Внизу в скобках кто-то чернилами приписал:
«Если он осмелится прийти».
Билеты на этот вечер стоили дорого. Их распродали в течение трех часов.
Изя предполагал, что надпись на афише об избиении была напечатана с ведома и согласия самого Шенгели.
Поэт Георгий Аркадьевич Шенгели был добрый человек, но с несколько экзотической внешностью. Я никак не мог понять ту легкую неприязнь, с какой относились к нему некоторые одесские поэты. На мои расспросы Багрицкий отвечал невразумительно. В конце концов я пришел к мысли, что вражда к Шенгели была просто литературной игрой. Она вносила добавочное оживление в поэтическую жизнь Одессы.
Шенгели, по-моему, охотно участвовал в этой игре и больше изображал из себя спокойного, как истый римлянин, противника, чем был им на самом деле.
Тонкое лицо Шенгели во время схваток с одесскими поэтами бледнело и казалось выточенным из мрамора. Изя говорил, что бюст Шенгели был бы украшением римского Форума{66}.
– Или, может быть, Пантеона{67}? – неуверенно спрашивал он меня, и в глазах его появлялась тревога.
Шенгели был высок, глаза его по-юношески сверкали. Он ходил по Одессе в тропическом пробковом шлеме и босиком. При этих внешних качествах Шенгели обладал эрудицией, писал изысканные стихи, переводил французских поэтов и был человеком, расположенным к людям и воспитанным.
Эти свойства Шенгели делали его чужаком для многих одесских поэтов – юношей нарочито развязных, гордившихся тем, что они не заражены никакими «штучками», в особенности такими смертными грехами, как чрезмерная интеллигентность и терпимость.
Я впервые увидел Шенгели в Москве в начале мировой войны на поэзо-концерте Игоря Северянина. Он читал свои стихи в перерывах между чтением самого Северянина. То были стихи о его родной щебенчатой Керчи, о древнейшей земле, где «в глине одичалой спят сарматы, скифы, гунны, венды, – и неоглядные легенды неувядаемо томят».
Мне всегда казалось, что я мог бы с таким же увлечением, как и писательством, заниматься некоторыми другими вещами: мореплаванием, археологией или вторичным географическим открытием давно открытых земель.
Археология была наукой о древности. Древность с детства была воплощена для меня в беге ветра над ковылем, в спекшихся от зноя, старых обезлюдевших землях, куда тот же ветер нет-нет да и донесет свежесть близкого взморья, в разбитом изразце, изготовленном худыми сизыми пальцами иранского гончара, наконец, в черной глиняной трубке в виде носа ахейского корабля, потерянной запорожцем вблизи соленых озер Перекопа. Всегда меня привлекал цвет древних земель – ржавый, рудой, суровый.
Такими я всегда представлял себе старые области земли. Когда я впервые увидел эти области, то был радостно поражен тем, что красок, свидетельствующих о баснословном возрасте Земли, было гораздо больше, чем я предполагал.
В этом я окончательно убедился, когда попал на архипелаг, в Грецию и Италию. Там ржавая земля издалека проступала сквозь индиговый воздух утренних далей или сквозь величавую и мутную медь вечеров. Древность облекалась во множество красок и оттенков, соединявших киноварь скал с оливковой листвой и темное золото заката с воздухом лилового ионического вечера.
Скупые и резкие краски древности больше соответствуют югу, чем северу. Там они заметнее. Там они чаще встречаются.
Где-нибудь в Риме вы заметите из окна отеля, как по свежим газонам сыплется искусственный дождь из вращающихся никелированных трубок, и тут же увидите стариннейшую землю совсем рядом, хотя бы на мощной арене Колизея.
Он кажется столь же старым, как небо над Римом, над близкими Апеннинами, над перегорелой в цементный прах Калабрией.
Калабрия дымится зноем, как исполинский пожар во время безветрия. Ее берега пахнут кремнем, из которого только что высекли искру. И если бы не густое, фиолетовое, свежее пространство морской воды, омывающей эту сухую страну, то вид ее вызывал бы у нас содрогание, как преддверие ада.
По существу, чувство древности ничем не отличается от чувства вечности, от чувства эпох, уже пронесшихся над землей, и чувств будущего. Как бы там ни было, но человек не перестанет размышлять и видеть в своем воображении развороты и прошлых и будущих времен. Чувство времени с особой остротой возникает почему-то на морских побережьях.
Я отвлекся от постепенности повествования, но сейчас, пожалуй, можно сделать отступление и сказать несколько слов о том, что являет собой ощущение моря и морских побережий.
Море можно увидеть с палубы океанского корабля и с низкой палубы рыбачьей шаланды.
С палубы шаланды вы не только увидите море вблизи, но можете даже услышать совсем рядом крепкий запах морской воды как раз в то время, когда шаланда будет проходить мимо подводных камней. Они на мгновение обнажатся от перекатившей через них воды и откроют косматую мокрую шкуру из густых водорослей.
И вот в это мгновение – от волны до волны – водоросли выдохнут резкий запах, и вы сможете набрать его полные легкие – до головокружения, до темноты в глазах.
С высоких палуб лайнеров запаха моря не слышно. Его заглушают запахи горячего машинного масла, табака и ароматической жидкости для уборных.
Подлинное ощущение моря существует там, где морские запахи окрепли на длительной и чистой жаре. К примеру, в Ялте этих запахов почти нет. Там прибой пахнет размякшими окурками и мандариновыми корками, а не раскаленными каменными молами, старыми канатами, чабрецом, ржавыми минами образца 1912 года, валяющимися на берегу, пристанскими настилами, поседевшими от соли, и розовыми рыбачьими сетями.
Так морем пахнет только в таких портах, как Керчь, Новороссийск, Феодосия, Мариуполь или Скадовск.
Есть курортные побережья, застроенные голубыми киосками для мороженого, заставленные гипсовыми статуями спортсменок и пионеров, переполненные тюбетейками, сандалетами, полосатыми пижамами и мохнатыми полотенцами. И есть берега, сожженные тысячелетним солнцем – отблеском огромных южных вод, горячими токами воздуха – чистейшего в мире.
От такого солнца и воздуха берега приобретают суровый цвет – охристый, пепельный и сизоватый, как окалина, – цвет незапамятных времен, цвет вечности. И на эти ржавые берега, на обнаженную, окаменелую глину равномерно набегают из столетия в столетие неисчислимые волны.
Запахов, шумов и красок настоящего моря великое множество. Если бы у меня было время и если бы мной не владела ложная боязнь нарушить равновесие прозы, то я охотно расширил бы это внезапное отступление до размеров книги.
Я должен признаться, что могу с таким же увлечением читать путеводитель по Греции, «Письма из Испании» Боткина{69} и дневники Миклухо-Маклая, как и пересыпать в ладонях морской песок, отдыхая при этом всем существом и чувствуя, как ветер время от времени ласково похлопывает меня своими прохладными, сырыми ладонями по щекам. Он как бы радуется, что на пустынном пляже – вплоть до туманно-синеватых мысов, как бы сосущих на горизонте, как медведи, морскую воду, – нет ни одного человека, кроме меня.
Пусть весь день на береговых обрывах шелестит твердая трава. Этот нежный шелест – необъятно старый – слышится на этих побережьях из века в век и приобщает нас к мудрости и простоте.
Мы с трудом прорвались с Изей и Яшей Лифшицем в зал на вечер поэтов. Там среди неистового шума, смеха и легкого свиста поэт Чечерин кричал грубым басом свои стихи.
Шум немного стих, когда на сцену вышел поэт Владимир Нарбут – сухорукий человек с умным, желчным лицом. Я увлекался его великолепными стихами, но еще ни разу не видел его.
Не обращая внимания на кипящую аудиторию, Нарбут начал читать свои стихи угрожающим, безжалостным голосом. Читал он с украинским акцентом.
Стихи его производили впечатление чего-то зловещего. Но неожиданно в эти угрюмые строчки вдруг врывалась щемящая и невообразимая нежность:
Нарбут читал, и в зале установилась глубокая тишина.
На эстраде, набитой до отказа молодыми людьми и девицами, краснела феска Валентина Катаева.
Эстрада подозрительно потрескивала, даже покачивалась и, очевидно, собиралась обрушиться.
– Неужели это всё поэты? – спросил Яша Лифшиц. У него была склонность задавать наивные вопросы. – Тут их хватит на целое государство среднего европейского размера.
Шенгели сидел около эстрады на кухонной табуретке и держал на коленях пробковый шлем. Так, должно быть, держали свои погнутые в боях медные каски, попав в сенат, запыленные и загорелые римские легионеры.
– Слава богу, – вздохнул с облегчением Изя, – он пришел. Скандал обеспечен.
После Нарбута Катаев хрипло и недовольно прочел свои стихи о слепых рыбах. Дело в том, что рыбаки с Санжейки и Большого Фонтана иногда вылавливали в море слепых дунайских рыб. Рыбы слепли, попав из пресной воды в соленую. Стихи понравились, но не вызвали оваций. Ждали скандала и, очевидно, берегли для него силы.
Кирсанов{71} – тогда еще безусый мальчик, очень задиристый и крикливый, – все время вскакивал и безо всякой связи с тем, что происходило на эстраде, что-то вызывающе кричал Шенгели. Но Шенгели сидел непоколебимо. Кирсанова это, очевидно, возмущало, и он снова вскакивал и кричал в сторону Шенгели что-то явно оскорбительное.
Позади Кирсанова сидел толстый юноша с заспанным лицом. Он каждый раз дергал Кирсанова сзади за куртку и силой заставлял его сесть. Куртка трещала. Кирсанов отругивался и садился, чтобы через минуту снова вскочить.
Вместе с Кирсановым шумело еще несколько мальчиков.
Скандал никак не разгорался. Бесплодное ожидание его вызвало у публики досаду. Она начала недовольно шуметь.
– Я не понимаю, зачем они так ненатурально кипятятся, эти поэты? – спросил Яша Лифшиц. – Что происходит? Выборы короля поэтов? Или раздача Нобелевских премий? Чего они хотят?
Изя, бывший в курсе поэтических схваток, ничего не ответил.
А потом на вечере возникли неожиданные события. Они вконец запутали публику.
Какая-то актриса, подвывая, начала читать стихи Мирры Лохвицкой. Надо признаться, что это было придумано неудачно. Чтение было встречено недовольным гулом. Но очень скоро гул этот перешел в гневный рев.
– К черту бисерные стишки!
– К дьяволу гибкий стан Мирры Лохвицкой!
– Прочтите лучше «Дышала ночь восторгом сладострастья»{72}!
Актриса – пегая блондинка с висевшими, как плети, голубоватыми руками – схватилась за край стола и театрально зарыдала.
Тогда вскочил Шенгели. Старинное рыцарство забушевало в нем. Толпа поэтов с их растрепанными подругами посмела оскорбить ни в чем не повинную женщину! Позор! Шенгели крикнул в зал несколько оскорбительных слов.
Тотчас вскочил Багрицкий. Я был уверен, что он обрушится на своего недруга Шенгели, но Багрицкий обернулся к публике и сделал бурное движение, будто хотел нанести всей этой толпе страшный нокаутирующий удар. Он сильно замахнулся правой рукой, дико вскрикнул, потерял сознание и рухнул на пол.
Зал бушевал в смятении. Трудно было сообразить, что произошло. Вызвали «скорую помощь». Нарбут, не дрогнув ни одним мускулом на лице, закрыл вечер.
У выхода завертелись людские водовороты около спорящих с пеной у рта и наскакивающих друг на друга юношей и девушек. Поощрительные выкрики и оскорбления носились как теннисные мячи, из конца в конец взъерошенного зала.
Санитары раздвинули толпу и провели к машине белого от боли Багрицкого. Он уже пришел в себя и сказал нам, криво улыбаясь:
– Я, кажется, сломал себе руку в плече. Или вывихнул… Эти сопляки не сумели даже устроить скандала.
Его увели. Мы с Яшей Лифшицем прорвались через толпу поэтов и их приверженцев и вышли на просторную Пушкинскую улицу.
– Что, собственно говоря, произошло? – снова спросил Яша. – Бедлам? Кабак? Или просто мальчишество? Да еще в такое трудное время! Глупо!
Он был возмущен. Мы увидели Изю и окликнули его. Вид у него был удрученный.
– Драка не вышла, – сказал он растерянно. – Не надо было им затевать эту галиматью и хвастаться, что они действительно будут бить Шенгели. Наше счастье, что публика не догадалась потребовать деньги обратно.
– В чем же дело, Изя? – спросил я его.
Тогда Изя рассказал по секрету, что вечер был устроен для помощи беспризорным. Этой помощью в то время ведала особая Детская комиссия при ВЦИКе. Ее уполномоченный договорился с одесскими поэтами об этом вечере. Было решено, чтобы обеспечить полный сбор, устроить какую-нибудь сенсацию. Долго ломали голову над тем, что бы такое придумать позабористей.
Кто-то из поэтов предложил разыграть литературный скандал с избиением Шенгели. Это показалось новым и оригинальным.
Шенгели охотно согласился стать героем скандала со столь благородной целью.
Скандала не получилось потому, что далеко не все поэты были посвящены в этот замысел. Но все равно билеты были раскуплены нарасхват, и уполномоченный Деткомиссии пребывал в полном восторге. Он даже мечтал повторить такой вечер.
На Гаванной улице был открыт игорный дом. Вся выручка от этого дома тоже шла на помощь беспризорным.
В доме играли в особого рода рулетку – игрушечные бега – «Пти шво».
Я как-то зашел туда вместе с Торелли. Табачный дым провисал как слоистое небо. Остатки светлого пива в мутных кружках настаивались на раскисших окурках. Бледные юноши в морских фуражках-капитанках играли зловеще и молча.
Крупье – старик с пробитым в скудных сединах английским пробором – говорил как заводной, не делая пауз, жестяным голосом:
– Игра сделана! Ставок больше нет! Гражданин, уберите вашу пятерню со стола. Она мне определенно мешает. Уберите! Пока не поздно. И не позволяйте себе нецензурных изречений. Вы в заведении, а не в бордели. Граждане играющие! Я прекращаю игру, пока этот урка не уберется отсюда. Воздействуйте на него словами! Или я вызову милицию. Всё! Кончено! Игры не будет! Забирайте ваши ставки обратно! Казино закрывается!
Тогда вставал какой-нибудь здоровенный парнюга в клетчатой «мальчиковой» кепочке и мохнатом кашне, с папироской во рту, подходил к уркану, молча хватал его за грудь, срывал со стула (при этом стул обязательно с грохотом падал), толкал к двери на вытянутой руке и вышвыривал на улицу. Над дверью каждый раз испуганно вскрикивал сохранившийся еще с дореволюционных лет колокольчик. Во время всей этой сцены было слышно только тяжелое двойное сопение – парнюги и уркана.
Парнюга возвращался к столу. Крупье говорил ему:
– Мерси боку, молодой человек! Ценю ваше мужество. Игра продолжается. Ставьте смелее. Чем дальше будете думать, тем вернее собьете с толку свою счастливую судьбу-индейку. Или копейку? Как это там у вас говорится?
А вышвырнутый стоял на тротуаре, хватал за руку входивших в казино и проникновенно говорил им:
– Наплюйте мне в очи, пусть я буду подлюгой, если я не кокну того Юрку с Арбузной гавани, а этому крапчатому крупье не разобью сопатку! Куда вы?! Я вас прошу, молодой человек, быть моим свидетелем. Ах, вам некогда? А я вас все-таки покорнейше прошу-у!
При этом он расстегивал пиджак и начинал угрожающе наваливаться на прохожего могучей хрипящей грудью.
– Дайте тогда хоть пять тысяч, – говорил он пьяным, доверительным шепотом. – Я сделаю из них миллион. Половина ваша. Не доводите человека до крайности.
Отвязаться от него было трудно. Все предпочитали от него откупиться.
Мы с Торелли тоже откупились от него. Оставшиеся у нас деньги мы проиграли с одного раза. При этом крупье, морщась от злого дыма цигарки, холодно сказал:
– Не вижу с вашей стороны риска. Макаронная работа, пижоны!
Мы ушли оскорбленные. Потом я несколько раз заходил в казино, но не играл. Я следил за крупье. Меня интересовало в нем органическое слияние наглой вежливости, презрения к людям и невероятной грубости. Я хотел узнать, кем был этот старик в прошлом. Торелли рассказал мне, что это бывший оперный бас. Однажды Торелли даже слышал его в роли Мефистофеля.
Замедленное время
В августе я получил отпуск в «Моряке» и решил провести его в Овидиополе.
Степной этот городок на берегу Днестровского лимана, погруженный в захолустную летаргию, считался местом ссылки и смерти великого римского поэта Овидия{73} Назона. За это городок и был назван Овидиополем.
На самом же деле Овидий умер гораздо южнее, около устья Дуная, в поселке римских каторжан. Перед смертью он жаловался на скифский холод и бурное и угрюмое Черное море.
Я не понимал, как Овидий мог считать Черное море угрюмым. Это было одно из самых ярких и веселых морей. И о каком скифском холоде можно говорить в тех местах, где снег выпадал не каждую зиму? А если и выпадал, то лежал всего несколько дней, потом таял, и оттаявшая земля слабо пахла весной.
В тот 1921 год осень стояла перегоревшая и высушенная до сердцевины. Идти пешком до Овидиополя было трудно – не столько от жары, сколько от косматой пыли. Она носилась шумящими смерчами по шляхам. От этой несмываемой пыли люди сразу же делались бурыми, как кафры.
Поэтому я не пошел к Днестровскому лиману, а решил идти вдоль морского берега по заброшенным Фонтанам до последней станции трамвая. Эта станция называлась «Дача Ковалевского». По своей привычке никогда не ездить вслепую я достал книгу «Старая Одесса» и прочел в ней все, что относилось к даче Ковалевского.
Делал я это из тех соображений, что даже небольшое предварительное знание тех мест, где мы собираемся жить, заставляет нас относиться к ним гораздо внимательнее, чем если бы ничего о них не знали.
В «Старой Одессе» я вычитал, что некогда одесский одинокий богач Ковалевский купил кусок сухой прибрежной степи, построил над морем дом и рядом с ним – высокую круглую башню, похожую на маяк. У башни этой не было никакого назначения. Ковалевский построил ее, как говорят дети, «просто так», из прихоти. Он несколько раз пил на верхней площадке этой башни чай, а потом наконец бросился с башни и разбился насмерть.
Дом быстро превратился в руины. Никто не хотел покупать громоздкое и мрачное сооружение, а башня сохранилась и упоминалась во всех лоциях-руководствах для плавания по Черному морю. Оказывается, эта башня была хорошим ориентиром при подходе к Одессе. Поэтому башню охраняли и не позволяли разбирать по камням.
Я знал, что рядом с башней Ковалевского было несколько пустующих дач, и решил поселиться на любой из них, какая мне больше понравится.
Я шел из Одессы до дачи Ковалевского медленно и долго. Вышел я с Черноморской, как только начало светать.
Хотя по пути ничего не случилось, но я запомнил дорогу от города до дачи Ковалевского так подробно, что потом в любой день и час мог бы проследить ее по памяти шаг за шагом.
Я полюбил эту дорогу и много раз после этого в разные годы добирался туда из Одессы пешком, хотя уже ходили трамваи и автобусы и даже носились, пыля, такси.
Вся прелесть этой дороги, вся ее власть надо мной объяснялась близостью моря. Нигде эта дорога не отходила от берегового обрыва настолько далеко, чтобы не было слышно шума волн и запаха водорослей.
Стоило мне нагнуться, поднять на дороге белый камень и сдуть с него пыль, чтобы, даже не глядя, сказать, что это горячий от полуденного зноя морской зернистый голыш, и почувствовать досаду оттого, что невозможно спасать жизнь этого куска камня, длившуюся много тысячелетий.
Все на этой дороге пахло морем и солнцем, даже пустые ларьки, где в какие-то баснословные времена торговали квасом. Краска на этих ларьках потрескалась, отваливалась плоскими ромбами и пахла солнечным жаром. Пустой цинковый прилавок позеленел от пыльцы лебеды и полыни. И вся дорога тоже была зеленоватой от этой пыльцы.
От оград, будто сложенных из каменной губки, тоже пахло морем. В камень оград вросло бесчисленное количество мелких морских ракушек. Они поблескивали изломом перламутра и царапали руки.
Иногда густую дорожную пыль пересекал след от рыбачьей сети. Ее протащили здесь на рассвете. Сеть пригладила пыль и оставила на ней клубки шершавых водорослей и уже успевших засохнуть фиринок, как бы вырезанных из свинцовой бумаги. Водоросли были мокрые и горячие внутри, пахли рассолом, и от них шел пар.
Ящерицы бегали по крышам, по оранжевой марсельской черепице. Мне представлялось, что изготовление этой черепицы (конечно, где-то на юге Франции, около Марселя или Тулона) – занятие неторопливое, связанное с древними ремесленными секретами и потому довольно романтическое. Я был уверен, что заводы марсельской черепицы обязательно строились вблизи морских берегов.
Мне хотелось изучить производство этой черепицы и написать об этом небольшую книгу. Не знаю, получили бы читатели от такой книги какие-либо полезные сведения, но, во всяком случае, я постарался бы заразить их поэзией этого производства.
Марсельская черепица нравилась мне еще и потому, что была связана с югом и морем. Как только за окнами поезда Москва – Одесса возникали в стекленеющей дали красные черепичные крыши, я знал, что море уже недалеко.
Кроме того, морской прибой всегда выбрасывал отполированные черепки марсельской черепицы. Я никогда не уставал любоваться ее сочным морковным цветом и тонкой зернистой фактурой.
Кое-где в садиках большефонтанских рыбаков висели пыльные кисти винограда. Продолговатые ягоды пахли мускатным орешком и просвечивали розовым соком. Я выменял одну такую кисть на три закрутки табака.
За Большим Фонтаном дорога отклонилась в степь. Дачи остановились позади, не решаясь выдвигаться в слепящий жар. По сторонам большака шелестели невесомые листья кукурузы. Початки были выломаны, собраны, и сколько я ни смотрел, я не увидел ни одного забытого початка.
Звенели подземные цикады, плыл зной, изредка начинали тихонько трещать все сухие стебли. Я радовался этому потрескиванию: оно означало, что с моря задувает хотя и слабый, но освежающий ветерок.
Вот небольшая часть того, что я видел и о чем я думал по пути к башне Ковалевского. И все время бок о бок со мной играло, как расплавленная ляпис-лазурь, великолепное море – бездна свежести и успокоительного шума.
Я дошел до башни Ковалевского, когда жара уже начала спадать. Я увидел над морским обрывом несколько дач, окруженных садами. Все окна и двери на этих дачах были выломаны. Сады заросли высокой высохшей травой.
Я выбрал себе дачу с дощатой вышкой. Наверх вела винтовая чугунная лестница. Она не была сломана.
Наверху каким-то чудом сохранилась дверь на балкон и ставня на единственном окне, самого окна уже не было. Главное, сохранился деревянный пол.
Вблизи стояло еще пять полуразрушенных дач. Там никто не жил, кроме ласточек и серых ящериц.
Я решил поселиться в комнате на вышке. Я чувствовал себя в ней как на маяке.
Редко я испытывал такую полную свободу и сознание, что я вправе жить так, как хочу, что я целиком предоставлен себе, что я одновременно и Робинзон и отшельник и мне подчинено все мое время и все будущие дни. И то, чем люди обыкновенно тяготятся – житейские заботы и мелкие хозяйственные поделки, – казалось мне занятием легким и даже приятным.
Мне приятно было наломать сухой полыни и чернобыла и сделать большой пышный веник, чтобы подмести дачу.
Еще засветло я спустился на берег и собрал там много сухих, свалявшихся в мягкий войлок водорослей. Я выбирал только старые водоросли, выветренные и потерявшие лекарственный запах. Это была прекрасная подстилка для спанья на полу.
Давно уже известно, что чем меньше у человека вещей, тем они милее, тем крепче каждая вещь связана с биографией и тем большее значение она приобретает при любых обстоятельствах.
Я разобрал свой рюкзак. С чувством благодарности я вытащил из него коптилку, пузырек с бензином, две пачки табака, сухари, сахарин, сушеный чай из моркови, грубую красную соль, крупу и еще кое-какие продукты. Со дна рюкзака я достал тельняшку, тетради, самодельные чернила из химического карандаша и несколько книг.
Все остальное надо было добывать на месте – в «степу» или в море.
Я взял с собой самоловы и большой запас посеребренных крючков. Одесские рыбаки считали, что морская рыба охотнее берет на белые крючки, чем на черные или бронзированные. По-моему, это был совершеннейший предрассудок, но благодаря ему я выменял в рыбачьем поселке на 16-й станции на посеребренные крючки бутылку мутного подсолнечного масла и с тех пор почувствовал себя настоящим крезом{74}.
Первую ночь я провел в томительном, но приятном состоянии неполного сна и неполного бодрствования. Я спал, но ясно слышал шум волн, стрекотание цикад, шорох осыпей и нежный скрип старого электрического провода. Он качался весь день на столбе около чугунной калитки.
Иногда все звуки внезапно исчезали, и только через несколько минут кто-то вдруг вздыхал в степи, как огромный зверь, укладываясь поуютнее спать.
Я закрывал глаза, а когда через мгновение открывал их, то синий полусвет уже заливал комнату до самого потолка. Его нельзя было отличить по цвету от неба. Небо виднелось за окном сплошной и мглистой бездной. В его синеве рождались полосы багровых туч. Должно быть, приближался рассвет. Но я не сразу сообразил это и продолжал дремать, просыпаясь через каждые десять минут и каждый раз удивляясь, что из мрака, как на фотографической пленке, все яснее и подробнее проявлялась моя комната.
Окончательное утро наступило, когда на перила балкона сел маленький «птичик» и сказал, присвистывая:
«Осы спят, осы спят, осы спят, ты не спи!»
«Не спи, не спи!» – повторил он настойчиво, и я увидел, как желтый хохолок на его голове загорелся, как пушистое пламя, от первого солнечного луча.
Солнце казалось чрезмерно огромным для того, чтобы, вставая над тысячами километров земных пространств, осветить в первую очередь только один-единственный хохолок птицы, похожий на маленький моток шерсти.
Я встал и пошел купаться к морю. Берег был крутой, в иных местах почти отвесный. Спускаться было просто опасно.
В то же утро я залез в люк под террасой и нашел там заржавленную лопату и еще несколько очень нужных вещей – молоток, кучу погнутых гвоздей, моток проволоки и большую жестяную банку с надписью «Монпансье Ландрин».
Я забрал все эти вещи. Они мне очень пригодились, «пришлись впору», и – такова человеческая забывчивость – через несколько дней я уже был уверен, что если бы не нашел этих вещей, то не смог бы прожить на даче и одного дня. Например, в чем бы я держал пресную воду из ключа, чуть сочившегося под кустом тамариска на обрыве, если бы не жестяная банка? Или чем бы я расплющивал свинец на грузила, если бы не нашел молотка?
Но самой дорогой находкой после жестяной банки от монпансье была, конечно, лопата.
Я не спеша работал три дня и прокопал в самой отвесной части береговой кручи ущелье-тропу со ступеньками – своего рода узкую земляную лестницу.
Эта земляная, «грабарская» работа мне нравилась. На срезах от лопаты глина блестела янтарным лаком. В этих же срезах были видны невероятно длинные и мощные корни какого-то растения, подымавшегося над землей всего только на пять сантиметров.
Все это было прекрасно. Но лучше всего было ошеломившее меня в первое же утро открытие, что весь этот сухой берег с его колючками, осыпями, золотым дроком, ветрами, зернистым пляжем, грудами водорослей, небом и облаками, все это жаркое и лиловое побережье не принадлежит никому или, вернее, принадлежит только мне одному.
Я не встретил за неделю ни души.
Если бы я захотел, я мог бы вырыть в обрыве замечательную пещеру. Или запрудить родник и устроить на берегу озерцо. Или сложить на пляже пирамиды из седых от соли обломков дерева, старых шлюпочных шпангоутов и деревянных поплавков от сетей. Или срезать ветки туи и разбросать их по полу в своей комнате, чтобы дышать смоляным запахом. Никто не мог запретить мне этого.
В конце концов я так и сделал. Жилище мое обросло случайными, но интересными вещами. На соседних брошенных дачах я нашел железный фонарь, песочные часы и китайский зонтик. Все это я забрал в свою комнату.
Дни шли медленно. Солнце никуда не торопилось.
Время как бы замирало, замедляя шаг. Ему, должно быть, хотелось совсем остановиться.
Но я знал, что на смену утру взойдет новый неизменный день – настолько неизменный, что все эти дни вот уже в течение недели представлялись мне одним сплошным и нескончаемым днем.
Я привык к жаркой непрерывности этого сплошного дня (ночи казались созданными только для передышки от жестокого дневного света), к его монотонному гудению, как будто в глубине земли звучала медная струна, к тому, что воздух, накаляясь, терял прозрачность и походил на твердеющее стекло, и, наконец, к тому, что синева неба была неравномерна. Она то сгущалась, то бледнела под нажимами ветра.
Говорят, что человеку время от времени полезно пожить в одиночестве.
На опыте своей жизни я знал, что есть много видов одиночества. Перечислять их я не буду, но знаю, что есть одиночество в толпе и одиночество лесное, есть одиночество, сопутствующее горю, и есть, наконец, морское одиночество, зачастую близкое к состоянию безмолвного душевного подъема.
Это тот безмолвный подъем, когда человек даже враждебен всякому разговору. Он предпочитает молчать. Да что скажешь на нашем плоском языке, когда твое перегретое за день темное тело вдруг захлестнет и охладит взбитая предвечерним прибоем и ветром морская нежнейшая пена. Она будет таять на тебе, покалывая кожу пузырьками душистого газа, и прикасаться к воспаленной коже свежо и осторожно, как ветер с тех островов, где до сих пор еще, может быть, спят в земле бронзовые девственные Дианы.
А может быть, что прикосновение больше напоминает влажные после купания девичьи косы.
В морском одиночестве, в этой встрече с глазу на глаз с рокочущим простором, всегда присутствует сознание если не бессмертия, то, во всяком случае, длительных лет, которые всегда дарит нам море.
Я проводил на берегу все дни до заката. Я часто засыпал в тени большой скалы. Я читал по строчкам книги и по целым часам мог смотреть на свитки летучих облаков. Очевидно, в состав счастья входит и состояние беззаботности, отсутствие самых ничтожных тревог.
Очевидно, это именно так, потому что я был счастлив тогда. Чистый, первобытный, ничем не оскверненный свет спускался на землю, и я совершенно забыл, что такой нечаянный и огромный душевный покой, по словам людей суеверных, никогда не остается безнаказанным.
И возмездие, конечно, пришло.
Однажды я лежал на берегу, глядя сквозь прищуренные ресницы на разноцветные огненные шары, – они вертелись передо мной в каком-то сиреневом пространстве. Я соображал, что это за пространство – воздух ли над морем или, может быть, это небо, изменившее по капризу фиолетово-черный цвет и пожелавшее немного поблистать серебряным свечением и легкой желтизной.
Пока я размышлял над этим, с высокого обрыва донесся слабый человеческий крик. Я обернулся и увидел на краю спокойной небесной синевы человека, махавшего кепкой. Человек этот держал за руку маленькое существо в красном выгоревшем сарафане. Существо тоже нерешительно махало мне тонкой, как соломинка, лапкой.
– Привет! – кричал человек с обрыва. – Рад видеть вас в добром здравии, Константин Георгиевич! Поднимитесь к нам на минутку!
У меня екнуло сердце. Так я и знал, что кто-нибудь застигнет меня в этом уединении и вдребезги разобьет редчайший сон, в котором я пребывал последние дни. Даже хорошее слово «привет» прозвучало фальшиво и пошло среди сурового зноя степей, шелеста сарматских трав и шума понтийских вод.
Я нехотя встал и полез на обрыв, стараясь догадаться, что это за человек с девочкой и что ему от меня нужно.
– Вы молодец! – кричал между тем незнакомец. – Отшельник! Схимник! Робинзон! Матрос Селькирк{75}! Симеон Столпник{76}! Жан-Жак Руссо!
Я лез на кручу, сдерживая закипавшую ярость, и молчал, чтобы не выругаться, а человек продолжал насмешничать надо мной на границе рыжей земли и густого великолепного неба. Он кричал:
– Одиссей! Миклухо-Маклай! Флибустьер! Ифигения в Тавриде! Великий немой{77}!
Я наконец поднял голову, чтобы одернуть этого фигляра, и узнал в нем Васю Регинина. Он держал за руку свою шестилетнюю дочку Киру и смеялся.
– А ловко я разыграл идиота на берегу этого моря, воспетого академиком Айвазовским{78}? – спросил он меня и протянул руку, чтобы помочь мне одолеть последнюю крутую ступеньку. (Это были те ступеньки, которые я сам недавно выкопал и очень ими гордился.) – Сознайтесь, что вы обозлились. Я просто чудом вас нашел. Торелли сказал, что вы должны жить где-то здесь, около башни Ковалевского.
Девочка исподлобья смотрела на меня темными, очень синими глазами и держалась за локоть отца.
– Пойдемте на мою виллу, – предложил я. – Ну, как в городе? Ничего не случилось?
– Да нет, особенного ничего, – ответил Регинин, и на глазах у него вдруг появились слезы. Они как-то внезапно наполнили его глаза. Несколько капель скатились по щекам и упали на измятую, застиранную рубаху.
– Перестань, папа, – строго сказала маленькая девочка. – Я здесь останусь. Я не боюсь.
Регинин, вытирая слезы дырявым носовым платком, рассказал, что жена его заболела сыпным тифом, лежит дома в бреду и он в полном отчаянии и смятении привел девочку ко мне, так как в городе ее некуда устроить. Держать ее в одной комнатушке с матерью нельзя. Друзей у него в Одессе нету, и вот… Голос его осекся. Губы у девочки вдруг опустились, задрожали, и она снова сказала:
– Хорошо, я останусь здесь с дядей…
– Костей, – подсказал Регинин. – Оставайся. Как только мама выздоровеет, я приду за тобой. Вы ведь здесь еще долго пробудете? – спросил он меня.
Я смешался.
– Да, – ответил я. – Сколько нужно, конечно.
– Ну, оставайся, мое доброе маленькое сердце. – Регинин наклонился и прижался губами к голове девочки. – Люби дядю Костю. И слушайся его. Он наш большой друг.
Он протянул мне руку и, не глядя на меня, пробормотал:
– Ну, я пойду. А то Мария Ивановна лежит одна. У нее бред.
Он повернулся и ушел, а я, растерянный, остался рядом с девочкой в пустой жаркой степи. Я даже не заметил, что Регинин ничего не принес с собой для девочки, никакого, даже самого маленького, узелка с вещами. Она пришла в том, в чем была. Я смотрел вслед Регинину, как вдруг почувствовал, что горячая и потная маленькая рука взяла меня за палец, и девочка сказала:
– Давайте будем здесь жить, как в игре.
Трудно было понять, что она хотела сказать этими словами, но с тех пор жизнь в степи действительно пошла как в игре, – то как явь, то как сон.
С тех пор страх за жизнь этого хрупкого, как стрекоза, существа держал меня за горло и за сердце и не отпускал, пока наконец Регинин не прислал за нами Торелли. Но это случилось, насколько я помню, не раньше чем через три недели.
Так я и жил в состоянии страха, отчаяния, жалости и умиления. Все эти чувства слились в одно, не имевшее имени. Оно то ослабевало, то захлестывало болью даже от такого пустяка, как вытаскивание занозы из худенького и дрожащего пальца.
Но, в конце концов, у меня на руках была маленькая, доверчивая жизнь, и я взял себя в руки. Тем более что у меня осталось очень мало продуктов, совсем не было мыла и, кроме моей потрепанной кожаной куртки, ничего не нашлось, чем бы укрыть девочку. А ночи уже холодели, и запах осени все чаще проникал на рассветах в комнату.
До сих пор не понимаю, почему я в те дни не поседел от отчаяния. Я боялся всего: палящего солнца (мне все время чудились солнечные и тепловые удары у девочки), обрыва над морем (ей ничего не стоило сорваться с него и разбиться насмерть, и потому я благословлял ступеньки, выкопанные мной в твердой глине), холодных ночей (девочка наверняка должна была простудиться), штормов с их ветрами, голода (я подсчитал, что продуктов нам хватит всего на семь дней).
Все книги, все созерцания и счастливые мысли вылетели у меня из головы. Их как будто и не было. И должно быть, от чрезмерного страха я даже не замечал в первые дни, что девочка все время мне помогает – собирает щепки и сухой бурьян для очага, подметает дачу и сад полынным веником и приносит в жестянке от консервов воду из родника. Правда, она несла ее почти час, чтобы не расплескать ни капли.
Она редко меня о чем-нибудь спрашивала и предпочитала догадываться обо всем сама без моей помощи.
Она почти не плакала. Но однажды, когда с обрыва сорвался камень и поранил ей ногу, она рыдала так отчаянно, как может рыдать брошенный ночью на пустыре ребенок. Она вся дрожала и цеплялась за мою шею, когда я перевязывал ей чистой тряпочкой горячую окровавленную ногу.
Я, конечно, понимал, что плачет она не оттого, что камень ушиб и поранил ее, а от непомерного горя, что накопилось в ее жизни за последние дни.
Самое ужасное заключалось в том, что нельзя было зарыться мокрым от слез, горячим лицом на маминой груди и, всхлипывая и несвязно жалуясь, понять, что во всем мире есть только один человек, который может отдать ей всю свою ласку, любовь и защиту. И этот человек – мама.
Но мама лежала в тяжелой горячке в Одессе. Мама, может быть, даже умерла. Об этом нельзя было подумать, чтобы не умереть самой. И обе они – и мама и она – жалели теперь о каждом часе, когда разлучались в прошлом. Потому что им оставалось на час меньше любви друг к другу и на час ближе подходила та черная ненужная пропасть, какую люди зовут смертью.
Я был уверен, что именно такое состояние было у девочки, и не знал, что сделать, чтобы заставить ее хотя бы изредка засмеяться. Пока она только чуть-чуть улыбалась, но я был уверен, что и это она делала, только чтобы меня успокоить.
Тот, у кого нет детей, никогда не поймет, как близко от нас, где-то совсем рядом, лежит бессмысленный мир трагических случайностей. И вряд ли поймет, что такое всепоглощающая любовь.
Надо было жить, конечно. Жизнь наша была суровой. Но я так был поглощен заботами, что не замечал этого.
А забот появилось столько, что я, пожалуй, не смогу их все перечислить.
Во-первых, умывание. Купались мы в море, но после этой необъятной чаши воды, брызжущей в лицо едкой солью, надо было обмыться пресной и ледяной водой из родника.
Мыла не было. Приходилось оттирать лицо и руки мелким песком. Но через несколько дней я заметил в обрыве у самого пляжа вкрапленную в известняк полоску синеватого окаменелого ила.
Я с детства помнил бруски мыла «Кил». Оно прекрасно мылилось в морской воде и делалось из какой-то синей крымской глины. Я даже помню этикетку севастопольского мыловаренного завода Харченко с рисунком якоря и портретом пышноусого дяди – владельца завода, который осчастливил человечество изготовлением мыла «Кил».
Я отковырял несколько кусочков синей глины и попробовал потереть ею мокрые руки. Руки покрылись слизью. Я смыл слизь и увидел под ней совершенно чистую кожу.
– Это кил! – крикнул я Кире.
– Кил, кил, кил! – впервые закричала она, прыгая около меня на здоровой ноге.
Кира собирала кил, размачивала его, месила, как тесто, лепила из этого теста маленькие бруски и сушила их на солнце. Наконец-то я выстирал с величайшими предосторожностями свою рубаху и единственный Кирин красный сарафан. Тут же мы высушили все это на песке.
Правда, половина ниток в сарафане приобрела после стирки чистый серый цвет и кое-где появились дыры, но зато от сарафана долго пахло морем.
Я обнаглел до того, что пошел с Кирой на 16-ю станцию Фонтана и захватил с собой несколько брусков самодельного мыла. Я надеялся обменять его на продукты.
Молодая рыбачка с пышным именем Кларисса – ей первой я предложил свой чудодейственный кил – долго, посмеиваясь, с ужасным укором смотрела на меня и говорила:
– Ой, не смешите меня! Ой, не дурите меня, молодой человек! Здравствуйте пожалуйста, я ваша тетя! Так то же обыкновенный кил. Его тут – как морской воды. А вот дочка ваша, правда, красивенькая, как абрикос.
Я объяснил Клариссе, кто такая Кира.
– Постойте тут! – приказала Кларисса, вытерла потные губы короткой рваной юбкой и ушла на огород. Она принесла оттуда в кошелке помидоры, баклажаны, морковь, перец и две большие кисти винограда.
– Ну, годи! – сказала она по-украински. – Давайте, так и быть, ваш кил и забирайте все это себе вместе с кошелкой.
Я начал ее благодарить.
– Здравствуйте пожалуйста, я ваша тетя! – сказала она удивленно. – Что это вы? Сказились? Сегодня я уеду до своего батьки. Он рыбалит на Санжейской косе. А когда ворочусь недельки через две, вы приходите до меня. Непременно. Будем с вами знакомы. Я же знаю, вы живете около башни Ковалевского.
Она протянула мне шершавую маленькую руку. Мне почему-то захотелось подольше задержать эту руку в своей. Она, смеясь, вырвала руку и сказала:
– Не годится так со мной жартувать! А то я возьму да и поверю. Ступайте, только разок оглянитесь. Из вежливости.
Я ушел. Один раз я оглянулся, увидел смеющиеся глаза и зубы Клариссы и решил больше сюда не приходить.
Прошло всего несколько дней, и жизнь как-то сама по себе улеглась, устоялась. Я снова мог читать и начал рассказывать Кире на пляже все, что приходило мне в голову.
Нельзя сказать, что это были сказки. Нет, то были совершенно реальные и ни в какой мере не оторванные от действительности рассказы по любому случаю. Если нужны примеры, то беру первый попавшийся.
Кира находила в песке осколки бутылочного стекла, обкатанные морем. Она принимала их за драгоценные камни. Она никак не хотела поверить, что это простое стекло, которым на окраинах Одессы завалены все пустыри.
В какой-то мере она была права. Если бы стекла было на земле так же мало, как алмазов, и, наоборот, если бы алмазов было так же много, как стекла, то, конечно, стекло бы ценилось на вес золота.
Однажды Кира спросила меня, где люди выкапывают стекло, и мне пришлось рассказать ей, что стекло не выкапывают, а делают из песка. Я начал рассказывать ей об этом и через полчаса с ужасом поймал себя на том, что рассказываю совершенно не то.
Я рассказал ей, как внутрь стеклянного шара запаяли единственное семечко редчайшего черного тюльпана и привезли его на корабле в страну Голландию, и как из-за этого семечка началась кровавая война между цветоводами, и как она окончилась только потому, что двухлетний мальчик незаметно ушел от заболтавшейся няньки и сорвал выращенный из этого семечка черный тюльпан в то время, когда часовой, охранявший цветок, спрятался за полосатую будку, чтобы закурить на ветру трубку. Через много лет голландские женщины поставили этому мальчику памятник за избавление от братоубийственной войны. Потому что как только мальчик уничтожил единственный цветок, причина для войны исчезла. На этом памятнике мальчик был изображен разрывающим на части в непонятном детском азарте царственный черный тюльпан.
Я не заметил той черты, где рассказ о стекле вдруг превратился в вымысел. Отрезвление у меня пришло после первого же делового замечания Киры.
– Тюльпан растет не из семян, а из луковицы, я знаю, – сказала она. – У нас дома был тюльпан. Если его сорвать, то через год вырастет другой. А они были дурные, голландцы, и не знали об этом. Зря затеяли эту войну.
Она помолчала, вздохнула и добавила:
– А еще цветоводы!
Я покраснел. Никогда еще я так глупо не попадался со своими выдумками, даже в детстве. Кира смотрела на меня смеющимися, прищуренными глазами.
Действительно, война между цветоводами не могла начаться из-за семян тюльпана. В крайнем случае, она могла вспыхнуть из-за луковицы.
С тех пор я твердо усвоил себе неписаный закон сказок и выдумок. Закон этот говорит, что в каждой, даже самой волшебной сказке должна заключаться реальная основа.
Через каждые два-три дня мы ходили с Кирой за пять километров на Сухой лиман. Я сажал Киру в ничтожной тени от сухих кустов акаций на берегу, сам же переходил на плоские прибрежные камни и удил оттуда бычков. Эта ловля не имела ничего общего с развлечением, – бычки были нашей единственной рыбной пищей.
В Сухом лимане они плавали тучами. Мне надо было наловить каждый раз не меньше сорока бычков – так у меня было заранее рассчитано.
Я ловил, а Кира, безропотно сидя в тени, пыталась считать пойманных бычков. Считать дальше десяти она не умела и потому после каждого десятка клала рядом с собой пустую ракушку. Когда набиралось четыре ракушки, она мне кричала об этом, а дальше счет вел уже я сам.
Кире, очевидно, нравилось это занятие. Но безропотно она сидела еще и потому, чтобы не выдвигаться из крошечной тени на все еще палящее августовское солнце.
Потом мы сообразили, что гораздо легче и приятнее ходить на лиман перед вечером. Особенно хорошо было возвращаться по бесконечным закатным пляжам, по самой кромке прибоя, где песок на минуту твердел после каждого наката волны. Хорошо было идти в бесконечную вечереющую мглу. Над ней в вышине горело розово-золотым лепестком одинокое облако.
У меня было немного муки. Я пек из нее пресные лепешки. Мука кончалась, и леденящий ужас уже закрадывался ко мне в сердце.
Я пошел на 16-ю станцию к Клариссе, но она еще не вернулась от отца. Ее сосед, пожилой рыбак, только засмеялся в ответ, когда я спросил, нет ли у него продажной муки.
Я собирался уйти, но он остановил меня.
– А ну, постойте, – сказал он, взял меня за рукав рубашки и пощупал материю. – Что это на вас за рубашка? Не иначе английская?
На мне действительно была надета английская солдатская рубаха табачного цвета. Я ее выменял на базаре на пайковый чай.
– А что? – спросил я.
– Так вот, слухайте, – таинственно сказал рыбак. – Идите в степ по шляху на Кляйн-Лебенталь. Там будет у самого шляха расти дикая груша, а за ней вправо – балочка. Вы сойдите в ту балочку и там увидите стежку. Идите той стежкой и достигнете до паровой мельницы, до млына. Вся та мельница не больше, як моя хата. Вам за эту рубаху отсыплют на той мельнице пять фунтов муки.
– Что-то много, – ответил я, сомневаясь.
– Там мельник особенный, – так же таинственно сказал рыбак. – Идите. Сами побачите. А вы, часом, не слышали ничего нового за политику? Живем сейчас, как кроты, – газету ухватишь раз в месяц.
В тот же день мы с Кирой пошли на мельницу.
Киру, конечно, не надо было бы брать с собой, но я побоялся оставить ее одну. И потому мы пошли вместе.
Пыль завивалась над шляхом. Пришлось идти по шляху, по этой пыли, чтобы не пропустить дикую грушу на повороте в балку. Раскаленная глиняная пудра жгла ноги даже сквозь подметки.
Кира шла медленно, потом начала хромать. Я взял ее на руки. Она обхватила черными, как у маленькой цыганки, руками мою шею и тяжело дышала.
Я с тоской смотрел по сторонам. Нигде до самого горизонта не было ни единого клочка тени, если не считать короткой и узенькой тени от телеграфных столбов с порванными проводами. Мы несколько раз немного отдыхали в этой тени. Вокруг пылало белое пламя засухи.
Кира ни разу не пожаловалась. Она молчала, положив подбородок ко мне на плечо, и устало смотрела на степь. Там шли, сгибаясь под ярмом, сивые волы. Языки их были высунуты до самой земли. Они тяжело хрипели и часто останавливались. Возница с отчаянием и со слезой в голосе кричал им «цоб-цобе» и бил их по пыльным бокам корявой палкой. На потной воловьей коже палка оставляла следы, похожие на ассирийскую клинопись.
Под грушей мы отдыхали долго. Ее листья трещали на ветру, как жесткие надкрылья жуков.
По сухой известковой балке мы наконец дошли до мельницы, вошли во двор, обнесенный высокой стеной из «дикаря», сразу же сели в тени этой стены и так просидели, может быть, час, а может быть, и два в каком-то оцепенении.
Двор был пуст. Никто к нам не вышел. Над черепичной крышей мельницы дымила жестяная труба, и где-то осторожно шипел пар.
Потом во дворе появился удивительный мельник. То был старик, весь в муке, со старомодной чеховской бородкой и в пенсне. Стекла его были захватаны белыми от муки пальцами.
Старик подошел к нам, снял пенсне и долго разглядывал меня и Киру.
Потом, ничего не спросив, ушел и вынес нам кувшин холодной воды. Мы пили, закрыв глаза, чувствуя, как свежесть разливается до самых кончиков ногтей.
Старик дожидался, пока мы опростаем кувшин, равнодушно смотрел на нас и молчал.
– Вы мельник? – спросил я его, окончив пить.
– Нет, – ответил старик. – Я винодел.
– Почему вы ничего меня не спрашиваете? – сказал я и подумал, что передо мной, должно быть, душевнобольной человек.
– Потому что я знаю, чего вы хотите, – ответил старик, и в глубине его глаз вдруг засветилась медленная лукавая улыбка.
– Как же это сделать? – спросил я и показал на свою английскую рубашку. – Больше у меня ничего нет.
– А в чем же вы пойдете обратно? На солнце больше пятидесяти градусов.
– Я посижу здесь до вечера. Дома у меня есть еще одна рубаха, но только рваная.
– Почему же вы ее не надели?
– Не знаю, – безразлично ответил я. – Я устал. Четыре дня не ел хлеба.
– А девочка?
– У девочки до вчерашнего вечера были сухари.
– Сидите здесь! – сказал старик и снова ушел.
Его долго не было. Зной, очевидно, достиг предела. Я судил об этом по глухому звону, стлавшемуся над степью. Как будто зудели миллионы жуков, попавших в мед.
Вместо старика вышла старая женщина – тоже вся в муке – и принесла нам шесть помидоров, соль в тряпочке и два куска свежего хлеба. Мы съели все это до последней крошки за несколько минут и уснули.
Я проснулся, когда тени от солнца, длинные, как изнуренные руки, лежали на сизой земле. Солнце гасло в пыли. Из балки потянуло слабой прохладой и даже как будто запахло водой.
Около меня стояла старая женщина.
– Вставайте, – сказала она. – И разбудите девочку. На закате спать вредно. Можете схватить лихорадку. Это вам от Казимира Петровича.
Она опустила на землю рядом со мной тяжелый мешочек муки. Я вскочил.
– Спасибо! – сказал я, расстегнул свою рубаху и начал торопливо стаскивать ее через голову.
– Не надо, – сказала женщина. – Мы не обедняем. Потом отдадите. Что это вы? Бог с вами!
Я, сам не ожидая этого, обнял старую женщину и поцеловал ей руку. Я хотел поблагодарить старика, но женщина сказала, что он куда-то ушел. Куда он мог уйти в этой степи, плоской, как исполинское блюдо!
Кира долго молчала, никак не могла окончательно проснуться. На шляхе мы встретили мажару. Она везла на мельницу два мешка с пшеницей. Очевидно, из-за жары мельница работала ночью.
Потом Кира почувствовала под сожженными пятками нежащую остывающую пыль на шляхе и засмеялась.
– А воробьи, – сказала она, – купаются в пыли. Я сама видела. Я бы тоже выкупалась, но только вы не позволите.
Она, конечно, хитрила, и это было видно по ее прищуренным глазам.
Жаркие дни медленно сменялись, но ни Регинин, ни Торелли не приходили за мной и за девочкой. Я начал уже всерьез беспокоиться, не случилось ли чего-нибудь с матерью Киры. Кира тоже заскучала и начала просить меня, чтобы я отвел ее домой, в Одессу. Я же всячески заминал разговор о возвращении и прикидывался беспечным и веселым.
Наконец я сдался и совсем уже выбрал время, чтобы возвращаться в город, но случилось довольно глупое обстоятельство. Оно разрушило мои планы.
Дело в том, что, несмотря на кражу дров в Аркадии с Яшей Лифшицем, я вовсе не вор, никогда им не был и вряд ли им буду.
Но на 16-й станции мне пришлось еще раз своровать, на этот раз не дрова, а самые обыкновенные помидоры.
У меня не осталось ничего, что бы поменять на продукты.
Про свою старую рубаху я старику мельнику соврал. Почему – сам не знаю. Слабую надежду на то, что Кларисса еще раз сжалится над девочкой и даст немного овощей, пришлось отбросить. Во-первых, Кларисса до сих пор не вернулась от своего батьки, а во-вторых, я понимал, что при возможных женских надеждах Клариссы на меня одалживаться у нее нельзя.
Воровать помидоры я пошел ночью и, понятно, ничего не сказал об этом Кире. И получилась чепуха. По своей близорукости я споткнулся в темноте, старый сторож по прозвищу Будка-Халабудка вскрикнул, выстрелил и всадил мне в спину пониже лопаток заряд куяльницкой грязной соли.
Старый сторож был так удручен своим метким выстрелом, что решил загладить вину и подарил мне корзину отборных помидоров. Выходило, что я пострадал совершенно зря.
Соль, разлетаясь веером, задела меня очень слабо. Но все равно боль была адская. Битых два часа я примачивал ранки пресной водой из родника, закидывая себе за спину мокрую тряпку. Я не перевязал ранки: не было ни кусочка бинта, – а только сидел два дня в тени без рубахи, пока ранки не затянулись. Кире я сказал, что сорвался с обрыва и исцарапал спину.
Через несколько дней после этого происшествия на 16-ю станцию пришли Торелли и Изя Лившиц.
Торелли пришел за Кирой. Жена Регинина уже поправилась и только капризничала и плакала от голода и оттого, что ей сбрили темные матовые косы. А Изя Лившиц пришел сообщить мне, что пора возвращаться в «Моряк».
Я вернулся в Одессу с тем же чувством тоски, с каким возвращался в гимназию после вольного и короткого лета. Я рвался обратно, на 16-ю станцию, на свое побережье, и если бы не было стыдно, то я наверняка бы втихомолку всплакнул.
Так окончилась эта маленькая история. Но, пожалуй, полный конец наступил много позже, в 1947 году, на книжном базаре в Доме писателей в Москве.
Регинин подвел ко мне высокую женщину, очень сдержанную и спокойную, и сказал:
– Вот! Пожалуйста! Это та самая Кира, из-за которой вам влепили в зад добрый заряд соли.
Кира покраснела и протянула мне руку.
– Вы помните, как мы жили на Фонтанах? – спросил я.
– Да, – неуверенно ответила она. – То есть, если говорить по правде, то помню едва-едва. А ваше лицо я совсем забыла.
Мне стало почему-то немного грустно, и я, чтобы не молчать, спросил:
– А что вы делаете теперь?
– Я окончила институт и состою в аспирантуре. Я замужем. Погодите, я познакомлю вас со своим мужем.
Она отошла от меня. Я подождал несколько минут, но она не возвращалась. Тогда я тихо ушел из Дома писателей и потом не мог самому себе объяснить, почему я исчез, стараясь быть незамеченным.
«Прощай, моя Одесса, славный карантин!»
Я стремился обратно на Фонтаны потому, что наступала уже осень. Вторая осень в моей одесской жизни.
Я был тогда уверен (да, пожалуй, и сейчас готов согласиться с этим), что из всех осенних времен, пережитых мною, одесская осень была одной из самых лучезарных. И не только в степи и на дачах, на Фонтанах с их опустелыми садами, но и в самом городе.
Точное описание одесской осени я нашел в стихах (теперь я не помню, где читал их):
По утрам запах вянущих левкоев стоял на улицах, еще погруженных в тень. Но ни в садах, ни в палисадниках я не видел левкоев. Очевидно, это пахли не левкои, а просто утренние тени, или только что политые мостовые, или, наконец, слабый ветер. Он задувал с открытого моря. Он прилетал со стороны Большефонтанского маяка, пробегал, крадучись, через степные бахчи, наполнялся сладковатым ароматом вянущей ботвы, потом с трудом просачивался через пышные заросли Французского бульвара и пробирался вдоль пригородных берегов, где на крышах рыбачьих лачуг сушились дынные корки и дозревали помидоры.
Все это сообщало ветру тот запах, о каком я здесь упоминаю, – освежающий и чистый. Воздух был действительно тонок и опасен. Но не потому, что от этого воздуха легко было простудиться, а потому, что, вдохнув его, уже нельзя было избавиться от желания, чтобы такая осень стояла, не иссякая, над Одессой с ее мягким уличным говором и смехом.
В южных городах люди не стесняются улицы, как это бывает на севере. Поэтому на юге улицы простодушнее и лиричнее. Там они легко делаются ареной для проявления человеческой доброты, шутливости и любопытства.
Я назвал одесскую осень лучезарной. Я слышал это слово еще в юности («лучезарные вечера» Тютчева), но долго не знал его точного смысла.
Только в пожилом возрасте я узнал, что это слово обозначает спокойный, бестрепетный, все озаряющий свет солнечных лучей и чаще всего применяется к свету вечернему или осеннему.
Одесская осень была лучезарна в полном значении этого слова. Тихий розовеющий свет наполнял улицы. Этот розовеющий свет происходил не только от постоянной дымки в воздухе, но еще и оттого, что солнце шло над горизонтом все ниже, свет его постепенно терял силу и окрашивался уже с самого утра в красноватые оттенки заката.
Но вскоре ясная осень сменилась туманами. Свет иссякал. Это печальное время совпало с неожиданным закрытием «Моряка».
У Союза моряков якобы не хватило денег на издание газеты. Деньги, конечно, можно было добыть – газета пользовалась необыкновенной популярностью. Секрет заключался в том, что официальный ее редактор, сивоусый и вечно кашляющий от нерешительности отставной морской капитан Походкин, боялся собственной газеты, как чумы, боялся всех нас, ее сотрудников, всячески старался избавиться от газеты и искал поводов для того, чтобы ее прикрыть.
Походкин не мог придумать ничего лучшего, чем устроить по случаю закрытия «Моряка» поминки по газете у себя на даче в Аркадии.
Мы пришли на этот небольшой банкет раздраженные, взвинченные, с подсознательной целью устроить скандал. Для этого нам была нужна любая, хотя бы пустяковая придирка. И она, конечно, нашлась, и к тому же оказалась совсем не пустяковой.
Наше раздражение усилилось, как только мы вошли в дачу: во всех комнатах стоял слабый, но ядовитый керосиновый чад.
Оказалось, что капитан Походкин занимался разведением цыплят. Он с гордостью показал нам шеренгу инкубаторов, стоявших на теплой террасе. Керосиновые лампы под ними потрескивали и чадили.
Мы все, влюбленные в море, в портовую жизнь, в корабли, в колдовство мореплавания, встретили известие об инкубаторах и цыплятах как тяжкое оскорбление морской профессии, оскорбление нашей мечты.
Вместо первого тоста Багрицкий прокричал яростную речь против «липовых» моряков, против обывателей, против людей, ушедших в тухлый мир инкубаторов от морской вольности, от шума ветра в вантах, похожего на шум пространства в створках раковин, от великолепной по своей неожиданности жизни.
Тогда вскочил Женька Иванов, опрокинул стул и закричал, брызгая слюной от возмущения:
– Товарищи! Эта росомаха в морском кителе (он гневно ткнул пальцем в сторону капитана Походкина), этот тещин тюфяк закрыл нашу замечательную газету! Ради чего? Ради того, чтобы спокойно высиживать на продажу рахитичных цыплят. Я считаю это не только безобразием! Это позор, требующий возмездия! Поэтому я призываю всех: бейте инкубаторы! Вдребезги! В дым! В пороховую пыль! Я один отвечу за все!
Нельзя объяснить только нашим опьянением то обстоятельство, что мы за несколько минут переломали и разбили почти все инкубаторы. Из керосиновых ламп столбами валила жирная копоть. Капитан Походкин бил себя в грудь, рвал с мясом золотые пуговицы на кителе и покаянно кричал:
– Правильно! Заслужил! Отрекаюсь!
Жена его, коротышка, вся в мелких рыжеватых кудряшках, хватала нас за руки, ломала нам в бессильной злобе пальцы и яростным шепотом говорила:
– Шпана! Всех засажу! Вы у меня сухими из воды не выйдете! Зарубите у себя на носу!
Неизвестно, чем бы окончилась эта нелепая история, если бы не вмешалось море. Дача капитана стояла вблизи береговых скал. На эти скалы накатывался в тот вечер шторм. И вот у одной из скал раздался раскатистый взрыв, дом вздрогнул и затрясся, с веселым звоном вылетели все стекла, и капитан, подняв руки к небу, закричал:
– Тихо! Без паники! Мина взорвалась у скалы. Заслужил! Правильно! Эта квочка, – он затопал ногами на жену, – сделала из меня вермишель.
После взрыва мины мы тотчас разошлись. Мы почти бежали, стараясь поскорее отойти от ненавистного дома, зиявшего выбитыми стеклами и все еще распространявшего керосиновую вонь и копоть.
К зиме я остался на Черноморской совершенно один.
Пока стояла сухая осень, в дворницкой было тепло, даже уютно, но в первые же сильные дожди она вся отсырела, как плохо отжатая губка. По ее стенам ползли темные мокрые разводы. Запахло сырой известкой и мелом, и откуда-то начали вылезать толпы хилых, едва двигавшихся пауков.
Надо было переселяться в сухое место. Но куда?
Выручила меня машинистка из «Моряка» Люсьена. После закрытия газеты она поступила в художественную артель, где шила из холстины дамские шляпы. Артель занималась чем угодно, лишь бы за это платили деньги: изготовляла шляпы, деревяшки, зажигалки, шила дамские лифчики, рисовала вывески для учреждений и плакаты на фанере для кино, делала таинственный порошок, вполне заменявший дрожжи.
Артель помещалась в первом этаже бывшего магазина готового платья «Альшванг и Компания». Второй этаж магазина, где в старые времена были закройная и примерочные, стоял пустой и холодный.
Люсьена надоумила меня поселиться во втором этаже явочным порядком. Артель против этого не возражала: если в магазине кто-нибудь ночевал, то было больше шансов, что артель не обворуют.
У Альшванга было сухо, но холод стоял такой же, как на улице. А зима в том году началась с упорных ледяных нордов. Город быстро заледенел, и каждое утро его посыпало твердой снежной крупой.
Я переехал к Альшвангу. Дворницкую я запер и ключ взял с собой – до весны, до первых теплых дней.
В примерочной я приспособил к вентиляции свою заслуженную «буржуйку». Спал я на широкой зеркальной двери, снятой с петель. Я клал ее на ящики со стружками. Старый тюфяк сползал со скользкого зеркала по нескольку раз за ночь, и я падал вместе с ним на каменный пол.
После закрытия «Моряка» я начал работать в газете «Станок». От того времени у меня осталась память о темной, как подвал, промозглой редакции и о множестве мальчишек-курьеров, которым совершенно нечего было делать. Добрейший редактор газеты Курс (он изображал из себя непреклонного и беспощадного комиссара) набирал этих мальчишек без счета и давал всем им хлебные карточки.
Мальчишки за полным отсутствием работы все дни напролет играли в крестики и в «подкидного дурака». Но они хоть не голодали.
Да, зима была угрюмая. Порт замерз. За маяком стоял во льду болгарский пароход «Варна», доставивший в Одессу груз маслин. Маслины тоже замерзли.
Своих пароходов еще не было. С корабельного кладбища привели в судоремонтные мастерские два старых парохода и начали их восстанавливать. Один пароход назывался «Димитрий», другой – «Пестель».
Что это была за работа, можно судить по тому, что на «Димитрии» надо было поставить три сотни заклепок, но за два месяца в Одессе не нашлось ни одной заклепки. По этому поводу в «Станке» было напечатано жирным шрифтом письмо в редакцию одного из рабочих судостроительных мастерских под укоризненным заголовком: «Нет, товарищи, так мы счастья не достигнем!»
У меня появилось ясное ощущение, что жизнь в Одессе исчерпана. Такое чувство бывало у меня уже несколько раз в жизни и никогда не обманывало, – значит, надо было уезжать. Но никаких возможностей для этого не представлялось: ни денег, ни командировок.
Однажды в серый и унылый зимний денек в редакцию «Станка» ворвался мимо мальчишек, азартно игравших около чугунной печурки в «свои козыри», Изя Лившиц. Он крикнул, что «Моряк» возобновляется и что через неделю уже надо выпустить первый номер.
Оказалось, что старые моряки-подпольщики и большевики добились возобновления газеты.
Этому предшествовали некоторые удивительные обстоятельства.
Женька Иванов так затосковал без «Моряка», что слег, два месяца лежал без движения и даже отказывался разговаривать.
Марина билась изо всех сил, чтобы прокормить его и девочек. «Психопат! – говорила она о муже, но слезы гордости за него тотчас появлялись в ее черных глазах. – Поищите такого второго чудака во всем мире. Вы знаете, что он сказал? „Такие газеты, как наш „Моряк“, не умирают“.
Мы на радостях расцеловались с Изей. Разъяренный редактор Курс выскочил из своего кабинета в коридор. Мальчишки бросились врассыпную.
Курс кричал, что не отпустит меня, что это саботаж, вредительство, подвох и, наконец, контрреволюция. Мы с Изей только хохотали в ответ. Курс махнул рукой и покорился.
Сколько раз я уже убеждался, что ничто хорошее не повторяется. Если и следует ждать хорошего, то каждый раз, конечно, непохожего на пережитое. Но человек так неудачно устроен, что все-таки ждет прекрасных повторений, ждет воскрешения своего собственного прошлого, которое, смягченное временем, кажется ему пленительным и необыкновенным.
Я вернулся в «Моряк». Но он уже был другим. Что-то изменилось. Уловить это изменение я не мог, но газета стала суше, а жизнь редакции – чуть скучнее.
Поэтому я был счастлив, когда Иванов предложил мне поехать корреспондентом от «Моряка» по всем портам Черного моря, от Одессы до Батуми. Дело в том, что семьдесят заклепок где-то разыскали, пароход «Димитрий» вышел наконец из ремонта, и его посылали на Кавказское побережье. То был первый рейс пока что единственного советского парохода от Одессы до Батуми, по местам, недавно очищенным от белых.
«Димитрий» вез мины, кое-какие продукты для Крыма и моряков, которые должны были налаживать работу в только что отбитых голодных и полуразрушенных портах.
Кроме того, «Димитрий» взял несколько пассажиров и около двухсот мешочников, ехавших в Крым за солью. В те времена это никого не удивляло.
«Димитрий» отваливал от Одессы в первых числах января.
Напоследок Одесса показала мне удивительное зрелище, вряд ли возможное в другом городе. Я говорю о похоронах знаменитого «Сашки-музыканта», так великолепно описанного Куприным в его «Гамбринусе».
В Одессе я привык перечитывать в газетах все, вплоть до объявлений. Никогда нельзя было знать, где встретятся перлы одесского стиля.
Я помню, как ошеломило меня одно похоронное объявление и своим содержанием, и своим умелым набором. Выглядело оно так:
Рухнул дуб
ХАИМ ВОЛЬФ СЕРЕБРЯНЫЙ
и осиротелые ветви низко склоняются
в тяжелой тоске. Вынос тела на 2-е еврейское кладбище
тогда-то и там-то.
Это было очень живописное объявление. Можно было довольно ясно представить себе этот «могучий дуб», этого биндюжника или портового грузчика – Хаима Серебряного, привыкшего завтракать каждый день фунтом сала, «жменей» маслин и полбутылкой водки. Но всех особенно умиляли эти «осиротелые ветви» – сыновья и дочери могучего Хаима.
И вот однажды в «Одесских известиях» было напечатано объявление о смерти Арона Моисеевича Гольдштейна. Кажется, покойного звали именно так. В точности не помню. Никто не обратил бы внимания на это объявление, если бы внизу, под фамилией «Гольдштейн», не было напечатано в скобках: «Сашка-музыкант» из «Гамбринуса».
До тех пор я был убежден, что почти все литературные герои вымышлены. Жизнь и литература в моем представлении никогда не сливались неразрывно. Поэтому объявление о смерти Сашки-музыканта несколько смутило меня.
Я перечитал «Гамбринус». Все в этом рассказе было точно, как протокол, и вместе с тем рассказ был гуманен до слез и живописен, как летний вечер на Дерибасовской.
Что же придавало этому рассказу то свойство, какое я не знал как назвать – подлинностью искусства или благородной чувствительностью? Очевидно, благородная чувствительность и человечность самого Куприна сообщали этому рассказу черты подлинного большого искусства.
Мне было трудно поверить, что Сашка-музыкант, с детства бывший для меня литературным героем, действительно жил рядом, в мансарде старого одесского дома.
Мне посчастливилось. Я видел подлинную концовку рассказа «Гамбринус» – похороны Сашки-музыканта. Эту концовку дописала вместо Куприна сама жизнь.
Сашку-музыканта провожала на кладбище вся рабочая, портовая и окраинная Одесса.
Худые лошади, часто останавливаясь от одышки и свистя бронхами, тащили черные дроги с гробом. Каждый раз толпа терпеливо ждала, когда лошади наконец отдышатся. Отдохнув, они сами, без понуканий со стороны рыжего возницы, влегали в постромки и, низко наклонив головы, тащили гроб дальше. Мутные слезы старости стояли в прекрасных глазах этих замученных лошадей.
Рядом со мной шел репортер «Моряка» старик Ловенгард. Он вспоминал, глядя на похоронных лошадей, как изредка Сашка-музыкант играл старинный цыганский романс «Пара гнедых, запряженных с зарею», а уличная певица Вера по прозвищу Марафет пела его так, что некоторые посетители «Гамбринуса» плакали навзрыд.
Рыжий возница курил махорку и виртуозно сплевывал на мостовую. Рваная кепка была надвинута у него на один глаз. Всем своим видом этот старик свидетельствовал, что жизнь уже не та, что была при Саше. «Какая жизнь, когда подковать этих несчастных коняг стоит чуть ли не миллион рублей! Раньше за миллион можно было купить все Ближние Мельницы со всеми их садочками, абрикосой, борщами и конями!»
За гробом шла большая толпа. Переваливаясь, брели старухи в теплых платках – те, что хорошо знали Сашу, когда были еще задорными красотками. Молодых женщин в толпе почти не было.
Женщины шли тотчас за гробом, впереди мужчин. По галантным правилам нищего одесского люда («То ж вам Одесса, а не какая-нибудь затрушенная Винница») женщин всегда пропускали вперед. За женщинами шли сизые от холода товарищи Сашки-музыканта.
Около входа в заколоченный «Гамбринус» процессия остановилась. Музыканты вытащили из-под подбитых ветром пальто инструменты, и неожиданная и грустная мелодия старомодного романса поплыла над притихшей толпой:
Люди в толпе начали снимать шапки, сморкаться, кашлять и утирать слезы. Потом кто-то крикнул сзади сиплым и неестественно веселым голосом:
– А теперь давай Сашкину! Любимую!
Музыканты переглянулись, кивнули друг другу, бурно ударили смычками, и по улице понеслись игривые, скачущие звуки:
Я смотрел в толпу. Это были все бывшие завсегдатаи «Гамбринуса»: матросы, рыбаки, контрабандисты, кочегары, рабочие, биндюжники и грузчики – крепкое, веселое, забубённое одесское племя. Что с ними сталось теперь? «Жизнь нас сильно погнула», – покорно соглашались престарелые морские люди. «Да и то сказать, жизнь никак не обдуришь. Жизнь надо выдюжить, скинуть с горба в трюм, как пятипудовый тюк. Вот и скинули, а счастья пока что маловато. Да и не дождешься его – не тот уже возраст. Вот и Саша лежит в гробу, белый, сухой, как та обезьянка! А счастье пойдет молодым. Им, как говорится, и штурвал в руки. Нехай живут вольно и по справедливости. Мы для прихода той вольной жизни тоже немало старались».
Ловенгард осторожно взял меня за локоть и сказал:
– Я первый привел Александра Ивановича Куприна в «Гамбринус». Он сидел, щурил монгольские глаза, пил водку и посмеивался. И вдруг через год вышел этот рассказ. Я плакал над ним, молодой человек. Это шедевр любви к людям, жемчужина среди житейского мусора.
Я не знал, что Ловенгард был знаком с Куприным, но с тех пор мне всегда казалось, что Куприн просто не успел написать о Ловенгарде.
Единственной страстью этого одинокого, опустившегося старика был Одесский порт. В газетах ему предлагали выгодную работу, но он всегда отказывался и оставлял за собой только Одесский порт.
С утра до заката, в любое время года и в любую погоду он медленно обходил все гавани, подымался на пароходы и опрашивал моряков обо всех подробностях рейса. Он в совершенстве говорил на нескольких языках, даже на новогреческом. С одинаковой изысканной вежливостью он беседовал с капитанами и портовыми босяками. Разговаривая, он снимал перед всеми старую шляпу.
В порту его прозвали «Летописцем». Несмотря на нелепость его старомодной фигуры среди грубого на язык населения гаваней, его никогда не трогали и не давали в обиду. Это был своего рода Сашка-музыкант для моряков.
Одиннадцать баллов
«Димитрий» погрузил в трюм корпуса плавучих мин для Севастополя, взял на палубу двести мешочников, ехавших в Крым за солью, и отошел из Одессы.
Провожал меня только Изя Лившиц.
Стоял холодноватый, но тихий зимний день. На молах на месте вчерашних луж хрустели тонкие, как слюда, ледяные корки. Перепархивал редкий снег. Казалось, можно было пересчитать все снежинки.
Чайки, взлетая, били красными, озябшими лапками по воде, будто для того, чтобы согреть их.
«Димитрий» стоял у мола, сильно накренившись. Вблизи он оказался меньше, чем представлялся сверху, с бульвара. Изо всех щелей «Димитрия» сочился и зловеще шипел пар. От парохода тянуло запахом бани и прачечной.
Палуба была завалена мешками. На них сидели и лежали мешочники – замотанные по глаза платками женщины и мужчины в пахнувших дегтем сапогах.
Меня устроили в четырехместной каюте. В ней разместилось восемь человек. Четверо лежали на койках, трое – на полу, а один человек – речник с Волги – сидел в раковине умывальника, так как все равно воды в умывальнике не было.
Там он и спал. На ночь мы привязывали волгаря полотенцем к вешалке, ввинченной в стену, чтобы он не свалился на спящих.
Но волгарь не роптал. Он чувствовал себя среди моряков стеснительно и старался оставаться в тени.
Все остальные обитатели каюты, кроме меня и волгаря, были военные моряки. С двумя – самыми молодыми – я спал на полу.
Лежавший рядом со мной бывший мичман, капитан Санжейского плавучего маяка, в первый же вечер нашего плавания сказал в пространство:
– Чистосердечно советую гражданским товарищам в случае каких-либо происшествий не отставать от нас, моряков.
Я промолчал, а волгарь расхрабрился и спросил:
– Вы думаете, будет опасный рейс?
– По всем данным, – с явным удовольствием ответил мичман. – «Димитрий» идет, как говорят французы, прямо в открытый гроб.
Мичмана резко одернул комиссар Николаевского порта.
Но никаких признаков опасности пока что не было. Мы отвалили в легком, моросящем тумане. Амфитеатр города, купол Оперного театра, дворец Воронцова, потом Фонтаны и знакомая башня Ковалевского – все это, покачиваясь, медленно уходило во мглу и вскоре совсем исчезло. Тихо шумели, подгоняя друг друга, бесконечные волны.
В камбузе нашелся кипяток, и мы, сидя на полу, со вкусом напились чаю с сахарином.
Вечером волны начали шуметь сильнее, но мирный запах пара и каменноугольного дыма и мерное качание парохода успокоили всех.
Я крепко уснул. Сколько времени прошло, не знаю, но когда я проснулся, то мутно и далеко, будто за километр от меня, горела над умывальником лампочка, волгарь раскачивался и держался за края раковины, меня било плечом о дверь каюты, и все вокруг трещало на разные голоса. Было слышно, как «Димитрий» с тяжелым вздохом проваливался в воду и с трудом из нее вылезал.
– Ишь, штормяга! – неодобрительно сказал кто-то из моряков. – За час развел волну до семи баллов.
Но моряки были спокойны, и это подбадривало и нас, обыкновенных смертных.
В каюте было тесно и душно. Каюта внезапно толкалась, стараясь свалить нас всех в одну кучу, потом начинала дергать нас из стороны в сторону, вытирая нами, как швабрами, пол.
Молодой мичман приоткрыл дверь и заглянул в коридор. Там уже вповалку густо лежали мешочники, сбежавшие с палубы. Среди них стоял, упершись дрожащими ладонями в стены узкого коридора, старый еврей в длинном лапсердаке.
– Чего вы стоите? – сказал мичман. – Укачаетесь. Надо лечь.
– Разве вы не видите, пане, – ответил еврей, – что мне негде положиться?
Куда ехал этот местечковый старик, непонятно. Во всяком случае, он выглядел совершенно дико на морском скрипучем пароходе во время качки и ночного шторма.
Мичман вышел в коридор, растолкал спящих мешочников и очистил место для старика.
– Библейский персонаж из Всемирного потопа! – сказал мичман, возвратившись в каюту.
Я лежал у стены и слушал, как валы, сотрясая пароход, ударяли в топкий железный борт. Мне становилось не по себе. Странно было сознавать, что в четырех миллиметрах от твоего разгоряченного лица несутся во мраке горы ледяной осатанелой воды. И в каком мраке!
Я посмотрел на иллюминатор. Непроницаемая, как бы подземная тьма простиралась там, в первобытном хаосе непонятно огромных водных пространств.
Никто не спал. Все прислушивались, «Димитрий» резко потрескивал. Нельзя было понять, почему до сих пор не раскрошились в щепки трухлявые стены кают, полы и потолки, тогда как качка корежила, гнула и расшатывала все винты, болты, скрепы и заклепки.
Каждый раз, когда раздавался сильный треск, я взглядывал на моряков. Они были спокойны, но часто курили. Я тоже много курил, убеждая себя в том, что запас плавучести у нашего престарелого «Димитрия» гораздо больший, чем я, гражданский невежественный товарищ, предполагаю.
Все мы ждали утра. Но оно скрывалось еще страшно далеко в плотном, охватившем полмира, завывающем мраке.
Качка усиливалась. Пароход уже стремительно и сильно клало то на один, то на другой борт. Винт все чаще выскакивал из воды на воздух. Тогда «Димитрий» яростно трясся и гудел от напряжения.
– А не может нас выбросить таким штормом на берег? – неожиданно спросил волгарь, стараясь удержаться на умывальнике.
Моряки пренебрежительно промолчали. Только минут через десять суровый и вместе с тем добродушный комиссар Николаевского порта ответил:
– Шторм уже загибает до десяти баллов. Конечно, все может быть. Но не надейтесь на берег. Чем дальше от него, тем спокойнее.
– Почему? – спросил волгарь.
– Потому что у берега пароход непременно подымет волной и разобьет о дно. Или о скалы. И никто не спасется.
А я-то, поглядывая каждые десять минут на часы в ожидании рассвета, мечтал, что мы сможем подойти к берегам Северного Крыма и высадиться на них – на эту скудную щебенчатую и спасительную землю.
Среди ночи молодой мичман встал, натянул сапоги, надел кожаный плащ с капюшоном и небрежно сказал:
– Пойти посмотреть, что там у них делается наверху.
Он ушел, но скоро вернулся, весь мокрый, от капюшона до пят.
Никто его ни о чем не расспрашивал, но все напряженно ждали, когда он заговорит сам.
– Речь – серебро, а молчание – золото, – насмешливо промолвил мичман. – Ну, так слушайте. Волна валит через палубу. Смыло две шлюпки из четырех. Погнуло планшир. Дошло до одиннадцати баллов. Но это пока еще пустяки.
– Хороши пустяки! – пробормотал комиссар Николаевского порта и сел на койке. – Рассказывайте! Что еще?
– Волнами повредило форпик{79}, и у нас открылась некоторая течь…
– Донки{80} работают? – тихо спросил комиссар.
– Работают. Пока справляются. Но машина сдает.
– Двигаемся?
– В том-то и дело, товарищ комиссар, что не выгребаем.
– Сносит?
– Так точно!
– К берегам Румынии?
– Так точно!
Комиссар встал и схватился за верхнюю койку.
– Так там же… – начал он и осекся. – Пойду-ка я к капитану и выясню.
Он ушел. Мы долго молчали.
– Весь анекдот в том, – сказал один из моряков, – что у этих самых берегов Румынии немцы во время войны разбросали огромные, просто роскошные букеты мин. Они там стоят до сих пор. Если нас тянет на эти мины…
Он не досказал, что тогда будет с нами, но и без него мы прекрасно это знали.
Комиссар возвратился и, не снимая кожаного пальто, сел на койку и закурил.
Снаружи с пушечным гулом била и шипела волна и пронзительно, все время набирая высоту, свистели снасти. От этого свиста леденела кровь.
– Дали SОS{81}, – вдруг сказал комиссар и помолчал. – Бесполезно! В наших портах судов нет. А из Босфора в такой шторм никто носа не высунет, даже «Сюперб». Дошло до одиннадцати баллов. Так-то, приятели!
Все угрюмо молчали. Было слышно, как в коридоре плескалась вода. Ее налило с палубы через комингсы – высокие железные пороги.
Так прошел день, пришла в гуле урагана окаянная вторая ночь. Но шторм не стихал, и казалось, не стихнет до последнего дня этого мира.
На третий день наступило какое-то всеобщее оцепенение. Всех, даже старых моряков, очевидно, замотало.
На четвертую ночь я сидел с закрытыми глазами, упершись ладонями в пол, и считал размахи парохода. Иногда они делались слабее, и тогда я торопливо закуривал. Но это обманчивое затишье длилось недолго, сердце снова срывалось, замирая, и каюта взлетала и косо падала в невидимую пропасть.
А потом страшно медленно, останавливаясь и как бы раздумывая, не вернуться ли ей обратно, за потным иллюминатором начала наливаться сизая и скверная заря. Свист снастей дошел до осатанелого визга.
Дул норд-ост, «бич божий», как говорили моряки. От них я узнал, что норд-ост дует или три дня, или семь, или, наконец, одиннадцать дней.
В коридоре зашевелились и заговорили хриплыми голосами мешочники, заплакали измученные женщины. Какая-то старуха все время исступленно бормотала за дверью каюты одну и ту же молитву: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» При сильных размахах парохода старуха, очевидно, пугалась, обрывала молитву и только быстро говорила: «Крепкий, помилуй нас! Крепкий, помилуй нас!»
Я решил впервые выйти на палубу. Моряки говорили, что в каюте гораздо тяжелее, чем снаружи.
Комиссар Николаевского порта пошел вместе со мной.
– Вам одному нельзя, – сказал он. – Без меня вас просто не пустят на палубу. И опять же вас может смыть.
По косточку в воде, в тошнотворном запахе блевотины мы добрались среди лежавших прямо в воде и стонавших мешочников до узкого трапа. Он выходил на верхнюю рубку, а оттуда – на палубу.
Комиссар сильно нажал плечом на дверь рубки. Она распахнулась. Струей воздуха нас вышвырнуло наружу.
Я схватился за обледенелый канат и увидел то, что предчувствовал в темной каюте, – зрелище исполинского, небывалого шторма. Оно наполнило меня обморочным ощущением отчаяния и ужасающей красоты.
Я стоял перед штормом лицом к лицу – жалкая, теряющая последнее тепло человеческая пылинка, – а он гремел, нес стремительные, железного цвета валы, рушил их в темные бездны, швырял в набухшее небо извержения брызг и холодного пара, накатывался тысячетонными холмами, рвал воздух и лепил с размаху в лицо липкой пеной.
Корма «Димитрия» то взлетала к облакам, то уходила в воду. Длинные и крутые волны вздымались и неслись от горизонта до горизонта. Они гнали перед собой буруны и открывали в провалах величественную и мучительную картину движения свинцовых водных громад – той ураганной области, через которую мы должны были прорваться, чтобы остаться в живых.
– Смотрите! – крикнул комиссар и показал на море.
Я ничего не понял и взглянул на него с недоумением.
– Смотрите, какие испарения! – снова прокричал он.
И тогда я увидел, как между гудящих валов вырываются из серо-зеленой воды, как пороховой дым из дула тысячи орудий, быстрые и злые струи пара.
Позже, в каюте, комиссар объяснил мне, что эти столбы пара, всегда бьют из воды во время вторжения ледяных штормов в теплые морские пространства.
Потом я увидел впереди исполинскую стену разъяренного моря, катившуюся на нас с космическим гулом во весь разворот горизонта. Комиссар схватил меня за руку и втащил в рубку. Дверь захлопнулась намертво сама по себе.
– Держитесь! – прокричал комиссар.
В рубке стало темно. «Димитрий» треснул, понесся вверх по срезу водяной горы, потом остановился и ушел, дрожа, в воду по самый капитанский мостик. «Конец! – подумал я. – Лишь бы не закричать от страха».
Пароход глухо взвыл, повалился набок, и я увидел сквозь иллюминатор, как вода широкими водопадами сливается с палубы обратно в море.
– Что это было? – бессмысленно спросил я комиссара.
– Еще две-три таких волны, и прощай! – ответил он громко и посмотрел на меня отсутствующими, белыми глазами.
Но ни вторая, ни третья такая волна не пришли. Море все так же ревело как бесноватое, но размахи «Димитрия» стали как будто меньше и спокойнее.
Мы отдышались и вернулись в каюту. Ветер уже не визжал, как недавно, а ровно гудел в снастях и трубе парохода. В неистовстве бури произошел неожиданный перелом.
В каюту заглянул боцман с обваренным от норд-оста лицом и сказал, что машина опять выгребает и мы, правда, медленно, но все же пошли против шторма.
Моряки повеселели. Они даже начали вытаскивать из своих кошелок и чемоданов кое-какие скудные продукты.
Я с наслаждением жевал кусок ячневого хлеба, когда вдруг с палубы сквозь шум бури, отплевываясь и задыхаясь, завыл пароходный гудок.
Моряки побледнели и вскочили. Вокруг на сотни миль бушевало только одно штормовое море. Что мог означать этот гудок?
Торопливо застегивая шинели, моряки бросились наверх, на палубу. Я тоже поднялся вслед за ними. Я приготовился увидеть воочию гибель «Димитрия», весь тот медленный ужас, что воплощен в одном коротком слове «кораблекрушение ».
Но ничего страшного на палубе не случилось. Все так же остервенело ходило горами море. По юту бежали матросы в штормовых плащах, волоча канат.
– Почему гудим? – крикнул им комиссар.
– Земля открылась! – ответил один из матросов. – Тарханкут!
Комиссар выругался от неожиданности и пошел на мостик к капитану. Я вскарабкался вслед за ним по крутому скользкому трапу.
С капитаном я познакомился еще в Одессе. То был совершенно седой, необыкновенно худой и необыкновенно спокойный старик.
– Извините, – сказал он нам, – за беспокойство с гудком. Мой помощник стоял на вахте вместе со мной, увидел берег и на радостях дал гудок. Переполошил всех. Ему это, пожалуй, простительно: он первый раз попал в такую штормягу.
– А вам, – спросил я, – часто приходилось бывать в таких передрягах?
– Где? – спросил капитан и отогнул угол брезентового капюшона на плаще, чтобы лучше слышать. – На Черном море?
– Да, здесь.
– Раз двадцать, – ответил капитан и застенчиво улыбнулся.
Его серые старческие глаза сильно слезились от ветра. Рука, лежавшая на планшире, дрожала.
– До войны, – сказал он, – в штормовую погоду не в пример было спокойнее плавать. А теперь море нашпиговано минами. Шторм их посрывал с якорей и носит как попало. Вот и жди, когда он подкинет тебе мину под днище.
– А я берега что-то никак не найду, – смущенно пробормотал комиссар, опуская бинокль. – Одна бешеная вода.
– Да сейчас вряд ли и увидите, – согласился капитан. – Он еще далеко. Вы смотрите на небо. Вон, замечаете над самым горизонтом темную полоску на облаках? Там земля. Это своего рода отражение земли на пасмурном небе.
На мостик поднялся старший механик – человек с красным, как перец, гневным лицом.
– Аристарх Петрович, – сказал он умоляющим голосом капитану, – идите к себе в каюту и отдохните. Ветер падает. Машина пока что тянет нормально. В вашем возрасте не сходить третьи сутки с мостика и не спать – это, знаете, похоже на самоубийство. Команда хочет радио послать в управление пароходством и Марии Никитичне. С жалобой на вас.
– Ну, это положим, – капитан усмехнулся, – без моего разрешения радист не передаст. А я, пожалуй, правда пойду прилягу. Часа через три войдем в бухту Караджи. Вот она. – Он показал нам на карте полукруглую маленькую бухту к северу от мыса Тарханкут. – Там будем отстаиваться, пережидать шторм. Так что до Караджи я, пожалуй, посплю. Извините меня, товарищи. – Он подошел к трапу, но обернулся и спросил комиссара: – Это ваш матросский отряд у нас на пароходе? Шесть человек.
– Нет, не мой, – ответил, насторожившись, комиссар. – Они из Одессы. А что?
– Головорезы! Едут нахрапом, документов не показывают. У одного серебряный браслет на ноге. Следовало бы проверить.
– Проверю обязательно, – успокоил его комиссар.
– Жоржики! – добавил старший механик. – Сачки! Переодетая шпана. Оружием обвешаны до пупа. Только, спасибо, штормом их здорово стукнуло по башке, а то бы они галдели наперебой и резались в кости.
Механик ушел. Мы с комиссаром еще несколько минут постояли на мостике рядом со старшим помощником, заступившим вместо капитана на вахту.
Мы смотрели на бледно-свинцовое небо на востоке, на темную полосу на нем, похожую на струю неподвижного черного дыма. Если это было отражение земли, то до нее было еще далеко.
Хотелось еще побыть на мостике, но правила морской вежливости не позволяли нам этого, и мы спустились в каюту.
Внизу, в коридорах и каютах, стоял возбужденный шум. Все уже знали, что открылся берег и что нас меньше качает именно потому, что отдаленная и благословенная земля уже прикрывает нас своим крылом от ледяного норд-оста.
Среди ночи раздался длинный, убегающий грохот якорной цепи. Грохот этот повторился два раза. Это «Димитрий» становился на якоря в бухте Караджи около Тарханкута.
Мыс Тарханкут с давних пор пользовался дурной славой среди моряков. Море у Тарханкута никогда не бывало спокойным, очевидно, от столкновения в этом месте разных морских течений. Вода у мыса бурлила, и судорожная, хотя и недолгая качка выматывала пассажиров и раздражала моряков.
Кроме того, у Тарханкута берега были предательские – низкие, опоясанные мелями и почти невидные с палубы, особенно в пасмурную погоду. Во время парусного флота здесь случались частые кораблекрушения, и это место получило зловещее прозвище «кладбища кораблей».
Мы стали на якоря. Нас уже качало спокойно и мягко, а по временам качка и совсем затихала. Тогда все вздыхали полной грудью.
Я вышел на палубу. Ветер сек по лицу снежной крупой. Вокруг лежала чугунная тьма. В этой тьме на много миль к северу и югу гремел где-то рядом, не захлестывая в бухту, прибой. Потом вдруг медленной молнией загорелся огонь на Тарханкутском маяке, обвел седым лучом бурлящее море и погас до новой вспышки.
Я вернулся в каюту. Весь пароход уже спал непробудно и тяжело. Только молодой мичман открыл глаза, пробормотал, пытаясь и сейчас острить наперекор всему: «Мертвый сон на мертвых якорях», но тут же, кажется, упал головой на свой тощий чемодан и уснул. Я пишу «кажется» потому, что этого не видел: на последнем слове мичмана я как бы впал в бесконечную летаргию.
Утром мы увидели совсем близко от лязгавшего якорными цепями «Димитрия» красноватый берег. Очень возможно, что не было на всей земле более скудного места, чем эта спасительная для нас бухта Караджи.
Нагая солончаковая степь в редких пучках почернелой травы поблескивала полосками снега. Он слежался в углублениях и бороздах.
Даль, ровная как натянутый шнур, уходила в глинистую муть. Над мутью косо неслись, сбрасывая заряды снежной крупы, низкие тучи. Ни человека, ни птицы, ни развалин лачуги, ни колодца, даже ни одного камня, похожего хотя бы на могильный, не было видно на этой коричнево-черной земле.
Людей обвиняют в неблагодарности, и большей частью не зря. Но тогда, после жестокого шторма, у меня появилось искреннее чувство благодарности к этой бухте и к ее убогой земле.
По библейским понятиям, она была проклята Богом отныне и до века. Но она закрыла нас своим иссохшим и бесплодным телом от беспощадной стихии. Волны, обезумев от ярости, били совсем рядом в берега с такой силой, что они сотрясались.
Комиссар Николаевского порта одолжил мне морской бинокль. Прячась за каким-то теплым железным кожухом, я долго рассматривал берега, надеясь увидеть людей. Но ни людей, ни других признаков жизни нигде не было видно.
Невозможно было поверить, что это действительно крымская земля, Таврида, что в каких-нибудь ста километрах отсюда благоухающее солнце греет листву буковых лесов.
В бухте Караджи мы простояли четыре дня. Шторм упорствовал, не стихал, и каждый раз при виде оловянного моря, ревущего без всякой надобности и смысла, начинала саднить на сердце тоска.
«Димитрий» за эти четыре дня стал похож на брандвахту – общежитие для всякого портового люда и отставных моряков, где они ютятся со своими замызганными и бранчливыми семьями.
Такие брандвахты существовали почти во всех больших портах. Под них отводили устаревшие, изношенные пароходы. Их ставили на причал в самом отдаленном уголке порта, чтобы они не портили своим видом современный пейзаж.
Брандвахты мигом обрастали принадлежностями сухопутного, главным образом кухонного быта – жестяными трубами от печурок, веревками для просушки белья и самим бельем – разноцветным, почему-то главным образом фиолетовым и мутно-розовым, – цинковыми погнутыми корытами, решетчатыми ящиками, где почмокивали кролики с глазами как из красной смородины, престарелыми котами, что мылись на салингах с видом отставных адмиралов, щенками, лаявшими на чаек, что подбирали вокруг брандвахты отбросы.
За четыре дня стоянки «Димитрий» сразу же оброс стираным бельем. Стирали его без мыла, забортной водой. Поэтому оно было покрыто желто-серыми пятнами и разводами. Отовсюду уже тянуло густым запахом жилья.
Во время шторма мешочники безучастно смотрели, как бесценное их добро летело в море. Иные мешочники даже помогали матросам.
Но сейчас, когда страх смерти прошел, мешочники начали роптать и обвинять капитана в самоуправстве. К тому же нечего было есть.
Капитан, пользуясь правилом «об аварии на море», приказал открыть трюм, где мы везли для Крыма немного ячневой крупы. Крупу роздали пассажирам. Варить ее было нельзя: камбуз из-за шторма не работал. Кроме того, уже не хватало пресной воды.
Крупа была густо перемешана с мышиным пометом. Пассажиры занимались тем, что перебирали эту крупу, а потом съедали ее сухой, как едят семечки.
Воду на «Димитрии» берегли. На каждого в сутки выдавали только по литру этой пахнущей железом, мутноватой воды со дна цистерны.
Еще гимназистом я читал о традиционных бунтах на парусных кораблях, о пистолетном дыме и капитанах, выброшенных в море мятежной командой. Но никогда, ни при каких обстоятельствах и ни при какой погоде, я не мог вообразить, что буду свидетелем такого бунта в двадцатом веке, на нашем мирном Черном море, у берегов благословенного Крыма.
Начали бунт шесть «жоржиков» – матросов в широченных брюках клеш. К ним присоединилась часть мешочников.
– Почему стоим четвертые сутки? – кричали матросы.
Им объясняли, что шторм еще не стих, что между Тарханкутом и Севастополем тянутся оставшиеся после войны обширные минные поля и по ним идти в такой шторм – безумие.
Матросы и мешочники послали к капитану делегатов, но капитан, выслушав их, сказал, что пароход все равно будет отстаиваться сколько нужно и незачем пассажирам соваться не в свое дело.
– А с голоду подыхать – наше дело? – зашумели матросы. – Другие капитаны напролом по минам идут, ничего не боятся! А нам что ж, давать дуба из-за этого тюти капитана! Пусть подымает пары и снимается. А то разговор у нас с ним будет короткий. За борт – и амба! Даем полчаса на размышление. За свою шкуру дрожит, старый хрыч, на нас ему начхать! Сами поведем пароход! Подумаешь, большое дело!
Мешочники, бегая злыми глазами, поддакивали матросам, хотя и побаивались, поглядывая на море. Оно все еще неслось в небольшом отдалении от нас вереницей стремительных пенных валов.
На третий день стоянки в Караджи к нам в каюту постучал боцман «Димитрия». Он вполголоса сказал, что матросы и часть мешочников собрались около каюты капитана, шумят, ломятся в дверь каюты и грозятся выбросить старика капитана в море.
Комиссар Николаевского порта встал, натянул шинель, взял маузер, приказал нам без нужды до его выстрела не подыматься на палубу и вышел вместе с боцманом. По лицу у комиссара ходили железные желваки: он был взбешен.
Мы ждали выстрела, но его все не было. Вскоре до нашей каюты дошли дикие слухи. По словам матросов с «Димитрия», комиссар якобы сразу же стал на сторону «жоржиков». Он вошел в каюту к капитану, и было слышно, как он кричал на старика. Потом вышел, сказал «жоржикам», что капитан – старая рухлядь и контра, но от того, что его выбросят в море, толку все равно не будет. Надо выбрать из своей среды человека, который мог бы заменить капитана. Дело это серьезное, потому что придется отвечать потом перед правительством. Поэтому его следует тщательно обсудить без вмешательства гражданских пассажиров и без продажных душ – мешочников.
– Пошли в трюм! – сказал комиссар. – Обсудим и выберем капитана. Айда, братишки!
Как только братишки с комиссаром спустились в трюм, матросы с «Димитрия» по приказу капитана с непостижимой быстротой закрыли трюм толстыми деревянными досками, завинтили их болтами, а сверху еще навалили разный груз с палубы. Очевидно, дело это было рискованное, потому что матросы с «Димитрия» хотя и посмеивались, но руки у них тряслись.
В трюме гремели заглушенные проклятия, потом раздались выстрелы. Матросы стреляли вверх. Это было совершенно бессмысленно: выйти из трюма они не могли.
Наша каюта тотчас сообразила, что комиссар сговорился с капитаном и нарочно увел матросов в трюм. «Как Сусанин!»{82} – радостно сказал молодой мичман. Все были взволнованы тем, что в трюме нет продуктов и воды, и радовались, что комиссар себя не выдал. Иначе ему был бы верный конец.
– Эй, подальше от трюма! Полундра! – на всякий случай покрикивал боцман.
К вечеру шторм начал стихать. «Димитрий» снялся с якорей и, медленно работая машиной, вышел из бухты. Его тотчас начало качать, но эта качка по сравнению с недавней, штормовой, казалась просто колыбельным баюканьем.
Утром я проснулся оттого, что в иллюминатор свободно лилось солнце. Стекло иллюминатора заросло солью. Но даже через ее серую пленку сияла густейшая синева. Качки не было, «Димитрий» только тихо вздрагивал от вращения винта.
Я выскочил на палубу и зажмурился. Слезы потекли у меня из глаз. Прошло несколько минут, пока я снова начал различать все окружающее.
«Димитрий» шел в густой и глубокой синеве. Трудно было уловить ту черту, где синева моря переходила в синеву неба. Крутым откосом, отлитым из золота, сверкал с левого борта мыс Лукулл.
Со снастей срывались оттаявшие сосульки и разбивались о палубу, превращаясь в зернистый снег.
За кормой стояла чернильная стена уходящего тумана. И в тишине бухт, в сиянии зимнего бережливого солнца, в ясности и приморской живописной прелести открылся Севастополь, как некий русский величественный Акрополь.
Акрополь таврический
При входе в Северную бухту к «Димитрию» подошел катер с вооруженными матросами. Они поднялись на палубу, открыли трюм и крикнули вниз:
– С легким паром, сачки! Вылезай по одному! Живо! Начальник выходит последним!
Грязные «сачки» вылезли на палубу. Их обыскали, отобрали оружие, арестовали и увели. А комиссару Николаевского порта вежливо сказали:
– За вами приедет сам комендант порта.
Но комендант, конечно, не приехал, и комиссар только посмеивался в прокуренные усы.
«Димитрий» отшвартовался у пассажирской пристани в Южной бухте. Пассажирам объявили, что дальше «Димитрий» не пойдет. Течь на «Димитрии» усилилась, швы в обшивке разошлись, машина была почти сорвана с фундамента, и потому пароход уведут прямо на корабельное кладбище.
Мне было жаль «Димитрия», особенно когда к нему подошел буксир и «Димитрий», давая прощальные гудки, поплелся вслед за буксиром на свалку.
Все-таки этот благородный и дряхлый корабль сделал последнее напряжение, прорвался через ледяной шторм и спас всех нас.
Я вышел на берег. Попутчики мои незаметно исчезли. Я остался один.
Куда было идти? И я пошел, конечно, на Графскую пристань, чтобы посмотреть на Севастополь, погруженный в желтоватую древнюю дымку, и решить, что делать дальше. Знакомых у меня в Севастополе не было, если не считать девушки-поэтессы. Но я забыл ее адрес и даже имя.
Я сидел на скамье, греясь на слабом солнце, и дремал от тишины и успокоения, наступившего после недавнего бурного плавания.
Сидел я, должно быть, долго, пока желтоватая дымка не начала приобретать багровый оттенок и с моря, где заунывно мычал звуковой буй на Константиновском рифе, не дохнуло холодным ветром.
Я решил идти в единственное для меня, сотрудника «Моряка», убежище – в Севастопольский союз моряков.
Секретарь союза – пожилой моряк с грустными украинскими глазами – выслушал меня и потом долго смотрел на меня, не говоря ни слова. Я решил, что он забыл обо мне, и осторожно кашлянул.
– Я об вас сейчас все время и думаю, – сказал секретарь. – Значит, хлеба нет? Ничего нет? И вдобавок нет крыши над головой? Получается хреново!
Он опять надолго замолчал, потом тяжело вздохнул, потянул к себе блокнот из бурой оберточной бумаги и начал что-то долго писать, тщательно проверяя написанное и расставляя знаки препинания. После старика Благова это был второй в моей жизни ревнитель препинаний.
– Вот, – сказал он, – с этой бумажкой пойдете на Садовую улицу, в бывший дом адмирала Коланса. Дадите эту бумажку вдове-адмиральше. Только вы ее не пугайтесь, вы же красный беззаветный моряк. Живет она во флигеле со своими недобитками, а в главном доме на улицу мы устроили вроде как детский сад. Для моряцких детей. Подтапливаем изредка и кое-как подкармливаем. По сути дела, никакого сада нет. Так вот, там можете ночевать, но только с пяти часов дня до восьми утра, пока нету детей. Только, смотрите, ночью не замерзните. А то получится неприятность.
Он протянул мне вторую бумажку – распоряжение в морскую пекарню выдать мне буханку хлеба.
– Ешьте по крошкам, – посоветовал секретарь. – Это вам в виде исключения. Вы надолго в Севастополь?
– Не знаю. Нас высадили с «Димитрия». Придется сидеть здесь и дожидаться, когда из Одессы придет второй пароход.
– «Пестель»? – спросил секретарь.
– Да, «Пестель».
– А если он не придет? – неожиданно спросил секретарь.
– Как так не придет?
– А очень просто! Такая же дырявая коробка, как и ваш «Димитрий»! Чтобы прийти, нужно дойти. Вот задача!
Это была непреложная истина, и я не мог с ней не согласиться.
– «Пестель», – сказал я уныло, – должен был выйти из Одессы через неделю после нас.
Секретарь вздохнул.
– Ну, в общем, – заметил он неуверенно, – если хлеба не хватит… может быть, дадим еще малость. Подумаем.
Я поблагодарил его и пошел в пекарню. Было три часа дня, и до пяти мне все равно некуда было податься.
Пекарня помещалась на третьем дворе, в закоулке. У входа в третий двор стоял вооруженный человек. Он посмотрел мою записку и пропустил меня.
Пекарь вынес мне буханку хлеба, но, не давая в руки, спросил:
– Во что вы ее завернете? И в чем понесете?
У меня не было ни газеты, ни кошелки.
– Э-э-э! – укоризненно протянул пекарь. – У вас его уже в подворотне отнимут. Как же я вам выдам хлеб? Нету никакого смысла мне его вам выдавать.
– Неужели так уж и вырвут? – спросил я.
Пекарь рассердился.
– Вы что, с луны свалились! Вырвут и раздерут по клочкам. Они у ворот дежурят целые сутки. Юрка! – позвал он.
Из задней комнаты вышел мальчик лет десяти. Он был так худ, что казалось, от него остались одни глаза.
– Юрка, – приказал мальчику пекарь, – выведи этого чудака с хлебом на Мичманский бульвар фарватером «Ижица». Только чтобы все было в аккурате. Хлеб, товарищ, спрячьте под пальто. И не вздумайте есть его на улице. Ни-ни! Увидят – тогда вас уже ничто не спасет. Они…– сказал он значительно и повторил: – Они беспощадно следят за каждым.
– Кто это «они»? – спросил я.
– Ей-богу, товарищ, неначе вы свалились с Марса. Как – кто? Голодные, конечно.
Мальчик провел меня через пекарню в узкий проход между высоких стен. В одной стене была пробита калитка. Мальчик открыл ее громадным медным ключом, и по внешней чугунной лесенке, заставленной вазонами с высохшими фуксиями, мы поднялись на второй этаж старого дома.
Мальчик ловко открыл гвоздем резную дубовую дверь с изображением мечей и знамен, и мы вошли в чью-то квартиру.
– Идите тихо, не пугайтесь, – сказал мальчик. – Только ни с кем не разговаривайте. Можете только поздороваться, если хотите.
Он толкнул первую дверь. Мы пошли в гостиную с роялем, портретами важных адмиралов с длинными баками и пустым аквариумом. В него доверху была навалена черная картофельная шелуха. Она уже дурно пахла. На софе лежала маленькая и желтая, как птичка, пожилая женщина.
– Болтаются тут целый день, – сказала женщина, – и еще вежливость разводят! Здороваются! Никто вас не просил здороваться!
Я смущенно проскочил за Юркой в следующую комнату, должно быть бывшую столовую.
Из-за китайской шелковой ширмы высунулась сонная, всклокоченная голова красивого молодого человека. Он посмотрел на Юрку и погрозил ему кулаком.
– Видал миндал?
– Вы не очень показывайте! – сказал, задираясь, Юрка. – Ходил и буду ходить. Вы что ж думали, мы вам задарма хлеб выдаем? За какие такие ваши заслуги перед революцией? Паразиты!
Голова тут же скрылась. Потом мы прошли через заросшую паутиной кухню. Там сидела молодая миловидная женщина без единой кровинки в лице. Подняв платье, она неподвижно смотрела на свои опухшие колени, растирала их ладонями и плакала.
Из кухни мы вышли в сухой сад, перелезли через невысокую ограду и очутились в конце пустынного Мичманского бульвара. Юрка попрощался со мной и пошел обратно.
– Вот это и есть фарватер «Ижица», – сказал он напоследок. – Самый надежный. Для женщин и безоружных. Ну, счастливо вам донести. Только, упаси бог, на улице хлеб не отщипывайте. И не ешьте.
До пяти часов я просидел на поломанной скамейке на Мичманском бульваре. Могильная тишина звенела над Севастополем.
Только один раз беспорядочно прогремела где-то рядом по булыжнику ручная тележка. Я увидел ее в просвете между высохшими ветками туи.
Тележку тащили две молодые женщины. На тележке лежал лицом вниз босой человек, голый до пояса. Я не сразу догадался, что он мертвый.
Я пошел на Садовую улицу.
Я шел по окостенелому городу. Изредка из глубины дворов тянуло слабым трупным запахом. Сухой плющ тихо скрежетал на выветренных подпорных стенках. Не верилось, что на эти червивые каменные стенки падал хоть когда-нибудь теплый свет солнца.
Время сразу же отодвинуло меня на два-три года назад. В облике умирающего и скудного Севастополя я узнавал и Киев и Одессу времен сыпняка и голода.
Пока я шел, задул жесткий, режущий ветер, очевидно норд. Тотчас вдоль всех улиц заскрипели на крышах покоробленные листы железа. Ветер искоса нес снег, совсем непохожий на наш, русский. Он был серый и тотчас смешивался на мостовых с ворохами сухой акациевой листвы, размолотой в крошку. Грифельного цвета небо волочилось в сторону открытого моря, унося с собой, казалось, последний свет, тепло и последние ласковые человеческие голоса.
Я шел мимо зияющих выломанных оконниц в подвалах, боясь заглянуть внутрь. Туда, очевидно, сволакивали мертвых.
Но Садовая улица, расположенная в верхней части города, показалась мне даже в свинцовом свете иссякшего дня уютной и тихой, какими часто бывают заросшие отдаленные тупики.
Я нашел одноэтажный дом вице-адмирала Коланса. На воротах были изображены железные якоря, а во дворе стоял флагшток. Он был деревянный, но его почему-то не спилили на дрова и не сожгли.
В глубине двора виднелся флигель, густо обросший диким виноградом.
Я постучал. Низкий женский голос спросил меня из-за двери, кого мне нужно. Я ответил. Тогда дверь распахнулась, и я увидел на пороге высокую, как гренадер, старуху с копной белых волос на голове и с несколько согнутой кочергой в руках. Она опиралась на кочергу. Глаза ее метали огонь.
– Да! – сказала она вызывающе. – Вот именно! Я вдова вице-адмирала Цезаря Платоновича Коланс. Но среди его знакомых я, кажется, не видела вас, молодой человек. Зрительная память у меня феноменальная. Поэтому говорите, что вам нужно, но коротко, ясно и грамотно.
Вместо ответа я протянул ей записку от секретаря Союза моряков. Она взяла ее двумя пальцами, встряхнула в воздухе, как бы вытряхивая из нее мусор, и сказала, обернувшись:
– Мария, прочти!
В темную переднюю вышла с тоненькой церковной свечкой в ручке худющая, бледная, как бы неземная девица с синими кругами около глаз. Она была похожа на сомнамбулу или лунатичку. Ни разу не взглянув на меня, она прочла записку, обернулась и в свою очередь позвала:
– Андре, иди сюда и проводи этого господина в детский сад! Он будет там ночевать.
– У вас есть хлеб? – вдруг спросила меня адмиральша.
– Мало.
– Это не важно! – Адмиральша сильно стукнула кочергой по полу. – Я предлагаю вам честный обмен. Вы дадите нам немного хлеба, а я каждый день буду давать вам козье молоко. Я держу козу! – Она второй раз стукнула кочергой по полу и повернулась к молодому человеку по имени Андре. Он вошел в переднюю и скромно стоял в темноте. – Что из этого? В таких обстоятельствах – запомни, Андре! – сама покойная императрица держала бы козу и доила бы ее собственноручно. Собственноручно! – прокричала адмиральша и в третий раз стукнула кочергой по полу. – Вы согласны?
– С чем? – спросил я. – С тем, что императрица…
– Да нет же! – резко оборвала меня адмиральша. – Императрица была феноменальная дура и наркоманка. Гессенская муха! Из-за нее и произошла эта революция. Я спрашиваю: вы согласны на обмен?
– Согласен, – ответил я торопливо.
– Фунт хлеба, и всё! – Адмиральша в последний раз ударила кочергой по полу и приказала Андре: – Возьми ключ и впусти этого человека в главный дом.
Она обернулась ко мне и добавила:
– Но чтобы без глупостей! Не курить махорку, не заворачиваться на ночь в ковер во избежание вшей (девица Мария ахнула и всплеснула руками) и не пить одеколон и всякую мерзость! Пока что Бог дает мне силы, и я справлюсь с каждым, будь он хотя бы сам архикомиссар. Сам Сатана или сам Вельзевул. Прощайте!
Она повернулась и пошла в глубину темной передней, стуча кочергой. Девица подняла свечу повыше, осветили меня, вскрикнула, уронила свечу на пол. Свеча погасла, а девица бросилась вслед за адмиральшей и закричала:
– Мама! Боже мой! Да это же, кажется, он! Боже мой! Мама!
– Пойдемте! – сказал мне Андре. – Терпеть не могу истеричек! Извините, я не представился: бывший мичман, а ныне козопас у своей мамаши Андрей Цезаревич Коланс, бывший минный офицер с бывшего военного транспорта под бывшим названием «Ратмир».
В детском саду не было ничего, на чем бы можно было сидеть или лежать. Стояли только маленькие креслица и столики. Сидеть приходилось на подоконниках или просто на полу. Спал я тоже на полу, заворачиваясь, несмотря на запрещение адмиральши, в лысый, пыльный ковер.
Я сворачивал ковер длинной трубой, обвязывал обрывком телеграфного провода, чтобы ночью он сам по себе не развязался, и заползал в эту шерстяную трубу головой вперед. А утром я выползал из ковра точно так же, головой вперед, но только в другую сторону. За ночь я проползал ковер насквозь.
Эта шерстяная труба стала для меня надежным и даже уютным убежищем во время тогдашней севастопольской жизни. Шатаясь без цели по промерзшему до седины городу, я ждал только вечера, той минуты, когда наконец залезу в ковер, немного согреюсь и мне начнут сниться очень связные и почти одинаковые сны. Должно быть, такие сны снились мне из-за духоты.
А снились мне преимущественно маленькие города среди скал, садов, около шумных речек или на морских берегах, где буковые леса подходят к самым пляжам.
Все эти города были населены любимыми людьми или знакомыми. Я несколько раз встречался там с Лелей и дедом Нечипором, со своим отцом и художником Врубелем, гардемарином с учебного корабля «Азимут» и латинистом Субочем, с поэтом Волошиным и санитаром Анощенко, «маленьким рыцарем» Гронским и профессором Гиляровым, с наборщиком из типографии Сытина и Иваном Буниным, с Люсьеной и Амалией Кностер. С каждым из этих людей возникали во сне крепкие связи и необыкновенные, щемящие сердце отношения. Часто я, впадая в отчаяние, искал в этих снах знакомых людей. Я знал, что они в это же время ищут меня и что наша встреча могла бы быть ознаменована какими-то чудесными, ликующими событиями, но встречи этой никогда не будет.
После таких снов я начинал понимать, что моя жизнь непомерно длинна, тогда как до тех пор она представлялась мне быстролетной и не оставляющей заметного следа. Просыпаясь и перебирая в памяти эти сны, я повторял про себя стихи Фета:
Все в этих стихах сейчас уже было неверным и неправильным для меня, но я повторял их с наслаждением. Должно быть, потому, что они составляли резкую противоположность всему, что происходило около.
Они не умирали, все эти слова, все эти напевы, начиная от Жуковского и Пушкина. Они жили среди голода, болезней, перестрелок, среди энтузиазма, казней, самопожертвования, гнева, невообразимой нищеты и непоколебимой веры в будущее и утверждали для меня простую истину, что сердце народа не повреждено и народ этот не может быть уничтожен ни физически, ни морально. Я уже понимал, что будущее прекрасно, и верил в него. Я уже понимал, что горести этих лет лишь умножают величие народного подвига того времени – времени больших ожиданий.
Но приходилось прекращать все эти замыслы, воспоминания стихов и удивительные сны и вылезать из ковра в изморозь серых стен и ледяного дня. Как только я вылезал из ковра, тотчас начинала зябнуть и болеть голова.
Я шел к адмиральше, выпивал стоя чашку теплого козьего молока и уходил.
Иногда мы выходили из дома вместе с мичманом и грязной козой Мартой. Она была серого жирного цвета, каким бывает залежавшийся стеарин или прогорклое свиное сало.
Мичман тащил козу на веревке на Исторический бульвар. Там коза объедала сухую траву на месте героических бастионов времен Севастопольской обороны.
Во время этих выходов мичман сообщил мне, что его сестра Мария – «маньякальная дура», что у нее религиозное помешательство и она через день заказывает в соборе панихиду по адмиралу Колчаку. Почти всех невысоких мужчин она считает переодетыми Колчаками, спасшимися от расстрела. Меня она тоже приняла за скрывающегося Колчака, о чем и кричала матери в вечер нашего знакомства.
Целые дни я проводил на Историческом бульваре, беседуя с мичманом. Деваться все равно было некуда. Мы долго грызли по небольшому куску черствого хлеба. Он был покрыт коркой известки. Мне казалось тогда, что весь Севастополь покрывала эта белая известковая кора. Она отваливалась от домов и трещала под ногами.
Потом я шел в столовую Союза моряков, где мне давали тарелку затирухи. В столовой я ухитрялся писать и передал в «Моряк» по портовому радио несколько корреспонденций о Севастополе. Одна из корреспонденций была посвящена героической борьбе «Димитрия» и его команды с ледяным штормом, а вторая – случаю, на наш теперешний взгляд незначительному, но просто ошеломившему меня в ту севастопольскую зиму.
Невдалеке от Артиллерийской бухты начали строить школу. Это строительство казалось мне тогда просто фантастическим.
Покрытые морозной пылью, шатающиеся от слабости люди копали фундамент, били кирками неподатливую каменистую землю, тяжело, со свистом дышали и часто присаживались передохнуть на глыбы желтого инкерманского камня, вытирая рукавами красные, слезящиеся от непрерывного морского ветра глаза.
Каждый удар киркой давался людям с великим трудом. Но, несмотря на это, фундамент с каждым днем углублялся, а потом в траншею легли первые тяжелые плиты известняка.
В то время это, по существу, обыкновенное явление показалось мне чудом. И оно действительно было чудом мужества. В нем как бы материализовалась великая надежда людей на будущее.
Из столовой я шел или на берег Южной бухты, где гремела непрерывная ружейная пальба по бакланам, или на базар. Там шел обмен хлеба на золото и лекарства. Но ни золота, ни лекарств ни у кого не было.
Один раз я пошел в Херсонес, но не дошел до него. Такая отпетая печаль была заключена в аспидных, как дым, степных далях, так жестко, как маленькие трещотки, хрустела под ветром трава и так заунывно стонало море, накатывая на берега траурную пену, что сердце у меня сжалось от одиночества, и я вернулся в Севастополь.
Проходила уже вторая неделя моего сидения в Севастополе. В Союз моряков пришло радио, что «Пестель» на днях выходит из Одессы, но его все не было. Может быть, он вообще не вышел из Одессы, а может быть, просто погиб. Никто ничего толком не знал.
Я продолжал бродить по городу, заходя время от времени в знаменитую Панораму, где не было ни души. Огромное полотно художника Рубо сотрясалось от ледяных сквозняков.
Я искал по городу теплых мест и зашел как-то в собор. Там холод просверливал насквозь худые подошвы сапог, от дыхания клубился густой пар, но около алтаря горело пять-шесть тоненьких свечей, и привычное представление о тепле, возникавшее от огня, чуть согревало меня. Но все равно озноб бил меня все дни напролет.
Наконец из Одессы пришло радио, что «Пестель» вышел в Батум и будет в Севастополе через сутки. Тогда я перебрался на пристань. Нас было несколько человек, дожидавшихся «Пестеля». Нам разрешили ночевать на пристани, в каморке, заклеенной пожелтевшими расписаниями пароходных рейсов.
Я с радостью переселился хоть на несколько часов в эту каморку. В ней стояла в углу еще теплая чугунная печка.
Это тепло показалось всем нам истинным чудом, таким неслыханным счастьем, что одна пожилая женщина, сидя около печки, даже расплакалась.
«Пестель» пришел утром. Из совершенно мертвого моря вдруг возникли далекие и красивые очертания старинного парохода с острым носом и бушпритом{83}. Он весь еще был окутан туманом, лежащей на горизонте загадочной желтоватой мглой и медленно приближался к Севастополю. Город тоже лежал в красноватой дымке, позолотевшей от солнца.
Свежий морской день, сотканный из легкого холода и легкой синевы, был прекрасным. Но еще более прекрасным, любимым и незаслуженно покидаемым показался мне Севастополь, когда над его бухтами, онемевшими от безветрия, раздался требовательный гудок «Пестеля». Он как бы разбил, на сотни осколков застоявшуюся тишину.
И осколки эти, звеня, полетели вдоль туманно-синих прибрежий, чтобы упасть с последним жалобным звоном у мыса Айя, Ласпи, у Фороса, Меганома и Карадага – у всех мысов и накатанных пляжей еще не пробужденной от полусмерти, изголодавшейся, но всегда волшебной Тавриды.
В день отъезда Севастополь снова предстал передо мной величественным, простым, полным сознания своей доблести и красоты, предстал русским Акрополем – одним из лучших городов на нашей земле.
В глубине ночи
Из Севастополя «Пестель» отвалил сырым и теплым утром.
Серая прозрачная вода лизала обшарпанные борта парохода, стараясь замыть на них окаменелые потеки соли.
Но это было бесполезно: «Пестель» мало уступал «Димитрию» по своей заржавленности и тесноте.
Я прошел на корму. Скрежетали от натуги железные шкворни, вращающие руль. Каждый поворот руля вызывал широкий, льющийся шум пены за кормой, и бушприт начинал, как говорят моряки, «катиться» то в одну, то в другую сторону.
Пепельный свет падал на город сквозь облака. В этом мягком освещении чувствовалось близкое присутствие солнца. Иногда мне даже казалось, что мое лицо теплеет от невидимых солнечных лучей.
Всем существом я ощущал в этот январский день ласковость юга, мягкость его воздуха, его приятную сырость.
Севастополь! Я бывал в нем в детстве, потом во время Первой мировой войны и вот сейчас, в пору голода и опустошения. Каждый раз он являлся передо мной совершенно новым, непохожим на прежний.
Я загадывал, каким увижу Севастополь еще через недолгое время. В том, что увижу, я был уверен. И действительно, я потом приезжал в него много раз, жил в нем и полюбил его, как свою вторую родину. С ним было связано много воспоминаний, много горя и радости.
Если бы не Севастополь, то вряд ли так остро и, пожалуй, безошибочно я видел бы выдуманные, но безусловно существующие в пределах вселенной гриновские города, такие, как шумный Зурбаган и зарастающий травами Лисс.
Меня поражало то обстоятельство, что даже легкое прикосновение человеческой руки к благословенной севастопольской земле создавало привлекательные вещи: причудливые переулки, каменные лестницы, тонущие в глициниях, уютные повороты дорог, стремительную игру солнечных вспышек в стеклах домов, балконы, где греются маленькие зеленые ящерицы, полумрак и полусвет кофеен, их вывески, похожие на детские картинки, намазанные густой акварелью.
Севастополь никогда не был для меня городом вполне реальным и будничным.
Иногда мне казалось, что он скучнеет, сереет и теряет живописные приметы. Но тут же размах морского горизонта за окнами или запах копченой султанки возвращали меня к действительности – к Севастополю, разбросанному, как пожелтевшая от древности мраморная россыпь на берегах индиговых бухт, к шуму его флагов, к магниевым искрам маслянистой волны, запаху роз и помидоров, к пришедшему издалека навестить Севастополь ветру Эгейского моря с его свитой розовых высоких облаков.
Я долго смотрел с кормы вслед Севастополю. Потом «Пестель» медленно обогнул башню Херсонесского маяка, и впереди по левому борту открылась стена сиреневых Крымских гор.
Перед отъездом из Севастополя я сутки не спал из-за холода и волнения. Поэтому глаза у меня сейчас слипались. Я нашел себе спокойное, темное место в салоне, под трапом, лег на полу и мгновенно уснул.
Проспал я долго. Когда я проснулся, под трапом было уже темно. В салоне слепо светила электрическая лампочка и пахло кислой капустой.
Судорога свела мне живот. Нестерпимо захотелось есть, и я, ужасаясь предстоящей полной своей нищеты, заказал на последние деньги тарелку тушеной кислой капусты. Я съел ее с черствой коркой от моей единственной севастопольской буханки хлеба.
Проснувшись, я решил, что уже наступила ночь, но оказалось, что еще только садится солнце. Как бы залитый темной кровью, отвесный обрыв Крымских гор медленно и грозно двигался за окнами салона. На палубе задувал с востока неприятный ветер. Глухие воды цвета тины бежали навстречу «Пестелю». Рыжие от сухого дубняка обрывы Яйлы кое-где еле тлели последним огнем.
Далеко впереди помаргивал красным глазом огонь Ялтинского портового маяка. И ни единого огня больше не было на всем протяжении берега. Весь Крым был брошен, пуст, выметен зимними ветрами. Он окоченел от стужи.
Я долго всматривался в берега, отыскивая хотя бы жалкий, тлеющий свет, хотя бы язычок свечи, как свидетельство, что кто-то еще жив в этой пустынной стране. Но, кроме мрака, быстро гасившего один за другим зубцы гор, ничего вокруг я не видел.
В Ялту «Пестель» пришел в девять часов вечера. Город был тих и черен. С окраин долетали одиночные винтовочные выстрелы.
На молу было пусто. Лужи рябили от ветра, валялись разбитые бочки от кислой капусты, и бродили, закинув винтовки за плечо, озябшие часовые в обмотках.
Пассажирам объявили, что «Пестель» простоит в Ялте до утра, так как ночью идти из-за мин опасно. Желающие могут спуститься на мол, чтобы размять ноги, но в город выходить рискованно. Нет света, и к тому же на первом перекрестке могут остановить и раздеть, а то и убить бандиты.
– А не бандиты, – заметил часовой, стоявший у трапа, – так беляки подстрелят. Бежать не успели, ховаются теперь по горам, по гнездам. Их паяльником надо выжигать из тех гнезд.
Капитан приказал отвести пароход от причала и стать на якорь в нескольких метрах от берега, чтобы никто не мог незамеченным проникнуть на пароход.
Я успел спуститься по шаткому трапу на мол и пошел к воротам в город. Около ворот я остановился. На них висел, моргая, керосиновый фонарь «летучая мышь». Под фонарем сидел на ящике старик в приплюснутой морской фуражке и держал между колен винтовку.
За воротами лежала тьма. Изредка из нее доносился шелест сухих листьев.
Я сделал несколько шагов в эту темноту и остановился. Сторож равнодушно взглянул на меня и отвернулся. Ему было все равно, убьют ли меня или нет. Ему только хотелось, чтобы я его ни о чем не спрашивал и не помешал ему думать о своих домашних делах. Убитых он видел много, больше чем достаточно, и они уже не вызывали у него даже простого любопытства.
Я оглянулся. Можно было еще вернуться на пароход, но непонятное возбуждение охватило меня. Я стоял как будто на краю пропасти.
Я посмотрел на тусклые лампочки на палубе «Пестеля» и вдруг понял, что не могу противиться зову темноты, что она тянет меня, что мне уже страшнее возвращаться через плотную полосу темноты на бледно освещенный мол, чем раствориться в этой темноте и даже погибнуть в ней.
Я понимал, что испытываю свою судьбу, что делаю глупость, что идти ночью в город безрассудно. Но тьма уже безраздельно владела мной. Сердце билось веско, медленно, и я убеждал себя в том, что не могу вернуться на пароход, пока не узнаю, что кроется в этом настороженном мраке.
Часто бывает, что человек не может вспомнить какое-нибудь название или фамилию и, пока не вспомнит, становится как одержимый, как помешанный. Он думает только о разгадке своей тайны, глохнет, немеет и ничего не видит вокруг. Примерно такое же состояние было со мной. Ночь хранила какую-то тайну, и я не мог жить, пока ее не узнаю.
Тьма втягивала меня, как тянет к себе французских колониальных солдат Сахара. Мне рассказывал об этом Бабель. Солдаты уходят в пустыню, дезертируют и никогда не возвращаются обратно.
Я не испытывал страха. Наоборот, желание, чтобы сейчас случилось нечто внезапное и решило мою судьбу, охватило меня. Эта ночь казалась мне пределом моей жизни, за ней должна была быть гибель или ослепительный свет.
Сейчас я думаю, что мое состояние в Ялте было вызвано севастопольским голоданием. Но тогда я жил внутри этого состояния и не мог оценить его со стороны.
Холодно и спокойно я решил, как надо себя вести в этой темноте. Прежде всего – двигаться совершенно бесшумно, красться, вжимаясь в стены, чтобы не выдать себя даже малейшим вздохом. Темнота скрывала меня, и только две вещи грозили мне гибелью – предательский шум, будь то шарканье подметок, дыхание, кашель, свист в бронхах, треск сухого листа под ногой или, наконец, прямое столкновение с человеком в темноте.
Но, пройдя до моста через пересохшую речку Учан-Су, я понял, что меня спасают от опасности не все эти предосторожности, а безошибочное ощущение близости притаившегося, как и я, человека. Каждый из этих невидимых людей был врагом. Каким-то неназванным, но существующим во мне шестым или двенадцатым чувством – не знаю – я определял, что в нескольких шагах от меня стоит и прислушивается человек. Я ощущал так же, как и этот человек, теплую от руки сталь затвора, хотя у меня в руках ничего не было.
И еще одно преимущество – и притом огромное – было в том, что враги, скрытые от меня кромешной ночью, не знали, что главный закон сохранения жизни в такую ночь – это полная бесшумность. Поэтому они часто выдавали себя, и я их вовремя обходил.
И, наконец, я убедился, что человек издает гораздо больше шумов, чем мы думаем. Даже поворот головы, а в особенности всего туловища бывает иногда ясно слышен.
Существовала еще одна опасность. Это спички. Электрических фонариков в то время не было, но спичка могла вспыхнуть в любую минуту и выдать меня врагам на внезапную смерть.
Куда я шел? Я не знал этого, пока не забрел в тупик.
Я шел долго, иногда сходил на мостовую, если тротуар мне казался почему-то опасным. Изредка возникал ветер, шумел в кипарисах, и тогда я двигался смелее.
Я избегал обочин. На них были колодцы для стока дождевой воды.
Когда я зашел в тупик – я не помню. Должно быть, уже была самая поздняя пора ночи. Я уперся в каменную стену. Направо к ней примыкала такая же каменная стена. Я поднял руку и ощупал ее, но нигде не мог дотянуться до верха. Она была достаточно высокой, и перелезть через нее было невозможно.
Налево тоже тянулась стена. Она прерывалась воротами. Рядом с воротами в стене была прорезана узкая калитка, а около нее я нащупал вывеску.
Третья стена – та, где были калитка и вывеска, – оказалась низкой, на уровне моих плеч. За ней чувствовался внизу густой сад, хотя он и не шумел.
Я вынул спички и зажег сразу три, чтобы вспышка огня была ярче обыкновенной. Я решил прочесть вывеску.
Желтый огонь осветил ее, и я успел увидеть только три слова: «Дом Антона Павловича…»
Ветер задул спичку. Тотчас где-то выше по Аутскому шоссе хлопнул выстрел. Пуля низко пропела над оградой и с легким треском сбила ветку на дереве.
Вторая пуля пропела выше и ушла во мрак, где лежало онемевшее море.
Я вжался в нишу калитки. Я сразу все забыл: свое странное состояние, похожее на душевную болезнь, весь напряженный, как по канату, путь через зловещий город сюда, к дому Чехова.
Я был в этом доме еще мальчиком, в 1906 году, на второй год после смерти Чехова, шестнадцать лет назад.
Я не понимал, да и сейчас не понимаю, почему я пришел на Аутку, именно к этому дому. Я не понимал этого, но мне уже, конечно, казалось, что я шел к нему сознательно, что я искал его, что у меня было какое-то важное дело на душе и оно-то и привело меня сюда.
Какое же дело?
Я вдруг почувствовал глубокую горечь и боль всех утрат, настигавших меня в жизни. Я подумал о маме и Гале, о двойной, где-то далеко горящей и не заслуженной мною любви, о покойной Леле, о внимательном и утомленном взгляде Чехова сквозь пенсне. Тогда я прижался лицом к каменной ограде и, стараясь изо всех сил сдержаться, все же заплакал.
Мне хотелось, чтобы калитка скрипнула, открылась, вышел бы Чехов и спросил, что со мной.
Я поднял голову. Горы смутно белели в темноте магическим и неподвижным светом. Я догадался, что на горах выпал снег, сухой, хрустящий, горный снег, что потрескивает под ногами, как гравий.
И внезапное чувство близкого и непременного счастья охватило меня. Почему – я не знаю. Может быть, от этого чистейшего снежного света, похожего на отдаленное сияние прекрасной страны, от долго сжатого в глубине сознания и невысказанного ощущения своей сыновности перед Россией, перед Чеховым. Он любил свою страну по-разному, но любил ее и как застенчивую невесту, о которой написал свой последний рассказ. Он твердо верил, что она идет к неизбежной справедливости, красоте и счастью.
Я верил, что оно придет, это счастье, для моей страны, для голодного, ледяного Крыма, наконец, для меня.
Это ощущение было стремительным и ликующим, как порывистый любящий взгляд. Оно согрело мне сердце и высушило слезы усталости и одиночества.
Обратно я шел не скрываясь. В меня два раза стреляли. Наконец в глухой темноте я опять прошел мимо старика с винтовкой у ворот порта. Он так же равнодушно посмотрел на меня, как и несколько часов назад.
Потом я долго сидел на молу, прислонившись к бетонному квадратному массиву (из таких массивов был сложен ялтинский мол), смотрел, как серела ночь, и ждал, когда «Пестель» опять подтянется к причалу. Тогда я заберусь под лестницу в салоне и усну. И даже во сне буду ждать, как всегда ждал наяву, счастливых неожиданностей и перемен.
Таруса на Оке
1958. Осень
Книга пятая
Бросок на юг
Короткое объяснение
Эта книга – пятая по счету из автобиографического цикла «Повесть о жизни». В ней мне пришлось «по ходу пьесы» отойти от России и перенести действие на крайний юг – на Кавказ и в Закавказье.
Снова я попал в края, где только что установилась Советская власть. Так случилось, что все время я с большими перерывами догонял движение революции на юг. По этой причине ее развитие представляло для меня не прямую линию, а причудливые петли и возвраты. Пережитое год назад возвращалось, но в ином виде и с разными добавочными событиями.
Я оторвался от России почти на два года. Но не жалею об этом: я многое за это время узнал.
Событий и людей в книге много, но все же гораздо меньше, чем было в действительности.
По довольно разумным законам драматургии, пьесы обычно делятся на несколько точных частей.
Вначале – экспозиция, то есть введение читателя и зрителя в круг людей, событий и пейзажа. Затем – развитие действия, после чего наступает кульминация – высший подъем, взрыв, самая напряженная часть пьесы. Тогда зрители начинают волноваться, привстают в креслах и даже вскрикивают.
В кино типичнейший пример кульминации – это погоня. Эти бешено скачущие всадники (чтобы убить врага или спасти любимую девушку) обошлись мирной, в особенности юной, части человечества довольно дорого и истрепали уйму нервов.
К сожалению, мы не знаем, как измеряется потрепанность нервов. В наш нервический век наука еще не дошла до того, чтобы найти способы этого измерения.
Подлинная жизнь, описанная мною, как это ни кажется странным, сама по себе сложилась в те годы по законам драматургии.
Первая книга («Далекие годы») может быть названа экспозицией, неторопливым введением к повествованию. Вторая («Беспокойная юность») дает развитие действия; третья и четвертая («Начало неведомого века» и «Время больших ожиданий») соответствуют наибольшему напряжению, а пятая («Бросок на юг») приносит с собой некоторую разрядку. Это всегда происходит и в пьесах. Драматург делает разрядку, чтобы зритель немного отдохнул. А затем подходит закономерный конец.
Здесь сама жизнь устроила разрядку, некоторое отступление от основной темы. Она перенесла автора на Кавказ с его пестротой событий, людей и природы и, кроме того, наполнила жизнь южным жизнелюбием и юмором. На юге он не иссякает ни при каких обстоятельствах и не отступает ни перед чем.
Благодарность читателю
Эту книгу я хочу начать с благодарности одному из читателей – отставному капитану первого ранга А.И. Малову, живущему в Севастополе.
Капитан Малов проверил в предыдущей автобиографической повести «Время больших ожиданий» все, что имело хотя бы косвенное отношение к морю, и прислал мне несколько замечаний.
Обширные и живые познания капитана в морском деле придают его замечаниям характер коротких морских рассказов. В письме капитана включены своего рода небольшие исследования о цвете берегов Северо-Западного Крыма, о так называемой «башне Ковалевского» под Одессой, служившей путеводным знаком для штурманов, о многих подробностях морского дела, настолько интересных, что из них неизбежно рождается морской романтизм.
Я приведу без всякого выбора всего три замечания, присланные мне капитаном.
Из этих замечаний каждому станет ясно, как человек относится к своему делу.
Прежде всего, он его уважает и не терпит по отношению к нему легкомыслия.
В одном месте книги я взял в кавычки слово «лоция». Это сейчас же вызвало справедливое возражение старого моряка: «Не надо принижать лоцию и брать ее в кавычки».
В другом месте я опрометчиво написал, что Тарханкутский мыс и маяк с давних пор пользуются дурной славой среди моряков. Мой капитан по этому поводу замечает: «Это правильно. Но зачем вы упоминаете маяк? Мыс – это да! А спасительный, предупреждающий, ориентирующий маяк, хотя и носящий (нелюбимое моряками) имя Тарханкутского, не поминается лихом. Моряки маячные огни почитают, а вот мысы, узкости и другие навигационные опасности не славословят».
И, наконец, совершенно трогательно выглядит заступничество капитана за обиженный мною пароход «Пестель».
Несколько раз я плавал на «Пестеле», привык к нему и даже полюбил его. В первые годы Советской власти он единственный поддерживал связь между Кавказским побережьем и Россией.
Но я написал, что «Пестель» был дряхлый и тесный пароход – такой же, как и старая посудина «Димитрий» (эта последняя так называемая морская «коробка» сделалась одним из неодушевленных героев книги «Время больших ожиданий»).
Эти мои слова вызвали ответ капитана:
«Вы слишком одряхляете „Пестеля“. Он был иным, чем „Димитрий“. Он был моложе, мореходнее и иной корабельной архитектуры. За свой внешний вид, удивительно красивое строение корпуса, рангоута и надстроек, „Пестель“ у всех моряков торгового и военного флота пользовался глубоким уважением, симпатией и даже особой любовью.
«Пестель» погиб в 1943 году. Он был торпедирован в районе Анатолийского побережья. До 1941 года он плавал на линии Одесса – Батум, а с наступлением войны стал транспортом. Память о нем жива среди старых черноморцев».
Заканчивая это небольшое вступление к книге, я хочу пожелать каждому писателю таких взыскательных читателей, как капитан Малов.
И вместе с тем я не могу удержаться, чтобы лишний раз не позавидовать капитану за то, что он живет в Севастополе, и лишний раз не написать об этом колдовском городе.
Пишу я это в Ялте. Пишу медленно, часто откладываю перо и думаю, что на днях я непременно поеду в Севастополь.
В Севастополе меня встретит знойная осень. В узкой тени от подпорных стен еще будет зеленеть пыльная трава. Я не знаю даже, как называется эта курчавая скромная трава. Она довольствуется одной росой и героически переносит палящее севастопольское лето. К тому же она издает приятный слабый запах. Он напоминает запах перегоревших от солнца черных водорослей, которыми бывают усеяны пустынные пляжи. Эти водоросли покрыты мельчайшими крупицами соли. Если растереть веточку такой водоросли пальцами, то она рассыплется в бурый порошок.
Сейчас над Севастополем нависла жара. Кажется, что кто-то невидимый осторожно налил ее во все севастопольские улицы и дворы до уровня черепичных крыш. Под слоем этой тяжелой жары требовательно звенят в своих подземельях цикады.
В Севастополе можно часами сидеть на Историческом бульваре, томясь от духоты, и вдруг глубоко вздохнуть, когда нежданный ветер прорвется по невидимому фарватеру среди стен, оград, памятников, остатков бастионов, кустов акации и ударит в лицо. Это спасет вас от обморочной слабости и напомнит, что рядом, за Корабельной стороной, за Братским кладбищем, брызжет волной Черное море.
Севастопольские бухты врезаны в ноздреватые берега, как в окаменелую губку. На этом губчатом песчанике растут, вытягиваясь из щелей, слабые колоски, а иной раз и вылинявшие цветы величиной со спичечную головку. Очевидно, в растительном мире их считают карликами. А может быть, детьми.
Я человек с длинной жизнью. Мне пришлось пережить почти все, что может случиться на свете с человеком того возраста, когда, по словам Есенина, «пора уже в дорогу бренные пожитки собирать»{84}. И вот я завидую этим колоскам, потому что дни, недели и месяцы они стоят над морем немыми свидетелями жизни. И никто от них не требует обязательного выражения своих чувств.
Мне даже кажется, что для них время движется медленнее, чем для нас, и они – неподвижные – видят мир спокойнее и лучше, чем мы.
Что касается меня, то я всю жизнь переходил от непрерывной деятельности к жажде того состояния, когда «студеный ключ, играя по оврагу и погружая жизнь в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда льется он»{85}.
Да, иной раз я хотел испытать хотя бы ничтожную долю состояния, когда погружаешься в какой-то смутный сон. Но я хорошо знал, что такое состояние только называется сном. На самом же деле оно наполнено плодоносным напряжением.
Я завидовал колоскам. Перед ними медленно сменялись рассветы и полудни, вечерние зори, белое качание теплоходов в шумящих водных далях, лучи солнца, бьющие из-за туч, мелкая роса, похожая на светящуюся манну, и звезды, подобные большой росе.
Перед этими ничтожными травинками все время проходили разные мгновения жизни в их подлинном великолепии. И все это возвращалось каждый раз при наступлении нового дня.
Но зависть быстро умирала, когда по ту сторону Южной бухты проносились в сумерках и гасли в туннеле огни скорого поезда. Эти огни уводили от архаической мглы Херсонеса и Инкермана, от диких обрывов мыса Айя и Фиолента туда, на север, где, должно быть, уже сыпались, наполняя воздух горечью, желтые березовые листья.
Я думаю, что мир в равной степени достоин медленного и плодотворного созерцания и разумного и мощного действия. Созерцание – одна из основ творчества и любви к земле, в первую очередь к своей, отечественной.
Я вижу, что разговор о Севастополе начинает заводить меня слишком далеко. Поэтому я обрываю его и перехожу к повествованию.
Знатоки литературы, не пишущие книг, утверждают, что повествованию нужна железная последовательность. Пишущим книги остается только принять на веру этот закон и постараться выполнить его.
Табачная республика
Когда «Пестель» стоял в Новороссийске, на город начал надвигаться норд-ост. Появился первый признак этого бесноватого ветра: по горам потянулось облако, похожее на жгут грязной ваты. Сами же горы напоминали мертвых верблюдов с выпершими из-под пыльной шкуры ребрами.
Ватный жгут разворачивался, сползал с гор и нес с собой ветер. Надо было отваливать, пока норд-ост не успел еще обрушиться на порт. Ветер уже злорадно подсвистывал в снастях и начисто выплескивал из луж беловатую воду.
«Пестель» снялся и полным ходом начал уходить в море, к югу. По свидетельству моряков, норд-ост по мере удаления от Новороссийска быстро ослабевает и теряет свою разрушительную силу.
Нам удалось уйти от норд-оста.
Ночью я проснулся, увидел за иллюминатором в низком мраке озябшие огни Туапсе и снова уснул.
Засыпая, я думал, что, судя по началу, не стоит ждать от Кавказского побережья ничего особенного. Но утреннее мое пробуждение оказалось почти феерическим.
Я проснулся и долго лежал, не открывая глаз, ощущая у себя на лице чьи-то теплые ладони. От них пахло цветущей мимозой.
Это был, конечно, утренний бриз. Он заполнил каюту, лениво бродил по ней и прикасался ко всему, что попадалось ему на пути, в том числе и к моим щекам.
Сквозь полусон я вспомнил, что вот уже пятый день не брился и наверняка исцарапаю своей щетиной эти милые ладони. Мне стало стыдно, я решил тотчас побриться и, должно быть от этого, окончательно проснулся.
Позванивала якорная цепь. С палубы доносились обычные портовые возгласы: «Вира{86}, чертов банабак! Майна помалу!»{87}
Наконец я открыл глаза. За иллюминатором блистало солнце, занявшее половину неба и половину моря и как бы приблизившееся к земле. В его победоносном свете качалась снаружи живая стена роскошной растительности.
На нее то тут, то там были брошены разноцветные мазки из киновари, чистейших белил и охры. Я закрыл глаза, помотал головой и, снова открыв глаза, убедился, что это не мазки масляной краски, а разбросанные по листве незнакомые цветы.
«Что это? – спросил я себя и сел на койке. – Мираж? Или остров Таити? Или райские острова Самоа?»
Нет, это не было ни миражем, ни островом Таити, ни галлюцинацией после мрачной ночи. Я услышал за иллюминатором хрипловатый голос второго помощника капитана.
– Ни-ко-го! – сказал он решительно. – Никого не спустим на берег. Ясно? Хоть самого Шолома Алейхема{88}. Приказ правительства Абхазской Республики! Точка! Так что можете полюбоваться Сухумом с палубы и не полировать себе кровь. Еще, даст Бог, поживете на свете и увидите всё, что вам надо увидеть, и даже то, чего вам совсем не надо бы видеть.
Я быстро оделся и вышел на палубу. Блеск медных пластинок, набитых на ступеньки трапа, ослепил меня. Короткое головокружение заставило схватиться за поручни.
С берега наплывали терпкие запахи, сливаясь с чуть ощутимым шелковистым веянием роз.
Запахи то сплетались в тугой клубок, сжимая воздух до густоты сиропа, то расплетались на отдельные волокна, и тогда я улавливал дыхание азалий, лавров, эвкалиптов, олеандров, глициний и еще множества удивительных по своему строению и краскам цветов.
Я решил сойти на берег в Сухуме, чего бы это ни стоило. И не только сойти, но и остаться здесь.
Мне казалось, что если я сойду, то сбудутся мечты моего детства. Мечты о том, чтобы, на худой конец, хотя бы прикоснуться к ворсистым стволам кокосовых пальм, к изумрудной коре бамбука – всегда холодной и глянцевитой, к земле, розовой от кораллового песка.
Такие мечты я, когда был еще мальчишкой, называл, подражая маме, «несбыточными». Это слово я часто слышал от нее, когда она сердилась на отца. Она даже кричала на него. Когда же он, сгорбившись, покорно уходил из дому, чтобы избежать постоянных попреков, то мама плакала от жалости к нему и брала с меня слово, что я буду всю жизнь любить его и беречь, как ребенка. «Я не могу смотреть на его сгорбленную спину», – говорила она с отчаянием.
Но ни она, ни я и никто из близких не уберегли его – это мучило маму до самой ее смерти.
В детстве я, конечно, не испытывал никакой горечи от «несбыточного». Да и не мог испытывать. Я только догадывался, что это чувство очень грустное и что оно, как однажды сказал отец, опустошает ни в чем не повинное человеческое сердце.
Когда я был уже восьмиклассником, я нашел в письменном столе отца узкие полоски бумаги, исписанные его рукой. Я смог разобрать только одну фразу – о том, что несравненно тяжелее пережить несбывшееся, чем несбыточное.
С тех пор слабая печаль о несбывшемся почти не оставляла меня, несмотря на мой внешне веселый характер. С тех пор меня в жизни привлекали больше всего такие случаи, обстоятельства и люди, которые оставляли ощущение промелькнувшей небылицы.
Я понял смысл отцовских слов и еще больше полюбил его, но уже на том страшном отдалении, на каком мы с ним находились сейчас. Он лежал в потрескавшейся от засухи земле, среди колючего чертополоха, на деревенском кладбище под Белой Церковью, а я скитался по свету один.
Мы навсегда потеряли друг друга. Но я еще хоть изредка мог вспоминать о нем. А он меня не мог даже вспомнить.
Я твердо решил остаться в Сухуме. Но как это сделать?
«Пестель» стоял на якоре далеко от берега. Только две широкие турецкие лодки (их называли «магунами») были пришвартованы к его борту. С них лебедкой грузили на «Пестеля» обшитые холстиной тюки табака. На берег никого не пускали из-за объявленного абхазскими властями загадочного карантина.
Я пошел к капитану и сказал ему, что мне нужно, как сотруднику «Моряка», хотя бы на час съехать на берег. Капитан поморщился.
– Надо поговорить со смотрителем порта, – сказал он. – Тяжелый мужчина. Ну, все равно. Пойдемте.
Смотритель порта, человек с рыжими, как прокуренные усы, бровями, решительно и грубо отказался пустить меня на берег.
– Кредит, – сказал он грозно, – портит отношения.
При чем здесь был кредит, я не понял.
Капитан настаивал, и смотретель порта наконец сдался.
– Можете выкатываться, – сказал он мне, – но только в том виде, в каком вы сейчас стоите передо мной. Без чемодана, без всякого барахла и даже без кепки. И прямо отсюда на берег, не заходя в каюту.
– Почему? – спросил я, хотя прекрасно понял, что смотритель боится, как бы я не захватил в каюте деньги и не остался в Сухуме.
– Я имею привычку, – ответил он, – обижаться на лишние расспросы. Если согласны, спускайтесь в магуну. Она сейчас отвалит. А следующей магуной вернетесь. Популярнее объяснить не могу.
Я слез в магуну по веревочному трапу. Пока я еще не представлял себе, как вывернусь из этого затруднения с Сухумом. Меня успокаивало лишь то, что все деньги были при мне. Чемоданом я решил пожертвовать: там ничего ценного не было, кроме трех чистых рубах. Рукопись своей первой повести «Романтики» я оставил в Одессе.
В магуне першило горло от табачной пыли. Через борт лениво заглядывала малахитовая волна. Грузчики-абхазцы с хищными лицами яростно кричали. Пыльные мешки были гордо обвязаны вокруг их голов.
Мне показалось, что грузчики собираются выбросить меня в море. Но смотритель порта крикнул им что-то по-абхазски. Они сразу успокоились и даже угостили меня табаком «самсун».
От этого табака у меня на несколько секунд остановилось дыхание. Солнце завертелось в небе. Абхазцы сочувственно покачали головами и нехотя взялись за тяжелые весла. Магуна поползла, переваливаясь, к таинственному берегу.
Для того чтобы понять, что происходило в то время в Сухуме, нужно рассказать про общую обстановку на том клочке кавказского берега, где простиралась у подножия гор душная и маленькая Абхазия.
Советская власть в Абхазии была установлена совсем недавно. Старое перемешалось с новым, как перемешиваются вещи в корзине от сильного толчка.
Конечно, только молодостью Советской власти объяснялись все те казусы и удивительные положения, какие возникали в тогдашней Абхазии и напоминали нравы маленькой южноамериканской республики, описанные веселым пером О. Генри в его книге «Короли и капуста».
Первое время своей жизни в Сухуме я постоянно терял веру в действительность того, что происходило вокруг. У меня как бы расшаталось чувство времени и обстановки.
Если бы я увидел тогда на рее шхуны «Три брата» контрабандиста в крепко просмоленной петле, я бы, пожалуй, не очень удивился. Если бы в заливе остановился круглый бронированный монитор{89} времен войны между Северными и Южными штатами и начал швырять на Сухум ядра, маленькие, как дыньки канталупы, я не был бы особенно поражен.
Если бы моя сухумская хозяйка, семидесятилетняя мадемуазель Генриетта Францевна Жалю, бывшая гувернантка, оказалась бывшей любовницей бывшего владетеля Абхазии светлейшего князя Шервашидзе, то в этом тоже не было бы ничего особенного. Я продолжал бы невозмутимо пить чай с подаренным мне престарелой мадемуазель кислейшим в мире кизиловым вареньем. Сироп этого варенья напоминал кровь горного заката.
Что же происходило в Абхазии на самом деле?
Маленькая страна, тесно зажатая с трех сторон областями, где люди умирали от сыпняка, решила спастись самым доступным и нехитрым способом – отрезать себя от остального мира и следить, чтобы ни одна мышь не перебежала границу.
Сделать это было сравнительно легко.
С севера Абхазию отгораживал Главный хребет. Единственный Клухорский перевал в то время был непроходим – вьючная тропа в нескольких местах обрушилась. Днем и ночью без устали сползали и дымили по обрывам лавины.
С севера, со стороны Сочи, и с юга, со стороны Аджарии, шоссе и мосты были взорваны во время гражданской войны и загромождены множеством осыпей и обвалов.
Оставался единственный путь – море. Но на море не было пароходов, если не считать «Пестеля».
Всего легче было объявить карантин против сыпняка и никого не пускать с парохода на берег. Так местные власти и поступили.
А между тем по всему Черноморью и соседним землям ширился слух о существовании на кавказском берегу маленького рая с фантастическим изобилием продуктов и волшебным климатом. Все рвались в этот рай, но он был наглухо закрыт.
Этот рай назывался Абхазией. О ней мало знали в то время. О ней почти не было ни газетных статей, ни книг, и, кроме чеховской «Дуэли», не было напечатано ни одного рассказа, действие которого происходило бы в Сухуме.
Для меня все в Абхазии было тогда чужим – и горы, и реки, и растительность, и народ.
Огромные горные вершины – их имен я еще не знал – отчетливее всего выделялись на закатах. Их ледяные зубцы тлели густым жаром заходящего солнца.
Первое время мне с непривычки казалось, что исполинские эти хребты медленно двигаются с северо-запада на юго-восток, как бесконечная вращающаяся панорама.
Чтобы избавиться от этого ощущения, я взглядывал на что-нибудь вблизи себя – на дома, на камни под ногами, – тогда горы вдруг останавливались.
Это первое, даже несколько зловещее, впечатление от гор прошло только весной, когда я попал в глубь Абхазии и увидел горы во всей силе буковых лесов, в кипении пенистых рек, в размахе растительности.
У меня в Сухуме не было знакомых, и я часто бродил по окрестностям города один. Отходить далеко я не решался.
По словам старожилов, в десяти километрах уже начинался встревоженный войной и междоусобицей Кавказ. На любом повороте горной дороги можно было получить пулю в спину или погибнуть под внезапным обвалом.
Успокоение приходило на Кавказ медленно, исподволь, только с приходом Советской власти.
Поэтому дальше реки Келасуры, впадавшей в море в пяти километрах от города, я не ходил. Но и эта река была полна загадок.
На поворотах Келасура намывала маленькие песчаные косы. Они горели под солнцем, как золотой песок.
В первый раз попав на Келасуру, я намыл из этого берегового песка горсть темно-золотых чешуек – веселых и невесомых. Но через час они почернели и стали похожи на железные опилки.
В Сухуме мне объяснили, что это не золото, а серный колчедан. Но все же я его не выбросил, а высыпал горкой на подоконник. Я наивно надеялся, что под лучами солнца колчедан снова начнет излучать золотой блеск. Но этого не случилось.
Растительность тоже была загадочной – и древняя, существовавшая в Абхазии тысячи лет, и новая, пересаженная из Японии, Италии, Индии, Полинезии и других стран. Первыми на сухумском берегу развели эту заморскую растительность ученые-ботаники и местные плантаторы-садоводы.
Растительность поражала головокружительными запахами, причудливыми формами и громадными размерами.
За домом мадемуазель Жалю – последним домом в городе на горе Чернявского – стояли заросли высоких и душистых азалий. В этих зарослях прятались шакалы. От запаха азалий болела голова.
Позади этих азалиевых полей темнела стена лакированной бамбуковой рощи. При малейшем ветре листья бамбука не шумели, как наша северная листва, а перешептывались. Если же ветер усиливался, то листья извивались, как маленькие змейки, и тихо свистели – тоже как маленькие злые змейки.
И абхазцы казались загадочными. Большей частью это были люди сухощавые и клекочущие, как орлы. Они почти не слезали с седел. Кони, такие же сухощавые, как и люди, несли их, перебирая тонкими ногами.
Почти у всех абхазцев были профили, достойные, чтобы их отлить из бронзы.
Мужчины отличались гордостью, вспыльчивостью, рыцарской честностью, но были угрюмы и неторопливы. Работали женщины. В тридцать лет они уже выглядели старухами.
Я часто встречал женщин на дороге из горных селений в Сухум. Они брели согнувшись, касаясь одной рукой земли, едва дыша под тяжестью мешков с кукурузой или вязанок хвороста. А впереди на лоснящихся конях ехали подбоченясь мужчины – мужья, а иной раз сыновья и даже внуки этих женщин. Пояски с серебряным набором сверкали на их тонких черкесках.
Они проезжали мимо с бесстрастными лицами признанных красавцев. Но все же им было не по себе. Я сужу об этом по тому, что они не выдерживали осуждающего взгляда, отворачивались и пускали коней вскачь.
Я пытался помочь женщинам, иногда совсем маленьким девочкам, но женщины так шарахались от меня и у них появлялась в глазах такая испуганная мольба, что я перестал помогать, понимая, что от этого им будет хуже.
Когда-то многие из этих женщин были, очевидно, красивыми. Судить об этом можно было только по глазам и пальцам. Женщины на ходу прикасались пальцами к земле, как бы отталкиваясь от нее: должно быть, так было легче тащить непосильную ношу.
Иногда я замечал у какой-нибудь старухи тонкие и нервные губы или молодой блеск глаз, и тогда становилось ясно, что эта женщина совсем не старуха. Старухой ее сделала вьючная жизнь.
Изредка женщины останавливались и вытирали тыльной стороной кисти слезящиеся глаза. Но то были слезы не горя и обиды, а бесконечной усталости.
Среди тогдашней мешанины нового и старого самым удивительным на первый взгляд было существование в Сухуме свитского генерал-адъютанта, бывшего феодального владетеля Абхазии и, как говорили, морганатического мужа старой государыни Марии Федоровны, князя Шервашидзе.
Его не трогали, – должно быть, оттого, что старый этот князь давно спился.
Он жил в небольшом домике на окраине Сухума. В первую советскую осень некоторые крестьяне еще привезли ему по привычке феодальную дань – кукурузу, табак, козий сыр и алычу.
В день доставки дани Сухум содрогнулся от пронзительного, просверливающего череп визга, как будто на базаре вопили, барахтаясь в мешках, сотни поросят.
То визжали несмазанными колесами арбы. Их волокли невозмутимые буйволы. Они даже не косились на черепа своих сородичей – лошадей, выставленные на заборах абхазских дворов от дурного глаза.
Услышав визг, я проснулся и выглянул в окно. Индиговое небо не грозило никакими бедами. Оно радостно трепетало. Но визг неумолимо накатывался и окружал Сухум со всех сторон.
Генриетта Францевна крикнула мне, что это жители Цебельды, Мерхеул и еще каких-то селений свозят дань Шервашидзе. Она пообещала, что визг скоро затихнет, но возобновится к вечеру, когда аробщики напьются в духане «Завтрак на ходу» – молодого вина – маджарки, споют в честь родственников и знакомых застольную песню и поползут обратно.
В год моего приезда это была последняя дань. Шервашидзе предусмотрительно отказался от нее, оставив себе немного кукурузы.
Он считал себя рыцарем, этот старый князь. Он говорил на таком приподнятом русском языке, что даже русские приходили в недоумение. Я слышал его русские разговоры. Каждую фразу он начинал напыщенным словом «благоволите»…
То был старик с пунцовым, сытым лицом пропойцы, но с величавой осанкой. Ходил он в тонкого сукна черкеске с газырями, без погон, но с аксельбантами, и, выпив, любил спать на скамейках бульвара.
Двоякий смысл слова «легенда»
У слова «легенда» двоякий смысл.
Это или поэтическое народное предание (большей частью псевдонародное), или объяснение разных условных знаков на географической карте.
С детства я любил географические карты и планы и с детства же недоверчиво относился к легендарным преданиям. Особенно к восточным. Они казались мне бутафорскими.
Может быть, эта неприязнь появилась после чтения путеводителей, где рассказывалось много скучных и неестественных легенд чуть ли не о каждой пещере, скале, роднике и могиле.
Вообще же, если отбросить этот недостаток, путеводители – увлекательные книги. Почти нет людей, которые не любили бы их читать. Еще в юности для меня и для подростков в таком же роде, как и я, каждый путеводитель был как бы бесплатным путешествием в интересные страны. Каждый путеводитель давал множество толчков воображению.
Никак нельзя было догадаться, в какие происшествия могло нас завести сухое сообщение путеводителя о том, сколько стоит поездка на извозчике по Лиссабону и нужно ли торговаться на рынке в Бриндизи.
Так вот… Стоит узнать, сколько берет извозчик в Лиссабоне, как тотчас возникнет желание нанять его и проехать по старым улицам города, политым водой, к пышному собору, а потом в порт. Там вы невзначай увидите, как ветер с океана сорвет зеленую шаль с красивой женщины, тонкой, как лилия – я не настаиваю на этом сравнении, – и унесет эту шаль в море. А женщина, смеясь, прижмет ладонями к вискам свои черные глянцевитые волосы, чтобы их не растрепывал ветер.
Это была захватывающая и вместе с тем трудная игра – путешествия по путеводителям. Она вся была построена на воображении. Вначале она приносила радость, а потом разочарование. Причина этого разочарования заключалась в разбуженном путеводителями желании невозможного.
Но все же будьте милостивы к воображению! Не избегайте его. Не преследуйте, не одергивайте и прежде всего не стесняйтесь его, как бедного родственника! Это тот нищий, что прячет несметные сокровища Голконды.
Легенды (фольклорные) давно связаны для меня с гидами. Временами мне кажется, что эти легенды специально выдуманы на потребу гидам, для того чтобы занимать болтовней туристов.
В одинаковых белых войлочных шляпах, обшитых ленточками с помпончиками, с одинаковыми кизиловыми палками-рогатками, где выжжена надпись: «Память о Сочи» или: «Привет из Симеиза», в пыльных тапочках, туристы ходят потными толпами среди всяких достопримечательностей и стараются запомнить побольше легенд.
Рюкзаки у туристов набиты сувенирами, главным образом открытками и рамками для фотографий, обклеенными морскими ракушками.
Вместо этих ракушек туристы привозят домой слоистую перламутровую труху и смутные впечатления. Но это не останавливает их в упорном рвении все осмотреть «по плану», ничего толком не увидев как следует и ничего как следует не узнав.
Я – за туризм, но без пошлости, которая его часто окружает.
Опять я нарушил последовательность повествования. В этом виновата моя непокорная память. Прошу прощения и возвращаюсь вспять, чтобы оттуда снова двинуться вперед. Возвращаюсь к географическим картам с их скупыми на слова объяснениями – «легендами». Вернее, я возвращаюсь к «легенде» Сухума, к его топографическому очерку, но буду упоминать только те места, что так или иначе сыграют роль в дальнейшем рассказе.
Отправной точкой топографического описания я беру дом и сад мадемуазель Генриетты Францевны Жалю, где я жил в то время в Сухуме.
Я располагаю описание по радиусам, убегающим от этого низкого дома и маленького сада. Там рос у меня под окном добродушный банан со слоновыми нежно-зелеными ушами.
Но прежде чем перейти к этому описанию, я скажу несколько слов о том, как я остался в Сухуме.
Пока «Пестель» не отвалил из Сухума в Поти, я ушел из предосторожности подальше от набережной. Мне мерещилось, что меня обязательно поймают и вышлют из Сухума.
Так я добрел до горы Чернявского, а на ней – до последнего, уединенного дома Генриетты Жалю.
Старушка, несмотря на полное отсутствие у меня каких бы то ни было вещей, охотно сдала мне комнату. По стенам ее бегали мохнатые сороконожки.
Вечером, когда опасность прошла, я решил спуститься в город, чтобы поужинать в духане. Там на липких от лилового вина дощатых полах бравурно отплясывал лезгинку тощий, маленький старик в толстых очках и в слишком длинной для него серой черкеске.
Его приятели, сидя за столиком, снисходительно хлопали в ладоши, а духанщик щелкал на счетах, не обращая никакого внимания на добросовестно веселящегося старика.
Старик, окончив танцевать, пригласил меня к своему столику. Он сразу узнал во мне приезжего. Вопреки моему предположению, старик был совершенно трезв и не имел никакого отношения к абхазцам или к каким-либо другим горским народам. Он оказался тифлисским евреем по фамилии Рывкин. Он служил в Сухуме в Союзе кооперативов Абхазии – Абсоюзе – и просто любил в свободное время потанцевать лезгинку.
Он тут же пригласил меня к себе в Абсоюз вести деловую переписку. Вообще в Сухуме мне чертовски повезло.
Но вернемся к топографии.
Посреди сада у Генриетты Францевны была устроена на уровне земли глубокая цементная цистерна для дождевой воды. Воды от весенних дождей Генриетте Францевне хватало почти до осени. Вокруг цистерны росли пальмы с мощными опахалами.
Рядом с усадьбой Генриетты была небольшая поляна, покрытая желтым и лиловым бессмертником. Изредка по поляне проползали змеи.
По другую сторону поляны стоял мингрельский дом на сваях, с длинной дощатой террасой. Двери и окна в этом доме были крест-накрест заколочены тесом, а вокруг разрослись такие дебри лавровишен и терновника, что подойти к дому было почти невозможно.
Позади дома шли заросли азалии. Там весь день наигрывали на дудках, как оркестр зурначей, недовольные шмели.
За этими зарослями лежала в разноцветном дыму, в бросках солнечного света, мгновенно перелетавшего (вместе с тенью от туч) через горные вершины и бездонные пропасти, в изломанном блеске глетчеров, в трепещущей листве, в клубящихся взрывах белых облачных громад над вершинами Большого Кавказа та загадочная, зовущая и пугающая страна, где погиб Одоевский{90}, где дрался под зеленым знаменем пророка Шамиль{91}, где был убит Бестужев-Марлинский, где насмешливо тосковал Лермонтов.
Временами мне казалось, что я вижу все это. Вижу Кавказ времен его покорения: выгоревшие шинели и околыши, коричневые лица, прогорклые трубки, медь эфесов, завалы из колючих ветвей, быстрые струи порохового дыма, – вижу весь этот взволнованный войной и «трехпогибельный Кавказ».
Вижу «серебряный венец» неприступных гор, «престолы природы, с которых, как дым, улетают багровые тучи»{92}. Все это было сказано Лермонтовым в полном соответствии с его томительной любовью и тоской. А через семьдесят лет другой поэт сказал о Лермонтове слова, похожие на рыдание:
Там, на горе Чернявского, я чувствовал себя по временам среди немирного лермонтовского Кавказа. Вернее, мне хотелось так себя чувствовать. И жизнь, по своей дурной привычке потворствовать мечтателям, щедро награждала меня чертами этого старинного Кавказа.
Невдалеке за домом Генриетты я наткнулся на обтесанный продолговатый камень. Он был так густо покрыт желтыми лишаями, что надпись, некогда выбитую на этом камне, нельзя было уже прочесть… Может быть, здесь похоронен Одоевский? Или это была могила безвестного стрелка? Кто мог это знать?
Во всяком случае, появился повод для того, чтобы приносить на эту могилу цветы (их расклевывали и уносили птицы), сидеть на земле, облокотившись на камень, и смотреть, как у тебя на ладони тревожно и быстро дышит только что пойманная крошечная ящерица.
Несколько раз с гор приходила гроза. С наглым треском она разрывала молниями черное небо и катила перед собой, как мутный вал, гряду желтых туч.
Смерчи гигантскими волчками завивались над морем, изгибались и, будто споткнувшись, внезапно падали всей тяжестью на поверхность воды. Тогда море кипело.
Ревя, мчались по лощинам водопады, ворочая глыбы камней. Чернела и свирепела морская даль. Косые струи ливня вытягивались по ветру, почти не касаясь земли. И вдруг неожиданно вспыхивал, как взрыв, мокрый и горячий солнечный свет. Тогда несколько радуг, упираясь в устои гор, плавно подымали к небу мириады мельчайших водяных искр. Гроза кончалась.
После гроз над Сухумом повисал удушливый пар. Генриетта Францевна закрывала окна. Она говорила, что в этих испарениях размножаются невидимые миазмы. Их было так много, что становилось трудно дышать.
Миазмы, по словам Генриетты, вызывали малярию, сердечную слабость и ломоту в костях.
Было так душно, что обильный пот выступал на всем, что могло осаждать влагу. Все было мокрым и блестело, как только что вынутое из воды, – листья, заборы, скалы и черепичные крыши. Пот струями стекал с волос за шиворот и лился с пальмовых листьев, как из маленьких водосточных труб.
После одной из таких гроз я впервые испытал жестокое удушье, когда кажется, что легкие залиты свинцом. То были первые признаки астмы – безжалостной болезни, заставляющей человека дышать в четверть дыхания, говорить в четверть голоса, ходить в четверть шага, думать в четверть мысли и только задыхаться в полную силу без четвертей.
Сейчас, по прошествии многих лет, я хочу точно записать первые свои впечатления о Кавказе и Сухуме. Но я вижу, перечитывая записанное, что эти впечатления торопливы и не очень связаны друг с другом, хотя и не лишены единого ощущения места и времени.
Объясняется это, очевидно, тем недолгим и странным ослаблением чувства реальности, какое завладело мною в начале сухумской жизни.
Слишком велик был разрыв между голодным и обледенелым северным побережьем Черного моря и этой щедрой по своей природе страной, пропахшей цветами мимозы.
Она была щедрой и непонятной. Здесь веками слагался удивительный быт. Страна была закована в него, как в кольчугу.
Все здесь казалось странным.
Когда князь Шервашидзе входил в духан, посетители по привычке вставали. Учитель и писатель Димитрий Гулиа{94} – просветитель Абхазии – создал абхазскую письменность и открыл первый передвижной театр на арбах.
Советских денег еще не было. Ходили по рукам затертые турецкие лиры.
Шотландский пароход пришел за сухумским табаком и оставил взамен бочки с атлантической сельдью. После него пришел японский пароход и привез уйму риса и тростникового сахара. Поэтому вместо заработной платы служащим выдавали продукты. Каждые два дня давали в придачу ведро превосходного вина и пачку драгоценного табака «требизонд». В чистом виде «требизонд» курить было нельзя – он был слишком крепок и дорог. Его добавляли для вкуса к обыкновенным табакам.
На базаре продавали горных медвежат по рублю и связки окаменелых московских баранок, изготовленных, должно быть, еще до революции. Стоили баранки баснословных денег.
Побеги бамбука проламывали мостовые. За одну ночь они вытягивались на метр, а то и больше. Кровная месть не затихала. В аулах еще собирались судилища старцев.
Трудно было понять, в каком веке мы живем. На первый съезд Советов жители Самурзакани – самого непокорного края Абхазии – выбрали наиболее достойных представителей, тех, кто мог незаметно увести самого горячего коня. В этом старики самурзаканцы полагали тогда настоящую доблесть, а не в том, чтобы гнуть спины на кукурузных полях или табачных плантациях.
В Сухуме не было никаких внешних следов войны. Страна стояла такая же нетронутая, как и полвека назад.
Одной из неожиданных для здешнего края примет недавней войны была книга Анри Барбюса «Огонь», попавшая каким-то чудом в Сухум.
Первый экземпляр этой книги оказался у Рывкина. Я тотчас же отобрал у него книгу. Рывкин не оказал ни малейшего сопротивления.
Я читал эту крепкую, как солдатский шаг, мужественную и человечную повесть Барбюса у себя в саду, в тени банана. Изредка я подымал глаза. Мне нужно было какое-то время, чтобы сообразить, что я нахожусь не на полях Шампани или в Арденнах, где в залитых ливнем окопах тесно смешались обе армии – и французская и немецкая, а солдаты тонут в грязи. Мне нужно было время, чтобы перенестись с полей Франции в этот нарядный от света и опьяняюще пахнущий край.
В такие минуты он казался мне особенно чуждым – лакированным и одновременно тоскливым.
С некоторых пор у меня появилось ощущение, что этот край чем-то грозит мне. Угрозу эту я особенно ясно чувствовал во время закатов. Тогда в жаркую духоту впивались, как острые когти, струйки холодного воздуха и вызывали легкий озноб.
Я восторгался книгой Барбюса, особенно последними страницами, где приросшие к земле солдаты говорят о великой справедливости. Имя Либкнехта{95} неожиданно вспыхивает в разговоре, как реальная и близкая надежда на пришествие новых времен.
Каждый раз, доходя до этого места, я испытывал глухое волнение и почему-то начинал думать о себе: двигаюсь ли я вперед или погружаюсь в оцепенение? Судя по тому, что я сам задавал себе этот вопрос, я был еще жив. Это меня успокаивало.
Заколоченный дом
Вдоль сухумской набережной тянулись тогда темноватые и низкие духаны с удивительными названиями: «Зеленая скумбрия», «Завтрак на ходу», «Отдых людям», «Царица Тамара», «Остановись, голубчик».
В каждом духане висело на стене напечатанное крупным шрифтом объявление: «Кредит никому». Только в одном из духанов это неумолимое предупреждение было выражено более вежливо: «Кредит портит отношения».
В окне парикмахерской тоже была своя вывеска: «В кредит не освежаем».
Объявления о кредите висели повсюду, даже около уличных шашлычников. Они готовили шашлыки на замысловатых сооружениях: к железному стержню были припаяны одна над другой продырявленные жестяные сковородки. На них клали по отдельности куски баранины, помидоры и нарезанный лук. Под сковородками наваливали гору пылающих углей, медленно вращали стержень, и шашлыки жарились, вертясь в горячем соку лука, лопнувших помидор, в собственном жиру, и распространяли по Сухуму жестокий чад. Временами этот чад был слышен даже на рейде. От него першило в горле.
Объявления о кредите были только живописной подробностью сухумской жизни. На самом деле во всех духанах посетители и пили и ели в кредит еще со времен царицы Тамары{96}. Попытка расплатиться тут же вызывала у духанщиков полное недоумение. Поэтому было совершенно непонятно, кто придумал этот лозунг и заклеил объявлениями о кредите весь Сухум.
Крикливые бородатые водоносы бродили по набережной с маленькими, увитыми плющом бочонками с холодной водой. У каждого водоноса тоже висела на бочонке табличка с предупреждением о кредите. Даже чистильщики сапог вешали эту табличку около своих нарядных ящиков.
Каждый чистильщик украшал свой ящик открытками, колокольчиками и портретами то Венизелоса{97}, то католикоса{98} Армении – в зависимости от национальности чистильщика.
Чистильщики делились на стариков и мальчишек. Людей средних лет между ними не было.
По утрам сухумцев будил отчаянный барабанный стук щеток по ящикам. Это мальчишки-чистильщики занимали свои посты и лихо отщелкивали щетками такт популярной в то время песенки: «По улицам ходила большая крокодила! Она совсем голодная была…» Старики только укоризненно качали головами.
Среди стариков был древний курд, своего рода патриарх чистильщиков. Говорили, что он уже тридцать лет сидит на одном и том же месте около пристани. Огромные щетки мягко ходили в его руках. Глянец старик наводил одним небрежным мановением красной бархотки.
Все относились к этому курду с большим уважением. Даже капитан «Пестеля» здоровался с ним за руку.
И вот этому старику привелось сыграть жестокую роль в истории с заколоченным домом – тем домом, что стоял в непосредственной близости от усадьбы Генриетты Францевны.
Старушка рассказала мне историю этого дома. В Сухуме враждовали два рода. Вражда эта окончилась тем, что в одном роду остался в живых единственный мужчина – сосед Генриетты Францевны. В 1900 году этот человек, чтобы спастись от неминуемой смерти, бежал с женой в Турцию.
Такие случаи не всегда спасали людей. На памяти Генриетты Францевны был пример, когда человека, бежавшего от кровной мести, разыскали даже в Америке и там застрелили.
Семья, враждовавшая с соседом Генриетты Францевны, сбежавшим в Турцию, вскоре переехала из Сухума в аул Цебельду, и месть, не получая свежей пищи, погасла.
По абхазским поверьям, дом, где была кровная месть, считался проклятым. Его обычно заколачивали, и никто не хотел в нем селиться.
«Проклятые» дома постепенно разрушались от старости. Тогда их сносили.
После рассказа Генриетты Францевны я несколько иначе стал смотреть на этот заколоченный дом. Я начал замечать в нем зловещие черты.
На чердаке во множестве жили (или, вернее, спали, вниз головой) летучие мыши. По вечерам они просыпались и носились у самого лица, качаясь и попискивая. На деревянных стенах дома светились трухлявые сучки. Они были похожи на злорадные зеленые глаза. И день и ночь жуки-древоточцы прилежно грызли деревянные стены дома. Очевидно, дом вскоре должен был рухнуть.
Однажды я задержался в городе. Из Абсоюза я зашел в редакцию маленькой сухумской газеты и там написал короткую горячую статью против кровной мести. Редактор, читая ее, только чмокал языком.
– Нельзя печатать, – сказал он наконец и хлопнул по рукописи ладонью. – Понимаешь, кацо, невозможно так неожиданно отнимать у людей их привычки. Надо действовать дипломатично. Тысячи лет они резали друг друга, кацо, – и вдруг запрещение! Ты мне не веришь, кацо, но клянусь своей дочерью, что автора этой статьи немедленно убьют на пороге редакции. Ты понимаешь, что я, как редактор, не могу этого допустить?
Ничего не добившись от редактора, я ушел. Я оставил его в состоянии унылого размышления. Он морщил лоб и тер синим карандашом за ухом.
За окнами шевелились от ветра кусты лавров.
Я пошел домой. Шел я, как всегда, медленно и глубоко дышал – никак не мог привыкнуть к терпким запахам здешней ночи.
На повороте к своему дому я остановился.
Остановился оттого, что скала, мимо которой я всегда проходил в темноте, притрагиваясь к ней рукой, чтобы не сбиться с пути и не сорваться в обрыв, была освещена огнем керосиновой лампы.
Я поднял глаза.
Заколоченный дом был открыт, все доски с окон и дверей сорваны, а комнаты сверкали от огня лампы. Кто-то, очевидно приезжий, пренебрег абхазскими суевериями и смело раскупорил дом.
Около калитки стояла Генриетта Францевна. Она схватила меня за руку и, задыхаясь, сказала:
– Скорей! Плю вит! Плю вит! Пожалуйста!
Она дрожала, и голос у нее срывался.
– Что случилось? – спросил я испуганно.
– Скорей! – громким шепотом повторила она, покачнулась и схватилась за забор. – Господи, какое несчастье! Бегите скорей, я вас умоляю!
– Куда? – спросил я, совершенно сбитый с толку.
– Он вернулся из Турции, – громко сказала Генриетта Францевна. И мне стало страшно оттого, что она дрожала все сильнее. Я подумал, что у нее начинается истерический припадок. – Он вернулся сегодня днем из Турции, – ясно и громко повторила она. – Скорее бегите в милицию и скажите там, что он вернулся. Его зовут Чачба. Господи, какое несчастье!
Я, ошеломленный, ничего толком не понимая, почти бегом спустился с горы Чернявского.
Во дворе милиции на низеньком столе, при свете фонаря «летучая мышь», три милиционера играли в нарды. Под забором громко жевали оседланные поджарые лошади, привязанные к пальмам.
Милиционеры были так увлечены игрой, что даже не взглянули на меня. Я подошел и сказал им, что сегодня вернулся из Турции некий Чачба и поселился в заколоченном доме на горе Чернявского.
Я не успел договорить. Милиционеры вскочили и бросились к оседланным лошадям. Они что-то гортанно кричали высунувшемуся из окна дежурному и торопливо отвязывали коней. Потом они вскочили в седла и умчались с бешеным топотом на гору Чернявского. Снопы искр летели из-под подков лошадей. Ночь вдруг запахла порохом и кровью.
Я бросился бегом за милиционерами. Но на полпути к горе Чернявского они так же бешено проскакали мимо меня, возвращаясь в город. Я едва успел спрыгнуть в придорожную канаву.
Проклятый дом был все так же ярко освещен. Лампы коптили.
На террасе около лестницы лежал, раскинув руки, седой человек с добрым лицом. Из его простреленной груди еще стекала кровь и глухо и медленно капала со ступеньки на ступеньку.
Рядом с убитым сидела на полу пожилая красивая женщина. Она прижимала к груди мальчика лет пяти и смотрела прямо перед собой. Подходя, я пересек линию ее неподвижного взгляда и содрогнулся – такой исступленной ненависти я никогда еще не видел в глазах людей.
Было ясно, что эта женщина пошлет этого маленького мальчика, как только он подрастет, мстить за отца. И ничто в мире не сможет смягчить ее сердце и заставить отказаться от кровопролития.
Генриетта Францевна была права, когда торопила меня. Милиционеры опоздали.
Через несколько дней, когда женщина с мальчиком исчезли (говорили, что она, боясь за сына, бежала в Ростов-на-Дону), все наконец выяснилось.
Чачба вернулся на турецком грузовом пароходе из Трапезунда. На пристани его сразу же узнал старый курд – чистильщик сапог. Он пристально посмотрел на Чачбу и медленно поднял ладонь ко лбу.
Чачба почистил у курда сапоги. От радости, что спустя двадцать с лишним лет он вернулся на родину, Чачба без умолку говорил с чистильщиком. Говорил, что вот прошла война и революция и теперь в Абхазии, наверное, все изменилось. Никто никого не убивает из мести, люди поумнели и живут счастливо и дружно.
Чистильщик неохотно поддакивал и все поглядывал по сторонам. Но Чачба был счастлив и не заметил ни хмурости чистильщика, ни его бегающих глаз.
Как только Чачба погрузил свои вещи на арбу и уехал на гору Чернявского, чистильщик неторопливо пошел на базар. Там было в те времена много извилистых дворов – лабиринтов, где можно было заблудиться в нескольких шагах от выхода на улицу.
То было нагромождение дощатых конур и бесчисленных маленьких сараев, где со свистом шипели примусы, стучали молотками сапожники, ревели, изрыгая синее пламя, паяльные лампы, варился густой турецкий кофе, шлепали и прилипали к столам засаленные карты, кричали простоволосые женщины, обвиняя во всех смертных грехах ленивых и пренебрежительных мужей, клекотали, как старые орлы, старцы в обмотках и солдатских бутсах – и вдруг через весь этот базарный беспорядок и крик проходил, колеблясь на стянутых кожаными чулками ногах, статный красавец в черкеске с откидными рукавами и томным, головокружительным взглядом.
Курд дождался такого красавца и что-то шепнул ему.
– Хорошо, батоно! – ответил ему вполголоса красавец. – Ты получишь завтра свои сто лир.
Красавец повел по сторонам глазами с поволокой, сжал сухощавыми коричневыми пальцами рукоять кинжала и, как дикая кошка, бесшумно, на мягких ногах, выскочил на улицу.
Через десять минут он уже скакал, пригнувшись к луке седла, в аул Цебельду, чтобы привезти обитателям одного из цебельдинских домов ошеломительную весть о возвращении в Абхазию неотмщенного врага, Чачбы.
Тотчас два всадника помчались из Цебельды в Сухум к заколоченному дому на горе Чернявского.
Горяча коней и держа наготове обрезы, они вызвали на террасу Чачбу. Он вышел безоружный, протянул обе руки прошлым врагам и так и упал, убитый наповал, с протянутыми для примирения старыми и добрыми руками.
Убийц, конечно, не нашли. Они ускакали в Сванетию, а туда в те времена могли проникнуть только вооруженные отряды.
Через несколько дней кто-то поджег «проклятый» дом. Случилось это утром, а к полудню дом сгорел дотла. Ветра не было. Весь огонь уходил к небу, не бросаясь по сторонам. Несколько дней у нас пахло пожарищем, но вскоре эта гарь сменилась обычным крепким запахом азалий.
Мальпост
Этот первый случай кровной мести, который я видел воочию, вскоре соединился со вторым. В памяти эти два случая сохранились рядом и как бы слились. Поэтому я и пишу о них без временного разрыва.
От Сухума до Нового Афона ходили в то время так называемые мальпосты. Это было единственное средство сообщения с Афонским монастырем.
До войны по Кавказскому побережью ходили еще и дилижансы.
Дилижанс представлял собой громоздкую карету (проще говоря – колымагу). В нее запрягали четверку лошадей. Пассажиры тесно сидели внутри колымаги и на ее крыше – империале.
Кроме того, в дилижансе было устроено два сидячих места снаружи, на запятках. Там были приделаны маленькие железные сиденья, но без подпорки для ног. Тут же были привинчены железные ручки, чтобы пассажиры могли держаться за них и не вылететь от толчков на дорогу.
Еще в детстве, в Киеве, я видел такие дилижансы. Они ходили в Житомир, были выкрашены в желтый цвет, и на дверцах у них сияла медная накладная эмблема почтового ведомства – два скрещенных почтовых рожка и две пересекающиеся молнии. Очевидно, изображение молний указывало на участие электричества в деле телеграфной связи.
Еще с тех лет, повитых туманом времени, я запомнил несчастные фигуры запяточных пассажиров, трясущихся на жестких сиденьях.
Одной рукой они судорожно держались за железную ручку, а другой придерживали пыльный котелок или картуз. В глазах у них было тупое отчаяние.
От невыносимой тряски по булыжной мостовой в одежде у этих пассажиров все расстегивалось и развязывалось. Ни разу я не видел их без того, чтобы у них не болтались из-под брюк тесемки от кальсон и пиджаки не налезали бы горбом на голову.
Мы, мальчишки, были уверены, что на запятках ездят только шулера и маклаки. Но, несмотря на невообразимые мучения, какие на наших глазах испытывали эти пассажиры, мы им даже завидовали.
Я, например, мечтал, чтобы на пятачки, сбереженные из родительских выдач на завтраки, купить билет в дилижанс до Житомира и тарахтеть среди сосновых лесов, громыхать по шатким мостам через болотные речки и отбиваться ногами от осатанелых деревенских собак.
Ноги у запяточных пассажиров висели без всякой опоры, болтались из стороны в сторону и невероятно раздражали собак.
Таков был широкий, уёмистый и даже несколько величественный в своей неуклюжести дилижанс.
Рядом с дилижансом мальпост (обыкновенная линейка на шесть человек, где пассажиры сидели спиной друг к другу) казался сооружением хлипким, дребезжащим от неуверенности в себе, но с претензией на некоторый шик. Каким бы обшарпанным он ни выглядел, над ним на двух железных шкворнях всегда был натянут полотняный навес от солнца с красными бархатными помпончиками по краям.
На таком мальпосте мы как-то ехали с Бабелем из Сухума в Новый Афон. Бабель к тому времени уже перебрался из Одессы в Батум и жил там, утопая в буйных тропических зарослях Зеленого Мыса.
Как Бабель попал на несколько дней из Батума в Сухум, этого я не помню. Скажу только, что любознательность Бабеля разрушала все преграды.
Итак, мы ехали в Новый Афон с попутчиками. Среди них был толстый курносый человек в маленькой жокейской кепке. Он пробирался в Новый Афон, где надеялся устроиться счетоводом.
Кроме курносого, с нами ехала волоокая, тучная девица в тугом черном платье. На каждом ухабе это платье издавало зловещий треск. При этом девица каждый раз испуганно вскрикивала: «Уй-мэ!» – и натягивала платье на коленные чашки величиной со средние желтые тыквы.
Рядом с ней сидел подслеповатый юноша из интеллигентов, в золотом пенсне. Когда мальпост наклонялся на поворотах, длинные ноги этого юноши соскакивали с подножки и скребли по земле, подымая густую пыль.
Без всякого побуждения с нашей стороны он объяснил нам, что пенсне досталось ему в наследство от деда – единственного дантиста в Сухуме, а он, юноша, едет в монастырь в надежде устроиться там певчим. У него очень высокий тенор, а в монастыре, по его сведениям, здорово кормят, иногда даже дают рыбный холодец.
Последним пассажиром был неопределенного возраста человек с землистым лицом, в выгоревшей солдатской гимнастерке. На наши расспросы человек этот отвечал неохотно и непонятно, и мы решили оставить его в покое.
Я так подробно описываю попутчиков, что читатель может подумать, будто все эти люди сделаются героями дальнейших событий. Ничего подобного. Никто из них не сделается героем. Описываю же я их так обстоятельно только потому, что Бабель несколько раз показывал потом этих людей в лицах. Я смеялся до слез. Поэтому я так хорошо и запомнил этих попутчиков.
Мы ехали не торопясь, наслаждаясь жарой и созревшей шелковицей. Она густо усыпала дорогу.
Изредка мы обгоняли буйволов, волочивших арбы. Каждый раз мне казалось, что буйволы идут не вперед, а назад, – так медленно и неохотно они переставляли ноги.
При каждой встрече с буйволами юноша в пенсне произносил одну и ту же фразу, цитируя не то Фенимора Купера, не то Майн Рида:
– «Когда стадо буйволов машет хвостами, отгоняя мух, дикий ветер бушует над прерией».
А возница – сытый мингрел – только причмокивал от восхищения губами:
– Ай, как ты говоришь красиво, кацо! Прямо как в песне!
Так мы ехали в одури летнего дня, ослепленные белым блеском моря, и не ждали никаких событий. Но они случились, как всегда, внезапно.
Начались они с настигавшего нас дробного стука подков.
Мы оглянулись. Нас догонял молодой всадник неправдоподобной красоты – смуглый, тонкий и томный, как баядерка{99}.
Всадник был обтянут, как корсажем, бордового цвета черкеской с белыми костяными газырями. Маленькая кубанка была надвинута ему на глаза. Кроме кинжала, у него на боку висел тяжелый маузер.
Гнедой конь, ёкая селезенкой, быстро обогнал нас размашистой рысью. Позади всадника скакал запыленный ординарец.
Когда всадник поравнялся с нами, мы увидели его окаменелое лицо и глаза, исступленно смотревшие в одну точку, как у слепого.
– Инал-Ипа! – вполголоса сказал возчик. – Большой начальник! Комиссар!
– Чего комиссар? – спросил Бабель.
– Чрезвычайна комиссия, – таинственно подмигивая нам, проговорил возница. – Комиссия Чрезвычайна!
– Уй-мэ! – с уважением воскликнула девица и обтянула платье на своих могучих коленках.
Все были взволнованы этой встречей, кроме человека в гимнастерке. Он скрутил папиросу, выбил из кремня огонь, затянулся и неохотно заметил:
– Видали мы и не таких фазанов…
Он осекся и замолчал. Мы подъезжали к селению Эшеры. Оно лежало на половине пути между Сухумом и Новым Афоном.
И вот из этого селения донесся короткий треск пистолетных выстрелов. Потом, казалось – прямо в небо, рванулся отчаянный крик многих людей. Вслед за криком захлопали и затрещали торопливые выстрелы, и пуля, ударив в дорогу рядом с нами, метнулась в сторону, взвизгнула, подняла полоску пыли и исчезла.
Курносый соскочил с линейки и бросился в кусты. Возница бестолково задергал вожжами и свернул в придорожную канаву. Мальпост накренился. Одно его колесо висело в воздухе.
– Уй-мэ! – закричала девица, подобрала ноги и прижалась к долговязому юноше.
Несколько пуль резво свистнуло над нашими головами, и мы снова услышали топот подков. Теперь он был захлебывающийся, неистовый. Казалось, что подковы отлетают от копыт из-за этой стремительной скачки и несутся, свистя, вдоль дороги.
– Похоже, что пальба, – уныло определил человек в гимнастерке. – Надо бы лечь за камень.
Но он не двинулся с места.
Бабель снял очки и начал смеяться. Лицо его покрылось множеством морщинок, особенно около глаз.
– Вы чего? – спросил я.
– Готовая глава, – ответил он и закашлялся, – из романа Немировича-Данченко{100} «Среди пороховых легенд и седого дыма». Или из его же романа…
Но Бабель не успел досказать, из какого другого романа Немировича-Данченко была эта глава. Очевидно, действие главы еще не окончилось. Бабель замолк потому, что увидел, так же как и все мы, что Инал-Ипа бешено скачет нам навстречу, уже со стороны Эшер, и совсем не в таком виде, как пять минут назад.
Он потерял кубанку. Волосы у него спутались и падали на глаза. Он бил своего коня рукояткой пистолета по жилистой мокрой шее. Конь нес его бешеным карьером, как-то боком, как бы оглядываясь назад.
Следом за Инал-Ипой скакал тот же запыленный ординарец и на ходу отстреливался.
Всадники промчались с быстротой призраков. Пальба стихла. Возчик встал с земли и перекрестился.
– Похоже, что в Эшерах восстание, – заметил человек в гимнастерке. – Горцам к этому не привыкать.
Никто из нас ничего не понимал. Надо было решать, что делать дальше: ехать ли через Эшеры в Новый Афон или возвращаться в Сухум.
Курносый, не дождавшись общего решения, вылез из кустов и пошел обратно в Сухум.
– Уй-мэ! – гневно крикнула девица и щедро плюнула вслед курносому.
Этот плевок решил дело. Мы постановили ехать дальше. Всем хотелось узнать, что случилось в Эшерах. Возница вздохнул, и мальпост, дребезжа развинченными гайками, двинулся навстречу своей неизвестной судьбе.
За поворотом шоссе мы встретили вооруженных эшерцев. Они не остановили нас и ни о чем не спрашивали. Вряд ли они даже заметили нас – так они были возбуждены.
В Эшерах все население толпилось на улице. Женщины голосили, стоя на пороге домов, царапали себе в кровь лица и рвали волосы. Дети бежали к сельской площади. Посреди площади рос огромный вяз. Туда же, к вязу, торопливо шли мужчины, яростно жестикулируя и разряжая на ходу обрезы и карабины.
Под вязом лежал юноша лет пятнадцати, не больше. Голова его была прислонена к седлу.
Рубаха на груди юноши была разорвана, и в ложбинках над впалым животом натекла лужица крови.
Юноша был мертв. Вокруг него стояли, опираясь на узловатые посохи, сельские старейшины. Они смотрели на мертвого и молчали. Люди, подходя к убитому, тоже замолкали, и лишь время от времени кто-нибудь подымал над головой кулак и кричал что-то гортанное и зловещее, – должно быть, проклятие убийце.
Маленькая девочка в длинной черной юбке сидела рядом и, не спуская глаз с мертвого, сгоняла мух с его лица отломанной веткой.
Возница поговорил с эшерцами. Слушая их ответы, он преувеличенно сокрушался, бил себя руками по пыльным шароварам и ненатурально закатывал глаза. При этом виднелись его коричневые белки.
Тогда в Абхазии еще не всюду существовал советский народный суд. В большинстве селений еще судили старейшины. Законами были обычаи и собственное разумение.
Суд старейшин всегда собирался под вековым священным деревом – дубом или вязом.
В это утро старейшины сошлись, чтобы судить юношу, укравшего седло.
Мы подошли к убитому. У него был нежный профиль итальянца. Девочка, как заводная, махала веткой над его головой. Иногда ветка задевала широкое стремя на седле, и тогда возникал тихий звон. Он напоминал долгие, мерные звуки похоронного колокола.
Инал-Ипа узнал о краже седла и прискакал из Сухума в Эшеры, чтобы присутствовать на суде.
Здесь, на суде, он встретился со злейшими своими врагами – князьями Эмухвари.
Что произошло дальше, никто в точности не мог нам объяснить. Между братьями Эмухвари и Инал-Ипой началась перестрелка. В этой перестрелке неизвестно кем был убит юноша, укравший седло.
Эмухвари закричали, что юношу застрелил Инал-Ипа, совершив беззаконие и надругавшись над судом старейшин. Застрелил он юношу якобы потому, что его род был в кровной вражде с родом этого юноши.
Мужчины схватились за оружие. Но Инал-Ипа успел ускакать.
За Эшерами дорога оказалась совершенно разбитой. Мы слезли с мальпоста и пошли дальше пешком.
День будто окунули в безмолвие. Даже цикады молчали, и не звучала жара. Обыкновенно она издает тихий писк, подобно воде, когда она просачивается в узкую щель.
Море тоже молчало, перегретое солнцем. Оно постепенно затягивалось паром.
В монастыре было безлюдно. В саду, в маленьких цементных бассейнах, куда отводили из горного ручья воду для поливки, плавали золотые рыбки. Очевидно, они голодали, потому что тотчас собирались стаями у того края бассейна, где останавливались люди. Вокруг сильно, по-церковному, пахло нагретым кипарисом.
В соборе шли еще службы, но монахов в монастыре осталось всего несколько человек. Ими распоряжался отец келарь – рыжий, конопатый, с брезгливым голосом.
Он отвел нас в пустую и гулкую гостиницу и дал комнату. Тучная девица попрощалась и ушла в какой-то поселок в горах, к своему брату, юноша в пенсне и человек в гимнастерке исчезли.
– Вас, как людей образованных, – сказал отец келарь, посмотрев наши удостоверения, – прошу держаться в рамках. Здесь, в соседнем номере, помещается госпожа Нелидова. Больше в гостинице никого нету. Она прибыла к нам, дабы отдохнуть от мирского безобразия и скверны. Светская, по-монашески настроенная женщина. Пешком пришла из Сухума. По обету. Вся в правилах и очень строга. Ходит в черном. Как инокиня.
– Да-а, – сказал Бабель. – Видно, кремень старушка.
Отец келарь усмехнулся.
– Что вы, граждане! – сказал он укоризненно. – Ей от силы тридцать лет. Весьма привлекательная дама. Но предупреждаю: строга.
Келарь скосил глаза в сторону и сказал деловым тоном:
– У нас в трапезной, молодые люди, можете приобрести хлеб и холодец, а у меня в кладовой – вино маджарку. Милости просим! Я сам виночерпий и винодел, так что за маджарку ручаюсь. Других вин в соответствии с ходом событий пока что не делаем.
Всякие вина есть на свете. Я перепробовал много вин, но такого бешеного вина, как маджарка, не встречал.
Если на Новом Афоне нам обоим мерещилась всякая чертовщина, то, конечно, только от этого мутноватого вина. А может быть, еще и оттого, что мы уверяли себя, будто никакие земные тревоги не смогут добраться сюда даже на злополучном мальпосте.
В монастырской гостинице мы с Бабелем много говорили и наконец выяснили, что человеку иногда не хватает беспечности. Мы были молоды тогда, шутливы, и нам нравилось так думать.
Когда человек беспечен, то все прекрасное оказывается рядом с ним и часто сливается в один пенистый, сверкающий поток, – все прекрасное: хохот и раздумье, блесткая шутка и нежное слово, от которого вздрагивают женские губы, стихи и бесстрашие, извлечения из любимых книг и песни, и еще многое другое, чего я не успею здесь перечислить.
Нашу молодость и пристрастие к выдумкам мы решили подкрепить молодым вином – маджаркой. Это было вино для бедных, очень дешевое. Маджарка действует с утра до вечера. А потом, рано утром, стоит только выпить стакан холодной воды (лучше всего из ручья), как опьянение начинается снова и тянется почти весь день. В этом случае оно бывает особенно светлым.
В общем, я сходил к отцу келарю и принес в номер, пропахший кислой капустой, пять бутылок маджарки.
Возвращаясь с бутылками, я встретил в темноватом коридоре молодую монахиню. От неожиданности я уронил бутылку.
Молодая монахиня не дрогнула. Она прошла мимо, опустив неестественно длинные ресницы, и черный кашемир ее платья случайно прикоснулся к моей руке. От него пахнуло душистым теплом.
Монахиня чуть покачивалась на высоких бедрах. Я не рассмотрел в полутьме ее лица. Заметил только, что оно было покрыто той матовой бледностью, какая всегда считалась непременным условием женской красоты (для этого, очевидно, и была придумана пудра). Я не заметил и ее волос – они были спрятаны под черной косынкой.
Мне показалось, что, немного отойдя от меня, молодая монахиня издала короткий звук, похожий на сдержанный смех.
Дело в том, что у себя в кладовой отец келарь дал мне попробовать маджарки. Мы выпили с ним по доброму стакану, и потому свое волнение при встрече с монахиней – это, конечно, была Нелидова – я объяснил быстрым действием этого вина.
На стук упавшей и покатившейся бутылки Бабель открыл дверь из номера и выглянул в коридор.
– Вот! – сказал он с торжеством. – Я так и знал, что вы разобьете…
Но он не окончил, замолчал и уставился в глубину коридора. Туда падал отблеск заката, и в его дымном сиянии шла спиной к нам, колеблясь и удаляясь, молодая женщина.
– Апофеоз женщины! – неожиданно сказал Бабель. – Пошлое слово «апофеоз», но если бы у меня хватило остроты нервов, я написал бы такую вещь для прославления женщины, что Черное море от Нового Афона до самых Очемчир покрылось бы розовой пеной. И из нее вышла бы вторая, русская Афродита. А мы с вами, глупые нищие, пыльные, изъеденные проказой цивилизации, встретили бы ее приход слезами. И испытали бы счастье прикоснуться с благоговением даже к холодному маленькому ногтю на ее ноге. К холодному маленькому ногтю.
– Бред! – сказал я Бабелю. – Вы же еще не пили маджарки?
– Конечно, бред! – ответил он и распахнул окно. – Идите-ка лучше сюда!
С треснувшей рамы посыпались засохшие мухи и ночные бабочки.
И тотчас в окно вошел величавый голос моря, порожденный тысячами набегающих волн. Они как будто колыхали золотой жар заходящего солнца. Они несли сохранившиеся среди этих необъятных вод в течение столетий и тысячелетий запахи мрамора и олив, горных склонов с высохшей до пепла травой и островов, где шелестят крупными листьями смоковницы.
«Кого мы должны благодарить за это чудо, которое нам так щедро дано? – подумал я. – За жизнь?»
Не знаю, может быть, я подумал не так гладко, как написано здесь, даже наверное не так гладко, но я мог подумать и так.
Я сидел на подоконнике и смотрел на закат. И мне казалось тогда, что я самый счастливый человек на всем свете.
С Нелидовой мы так и не познакомились: на следующий же день шел в Сухум моторный дубок «Лев Толстой», и мы, боясь застрять в Афоне, уехали на нем, не испытывая особого сожаления.
Горы слишком близко прижимали монастырь к морю, теснили его, почти сталкивали в воду. В гостинице пахло прогорклым постным маслом и уборными. Собор был расписан сладенькими картинами из Ветхого и Нового Завета. На этих картинах все люди были в голубых и розовых одеждах и возводили очи к куполу. Там парил, сидя на пухлом облаке, седобородый и хмурый бог Саваоф. Из-под подола его хламиды виднелись толстые ноги в обыкновенных кожаных сандалиях. Очевидно, художник не решился изобразить Саваофа босиком.
Нелидову я снова встретил рано утром в день отъезда в унылом коридоре. Голова ее была в папильотках, от нее пахло паленой бумагой, и я не заметил в этой женщине вчерашней прелести.
Увидев ее припухлое лицо, я почувствовал глухое раздражение, а Бабель, ядовито блеснув глазами, сказал:
– Вот что делает маджарка, молодой человек.
Бабель прожил в Сухуме всего пять дней и уехал к себе в Батум. И снова я остался в томительном одиночестве.
Средство от малярии
За границей маленькой Абхазской Республики с ее тяжелым, сырым воздухом и сплошными зарослями незнакомой растительности шла громкая и интересная жизнь. Но в нашей газете, похожей на афишу заезжего фокусника, жизнь эта отражалась только в двух-трех коротких заметках.
Мне казалось, что я глохну от разраставшихся на глазах тропических джунглей и слепну от белого солнца. Оно затопило навсегда морской простор за моим окном.
Вскоре у меня началась малярия. Она трясла меня каждые пять дней. Тело пахло уксусом. От хины шумела голова, синели руки и трескались ногти.
После малярийного приступа с его беспощадным ознобом и предсмертным кружением сердца оставалась такая вязкая слабость, что мне было трудно вытянуть руку.
Меня мучили длинные и однообразные сны. Они обрывались на одном и том же месте и тут же начинались снова с неумолимой последовательностью.
Я знал все, что сейчас произойдет во сне. Знал, что в самом важном месте он прервется и я буду долго ждать, пока он снова придет ко мне и начнет повторять все одни и те же, но каждый раз все более тусклые свои картины.
Бывало, я стонал ночью, пытаясь прогнать сны, но никто никогда не отзывался на мои стоны. Мадемуазель Жалю помещалась в маленьком, низком флигеле во дворе и не могла меня услышать, а две соседние комнаты пустовали.
Мадемуазель Жалю считала малярию не болезнью, а одержимостью. Она говорила, что малярики живут в своем странном мире и для них нет никаких тайн.
Я пытался записывать эти сны, но тут же бросил. Но три года назад, роясь в старых рукописях, нашел узкие полоски бумаги, покрытые рыжими строчками, будто человек вместо чернил писал черным кофе.
На этих полосках и были записаны тогдашние сны. Но ни один из них не был доведен до конца.
Вся запись состояла из отрывочных фраз. Но в общем она давала какое-то представление о сне.
Вот эти записи: «Поиски человека… маленькой девочки, – должно быть, дочери… Мне ни разу не удалось увидеть ее. Она исчезала в толпе. Искал всюду. Помню ночную реку. По ее зловещему блеску я догадывался, что в этой реке нет воды, а вместо нее течет и едко пахнет жидкий деготь.
Была, кажется, война, и где-то за лесом фабричных труб и бесплодных холмов перекатывалась канонада. Но никто не обращал на это внимания.
Чаще всего я искал ее на окраинах какого-то города, совершенно чужого и незнакомого. Там в палисадниках, в пустом свете фонарей, росли цветы, черные от копоти. Серая, как шкура змеи, окраинная ночь никогда не темнела.
Я выходил в поля, где немощно и сонно шумели маленькие, хилые рощи. Но нигде я не видел ее. Может быть, ее вообще не было на свете?
Однажды я остановился на сухой равнине, обдуваемой ночным ветром. Издалека, как обещание покоя, доносился нескончаемый рокот моря. Потом я услышал сквозь этот рокот легкие детские всхлипывания рядом с собой. Я бросился к ней, я видел ее бледное и очень худое лицо в тусклом свете воздушных бомбардировок. Я обнял сырыми руками ее теплую, слабую шею с выступающим маленьким позвонком».
В этом месте я каждый раз вскрикивал и просыпался, весь в испарине.
Среди ночи приходилось снимать и выжимать рубаху. В неясной темноте я видел, как белеют мои ногти на пальцах, и каждый раз удивлялся, что вижу их в темноте.
Никого не было вокруг. В эти сухумские ночи я испытывал полную затерянность в мире, и временами мне становилось жаль самого себя.
Вся прошлая жизнь представлялась мне в виде сплошных горестей и ошибок. Я вспоминал маму, Галю, Лелю, цепь смертей и бед. Даже теперь, на расстоянии нескольких лет, я не хотел верить в смерть Лели. Самое существование смерти казалось мне издевательством. Я считал, что все живые существа, чувствующие себя бессмертными, не должны и не могут умирать.
«Кто смел, – думал я, – так подло обойтись с нами, с людьми, способными создать внутри себя мир чувств, мыслей и событий, настолько великолепный, что действительность порой кажется перед ним неуклюжей выдумкой?!» Сознание своего превосходства над природой доставляло мне страшную радость, хотя я знал, что у природы было в руках более сильное оружие, чем у меня, человека.
Я твердо верил в бессмертие мысли, тысячи примеров этого теснились вокруг. И порой я сам считал себя властителем и создателем разнообразного собственного мира.
Я точно знал, что этот мир не подвержен тлению, которому подвержен я. Пока существует Земля, этот мир будет жить. Это сознание наполняло меня спокойствием. Хорошо, я умру непременно, мое полное исчезновение – вопрос малого времени, не больше. Но никогда не умрут Тристан и Изольда, сонеты Шекспира, «Порубка» Левитана, затянутая сеткой дождя, и чеховская «Дама с собачкой». Никогда не умрут ночной беспредельный шум океана в стихах Бунина и слезы Наташи Ростовой над телом умершего князя Андрея.
Потомки будут взволнованы этим так же, как сейчас взволнованы мы. И где-то, когда-то легкое веяние, легкое прикосновение наших слов почувствуют сияющие от счастья и горя глаза тех, кто будет жить столетиями позже нас.
Чем чаще я думал так, тем скорее таяла горечь и тем крепче я верил, что, исчезнув из этого мира, я все же могу оставить на облике жизни хотя бы ничтожную, но вечную черту.
По временам я совершенно терял чувство реальности. Сухум с его великолепными сумерками, тяжелым золотом и липкой кровью закатов, с его острым запахом листвы, преследовавшим меня повсюду, казался мне городом, оброненным здесь из чужой и не имеющей имени страны.
Я перестал ходить в Абсоюз, лежал неподвижно сутками, следя за бегом воображения – то ровным, то стремительным и суматошным. Все это окончилось тем, что в комнате у меня появился деятельный товарищ Рывкин в своей серой летней черкеске с газырями, а с ним угрюмый молодой человек, стриженный ежиком.
Человек этот оказался врачом-невропатологом, единственным в Сухуме. Рывкин привел его, чтобы выбить меня из того нездорового состояния нереальности, к которому я уже начал привыкать.
– Малярийный делириум, бред, – скучно сказал молодой человек с ежиком. – Если дать больному плыть по течению, то дело окончится крахом. Встряхнитесь!
Он взял меня за плечи и так сильно встряхнул, что я почувствовал, как кровь рванулась вон из моих жил, а потом тяжело прилила обратно. Мне стало больно. Я застонал. Молодой врач – фамилия его была Самойлин – влил мне в рот ложку какой-то синей жидкости и велел пить ее каждый день. После этого слюна и белки глаз приобрели у меня яркий, ультрамариновый цвет.
Малярия начала оставлять меня. Вернулось чувство реальности. Но я пока что еще не испытывал от этого особого восторга.
Однажды доктор Самойлин сказал, что мне необходимо хотя бы на несколько дней уйти в горы, к Главному хребту, где воздух так чист, а по ночам еще и так холоден, что звенит при каждом движении, будто вокруг разбиваются тонкие льдинки.
Я отнесся к этому предложению Самойлина недоверчиво, как ко всем смехотворным предписаниям врачей. Я помнил, как в Одессе доктор Ландесман в разгар голода предписал мне зернистую икру и устрицы, обрызганные лимонным соком.
Но слова доктора о воздухе, что ломается со звоном, мне понравились. Во всяком случае, в этих словах утверждалось отношение к миру, свойственное мне самому.
Я не стесняюсь признаться в этом перед лицом сотен и тысяч положительных и здравомыслящих читателей.
Очевидно, условность свойственна нашему разуму. Все дело в том, что существует условность, радующая нас легкими откровениями, и другая условность, которая сковывает вольный человеческий дух.
Очевидно из-за малярии, воображение стремительно отзывалось на все, что давало ему маломальскую пищу, и разгоралось целыми пожарами красок и цвета.
Стоило мне вспомнить, что доктор Ландесман советовал сбрызнуть мифические устрицы лимонным соком, как я представил себе этот замерзший сок, его снежные шарики, похожие на цветы белой мимозы (может быть, где-нибудь в мире и растет такая мимоза). Они испускали дурманящий запах. Мой взгляд проникал внутрь этих шариков, где были спрятаны микроскопические волшебные пейзажи.
Самойлин начал часто заходить ко мне. Иногда он приводил с собой купленного им на базаре за три рубля горного медвежонка. Доктор привязывал его к стволу пальмы. Медвежонок, стоя на задних лапах, все время ахал от восхищения и скреб себе когтями затылок при виде маленькой и семенящей вблизи него разноцветной Генриетты Францевны.
Генриетта Францевна одевалась несколько странно – слишком молодо и ярко. Седые свои кудряшки она повязывала оранжевой лентой, а копаясь в саду, напевала скачущие швейцарские песенки. Это обстоятельство удивляло всех окружающих, а не только неотесанного медвежонка.
Однажды Самойлин привел с собой еще и широкого, как шкаф, и как бы склепанного из вздутых железных мускулов, белобрысого человека в заштопанной тельняшке. То был борец из захолустного сухумского цирка, по фамилии Зацаренный, мужчина невозмутимый и сговорчивый. Кроме того, у Зацаренного было редчайшее достоинство – он хорошо говорил по-абхазски, так как был женат на абхазке.
Борец согласился идти с нами к Главному хребту. Он прекрасно знал Абхазию и тут же набросал наиболее возможный и точный маршрут: через селения Мерхеулы и Цебельду, вдоль дикого ущелья Гаргемыш на горное озеро Амтхел-Азанда у подножия величественного массива Марух, немного к северо-западу от Клухорского перевала.
Я с наслаждением вслушивался во все названия, предчувствуя удивительный неторопливый поход.
Названия некоторых вершин звучали так, будто мы перенеслись в Южную Америку. Особенно удивляла меня гора по имени Агуа. Агуа – Аконкагуа, – в этом было что-то девственное, как леса, еще не тронутые топором человека.
Я был слаб после болезни, но счастлив. Мне казалось, что я впервые испытываю длительную радость от воплощения давнишней мечты. Я перебирал свою жизнь и тут же убеждался, что это действительно так и что до сих пор все увлекательные мои путешествия часто бывали ограничены четырьмя стенами комнаты.
Счастье началось в утро, назначенное для выхода из Сухума. Я проснулся от слитного птичьего свиста.
Может быть, сотни, а вернее – тысячи птиц, поблескивая разноцветным оперением, шевелили густую листву мушмулы, мимозы и тополя. Для меня, как и для подавляющего большинства людей, было непонятно это суетливое воздушное общество, все эти вихри и путаницы перелетов, преследований друг друга и непрерывных трепыханий.
В то время я почти не мог назвать ни одной птицы, кроме воробья и ласточки. Не только я, но многие люди, кроме специалистов-орнитологов, не знали птиц. Тогда и я воспринимал этот шумный летучий мир чисто внешне.
В огромном и таинственном окружении природы мы жили как бы с завязанными глазами. Мы знали о нем только случайные отрывки.
Примерно с тех пор я начал еще упорнее накапливать познания, но без всякого разбора. У меня не было последовательности. Знания подбирались главным образом по степени их живописности и пригодности, чтобы блеснуть ими в разговоре или в прозе.
Да, в то утро, уходя из Сухума, я проснулся от птичьего треньканья, встал и подошел к окну.
Воздух в саду был холоден, как стекло. И, как на стекле, на нем лежали прозрачные тени деревьев. Утренний запах воды наполнял все пространство вокруг дома. Мне казалось, что в этом запахе соединялось дыхание листьев, древесной коры, горного снега, ручьев, падающих с высоты вдоль отвесных скал, мяты и вина. Все это сливалось в один запах, терпкий и возбуждающий. То было дыхание приморского субтропического утра.
Шум, утро, его свежие брызги, высокие переливы птичьей переклички, качающиеся мокрые ветки, воздух, щедро пролитый с неба, и запахи – все это было безусловно счастьем, но медленным, спокойным и верным.
Оно не могло изменить мне потому, что существовало помимо меня.
Озеро Амтхел-Азанда
Вышли мы из Сухума рано, когда пыль на дорогах еще не раскалилась. В эту пыль падали толстые лепестки огромных, растрепанных, как итальянские красавицы, пунцовых роз.
Сейчас, почти через сорок лет, весь тот путь, что мы прошли тогда втроем, конечно, изменился, и никто из нас его, должно быть, сразу и не узнает. Возможно, что от прошлого сохранились только очертания гор, но даже и в этом я не совсем уверен.
Изменения в природе обладают свойством мгновенно распространяться во все стороны, как круги по воде от брошенного камня. Поэтому я и хочу здесь бегло закрепить этот путь и весь поход на озеро в том виде, в каком он предстал перед нами тогда.
Мне трудно ответить на вопрос, зачем я все это делаю. Стремление сохранить в нашей памяти то, что безвозвратно исчезает, – одно из сильнейших человеческих побуждений. В данном случае я ему подчиняюсь.
Сначала мы шли по берету горной речки Келасуры. Она вырывалась из теснин и, как бы вздохнув, разливалась мелкими плесами по гальке. То тут, то там она закручивала среди изумрудного потока полосы пены, похожие на страусовые перья. Течение разрывало эти перья, но тут же они появлялись опять, еще более пышные, чем раньше.
За селением Мерхеулы мы, спрямляя дорогу, пошли через жаркие кукурузные плантации. Ни одна струя свежего воздуха не могла прорваться сквозь шелестящий частокол кукурузы.
Духота была тем тяжелее, что совсем вблизи, казалось – над самыми метелками кукурузы, в поблекшем небе вздымались ледяные хребты Кавказских гор, подернутые голубеющим угаром. Там, вдали, чувствовался их освежающий сердце холод. И мы, обливаясь потом, рвались к ним, проклиная засуху, проклиная пыль и горячие комья глины у нас под ногами.
Только к вечеру мы вышли из лабиринта кукурузников на дорогу, упали на берегу какого-то шумящего потока и начали жадно пить холодную воду. От нее сводило челюсти.
Борец захватил стеклянный стакан. Неразумно было брать в такой поход стеклянные вещи. Но, очевидно, у него не было ничего другого, и он схватил то, что попалось под руку.
Борец вымыл в потоке стакан с таким усердием, что стекло заскрипело у него под пальцами, зачерпнул воды, и мы увидели, что этот прозрачный стакан по сравнению с горной водой был серым и грязноватым.
Я никогда еще не видел такой воды. Она была чище воздуха. В ней ощущалась целина небесных пространств. Вода эта родилась над нами, на огромной высоте, где как бы струились, не двигаясь с места, облака из ледяных кристаллов.
Эта вода долго лежала в виде кристаллов на вершинах гор. Давление все сильнее сжимало кристаллы. Они становились более прозрачными, чем алмазы. А потом эти кристаллы, слежавшись в ледяную толщу, стекали ледниками с гор и, встретившись на кромке земли с первыми цветами крокусов и эдельвейсов, тихонько таяли и начинали свой бег в низины, где клубилось Черное море.
Как рассказать, что за цветы эдельвейсы? Это трудно. Вообще говоря, они похожи на маленькие звезды, закутанные по горло в белый мех, чтобы не замерзнуть от прикосновения льдов.
Иногда мне хочется встретить собеседника, с которым можно не стесняясь поговорить о таких вещах, как эдельвейсы или запах кипарисовых шишек.
К сожалению, таких собеседников в обыденной жизни я не встречал. Они попадались только в книгах. Пожалуй, самым внимательным и веселым собеседником по этим предметам был наш несколько болезненный друг Генрих Гейне.
Свой романтический плащ он, конечно, прикрывал иронией, чтобы избавиться от свиста и насмешек тех самых дураков, которых, по его авторитетному мнению, на земле было больше, чем людей.
Так я думал, лежа на берегу горной речки (это, кажется, уже была не Келасура, а какая-то другая река), предаваясь восхитительной лени. У меня и моих спутников не было никакого желания двигаться дальше.
Мы предпочитали лежать на сухой гальке и смотреть в небо. А оно как будто обрадовалось нашему пристальному вниманию и затеяло воздушную игру, пронося по зениту туманные покрывала разных слабых и блеклых раскрасок – то сиреневой с оттенком серебра, то оливковой, то розовой, как полудрагоценный камень: о нем все знают, но редко кто его видел, – кажется, он называется александритом.
С трудом мы добрели до крайнего дома в селении Цебельда. Селение это как бы ныряло среди зеленых кудрявых холмов.
Мы ночевали на ветхой дощатой террасе. Она шаталась от малейшего движения и скрипела, как сухая арба.
Всю ночь в кукурузниках скулили шакалы, а когда ближе к утру взошла луна, их жалобы превратились в заливистый вой.
К террасе подошел сторож – старый абхазец с длинным кремневым ружьем времен покорения Дагестана{101}. Посидел на бревне около ступенек, покурил и спросил меня:
– Чего люди горячатся? С утра до вечера? Не знаешь? Я, понимаешь, счастливый уродился. Я двадцать лет хожу здесь сторожем вместе с собакой и ни с кем не спорю. Зачем спорить? Поспоришь – неприятность тебе сделают, побьют собаку. А ее жалко, она слепая на один глаз. Зовут ее Ахах!
Я подивился на такое странное собачье имя и спросил:
– Есть у тебя кто-нибудь? Или нет?
– Нету. Была жена, была дочь. Красивые обе. Они в Сухум ушли. Что им сохнуть в этой кукурузе! Я старик, видишь? – Сторож показал мне при свете луны заплаты на бешмете. – На Марух пойдешь? – спросил он равнодушно. – Горячишься? Обвалы на Марухе. Кого там искать будешь?
– Чего ты тут сторожишь?
– Много сторожу. Всякий огород, всякий дом, всякую кукурузу. Люди спят – я сторожу людей. Большой кусок земли обхожу. Вон, слышишь, – от того шума и до этого.
Он обвел рукой широкий полукруг. Я прислушался. Вдали шумела вода, а с противоположной стороны от этого шума она тоже шумела, но тише, как будто это было эхо первой воды.
– Водопады, – сказал сторож и встал. – Всю ночь шумят. Бог им приказал, чтобы работали, не смели молчать. Сердитый бог, вспыльчивый. А зачем сердиться? Мы работаем, слушаемся его, а он то нашлет войну, то болезнь на табаки, то даст плохих детей. Нехорошо поступает! Горячится! Несправедливо поступает.
Старик почмокал губами и ушел. За ним побрел косматый черный пес. Каждую минуту пес присаживался и с исступлением вычесывал блох.
Я уже не мог уснуть.
Сейчас, когда прошло уже много лет, я вспоминаю тот день и радуюсь, что впервые увидел тогда в самой глубине гор беззвучный и душистый, как дождь, рассвет.
Ледяные главы Большого хребта пламенели каемкой солнечного света. Он падал на старые окна дома, зажигал их радугой, и стекла отражали какое-то странное утро, лишь отдаленно похожее на то, что начиналось вокруг.
Странным я его называю потому, что оно походило на те утра, что писали художники Возрождения на своих картинах-иконах. Там, на этих картинах, мальчик с тонким посохом пас ягнят, похожих на мелкие облака. Дальние горы казались вырезанными из разноцветного картона. Курчавые деревья напоминали виноград. Вода сливалась с игрушечных гор выпуклыми каскадами. Отдельные цветы высовывались из земли в самых неожиданных местах. Единорог стоял на поляне, сияя золотым рогом, как зажженная пасхальная свеча. Мадонна склоняла нежный профиль к пухлому младенцу, вынув из-под сорочки полную грудь с темным соском.
Странным, вот таким, как я его описываю, это утро показалось мне только на мгновение, потому что на это мгновение я уснул.
Когда я проснулся, борец с Самойлиным уже кипятили чай на костре.
В Цебельде у Зацаренного был знакомый фельдшер, грек по происхождению.
Мы провели весь день в его расшатанном доме. Почему-то в Цебельде не только терраса, где мы ночевали, но многие дома качались и потрескивали, как после землетрясения. Очевидно, от ветхости.
Жена фельдшера, тучная и сонная русская женщина, накормила нас пловом с крупным изюмом.
Маленький дом фельдшера напоминал шкатулку с секретными ящиками или кладовую для всяческой смешной рухляди.
Только в детстве я видел такую обстановку, как в тесном домике фельдшера.
Около громадного, похожего на броненосец, коврового дивана стоял круглый стол, покрытый бордовой бархатной скатертью.
Какие-то жуки проели в этой скатерти много запутанных дорог. Для этого они сжевали ворс до самой основы.
Дороги на скатерти, если приглядеться, напоминали тропинки среди пыльных хребтов.
На скатерти покоились гигантские, пухлые альбомы. Фельдшер увлекался тем, что вырезал отовсюду – из старых журналов и газет, иногда даже из книг – самые интересные картинки и клеил их в альбом.
Чаще всего фельдшер клеил фотографии всяких «августейших особ», особенно беспутного английского короля Эдуарда VII, актрис и адмиралов. Любовь его к пышной морской форме и своему греческому старенькому флоту была трогательна и неистребима. Над диваном висела литография знаменитого крейсера «Аверов», купленного Грецией за гроши не то у республики Чили, не то у республики Перу. Но в общем это не имело никакого значения.
Ах, этот крейсер «Аверов»! Сколько в те годы я видел в Одессе его роскошных изображений! Из его труб всегда валил устрашающий дым, и десятки греческих бело-голубых флагов развевались во всех местах корабля, куда только можно было прицепить флаг.
«Аверов» – гроза морей – гордо нес свою обветшалую стальную броню. Даже качаться на волнах, расходившихся от его ахтерштевня{102}, было лестно каждому, кто понимал толк в кораблях.
Я несколько раз уже писал об «Аверове». Это моя слабость. Я не устану прославлять этот крейсер как символ независимости маленького народа и его борьбы против натиска всякого рода хищников.
Карикатуры на этих хищников тоже были наклеены в альбоме у фельдшера. То были тощий «дядя Сэм»{103}, с козлиной бородкой, в жилете из звездного американского флага, шаровидный Джон Буль{104} со знаком фунта стерлингов на жилете, унылый носатый Абдул-Гамид и перезрелая куртизанка во фригийском колпаке{105} – Франция.
Были альбомы только с видами и только с литографиями семейных картин тяжеловесных немецких художников, вроде Каульбаха{106}. Мне всегда казалось, что от этих картин попахивает пеленками.
Был, наконец, альбом с гравюрами обнаженных красавиц – томных, волооких, сидящих, заложив нога на ногу, на огромном серпе месяца, сыплющих цветы из рога изобилия, стыдливо прикрывающих груди, как Леда{107} под жгучим взглядом лебедя, купающихся, причесывающихся, убегающих от козлоногих сатиров и пляшущих с тимпанами в извилистых руках.
Правда, этот альбом лежал в сторонке, на этажерке, стыдливо прикрытый пачкой газет.
Кроме того, по стенам висело много гипсовых блюдечек с нарисованными на них спелыми вишнями и грушами.
В одной из астрономических книг, кажется у Джинса{108}, я прочел, что радующий нас растительный покров земли перед лицом величественных явлений природы – только жалкая плесень.
И вдруг эта квартирка фельдшера с заношенными вещами, альбомами и запахом жидкости от клопов действительно показалась мне плесенью перед стеной блистательных гор, взнесенных к небу. Они стояли над копошащимся в долине человечком с его вялой, заспанной женой, в его неприбранным миром. Луч солнца, усиленный всего в десять раз, может мгновенно превратить этот мир в тошнотворно пахнущий пепел.
За обедом фельдшер – его звали Яни – сказал речь по случаю нашего похода на озеро Амтхел-Азанда. Говорил он как старомодный оратор – с риторическими вопросами, с пафосом и дрожанием голоса, или, как выразился борец, «играл на сердечной струне».
– О Александер! – воскликнул Яни. – В Сухуме расцветают лавры! Они не дают тебе спать. Ты жаждешь открытий! Славы! Зачем? Тебе разве мало своего любимого семейства – милой жены Маргариты и сына Пахома?
– Ты лучше покажи дорогу на Амтхел! – сердито ответил борец. – Про Маргариту я и без тебя знаю.
Фельдшер с грустью покачал головой.
– Вот именно! – сказал он с укором. – Я сам, своими руками толкаю человека на опасный путь! Сам!
– А что же там опасного? – спросил Самойлин.
– Там могут быть дезертиры, – зловещим голосом ответил фельдшер. – Они застряли здесь еще со времен войны. Они живут шайками и бродят по горам.
Фельдшер повернулся к борцу:
– Я предупредил тебя! Я умываю руки! Ты слышишь меня?
– Ну, умывай, умывай! – добродушно согласился борец. – Не устраивай здесь Художественный театр. Одевайся и проводи нас до начала тропы.
Фельдшер, вздыхая, вывел нас за околицу Цебельды, к буковому лесу, и показал тропу. Он сказал, что через километр тропа окончится и дальше нам придется идти по зарубкам на деревьях.
Я впервые видел сплошной буковый лес. Это был светлый лес, торжественный, как византийский собор. Или, пожалуй, он больше напоминал бесконечную колоннаду из высоких стволов, как бы обтянутых зеленоватой замшей, – некий мшистый и прохладный форум по склонам гор.
Мы шли часа два, наслаждаясь всем, что окружало нас, – немного резким воздухом лесной подстилки, лучами солнца, рывшимися в мокрой листве, непонятным далеким гулом. Может быть, это гудели, падая с высоты, камнепады, а может быть, это было эхо от раскатистых лавин.
Зарубки привели нас в узкое ущелье Гаргемыш.
Борец вдруг нахмурился. Мы пошли медленнее. Борец приказал нам получше смотреть по сторонам и искать на ходу места, где мы могли бы скрыться на случай неприятной встречи. С кем – он не сказал, но мы поняли, что он думает о сванах.
Но прятаться было совершенно негде, кроме как в кучах бурелома или за толстыми стволами буков. Кроме того, как сказал Самойлин, прятаться было бесполезно, так как горцы видят за триста шагов даже муху, сидящую на стебельке травы.
Ущелье суживалось. Мы шли с опаской, поглядывая по сторонам, и потому, должно быть, заметили людей поздно, когда они были уже шагах в двухстах прямо от нас.
Они подымались навстречу и ступали осторожно, как рыси. Ни одна ветка не треснула у них под ногой. Их было четверо. У каждого на плече висел обрез. Только шедший впереди пожилой человек держал винтовку в руках.
– Спокойно! – тихо сказал борец. – Идите как на прогулке по набережной.
Расстояние сокращалось. Дезертиры спокойно и пристально смотрели на нас. У нас же на лицах, как я понимаю теперь, появилась, очевидно, деланная и растерянная улыбка. Только борец был бесстрастен, но и у него мелко дрожало правое веко.
Передний остановился, снял винтовку и протянул ее перед собой на вытянутых руках. Он загородил нам путь. Винтовка выглядела как закрытый шлагбаум.
Мы остановились. Остановились и дезертиры, но никто из них не подошел ближе, как бы соблюдая почтительное расстояние между собой и пожилым предводителем.
Все молчали. Наконец пожилой, не опуская ружья, спросил резким, как птичий клекот, голосом:
– Чего русскому человеку здесь надо?
– Мы идем на Амтхел-Азанда, – ответил борец.
Он достал пачку папирос и предложил вожаку.
Но тот папирос не взял, только сверкнул на них желтыми белками и спросил:
– Зачем на Амтхел?
– Охотиться, – невозмутимо ответил борец.
– Ай-ай-ай! – вожак покачал головой, и в горле у него что-то заклокотало. Я не сразу понял, что он, очевидно, смеется. – Зачем обманываешь, неправду говоришь? А где же ваши ружья, охотники?
– Ну вот и все! – тихо сказал мне доктор Самойлин.
Никакого оружия у нас не было. Вообще в Сухуме можно было бы добыть в то время завалящий револьвер, но борец уверял, что идти без оружия безопаснее.
Борец усмехнулся и что-то сказал вожаку. Тот, прищурившись, долго смотрел на борца, потом на каждого из нас, как будто соображая, что с нами делать, и только после этого ответил борцу.
– Он предлагает, – сказал нам равнодушным голосом борец, – сесть на этот поваленный бук и покурить.
Мы сели на поваленный бук. Около каждого из нас сел горец.
Я спросил вожака, где он так хорошо научился говорить по-русски.
– На войне… В Дикой дивизии…
Рядом со мной сел юноша с таким выражением девственного любопытства в глазах, точно он только что появился на свет. Даже рот у него был слегка приоткрыт. Все привлекало его внимание, вплоть до шнурков на моих чувяках.
Юноша осмотрел меня, достал у меня из бокового кармана гимнастерки пачку папирос и переложил ее себе в карман.
Потом он повертел у меня на пальце обручальное кольцо, почмокал губами от восхищения и осторожно, ласково улыбаясь, снял кольцо и тоже опустил себе в карман.
Ему было трудно снимать кольцо одной рукой. Потому на это время он дал мне подержать обрез.
Все молчали. Потом дезертиры заставили нас встать и долго обхлопывали своими твердыми ладонями, должно быть разыскивая спрятанное под одеждой оружие. Они ничего не нашли и начали переговариваться, недовольно поглядывая на нас.
Во время обыска они взяли у борца зажигалку, а у Самойлина старые карманные часы. Наши рюкзаки с продуктами они не тронули. Только один лениво ткнул в них ногой, – очевидно, для очистки совести. При этом он что-то пренебрежительно сказал, и все горцы вдруг закричали друг на друга с такой яростью, что казалось, вот-вот начнется резня.
Они хватали друг друга за руки и за грудь, замахивались прикладами, шипели и внезапно выкрикивали что-то стремительное и, очевидно, что-то невыносимо обидное, потому что каждый такой крик оканчивался общим негодующим воем.
Во время этой ссоры они не обращали на нас никакого внимания. В азарте они задевали и толкали нас, будто мы были невидимками.
Пожилой вожак сидел на бревне, курил, почесывая грудь, и, казалось, не слышал этой непонятной ссоры. Потом он лениво встал, подошел к тому юноше, что взял у меня обручальное кольцо, схватил его за обрез и что-то сказал властно и коротко. Юноша стал наливаться кровью, но все же медленно полез в карман, вынул кольцо и отдал его вожаку. Вожак отобрал еще зажигалку и ручные часы, прикинул все это на вес на ладони, сунул за пазуху и сказал борцу:
– Иди куда хочешь, но назад не вернешься! – Дезертиры сразу стихли и, вытянувшись цепочкой, пошли следом за ним.
Мы стояли в недоумении.
– Что это значит? – спросил Самойлин.
– Это значит, – ответил борец, – что они пока что пропустили нас на Амтхел, но не пропустят обратно. Подкараулят где-нибудь здесь. Другой дороги нету.
Я ничего не понимал. Если они хотели ограбить и даже убить нас, то у них была полная возможность сделать это сейчас.
– Лучше ни о чем не думать, – посоветовал борец. – Кривая меня не раз вывозила. Вывезет и теперь. На озере поговорим. Но идти надо все-таки осторожно. Старайтесь, чтобы стволы буков закрывали вас от выстрелов в спину.
Мы прошли ущелье и с обрыва в лесу увидели Марух. Он горел в небе, как голубой алмаз в гранитной оправе.
Все вокруг поражало меня смешением грандиозного и бесконечно малого, причем и то и другое было одинаково прекрасно, – и отдаленные ледяные гребни Маруха, над которыми нависали громадные карнизы слежавшегося снега, и близкие мелкие цветы кизила на только что родившихся кустах. Кусты эти выглядывали из расщелин в скалах.
Вокруг нас толпилось огромное общество горных трав, хвощей, ворсистых оранжевых цветов, хвои, длинной, как вязальные спицы, и все это, разогретое солнцем, испускало смолистый и нежный запах.
Напряжение после встречи с дезертирами доконало нас. Мы просто упали в густой мох, на скалу среди леса, похожую на громадный жертвенник, и пролежали часа два без всякого желания двигаться дальше.
Несколько раз в жизни мной овладевала мысль о соседстве мирной и безмятежной природы с человеческой жестокостью.
Впервые эта мысль потрясла меня и довела до ярости на человека, когда в 1919 году в Полесье я увидел мальчика лет десяти, убитого бандитами в то время, когда он сидел на колосистом берегу реки Уж и удил рыбу самодельной ореховой удочкой. Солнце горело над ним, а теплый ветер медленно проносил по небу пушистые облака.
Бандиты из какого-то подлого отряда какого-то подлого батьки Струка заметили мальчика с другого берега реки и, гогоча, расстреляли его как мишень.
Местные лесовики, боясь бандитов и потому как бы оправдывая их, говорили, что «хлопцы» были пьяные. Но в том, что пьяный человек становится хуже самого грязного скота, нет для людей никакого оправдания.
Я никогда не забуду нагретые солнцем волосы мертвого веснушчатого мальчика, – милые, выгоревшие, детские и какие-то беспомощные волосы. На лицо мальчика я не смотрел. Но этот день моей жизни я буду помнить до смерти. Я не решался рассказать о нем никому, даже маме, чтобы не омрачить ее жизнь. Только сейчас я впервые заговорил об этом.
И вот, лежа в лесу по дороге на Амтхел, я подумал, что пять бандитов неизвестно почему хотели убить нас, а может быть, еще и убьют. Эта мысль привела меня в такое же состояние отвращения и ярости, какое было тогда, на реке Уж. Сразу оборвалась вся радость, все торжество природы.
Единственное, что постепенно успокоило меня, были напоминания природы – какие-нибудь душистые чешуйки, прилипшие к моей губе, или ничтожный родничок, недоверчиво и осторожно пробиравшийся сквозь травянистые джунгли, боясь потерять дорогу к глубокой выемке в скале, где вода его собралась в синее озерцо.
Стоило увидеть все это и пристально рассмотреть, чтобы мир снизошел (как любили писать в старину) на смятенную человеческую душу.
Прозрачная вода цвета зеленоватой лазури лежала внизу. По ней плавали сухие коричневые листья кленов.
Листья собирались в эскадры и двигались очень дружно: поворачивали, как по команде «все вдруг», а при малейшем ветре срывались с места, будто с якорей, и, перегоняя друг друга, уплывали на середину озера. Там вода горела спиртовым огнем.
У самого берега плавали водяные курочки с бисерными веселыми глазами.
Налево, цепляясь за отвесные гранитные стены, вздымался лес, такой же загадочный, каким он казался издалека. Позади нас шуршали осыпи. А направо я боялся даже смотреть – там, рванувшись к небу, остановился, весь напряженный, казалось – до медного стона в своих жилах, угрюмый, непостижимый Марух.
В одном месте, очевидно из ледниковой пещеры, летела по воздуху широкая струя воды и падала, сосредоточенно шумя, в озеро.
То была река Азанда. Она вливалась в озеро со стороны ледников водопадом, а у нас под ногами, на заваленном скалами пляже, стремительным потоком уходила под землю, исчезала у самых ног и засасывала водоворотами в подземные страшные бездны все, что мы бросали в воду: каждую ветку и каждый клочок бумаги.
Борец рассказал, что за двенадцать километров к югу река Азанда снова вырывалась на поверхность пенистым потоком и опрометью неслась, зажмурив глаза от внезапного солнца, к Черному морю.
Камни шевелились под речной водой и били друг друга, будто пробовали, чей звон продержится дольше.
Я боялся пристально смотреть на Марух. Мне начинало казаться, что льды на его вершине тоже двигаются, как река, и вот-вот сорвутся грохочущим на весь мир ледопадом. Но все же я время от времени взглядывал на Марух. Он притягивал к себе, заставлял смотреть на себя и угадывать тайны, спрятанные в тени его ущелий и в слабом колыхании альпийских лугов.
Я еще не знал, какие могут быть у Маруха тайны от нас, но временами уже различал розовые лишаи на скалах, медленное передвижение теней – они крались к вершине, чтобы погасить ее свет; различал струи дыма, катившиеся, погромыхивая, вниз по склонам Маруха. Потом я догадался, что это не дым, а пыль от осыпей.
Весь день Марух стоял против нас, как бронзовый позеленевший престол какого-то исполинского грозного божества, как угловатый щит аттического героя – Геракла{109} или Атланта{110}. Конечно, Марух мог, подобно Атланту, держать на своих плечах весь земной шар.
Вечером Марух превратился из бронзового в сияющий до боли в глазах золотой самородок такой величины, что его блеск, очевидно, был заметен даже на луне.
– Теперь, – сказал мне Зацаренный, – живите в этой тишине, молчите, смотрите и думайте. В Сухум вернетесь другим человеком. Самого себя не узнаете.
Я с удивлением посмотрел на борца. Я не ожидал от него таких слов. До этого он казался мне человеком простоватым и недалеким.
Почему-то сейчас меня преследует мысль, что нужно записать весь порядок событий на озере, хотя, по существу, никаких событий не было. Но все-таки…
Все-таки началось с того, что нам пришлось спускаться к озеру по отвесному склону, цепляясь за корни деревьев и за кусты самшита.
Тогда я впервые узнал, что крошечный самшит, похожий на кустик нашей брусники (и с такими же мелкими кожистыми листиками), легко выдерживает тяжесть взрослого человека.
На озере был намыт узкий пляж из песка, заваленный каменными глыбами, скатившимися с гор.
В одном месте глыбы легли так, что образовали глухую и длинную пещеру с выходом к самой воде. В этой пещере мы устроили бивуак.
Пещера казалась необыкновенно уютной. Очевидно, потому, что защищала от дождей, осыпей и ветров.
В пещере мы более или менее спокойно ели. Никто нам не мешал.
В первый же день мы по неопытности разложили еду на берегу, на разостланном плаще. Тотчас из воды вышла маленькая водяная курочка, приковыляла прямо ко мне и, крякнув, вырвала у меня из руки кусок хлеба. Я отнял у нее хлеб, но она начала драться и несколько раз больно ущипнула меня за палец.
Тотчас с берега приковыляли еще несколько совершенно непуганых курочек.
С тех пор мы ели осторожно и прятали рюкзаки с продуктами под камни. Но курочки все равно собирались около нас, как только мы начинали есть. Они толпились и толкались, пытаясь пробиться к нам поближе, наступали друг другу на перепончатые лапки и выщипывали перья.
Когда мы ловили их, они подымали неистовый крик, но только до тех пор, пока кто-нибудь из нас держал их в руках. Стоило отпустить курочку на землю, как она тотчас же начинала карабкаться к нам на колени и вырывать из рук любую еду. Это нам нравилось.
– Должно быть, – глубокомысленно сказал Зацаренный, – так свободно вели себя звери только в раю.
С тех пор как мы появились на озере, водяные курочки держались только у того берега, где был наш бивуак, – они старались далеко не отплывать, чтобы не пропустить кормежку.
Но не все звери вели себя так добродушно и доверчиво. Были у нас на озере и враги – шакалы и маленькие горные медведи.
Самыми наглыми и изобретательными были шакалы.
В первую же ночь они украли наш жестяной чайник и потащили его в горы, но уронили, и чайник с лязгом и грохотом покатился в озеро.
Мы проснулись вовремя и спасли чайник. На нем оказалось несколько больших вмятин от удара о камни, но все же он не потек. Мы благодарили за это судьбу. Иначе мы бы пропали без чая. Особенно плохо пришлось бы Зацаренному. Он мог пить чай весь день, сидя на солнце и блаженно прищурив глаза.
– Какой воздух! – говорил он и шумно вздыхал. – Не воздух, а бальзам Тоно-Бэнге!
На вторую ночь шакалы подползли к нам «по-пластунски» и пытались вытащить из-под головы у Самойлина мешок с продуктами. Мешки мы из предосторожности клали себе под голову, но оказалось, что это тоже не спасет нас от воровства. Тогда мы решили по ночам дежурить по очереди у костра.
В первую же ночь дежурства борец задремал и очнулся, когда шакалы, упираясь всеми четырьмя лапами, тащили из-под камня пакет с копченой рыбой.
Тогда я придумал, как мне казалось, замечательный способ борьбы с шакалами. Я нашел на берегу длинный сухой шест. Когда пришла моя очередь дежурить, я сел у костра и положил шест рядом с собой. Зацаренный и Самойлин уснули. Я тоже притворился спящим. Я даже слегка всхрапывал.
В эту ночь я впервые увидел, как подползают шакалы. «Ах, как интересно!» – скажете вы. Но я утверждаю как свидетель, что, может быть, это для кого-нибудь и интересно, но главным образом противно и даже страшно.
Шакалы подползали в свете костра, как тени, как шевелящиеся облезлые призраки.
Я осторожно засунул конец шеста в огонь. Шакалы на мгновение замерли, потом снова начали подползать.
Впереди полз вожак. Я его уже хорошо видел в отсвете костра. Уши у него были прижаты, а щербатая морда была на всякий случай оскалена.
Я ждал, пока вожак подползет к костру – около него лежала в виде приманки колбаса – на длину шеста, потом стремительно выхватил из костра пылающий шест и ударил им вожака.
Вожак прежде всего вскрикнул. В его злом крике мне даже послышались наши человеческие слова: «Уй, черт!» Потом он прыгнул, но не вперед, а назад, и кинулся в горы, уводя за собой всю стаю. Запахло паленой шерстью. Из этого можно было заключить, что я подпалил шакалью шкуру.
Зацаренный и Самойлин проснулись. Они расхваливали мою находчивость. Они, как мне кажется, даже льстили мне при этом. Я был готов возгордиться своим открытием. Но если бы я знал, какие невыносимые последствия обрушатся на нас после моей расправы с шакалами, то я бы, конечно, не делал таких опрометчивых опытов.
Шакалы взобрались на соседние скалы и все, как один, завыли с таким отчаянием и остервенением, что ни о каком сне под этот вой не могло быть и речи. Они мстили нам и выли двое суток.
Медведи оказались зловреднее шакалов. Они придумали ловкий способ, чтобы выжить нас с озера. С тех пор мы пребывали в какой-то нервной осаде, и если уцелели, то только благодаря постоянной настороженности.
С утра медведи залегали вверху, на краю отвесного обрыва, и, свесив головы, следили за нами.
Если кто-нибудь из нас, забыв об опасности, проходил внизу, по берегу, мимо медведей, они спускали на него камень и вызывали обвал. Летела пыль, грохотали, подскакивая, большие валуны, стреляла во все стороны и со свистом врезалась в воду щебенка. Самойлин чуть не погиб под таким обвалом.
Мы пытались прогнать медведей, но у нас не было оружия. Свист и ругань на них не действовали.
Это было очень досадно. Мы не могли свободно ходить по берегу, а должны были держаться под прикрытием пещеры.
Иногда Зацаренный терял терпение, поносил медведей могучим басом и грозил им кулаком. В ответ медведи оживлялись, с любопытством вытягивали головы и спускали новый обвал.
Но наконец судьба отомстила за нас. Один маленький медведь слишком далеко высунулся над обрывом, сорвался, пронесся черным косматым шаром мимо нас, с сильным плеском грохнулся в воду, коротко взревел, нырнул и исчез навсегда. Очевидно, он утонул, бедняга.
Медведи просидели на обрыве до вечера, ушли и больше не возвращались. Исчезновение товарища напугало их. Они, очевидно, приписали это нашим, человеческим козням.
У берегов, в синей воде, лежали большие плоские камни цвета слоновой кости.
В одном месте камней этих было так много, что я, перепрыгивая с камня на камень, добрался чуть ли не до середины озера, чтобы поудить рыбу. У последних камней было очень глубоко.
Однажды я сорвался с камня и почувствовал нестерпимый, обжигающий холод ледниковой воды. Ступню тотчас же свела судорога, будто кто-то начал быстро наматывать на спицу тугое, скрипучее сухожилие. Казалось, что оно вот-вот лопнет.
Но на камнях, несмотря на космически холодную воду, было жарко – и на озере всегда стояло безветрие. Хрустальность (а может быть, вернее – кристальность) отражений в его воде была настолько совершенной, что отличить отражение берегов и гор от настоящих берегов и гор было невозможно.
Как бы два Кавказа существовали вокруг. Один вздымался к высокому небу, а другой уходил в сияющую бездну под нашими ногами. По дну этой бездны медленно передвигались, как и по небу, одинаковые перистые облака.
Когда я забрасывал в озеро леску с грузилом, то каждый раз разбивал идеальную слитность этого мира.
Время от времени брала сильная, как напряженный мускул, форель – пеструха. Или лобан стремительно уводил леску по прямой и, мотнув хвостом, обрывал ее, как паутину.
Это было удивительное занятие – ловить рыбу в жидком сапфире и жадно насыщать свои глаза всем, что располагалось вокруг, – от узора трещин на плоском камне до поплавка из связанных пучком сухих листьев клена. В момент клёва листья складывались, как веер, и медленно погружались в воду.
Я удил до вечера. На камнях меня заставал закат. Однажды я невольно вскрикнул от неожиданности, когда поднял глаза от поплавка и вдруг увидел отражение солнца на ледниках, как бы обагренных кровью.
Я вскрикнул невольно и рассердился на себя за то, что не сдержался. Но слишком огромен был размах сгорающего неба, слишком загадочен был дым облаков и слишком резок блеск льдов на вершине Маруха.
Вообще в жизни мне везло. Почти каждый день я узнавал или видел что-нибудь новое. А чем больше знаешь, тем интереснее и, как это ни покажется странным, таинственней делается жизнь.
Во время закатов у подножия Главного хребта я видел одно из самых величественных зрелищ на земле – разлив такого цветового блеска, что казалось, на этой высоте над уровнем моря у наших глаз появляется дополнительное свойство: видеть гораздо больше красок, чем в глубине долин, в степях и на морских побережьях.
Но все же я без сожаления ждал, когда закат начнет угасать. Потому что я знал, что в сумерках, слабо просвеченных далекими отблесками моря, заключено не меньше прелести, чем в горных закатах.
А потом все стихало, все дотлевало. Тишина садилась к костру и долго смотрела, как подергивались сиреневым пеплом последние угли. Часто падали звезды.
На шестой день у нас кончились продукты, и мы ушли с озера Амтхел-Азанда.
Борец был уверен, что около Цебельды мы снова наткнемся на дезертиров и на этот раз встреча нам не пройдет даром. Поэтому мы решили идти в Сухум прямо через горы, минуя ущелье Гаргемыш.
Карты у нас не было, но борец брался вывести нас к тому месту, где река Азанда, пройдя двенадцать километров под землей, снова выбивалась на поверхность. Дальше нужно было держаться вдоль реки и выйти к Мерхеулам.
Эти двенадцать километров мы шли весь день. В Сухум мы возвратились сожженные, пыльные, голодные, со стертыми ногами, но счастливые.
В Сухуме было сонно, душно и одиноко.
Во время моего отсутствия мадемуазель Жалю сдала соседнюю пустовавшую комнату белобрысому человечку, бухгалтеру из торгового отдела по фамилии Котников.
Все в этом рассудительном человеке было, как говорят врачи, противопоказано Сухуму, начиная с того, что он был веснушчат, беспрерывно мигал красноватыми, альбиносьими глазками с белыми ресницами и любил петь песню: «Я б желала женишка такого, чтобы он в манишке щиголял…» Пел он тонким, свистящим тенорком.
В свободное время он пил чай в саду под бананом. Вышитое петушками полотенце висело у него на шее. Он поминутно вытирал им потное, красное лицо, прокашливался и снова запевал: «Чтобы он в манишке щиголял, в руке тросточку держал…»
На Кавказе Котников вел себя так, будто это был не Сухум, а какое-нибудь Пошехонье. Ничто его не интересовало – ни море, ни тропическая растительность, ни горы, ни абхазцы, ни их характер и нравы. Он любил вспоминать о городе Мологе, откуда был родом. Почти все свои рассказы он начинал одной и той же фразой: «Вот в нашем городке Мологе у мамаши моей, уважаемой Аполлинарии Фроловны, был заведен зверский порядочек…»
С появлением Котникова сразу стало скучно. Время будто остановилось. Оно стояло бессмысленно, как испорченные часы, под назойливое мурлыкание счетовода: «Вышла Маша в лес гулять, женишка себе сыскать…»
Потом приехала из России жена Котникова – точно такая же, как и он, маленькая, курносенькая, вся в розовых веснушках. Она вошла в дом и, еще не сняв пальто, спросила мужа:
– Почем у вас тут яйца?
Конечно, это было несправедливо, но я сразу невзлюбил Котникова и его жену. И понял, что дальше жить в Сухуме совершенно бессмысленно и мне здесь нечего делать.
Я решил ехать дальше, в Батум. Там поселилась машинистка из «Моряка» Люсьена. Она вышла в Одессе замуж за художника Синявского и бежала из голодной Одессы в Батум. Она написала мне, что в Батуме объявлено «порто-франко» и город завален «шикарными товарами» – сахарином, бубликами, дамскими подвязками и шнурками для ботинок. «В крайнем случае, – писала Люсьена, – можно жевать подвязки».
Кроме Люсьены, в Батуме, на Зеленом Мысу, жил Бабель с женой Евгенией Борисовной и сестрой Мери.
А я корпел в сухумском одиночестве и правил заметки в маленькой скучной газете.
Я возмутился на самого себя, сел без билета на пароход «Ильич» и уехал в Батум.
Наступил вечер. Берега Абхазии затягивались туманом. Я лежал на корме, около флагштока, подложив под голову пальто и маленькую подушку, набитую сухумским табаком (вывозить из Абхазии табак было запрещено).
Неожиданно в терпкий запах табака ворвался принесенный с берега движением воздуха счастливый запах магнолий и мимоз – томительный воздух скитаний, Малой Азии, непроглядных зарослей и кромешных теплых ночей. И у меня сжалось сердце. Уходила – и, должно быть, навсегда – еще одна область земли, где я оставлял частицу своих мыслей и времени.
Через несколько лет я попал ненадолго в этот город и не узнал его. Он превратился в многолюдный и пышный, щеголеватый курорт. На его улицах пахло не магнолией, а пережженным газом из выхлопных труб и палеными женскими волосами.
А сейчас я лежал на палубе и думал, что патриархальность Сухума окончилась навсегда.
Пожалуй, последним трогательным событием этой жизни была встреча Михаила Ивановича Калинина.
Калинин проезжал на пароходе мимо Сухума и сошел на несколько часов на берег. На набережной собрался весь город – живописная толчея башлыков, черкесок, длинных седых усов, откидных рукавов с разноцветной подкладкой, кинжалов и брюк галифе с золотыми лампасами.
Когда шлюпка с Калининым отвалила от парохода и начала приближаться к берегу, простодушный начальник сухумской милиции проскакал на горячем коне вдоль набережной и крикнул толпе:
– Красивые, вперед!
В толпе произошло стремительное движение. Но не раздалось ни одного крика, ни одного проклятия.
И действительно, на глазах случилось подобие чуда: толпа как бы сама по себе отобрала и выбросила вперед всех красивых – юношей с орлиными носами, серебряных старозаветных старцев и гортанных девушек, пышущих жаром от смущения.
Начальник милиции второй раз проскакал вдоль толпы, потом крикнул: «Душевно благодарю!» – и его конь, приплясывая, танцуя, прядая ушами, одним словом, кокетливо гарцуя, двинулся к пристани, где, как горный обвал, грянул гром оркестра из дудок и барабанов так называемого «сазандари» – самого выносливого и бодро-заунывного оркестра в мире.
В плоском порту
Ночью я проснулся. «Ильич» стоял у причала в каком-то плоском порту. Мне показалось, что портовые огни плавают по воде, как плошки, – так низко они горели.
Я забыл, что по пути в Батум «Ильич» должен был зайти в промежуточный порт Поти.
Вокруг не было видно никаких признаков города. Потом я узнал, что от порта до Поти было далеко.
С неба редко падали капли дождя – теплые, как остывающий чай. Время от времени откуда-то приходил померанцевый запах.
Без видимой причины я ощутил прилив тоски, такой резкой и неожиданной, что даже растерялся.
Я, конечно, знал причину этой тоски, но не сознавался в этом, потому что ничем не мог себе помочь.
Тоска была давняя, прочная. Происходила она от затяжного одиночества, тем более непонятного, что по натуре я был человеком общительным, любил веселье и совершенно не был склонен к угрюмому самоанализу. Я хотел рвать жизнь охапками, как рвут весной сирень, хотел, чтобы мои дни никогда не повторялись и для меня хватило бы всех удивительных людей, стран и событий, какие только существуют на свете.
Но жизнь не по моей вине (вина, очевидно, была, но я ее не понимал) складывалась так, что и разнообразие жизни, и события, и скитания, и множество окружающих интересных людей – все это было дано в изобилии, но не было дано лишь одного: родственных, любимых и любящих людей.
Были мама и Галя, но меня отшвырнуло от них далеко, и мы переписывались так редко и так коротко, будто с трудом перекликались через широкую, шумную реку и плохо различали друг друга на затянутых туманом берегах.
Не было дня, когда бы у меня не саднило сердце от этой оторванности и когда бы я вслух не стонал от досады на эту разлуку и от гнева на самого себя.
Я никак не мог справиться со своей жадностью. «К чему я все это коплю?» – спрашивал я себя, но никогда не отвечал на этот вопрос, так как копил я жизнь инстинктивно, в силу какого-то мне самому непонятного внутреннего побуждения.
Разгадка пришла только в последующие годы, когда я начал писать.
Жадность заставляла меня беспрерывно искать новых мест, людей, знаний, впечатлений, новых дел и невольно все дальше и дальше уходить от своего недавнего прошлого.
Оно было недавним, но вместе с тем ощущалось и как очень далекое. Например, между этой ночью в безмолвном Потийском порту и хотя бы тем вечером на полуразрушенной даче на Фонтанах, когда Багрицкий читал стихи Блока, протянулись, мне казалось, целые годы. Я время чувствовал как бы на вес. Оно оттягивало руки.
Это состояние одиночества с особенной резкостью я испытал в Сухуме. Может быть, потому, что там я оказался вне среды, к которой уже привык за последние годы, – среды журналистов и писателей. Я оказался вне удивительного состояния, какое испытывал в последнее время в Одессе. Его можно было бы назвать ощущением ранней весны в нашей жизни, ощущением первого и еще неясного прикосновения нового искусства и новой литературы. Может быть, это сравнение несколько вычурно или в нем недостаточно вкуса, но я чувствовал именно так.
Приближалась бурная весна. Рождались замыслы, крепли силы, накапливался жизненный опыт, и вот-вот, как солнечный диск из-за гребня гор, должно было вспыхнуть где-нибудь гениальное слово.
Так я думал тогда и был счастлив этим ожиданием. Оно прогоняло тоску. Не только оно, но, конечно, и многое другое, даже сущие пустяки. Например, такая вот медленная, дождливая ночь на пустой палубе парохода в порту, куда я никогда не предполагал попасть.
«Человек не может быть один, – думал я. – Никак не может. Иначе он погибнет».
Пароход отвалил. За молом осторожно вспенивались волны. Высокий маяк равнодушно клал на потревоженную воду свой неестественно белый свет.
Пришел матрос, привел на веревке маленькую белую собаку, совершенно косматую и несчастную, привязал ее невдалеке от меня к скамейке и ушел.
Собака дрожала так сильно, что когти ее постукивали по палубе.
Я отвязал ее, и она легла у меня в ногах. Сначала она тихо плакала, потом вздохнула и лизнула мне руку.
«Не только человек, – подумал я, – но даже собака не может быть одна. Не может!»
Я уснул. Сквозь сон я слышал, как у меня над головой тренькал лаг, отсчитывая пройденные мили.
Батумские звуки и запахи
Духанов и кофеен в Батуме было множество.
Застекленные двери во всех духанах и кофейнях были расшатаны. Они дребезжали и долго звенели при каждом толчке.
Постоянный звон дверей сливался со звоном листовой меди. Худые медники с провалившимися глазами выковывали из этих листов маленькие турецкие кофейники и приклепывали к ним длинные, тоже медные, ручки.
Тут же, на новых коврах, разложенных на мостовой, посреди узеньких улиц, нахальные девочки-цыганки били в старые бубны с колокольцами, танцевали и выкрикивали песни.
Новичков в Батуме узнавали по одному верному признаку: они старательно обходили ковры, боясь их запачкать. Но вскоре они узнавали, что ковры раскатывают во всю ширину улиц именно для того, чтобы поскорее уничтожить на них налет новизны и крикливых, еще не потускневших красок. Тогда приезжие начинали с наслаждением топтать ковры вместе с коренными батумцами.
Раздраженные базарным гамом, лягались лошади и тоже издавали звон – у них на шеях висели гирлянды бубенцов.
Но Батум состоял не только из одного звона. Он состоял из множества вещей, – например, из шашлычного чада… Но раньше чем перейти к этим вещам, покончим со звуками.
Итак, в Батуме, особенно на турецком базаре Нури вас оглушал калейдоскоп звуков – от блеяния баранов до отчаянных криков продавцов кукурузы: «Гагаруз горячий!!», от заунывных стонов муэдзина{111} на соседней мечети до писка дудок за окнами духанов и слезного пения выпивших посетителей.
Но особенно хороши были в Батуме звуки дождя и гудки пароходов.
Зимние батумские дожди пели на разные голоса. Чем сильнее был дождь, тем выше он звенел в водосточных трубах. Пароходные же гудки были преимущественно одноголосые баритональные, особенно у иностранных наливных кораблей с желтыми трубами и мачтами. Я попал в Батум в период осенних и зимних дождей. Они шли почти непрерывно, затемняя свет, погружая дни в теплый, почти горячий сумрак. Просветы случались редко.
Только несколько лет спустя я снова приехал в Батум (теперь он уже назывался Батуми), но уже ранним летом, и впервые увидел весь блеск и пышность батумской растительности и чистейшую синеву его неба.
Пароходы вползали, покрикивая, в живописные трущобы Нефтяной гавани, швартовались впритык к духанам, складам и лачугам и нависали над шумной и тесной набережной своим рангоутом и такелажем. Как будто к берегу прибило стадо огромных железных китов.
Желтизна пароходных труб и мачт соединялась в моем представлении с песками аравийской или сомалийской пустынь и с Красным морем, где эти корабли неизбежно должны были проходить.
Иногда «иностранцы» подходили к Батумскому порту, неся на гафеле желтый флаг. Это означало, что пароход по пути в Батум заходил в приморские порты, где никогда не затихала эпидемия холеры или оспы, чумы или дизентерии. Такой пароход уводили на рейд, ставили в карантин и окуривали трюмы серой.
Что касается запахов, то чаще всего побеждал чад баранины. И это очень жаль, потому что другие батумские запахи были гораздо приятнее этого чада. Но они редко могли через него прорваться.
Этот чад, въедливый шершавый, саднящий горло, был хорош только тем, что напоминал о батумских шашлыках, – пожалуй, лучших на Кавказе.
Их жарили на древесном угле нанизанными на стальные шампуры, потом посыпали кислым порошком барбариса или корицей, обкладывали зеленым луком и ели со свежим лавашем, запивая белым вином. Мне кажется, что ничего более вкусного я никогда еще не ел в своей жизни.
На втором месте стоял запах свежесмолотого и только что сваренного кофе. Мололи его на турецких мельницах – медных, похожих на маленькие гильзы от снарядов. Снаружи эти мельницы были украшены чеканкой. Иной раз она изображала сцены из «Тысячи и одной ночи».
Мельницы эти превращали кофейные зерна в тончайшую пудру.
Запах кофе вызывал у меня одновременно представление о Востоке и Западе. И восточные и западные страны одинаково пахли кофе.
Что касается старой Европы, то она была просто неотделима в мыслях от горячего кофейного пара и от тех запахов, которые часто сопутствовали кофейному, – пароходного дыма, хрустящего утреннего хлеба, укропа, перезрелых роз и табака.
Европа часто виделась мне в полусне по утрам как далекий берег. Он поблескивал над невысоким валом розовеющего пенистого прибоя дряхлыми стеклами своих городов.
Прибой, поднявшись, падал, грохоча, на пески. Водяная пыль оседала на листве платанов, и в прохладе садов открывался как будто знакомый и вместе с тем незнакомый город. И я гадал, что это за город: Анкона или Чивита-Веккия, Бордо или Роттердам?
Батум для меня, впервые попавшего к самым южным границам России, был городом необыкновенным, экзотическим, типично восточным.
Батум пропах кофе, вином и мандаринами. И только через два-три месяца у меня начало ослабевать пряное ощущение экзотики, ее терпкая оскомина, и я увидел за ней подлинную жизнь этого города. В нем никогда не затихала отнюдь не провинциальная культурная жизнь, а порт, как огромный конденсатор, стягивал к себе все рабочее население Батума.
В то время в Батум приходило из близкой Турции – из Ризе и Трапезунда (в Батуме говорили – Требизонда) – много фелюг с апельсинами и мандаринами. Пахучие цитрусы были навалены пирамидами на палубах фелюг, разноцветных, как пасхальные писанки.
Я часто видел одну и ту же картину: на апельсинах, прикрытых циновкой, полулежали старые турки и пили, причмокивая, густой, ароматный кофе.
Запах кофе распространяли не только фелюги, но и мелкая галька на берегу. На ней лежала кайма кофейной гущи. На этой кайме выделялись рваные оранжевые лоскутки мандариновых корок.
По вечерам фелюжники молились, сидя на горах апельсинов, на юго-восток, в сторону Мекки, вскидывая руки и припадая лбом к холодным апельсинам.
Там, где лежала Мекка, клубилась лиловая мгла, еще не прорезанная огнями звезд. Фелюжники верили, что за этой мглой льется райская река с лазурной водой – «река всех рек» Ковсерь.
Мне тоже хотелось бы верить в это, но мое сознание уже не могло вернуться к детским временам.
В то время я нелепо считал, что каждая новая мысль или крупица знания, приобретенная мною, является вкладом в общий итог культуры.
Да, Батум и Батумский порт пахли мандаринами, нефтью и тиной.
Тина в изобилии висела темно-зелеными, почти черными космами на портовых сваях. Несмотря на то что ее непрерывно прополаскивала морская волна, тина не делалась от этого светлее и не теряла свой аптекарский запах.
В самом городе, подальше от порта, особенно на Приморском бульваре, напоминавшем променады Сингапура или Бомбея, стоял приторный запах магнолий, а за городом, по дороге на окраину Батума Барцхану, где жили Синявские, пахло из-за пыльных, колючих изгородей шиповником.
«Это не мама»
Люсьена и Миша Синявские встретили меня в Батуме на пристани. Потом прибежал запыхавшийся Бабель. Он жил за городом, на Зеленом Мысу, и приезжал в Батум на дачном поезде.
Синявские снимали маленькую застекленную террасу в Барцхане. Я поселился вместе с ними.
Так началась наша совместная жизнь, очень беззаботная, несмотря на то что мы висели на волоске. Ни у Синявских, ни у меня не было денег, а у меня к тому же не было и «определенных занятий». Были только смелые планы.
Я надеялся, что мне удастся открыть в Батуме морскую газету вроде «Моряка».
Я просто тосковал по «Моряку». В то время я уже был захвачен газетной работой, ее горячими темпами, ее стремительным движением, ее тесным соприкосновением с бурлящей, ни на миг не затихающей жизнью народа, всей страны, всей Европы, всего мира.
Новые идеи, ворвавшиеся в сознание после революции, делали нас всех даже в собственных глазах представителями передового поколения.
Мои надежды открыть в Батуме «свою», как я тогда говорил, газету объяснялись тем, что побережье Черного моря от Гагр до Батума было в ведении Союза моряков Грузии. Моряки эти, конечно, мечтали о собственной газете. Но пока что дальше моих разговоров об этом с комиссаром Союза моряков, эстонцем Нирком, дело не двигалось.
В утро моего приезда Миша Синявский вынул из фанерного шкафчика бутылку водки. На белой этикетке была изображена добродушная корова и было написано, что водка эта изготовлена на батумском заводе Артемия Рухадзе. Люсьена зажарила камбалу. Мы съели эту камбалу с мандаринами, запили водкой Рухадзе и были счастливы.
Счастливому нашему настроению способствовало все, что нас окружало, – прежде всего сознание, что мы в субтропиках, где льется теплый дождь и где небо так густо обложено теплыми тучами (был уже октябрь), что сумерки висят над землей весь день. В их глубине медленно и торжественно раскатывало свои волны, добегая почти до порога нашей террасы, Черное море.
Мимо нас ехали арбы, нагруженные темно-лиловым виноградом «изабелла». У этого винограда, как мне тогда казалось, был вкус Испании.
Река Барцхана, бежавшая, курчавясь, по камням за частоколом нашего дома, несла в море желтые и пурпурные виноградные листья. Земля пахла кустарным вином.
После еды мы пили кофе, курили сухумский табак, вспоминали Одессу, и жизнь была прекрасна, как никогда. Особенно от запаха прибоя, шумевшего под бесшумным дождем.
Миша Синявский, высокий, несколько угрюмый и насмешливый человек, полный меткого юмора, придумал хорошее занятие. На стене своей террасы он повесил объявление, что делает увеличенные портреты с фотографий и притом даже в красках.
К его удивлению, заказчик появился не только из Барцханы, но даже из Махинджаур и самого Батума!
Заказчик был простодушен, как дитя. Он относился к работе Миши, как к непостижимому чуду, как к божьему дару. Получая готовый портрет, он держал его осторожно, цокал от восхищения языком, качал головой и безропотно платил одну турецкую лиру (советских денег в ту пору в Батуме было еще мало, а грузинские боны не имели уже цены).
Одной лиры нам хватало на три дня. Но очень скоро в Батуме действительно открылась морская газета «Маяк», и я тоже начал зарабатывать, и наша жизнь на дырявой террасе приобрела некоторые черты изобилия. Измерялось оно количеством мандаринов, папирос и банок со сгущенным кофе.
Однажды пожилой грек Яни, сапожник с базара Нури, заказал Мише портрет с фотографии своей мамы. И притом в красках.
Я рассмотрел фотографию и выяснил, что мама снималась в городе Воло в Греции в 1880 году и была невиданной красавицей. Она была похожа на ту гордую девушку во фригийском колпаке, что зовет людей на баррикады на картине Делакруа «Свобода ведет народ».
Множество медалей, полученных фотографом Метаксосом (из Воло) и изображенных на обороте этой фотографии, веселило меня.
Я даже как будто видел этого низенького, витиеватого и прыщавого грека на высоких каблуках и в галстуке бабочкой. Он был, конечно, неслыханно галантен, как в самом Париже, и снимал клиентов в лимонного цвета лайковых перчатках (тоже как в самом Париже), чтобы ошеломить их провинциальные мозги и заставить раскошелиться.
Во время работы Миша любил сочинять о своих заказчиках всякие нелепые истории, чаще всего их биографии.
Люсьена готовила во дворе на мангале икру из синеньких или сациви (у нас теперь хватало иногда денег даже на сациви), обдергивала на груди короткую, расползавшуюся по швам кофточку и добавляла некоторые натуралистические подробности к этим словесным Мишиным портретам.
– Ты же забыл рассказать, – кричала она, – что этот твой красавец Метаксос носил розовые кальсоны, цвета зардевшейся невесты! Они были вдвое шире его размера, и он застегивал их заржавленной английской булавкой!
Однажды нас застал за этим занятием Бабель. Он тотчас включился в игру и рассказал с необыкновенной пунктуальностью, какой Метаксос дурак.
Мы съели сациви, выпили бутылку водки «с коровой», после чего дощатая и хлипкая терраса показалась мне самым прекрасным местом для бесед, смеха и глубокого приморского сна.
Мы все были переполнены тогда верой в будущее и ощущением новизны своего времени.
Даже дождь, лупивший изо всей силы по стене, казалось, участвовал в наших разговорах.
А когда я выпивал немного больше, чем следует, мне начинало казаться, что дождь подслушивает нас, перестукивает на старой пишущей машинке все, что мы говорим, и из этой записи получится в конце концов интересная книга.
Разговоры не мешали Синявскому работать. Портрет «мамы» он сделал такой, что от него действительно трудно было оторваться. Особенно хороши были золотые глаза и немного приоткрытый рот. Казалось, что грудь гречанки тихо вздымается и с ее губ слетает душистое дыхание.
– За такой портрет, – сказал Бабель – не грех взять и четыре лиры. Смотрите, Миша, не обмишурьтесь.
Наутро Миша понес портрет заказчику. Я пошел вместе с ним. Мы решили потребовать с сапожника три лиры. Потом остановились на двух.
Пожилой сапожник Яни жил в глубине ветхого и как бы театрального двора. Там носились с азартными криками греческие дети. Полные гречанки, положив на подоконники свои могучие груди, смотрели на нас из окон и посмеивались, обсуждая нашу наружность.
Сапожник Яни сидел во дворе у двери своей лачуги. Рот его был полон деревянных гвоздей. Он выплюнул их и сказал нам «кала мера».
Миша, не торопясь, вынул портрет и, не выпуская его из рук, повернул лицевой стороной к сапожнику.
Тогда произошло величайшее чудо, какое может сотворить только высокое искусство, только живопись, равная по силе творениям лучших мастеров человечества, таких, как Боттичелли, Рафаэль или Вермеер Дельфтский: Яни взглянул на портрет и зарыдал.
У себя за спиной мы услышали возбужденные возгласы гречанок, лежавших на подоконниках.
Я, не меньше сапожника восхищенный Мишиным искусством, все же не потерял здравого смысла, толкнул Мишу в бок и тихо сказал:
– Бери три лиры.
Мы ждали, когда Яни успокоится. Но он долго сморкался в фартук, всхлипывал и вытирал глаза рукавом.
За его спиной стояла маленькая и черная, как пережженная корка ржаного хлеба, женщина и тупо смотрела на мамин портрет. Это была жена Яни. Она одна не выражала восторга.
Наконец Миша решился и, уважая сыновние чувства Яни, мягко напомнил ему, что мы ждем и нам следует получить с него три лиры.
Тогда Яни начал качаться, как мусульманин, когда он совершает намаз{112}, или гяур{113}, когда у него болят зубы, обхватил голову руками, застонал и сказал злым и жалобным голосом:
– Это не мама! Это совсем не мама! И вы не получите ничего, потому что вы обманули бедного человека!
Мы оторопели. Во всем дворе наступила звенящая тишина. Двор ждал дальнейших событий.
– Как не мама? – спросил потрясенный Миша.
– Не мама! – закричал Яни и стукнул колодкой по табурету. Во все стороны полетели деревянные гвозди. – Мама была старенькая, седая. Я ее хорошо помню. Она умерла, когда мне было семь лет, а старшему брату было уже пятьдесят. А ты что сделал? Ты нарисовал какую-то девчонку-арфистку из ресторана «Мирамаре». Тьфу и тьфу! Забирай свой портрет и уходи! Еще требуешь три лиры. Три фиги ты получишь за этот портрет, аферист, а не три лиры!
Яни три раза показал Мише кукиш. Этого нельзя было вынести и нельзя было спустить безнаказанно.
Миша побагровел, схватил Яни за ворот, заставил встать и сказал тихо, но так, что было слышно во всем дворе:
– Ты что же? Подсунул мне карточку мамы, когда ей было шестнадцать лет, и хочешь, чтобы я сделал тебе столетнюю старуху?! Плати сейчас же, или я вытряхну из тебя душу!
– Это не мама! – снова пронзительно закричал Яни и начал извиваться в руках у Миши, пытаясь вырваться.
Несмотря на серьезность положения и угрозу остаться на время без хлеба, я прислонился к стволу сухой шелковицы во дворе и начал хохотать.
Тогда Миша выпустил сапожника, повернулся к окнам, где гроздьями висели жильцы, и крикнул:
– Граждане греки! Потомки великих людей! Что же вы смотрите на это безобразие?!
Тотчас поднялась буря. Из всех окон и дверей десятки голосов закричали:
– Яни, опомнись! Это же мама! Вылитая мама! Глупец! Настоящая мама! Сейчас же заплати человеку! Слышишь?
Несколько мужчин в одних жилетах выбежали во двор. Они трясли Яни за плечи и кричали:
– Ты позоришь нас, Яни! Стыдись! Это же чистая мама! Нам будет просто приятно видеть ее каждый день. Такая красивая греческая женщина! Ай, какая красивая! Плати деньги и успокойся. Плати!
– Три лиры? – прохрипел с недоумением Яни и обвел всех покрасневшими глазами. – Не дам!
– Хорошо! – закричали греки. – Две лиры. Две! И пусть они уходят себе на здоровье, эти молодые люди!
Яни швырнул на стол две лиры. Миша взял их, и мы пошли, провожаемые дружными напутствиями обитателей дома.
Через полчаса выяснилось, что одна лира была фальшивая.
Вообще поддельных лир ходило по Батуму гораздо больше, чем настоящих. Поэтому в Батуме завели обыкновение при расплате писать на лирах свою фамилию, чтобы в случае подсунутой фальшивки вас можно было найти.
Но все лиры были уже так густо исписаны, что на них часто не оставалось живого места. Временами нельзя было даже разобрать достоинства денег. Особенно если во всех этих многочисленных автографах попадалась хотя бы одна надпись, сделанная химическим карандашом и расплывшаяся от дождя или хозяйского пота.
Но нам было не до того, чтобы требовать от сапожника подписи, и мы ушли, махнув рукой.
Дома был созван совет с участием Люсьены. Миша сказал, что будь он четырежды проклят, если еще хоть раз возьмется за увеличение фотографий. Всю жизнь он мечтал быть художником-архитектором, подобно Пиранези{114}, чтобы работать в той же манере и довести ее до совершенства, а не писать портреты длинноносых восточных сапожников и их мам.
Люсьена сказала, что Миша чудный парень, но как же они будут жить дальше?
Внезапно у меня появилась счастливая мысль. На нее натолкнуло меня посещение духана «Бабуля по-рецески».
Это название, коряво написанное на куске картона разноцветными карандашами, было загадочным и требовало лингвистических изысканий (или, как говорил Миша, «раскопок»), чтобы установить его происхождение.
Помог нам расшифровать вывеску духана батумский поэт Чачиков – изысканный, хотя и изрядно потрепанный рыцарь и бывший корнет. Он познакомился с Люсьеной на базаре и с тех пор непрерывно и притворно волочился за ней, прижимая обе руки к сердцу. На его руках висели тяжелые четки из черного янтаря.
Чачиков писал футуристические стихи о своем кавалерийском прошлом. Я запомнил некоторые из них. Однажды он читал их нам на Барцхане, сидя верхом на стуле и похлопывая стеком по лакированным крагам:
В общем, он был добрый и храбрый малый, хотя и хвастун. Он любил рассказывать о своем детстве, проведенном якобы в Персии, в городе Моссуле. При этом он восклицал:
Чачиков без всякого труда расшифровал название духана.
– Бабуля, – сказал он, – это местное название рыбы барабули, или султанки. Самая вкусная рыба на Черном море. «По-рецески» – это значит «по-гречески». Итак, вы сами догадываетесь, что полное название переводится так: «Султанка по-гречески». Этим блюдом славится вышеназванный духан.
Сидя однажды в этом духане, я заметил на стене над своим столиком портрет Кемаль-паши, вырезанный из газеты. Вокруг Кемаля детская, неуверенная рука нарисовала венок из полевых маков.
По-моему, Мише надо было переходить на портреты Кемаль-паши. В Батуме в то время было довольно много турок. В городе совсем не было ни портретов, ни фотографий Кемаля. В третьих, не надо было корпеть над пожелтевшими карточками, а потом иметь дело со вздорными родственниками! У Кемаль-паши, надо полагать, родственников в Батуме не было.
Батумские турки считали Кемаля своим национальным героем, но вряд ли в городе нашелся бы хоть один человек, который его видел своими глазами.
Миша согласился. Началось с того, что он нарисовал Кемаля в профиль и подарил этот портрет хозяину духана «Бабуля по-рецески».
Успех предприятия с портретом Кемаля, как говорится, превзошел ожидания. Заказы посыпались со всех сторон. Люсьена разработала тариф: за портрет в профиль тушью – одна лира, за анфас – две лиры, за портрет в красках – три лиры, за портрет, изображавший Кемаля на вороном коне, – четыре лиры, и наконец, за портрет, где Кемаль скачет на поле боя по трупам убитых врагов, – пять лир.
В то время как раз шла греко-турецкая война, задевшая мимоходом и Батум. Но об этом после.
Миша так набил руку на Кемале, что мог рисовать его с закрытыми глазами. Снова некоторое изобилие вернулось к нам на террасу на Барцхане.
Но я к тому времени уже начал редактировать морскую газету «Маяк» и переехал в город. Мне дали комнату в «Бордингаузе» – гостинице для матросов, отставших от своих пароходов.
Береговой приют
Почти во всех портах мира есть так называемые «береговые приюты» для моряков, отставших от своих пароходов. Иначе эти приюты называются «Бордингаузами». Это нечто среднее между ночлежкой, пивной, вытрезвителем и публичным домом.
Был такой «Бордингауз» и в Батуме, но в урезанном виде – без явных признаков пивной и публичного дома.
Когда «Союз моряков побережья Гагры – Батум» под сильным нажимом комиссара Нирка (а на Нирка нажимал я) решил наконец издавать свою морскую газету «Маяк», мне, как редактору, дали комнату в «Бордингаузе». Но предупредили, что эта комната будет вместе с тем и редакцией. Меня это совершенно устраивало.
Старый двухэтажный дом «Бордингауза», обитый с фасада погнутым кровельным железом – защитой от тяжелых батумских дождей, весь проржавел до красного цвета. Дом стоял на набережной, у самого моря. В сильные зимние штормы ветер барабанил морскими брызгами по окнам, как проливной дождь.
Кроме меня, на втором этаже «Бордингауза» жил еще белокурый красавец и спортсмен Нирк с женой – пугливой пышной эстонкой.
Остальные комнаты занимали моряки, отставшие от своих пароходов, главным образом греки и американцы.
Поскольку моряки отставали от пароходов только «по пьяному делу», то и состав жильцов «Бордингауза» складывался довольно однообразно: это были горькие пьяницы, хрипуны и задиры.
Мы от них никак не страдали, так как ночи напролет они бушевали где-то в пивных на окраинах Батума. Когда же они возвращались в «Бордингауз», то почти никогда до него не доходили, а ложились костьми где попало, преимущественно в подворотнях. Там их не мог достать знаменитый батумский дождь.
Поэтому ночью в «Бордингаузе» было тихо, даже благостно. В вестибюле скромно горела зеленая ночная лампочка, напоминая лампадку. Только рыжие портовые крысы пробегали тяжелой рысью по коридорам на кухню, чтобы напиться под краном. Из испорченного крана капала, меняя время от времени порядок ударов, холодная железистая вода.
Постояльцы появлялись только поздним утром. Протрезвев, они хмуро занимались умыванием, расследованием синяков на теле, чисткой замызганного платья, игрой в кости и время от времени драками на почве темной игры.
Тогда из своего номера выходил Нирк – высокий, в заутюженных брюках клеш и чистой тельняшке. Он спокойно вытаскивал из кармана стальной блестящий пистолет и шел усмирять дерущихся.
Нирка матросы слушались беспрекословно, – может быть, потому, что он всегда загадочно улыбался и, поигрывая пистолетом, говорил:
– Даром теряете калории, скитальцы морей!
Эти слова он произносил на нескольких языках, в зависимости от национальности дерущихся. Они действовали магически.
Кроме Нирка с женой и меня, в «Бордингаузе» жила еще уборщица Нюся. Перед постояльцами она выдавала себя за глухонемую и при первой же попытке какого-нибудь матроса пристать к ней начинала хохотать таким мычащим и вместе с тем оглушительным басом, что было слышно даже на набережной. Из своей комнаты тотчас выскакивал Нирк со стальным пистолетом. Матрос быстро стушевывался и отступал, радуясь, что дешево отделался от «глухонемой ведьмы».
Внизу, под лестницей, жил курд – чистильщик сапог. От его синей гофрированной бороды и даже от карих жалобных глаз величиной с конские каштаны пахло сапожным кремом – сложным запахом скипидара и полотерной мастики. Так мне, по крайней мере, казалось.
Курд был кроток, как голубь. Кстати, он никогда не говорил во весь голос, а тоже нежно бормотал по-голубиному.
Курд любил рассказывать свою несложную биографию. Она состояла главным образом из частой резни и скитаний по Малой Азии в поисках спасения от этой резни. «Папу турки резил, – бормотал он, вздыхая. – Маму тозе турки резил. Брата тозе турки резил. Я теперь один на весь свет».
Работы у курда почти не было. Большую часть дня он проводил в дремоте или еде. После еды он долго облизывал свои маслянистые пальцы и чмокал. В этом его занятии было нечто библейское и простое, как заунывная песня номада{115}.
В «Бордингаузе» жил еще черный мохнатый пес с желтыми, чересчур внимательными глазами. Звали его Мономах. Если бы не он, то нас наверняка бы съели крысы, неслыханно злые и наглые.
За ночь они прогрызали насквозь толстую половицу в моей комнате, но не в углах, как обыкновенно, а посередине.
На рассвете все батумские крысы выходили на водопой к ручью за портом. Крысы из «Бордингауза» тоже. Они шеренгами слезали с чердака по наружной раме моего окна и тяжело прыгали на крышу соседнего сарая. Я просыпался, но не мог больше заснуть от отвращения. Их яростный писк вызывал у меня нервную дрожь.
Во многих каменных домах были устроены ниши с железными дверями и глазком. В этих нишах милиционеры и сторожа прятались от крыс, когда те тысячными толпами шли на водопой. Очутиться в толпе крыс было смертельно опасно – они могли разорвать человека на части.
Начальник Батумского порта, элегантный и сухощавый капитан, решил уничтожить крыс одним ударом. Обычно крысы шли по улицам сплошным валом, иногда даже в два яруса – в тех местах, где улицы суживались и поток крыс не вмещался в их берега.
По приказу начальника порта во дворах с вечера были расставлены пожарные насосы. Как только крысы запрудили улицы, насосы были пущены и начали поливать крыс керосином.
Но это не остановило движения крыс. Задние напирали на передних, и огромные заторы из разъяренных крыс закружились на месте. Тогда на крыс была сброшена горящая пакля.
Крысы горели заживо. Они метались и визжали, потом ринулись обратно в порт, в свои норы. И тут случилось то, чего не предполагали ни начальник порта, ни пожарные: горящие крысы нырнули под склады, под пакгаузы, и через полчаса в Батумском порту начался пожар.
Пожар гасили два дня. Пароходы отошли от причалов. Порт был оцеплен войсками. Элегантнейший начальник порта заплатил за этот пожар несколькими годами свободы.
Единственное, что отравляло существование в Батуме, – это крысы. Но такова участь всех портовых городов. В конце концов перестаешь обращать на это внимание.
У «Бордингауза» были и свои неоспоримые достоинства. Прежде всего дом стоял в двадцати шагах от гавани, как раз против старой дощатой пристани со сгнившим наполовину настилом.
У этой пристани швартовались турецкие фелюги и наши шхуны. Чаще всего у причала останавливались шхуны «Три брата» и «Лев Толстой». Они привозили персики и табак из Сухуми и контрабандную водку из Туапсе.
В свободное время можно было спуститься прямо из своей комнаты на пристань, захватив самолов, и поудить под кормой у фелюги бычков или султанку. Изредка брали даже морские окуни и ерши.
Не очень жаркое солнце поздней осени освещало мутноватую зеленую воду и разноцветную корму фелюги. Владельцы фелюг украшали свои маленькие корабли, как невест. Иные даже обивали медью планширы и чистили их мелом. Корму обязательно раскрашивали густыми красками.
По существу, корма каждой фелюги представляла собой орнаментальную картину, или, как теперь принято говорить, произведение абстрактного искусства. Я не хочу входить в существо споров об этом искусстве, но каждая пестрая корма походила на беспредметный рисунок ковра с фантастическими цветами и изломанными яркими сегментами.
Я не пытался понять эту живопись турецких фелюжных мастеров. Просто она горела на солнце, бросала отблеск на лицо и руки и весело, даже как-то празднично, отражалась в воде. При этом отражение соединялось с тем, что происходило под водой, и потому сквозь синие и золотые цветы с квадратными лепестками, нисколько не смущаясь этим, лениво проплывали зеленухи и медузы.
Однажды на пристань пришли Люсьена с Бабелем и его женой Евгенией Борисовной. Бабель беспричинно посмеивался и говорил, как бы оправдываясь, что иногда бывает приятно жить на этом свете и дышать запахом дегтя и морской воды. Он грел на солнце бледные, слегка опухшие руки.
Евгения Борисовна сидела рядом со мной на пристани, свесив ноги. Я дал ей самолов. Она терпеливо ждала поклевки и пристально смотрела в глубину, где качались, дыша, медузы. Ее красно-каштановые тяжелые волосы отражались в воде. Она говорила, что очень устала и никуда не хочет уезжать. Бабель в то время как раз собирался переезжать из Батума в Тифлис.
Рыба не клевала, и, помолчав, Евгения Борисовна вновь сказала, что хочет жить только на Зеленом Мысу, где в гуще тропической листвы стоял их дом, и читать, читать до одурения. А раз нет новых книг (тогда в Батуме появилась единственная новая, советская книга – «Шоколад» Тарасова-Родионова{116}), то хоть перечитывать всего Чехова или даже Болеслава Пруса – все равно кого.
Бабель украдкой посматривал на Евгению Борисовну. Я впервые заметил выражение растерянности на его лице. Оно сделалось совсем детским. Мне даже показалось, что у Бабеля задрожали губы. Что-то тревожное творилось на душе у нее и у него, мне тоже стало не по себе, – призрак старых семейных бед моей молодости возник внезапно и не к месту. Я подумал, что нет в мире ничего более счастливого, чем согласие между родными людьми, и ничего страшнее умирания любви, – никем из любящих не заслуженного, необъяснимого, вползающего в жизнь с незаметным упорством.
Они ушли, а я еще долго сидел на пристани, забывая подергивать самолов.
Огромный, длинный, как железнодорожный мост, океанский наливной пароход ярко-желтого цвета с вишневой трубой проползал мимо меня в Нефтяную гавань со скоростью минутной часовой стрелки. На его носу я прочел надпись: «Нинон», а пониже вторую: «Ле Гавр».
Я очень ценил «Бордингауз» за его близость к морской жизни.
Отсюда было видно все, что происходило в порту и на море: все входящие и уходящие корабли, все белые и пенистые шквалы, носившиеся между Батуми и Поти, все многоцветные закаты, похожие на выставку скульптурных облаков или выставку сумрака и света, пламени и мглы, серебра и крови, жаркого золота и оперения незнакомых птиц.
Закаты были похожи на грозные и безопасные извержения далеких вулканов. Через них летчики совершенно спокойно вели самолеты, не боясь сгореть или задохнуться. Наоборот, воздух закатов был чист, свеж: к нему уже притронулась своими холодными вздохами ночь.
Сжавшись, я сидел тихо, чтобы не пропустить мерцания красок, и испытывал какой-то сумрачный восторг. Я не могу этого объяснить, но закаты казались мне похожими на взрывы вдохновенья (если бы оно могло приобрести видимую форму). И я, конечно, соглашался, что очень хорошо жить на этой старой земле, где есть гнилые сваи и закаты, цветы ромашки и шипение пара в машинах кораблей.
Тогда, в Батуме, поэзия взяла меня за горло, крепко забрала в свой благодатный плен. С тех пор я уже не мог и не хотел вырываться из ее рук и забывать хотя бы на миг ее голос.
Он слышался издалека так же ясно, как и вблизи. Он доходил до меня с севера и запада, с востока и юга с необыкновенной чистотой, как зов морских вод, зов всех географических пространств и всех очарований, какими была так богата земля.
Тогда еще не было атомной бомбы, и черная смерть еще не грозила земле. Земля, воды и воздух были свободны от человеческого насилия. Сознание не было угнетено атомным страхом.
Мне кажется, что еще там, в Батуме, я услышал голос Нереиды, украшавшей некогда носы кораблей, – тот голос «ласковый и томный»{117}, какой по ночам тревожил Пушкина.
И в морской темнеющей мгле возникал передо мной высокий нос корабля и бушприт, опутанный снастями, и девичий нежный профиль, и такой же нежный торс Нереиды на старом носу корабля, плывущий к берегам, – напоминание о беспредельном богатстве мечты и силе любви.
Смутное веяние далеких стран летело вслед за Нереидой. Казалось, сердце не выдержит этих опьяняющих мыслей и ни с кем еще не разделенного счастья, этого ощущения вольного, крылатого, почти нереального и вместе с тем совершенно реального, как любой камень на мостовой, существования.
Однажды с моря до «Бордингауза» донеслась отдаленная канонада.
Тотчас на балкон выскочил Нирк со своим стальным пистолетом и биноклем.
Смятение пронеслось по порту. Со всех вышек и капитанских мостиков люди смотрели на море, в сторону анатолийского берега, недоумевая и пожимая плечами.
Оттуда доходил короткий гром орудий, и лопались в дыму и тумане вспышки пламени.
По всем признакам в море шел бой. Но кого и с кем? Это было совершенно непонятно, загадочно и напоминало начало детского исторического романа.
Набережная была уже оцеплена. На нее никого не пускали.
Я смотрел вместе с Нирком с балкона на эту неведомую баталию. Если это нападение на нас, говорил Нирк, то почему молчит старая Батумская крепость?
– Кто может напасть на нас? – спросил я Нирка.
– Да кто хочет, – ответил он совершенно хладнокровно. – От Великобритании до республики Гондурас. Но никакого нападения нет, потому что ни один снаряд не разорвался на нашем берегу. Снаряды рвутся в море около какого-то сооружения, похожего на плавучий цирк.
– Вы странно шутите, – заметил я.
– Посмотрите сами. – Нирк протянул мне бинокль.
Я с трудом увидел далеко в море нечто похожее на большую черепаху, а поодаль от нее – силуэты двух миноносцев.
Миноносцы, судя по всему, нападали на черепаху, а она отстреливалась и лениво извергала из своего нутра жирный и даже на вид зловонный дым. Но миноносцы этим не смущались и продолжали стрелять прямо в дымную гущу.
– Она полным ходом лупит сюда, – заметил Нирк, и в то же мгновение железный гром потряс горы и город. Уходя в морскую даль, провыли у нас над головой снаряды.
– Форты! – крикнул Нирк. – Наша крепость! Теперь все понятно.
– Что понятно?
– Понятно, что какие-то иностранные корабли вошли в наши территориальные воды и крепость не подпускает их.
В дальнейшем морской бой выглядел так: миноносцы отвернули и ушли в море, а черепаха, подняв белый флаг и еще какие-то непонятные флаги, продолжала спокойно ползти к Батуму и стала на якорь около входа в порт. Тогда мы ее рассмотрели и стали постепенно соображать, что произошло.
Черепаха оказалась старым турецким монитором (по русской морской терминологии – броненосцем береговой обороны). Это было нечто плоское, низко сидевшее над водой, заржавленное, со старыми пушками и простреленной трубой.
Когда монитор стал на якорь, флаги на его снастях сразу упали, будто уснули. Из трубы перестал валить жирный дым. Тотчас к монитору помчался наш катер.
Потом к монитору подошел портовый буксир, небрежно втащил его в гавань, в самый дальний и пустынный ее угол, и там монитор пришвартовался наглухо к старым, изъеденным солью чугунным причалам.
После этого в течение каких-нибудь десяти минут все снасти на мониторе покрылись выстиранным матросским бельем, преимущественно тельняшками. Уснувший корабль стал похож на плавучую прачечную. Было ясно, что он отвоевался навсегда.
Нирк ушел в «морские инстанции» и через час принес все сведения о мониторе.
Шла греко-турецкая война. Каким-то образом (никто не мог этого объяснить) война застала два греческих миноносца в Черном море. Эти шустрые миноносцы тотчас же открыли боевые действия против единственного турецкого монитора. Он не успел укрыться в Босфор, под могучую защиту батарей.
Миноносцы гоняли престарелый и больной монитор по всему Черному морю, не давая ему перевести дух. В конце концов они загнали его в самый угол моря, к Батуму, и в азарте даже влетели с полного хода в наши воды.
Батумская крепость остановила их выстрелами и отогнала подальше от берегов, а монитор поднял сигнал о том, что он просит убежища у нас, соглашаясь разоружиться и быть интернированным.
Действительно, орудия с монитора были сняты. Команде монитора следовало, по международным законам, сойти на берег и оставаться там до конца войны. Но команда не торопилась, как говорили, от лени.
Действительно, в бинокль было видно, как турки ели на палубе плов, пили кофе, играли в кости, штопали свое ветхое обмундирование, искали друг у друга в головах или безмятежно спали, задрав ноги в толстых красных носках на крышки люков.
Иногда, после яростных криков боцмана, команда начинала подметать палубу. Пыль подымалась над монитором, как вялый пожар.
А иной раз команда даже пела, вернее – тянула под удары барабанов какую-то глухую и грозную, очевидно военную, песню. Она совершенно не вязалась с унылым и бездельным видом матросов.
Чачиков восторгался этой песней, считал ее образцом боевой поэзии, перевел на русский язык и пел под рваные аккорды гитары.
Но монитором занимались недолго. Вскоре о нем забыли, а потом война кончилась, и он исчез, должно быть, ушел в один из портов желтого, как охра, Анатолийского побережья.
Военнопленный Ульянский
Газета «Маяк» печаталась на «бостонке». Это была маленькая печатная машина. Ее приводили в движение ногой. Надо было сильно нажимать педаль, и машина, похожая на зубоврачебное кресло, выбрасывала с легким грохотом оттиски размером с лист писчей бумаги.
Размер этот назывался альбомным. Он действительно не превышал величины страницы из дамского альбома для стихов.
Из этих коротких технических объяснений вы сами можете понять, как трудно было втискивать в эту газету телеграммы РОСТА, все морские новости, статьи, очерки и даже рассказы. Особенно много микроскопический «Маяк» писал о единении народов Малой Азии, – Батум как бы принадлежал к этой Азии, во всяком случае к Ближнему Востоку.
Эта задача была очень по душе всем нам, сотрудникам «Маяка». Моя старая литературная любовь к Востоку получила неожиданное живое завершение. Все казавшееся очень далеким, к примеру какое-нибудь полурелигиозное-полуполитическое движение Эль-Баба, становилось близким, соседним. Вчерашние мифы превращались в газетную полемику.
Из-за малого формата и тесноты в «Маяке» господствовал короткий, телеграфный стиль.
Недаром единственный молодой наборщик и печатник по имени Ричард (он был курнос и происходил из города Мелитополя) говорил:
– Это же не газета, а конфетти!
Ричард носил на поясе облезлую кобуру от револьвера «наган», хотя самого револьвера у него не было и не могло быть. Эта кобура была для Ричарда атрибутом его воображаемой лихости и источником постоянных недоразумений с милицией.
В конце концов кобуру у Ричарда отобрали. С тех пор он потерял все свое нахальство, притих и начал задумываться.
Я впервые встретил человека, которого ничто не интересовало, кроме оружия. Носить пистолет – «пушку», по его терминологии, – было единственной целью и усладой его жизни. Иногда он бросал работу, приходил ко мне в редакцию, в «Бордингауз», швырял в сердцах на стол кепку и говорил с отчаянием:
– Уйду в милицию, клянусь папашей! Дадут мне шпалер с прикладом. Дубовую доску в дюйм толщиной простреливает навылет с десяти шагов. Шик, дрык, иммер элегант!
Это был человек, о каких в народе говорят, что у них вместо души пар. Вскоре я с облегчением избавился от него. С малых лет я не любил оружия. Оно всегда казалось мне покрытым налетом запекшейся человеческой крови. И люди, играющие с оружием и рисующиеся им, вызывали неприязнь, тем большую, что они часто бывали трусливы и глуповаты.
После Ричарда газету набирал и печатал вялый и совершенно глухой юноша. Наборщики дали ему диковинное чеховское прозвище – «Спать хочется»{118}.
В «Маяке» быстро возникла галерея сотрудников. Каждый из них, откровенно говоря, заслуживает рассказа.
Первым в редакцию пришел тощий, как жердь, позеленевший от голода человек и назвался бывшим корректором петербургской газеты «Речь»{119}. Он просидел два года в немецком плену и, возвращаясь в Россию, попал помимо своей воли в Батум. Фамилия его была Ульянский. В рукав его потрепанной и продувной куртки была вшита, как у всех военнопленных, желтая полоса.
Трудно было понять, как человек, направлявшийся к матери в Рязань, попал вместо этого в Батум.
– Очень просто, – объяснил мне Ульянский, сидя за кухонным столом в редакции и глотая слюну. На столе лежал свежий чурек, кусок колбасы и стоял облупленный эмалированный чайник. – Очень просто, – повторил он. – Наша команда попала в самую заваруху. Сначала нас высаживали из эшелона по нескольку раз в день, вербовали в банды, грозили разменом, а потом выгнали из теплушек совсем: «Идите куда хотите, хоть к такой-то бабушке, только не путайтесь под ногами. Дотопаете до места пёхом, да еще скажете спасибо, что не заставили вас драться». – «С кем?» – спрашиваем. Отвечают каждый раз по-разному и довольно неясно: то с григорьевцами, то с Махной, то с галицийцами, а то еще с какими-то «батьками» Переплюй-Кашубой и Зинзипером. Тут-то мы окончательно поняли свое бедственное положение. Кто-то из пленных пустил лозунг: «Прибивайся к кому попало, абы давали какой ни на есть паек!» Часть прибилась, а нас, неприкаянных, осталось всего три из всего эшелона. Решили все-таки пробиваться на восток, по домам. Все время петляли, чтобы обойти опасные, взрывчатые места.
Сначала нас медленно отжимало к северу, потом начало жать обратно на юго-запад, но вдруг сдвинуло одним рывком прямо к Дону и за Дон – к станице Тихорецкой. Там нас все-таки забрали на трудовые работы и отправили в Туапсе. А из Туапсе – рукой подать до Батума. Сюда я попал один, товарищи отстали.
Сейчас я не понимаю главного – где я? В старой России или в Советской? И кто я такой? Имею ли я право жить или я уже мертвец и только по недосмотру охраны болтаюсь на этой земле? Это я говорю вам к тому, что мне необходимо понять, что происходит, и почувствовать себя не мишенью, как я себя ощущал последние три года, а человеком. А для этого мне нужна работа. Вот я и пришел к вам. Прочел на дверях «Бордингауза» вывеску и пришел.
Говорил он тихо, убежденно, но не подымал глаз – все время смотрел на свои рваные, заскорузлые бутсы. Кожа на лице и руках у него была тусклая и серая от въевшейся в поры угольной пыли.
– Вы где ночуете?
– На товарной станции. В пустых товарных вагонах.
– Погодите минуту.
Я пошел к Нирку. Надо было поговорить, чтобы Ульянскому разрешили ночевать в «Бордингаузе».
Нирк тотчас же согласился. Он был покладистый и добрый парень. Единственным его крупным недостатком были длинные разговоры о калориях. Нирк переводил все на калории, каждый стакан чаю. Он был просто ушиблен калориями и уверял, что заставит свой организм вырабатывать ежедневно одно и то же количество калорий, не позволит им шататься то вверх, то вниз, и поэтому проживет не меньше ста лет.
Я вернулся в редакцию и с удивлением взглянул на Ульянского – капли пота обильно стекали по его небритым щекам. На столе было пусто. Я не обнаружил ни крошки хлеба и ни единого ломтика колбасы.
Я сделал вид, что ничего не случилось. Но Ульянский, конечно, понял, что внезапное и таинственное исчезновение моего жалкого дневного пайка не может пройти незамеченным. Голова и руки у него дрожали.
Больше всего я боялся сделать какую-нибудь неловкость, чтобы не обидеть Ульянского.
Я показал ему чулан для ночлега, но он отказался ночевать в нем, сказав, что привык к свежему воздуху и потому предпочитает товарные вагоны, благо осень в Батуме очень теплая. Потом он сказал, что хотел бы написать для «Маяка» небольшой художественный очерк о Батумском порте. Я согласился.
Через два дня Ульянский принес мне этот очерк. Он написал его синим карандашом на обороте железнодорожной накладной. Текст очерка путался с графами накладной, и в нем ничего нельзя было разобрать. Я дал Ульянскому бумаги и заставил его переписать очерк начисто.
Потом я читал очерк, а Ульянский пил, отдуваясь, чай с черствым хлебом и сахарином и искоса поглядывал на меня.
Очерк мне напомнил лучшую прозу Куприна. Он был так же свеж, сочен, богат живыми подробностями. Трудно было поверить, что этот очерк был первой литературной работой Ульянского, хотя он божился, что это именно так.
Я напечатал очерк, заплатил Ульянскому гонорар, и с тех пор он почти все дни просиживал в редакции и помогал мне во всем. Он даже научился набирать, а когда «Спать хочется» падал от усталости, что с ним бывало нередко, Ульянский крутил за него ногой бостонку.
Писал Ульянский легко, но хорошо. Мне, а потом и Бабелю и Фраерману{120} (он вскоре появился в перспективе батумских улиц) нравилась манера Ульянского изображать характеры людей при помощи внешних признаков, едва заметных примет.
Так, в одном из очерков он описывал капитана английского наливного парохода «Карго». Очерк он назвал «Макинтош». По существу, он подробно писал в нем о новом макинтоше, который видел на этом капитане. Но все свойства макинтоша – холодного и чуть липкого на ощупь, пахнущего дезинфекцией, трескучего и неудобного, серого, как дождевое небо, – все эти свойства передавались владельцу этого макинтоша – капитану «Карго».
Лицо его казалось, писал Ульянский, выкроенным из куска макинтоша и невольно вызывало представление о коже тонкой, холодной и скользкой, как лягушка. Цвет глаз капитана был неотличим от цвета макинтоша, – вся британская скука, холод сердца и плоскость мысли отражалась в этих пустых и скучливых глазах. Эти глаза ничему не удивлялись и ни от чего не могли прийти в восторг.
Всюду плавала вместе с капитаном и его макинтошем многолетняя скука и отсчитывала время как контрольные часы – коротким карканьем немногих английских слов. Их капитан скупо отщелкивал, как на арифмометре, в течение длинного корабельного дня.
Я не ручаюсь за безусловную точность передачи писательской манеры Ульянского, но в общих чертах это было так.
Ульянский вызывал невольное уважение. Он никогда не говорил зря и, видимо, весь плен перестрадал молча, накапливая запасы наблюдений и гнева.
На второй месяц своего сотрудничества в «Маяке» он пришел рано утром и, отводя глаза, сказал, что через час уходит из Батума в Баку, где у него живет тетка.
– Не могу сидеть на одном месте, – признался он убитым голосом. – Противно!
– Вы что же, – спросил я, – собираетесь идти в Баку пешком?
– А то как же! Я уже прошел пешком от Мариуполя до Батума. И меня ставили к стенке всего три раза. Только три раза. Дойду и до Баку.
И он исчез, чтобы неожиданно появиться через два года в Москве, по пути из Мурома в Ленинград – опять от какой-то тетки к другой тетке. Снова он шел пешком.
Я пошутил насчет его многочисленных теток, а он усмехнулся в ответ и сказал:
– Что ж поделать, если это так. Я иду и представляю себе, как милые ленинградские старушки тетя Глафира и тетя Поля (они живут на Пряжке) будут радоваться мне, давно уже пропавшему без вести, как соберут простой ужин, как окна в домишке запотеют от самовара, каким удобным покажется мне кряхтящий диван под сенью фикусов, какой великолепный сон придет на смену усталости, но и сквозь сон я буду слышать свистки пароходов на Неве и дожидаться утра, когда снова и снова, но как бы впервые развернется передо мной одним взмахом самая прекрасная в мире панорама невских берегов.
– Да, – сказал я, захваченный его сдержанным волнением. – Да… «А над Невой – посольства полумира, Адмиралтейство, солнце, тишина…»{121}
– Я помню, как вы читали эти стихи в Батуме в «Бордингаузе», – улыбнулся Ульянский. – Ну, будьте здоровы. Еще увидимся.
Но увидеться нам не пришлось. Через год я получил почтовую бандероль из города Чигирина, с Украины. В бандероли была книга Ульянского. Называлась она, кажется, «Записки из плена» и была издана в Ленинграде.
Из надписи на обложке я понял, что Ульянский снова бродяжит по стране, теперь, должно быть, в поисках какой-нибудь тетки на Украине.
Книга была написана свежо, крепко и, я бы сказал, беспощадно.
Вскоре я купил в Москве новую книгу Ульянского – «Мохнатый пиджачок», с предисловием Федина. Из этого предисловия я узнал, что Ульянский недавно умер от тифа в Ленинграде.
Ульянский начал как большой писатель. И было очень горько, что погиб этот человек, не успевший отдохнуть от плена, писавший в полном одиночестве свои превосходные книги. Было горько и оттого, что никогда уже не подует ему в лицо любимый им черноморский ветерок, или, как он ласково и насмешливо говорил, «зефир».
Маячный смотритель
Мы любим охранительный свет маяков, но редко вглядываемся в него.
На огни маяков пристально смотрят только вахтенные и штурвальные, проверяя тайну его световой вспышки. Потому что все маяки на одном и том же море горят и мигают по-разному, чтобы по этим признакам можно было определить, какой это маяк, и узнать, где находится корабль.
Так годами горел Батумский маяк, и мало кто интересовался жизнью его смотрителя Ставраки. Тем более что из города маячный огонь был очень плохо виден. Свет он бросал в сторону моря.
Ставраки был знатоком маячного дела. Он первый принес в редакцию «Маяка» статью. (В ней говорилось о каких-то новых маячных лампах.)
Ставраки посидел полчаса и ушел, оставив у всех нас – Бабеля, Ульянского и меня – впечатление неприятного и циничного человека.
Твердая седая щетина торчала на его желтых щеках, а воспаленные глаза говорили о многих бутылках водки «Рухадзе с коровой», выпитых за последние дни.
Одет он был небрежно и весь измят, будто сутками валялся на постели, не раздеваясь.
Он часто кашлял тяжелым, махорочным кашлем. Тогда по его изрытым щекам сползали слезы.
Он невзлюбил Бабеля, его острые глаза и однажды зло сказал мне:
– Чего он смотрит на меня, этот очкастый! Ненавижу смотрельщиков. Тоже ловец человеческих душ! А что у меня на душе – ни один дьявол не знает. И он не узнает. Бьюсь об заклад. Может, я старый вор? Или убийца? Или торгую девочками? По таксе. Или самый умилительный дедушка? Пусть поломает голову.
В другой раз он сказал:
– Чтобы быть смотрителем маяка, нужно забыть начисто прошлое. Тогда вы никогда не упустите зажечь фонарь.
– А бывали случаи, что маяки не зажигались? – спросил я.
– Только если смотритель умирал, – ответил Ставраки и усмехнулся. – Или сходил с ума. И если при этом он был совершенно один на маяке. И его некому было сменить. Ни жене, ни дочери.
– А у вас есть семья? – спросил я и тотчас почувствовал, что допустил непонятную еще мне самому бестактность.
Он ответил грубо и раздраженно:
– Если вы, молодой человек, хотите поддерживать общение с людьми, то не вмешивайтесь в чужие дела. Возьмите лист бумаги и запишите на нем все темы, которых не следует касаться из праздного любопытства.
– Грубость, – сказал я, – не делает вам чести.
Ставраки вынул из кармана бушлата плоский флакон от одеколона, хлебнул из него несколько глотков, потом, прищурившись, посмотрел на меня и сказал наставительно:
– Выспренне разговариваете. Разница наших возрастов обязывает вас к уважительному поведению. А что касается чести, то откуда вы знаете, что она у меня есть? Может быть, ее не было, нет и не будет. И у меня и у вас. И вообще – что такое честь? Осчастливьте нас, напишите для моряков побережья Гагры – Батум статью на эту тему в вашей листовке. Тогда мы, может быть, и поймем.
В это время вошел Ульянский.
– Приветствую вас, кригсгефангене{122}, – бросил в его сторону Ставраки. – Вот, например, – он повернулся ко мне, – этого юношу и я и вы считаем честным только потому, что ни черта о нем не знаем. Честность – это незнание.
– Дешевые интеллигентские разговорчики, – спокойно сказал Ульянский. – Философия запивох!
Ставраки медленно взял со стола пустую бутылку от водки, повертел ее, внимательно рассмотрел этикетку и вдруг стремительно замахнулся бутылкой на Ульянского. Я схватил его за рукав кителя. Он вырвался, повернулся к распахнутому настежь окну и изо всей силы швырнул бутылку в трубу на соседней крыше. Бутылка раскололась. По крыше полились, перезванивая, осколки.
– Я целю верно, – сказал Ставраки. – Даже слишком.
Он быстро повернулся и вышел.
– Психопат! – сказал я.
– Нет, – ответил мне Ульянский, – не психопат, а негодяй.
Я запротестовал, но Ульянский не захотел со мной спорить.
Когда я схватил старика за рукав кителя, послышался треск, – должно быть, ветхий китель не выдержал и порвался. Сейчас мне было стыдно, что я порвал китель у этого несчастного человека. Я готов был догнать его и извиниться.
Через несколько дней я возвращался на катере в Батум из поездки в Чакву. Был уже вечер. Море, как всегда в сумерки, уходило в безбрежную мглу, и казалось, что катер испуганно стучит мотором на краю тихой бездны. Маяк низко висел над глухой водяной пустыней, как последнее прибежище человека.
Слабый огонь светился в одном из окон маяка. Над ним победоносно и хищно сверкал маячный огонь, как бы бросая вызов ночной стихии.
Я вспомнил о Ставраки. О чем он думает, один на маяке: перебирает ли в памяти свою молодость, свое прошлое, как засохшие полевые цветы, или в который раз читает какую-нибудь книгу, отыскивая в ней утешение для своей неудачливой жизни?
Я снова пожалел старика, но на следующее же утро жалости этой был положен конец – неожиданный и страшный.
Оказалось, что смотритель Батумского маяка Ставраки был именно тем лейтенантом Черноморского флота Ставраки, который в марте 1906 года расстрелял на острове Березани лейтенанта Шмидта.
В ту ночь, когда я проплывал на катере мимо маяка, Ставраки был на рассвете арестован и предан суду.
Подчиняясь какому-то внутреннему требованию и чувству отвращения, я собрал у себя в редакции рукописи статей Ставраки и сжег их. Если бы было можно, я сжег бы свою руку, пожимавшую руку Ставраки. Во всяком случае, я выбросил из редакции в коридор старую садовую скамейку на чугунных ножках, на которой сидел бывший лейтенант Ставраки, и притащил взамен несколько табуреток.
Не знаю, кто из писателей, кто из великих знатоков человеческих душ мог бы написать о черной душе Ставраки, мог бы проследить извилистый путь подлости в мозгу и сердце этого человека. Может быть, Бальзак? Или Достоевский?
«Нет, – думал я, не засыпая по ночам и задыхаясь оттого, что вот тут, в этой комнате, сидел недавно этот человек. Тьма казалась мне до сих пор пропитанной его кислым дыханием алкоголика и курильщика. – Нет, не Достоевский! Конечно, он мог бы написать о нем, но никогда бы не захотел. Никогда! Потому что человеческая доброта могла бы навсегда погаснуть в измученном сердце от прикосновения к жизни Ставраки».
Эта жизнь была сплошной черной изменой. И выросла эта измена из сплошных пустяков: из желания носить лишнюю звездочку на погонах, покрасоваться перед женщинами, из рабьего страха перед всяческой властью – от дворника до императора, из страсти жить богато, беспечно, ни над чем не задумываясь, обсасывая жизнь жадно, как ножку рябчика, и заменяя любовь насилием над хорошенькими горничными. Если это было, конечно, безопасно.
Ставраки окончил вместе со Шмидтом Морской кадетский корпус. Все школьные годы они просидели на одной парте. И все эти годы Ставраки мучился завистью к Шмидту.
Он завидовал его благородству, смелости и его способности к самопожертвованию. Он завидовал ему как будущему герою, трибуну, вождю.
Он знал, что Шмидт способен на это и что эти его качества, если захочет жизнь, дадут Шмидту всемирную славу.
В то время уже Максим Горький сказал свои слова о людях, подобных слепым червям{123}, и Ставраки ненавидел этого «волжского босяка» за то, что тот будто заглянул ему, блестящему гардемарину, в самую совесть и презрительно отвернулся от него.
Когда Ставраки и Шмидт прощались после окончания корпуса, Шмидт сказал Ставраки:
– У тебя, Миша, нет в душе никакого стержня.
– Нет, есть! – сердито ответил Ставраки. – Что у тебя за манера – залезать в чужую душу!
– Если и есть стержень, – добавил Шмидт и внимательно посмотрел на Ставраки, – то не железный, а резиновый. Смотри, не сковырнись в какую-нибудь гадость. Пока не поздно.
– Мое дело! – ответил вызывающе Ставраки. – Во всяком случае, я не женюсь на проститутке, чтобы спасти ее и лить вместе с ней слезы над ее печальным прошлым, как собираешься сделать ты!
– Довольно! – гневно сказал Шмидт. – У каждого своя дорога. Я могу только молить Бога, чтобы наши дороги больше никогда не встречались.
Так они расстались, чтобы встретиться на острове Березани в день расстрела.
Откуда-то из окаянных степных далей сочился угрюмый, холодный рассвет. Шмидта и матросов высадили с катера и повели к столбам, врытым в землю.
Командовал расстрелом лейтенант Ставраки.
Когда Шмидт проходил мимо него, Ставраки стал на колени и сказал:
– Прости меня, Петя, если можешь!..
– Встань, Миша! – не останавливаясь, ответил Шмидт. – Не паясничай! Лучше скажи своим людям, что бы они целили вернее.
Что было у Ставраки на душе? Очевидно, ничего, кроме желания поскорее отделаться от Шмидта, от этого живого укора. Но с этой минуты Шмидт уже мешал Ставраки жить и чувствовать себя устойчиво и ладно.
Ставраки встал, торопливо отряхнул пыль с брюк и закончил расстрел быстро и как-то напропалую, стараясь не взглянуть на Шмидта, прячась за спинами матросов.
И подлая мысль мучила его до тех пор, пока Шмидт не упал лицом вниз на землю: знает ли он, что Ставраки был единственным офицером Черноморского флота, добровольно согласившимся расстрелять Шмидта? Все офицеры, даже самые отъявленные монархисты, решительно отказались от этого.
Вскоре Ставраки заметил, что его сослуживцы всячески старались не подавать ему руки.
С тех пор он старался служить и жить незаметно, начал избегать людей, дожил до революции, бежал из Севастополя и при меньшевиках начал работать смотрителем Батумского маяка. И так и остался им до прихода Советской власти.
Но я вижу, что мне придется в некоторой части повторить печальную историю лейтенанта Шмидта. Я писал однажды о ней и поэтому прошу читателей, если будут какие-нибудь совпадения, простить меня. Проза, как сама жизнь, велика и разнообразна. Иногда бывает нужно вырвать из старой прозы целые куски и вставить их в новую прозу, чтобы придать ей полную жизненность и силу.
В деле Ставраки было одно странное обстоятельство: никто не мог понять, почему он жил до самого ареста под своей настоящей фамилией, почему он не переменил ее тотчас после революции. Когда следователь спросил его об этом, Ставраки ответил:
– Под любой фамилией меня все равно бы нашли. И чем раньше, тем лучше. И так слишком долго искали!
Даже следователь был озадачен этим ответом и спросил:
– Значит, вы жалеете о случившемся?
– Это не ваше дело! – ответил Ставраки.
Показания он давал скупо, но точно.
Последнее его слово было коротким и ошеломило всех, кто присутствовал на суде.
– В общем, – сказал он глухо и вздохнул с облегчением, – слава богу, кончилась эта волынка. Собаке собачья смерть!
Даже судьи вздрогнули и пристально посмотрели на Ставраки. Он стоял, опустив глаза, и сосредоточенно выдергивал нитку из рваного рукава своего бушлата. И больше не сказал ни слова.
Мы все были потрясены этим делом. Мы понимали, что Ставраки задал всем сложнейшую психологическую загадку, но никто из нас ее не разрешит. Можно было сказать – «раскаяние», как сказал Синявский, или «чудовищное актерство», как сказал Ульянский, или «полное и очень давнее душевное опустошение», – так думал я, – опустошение, что жгло его изо дня в день, из часа в час и превратило жизнь в каторгу.
Так мы ни до чего и не договорились. Бабель уехал со всей семьей в Тифлис. Маяк продолжал сверкать над морем.
Гораздо позже я узнал, что у Ставраки была молодая жена. После суда и расстрела Ставраки она исчезла. И на маяке Ставраки жил не один, а с женой и в окружении приятелей-спекулянтов. Приятели сбежали с маяка, как только в Батуме установилась Советская власть. В то время Ставраки уже называл себя анархистом-коммунистом.
Меня всегда удивляет одно обстоятельство: мы ходим по жизни и совершенно не знаем и даже не можем себе представить, сколько величайших трагедий, прекрасных человеческих поступков, сколько горя, героизма, подлости и отчаяния происходило и происходит на любом клочке земли, где мы живем. Мы просто не подозреваем об этом.
А между тем знакомство с каждым таким клочком земли может ввести нас в мир людей и событий, достойных занять свое место в истории человечества или в анналах великой, немеркнущей литературы.
К примеру, никто не подозревает, что Батумский маяк связан с одной из больших трагедий – с гибелью лейтенанта Шмидта.
Только иногда, в бесконечные осенние ночи, когда море гнало к берегам стада разъяренных и неутомимых в своей ярости волн, мрак вокруг маяка казался гораздо гуще, чем всюду. Нечто тяжелое, безысходное было в этом мраке.
От него хотелось уйти в тепло комнат, где спят, приоткрыв губы, маленькие дети и мир тихо живет, очерченный световым кругом лампы.
Никто бы не поверил, если бы ему сказали, что вот этот вздохнувший от сладкого сна мальчик с пушистыми волосами или эта девочка, заплакавшая почему-то во сне, через несколько лет могут стать предателями, негодяями, убийцами, могут расстреливать невиновных, пытать их, насиловать свободную человеческую мысль, призывать народы к взаимной ненависти и затевать войны во имя своего преступного властолюбия или звериной жадности.
Никто бы не поверил в это и был бы не прав. Это было горше всего для бедного, перенесшего тысячи тягостей, но честного сердца. И потому мне казалось единственно важным объединение всех людей доброй воли. И, кроме того, создание литературы чистой совести и правды.
Ради этого надо было жить, работать, страдать и не сдаваться.
Шмидт испытал много предательства, или, говоря по-старинному, ударов судьбы.
Ставраки попрекнул Шмидта в пылу ссоры тем, что он из соображений ложной гуманности женился на проститутке.
Молодость Шмидта отчасти совпала со знаменитым «хождением в народ», с призывом спасать «падших» женщин и переносить вместе с народом все тягости его существования.
Молодой Шмидт часто бывал в народнической среде Шелгунова{124} и его товарищей. Как человек пылкий, он был сторонником решительных дел, а не громких разговоров. Поэтому он действительно женился на проститутке, желая ее спасти.
Но с первых же шагов их совместная жизнь пошла вкось – жена Шмидта была даже неграмотной. Шмидт долго, но с очень слабым успехом, обучал ее чтению. Но приохотить ее к книгам он так и не смог.
От нее у Шмидта родился сын, совершенно непохожий на отца. Вскоре Шмидт разошелся с женой, оставив ей все. После его расстрела она спекулировала оставшимися у нее вещами Шмидта и печатала в реакционных газетах объявления: «Продается китель лейтенанта Шмидта», «Продается виолончель лейтенанта Шмидта».
Это было одно из предательств, сопровождавших жизнь Шмидта.
Но самым черным, редчайшим по своей низости, было, конечно, предательство Ставраки.
И, наконец, в жизни Шмидта произошла история, похожая на вымысел и вместе с тем очень горькая. Когда-то давно я писал об этой истории со слов сестры лейтенанта Шмидта и по старым материалам. Сейчас эта история выглядит несколько иначе.
Вот она, рассказанная сжато.
…Летний день в Киеве. Жара. Увядшие пятипалые листья каштанов. Молодой флотский офицер Шмидт останавливается в Киеве от поезда до поезда. Он едет с Дуная в Севастополь.
Я, как киевлянин, хорошо знаю, что значит летняя киевская скука. Испытал эту скуку и Шмидт. Это та скука, когда из всех домов доносится запах «домашних обедов» и кажется, что все интересное, что может случиться в жизни, отодвинулось за десять тысяч километров. Только шарманка фальшиво высвистывает по раскаленным дворам противную немецкую песенку: «Августен, Августен, ах, майн либер Августен!..»
Куда деваться? Оказывается, в Киеве есть бега. Шмидт едет на ипподром. Ему повезло: ипподром находится на Печерке, в теплой, высокой и меланхолически пустынной части города.
На ипподроме Шмидт замечает молодую женщину неслыханной, по его впечатлению, красоты. Он романтик. Он часто видел в жизни лишь то, что хотел увидеть.
Он полюбил эту женщину с единого взгляда (как мог бы полюбить всех красивых женщин всего земного шара). Он почему-то уверен, что она испанка. Почему? Из-за глубокого блеска глаз и грудного сдержанного смеха. Женщина смеется, и горло у нее вздрагивает, как у певчей птицы.
Испания… он видел ее берега в кремнистых далях, отрезанные от неба, как мечом, полосой густейшей морской синевы.
Здесь я могу писать очень много, но я обещал короткий рассказ и держу себя за руку.
Шмидт теряет испанку в толпе. Он переживает это как катастрофу, хотя в глубине души понимает, что нет такой любимой женщины, которую нельзя было бы найти.
Вечером он садится в поезд на Севастополь. Вот тут мой возраст дает мне некоторые преимущества перед большинством читателей. Потому что я много ездил в те времена и хорошо помню, как тогда выглядели вагоны и поезда.
Представьте себе, что вагоны освещались стеариновыми свечами в железных фонарях. Язычки свечей всегда так сильно и разнообразно плясали, что каждый вагон напоминал театр теней. Тени роились, появлялись, исчезали, черты человеческих лиц становились изменчивыми, как отражения в воде. Урод вполне мог рассчитывать сойти за красавца, а красавица – за ведьму.
В поезде напротив Шмидта села женщина. Он вздрогнул, вытянулся, слегка махнул у себя перед лицом рукой, как бы отбрасывая суматошливые тени, и вдруг чьи-то маленькие руки сжали его сердце, – да, это была она, испанка с ипподрома. Должно быть, сам Бог, в которого он позволял себе не верить, привел ее в этот темный вагон второго класса.
Они разговорились. Женщина ехала в Дарницу, дачную местность под Киевом с вековыми соснами и песками.
Поезд до Дарницы идет тридцать минут. За это время Шмидт бросил всю свою жизнь к ногам этой женщины и с радостью признался самому себе во внезапной любви.
Они обменялись адресами, и женщина сошла, преображенная этим вихрем любви. Потому что нет, должно быть, ни одной женщины, которая не расцвела бы, как редчайший весенний рассвет, зная, что она стала причиной внезапной любви.
Потом Севастополь. Бурный год. Накаленный революцией флот. Судорожная переписка с киевлянкой. Шмидт в своих письмах крылат и порывист, женщина кокетлива и прозаична. Шмидт этого не замечает.
Имя Шмидта – трибуна и вождя – уже гремит по всему миру. Его мужество и преданность народу рождают любовь в миллионах сердец.
Это слава! Это величие!
Но вот восстание, кровь на поверхности севастопольских бухт, две телеграммы Шмидта, звучащие как грозный крик и мольба.
Одна телеграмма – императору Николаю Второму: «Черноморский флот отказывается подчиниться вашим министрам и требует созыва Учредительного собрания. Командующий флотом лейтенант Шмидт». Вторая телеграмма – ей, киевлянке: «Приезжай немедленно. Рискуем не увидеться никогда».
Восстание разгромлено. Шмидт арестован, привезен в тихий Очаков и предан с несколькими матросами военному суду.
К Шмидту в Очаков приезжает его сестра, Анна Петровна Избаш. Он просит сестру поехать в Киев, разыскать киевлянку и привезти ее в Очаков: ему легче будет умереть, увидев ее хотя ненадолго перед казнью.
Сестра в отчаянии: идут последние часы Шмидта, а ей приходится уезжать и терять время во имя любви брата к неизвестной женщине.
Сестра едет в Киев и узнает от ничего не подозревавшего мужа киевлянки, что ее нет в городе. Анна Петровна рассказывает мужу все. И таково было обаяние Шмидта и власть его имени, что муж отправляется вместе с Анной Петровной в глушь Полтавщины, находит жену и уговаривает ее поехать к Шмидту.
Шмидту разрешают свидание с этой женщиной. Она входит к нему в камеру, и он на мгновение отшатывается. Потому что в камеру вошла та женщина, какую он видел в полутемном вагоне в бегающем и тусклом пламени свечи, но совсем не та женщина, которой он писал свои вдохновенные письма. Но все равно, он был бесконечно благодарен ей за то, что она приехала скрасить его последние часы.
Спустя много лет, зимой 1935 года, я встретился в Севастополе с сестрой Шмидта, Анной Петровной Избаш.
Из номера «Северной гостиницы», где она остановилась, виднелась Артиллерийская бухта, – как раз то место, где Шмидта, бросившегося вплавь вместе с маленьким сыном с горящего и тонущего «Очакова», подобрал миноносец и доставил на корабль «Ростислав». Там Шмидт был арестован.
Седой туман нависал сейчас над Севастополем. Туман этот усиливал ощущение пустынности севастопольских улиц. Они оживали только к вечеру, когда списывались на берег команды кораблей. А в полдень Севастополь был так же тих и пуст, как и ночью.
Передо мной сидела, утонув в мягком кресле, маленькая, тонкая, нервная старушка с необыкновенно доброй улыбкой и крепкими, молодыми бровями.
Она говорила о Шмидте, называла его Петрушей, и в ее представлении он был, очевидно, в лучшем случае гардемарином, если не безусым кадетом.
– Всю жизнь увлекался и не считался с собой, – вот, по ее мнению, была главная черта брата. – Жил ради других, любил матросов, как малых детей, довольно часто жестоко обманывался, но не позволял себе впадать в отчаяние или хандру. Был очень пылкий, впечатлительный. Весь жил на нерве. На одном нерве. В молодости я тоже чуть-чуть была похожа на брата. Любил книги, стихи, особенно Байрона – его он читал в оригинале, музыку, детей и морское дело. Особенно почему-то маяки. От него осталась целая коллекция гравюр и фотографий замечательных маяков мира. Втайне даже мечтал быть маячным смотрителем, но обязательно на маяке, далеком от городов. «Черт с ним, – говорил он, – хотя бы даже на Тарханкуте! Днем бы уходил охотиться в степь с ружьем или раскапывал бы не торопясь могильник около маяка. Говорили, что он скифский и в нем зарыто много утвари и стрел. Копал бы, сгорал от солнца, легкие у меня просмолились бы от тамошних смолистых трав, а вечером, обмывшись пресной водой, сидел бы в маячной каюте около фонаря и читал бы книги. Но медленно, с карандашом в руках, и всяческими думами по поводу каждой книги. Считал бы закаты, рассветы, огни пароходов и заносил бы их имена в вахтенный журнал.
И спал бы по ночам чутко, прислушивался бы, не начинает ли позванивать в сигнальный колокол ветер. А в шторм глох бы от рева волн, от клокотания этих бешеных морских сил, от пены, что летит к небу, как протуберанцы на Солнце, от крика чаек, – ты заметила, что во время шторма они насквозь пронизывают этими криками, как иглами, мутный воздух? Вот была бы красота, Аня!» В общем, был он самым мирным и незлобивым человеком, и никто из родных и представить себе не мог, что он может стать во главе восстания.
Когда Анна Петровна уезжала к себе в Ленинград, я провожал ее на уютном, маленьком вокзале – том вокзале, где на перроне в двух метрах от горячих вагонов скорого поезда стояли шелестящие тополя в три обхвата. Запах их сухих, оставшихся от осени, листьев наполнял воздух и даже заглушал привычный дорожный запах каменноугольного дыма и мазута.
Сейчас я вспомнил, сколько людей я встречал и провожал около этих тополей, ставших с некоторых пор немыми свидетелями моей жизни.
С этими тополями был неуловимо и непонятно связан в моем сознании щемящий романс Гречанинова: «Она не забудет, придет, приголубит, обнимет, навеки полюбит и тяжкий свой брачный наденет венец».
Почему я вспоминал этот романс на севастопольском вокзале, не знаю. В его словах скрывалась какая-то томительная надежда на счастливую, хотя бы и самую мимолетную любовь и на избавление от одиночества. Я часто чувствовал одиночество – смутно и тяжело.
Удивительно, что во время последней войны вокзальные тополя в Севастополе, говорят, уцелели.
Веселый попутчик
На улицах Батума я часто встречал маленького человека в расстегнутом старом пальто. Он был ниже меня ростом, этот веселый, судя по его глазам, гражданин.
Ко всем, кто был ниже меня, я испытывал дружеское расположение. Просто мне было легче жить на свете, если находились такие люди. Хотя и ненадолго, но я переставал стесняться своего роста.
Еще в детстве сердобольная моя сестра Галя, чтобы утешить меня, придумала шаткую теорию о том, что почти все невысокие люди – талантливы. Галя приводила много примеров: Пушкин, Наполеон, Лермонтов, Диккенс, Дюма, Врубель, Шопенгауэр{125}.
Но вся теория Гали летела кувырком от одного упоминания имен таких знаменитых великанов, как Тургенев, Христиан Андерсен{126}, Мопассан, Чехов и Горький.
Я охотно дружил с людьми небольшого роста, но презирал тех, кто пытался увеличить свой рост особым покроем платья или высокими каблуками. Например, я признавал талантливость поэта Бальмонта, но не любил его за щегольские штиблеты на высоких, почти дамских, каблуках. Однажды я видел его в этих штиблетах в Киеве на его докладе о «колдовстве поэзии».
Маленький человек, бегавший по Батуму, всегда таскал у себя под мышкой зонтик. Карманы его пальто были набиты мандаринами, а в одном из них часто поблескивало горлышко водочной бутылки завода Рухадзе.
То обстоятельство, что маленький человек никогда не расставался с зонтиком, напоминало о знаменитых батумских дождях.
Ни в одном городе в России не выпадало столько дождей. Недаром французские моряки прозвали Батум «писсуаром»: «писсуар де Мэр Нуар».
Летом это были ливни, рушившие на крыши реки воды и грохота. Но не эти ливни были характерны для Батума.
Типичными, именно батумскими, дождями были непрерывные, монотонные, как будто заводные дожди с запада. Оттуда все время наваливалось на город тучевое небо – рыхлое, гасившее проблески света и погружавшее Батум даже в полдень в мутный сумрак. Казалось, этот сумрак сбегал, журча и плескаясь, по всем водосточным трубам, вливался в пенистое море, растворялся в нем и мутил морскую воду.
Во мгле ревели простуженными сиренами и тускло блестели мокрыми палубами недовольные пароходы. Слабый блеск на их серых, красных, черных и желтых бортах казался остатками далекого солнечного света. Он напоминал, что стоит перемениться ветру – и тотчас весь Батум от первых же солнечных лучей засверкает в глазах, как груда синеватого стекла. К небу понесутся видимые невооруженным глазом струи теплого воздуха и пара от нагретых улиц и домов. И канны – самые заметные цветы батумских палисадников – будут просвечивать в солнечных лучах цветом винной крови.
Дожди в Батуме могли длиться неделями. Мои ботинки никогда не просыхали. Если бы не это обстоятельство, вызывавшее приступы малярии, то я давно примирился бы с дождями.
Все-таки в них было много хорошего. Во-первых, островатый, чуть пахнущий кильками воздух. Во-вторых, торжественная оратория нескольких тысяч водосточных труб, согласованно певших по всему городу. В-третьих, серый, низкий свет и зажженные днем лампы. Свет ламп во время таких дождей кажется особенно уютным, помогает читать, а то и вспоминать стихи.
И мы их вспоминали вместе с маленьким человеком. Фамилия его была Фраерман, а звали его в разных случаях жизни по-разному: Рувим Исаевич, Рувим, Рувец, Рува, Рувочка и, наконец, Херувим. Это последнее прозвище придумал Миша Синявский, и никто, кроме него, его не повторял.
Мы вспоминали стихи иногда почти всю ночь напролет в моей комнате-редакции и ложились спать на узкую койку и деревянный диванчик только к утру – голодные, но счастливые.
Да и как можно было оставаться спокойными, вспоминая грозные стихи:
Людей другого, более зрелого возраста, чем мы с Фраерманом, эти зловещие стихи могли бы ввергнуть в печальные размышления. Для нас же они были примером резкости образа и силы языка. Невольно они дополняли для нас батумскую ночь.
Я даже не то чтобы видел, но чувствовал многоярусные, тяжелослоистые, изорванные снизу в лохмотья архипелаги туч, задержанные над Батумом горами Малого Кавказа. Где-то в бесконечной выси мирового пространства сверкал над ними Сатурн, сиял его пепельный свет над лениво клубящейся громадой облачной земли.
Потом мы читали другие стихи – ясные и светлые, как возвращенное солнце:
Я всегда любил стихи, но никогда еще они не входили в жизнь с такой естественностью, как тогда в Батуме.
Стихи теряли свою словесную сущность и становились такими же явлениями жизни, как дождь, человеческие голоса, крики измученных ночными дождями ишаков, как рождение и смерть.
Все эти «стихотворные» ночи сопровождал неумолчный гомон дождя, а изредка и шум морских волн, проникавших в порт.
Плеск дождя особенно резко выделял некоторые строчки стихов, и поэтому мы повторяли их по нескольку раз.
Вот некоторые из них:
Или другие:
Или третьи:
Или, наконец, четвертые:
Эти последние строчки особенно сильно действовали на меня, хотя ничего особенного в них не было. Очевидно, потому, что однажды в Батумский порт пришел с грузом для фирмы «Сосифрос» грязный и безлюдный пароход под английским флагом. На борту его белой краской было написано знакомое имя «Виттингтон».
Почему-то этот пароход вызвал у меня чувство жалости, как промокший под дождем, дрожащий от непогоды неудачник. Но и его кто-то ждал там, в Старой Англии. В каком-нибудь тусклом приморском городке болезненно билось скромное женское сердце, рано постаревшее сердце недавней красотки. Она дожидалась возвращения молчаливого мужа или сына, плававших на «Виттингтоне», на этом медлительном и застенчивом корабле.
Фраерман попал в редакцию «Маяка» очень просто.
Для газеты нужны были телеграммы Российского телеграфного агентства (РОСТА). Мне сказали, что для этого надо пойти к корреспонденту РОСТА по Батуму Фраерману и договориться с ним.
Фраерман жил в гостинице с пышным названием «Мирамаре». Вестибюль гостиницы был расписан темноватыми фресками с видами Везувия и апельсиновых рощ в Сицилии.
Фраермана я застал в позе «мученика пера». Он сидел за столом и, схватившись левой рукой за голову, правой что-то быстро писал и при этом тряс ногой.
Я тотчас узнал в нем того маленького незнакомца с развевающимися полами пальто, который так часто растворялся передо мной в дождливой перспективе батумских улиц.
Он отложил перо и посмотрел на меня смеющимися, добрыми глазами. Покончив с телеграммами РОСТА, мы тотчас же заговорили о поэзии.
Я заметил, что все четыре ножки кровати в номере стояли в четырех тазах с водой. Оказывается, это было единственное средство от скорпионов, бегавших по всей гостинице и вызывавших оторопь у постояльцев.
В комнату вошла коренастая женщина в пенсне, подозрительно посмотрела на меня, покачала головой и сказала очень тонким голосом:
– Мало я имею мороки с одним поэтом, с Рувимом, так он уже нашел себе второго дружка – поэта. Это же чистое наказание!
Это была жена Фраермана. Она всплеснула руками, рассмеялась и тотчас же начала жарить на керосинке яичницу-глазунью с колбасой.
Она не отпустила меня, пока мы не позавтракали вместе и не выпили по доброй стопке водки Рухадзе.
Я пил эту водку и удивлялся ее необыкновенному свойству: голова у меня оставалась совершенно легкой, но все мысли, гулявшие в этой голове, казались мне и свежими, как только что распустившийся цветок магнолии на батумском бульваре, и яркими, и даже как будто липкими на ощупь, как только что выкрашенная фелюга.
Это было чудесное ощущение. Мы с Фраерманом пошли в редакцию «Маяка», чуть покачиваясь и беспричинно смеясь. По дороге мы встретили Люсьену и Мишу Синявских и потащили их с собой. Жаль, что Бабель уже уехал в Тифлис, а то бы мы пошли пешком к нему на Зеленый Мыс и притащили бы к нам и его. И Евгению Борисовну, и Мери, и в придачу поэта Чачикова. И основали бы первое литературное объединение – первую ячейку советской поэзии и прозы на этой отдаленной границе страны.
Миша Синявский достал еще одну бутылку водки Рухадзе. Мы пили ее в редакции и пели:
Когда мы дошли до припева, вошел Нирк и подхватил его с лихостью заправского тамады:
После Нирка в редакцию, поцарапав лапой дверь, пришел Мономах. Он участвовал в общем веселье и сглатывал куски колбасы с таким звуком, будто откупоривал тугие пробки. По всему было видно, что пес опытный в таких делах, как пирушки.
Веселье не утихло даже тогда, когда на многообещающий шум в комнате вошел мертвецки пьяный, но совершенно спокойный американский матрос по прозвищу Джокер. Поплевав на пол и не обращая на нас никакого внимания, он снял пиджак, скатал его валиком, положил в углу на пол и, ни слова не говоря, лег спать. Он проспал до утра и ушел так же молча и спокойно, как и появился.
С тех пор Фраерман забегал в редакцию по нескольку раз в день. Иногда он оставался ночевать.
Все самые интересные разговоры происходили ночью. Фраерман рассказывал свою биографию, и я, конечно, завидовал ему.
Сын бедного маклера по дровяным делам из города Могилева-губернского, Фраерман, как только вырвался из семьи, бросился в гущу революции и народной жизни. Его понесло по всей стране, с запада на восток, и остановился он только на берегу Охотского (Ламского) моря.
Дальний Восток пылал. Японцы оккупировали Приморье. Партизанские отряды дрались с ними беспощадно и беззаветно.
Фраерман вступил в отряд партизана Тряпицына в Николаевске-на-Амуре. Город этот был похож по своим нравам на города Клондайка.
Фраерман дрался с японцами, голодал, блуждал с отрядом по тайге, и все тело у него было покрыто под швами гимнастерки кровавыми полосами и рубцами – комары прокусывали одежду только на швах, где можно было засунуть тончайшее жало в тесный прокол от иглы.
Амур походил на море. Вода курилась туманами. Весной в тайге вокруг города зацвели саранки. С их цветением пришла, как всегда неожиданно, большая и тяжкая любовь к нелюбящей женщине.
Я помню, что там, в Батуме, после рассказов Фраермана я ощущал эту жестокую любовь как собственную рану. Я видел все: и бураны, и лето на море с его дымным воздухом, и кротких гиляцких детей, и косяки кеты, и оленей с глазами удивленных девочек.
Я начал уговаривать Фраермана записать все, что он рассказывал. Фраерман согласился не сразу, но писать начал с охотой. По всей своей сути, по отношению к миру и людям, по острому глазу и способности видеть то, что никак не замечают другие, он был, конечно, писателем.
Он начал писать и сравнительно очень быстро закончил повесть «На Амуре». Впоследствии он переменил ее название на «Васька-гиляк». Она была напечатана в журнале «Сибирские огни». С этого времени в литературу вошел еще один молодой писатель, отличавшийся проницательностью и добротой.
Теперь по ночам мы не только занимались разговорами, но читали и правили повесть Фраермана.
Мне она нравилась: в ней было заложено много того ощущения, какое можно назвать «дыханием пространства» или (еще точнее) «дыханием больших пространств». Тяга к большим пространствам появилась у меня с юного возраста. С годами она не затихала, а разгоралась. Чем больше я видел земель, тем сильнее мне хотелось видеть все новые и новые края. Всякая новая даль существует для меня до сих пор как огромная синеющая, великая загадка, скрывающая в своей мгле новизну.
С батумских времен наши жизни – фраермановская и моя – множество лет шли бок о бок, взаимно друг друга обогащая.
Чем мы обогащали друг друга? Очевидно, своим любопытством к жизни, ко всему, что происходило вокруг, самим приятием мира в его поэтической сложности, любовью к земле, к своей стране, к своему народу, любовью очень кровной, простой, вросшей в сознание тысячами самых мельчайших корней. И если корни растений могут пробить землю, почву, на какой они растут, взять ее влагу, ее соли, ее тяжесть и ее загадки, то мы любили жизнь именно так. Я говорю здесь «мы», так как уверен, что у Фраермана отношение к природе походило на мое.
Чем дальше, тем сильнее я чувствовал себя частицей природы, как любое дерево или трава, и находил в этом успокоение.
Иногда, лежа на заросшем береговом откосе какого-нибудь озера или реки, я прислушивался к земле. Ее принято было считать немой, но сквозь эту немоту доносилось тончайшее журчание – неясный намек на длинный, как золотая канитель, и неясный звон. Это где-то глубоко под землей сочилась, пробиваясь к озеру, грунтовая вода.
В такие минуты я был счастлив.
Главное направление
Есть люди, которые выбрали в жизни главное направление и заставляют себя сознательно отбрасывать другие, как бы второстепенные.
Но это главное направление возникает сплошь и рядом из самой жизни или, вернее, в естественном движении жизни того или иного человека и часто не совпадает с тем, что он умозрительно себе представлял.
Помню, как долго и без заметного успеха я подгонял свою жизнь к главному направлению – к писательству. Я думал, что я должен узко и беспощадно, даже аскетически, подчинить этой цели все мои силы и все время, до последнего дня, не тратя ни часа на отклонения.
Это мое выдуманное состояние длилось, к счастью, недолго, и вскоре я понял, что для писателя гораздо важнее, чем педантичная забота о своем творчестве, свободная, вольная жизнь, отданная высокой цели служения человеку. А книги появятся как обязательный итог такой жизни. Появятся непременно.
Да, одно время я хотел подчинить свою жизнь всему планомерному: планомерным поискам смысла и содержания во всем пережитом, подчинить заранее определенному отношению к людям, в зависимости от их качеств, свести все к целесообразным и точным поступкам.
«Только так, – уверял я себя, – можно дойти до самоусовершенствования и стать настоящим человеком в гуще людского сообщества».
Но сколько я ни стремился к этому идеалу поведения, он ускользал и вытеснялся «злобой каждого дня». Жизнь брала меня в плен. Я с трудом сопротивлялся ее свободному ходу, пока в одно прекрасное батумское утро вдруг не бросил единоборство с самим собой.
Произошло это именно в то утро, когда Миша Синявский обозвал мои философские выкладки «занудством».
Это было действительно прекрасное октябрьское утро, когда на сырой земле около террасы, где жили Синявские, на Барцхане (я пришел к ним попробовать знаменитой жареной люсьеновской барабульки), лежали, пылая, огромные лепестки шиповника, покрытые, как бисером, крупной росой.
Море светлело рядом, белое и теплое, как парное молоко. Анатолийский берег закрывала дымка, но сквозь нее просвечивал желтовато-красный цвет турецких гор.
Я развивал перед Мишей свою идею о никчемности жизни, не подчиненной заранее задуманной цели, и о том, что к этой цели надо заставлять себя идти без всяких отступлений.
Миша ел барабульку и, прищурившись, поглядывал на меня. По всем признакам он начинал сердиться.
– Зануда! – вдруг сказал Миша спокойно и решительно.
– Кто зануда? – спросил я. Сердце у меня дрогнуло от дурного предчувствия.
– Как кто? Ты! Ты и есть зануда. Если, конечно, верить твоей косноязычной философии. Ты опубликовал ее впервые. Пойми ты, гимназист восьмого класса, – не вешай себе на шею ярмо. Эта твоя блажь, должно быть, от малярии. Она у тебя индийская и ударила тебя микробами йогов. Живи вольно, легко, и чем легче, тем лучше. И не подгоняй свою жизнь к тому скучному образцу, который ты выдумал. Все это бред и так же нужно тебе, как собаке боковой карман. «Доверяй жизни», – как напыщенно говорили хрычи, старые писатели, а к своей цели ты все равно придешь.
– Какой цели?
– Господи Исусе! – закричал Миша. – Или ты уже раздумал быть писателем? Поменьше рассуждай, это не твое дело, а побольше смотри и удивляйся!
Никогда еще Миша не говорил со мной так сердито.
Я поверил ему. Очевидно, я давно хотел услышать от кого-нибудь эти слова. Назойливая тяжесть, навязанная самому себе, исчезла. Я вдруг почувствовал, как тонкий, не толще нитки, запах холодных кистей винограда «изабелла» проникает сквозь щели рассохшихся оконных рам на террасу и осторожно щекочет мои губы. Я засмеялся.
– Что такое? – испуганно спросил Миша.
– Ничего. Губы чешутся. Я три дня не брился.
– Первый раз слышу, чтобы от этого чесались губы, – пробормотал Миша, подозрительно глядя на меня. – Люся, ты слышала, что он такое говорит?
– Ой, Косточка! – закричала Люсьена (она дожаривала на мангале в саду барабульку). – Ты врешь совершенно ненатурально. Но фиг с тобой! Я тебя все равно люблю.
Пока я сидел у Синявских, я все время слышал то набегавший вплотную, то уходивший далеко запах «изабеллы». Он не давал мне покоя, пока я не спустился в маленький виноградник позади дома и не увидел в тени от виноградной листвы, слегка позолоченной солнцем, тяжелые сизые гроздья. Они свешивались с деревянных подпорок и были наполнены фиолетовым соком.
Я сорвал одну кисть и съел. Солнце жарко лилось с чистого неба, но я вдруг почувствовал, как в тепло все чаще вонзаются струи пронзительного холода. Как будто кто-то непрерывно подливал в кипящий раствор ледяную воду. В конце концов она взяла верх, залила последние струи тепла, и вдруг внезапный, как удар, озноб обрушился на меня. Я, шатаясь, вернулся на террасу, лег на пол в том месте, где он был горячий от солнечных лучей, и блаженно застонал.
– Ну, так! Готово! – сказал с отчаянием Миша. – Малярия! Третий припадок. И опять от «изабеллы». Люся, надо навалить на него все, что у нас есть теплого.
– Не поможет, – пробормотал я.
Мне уже казалось, что меня впаяли внутрь мощных, в два километра толщиной, арктических льдов, сейчас я превращусь в сосульку и никакого спасения для меня быть не может.
Так схватила меня желтая тропическая лихорадка. С тех пор припадки пошли каждый день.
Желтую лихорадку завезли в Батум индийские солдаты – сипаи – во время оккупации англичанами Закавказья.
Я болел ею долго, несколько лет, и избавился от нее только в лесах Средней России. Но со времен Батума один только вид лиловых ягод «изабеллы» или глоток терпкого вина из этого винограда вызывает у меня немедленный озноб.
Вот так же меня просто знобило от воспоминаний об искусственных и совершенно чуждых мыслях, какие я старался внушить себе, – о мыслях, осмеянных Мишей Синявским.
Последние месяцы моей жизни в Батуме прошли в том несколько туманном и нереальном состоянии, какое вызывает малярия. В начале приступа, когда озноб переходил в сухой жар, голова работала свежо и ясно, и у меня не было никаких сил справиться со своим воображением. Оно металось, как птица, залетевшая в комнату, пока не обессилевало и не падало с изломанными крыльями на пол. Тогда сразу наступали тишина и сумрак, и возникал все один и тот же образ, вязкий, длинный, скучный и повторяющийся всю ночь, до утра, через каждые несколько минут. Я не мог его уловить. Это было скорее ощущение, чем образ. Оно тянулось, как нитка густого сиропа. К нему прилипали пальцы, и я боялся, чтобы этот густой сироп не попал в рот, в горло и не задушил бы меня насмерть.
Я начинал бредить, отбивался от мерзких сиропных сетей. Тогда среди ночи приходил из соседней комнаты Нирк, клал мне на голову мокрое полотенце и говорил, что мне не хватает калорий, чтобы справиться с болезнью.
Я стонал. В ответ мне стонало за окнами море, а Нирк набивал за столом папиросы и насвистывал песенку:
К утру я покрывался испариной, волосы у меня промокали, малярия оставляла меня до вечера, и огромная слабость и свежесть делали почти невесомым мое тело.
Сейчас я вспоминаю, что скучные мысли о построении нарочито умной жизни завладели мной как раз во время первых приступов малярии. То, что эти мысли все время повторялись, жестоко мучило меня. Я их возненавидел. Они казались мне вязкими, как синдетикон{132}. Он затягивал все серой отвратительной пленкой.
Я был убежден, что никакая вода – ни соленая, ни пресная – не сможет отмыть эту пленку, и просил у Нирка нож, чтобы соскоблить с себя эти противные мысли.
Вскоре Нирка во время ночных припадков сменил Фраерман. Он тоже клал мне на голову лед в пахнущем резиной пузыре и давал пить.
А к утру опять все проходило. Оставались только сердцебиение и слабость. Весь день я глотал хину просто так, без облаток, пил синьку, оглох, и руки у меня дрожали.
Фраерман ужасался, приводил докторов и «народных врачей» – горбоносых старых аджарцев. Они лечили меня спиртом, настоянным на перце и яичных желтках, и серыми порошками. От порошков меня тошнило. Потом оказалось, что это были перетертые в пудру сушеные пауки.
Я прогнал всех стариков, продолжал лечиться только хиной, и малярия начала постепенно ослабевать. Но еще долго все окружающее казалось мне болезненно преувеличенным, а краски были то слишком яркими, то мутными, как студень.
Тысяча сигнальных ракет
Батум продолжал поражать меня. Этот город все еще был, как говорила Соня Фраерман, во власти «пережитков проклятущего прошлого». О некоторых из этих пережитков я уже писал. А тут еще начинался нэп, и целые орды «нэпачей» с их золотоволосыми девами двинули в Батум, где существовало заманчивое «порто-франко», иными словами – беспошлинная торговля с заграницей.
Во всех, даже в самых тесных и пыльных, щелях на набережной открылись конторы заграничных фирм – «Сосифрос», «Джон Виттоль и сыновья», «Ллойд Триестино», «Пакэ» и всяческие другие. Большей частью это были спекулятивные фирмы.
Они торговали сахарином, ванильным порошком, дамскими подвязками, камешками для зажигалок, игральными картами, презервативами, прогорклым от старости прессованным инжиром, краской для волос, усохшими маслинами и фальшивыми драгоценностями. Скупали они, но только из-под полы, золото и валюту, а для отвода глаз – сушеные фрукты и кустарные изделия.
Представители этих фирм, независимо от национальности, были похожи друг на друга, как родные братья. В большинстве своем это были чернявые и пронырливые юноши. Они носили тяжелые янтарные четки, носки всех цветов радуги и лаковые туфли, острые, как челноки. Их волосы, смазанные бриллиантином, отражали, как черные выпуклые зеркала, искаженные предметы, главным образом электрические лампочки, висевшие под потолком.
Чачиков называл этих юношей левантинцами и потомками финикиян. Все они прилично говорили по-русски. Но Чачиков предпочитал объясняться с ними на смешанном русско-греческо-французско-грузинском диалекте и даже пытался писать на этом диалекте шутливые стихи.
Отнюдь не отказавшись от своего рыцарского обожания Люсьены, Чачиков иногда доставал у потомков финикиян губную помаду или тушь для ресниц и галантно подносил Люсьене.
Люсьена, испробовав все эти соблазнительные предметы, откровенно кричала, что это гнусная подделка и настоящее дерьмо. Но Чачикова эти слова не шокировали.
Люсьена не стеснялась в выражениях. Мы к этому привыкли. Нам, в том числе и потрепанно-элегантному Чачикову, казалось, что она изъясняется как молодая герцогиня или примадонна императорских театров.
Чачиков привел как-то в редакцию «Маяка», а потом и на Барцхану местную поэтессу Флору. Эта милая, высокая и бледнолицая девушка сгибалась на ходу, как тростник, и читала стихи, отдаленно напоминавшие нечто от Анны Ахматовой{133}.
Флора принадлежала к тому роду поэтесс, которые полны несдержанного восторга перед поэзией. Слушая новые стихи Гумилева, Брюсова или Багрицкого, она молитвенно складывала руки, и в уголках ее глаз появлялись слезинки. Она украдкой вытирала их.
Жила она с мамой – учительницей. Девственность окружала ее нимбом, пахнущим фиалками парфюмерной фирмы «Ксидияс и компания» (Афины).
Сначала Флора побаивалась Люсьены, но вскоре они сдружились и бойко насмешничали над нами и еще над одним милым человеком, приблудившимся, по его собственным словам, к нашей компании.
Это был сотрудник республиканской газеты «Трудовой Батум» Володя Мрозовский. Этот добрый и нерешительный человек мог своей деликатностью затмить даже Фраермана. Мрозовский обладал редкой способностью искренне увлекаться второстепенными вещами – теми, что лежат рядом с настоящими и похожи на них.
Так, например, он страстно увлекался вместо шахмат шашками, вместо настоящего театра – театром лилипутов, вместо живописи – собиранием вырезанных из журналов литографий и, кроме того, всем, что печаталось в журналах в отделе под названием «Смесь», – ребусами, анаграммами{134}, акростихами{135}, чертежами лабиринтов, чайнвордами и загадочными картинками.
Он коллекционировал эти картинки.
Такая картинка изображала, например, стадо слонов в джунглях, а под слонами стояла интригующая подпись: «Где же наша красавица?»
Надо было вертеть такую картинку во все стороны, пока наконец вы случайно не замечали сложившуюся из контуров трех слоновых ног, хобота и древесной ветки фигуру девушки, убегающей в джунгли на высоких французских каблучках.
У Володи Мрозовского был целый альбом таких вырезанных картинок.
Несмотря на все эти чудачества, Володя был человек приятный, молчаливый и обязательный.
Впервые Аджария праздновала годовщину Октябрьской революции. По этому случаю Мрозовский пригласил всех нас к себе на небольшую пирушку.
Мрозовский жил с матерью.
Мы собрались в темной и старой квартире, заставленной, как мебельный магазин, тяжелыми вещами из черного дуба – комодами, поставцами, креслами и буфетами.
Пирушку Мрозовский устроил по-грузински, с разными травками – тархуном, кинзой, мятой, с лавашем и чуреком, с чахохбили и сациви, с жареным сыром сулгуни, маленькими зразами из листьев винограда, с кахетинским красным вином, наконец, с шашлыком, который мы обваливали в порошке корицы.
Люсьена не могла обойтись без пения. Она пела всегда. Она знала непостижимо много одесских, харьковских, николаевских и ростовских песенок. Ее чуть разухабистый голос неожиданно заглушал общий разговор и даже пугал таких мирных людей, как Мрозовский и Флора.
Все вздрагивали, когда во время беседы о шахматах или о тифлисских поэтах из кафе «Ладья аргонавтов», снаружи, со двора на Барцхане, где Люсьена мыла посуду или что-нибудь жарила, вдруг взрывалась, как шутиха, очередная песенка. Она как бы приплясывала и подрагивала бедрами:
На пирушке у Мрозовского по случаю того, что мы находились в Грузии, Люсьена решила исполнить весь свой довольно потрепанный кавказский репертуар.
Не успела она затянуть песню про несчастного и удалого Хаз-Булата, как с улицы неожиданно грянул, поддерживая Люсьену, могучий пьяный хор:
Мы бросились к окнам. На тротуаре под домом сидела в обнимку толпа пьяных людей. Они покачивались и, тараща глаза, старательно орали песню, начатую Люсьеной.
Тогда Люсьена переменила репертуар и запела:
Но хор с улицы не растерялся и дружно ответил:
– Хватит! – крикнула Люсьена. – Сейчас я их собью с голоса!
Она запела непривычный для нее, протяжный и лирический романс Чайковского:
Но непостижимым образом пьяный хор тотчас подхватил слова и вывел вторую строку романса с какой-то зловещей силой:
Люсьена разъярилась. Она решила во что бы то ни стало перепеть грузин. Но они не сдавались, упорно заглушали Люсьену и время от времени пили за ее здоровье, вытаскивая бутылки из карманов и чокаясь этими бутылками друг с другом с такой силой, что нежная Флора каждый раз вскрикивала.
Только старушка мать Мрозовского, оставалась совершенно спокойной. Она выросла в Батуме, и ее ничем нельзя было удивить.
Люсьена устала и уже хотела сдаться, но в это время произошло событие, перевернувшее весь ход нашей пирушки.
За окном вдоль улицы со страшным шипением пронеслось нечто непонятное. Потом оно взорвалось, осветило все вокруг белым, мертвенным светом и погасло.
Это было похоже на ракету, пущенную не вверх, а вдоль улицы. И это оказалось действительно так.
Пьяные за окном дико закричали и кинулись, толкаясь, во двор. Тотчас же вдоль улицы прошипела вторая ракета, ударила в расшатанный афишный столб и рассыпалась потоком искр. Запахло паленым. Пьяные закричали еще сильнее.
Все были взволнованы. Одна только старушка Мрозовская невозмутимо сказала:
– Каждый год они обязательно выкидывают что-нибудь особенное.
– Кто это они? – спросил я.
Батумские жители. Это, конечно, они придумали пускать ракеты не вверх, а вдоль улиц.
Синявский сказал, что это неплохо придумано. Фраерман был просто в восторге. Сони Фраерман с нами не было: она любила всюду ходить одна.
Мы решили испытать обстрел ракетами, пойти на Барцхану к Синявским и досидеть там до утра.
Но когда мы вышли, ракеты уже не метались вдоль улиц. Кто-то прекратил наконец это удивительное развлечение.
Весь Батум шумел на ветру от флагов. Почти половина флагов была турецкая. Жители города еще не успели сделать новые, советские флаги.
По улицам медленно ходили, наигрывая, оркестры дудочников и барабанщиков. Музыканты почти все, как на подбор, были низенькие, толстые, усатые, с сизыми, как сливы, носами. Очевидно, большую часть своей жизни они проводили в духанах.
Когда мы дошли до порта, единичные ракеты кое-где еще взмывали в осеннее небо. Потом раздался звук, похожий на залп мортир. Он шел со стороны гор.
Вслед за этим звуком раздалось шипение сотен ракет. В небо понеслись их дымные желтоватые хвосты. Внезапно все небо взорвалось ослепительным горением и блеском несметных белых звезд.
Они не успевали гаснуть, как рядом взлетали и на мгновение останавливались в небе новые сонмы ракет.
Резкий магниевый огонь затопил город, порт, базары, парки, притихшее море и пароходы у пирсов.
Батум разгорался, как снежный пожар. Пахло порохом. Должно быть, зарево фейерверка было видно из Анатолии и на много миль с моря.
Мы встретили Нирка. Он рассказал, что световое наводнение будет длиться две ночи. За это время в Батуме сожгут несколько тысяч осветительных ракет.
Дело в том, что в старой Батумской крепости во время Первой мировой войны хранился большой запас боевых ракет. Срок их хранения кончился. Держать их дольше на складах было опасно: ракеты могли взорваться от самовозгорания. Поэтому комендант крепости решил разрядить все лишние ракеты в небо. Кстати подошел праздник.
На следующий день Нирк рассказал нам, что с пароходов, подходивших в эту ночь к Батуму, были получены по радио запросы, что происходит в Батуме, можно ли войти в порт и не представляет ли редкое световое явление, замеченное на горизонте над Батумом, опасности для судов. Два-три парохода, не дожидаясь ответа, переменили курс и ушли в Поти.
Но, помимо этого феерического освещения, когда на горизонте пульсировал, не затухая, купол живого огня, Батум мог напугать непосвященных людей неистовым шумом своих обитателей.
Это и понятно. Не каждому приходится увидеть в жизни такое зрелище. Поэтому все звуковые богатства населения (если можно так выразиться) были исчерпаны (конечно, на время) в первую же ночь иллюминации.
Под звуковым богатством населения я понимаю прежде всего восторженные вопли и свист мальчишек, потом хохот, зовы, гудение сазандари, треск вертушек, треск каштанов на жаровнях, звон гитар и перекличку песен – да мало ли звуков на празднике в приморском городе!
По мере того как мы подходили к окраинам, звуки менялись, становились тише и мелодичнее. Из домов доносилось хоровое пение, но заглушенное, как бы под сурдинку. Нам больше всего нравилось, что пение слышалось не только из домов, но даже из кубриков пароходов.
Мы долго простояли около одного парохода, стараясь догадаться, на каком языке пели матросы.
За мостом через бурливую речушку порт кончился. Город все так же сверкал взлетающими в небо огнями, но до Барцханы шум доходил уже слабо, как гул отдаленного прибоя. Вспышки ракет очерчивали темные контуры гор. В горах, испуганные непонятным светом, тихонько подвывали шакалы. Они были так трусливы, что не решались выть во весь голос, как им, очевидно, хотелось, а только скулили.
На Барцхане мы сидели на террасе и пили маджарку. Праздник шумел вдали. Шум его был похож на водопад.
Я всегда любил смягченный пространством гул праздников и народных сборищ. Под этот гул легко было думать. И не только думать, но и выдумывать все перипетии и повороты – уже бывшие и еще не бывшие – феерического ночного веселья, мысленно участвовать в венецианских карнавалах или в описанном Александром Грином празднестве в его романе «Бегущая по волнам».
Я был уверен, что такие праздники продлевают людям жизнь и кружат нас в тенетах тайн. Они прельщают нас едва слышным зовом из той части моря, где узкой полосой аквамарина горит неподвижная заря.
Огни то загораются, то гаснут, как периодические звезды. В темноте вы неожиданно ощущаете почти призрачное прикосновение пылающих губ и слышите обессиленный плач старых скрипок, – какой-то колдун дал им название «виоль д’амур»{137}.
В сердцевине каждого настоящего праздника (а настоящим он бывает, когда выражает редкое состояние нашей душевной легкости и полноты) всегда скрыта романтическая или героическая история, а то и обе вместе. Или, чаще всего, любовь.
Мы сидели на террасе, и маджарка, как всегда, вязала из наших мыслей причудливые петли. Например, предложил я, почему никто не написал до сих пор историю не крови, пролитой на земле, а историю праздников, начиная от летних фестивалей Парижа и кончая днем рождения мальчика, получившего в подарок глиняную свистульку.
Есть много праздников – от праздников морских, когда пена от хода кораблей отсвечивает огнями берегов, когда приморские ночи пахнут померанцевым цветом, до праздников в честь писателей, художников и поэтов, заронивших в сердца людей плодотворное беспокойство.
Даже Миша Синявский впал в патетическое настроение и сказал, что неплохо было бы устроить праздник в честь божественных фасадов архитектора Палладио{138}. Но это было уже слишком.
Только рассвет – туманный и тихий – прекратил взрыв ракет. Я уснул, сидя на полу, положив голову на низкую тахту, и сквозь сон слышал, как прохладный йодистый воздух свободно бродил по террасе и что-то разыскивал, шурша бумагой.
Хмурая зима
У штормовых дней есть своя окраска. Это бесспорно. Бывают штормы всякие – мутно-зеленые, желтые, как глина, серые и почти черные.
В Батуме с приходом зимы начались зеленые штормы. Воздух стал похожим на мутноватый капустный рассол. Море тоже казалось мутным. Только у самого берега обнаруживалось, что вода в нем удивительно прозрачная, серой же она кажется от пасмурного неба.
Штормы быстро набирали силу, кипели вдоль всего побережья. Их гром не затихал ни днем, ни ночью. Накаты волн подымались вдали, как табуны коней с седыми длинными гривами. Они неслись к берегу, развевая по ветру эти гривы, и внезапно ныряли, оставляя на поверхности моря короткий пенистый след.
Пароходы ходили с перерывами. Только маяк мигал и мигал наугад, как бы не особенно веря, что сейчас кому-нибудь может понадобиться его терпеливый огонь.
На целые дни море исчезало за пеленой дождей. В горах выпал снег. Как говорят моряки, «видимость» упала до совершенно ничтожной. Это обстоятельство даже придавало городу особый уют. Пространство как бы сжалось и заключило Батум в тесное туманное кольцо.
Батум стал меньше. Перспективы утонули во мгле. Только резкий запах тропических растений и сырой земли свидетельствовал, что за этой непроницаемой для глаз завесой где-то рядом прячется милый мир южного бульвара с его последними, доцветающими каннами.
По-моему, такие зимы были лучшим временем года в Батуме. Нужно было только достать непромокаемый плащ и прочные бутсы.
Нирк помог мне добыть это дождевое снаряжение. С тех пор я почти каждый день с наслаждением ходил под дождем на Барцхану, к Синявским.
Маленькая и застенчивая моя газетка «Маяк» (почему-то она мне казалась застенчивой) стала выходить один раз в неделю вместо четырех: у Батумского союза моряков, как и у Одесского, не хватало денег. Работы почти не было. Мой тихоня наборщик «Спать хочется» большую часть дня действительно проводил в дремоте. Его усыпляло непрерывное бормотание дождя.
Более убаюкивающего шума нельзя было и придумать. Сон наползал теплый, вязкий, пахнущий промокшими насквозь гвоздиками из палисадника за окном нашей крошечной закопченной типографии (то была старая, хилая типография, где раньше печатали визитные карточки).
Теплый воздух с моря тоже приносил с собой какую-то вяжущую одурь.
И вот, чтобы спастись от этого разлитого в воздухе сна, я натягивал плащ и шел на Барцхану. По дороге я заходил поесть в портовый духан «Бедный Миша».
На оконном стекле этого духана был нарисован масляными красками толстый человек с надутыми, как у трубача, щеками. Под этим портретом было написано: «Наш бедный Миша, когда он покушал в этим духани». Говорили, что еще недавно на другом окне был изображен заморенный голодом и чахлый тот же Миша – еще до того, как он покушал в духане.
Но стекло разбили во время драки английские матросы, и с тех пор существовал в одиночестве только один покушавший Миша.
Духан был разделен стеклянной перегородкой на два маленьких зала. Рядом с кухней был устроен проходной зал для «гяуров», а позади него – зал для правоверных, с отдельным входом прямо из кухни.
В этой планировке был точный расчет. В зал для правоверных не подавали свинину и вино, и слуга даже случайно не мог попасть в этот зал с греховной пищей.
Я ел харчо. От него шел красный, перечный пар. На запотевших окнах посетители писали пальцами свои долги духанщику. Воробьи ухитрялись проскакивать в духан, когда входили или выходили посетители, и разыгрывали на полу и свободных столиках дробный барабанный бой, торопливо подбирая крошки. Иногда они даже дрались, рискуя быть изгнанными за это из духана.
Посетители сидели, поджав одну ногу под себя. В духане они всегда снимали чувяки и оставались в одних толстых шерстяных носках. Но как только входил кто-нибудь незнакомый, посетители торопливо надевали чувяки. Считалось невежливым сидеть перед незнакомым в носках.
Шашлык я запивал красным вином. Оно попахивало бурдюком, но сразу же согревало. Я медленно пил вино, медленно свертывал папиросу, медленно курил, и медленная лень овладевала мной и сулила бесполезное на первый взгляд, но деятельное и неподвижное занятие.
Если воспользоваться старомодным, но довольно точным языком, то это занятие можно было назвать «игрой в воспоминания». Оно состояло в том, что я действительно предавался воспоминаниям, но не о прошлых событиях и не о людях, а только о любимых местах, где я бывал, или о любимых стихах.
Только об этом.
Занятие было безобидным и даже поучительным.
Поучительность его заключалась в том, что я вспоминал, как бы по обочине, по отдельным частностям свою жизнь, невольно оценивал ее под углом сегодняшнего дня и старался избегать прошлых ошибок. Это довольно редко мне удавалось, но все же наполняло меня уверенностью, что я живу не кое-как, не по воле случая, а сам способен руководить своей судьбой. Даже частые и горькие разочарования в этой моей уверенности не заставляли меня отказаться от нее.
Я считал, что эта уверенность и есть, как говорил Нирк, «спасительный румб» моей жизни.
Носильщик тяжестей
В духане я садился обычно у широкого окна, выходившего на нефтяную воду гавани и на гнилые сваи.
Когда становилось душно, я открывал окно. Запах мазута и мусорной, но прохладной воды наполнял духан, а свежесть осушала потные лбы.
Большинство посетителей духана были муши – носильщики тяжестей. Хозяин духана тоже был в молодости мушей, потом каким-то образом разбогател, но все же сохранил привязанность к своему племени мушей и кормил их со скидкой и в кредит.
Все муши почти круглые сутки толкались в порту. Они ждали случайного заработка. Но его было мало. Его не хватало даже на половину батумских мушей, и потому они большей частью спали, прислонившись к цинковым стенам портовых складов. Все они спали почти в одной и той же позе: подняв колени и опустив между ними до земли длинные, жилистые руки. То был глубокий сон усталых и голодных людей.
Особенно поражали меня руки мушей. Набухшие жилы были завязаны в узлы, как корни у дуба. Сквозь серую кожу просвечивала темная, венозная кровь. Она вздрагивала редкими толчками и, казалось, была готова вот-вот остановиться. Тогда муша, конечно, уже не проснется. Так оно и случалось иногда.
Духан всегда был полон мушей. Когда входил посетитель, муши тотчас уступали ему отдельный столик и начинали говорить вполголоса.
Ели муши мало и медленно. Было видно, что еда для них – долгожданный отдых.
Муши таскали огромные тяжести. Однажды я видел, как низенький, сизый от натуги муша один тащил на спине рояль и только чуть-чуть сгибал в коленях ноги.
Выносливость этих людей, в большинстве крестьян-аджарцев, была неслыханна. И кротость тоже. Более кротких, незлобивых и доверчивых людей я, пожалуй, не встречал в жизни.
Их постоянно обманывали. Никакого объединения у них не было. Каждый помыкал ими, как мог.
Я часто заговаривал с мушами, но они только улыбались в ответ. Казалось, что весь фатализм мусульман был собран в этих людях, и они тащили его на своем горбу. Единственное, что они позволяли себе, – это глубокий вздох, когда груз уже был сброшен на землю и можно было вытереть тыльной стороной ладони едкий пот на изможденном лице, похожем на треснувшую, пережженную глину.
Они никогда не считали денег и не глядя засовывали их в карманы широких и пыльных, стянутых у щиколотки шаровар. В этом жесте не было никакой подчеркнутости – просто муши верили людям. А если люди их обманывали, то они долго сокрушались не из-за потери заработка, а из-за существования на земле таких плохих людей – обманщиков. Каждый раз это было для них неожиданностью.
За свою каторжную работу муши получали гроши.
Однажды я видел, как старый муша сидел под стеной и плакал, прикрыв рукавом глаза. Перед ним стояла такая же высохшая, как и он, старуха и что-то ему выговаривала трескуче и сердито.
Старик не отвечал и продолжал плакать. Прохожие пожимали плечами, некоторые останавливались и, горестно покачивая головой, смотрели на мушу.
Тогда старуха беспомощно оглянулась и, махнув рукой, побрела вдоль базарной улицы. Она спотыкалась и что-то шептала про себя.
К старому муше подошел пожилой муша. Он нес ящик с посудой. Он осторожно поставил ящик на землю, легонько похлопал старого мушу по плечу, и тот тяжело встал, как запаленная лошадь. Ноги у него дрожали. Пожилой муша положил ящик на горб старому муше, вынул турецкую лиру, отдал старику и еще долго смотрел ему вслед, когда тот тащил ящик в сторону вокзала.
Я понял, что пожилой муша просто передал старику свой заработок, полученный вперед. Кроме меня, никто как будто этого не заметил, а пожилой муша виновато улыбнулся и сказал мне:
– Он мне годится в отцы.
Когда я сидел с мушами в духане, у меня появилась мысль, что мушей надо собрать и объединить и только таким путем покончить с их нищетой и бесправием.
Но как к этому приступить, я не знал. Поэтому решил посоветоваться с опытным профсоюзным работником Нирком.
Нирк долго смотрел на меня смеющимися, прищуренными глазами, потом сдвинул свою элегантную морскую каскетку на затылок, снова натянул ее на нос и сказал:
– Плодотворная идея. Особенно в условиях субтропического побережья. Ну что ж, подымем якорь! За все буду отвечать один я. Вы – лирический поэт, как это говорится, менестрель, и это не ваше дело.
Нирк подумал и добавил как бы без всякой связи с предыдущими словами:
– Совершенно верно. В наших условиях именно эти люди должны быть и будут опорой пролетарской революции.
К сожалению, я не мог проследить за бурной деятельностью Нирка по созданию Союза мушей. На меня опять накинулась малярия. Но все же мы успели провести вместе с Нирком первое собрание мушей, а перед этим напечатать в «Маяке» воззвание к мушам.
Собрание устроили в одном из железных портовых пакгаузов. Открыли настежь ребристые двери. Муши тщательно подмели пакгауз, повесили портрет Ленина, а один из мушей, застенчивый старик, украсил портрет замысловато связанными в узлы разноцветными шерстяными нитками. Такие плетения из грубой шерсти я видел у старых курдянок.
В стороне сидели несколько старых грузчиков. В свое время они верховодили в порту, сейчас же пожухли и сидели тихо.
Нирк сказал деловую речь, но глаза у него смеялись.
Потом говорил самый старый и уважаемый муша. Он не говорил, он кричал, грозил кому-то худым коричневым кулаком, сразу замолчал и быстро вышел, вытирая слезы рваной кепкой.
Все стихли, но старик тотчас же возвратился, сияя детской улыбкой, подошел к Нирку, обнял его и прижал голову Нирка к своему плечу.
Муши качнулись, встали, гул прошел по их рядам. «Вспомнил сына, – говорили муши вполголоса. – У него был сын самый красивый на всем Черном море».
Старик что-то крикнул, схватил за плечи двух ближайших мушей и, качаясь, начал медленно и тяжело приплясывать.
Тотчас все муши схватились за плечи, запели и так же, как старик, начали медленную пляску. То был, как я подумал тогда, «танец усталых мушей». Иначе его нельзя было назвать. Снаружи уже стояла толпа, и дружный плеск ладоней звучал медленно, в такт пляске, как звук кастаньет.
Потом весь день муши ходили точно пьяные.
Так был создан Союз мушей, который вскоре превратился в Союз транспортных рабочих.
Меня лечили синькой. Каждую ночь я обмирал, к утру терял голос от слабости и с ужасом ждал трех часов дня, когда, как по хронометру, начинал чувствовать у себя в крови тяжкую ломоту – признак приближения лихорадки.
Курд, чистильщик сапог, подарил мне самое сильное, по его словам, средство от малярии – засушенного паука, заклеенного в пустую скорлупу от грецкого ореха. Но и это чудодейственное средство не помогло.
Портовый врач сказал, чтобы я немедленно, не теряя ни одного дня, уезжал из Батума в Тифлис, где, по его словам, малярия должна была тотчас пройти.
Через несколько дней я передал газету «Маяк» Мрозовскому и уехал в Тифлис вместе с Фраерманом.
В последние три месяца жизни в Батуме я работал, кроме своей морской газеты «Маяк», еще и выпускающим в республиканской газете «Трудовой Батум».
Мне не хотелось бы покидать вместе с вами Батум, не рассказав об этой короткой, но содержательной полосе жизни, когда моим другом и учителем неожиданно стал знаменитый в те времена цирковой борец, бывший чемпион России по французской борьбе Довгелло.
Дело в том, что борец Штейнбах (чемпион Баварии) неудачно перевернул Довгелло на ковре и сломал ему руку. С тех пор Довгелло не мог бороться и вернулся к своей старой, хорошей профессии – до работы в цирке Довгелло был наборщиком, а потом метранпажем.
Мы с ним встретились в типографии, где печаталась газета «Трудовой Батум».
Борец Довгелло
Метранпаж Довгелло казался воплощением терпения.
У него была своя житейская философия. Сводилась она к тому, что человек состоит из множества слабостей, но к ним следует относиться снисходительно. В общем, он был твердым последователем евангельской догмы: «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень».
Кроме того, большинство человеческих поступков Довгелло считал капризами. Иногда эти капризы были просто необъяснимы. В таких случаях Довгелло долго чесал шилом – непременным орудием метранпажа – у себя за ухом, расковыривал кожу до крови и смущенно молчал.
Таким необъяснимым капризом была, например, для Довгелло манера редактора газеты писать передовые статьи. Он писал их так ловко, что можно было заверстывать любой абзац в любом месте: конец – в середину, середину – в начало, а начало – в конец. Или наоборот.
При этом течение мысли редактора ничуть не страдало и бледный смысл его строк сохранялся в неприкосновенности.
Поэтому верстка каждой передовой статьи превращалась в типографии в решение задачи с несколькими неизвестными. Даже наш корректор Семен Акопович, самый образованный человек в Батуме, близоруко вчитываясь в гранки передовой статьи, приходил в отчаяние и говорил мне:
– Ставьте как попало. Я снимаю с себя ответственность за эту членистоногую статью. Такие статьи размножаются почкованием. Из одной можно сделать сто. Надо только механически переставлять фразы. Предположим, что в статье сорок пять фраз. Значит, путем перестановок мы можем получить свыше двух тысяч статей!
Но редактор, оказывается, хорошо помнил порядок абзацев в своей статье и каждый раз устраивал нам плаксивые скандалы.
Семен Акопович принадлежал к категории корректоров-философов. Он знал все законы корректорского дела. В свободное время он сам набирал эти законы-лозунги и вывешивал их на стене корректорской клетушки.
Главный лозунг: «Шум – злейший враг корректуры!» – был набран афишными буквами, и по сторонам его стояли в ряд четыре угрожающих восклицательных знака.
Внизу, под этим лозунгом, была приклеена к двери узкая полоса бумаги. На ней было набрано:
«Не задавайте корректору во время работы никаких пустых и посторонних вопросов. Даже можете с ним не здороваться – он не будет в обиде, ибо этим вы ему только поможете».
А в самой клетушке у Семена Акоповича висели два железных предупреждения:
«У каждого наборщика свои собственные ошибки» и «Ни один наборщик не может набирать без ошибок».
Это последнее изречение вызвало бурю негодования среди молодых наборщиков. Старые наборщики только посмеивались: они знали по опыту, что Семен Акопович прав.
И действительно, бунт продолжался не больше получаса. Он затих, когда Семену Акоповичу подали оттиск первой гранки, тщательно набранной лучшим молодым наборщиком. Семен Акопович без всякого злорадства, а, наоборот, даже с некоторым сожалением нашел в наборе три серьезные ошибки.
На нас, литературных сотрудников, самое сильное впечатление производил совершенно бесспорный, но неожиданный плакат Семена Акоповича, адресованный «Всем писателям и литераторам»:
«Пишите разборчиво и по возможности коротко. Не забывайте, что корректор, чтобы прочесть даже небольшую книгу, в десять печатных листов, совершает своими глазами путешествие по бумаге длиною больше километра».
Этот плакат бросал нас, пишущих, в дрожь. Мы все старались писать разборчиво и коротко, но это не всегда удавалось. Что касается меня, то я так и не научился писать разборчиво. Но все же начал писать гораздо короче, чем раньше.
После верстки мы пили с Семеном Акоповичем и Довгелло чай на заваленном гранками столе. Семен Акопович доставал из карманов своего старенького пальто глянцевитые, хрустящие бублики, посыпанные маком. Можно было поговорить о литературе и политике, о корректуре и о разных толковых словарях. При этом Семен Акопович вступал со мной в бесконечные споры по поводу написания некоторых слов. Переспорить его не смогла бы целая всемирная конференция лингвистов.
Одно из чудачеств Семена Акоповича состояло в том, что он, в противоположность всем корректорам, не признавал авторитет Даля{139}. Он считал, что Даль позволял себе вольности по отношению к русскому языку, слишком нажимал на местные диалекты и иногда давал не совсем правильные толкования словам.
– Но я, – говорил Семен Акопович, – все ему прощаю за то, что он проводил ночи напролет у постели умиравшего Пушкина.
Когда я говорил, что читаю словарь Даля как роман и удивительный памятник народной поэзии и народного острословия, как живописную энциклопедию русской жизни, Семен Акопович снисходительно улыбался и высоко подымал костлявые плечи.
В начале этой главы я писал, что Довгелло был воплощением добродушия. Но злоупотреблять его добротой было все же рискованно, а иной раз просто опасно для жизни. В этом я вскоре убедился.
У Довгелло была своя наборная касса. Он обычно набирал объявления или расписания пароходных рейсов, и потому в его кассе, кроме всяких затейливых шрифтов, были еще небольшие клише. Довгелло вставлял их в объявления чаще всего в двух случаях: когда этого требовал заказчик или когда объявление нравилось ему самому.
Перед расписанием пароходных рейсов Довгелло ставил старое, наполовину стертое клише. Оно изображало допотопный колесный пароход с мачтами и множеством снастей.
По случаю нэпа, вернее – в преддверии нэпа, в Батуме открылись доморощенные институты косметики и частные мастерские, изготовлявшие корсеты, лифчики и шляпки.
В такие объявления Довгелло, весело почесывая шилом за ухом, заверстывал клише, изображавшее кокетливую женскую головку с распущенными волосами. Каждый раз при этом наборщики подмигивали друг другу, но осторожно, чтобы не заметил Довгелло.
Семен Акопович таинственно рассказал мне, что жена Довгелло, какая-то бывшая польская графиня или княгиня, – не то Потоцкая, не то Комаровская, занимается шитьем лифчиков. Этим наборщики и объясняли склонность Довгелло украшать виньетками такого рода галантные объявления.
По словам Семена Акоповича, жена Довгелло была капризная и красивая, несколько обветшалая «гоноровая» дама. Она помыкала мужем, как мальчишкой. При ней Довгелло смущался, терял дар речи и становился кротким, как кролик.
В обычное время кротость Довгелло изменяла ему только в том случае, когда его доводили до крайности. Тогда он становился опасен, как взбешенный буйвол.
Напротив Довгелло за кассой работал молодой наборщик Нико – любитель шуток, мистификаций и «розыгрышей», но работник неважный. Было несколько случаев, когда Довгелло в сердцах заставлял Нико перебирать все заново. Нико очень обижался и втайне придумывал способы мести.
Наконец Нико осенило, и он придумал – так ему сгоряча показалось – остроумную и тонкую месть. Он задержался под каким-то предлогом в типографии и, когда все ушли, набросал во все ячейки наборной кассы Довгелло куски хлеба и окаменелого сыра.
В типографии было множество крыс – больше, чем в трюме океанского грузового парохода.
Крысы неторопливо бегали под ногами даже днем. Довгелло почти без промаха бил крыс наповал свинцовыми бабашками.
Нико не ошибся: толпа крыс с писком и дракой ринулась в наборную кассу Довгелло и, пожирая хлеб и сыр, перерыла и перемешала все буквы в ячейках. Чтобы привести кассу в порядок, надо было потратить много времени.
На следующий день я зашел зачем-то в типографию, и дальнейшие события разыгрались у меня на глазах.
Довгелло долго и совершенно спокойно смотрел на свою оскверненную, перепутанную кассу и молчал. Нико перемигивался с молодыми наборщиками и веселился. Он чувствовал себя в безопасности. Крысы не оставили ни крошки хлеба и сыра, и у метранпажа не было никаких улик. Он, конечно, не мог догадаться, кто из наборщиков устроил эту историю с крысами.
Но чем дольше Довгелло молчал, почесывая шилом за ухом, тем больше начинал тревожиться Нико.
Неожиданно Довгелло протянул свои длинные, как у гориллы, лапы, схватил Нико и совершенно спокойно понес на вытянутых руках к открытому настежь окну. Типография помещалась на втором этаже. Окна выходили во двор.
Нико онемел от ужаса. Он даже не пытался вырваться. Он висел в руках у Довгелло, как мертвый котенок.
В типографии наступила глубочайшая тишина.
Довгелло осторожно протянул за окно руки с зажатым Нико, разжал пальцы, и Нико, вскрикнув, упал со второго этажа на кучу песка под окном. Песок этот держали на случай пожара.
Довгелло вытер руки, вернулся к своей кассе и сказал:
– Предупреждаю! Всех! В другой раз как кокну – мокро станет!
Какой-то наборщик хихикнул. Довгелло повернулся в его сторону и медленно, опустив руки, сжатые в кулаки, двинулся на веселого наборщика.
Тот отскочил и бросился к дверям. За ним в двери кинулись, толкаясь, все наборщики. Они с грохотом скатывались по лестнице во двор, озирались и бежали к подворотне. Паника охватила типографию.
Нико потом три дня притворно хромал. Он был бледен и осторожен. Довгелло же с обычным добродушием заверстывал в объявления о новом средстве для усиления бюста головку кокетливой женщины с бриллиантом на груди. От бриллианта расходились тонкие линейки, – по убеждению Довгелло, они изображали блеск бриллиантовых лучей.
Тоска по самоварному дыму
Батум был для меня «перевалочным пунктом». Я не собирался жить в Батуме. В этом городе у меня не было никаких прочных корней.
Все чаще я тосковал по Москве, по шуму сыроватой лесной листвы, по прозрачным до самого дна речонкам, что струятся через эти леса, но часто останавливаются и о чем-то раздумывают над омутами. Там плавают тучи мальков, желтые кувшинки, скромные облака и перевернутые вниз вершинами отражения сосен.
Я часто представлял себе, как по пути в Москву поезд непременно остановится где-нибудь на безлюдном разъезде в лесу, я выскочу и увижу на зернистом песке насыпи, около рельса, почти прижавшийся к нему ворсистый стебель подорожника с сиреневой щеткой чешуек – цветов. Он стоит под защитой высокого горячего рельса, как в оранжерее.
За лесом подымается серебряным выпуклым краем белая туча. От нее долетает медленное погромыхивание.
Нельзя понять, идет ли это где-то далеко за лесом товарный поезд или это пробует голос еще не окрепший полевой гром.
Когда я представлял себе эти простые и бесхитростные картины, у меня захватывало дыхание. Я готов был отдать за один летний день на Севере тающую пену всех здешних прибоев, картинную лазурь всех волн и далей и всю густо-розовую и таинственную мглу Малой Азии. Там некогда вздымался Пергам, и статуи цариц скульпторы высекали из теплого камня, как бы покрытого морским загаром.
Почти сорок лет спустя я увидел самую гениальную, нежную и ранящую сердце своей божественной женственностью скульптурную голову царицы Нефертити{140}. Трудно было удержаться, чтобы не написать о ней тотчас же целую восторженную главу.
Но тогда я был готов променять ропот морского прибоя на писк воды, что сочится через гнилые доски мельничной плотины где-нибудь под Костромой, сочится и брызжет на высокие папоротники.
Чем дальше, тем тоска по Северу, по родине, делалась болезненнее и безнадежнее. Потому что денег у меня было в обрез, как говорится – «на прожитие», и нужно было еще терпеливо накопить их на билет до Москвы. А это были немалые деньги по тем временам.
Тревога и саднящая тоска все усиливались, и вдруг я понял, что происходит это оттого, что мне не с кем даже поговорить о Севере, не с кем вспомнить о нем.
Я был окружен южанами. Все мои батумские знакомые были южные люди. Севернее Одессы никто из них, кроме Фраермана, не жил. Говорить с ними о простодушном и милом пейзаже Средней России было бесполезно. Они его не знали и представляли только по тем тускловатым литографиям картин Левитана, Нестерова, Остроухова{141} или Жуковского{142}, какие пылились в толстых старых альбомах для открыток в писчебумажных магазинах.
Тогда тема наших бесконечных и зачастую ночных бесед с Фраерманом переменилась. Мы уже меньше говорили о стихах, но очень много – о русской природе. Я говорил о Брянских лесах – памяти моего детства, а Фраерман – о лесах Белоруссии.
Я взял у Чачикова томик стихов Языкова. Пожелтевшие тоненькие страницы пахли плесенью и магнолией, чей-то острый, очевидно стариковский, ноготь отчеркнул любимые строфы. Тогда у меня еще не было представления о Языкове, и сгоряча я был поражен им не меньше, чем Пушкиным.
Я выписал из стихотворения «Тригорское» описание летнего зноя и выучил его наизусть.
Через много лет я попал в Тригорское в знойный июль и испытал с необыкновенной точностью и наслаждением все, что было описано в этих стихах.
Я читал эти стихи Фраерману, и он восхищался ими вместе со мной. И может быть, еще тогда, в те осенние батумские дни, под непрерывный стук дождя по жестким листьям пальм, и родилась мысль о жизни в лесах, в сельском доме, где ветки вязов заглядывают в окна и в сумерки со двора пахнет самоварным дымком.
Эта жизнь позднее осуществилась в Мещерском крае, ставшем второй моей родиной.
Подгоняемые этой тоской, мы с Фраерманом решили переселиться в Тифлис. Оттуда, как нам казалось, будет легче возвратиться в Москву. Соня Фраерман уехала вперед устраиваться в Тифлисе.
Новогодняя ночь
Я ждал отъезда с нетерпением. Я был уверен, что в Тифлисе от перемены климата пройдет моя малярия.
Но отъезду предшествовало несколько хотя и не очень значительных, но характерных событий.
Из этих событий стоит рассказать, пожалуй, только об анекдотической встрече нового, 1923 года.
Мы все удивляемся таинственному и внезапному возникновению анекдотов. Авторы их неизвестны. Они, конечно, есть, но их никто не видел, не слышал и не знает. Они не имеют «фигуры», как знаменитый подпоручик Киже.
Анекдот на любой случай жизни рождается как бы сам по себе.
Но, кроме анекдота, существуют еще так называемые анекдотические события, иными словами, события неправдоподобные, смешные и нелепые. Таким анекдотическим событием – одновременно и неправдоподобным и нелепым – была встреча 1923 года в Батуме.
В те времена хождение по улицам в Батуме разрешалось без пропуска только до двенадцати часов ночи. Из типографии «Трудового Батума» мы возвращались всегда ночью, и почти каждый раз нас задерживал патруль солдат-грузин из бывшей так называемой «Народной» (меньшевистской) армии.
Большинство этих солдат говорили только по-грузински, кроме двух слов: «документи!» и «коменданти!». Мы тратили много времени на объяснения с этими вспыльчивыми и ретивыми юношами. Спасало нас только совершенно ненатуральное спокойствие Довгелло.
Комендантом Батума был тогда некий красивый и преувеличенно галантный полковник, оставшийся нам во временное наследство от той же меньшевистской армии.
Я не помню фамилии этого полковника. Будем называть его для удобства повествования псевдонимом Курдия.
Полковник отличался могучим голосом. На силе этого голоса и была основана оборона Батума от турок, когда они начали при меньшевиках наступление на Закавказье и вплотную подошли «к стенам» города.
Курдия командовал обороной Батума. Пренебрегая телефоном и другими средствами военной связи, а может быть, вспомнив средневековые рыцарские времена, он командовал войсками с каланчи батумской пожарной команды. Он стоял на каланче со всем своим блестящим штабом, с затянутыми в рюмочку адъютантами и смотрел вдоль улиц в бинокль, силясь увидеть неприятеля.
Поминутно к каланче подскакивали на мыльных храпящих конях ординарцы. Приложив руки рупором ко рту, сдерживая пляшущих коней, они кричали Курдии, задрав голову, последние донесения с места боя.
Курдия не заставлял себя ждать и охотно кричал ординарцам ответные приказы.
Батум прислушивался к бешеному цокоту копыт. Чем чаще раздавался этот цокот и чем реже долетала винтовочная пальба с окраин города, тем яснее становилось жителям Батума, что военные дела принимают плохой оборот.
Оригинальный способ Курдии командовать с каланчи не спас города. Курдия быстро покинул каланчу и самый Батум и отступил за пределы турецкого огня.
Так вот этот самый Курдия расклеил по городу накануне встречи 1923 года объявление о том, что по случаю встречи Нового года хождение по улицам Батума разрешается всю ночь. Мы все, хотя и искушенные, но глупо доверчивые люди, поверили этому объявлению, за что жестоко расплатились.
Новый год мы с Фраерманом встречали у Мрозовского. В три часа ночи мы распрощались с хозяином и пошли домой. В нескольких шагах от подъезда нас остановил патруль, и послышалось давно знакомое слово: «Документи!»
Мы начали спорить, но солдаты крепко взяли нас под руки и доставили в обширный двор комендантского управления.
Двор был запружен толпой необыкновенно веселых, поющих, играющих на гитарах, танцующих лезгинку и целующихся пьяных людей. Их всех, как и нас, поймали патрули.
Никто не знал, за что мы задержаны. Но в новогоднюю ночь даже не хотелось об этом думать. Люди веселились напропалую. Только хмурые и недовольные конвоиры представляли разительный контраст с хохочущей толпой арестованных.
Потом нас всех разбили на группы по пятьдесят человек (при этом Фраермана отделили от меня), окружили большим конвоем и повели в тюрьму.
Мы шли, начиная понемногу тревожиться за свою судьбу. Мы видели, как за освещенными окнами домов какие-то счастливцы, не вышедшие, как мы, столь опрометчиво на улицу, танцевали вальс, кружа красивых женщин, как летали серпантин и конфетти. Мы шли и слышали, как гремели расстроенные от чрезмерной праздничной нагрузки рояли, звенели бокалы и (как это бывает всегда) самый пьяный гость пел отчаянным, пропащим голосом застольную: «Мравал джамиер!»
Нас привели в совершенно пустую и гулкую цементную тюрьму. В коридорах и камерах не было ни одной скамейки. Сидеть было не на чем. От этого сразу же заныли ноги.
Эхо усиливало мрачный стук прикладов, резкие выкрики команды и бесшабашное пение заключенных.
Но веселье довольно быстро потухло. Только самые пьяные долго еще пытались что-то понять и втолковать самим себе. Большинство же догадывалось, что мы попали в какую-то непонятную, но неприятную историю.
К рассвету в тюрьму привели итальянского консула с женой. Набриолиненная голова консула отражала нудный свет единственной на весь коридор тюремной лампочки. Смокинг подчеркивал ослепительную манишку и южную сизоватость недавно выбритых щек итальянца.
Жена консула – высокая, красивая женщина – вошла в тюрьму гордо, как на эшафот. Черный мех был спущен с ее беломраморного плеча, обнажая длинную, изысканную руку и выпуклость матовых грудей.
Но консульша недолго играла роль Марии-Антуанетты{144}. Внезапно она прислонилась к холодной стене и зарыдала. Консул схватил ее руку и трагическим голосом закричал по-французски:
– Замолчи, Джульетта! Сейчас же замолчи!
Театральным жестом он прижал женщину к своей груди, как истинную Джульетту, и обвел всех нас яростными глазами.
От Джульетты исходило тончайшее веяние духов «Шанель». Но, конечно, этот изысканный и размагничивающий запах не мог вытеснить фронтовой, солдатский, берущий за горло яд махорки. И Джульетта зарыдала еще сильнее.
Вскоре по тюрьме пронесся слух, что с нами вместе сидит автор очень популярной в то время оперетты «Иванов Павел». Я забыл его фамилию. Я видел его, хотя и не решился заговорить с ним. Он оказался скромным, молчаливым человеком небольшого роста.
Он помалкивал, улыбался, а вся тюрьма, будто взвинченная его присутствием, пела по камерам отрывки из «Иванова Павла».
Особенно удачно выходили куплеты о букве «ять»:
Но это пение длилось недолго. Вскоре тюрьма уснула пьяным, тяжелым сном.
Среди арестованных я увидел Довгелло с женой. Он поцеловался со мной и представил меня жене Ванде – пышной и вянущей блондинке с надменным лицом. Она говорила с польским акцентом и называла мужа Ежи, хотя имя у него было самое русское и простонародное – Егор.
Поглядывая на меня сквозь полуопущенные веки, она сказала мужу громко и внятно, как на сцене:
– Я рада, что у тебя наконец появились довольно приличные коллеги.
Довгелло сжался и покраснел. А невозмутимая Ванда так же властно и громко сказала, обращаясь ко мне:
– Надеюсь, что нас здесь не расстреляют? Это было бы хамством. Как вы думаете?
Я промолчал. Тогда Ванда пожаловалась, что выпила много грузинской водки чачи, что ей невыносимо жарко, что ее душит лифчик, хотя он сшит идеально, по последнему парижскому образцу. После этого она засунула руку под платье, ловко расстегнула лифчик у себя на спине и вытащила его, слегка растрепав прическу.
При этом она сказала: «Уф!», заправила в платье выпавшую грудь – пышную и чуть вялую – и вызывающе посмотрела мне прямо в глаза.
Да, это была довольно странная графиня! Довгелло сидел весь мокрый и взъерошенный. Недаром наборщики называли Ванду «бандершей».
Я сбежал от Ванды и пытался скрыться в одной из бетонных камер. Но скрыться мне не удалось: в камере я увидел поэтессу Флору с неизвестным спутником – скромным светловолосым юношей.
Флора была расстроена не меньше итальянки, но не рыдала, а тихо плакала, сморкаясь в совершенно ничтожный и совершенно декоративный кружевной платочек.
Потом она, сидя на пальто молодого человека, сразу уснула, и лицо ее сделалось беспомощным и обиженным. И я вспомнил ее последние неважные стишки:
Когда Флора уснула, положив голову на плечо скромному юноше, в тюрьму привели семерых английских матросов.
Они бодро вошли, хлопая широченными клешами, и прокаркали приветствие. Тотчас самый долговязый матрос лег на пол посередине коридора, по его оси. Все шесть остальных легли головами на него, как на подушку, прикрыли лица бескозырками и сразу уснули.
Только один из матросов все время старался сдуть сквозь сон электрическую лампочку, висевшую над его головой. Она жужжала, умирая, как жужжат все умирающие лампочки, и матрос, очевидно, принимал ее за большую надоедливую муху.
Все это было забавно, но утром мы проснулись помятые, голодные и злые. Итальянский консул с женой исчезли. Довгелло рассказал, что ночью в тюрьму приезжал Курдия («Будь он проклят, зараза!») и выпустил консула, английских матросов и еще нескольких человек.
– Всех, кто побогаче и хорошо одет, – добавил Довгелло. – Блатная петрушка. Кстати, и эту хлипкую поэтессу он тоже выпустил. За бакшиш.
Ванда проснулась и сказала хриплым, попугайным голосом, что мы не мужчины, а старые матрасы, если не можем добиться немедленного освобождения беспомощной женщины.
В общем, мы просидели в тюрьме без пищи и почти без воды до вечера и всю следующую ночь. Через каждые три-четыре часа в тюрьму приезжал тучный Курдия, обходил, позванивая шпорами, камеры, вызывал то одного, то другого заключенного, преимущественно людей спекулятивно-восточного типа, о чем-то вполголоса говорил с ним, и заключенный тотчас исчезал.
Днем он выпустил Ванду, притом совершенно бесплатно, но Довгелло задержал. Я пытался поговорить с Курдией, но он, даже не взглянув на меня, прошел мимо, похлопывая стеком по лакированным голенищам сапог.
На глазах происходило грандиозное взяточничество, бесстыдное и откровенное преступление, грабеж населения, как в каком-нибудь диком вилайете{145} малоазиатской Турции.
Меня просто ошеломила спокойная наглость Курдии. Теперь уже было ясно, что Курдия нарочно расклеил провокационное объявление о хождении всю ночь, чтобы захватить побольше жертв и нажиться на взятках за освобождение.
Я все же остановил его во время одного из обходов и сказал, что я гражданин РСФСР и требую немедленного вызова в тюрьму батумского консула РСФСР.
Курдия посмотрел на меня с нескрываемым презрением.
– Кто вы такой? – спросил он. – А? Может быть, вам вызвать из Москвы самого Калинина? Подождите!
Он что-то сказал по-грузински адъютанту, хохотнул и ушел.
Ярость охватила меня. Я видел, как Курдия уехал из тюрьмы в роскошном ландо, на паре вороных рысаков. Я быстро прошел в тюремную канцелярию. Там висел на стене телефон, а около него сидел и заунывно пел часовой – черный и тощий человек, похожий на чистильщика сапог.
Я рывком снял трубку. Часовой пытался встать, но я толкнул его в грудь. Он упал обратно на сиденье венского стула – сиденье жидко затрещало, сломалось и провалилось. Часовой застрял в стуле.
Я попросил соединить меня с русским консулом Лунцем. Мне надо было, конечно, позвонить в Ревком Аджарии, но я решил, что торжественный титул «консул» должен произвести на Курдию сильное впечатление.
Задыхаясь от негодования и оттого, что мне все время приходилось держать за грудь часового, чтобы не дать ему выбраться из проломанного стула, я рассказал Лунцу о том, что происходит в тюрьме.
– Через час я буду, – сказал Лунц. – Кроме вас, есть в тюрьме граждане РСФСР?
– Есть.
Я положил трубку. Часовой выбрался из стула, схватил трубку, вызвал адъютанта Курдии и торопливо и жалобно закричал. Потом он замахнулся на меня прикладом, но ударить не решился. Я вышел.
Но мне так и не удалось встретиться с Лунцем. Через четверть часа ко мне в камеру (камеры, между прочим, не запирались) вошел Курдия со своей свитой.
Он сиял, улыбался, звенел шпорами и сказал мне, склонив голову:
– Прискорбное недоразумение, дорогой! Я не знал, что вы состоите сотрудником «Трудового Батума». Надеюсь, вы в добром здравии?
– Вас это не касается! – ответил я. – За что были арестованы все эти люди, в том числе и я? За что вы держите нас в тюрьме уже второй день? Почему вы выпустили часть арестованных? За какие такие заслуги?
– Зачем сердишься, дорогой, – сразу переходя на «ты», вкрадчиво сказал Курдия. – Ты меня огорчаешь! Ай, нехорошо! Ай, обижусь! Садись в мое ландо. Оно в полном твоем распоряжении. Поезжай домой и будь здоров. Недоразумение вышло, понимаешь. Недоразумение! Пожалуйста, поезжай. Я тебя очень прошу.
Я согласился и взял с собой Довгелло. Курдия не возражал.
Когда я спускался по лесенке во двор тюрьмы, где сверкало, как черный бриллиант, комендантское ландо, адъютант Курдии почтительно поддерживал меня под локоть.
Когда мы с Довгелло отъехали, то Курдия и его свита, широко улыбаясь, приветственно махали нам руками, будто провожали дорогих гостей.
Я, конечно, жаждал мести, но желание это вылилось в совершенно мальчишеский поступок: я решил задержать комендантское ландо, сколько возможно, и приказал кучеру везти нас на Барцхану, к Синявским.
Там мы выпили и жестоко напоили кучера. После этого он затеял на шоссе гонки с гиканьем и свистом с батумскими извозчиками, зацепился за арбу с бочкой вина, сломал у ландо колесо, слез, привязал лошадей к стволу чинары и, безнадежно махнув рукой, поплелся, рыдая, в обратную сторону от Батума, по направлению к Чакве. Мы его не останавливали. Мы тоже вышли и вернулись домой.
На третий день после этого Курдия был арестован и предан суду.
Последний луч
Последний луч солнца, падая на землю, показывает ее совсем в ином виде, чем под прямыми солнечными лучами.
Все становится более выпуклым и весомым. Краски приобретают густоту, приближают к нам первые планы ландшафта, но вместе с тем удлиняют дальние и уводят их в бесконечную прозрачность. Она тускнеет медленно, по мере того как солнце покидает небосклон.
Приближение вечера тем и прекрасно, что придает густоту краскам и необычайную легкость воздушным пространствам.
Этот эффект последнего солнечного света впервые увидели художники, особенно Клод Лоррен{146}, Манэ{147}, Тернер{148}, наш Левитан и многие другие. Следя за их взглядом, мы увидели то же самое, что видели и они.
Сейчас я опять поймал себя на мысли, смущающей меня постоянно. Когда я разрушаю более или менее трезвое течение прозы, бросаясь в излюбленную область звуков и красок, то теряю в некоторых случаях чувство меры.
Желание передать окружающим свое видение мира бывает настолько сильным, что требование соразмерности отступает перед ним.
Вот и теперь я заговорил о закатах, тогда как мне нужно написать об отъезде из Батума и бросить последний взгляд на этот необыкновенный и живописный город.
Я давно заметил (хотя это очень субъективно), что при прощании с каким-нибудь уголком земли он появляется перед нами в самом превосходном и выпуклом виде: именно как пейзаж, освещенный последним светом вечерней зари.
Так было и с Батумом. Мы с Фраерманом назначили уже день отъезда.
Как всегда при расставании надолго, а может быть, и навсегда, – все в Батуме казалось сейчас милым – даже дождь и жирный дым наливных пароходов.
Хмурая и теплая зима поселилась в порту. Иллюминаторы пароходов были освещены изнутри, будто во всех каютах горели елки. Море затихало после бури и сонно пело, задумчиво перебирая гальку. Цвет воды был светло-серый, но удивительно теплый и прозрачный.
Вся преувеличенность южных красок и несколько крикливый цвет моря исчезли и приобрели сдержанность.
В красках появились новые сочетания, каких никогда не было летом.
Однажды я видел, как в порт вползал заржавленный до красноты высокий грузовой пароход. По морю шла волна, и пена, облизывая борта парохода, тотчас таяла.
Заходящее солнце светило угрюмо и низко. Соединение белой пены, рыжих бортов и красного солнечного пламени в стеклах палубных надстроек показалось мне одним из живописнейших зрелищ, какие я видел на земле.
Солнце село. Вечер, подернутый лиловым налетом, принес тишину. Только где-то далеко от порта она была украшена едва слышным пением сазандари.
Когда последний луч падал на Батум, то город каждый раз казался нагромождением ржавого дымящегося железа, брошенного к подножию сумрачных гор.
Никогда я не видел на батумском закате того знаменитого «зеленого луча», о каком слышал много разговоров. Кстати, о нем писал и Куприн.
В последние дни я часто ездил на Зеленый Мыс и в Чакву. В зарослях Зеленого Мыса было просто жутко от обилия растительности. Казалось, что лавина листвы в конце концов остановит маленький дачный поезд с игрушечными открытыми вагончиками.
В последний вечер все собрались у Синявских на Барцхане. Пришли Фраерман, Чачиков, Мрозовский, Довгелло, корректор Семен Акопович и Нирк.
Люсьена жарила пирожки с камбалой. Чачиков принес гитару.
Мы пели под нее множество песен, большей частью печальных, но они не вызывали у нас грусти. Очевидно, потому, что Батум для нас всех (кроме Мрозовского) был только «почтовой станцией» на той огромной жизненной дороге, какая еще лежала перед нами. Она звала нас дальше, сулила неожиданности, правда, туманные, но безусловно заманчивые, – новый труд, новые встречи, новые беды и удачи.
Странно устроен человек: несмотря на интересную жизнь в настоящем, мы жаждали будущего и без конца говорили о нем. Мы жили будущим. В настоящем и прошлом мы искали только доказательств неизбежного прихода этих будущих времен. Они придут. В этом мы были уверены, несмотря на то что подчас жестокие препятствия задерживали их приход.
Наутро на закруглении железнодорожного пути у Зеленого Мыса в окна вагона широко сверкнуло Черное море, и у меня забилось сердце: я расставался с морем надолго, может быть, навсегда.
Но мои лирические и печальные размышления у окна вагона были прерваны внезапным яростным криком:
– А ну, покажи билет!
Я быстро обернулся. Позади меня стоял черный горбоносый человек с унылым лицом неудачника. На нем были пыльные черные галифе с оранжевым кантом, стоптанные чувяки, сиреневые носки. Чтобы они не падали, на ногах у этого странного человека пониже колен были надеты подвязки ярко-красного цвета.
Позади этого человека стояли два ухмыляющихся солдата с винтовками в таких же сиреневых носках, чувяках и подвязках.
Я молчал, пораженный. Тогда унылый человек снова прокричал яростным голосом, но на этот раз уже покраснев от нетерпения:
– А ну, покажи билет!
Тогда я догадался, что это обыкновенный поездной контролер. Окончательно я понял это, когда заметил около вооруженных юношей несколько смущенных безбилетных пассажиров. Они с интересом и сочувствием смотрели на меня, как на товарища по несчастью.
Я протянул билет. Контролер скучно посмотрел на него, пробил щипцами и вдруг кинулся, как коршун, на моего соседа – старика с кошелкой яиц:
– А ну, покажи билет!
Старик ласково улыбнулся, но билета не показал. Вместо этого он встал и молча присоединился к толпе безбилетных.
Юноши с винтовками погнали, посмеиваясь, безбилетных, как отару овец, в соседний вагон. Туда же ушел и контролер.
– Они всегда так кричат, – горько пожаловалась нам старая грузинка в черной круглой шапочке «кеке» и с кисейной фатой позади. – Можно просто оглохнуть на этой железной дороге, пока доедешь до Зестафони. Ой, горе! Ой, горе!
– На пушку берут, – объяснил веселый матрос. – А зачем – непонятно. Будто от ихнего крика билет сам по себе возникнет.
– Все бывает, – вздохнул старый грек в очках. – Плохой человек как крикнет, так даже земля может остановиться, кацо!
Вскоре я привык к удивительным нравам на Закавказских железных дорогах. Но в первый раз мы смеялись с Фраерманом до слез.
Намек на зиму
Два года я не видел льда и снега. Вернее, я их не замечал. Правда, в Одессе зимой мостовые изредка покрывались льдом, но зимние дни были такими угрюмыми и лишенными света, что даже не хотелось смотреть по сторонам. Поэтому я плохо запомнил одесские лед и снег.
В Тифлисе же прямо с вокзала мы с Фраерманом вошли в разнообразный свет солнца, в его отражения от окон домов, в блеск маленьких луж, покрытых тончайшей пленкой льда, в воздух, какого я еще не видел. Он весь переливался, вспыхивал, гас и снова блестел и как бы разгорался, будто состоял из миллионов ледяных чешуек.
Этот свет и льдистый блеск воздуха создали у меня первое впечатление о Тифлисе как о городе таинственном и увлекательном, как о некоей восточной Флоренции.
Я представлял себе Тифлис менее интересным, чем он оказался.
Я не знал, что в Тифлисе бывает хотя и очень слабая, но все же зима. Вернее, намек на зиму. Она напоминает наш ясный и прохладный сентябрь. Запах льда в тенистых палисадниках и оттаявших луж на согретых солнцем тротуарах относится к довольно явным, но коротким признакам этой зимы.
Кроме того, то тут, то там просачивался из домов на улицы слабый запах дыма и угля от каминов и мангалов.
На вокзальной площади мы остановились, пораженные зрелищем гористых кварталов города. В них тихо и свежо лежало утро.
Я почему-то подумал, что в этом городе возможны, а может быть, и неизбежны всяческие интересные истории.
Это ощущение было в какой-то мере сказочным и веселым. От него то возникало, то затихало под сердцем глухое волнение.
Я знал уже много мест и городов России. Некоторые из этих городов сразу же брали в плен своим своеобразием. Но я еще не видел такого путаного, пестрого, и легкого, и великолепного города, как Тифлис.
В течение тех нескольких минут, что мы простояли с Фраерманом на вокзальной площади, я решил, что жизнь в Тифлисе не пройдет для меня даром и что этот город не может не отозваться на моей судьбе. Конечно, я тотчас же посмеялся над этими своими мыслями, но не смог прогнать их. Они спрятались в глубине сознания и часто напоминали о себе.
Уверенность, что в этом городе случится со мной милое и неожиданное событие, осуществилось через короткое время после приезда в Тифлис.
Пока мы с Фраерманом смотрели на город и обменивались несколько восторженными впечатлениями, к нам неслышно подошел в мягких чувяках старый, седой муша, быстро схватил наши чемоданы, ловко вскинул их себе на спину, на «горб», и побежал, приседая, прочь от вокзала в тесную и извилистую боковую улицу.
Мы оторопели. Первым пришел в себя Фраерман. Он вскрикнул и побежал вслед за мушой. Я бросился за Фраерманом.
Муша, не переставая бежать, оглядывался и кричал:
– Не пугайся, кацо! Добежим до угла, там отдохнем. Пожалуйста, не пугайся!
Мы ничего не понимали. Мысль о том, что муша – вор и уносит наши чемоданы, тотчас исчезла после его озабоченного крика.
Но добежать до угла нам так и не удалось. Из нескольких подворотен сразу выскочили молодые муши. С отчаянными гортанными криками они окружили нашего мушу, отняли у него чемоданы, швырнули их на мостовую и начали толкать старика назад, в сторону вокзала. Они так кричали и так гневно вращали глазами, что казалось, вот-вот произойдет убийство.
Мы бросились на помощь старому муше. Тогда молодые муши перестали кричать и начали смеяться, а старый муша, ласково улыбаясь, снял шапку и попросил заплатить ему хоть немного за эту пробежку от вокзала до угла.
Я заплатил. Муши вытерли пот, вытащили папиросы, все сразу закурили и, посмеиваясь, угостили старика.
Потом они объяснили нам, что Тифлис поделен артелями мушей на участки и ни один муша не имеет права перехватывать работу не на своем участке, как это сделал наш старик.
Оказывается, что как раз за углом начинался его участок. Поэтому старик и торопился добежать до угла, но попал в засаду. За углом он был бы уже в безопасности.
Это подтвердил милиционер, появившийся на шум.
Он был очень доволен этим происшествием, возможным, конечно, только с людьми, впервые приехавшими в Тифлис. При этом он изысканно извинился за «маленькое беспокойство».
– Люди хотят жить поровну, – объяснил он нам. – Равенство! Завоевание революции, генацвале! Здесь я отвечаю за всех мушей и за каждую вещь. Головой отвечаю. Милости просим ко мне на участок! Всегда рад оказать приятельскую услугу.
Двое молодых мушей взяли наши чемоданы и, поигрывая ими, как пустыми кошелками, пошли впереди нас по адресу, который я им сказал.
При каждой даже самой ничтожной возможности они присаживались на ступеньки передохнуть, а потом, осмелев, начали заходить в маленькие подвалы-духанчики и выпивать вместе с нами по небольшому стакану красного вина.
С каждым новым стаканом настроение у нас становилось все легче и беззаботнее.
Мы болтали без умолку, встречные улыбались нам. Тифлис шумел, как водопад (это, оказывается, шумела у Верийского моста мутная Кура), продавцы кричали нараспев теноровыми голосами: «Салат, шпинат, лук зеленый, редис молодой!» Тифлисская зима сверкала нам в глаза тоненькими пластинками разбитого пешеходами льда, густым небом, блеском начищенных медных блях на сбруе черных ишаков, тащивших аттические кувшины с мацони{149}. Нестерпимо сверкали окна и лакированные стенки трамваев. Они мчались вдоль Головинского проспекта и напоминали передвижные ярмарочные оркестры – столько звона, треска, лязга, смеха и крика они волочили за собой, сбивая с толку таких северных новичков, как мы с Фраерманом.
Маленькие стаканы вина, отмечавшие наше медленное, но верное продвижение по Тифлису, сыграли счастливую роль: они уничтожили следы моей обычной застенчивости.
Дело в том, что Мрозовский списался со своими родственниками в Тифлисе и заочно снял для меня комнату в их доме. У Фраермана уже была готовая комната, где жила Соня.
Я немного стеснялся въезжать в комнату, снятую Мрозовским, так как знал, что родственники Мрозовского были известные на Кавказе футуристы, братья Зданевичи – поэт Илья и художник Кирилл. Я знал, что у них останавливался Маяковский, когда бывал в Тифлисе, что у них постоянно бывали все грузинские художники и поэты – и Ладо Гудиашвили{150}, и Тициан Табидзе{151}, и многие другие. Это обстоятельство меня, конечно, смущало.
Но сейчас мое смущение растаяло без остатка в легком кахетинском вине.
Зданевичи жили в старом доме с большими, запутанными деревянными террасами, выходившими во двор, с полутемными, прохладными комнатами, с выцветшими персидскими коврами и множеством рассохшейся мебели. Лестницы на дрожащих террасах качались под ногами, но никого это не смущало.
С террас был виден на горизонте снег Главного хребта.
Из комнат Зданевичей с утра до позднего вечера доносились аккорды рояля, женское пение, чтение стихов и шумные споры и ссоры.
По всем террасам и коридорам ходили, прихрамывая, голуби. Когда люди замолкали, то весь дом глухо и страстно ворковал.
Кроме того, с утра во всех углах квартиры была слышна зубрежка французских спряжений. Это старик Зданевич – бывший преподаватель гимназии – занимался французским языком сразу с несколькими недорослями и неучами. У всех недорослей, как на подбор, были унылые, бубнящие голоса.
Каждые полчаса, а то и чаще где-то падала и разбивалась посуда. На место происшествия тотчас спешила хромая такса и долго лаяла на виновника этого события.
Такса была со странностями. Она никогда не входила ко мне в комнату, а только приоткрывала мордой дверь, просовывала голову и неподвижно и тщательно смотрела на меня томными восточными глазами. Так она могла стоять часами, но все же время от времени вдруг подпрыгивала, изгибалась и, изловчившись, начинала что-то выгрызать у себя на боку, страшно клацая зубами.
В первый же вечер моего приезда ко мне пришла хозяйка дома, старушка Валентина Кирилловна Зданевич. Она попросила разрешения немного посидеть у меня, чтобы отдохнуть от этого, как она выразилась, «цыганского табора». Моя комната, правда, была самая тихая.
С тех пор так и повелось: Валентина Кирилловна часто приходила ко мне посидеть и поговорить, и я был очень рад этому.
Через короткое время я уже полюбил эту маленькую старушку в пенсне, родом имеретинку, бывшую певицу, ученицу Чайковского.
Валентина Кирилловна поражала меня своей проницательностью, живым умом и спокойствием. Она вырастила двух сыновей – поэта Илью и художника Кирилла. Сыновья были воинствующими футуристами. Илья по праву считался одним из вождей футуризма вместе с Бурлюком и Крученых. Он учился в Петербургском университете. Газеты тех лет часто писали о его скандалах на петербургских литературных вечерах.
Он основал в Тифлисе общество «левых» поэтов и художников. Называлось оно «Сорок первый градус» (по географической параллели, которая проходила вблизи Тифлиса).
Но Илья Зданевич, так же как и Кирилл, заслуживает отдельного рассказа. Пока же я хочу закончить описание квартиры Зданевичей и ее обитателей.
Я переступил порог этой квартиры и оторопел. Стены во всех комнатах, террасы и коридоры, даже кладовые и ванная были завешаны от потолка до пола необыкновенными по рисунку и краскам картинами. Много картин, не поместившихся на стенах, было свернуто в рулоны и стояло в углах.
Все эти картины принадлежали кисти одного и того же художника, но очень редко можно было найти на них его грузинскую подпись: «Нико Пиросманишвили»{152}.
О Пиросманишвили я тоже расскажу несколько позже. Сейчас же я хочу передать, если это мне удастся, то странное состояние, которое вызывали у меня его картины. Два месяца я не мог привыкнуть к ним и жил в очень конкретном, но вместе с тем и полуреальном мире.
То был главным образом Кавказ, одновременно и причудливый и точный. И не только Кавказ, но и самые разные явления жизни, увиденные совсем не так, как мы привыкли их видеть. Так наивно и свежо может видеть человек, только что прозревший после слепоты. Или человек, внезапно проснувшийся, когда действительность еще не избавилась от налета сновидений.
В моей комнате тоже висели картины Пиросманишвили (Зданевичи звали его для краткости Пиросманом). Поэтому у меня было время изучить их и полюбить.
Рядом с этими картинами совершенно терялась нарядная орнаментальная роспись на стенах моей комнаты. Она была сделана персидскими художниками по заказу квартиранта Зданевичей, персидского консула в Тифлисе, жившего здесь до меня.
Кроме картин, в комнатах было много цветов. Квартира походила на оранжерею.
Цветы часто опрыскивали свежей водой. Поэтому в комнатах пахло сырой землей и листьями.
Когда в окна ударяло солнце, квартира напоминала летний день после ливня: со всех листьев, веток и цветов торопливо падали, поблескивая, капли теплого комнатного дождя.
Срезанных и собранных в букеты цветов в доме почти не держали. Вместо них всюду лежали куски коры, похожие на корытца. Они были наполнены разными свежими цветами: фиалками и крокусами, эдельвейсами и камелиями, и мхами всех цветов – изумрудно-зелеными, рыжими, черными, золотыми, красными и лимонными. Мхи пахли йодом.
Кроме цветов и мхов, в коре держали мелкие папоротники, хвощи, всякие интересные вещи из растительного и животного мира, вплоть до корней в виде рыцарей и стыдливых купальщиц. На мхах сидели уснувшие бабочки. Они походили на беспредметные рисунки «левых» художников.
Жившая у Зданевичей экспансивная полька, художница Мария, составлявшая все эти необыкновенные «букеты», называла их «супрематическими мотыльками» и вкрадчиво, чисто по-польски, спрашивала нараспев:
– Что-о? Разве не-ет? Правда, это так похо-оже?
По всей квартире было разбросано много книг, главным образом тоненьких, с крикливыми названиями и такими же крикливыми обложками. На них были нарисованы цветные полукружия, женские груди и изломанные лучи.
Самой популярной считалась книга стихов под заглавием «Цвети, поэзия, сукина дочь!». Она была набрана всеми шрифтами, какие нашлись в Тифлисе, – от афишного до перля и от курсива до эльзевира. Между отдельными словами были вставлены разные линейки, многоточия, скрипичные знаки, буквы из армянского, грузинского и арабского алфавитов, ноты, перевернутые вверх ногами вопросительные знаки, графские короны (эти клише держали до революции в типографиях только для визитных карточек), виньетки, изображавшие купидонов и гирлянды роз.
Я с удовольствием изучал эту книгу как своего рода коллекцию типографских шрифтов.
Было много книг на заумном языке. Одна из них называлась только буквой – «Ю». На столах горами были навалены рисунки, главным образом кубистические. Все женщины на этих рисунках были похожи на подруг неандертальского человека. Иногда огромные молнии с широкими хвостами разрубали на этих рисунках падавшие во все стороны дома. Очевидно, так было изображено землетрясение. Я не решался спросить Кирилла Зданевича, что значат эти рисунки. Кирилл был неразговорчив.
Брат Кирилла – Илья – уже второй год жил в Париже и подружился там с Пикассо. Об Илье у Зданевичей говорили так, будто он только что вышел за дверь.
Все делалось, как любил Илья. Никто не смел трогать его вещи. К этому все, особенно Валентина Кирилловна, отнеслись бы как к кощунству.
Первое время я добросовестно читал поэмы Ильи – и «Осла напрокат» и «Янко, круль албанской», но мало что понимал в них. У меня начинала болеть голова. Но я не мог признаться в этом: непонимание стихов Ильи было для его родных и друзей признаком полной бездарности и мещанства.
Я вскоре заметил, что только Мария – дерзкая и насмешливая – имела право не восхищаться Ильей.
– Я отдала долг футуризму и теперь свободна, как птица, – говорила она нараспев.
– Какой долг? – спросил я.
– Хотите, я вам покажу? – спросила она и, не дожидаясь моего ответа, вышла в соседнюю комнату. Когда она вернулась, то на ее щеке пылал смело и широко написанный масляными красками цветок розы.
– Хорошо-о, да-а? – спросила она, стараясь не улыбаться, чтобы не испортить свежий рисунок. – Вот так я ходила по Головинскому проспекту со всеми поэтами. Смешно? Правда-а?
Этот разговор с Марией происходил почти через месяц после того, как я поселился у Зданевичей. Первое же знакомство с Марией было и странным и смешным.
У меня в комнате был камин. В день приезда я пошел вечером на террасу за дровами для камина. По нашим московским понятиям, это были не дрова, а мелкие ветки, к тому же еще и колючие.
Мне надо было пройти через столовую. Там за обеденным столом пили чай Валентина Кирилловна, старик Зданевич, высокая молодая женщина, тонкая как змея, и вторая молодая женщина, с бледным, как бы от сдержанного волнения, немного надменным лицом, совершенно прозрачными зелеными глазами и яркими, смеющимися губами. Тяжелый серебряный браслет звенел у нее на руке.
– Вот, – сказала мне Валентина Кирилловна и показала на эту женщину, – познакомьтесь. Это наша Мария. Пожалуйста, не пугайтесь ее разговоров.
Мария порывисто встала и протянула мне руку. Звякнул браслет. Она усмехнулась, глядя мне в глаза, и вдруг, будто без всякой надобности, нервно и быстро оглянулась – за ее спиной висел на стене ее портрет, написанный броско и вместе с тем нежно.
– Работа поэта Терентьева, – сказал старик Зданевич. – Он у меня в гимназии шел по французскому на пять с плюсом.
Мария чуть улыбнулась. Она молчала. Я тоже молчал.
– Извините, – вдруг спохватилась Валентина Кирилловна. – А вот эта черная женщина, прелестное существо, – наш общий друг, черногорка Живка.
– Черногория по-сербски выговаривается Црна Гура, – сказал старик Зданевич. И вдруг продекламировал с пафосом: – «Черногорцы? что такое? – Бонапарте вопросил: – Правда ль: это племя злое, не боится наших сил?»{153}
Все опустили глаза. В соседнем доме слабый тенор пел:
– Цветут не венчики, а лепестки, – сердито сказал старик Зданевич.
Опять никто не отозвался на эти слова.
– Садитесь, – сказала мне Мария. – Я вам налью чаю.
– Сейчас. Я только принесу из кухни дрова для камина.
Я пошел в кухню. Там было темно. За окном виднелись одиночные и слишком яркие звезды над неясными вершинами гор.
Я набрал дров и пошел обратно. Теперь в столовой сидели только Мария и черногорка. Старики ушли.
Мария внимательно посмотрела на меня. В то же мгновение вся вязанка дров рассыпалась и полетела на пол.
– Мария, это свинство, – равнодушно сказала черногорка.
– Я так и знала, – грустно сказала Мария и встала. – Иначе и не могло быть. Погодите, я вам помогу.
Она быстро собрала дрова, но не дала их нести мне. Она сама отнесла их в мою комнату и разожгла камин.
Она стала на колени перед камином и, низко наклонив голову, почти лежа щекой на полу, раздувала слабый огонь. Ветки трещали и стреляли искрами.
Я хотел сказать ей, чтобы она встала. Ее волнистые каштановые волосы все время падали на пол, и она нетерпеливо отбрасывала их назад рукой в звенящем серебряном браслете.
Мы долго молчали. Потом я спросил ее:
– Вы сказали, что иначе и не могло быть. Что это значит?
Она подняла голову, посмотрела на меня снизу, и я вдруг вздрогнул от блеска ее встревоженных глаз.
– Это значит, что я взбалмошная дура, – ответила она, вскочила и вышла из комнаты. – Идите пить чай.
Так случилось то неожиданное и милое событие, о котором я впервые подумал на площади Тифлисского вокзала.
Простая клеенка
На окраине Тифлиса были расположены знаменитые Верийские и Ортачальские сады.
То было место летних увеселений и отдыха. Почти каждый небольшой сад был превращен в кафешантан или духан.
К вечеру, когда начинала спадать жара, тифлисцы тянулись в эти сады. Кто побогаче – на извозчиках, а кто победнее – пешком.
Названия кафешантанов отличались пышностью и безвкусием. Самый дорогой шантан назывался «Эльдорадо». Потом шли «Фантазия», «Сан-Суси», «Шантеклер» и «Джентльмен».
Невдалеке от Ортачальских садов располагались так называемые «веселые» улицы. Многие посетители шантанов сначала заезжали на эти улицы и привозили оттуда шумных девиц.
Что ждало тифлисца в этих садах? Прохлада, легкий чад баранины, пение, танцы, азартная игра в лото и красивые огрубевшие женщины.
Особенно привлекала прохлада под сенью чинар и шелковиц. Трудно было понять, как она удержалась, когда весь Тифлис лежал рядом в жаркой котловине, в кольце нагретых гор, и даже страшно было смотреть на него с окрестных высот. Казалось, что Тифлис дымится от накала и вот-вот вспыхнет исполинским костром.
Может быть, этой прохладой тянуло от фонтанов или в сады осторожно проникало дуновение горных снегов. В городе можно было дышать только перед рассветом, когда дома немного остывали за ночь. Но стоило солнцу подняться из Кахетии – и изнурительный жар сейчас же заливал улицы.
Среди певиц, выступавших в Верийских садах, была одна женщина, ленивая, тонкая в талии и широкая в плечах, с бронзового цвета волосами, нежной и сильной шеей и розовым телом. Звали ее Маргаритой.
Посетители шантана, где она пела по вечерам, считали ее обрусевшей немкой, но хозяин сада, обидчивый мингрел – каждый раз, услышав эти разговоры, устраивал настоящий скандал.
– Наверное, твои мозги совсем перевернулись в голове! – кричал хозяин. – Ты слышал такую страну – Франция?
– Ну, слышал, – хмуро отвечал неосторожный посетитель.
– А во Франции слышал такую губернию – Эльза? Слышал? Ну, так она из этой губернии, из Эльза. Француженка высшего сорта. Что за люди! Пустяков не знают! Драться – знают, сдачи не давать – знают, трогать на улице девчонок – знают, мошенничать в карты – знают, а сообразить – ничего не знают!
Маргарита редко соглашалась поужинать с посетителями, но равнодушно, как должное, принимала от них маленькие подарки. Потом она их раздаривала подругам. Она была совершенно одинока.
Вообще было трудно понять, что она думает обо всем, особенно о мужчинах. Многие хотели сделать ее своей любовницей.
Говорила она мало, а пела каким-то необыкновенным, как говорили, двойным, голосом.
Ее приезжали слушать артисты оперы и музыканты. От пения Маргариты оставалось ощущение, будто оно всегда сопровождается подголоском, похожим на слабое эхо.
Актеры говорили, что это так называемый «вокальный обман», как бывает, например, «обман зрения». На самом же деле никакого второго голоса нет. Они говорили так и спорили, но, несмотря на это, каждый слышал, когда пела Маргарита, двойной звук ее голоса. Как будто главный голос был золотой, а второй – серебряный.
Однажды певцы и музыканты сняли на весь вечер духан «Варяг», пригласили туда Маргариту и устроили для любителей пения закрытый концерт.
После концерта встал старый дирижер и сказал, что человеческий голос является самым сложным музыкальным инструментом. Он богаче рояля и скрипки, и потому одновременное существование в голосе нескольких тонов вполне возможно и естественно.
А Маргарита пила, потупившись, вино. Красный шелк платья придавал ее волосам отблеск пожара. Изредка она подымала глаза и обводила ими всех, кто сидел за столом, но в туманной глубине ее зрачков не было ни огня, ни улыбки.
Прислонившись к дверному косяку, стоял высокий, очень худой грузин с тонким лицом и печальными глазами, в старом пиджаке и, не шевелясь, смотрел на Маргариту.
Это был бродячий художник Нико Пиросманишвили. Он любил Маргариту. Она была для него единственным человеком на свете. Каждая пядь земли, куда не ступала нога Маргариты, казалась ему остатком пустыни. Но там, где сохранялся ее след, была благословенная земля. Каждая крупинка песка на ней грела, как крошечный алмаз.
Так, очевидно, спели бы о чувствах Пиросмана иранские поэты средней руки. Но все равно они были бы правы, несмотря на цветистую речь.
Тот день, когда Нико не слышал ее голоса, был для него самым глухим днем на земле.
Чрезмерная любовь вызывает желания, недоступные трезвому человеку. Кому из людей в их будничном состоянии может прийти в голову дикая мысль поцеловать человеческий голос, или осторожно погладить по голове поющую иволгу, или, наконец, похохотать вместе с воробьями, когда они поднимают вокруг вас неистовый гам, пыль и базар?
У Пиросмана появлялось иногда удивительное желание осторожно дотронуться до дрожащего горла Маргариты, когда она пела, желание одним только дыханием прикоснуться к этому таинственному голосу, к этой теплой струе воздуха, что издает такой великолепнейший, взволнованный звон.
Люди говорят, что слишком большая любовь покоряет человека.
Любовь Нико не покорила Маргариту. Так, по крайней мере, считали все. Но все же нельзя было понять, действительно ли это так? Сам Нико не мог сказать этого. Маргарита жила как во сне. Сердце ее было закрыто для всех. Ее красота была нужна людям. Но, очевидно, она совсем не была нужна ей самой, хотя она и следила за своей наружностью и хорошо одевалась. Шуршащая шелком и дышащая восточными духами, она казалась воплощением зрелой женственности.
Но было в этой ее красоте нечто грозное, и, кажется, она сама понимала это.
Откуда появился Пиросман, никто толком не знал.
Потом, после смерти Пиросмана, Кирилл Зданевич собрал по обрывкам и крохам его биографию, и хотя и неполно, но восстановил его жизнь.
Пиросман родился в 1862 году в кахетинском селении Мирзаки, в семье бедного крестьянина. Еще мальчишкой родители отдали его слугой в грузинскую состоятельную семью в Тифлис.
Пиросман работал слугой до двадцати лет. Потом он поступил кондуктором на Закавказскую железную дорогу. Тогда впервые он начал рисовать. Первой его работой был портрет начальника станции и его жены. Очевидно, то был очень ядовитый и карикатурный портрет, потому что начальник станции, увидев портрет, тотчас выгнал Пиросмана со службы.
Что было делать? Пиросман не мог заниматься тем, чем занималось в то время большинство бедняков в Тифлисе, – ничтожными темными делами, удачным и неудачным обманом. Для этого он был слишком чистосердечен и горд.
Он не был бездельником и тифлисским кинто – полунищим, веселым и наглым. Он не умел, как кинто, делать деньги «из воздуха», из анекдота, из неприличной шутки, из «ишачьего крика».
Одно время Пиросман торговал молоком на задворках майдана и кое-как перебивался на свой нищенский доход. Но и это занятие претило ему.
Он любил живопись, только живопись, и прежде всего разрисовал всю свою лавку, как пышный цветок. Первые свои картины он раздаривал и бывал счастлив, когда их охотно брали.
Иногда он спускал свои картины, или, как их называли на майдане, «картинки», перепродавцам всяких мало кому нужных вещей. Такие вещи, как говорится, были «на любителя» и назывались загадочным иностранным словом «брик-а-бра». По мнению перепродавцев, это было очень красивое и заманчивое слово, тем более что оно было непонятно ни самим перепродавцам, ни Пиросману, ни покупателям.
Но ставка на это слово не удалась. Покупатели сильно удивлялись, даже пугались и картин не брали. Перепродавцы же платили Пиросману за его картины гроши.
И Пиросман голодал. Иногда он присаживался у стены какого-нибудь дома или у ствола старого, как мир, пыльного дерева и сидел тихо, пока у него не переставала кружиться голова.
Пришлось вернуться на родину, в деревню, где на Пиросмана неизбежно должна была обрушиться вся тяжесть бытовых и семейных традиций.
Свой дом в деревне Пиросман тоже расписал сверху донизу, к великому восхищению сородичей и соседей.
Потом Пиросман устроил в этом доме пир. После этого он написал четыре картины, изображающие этот деревенский праздник. Пир был удивителен тем, что, вопреки большинству пиров, на нем не было богачей. Гости стояли, сидели и лежали, высоко подняв рога с вином. Эта живописная и нарядная толчея была написана Пиросманом очень смело.
Наконец Пиросман придумал удачный, как ему казалось, выход. Он вернулся в Тифлис и начал писать яркие вывески для духанов за несколько обедов с вином и несколько ужинов. Часть заработка он брал деньгами, чтобы покупать краски и платить за ночлег.
Но на материалы денег никогда не хватало. Духанщики охотно снимали старые жестяные вывески и предлагали писать на них, предварительно замазав почерневшую раскраску. Но Пиросман не соглашался на это.
Жестяные вывески ржавели. А Пиросман знал, что какой бы он ни был неученый художник, или, как говорят русские, самоучка, но по силе и чистоте красок и рисунка он мог бы, пожалуй, потягаться с некоторыми большими художниками (он видел хорошие репродукции их картин). Может быть, даже с самим Делакруа, – об этом французе ему много рассказывал один гимназист, тоже мечтавший стать художником.
Материала не было, и Пиросман начал писать на том единственном, что находилось всегда под рукой в каждом, даже самом дешевом, духане, – на простой клеенке, снятой со столика.
Клеенки были черные и белые. Пиросман писал, оставляя там, где это было нужно, незакрашенные куски клеенки.
Потом он применил этот прием и для портретов. Впечатление от некоторых вещей, сделанных в такой манере, было необыкновенным.
Я навсегда запомнил его клеенку «Князь», где бледный старик в черной черкеске стоит с рогом в руках на скудной земле. Позади него виден доведенный почти до топографической схемы горный Кавказ. Черкеска князя как раз и была непрописанным куском клеенки глубокого черного цвета, особенно резкого в рассветном тусклом освещении. Я никак не мог понять, какими красками было передано это освещение.
За такие портреты, как этот, Пиросман в лучшие свои времена получал двадцать – тридцать рублей.
Посетителям нравились вывески Пиросмана – прозрачный виноград, тыквы, оранжевая хурма, кудрявые мандариновые сады и богатые натюрморты из разных травок, баклажанов, шашлыков, сыра и жареной рыбы «локо».
Но бесконечно писать эти натюрморты для вывесок Пиросман не мог. Чрезмерность, как всегда, вызывала скуку. Тогда Пиросман начал писать на вывесках многолюдные пирушки на траве, на узких крестьянских скатертях. На вывесках появились люди, пейзаж и животные, главным образом многотерпеливые ишаки.
Иногда Пиросман сообща с хозяином придумывал для духана название. Чем замысловатее было название, тем больше оно нравилось.
Пиросман, усмехаясь, писал: «Шашлыки по-электрически» или: «Одному не надо пить».
Особенно любили такие броские названия в грузинской провинции, где-нибудь в Озургетах, Ахалкалахах или Сагареджо.
Я уже не застал Пиросмана; он умер до моего приезда в Тифлис.
Пиросман оставил огромное живописное богатство. Его картины ряд лет собирал Кирилл Зданевич, собирал буквально по крохам. Он разыскал почти всего Пиросмана, он спас работы прекрасного народного художника, совершил подлинный подвиг и впоследствии подарил собрание картин Пиросмана государству, иными словами – народу.
В 1913 году Кирилл Зданевич встретился в Петрограде с художниками Гончаровой{155} и Ларионовым{156}. Они приехали в Петроград из Молдавии и привезли смешные и очень живописные вывески, найденные ими в Тирасполе.
Вывески очень понравились Кириллу Зданевичу. Вскоре в Тифлисе он увидел еще более живописную вывеску в духане «Варяг» и купил ее. Она была написана неизвестным живописцем Нико Пиросманишвили.
У Кирилла были знакомства с крестьянами, духанщиками, бродячими музыкантами, сельскими учителями. Всем им он поручал разыскивать для него картины и вывески Пиросмана.
Первое время духанщики продавали вывески за гроши. Но вскоре по Грузии прошел слух, что какой-то художник из Тифлиса скупает их якобы для заграницы, и духанщики начали набивать цену.
И старики Зданевичи и Кирилл были очень бедны в то время. При мне был случай, когда покупка картины Пиросмана посадила всю семью на хлеб и воду. Мария бегала на Дезертирский базар продавать последние серьги или последний жакет. Кирилл носился по Тифлису в надежде перехватить хоть немного деньжат, старик брал со своих недорослей плату вперед.
Наконец хмурый Кирилл (чем больше он бывал растроган, тем сильнее хмурился) принес картину, молча развернул ее, сказал: «Ну, каково?» – и картина после этого несколько дней провисела на почетном месте в гостиной.
После этого Кирилл отсыпался от волнений, а потом начиналось паломничество любителей живописи. Из моей комнаты были слышны все разговоры в гостиной, и я вскоре знал назубок истории всех новых картин.
Мое знакомство с Пиросманом началось с первого же дня моей жизни в Тифлисе.
Как я уже говорил, стены моей комнаты были завешаны от верхнего карниза до плинтуса клеенками Пиросмана.
В день приезда я только мельком взглянул на них. К тому же в комнате было сумрачно. Но все же меня все время не оставляла непонятная тревога – как будто меня быстро провели за руку через удивительную, совершенно причудливую страну, как будто я уже ее видел или она мне давно приснилась, и с тех пор я никак не дождусь, чтобы осмотреться в этой стране, прийти в себя и узнать ее во всех подробностях.
Я уснул с тревогой на сердце. Тревогой от незнакомых картин, они молча окружали меня и, как мне казалось, не спускали с меня глаз.
Проснулся я, должно быть, очень рано. Резкое и сухое солнце косо лежало на противоположной стене.
Я взглянул на эту стену и вскочил. Сердце у меня начало биться тяжело и быстро.
Со стены смотрел мне прямо в глаза – тревожно, вопросительно и явно страдая, но не в силах рассказать об этом страдании – какой-то странный зверь, напряженный, как струна.
Это был жираф. Простой жираф, которого Пиросман, очевидно, видел в старом тифлисском зверинце.
Я отвернулся. Но я чувствовал, я знал, что жираф пристально смотрит на меня и знает все, что творится у меня на душе.
Во всем доме было мертвенно тихо. Все еще спали. Я отвел глаза от жирафа, и мне тотчас же показалось, что он вышел из простой деревянной рамы, стоит рядом и ждет, чтобы я сказал что-то очень простое и важное, что должно расколдовать его, оживить и освободить от многолетней прикрепленности к этой сухой, пыльной клеенке.
Внезапно во дворе раздался отчаянный, нечеловеческий крик: «Мацони!! Мацони!!» Так отчаянно, почти рыдая, кричали почему-то все продавцы мацони – кавказской простокваши. Они развозили свой товар по городу, навьючивая переметные сумы с кувшинами мацони на черных и таких пыльных осликов, будто все прохожие долго вытирали о них ноги, как о половики.
Я вздрогнул от крика мацонщика и застонал.
Но дрожь не проходила. Я все сильнее стонал, стараясь сдержаться. Жираф ушел в тусклую клеенку. Белое солнце било в косяки окон, солнце Кахетии, и я увидел около себя испуганную Марию, увидел косо срезанную на ее щеке прядь каштановых блестящих волос, потом увидел Валентину Кирилловну. Она внимательно смотрела на меня поверх очков. Тогда я понял, что меня схватил – теперь уже в Тифлисе – жестокий припадок малярии.
Валентина Кирилловна ушла, а Мария положила мне на лоб холодную мокрую повязку, наклонилась ко мне и прижалась щекой к моим губам, чтобы попробовать, сильный ли у меня жар. И я с благодарностью ощутил это деловое прикосновение, как отдаленную, мимоходом брошенную ласку.
Вскоре я знал уже почти все картины Пиросмана. Они помогли мне понять и полюбить Кавказ – сложную и мозаически прекрасную страну.
Пиросман стал для меня живописной и свободной в своем выражении энциклопедией Грузии, ее людей, ее истории и природы.
Панорамы Кавказа, начиная от магической лунной ночи над Тифлисским арсеналом и кончая выжженной панорамой гор у ног Шамиля, запомнились мне на всю жизнь.
Сотни худых пиросмановских крестьян, веселых виноградарей, бедных и робких женщин, рыбаков, спесивых богачей с толстыми усами, тифлисских дворников с такими же косматыми бородами, как их растрепанные метлы, равнодушных музыкантов, толпились в квартире Зданевичей на слегка пыльных клеенках. Время от времени кто-нибудь вспоминал то об одной, то о другой картине и рассказывал о ней что-нибудь интересное.
Большей частью на картинах Пиросмана были люди, но особое место занимали на них и разные звери – львы, газели, буйволы, жирафы, верблюды и безответные друзья художника – ишаки.
Искусство всегда берет человека за сердце и чуть сжимает его. И человек никогда не забудет этого явного прикосновения прекрасного.
Человек не забудет того состояния душевной полноты и крылатости, которое иногда дает ему одна – только одна – строчка великолепных стихов или картина, пережившая несколько столетий для того, чтобы донести до нас свою красоту.
Если бы я не знал Пиросмана, я бы видел Кавказ недопроявленным, как слабый снимок, без красок и теней, без деталей и контуров и без синеющей мглы его полувосточных и полуевропейских пространств.
Пиросман наполнил для меня Кавказ соком плодов и резкостью сухих красок. Он приобщил меня к этой стране, где одновременно с радостью ощущаешь легкую и непонятную грусть. Так блестят весельем и сдержанной грустью глаза грузинских красавиц. Они обычно быстро и легко исчезают в толпе, эти красавицы, хотя к ним обращена нежная просьба поэта:
Это летнее утро поначалу ничем не отличалось от других. Все так же неумолимо, испламеняя все вокруг, подымалось из Кахетии солнце, так же рыдали ишаки, привязанные к телеграфным столбам, такие же свирепого вида черноусые люди проходили по улицам с большими бидонами и неохотно покрикивали: «Нафт! Нафт!» – предлагая хозяйкам керосин.
Все было как всегда: Кура шумела у мельниц около Ишачьего моста и жидко позванивали полупустые трамваи.
Утро еще дремало в одном из переулков в Сололаках, тень лежала на серых от времени деревянных невысоких домах.
В одном из таких домов были распахнуты на втором этаже маленькие окна, и за ними спала Маргарита, прикрыв глаза рыжеватыми ресницами.
Как в жидком стекле, виднелись над Сололаками гора Давида, фуникулер и могила Грибоедова. Она заросла плющом. Я часто ходил на гору Давида, на священную Мтацминду, и видел там могилы великих грузинских поэтов – Ильи Чавчавадзе{157} и Акакия Церетели. Их лиризм и одновременная склонность к сарказму придали особую глубину грузинской литературе и окружили ее резким и тонким воздухом классической ясности.
Да, но я отвлекся.
В общем, утро было бы действительно самым обыкновенным, если не знать, что это было утро дня рождения Нико Пиросманишвили и если бы именно в это утро в узком переулке в Сололаках не появились арбы с редким и легким грузом.
Груз этот был, очевидно, настолько легок, что арбы даже не скрипели под ним, а только чуть слышно погромыхивали, подскакивали на крупных камнях мостовой.
Арбы были доверху нагружены срезанными и обрызганными водой цветами. От этого казалось, что цветы покрыты сотнями крошечных радуг.
Арбы остановились около дома Маргариты. Аробщики, вполголоса переговариваясь, начали снимать охапки цветов и сваливать их на тротуар и мостовую у порога.
Когда первые арбы отъехали и вся мостовая была уже усыпана цветами, на смену первым арбам появились вторые. Казалось, арбы свозили сюда цветы не только со всего Тифлиса, но и со всей Грузии.
Запах цветов заполнил сололакскую улицу. В окнах появились первые хозяйки. Они торопливо расчесывали смоляные волосы и жадно смотрели на удивительное зрелище: аробщики, самые обыкновенные аробщики, а не легендарные погонщики из «Тысячи и одной ночи», загружали цветами всю улицу, как будто хотели засыпать ими дома до второго этажа.
Смех детей и возгласы хозяек разбудили Маргариту. Она села на постели и вздохнула. Целые озера запахов – освежающих, ласковых, ярких и нежных, радостных и печальных, наполнили воздух. Это был, возможно, запах небесных пространств, оставшийся после медленного прохождения ночной звездной сферы над нашей Землей, или запах зародыша, замкнутого в течение долгого времени под оболочкой обыкновенного цветочного семени, а теперь освобожденного водой, теплом и крепкими солями земли.
С обеих сторон при входе в переулок уже собрались и шумели толпы. Люди глазели на непонятное зрелище.
Непонятность того, что произошло, смущала людей, и потому никто не решился первым ступить на этот цветущий ковер, доходивший людям до самых колен.
Что же касается маленьких детей, то они могли даже заблудиться в этих цветочных грудах. Поэтому женщины, полные восхищения и гордости от сознания тайны, приблизившейся вплотную к их стертым, знакомым до последней трещины порогам (а они знали все трещины потому, что им приходилось часто мыть эти пороги), крепко держали за руки детей и не отпускали их от себя.
Каких цветов тут только не было! Бессмысленно их перечислять!
Поздняя иранская сирень. Там в каждой чашечке скрывалась маленькая, как песчинка, капля холодной влаги, пряной на вкус. Густая акация с отливающими серебром лепестками. Дикий боярышник – его запах был тем крепче, чем каменистее была почва, на которой он рос. Нежная синяя вероника, бегония и множество разноцветных анемон. Изящная красавица жимолость в розовом дыму, красные воронки ипомеи, лилии, мак, всегда вырастающий на скалах именно там, где упала хотя бы самая маленькая капля птичьей крови, настурции, пионы и розы, розы, розы всех размеров, всех запахов, всех цветов, от черной до белой и от золотой до бледно-розовой, как ранняя заря. И тысячи других цветов.
Взволнованная Маргарита, еще ничего не понимая, быстро оделась. Она надела свое самое лучшее, самое богатое платье и тяжелые браслеты, прибрала свои бронзовые волосы и, одеваясь, улыбалась, сама не зная чему. Потом она засмеялась, потом слезы появились у нее на глазах, но она не вытирала их, а только стряхивала быстрым движением головы. Слезинки разлетались от этого в разные стороны и долго еще горели на ее платье.
Она догадывалась, что этот праздник устроен для нее. Но кем? И по какому случаю? И тут она вспомнила, что сегодня, кажется, день рождения Пиросмана. Может быть, все эти горы цветов он прислал ей в память этого полузабытого дня?
Но почему прислал в день не ее, а своего рождения?
В это время единственный человек, худой и бледный, решился переступить границу цветов и медленно пошел по цветам к дому Маргариты.
Толпа узнала его и замолчала. Это был нищий художник Нико Пиросманишвили. Где он только взял столько денег, чтобы купить эти сугробы цветов? Столько денег!
Он шел к дому Маргариты, прикасаясь рукой к стенам.
Все видели, как навстречу ему выбежала из дома Маргарита, – еще никогда никто не видел ее в таком блеске красоты, – обняла Пиросмана за худые, больные плечи и прижалась к его старому чекменю.
– Почему, – спросила Маргарита, задыхаясь, – почему ты подарил мне эти горы цветов в день своего рождения? Я ничего не понимаю, Нико.
Пиросман не ответил. Но Маргарита всем существом, всеми нервами, всей кровью, бившейся в ее теле, поняла и без его ответа силу его любви и впервые крепко поцеловала Нико в губы. Поцеловала перед лицом солнца, неба и простых людей – жителей тифлисского квартала Сололаки.
Некоторые люди отворачивались, чтобы скрыть слезы. Люди думали, что большая любовь всегда найдет дорогу к любимому, хотя бы и холодному, сердцу. Потому что все знали, что Пиросман любил Маргариту, но она совсем не любила его, а только жалела за его горькую и неудачную жизнь.
Историю любви Пиросмана рассказывают по-разному. Я повторил один из этих рассказов. Я коротко записал его, не придавая чрезмерного значения его сугубой подлинности. Пусть этим занимаются придирчивые и скучные люди.
Но об одном я не могу умолчать, потому что это, пожалуй, одна из самых горьких правд на земле, – вскоре Маргарита нашла себе богатого возлюбленного и сбежала с ним из Тифлиса.
Каждому свое
В Тифлисе я жил среди разнообразных людей, но все они обладали одним общим свойством: каждый был полон своими мыслями и своим делом, каждый говорил о своем и мало обращал внимания на остальных, особенно на тех, кого считал чужаком. Бабель уехал в Москву еще до моего приезда в Тифлис, и единственным человеком, с которым мы сходились в мыслях, был Фраерман.
В среде футуристов – писателей и художников я считался не то чтобы чужаком, но «диким»: колеблющимся и непосвященным.
Так обо мне думали, должно быть, потому, что я не ввязывался в споры и одинаково не принимал ни «темно-серую» литературу Шеллеров-Михайловых{158}, ни «сиропные» стишки Ратгаузов{159}, ни заумные «смыки» и «мыки».
Спорил я только с постоянным посетителем дома Зданевичей, поэтом Николаем Чернявским. Он был влюблен в Грузию и потому звал себя не Николаем, а по-грузински – Колау.
Стихи он писал таким способом, что без чертежа почти невозможно было объяснить этот способ. В общем, он сначала писал основной текст стихотворения, даже довольно понятный. Но путем типографских ухищрений и игры шрифтов одно и то же стихотворение превращалось в три.
Достигалось это тем, что стихи печатались вместе, но тремя размерами шрифтов. Если вы читали только слова, набранные самым крупным шрифтом, не обращая внимания на слова, напечатанные средним или мелким шрифтом, то получался один текст.
Если же вы читали слова, набранные средним шрифтом, пропуская остальные шрифты, то получался второй, совершенно самостоятельный текст стихотворения.
Если же вы, наконец, читали самый мелкий шрифт (предположим, петит или нонпарель), то получался третий, неожиданный текст.
Этому головоломному и вгонявшему в отчаяние занятию Колау Чернявский отдавал почти все свое время.
Чтобы довести писание стихов этим способом (такие стихи назывались симфоническими) до возможного совершенства, надо было знать все шрифты и типографское дело. И Чернявский знал его блестяще.
Вообще познания Чернявского в любой области были поразительными, суждения – резкими и нетерпимыми, а преданность всем «левейшим» течениям в искусстве – безграничной.
Он мог в проливной дождь позвонить среди ночи у дверей Зданевичей, разбудить Кирилла и прочесть ему последние дошедшие с севера стихи Хлебникова. При этом просыпалась, конечно, вся квартира, даже старик Зданевич. В силу семейных традиций старик горячо поддерживал все самое «левое» в искусстве.
Чернявский – человек совершенно одинокий – почти все дни напролет проводил у Зданевичей. Он непрерывно что-то рассказывал, доказывал, возмущался и восхищался. Его постоянными слушательницами были Валентина Кирилловна и Мария. Они не только терпели, но и любили и жалели Чернявского. У него изредка бывали припадки эпилепсии. В этих случаях звали на помощь меня.
Чернявский был удивительным разговорщиком. Ему было совершенно все равно, чем занимается его собеседник, лишь бы он его слушал. Когда Мария прибирала комнаты, он ходил следом за ней, натыкаясь на мебель, и не переставал говорить. Или торчал на кухне, когда Валентина Кирилловна готовила свой знаменитый плов, и, внезапно прерывая поток речей о живописи или грузинском правописании, давал ей ценные кулинарные советы.
Изредка Валентина Кирилловна и Мария силой вталкивали Чернявского ко мне в комнату и запирали за ним дверь на ключ. Это Чернявского не смущало, и он с полным самозабвением обрушивался на меня.
Вообще же он был очень незлобивым и беспомощным человеком. Его обманывали и обижали на каждом шагу. В этих случаях его единственными защитниками были Зданевичи.
И вместе с тем он принадлежал к тем чудакам, которые не только украшают, как принято думать, жизнь, а дают ей, кроме того, прочную основу. Стоило Коле не прийти два-три дня, как вся жизнь в квартире разлаживалась, шла кое-как и все начинали скучать.
Много разных людей бывало у Зданевичей. Они заходили кстати и ко мне – и добродушный старый армянский поэт Кара-Дервиш, выпустивший полное собрание своих стихов на двенадцати почтовых открытках, и рыцарски-доброжелательный и мудрый поэт Тициан Табидзе, и художник Терентьев, сделавший первую попытку вынести театр на городские площади, и Василий Каменский{160}, и Чачиков (он тоже переехал из Батума в Тифлис) и режиссер Шенгелая{161}.
Дом с утра до вечера гудел от разговоров. Единственным местом, где можно было отдохнуть, оставалась моя комната. Чаще всего ко мне приходила Валентина Кирилловна, потом начала приходить Мария.
– Я вам не помешала, не-ет? – пела она за дверью, и глаза ее смеялись.
Она сидела тихо, притаившись, нисколько меня не стесняясь, шила или читала, склонив голову так низко, что волосы падали ей на глаза, и вдруг спрашивала меня что-нибудь совершенно неожиданное, например, что значит высокий подъем у ноги и чем он измеряется, или читал ли я книгу Катюля Мендеса «Король-девственник» и правда ли, что Пушкин написал об известной испанской танцовщице Лале Рук изумительные стихи:
Уходила Мария всегда как бы испугавшись. Однажды она принесла мне большую папку с рисунками.
– Это ваши? – спросил я.
– Нет, что вы! Это рисунки одного необыкновенно талантливого, даже, может быть, гениального художника. Увидите сами.
Она ушла, а я начал рассматривать рисунки, сделанные где попало: то на картоне, то на папиросной бумаге, то на листках, вырванных из ученической тетради, то на обороте книжного переплета.
Первой моей мыслью было, что Мария принесла мне рисунки Делакруа. Но нет! Они были так же выразительны, но, пожалуй, более разнообразны по содержанию.
Рисунки были сделаны карандашом, углем, сангиной и акварельными красками.
Я искал подпись автора, но неизвестный художник, видно, не любил оставлять свою фамилию на рисунках. Лишь кое-где он написал свое имя «Зига». Зига значит Сигизмунд. Мария была полька. Я догадывался, что рисунки принадлежат кому-то из ее близких людей.
Вскоре все выяснилось. Я узнал о существовании замечательного художника Зиги, или Сигизмунда Валишевского. Он был братом Марии. При меньшевиках он уехал из Грузии в Польшу, потом недолго жил в Париже и вернулся в Краков.
Там он стал главой молодых художников.
Он любил только живопись, знал только живопись, рассматривал все жизненные события как художник и верил, что только искусство способно преобразить и украсить мир.
Он был художником-рыцарем, подвижником и неумолимо требовательным к себе и к другим, зрелым и ясным мастером.
Он был скромен, прост, добр к людям и жестоко изуродован.
Из-за какой-то тяжелой болезни кровеносных сосудов ему ампутировали обе ноги. Остаток жизни он провел мучительно, лишенный возможности двигаться, но не потерял спокойствия.
Умер Валишевский как подлинный художник. Он расписывал фресками потолки в Вавельском замке в Кракове. Для этого его подымали на лебедке под высокие своды зала, и он писал весь день, лежа на спине.
В конце концов его утомленное сердце не выдержало такого напряжения, разорвалось, и он умер, не выпустив кисти из рук.
Он стал любовью молодой художественной Польши. Он никогда не пытался загнать красоту в свой собственный угол, в свою теоретическую сеть.
Он находил ее, приветствовал и склонялся перед ней всюду, где она существовала.
Широта его художественных взглядов была необычайна. Даже самые нетерпимые, воинствующие и крикливые футуристы и апологеты других столь же шумных живописных течений безропотно склонялись перед его талантом и его чистотой.
Я видел много работ Валишевского. Это было сильно выражено и выполнено (другого определения не нахожу) волшебной кистью и волшебным карандашом.
Ясность и животворная сила его рисунка, как бы мимоходом брошенного мазка, то удивительное свойство, когда незаконченная линия заканчивается нами, зрителями, с полной четкостью, сияние каких-то радостных небес – не обязательно синих, – падавшее на его картоны и полотна, скульптурность лиц, характеры, переданные скупым жестом или позой, портреты, где мужественный гротеск был правдивее, чем сам оригинал, мягкость тканей, волос, освещения, движущейся листвы и праздничные глаза, приблизившиеся почти вплотную к твоим зрачкам, вдруг возникающая на одно мгновение стремительная зарисовка эпохи от карнавалов Венеции до шествия сазандари с бубнами к Метехскому замку – все это ошеломляло и казалось тем удивительнее, что тут же, рядом, с автопортрета смотрел на вас худой, высокий и юный человек, почти мальчик, с серыми застенчивыми глазами.
Он любил Делакруа и, должно быть, работая, всегда беседовал с глазу на глаз с этим одновременно и трезвым и романтически настроенным человеком.
Он любил и понимал краску и ее жизнь на полотне не хуже Делакруа и Ван Гога{163}. Но вместе с тем он покорил своим великолепным реализмом тех, кто видел серию его карандашных портретов всех без исключения солдат и офицеров Первого Кавказского стрелкового полка.
Во время Первой мировой войны Валишевский был призван в армию и служил солдатом в этом полку на Рижском фронте. Во время зимнего затишья где-то около Двинска Валишевский, почти шутя, нарисовал действительно потрясающую серию портретов своих однополчан – от кашевара до пулеметчика и от мухортых запасных солдат-крестоносцев до офицеров всех возрастов и характеров.
Я видел только несколько уцелевших портретов. Что сказать о них? Это была огромная, смелая, виртуозная работа щедрого мастера.
Валишевский почти все эти портреты раздарил. Если бы они были собраны в одном месте, то, мне думается, могли бы затмить своей естественностью и простотой знаменитую галерею героев 1812 года в Эрмитаже. Там было представлено блестящее общество военных аристократов, здесь были простые русские солдаты, толстовские крестьяне из «Севастопольских рассказов» во всей детской простоте их национального характера.
Потом уже, в Польше, где Валишевский испытал трудный путь головокружительного успеха, он, вопреки многим даже сильным волей людям, остался верен своей скромности и неприязни к политической игре, к попыткам использовать искусство для целей властвования и шовинизма.
Он резко отстранил от себя дельцов, пытавшихся создать вокруг него националистический ореол великого, но только польского живописца.
Он думал, что живопись принадлежит всему миру и содружество истинных художников – более значительная связь между людьми, нежели общие национальные интересы.
Одно только упоминание имени Зиги в семье Зданевичей прекращало все споры, все распри и возвращало людям душевное равновесие.
– Зига – святой человек, – говаривала Валентина Кирилловна. – Он остался у нас заложником от времен Петрарки и Боттичелли.
Говорила она это просто, без тени аффектации. В ее слова можно было поверить, может быть, потому, что красочный мир Зиги был так же ясен, как «Примавера» Боттичелли.
Есть проблески сознания, удачные сравнения и удачные соединения как будто бы противоположных мыслей, которые нельзя объяснить, да и не надо объяснять: сердце понимает их, опережая разум.
Еще одна весна
Ко мне почти каждый день приходил Фраерман. Мы оба работали в газетах – он в «Заре Востока», а я в маленькой железнодорожной газете с нескладным названием «Гудок Закавказья».
Изредка вместе с Фраерманом заходила Соня и, разглядывая клеенки Пиросмана, говорила:
– Эти штуки не для нас, не для работниц иглы. Но я чувствую в них человеческое горе и красоту, и поэтому, товарищ Паустовский, не отрицаю и такое искусство. В этом мы сходимся с вами, хотя вы интеллигент и меня просто тошнит от вашей вежливости.
Соня в прошлом была портнихой и потому упорно называла себя «работницей иглы».
Фраерманы меня к себе не могли позвать потому, что жили в проходной комнате у каких-то горских евреев. Соня называла их «грубиянами» и «быками». Несмотря на свои свободные взгляды, она считала их ренегатами за то, что они носили черкески, фальшивые кинжалы, ездили верхом, торговали буйволовыми шкурами и наполовину забыли еврейский язык.
Фраерман быстро подружился с Марией.
Однажды вечером мы сидели в моей комнате – Валентина Кирилловна, Мария, Фраерман, Колау Чернявский и я. Сидели мы, не зажигая огня. Почему-то казалось, что от электрических лампочек делается душно.
В легкой темноте тифлисского раннего вечера по комнате бродили, переплетаясь, струи прохлады и тепла от нагретых снаружи кирпичей.
В соседнем доме сентиментальный юноша в косоворотке пел все тот же романс: «Белых лилий Идумеи белый венчик цвел кругом…»
– Где это Идумея? – спросила Мария.
– В Иудее, – ответил Фраерман. – На моей так называемой потерянной родине. Вы знаете стихи: «И сказал проводник{164}: «Господин, я еврей и, быть может, потомок царей. Посмотри на цветы по сионским стенам, это все, что осталося нам».
– Нет, не имею чести знать, – ответил Коля Чернявский, – и даже не очень стремлюсь узнать, кто их написал.
– Это не важно, – ответил Фраерман. – Интересно совсем другое.
– Что другое? – спросила Мария.
– А то, что в Тифлисе уже началась весна. Но никто ее еще не замечает.
– Пойдем завтра в горы, – предложила Мария.
Все согласились, кроме Валентины Кирилловны. Она заметила, что завтра, оказывается, Пасха.
– Очень ранняя Пасха в этом году! – добавила она и вздохнула.
Валентина Кирилловна ушла, а мы почти весь вечер промолчали. Мне казалось, что между Марией и мной идет какая-то неслышная, неясная, как дрожь листвы на ночных деревьях, беседа, какой-то разговор сквозь сон.
Так началась весна в Тифлисе – безмолвная, просвеченная всеми отблесками солнца, завороженная весна, такая же, какими кажутся нам все весны в мире.
На следующее утро мы втроем – Мария, Фраерман и я – пошли за город по дороге на Коджоры.
Мы шли очень медленно, и так же медленно раздвигался перед нами амфитеатр гор, и горизонт открывал одну туманную даль за другой.
За этими недостижимыми горизонтами высоко в небе, начисто оторвавшись от земли, висели, как облака, нагромождения снежных вершин. Между ними и землей лежал слой лиловатого воздуха.
Внезапно я испытал огромную радость, даже гордость от сознания, что я попал наконец в отдаленный южный край, что все здесь необыкновенно, что эти горы вздымаются на перепутье между двумя морями – Черным и Каспийским – и что снова наши жизни сошлись на клочке этой кремнистой дороги, далекой от наших родных мест, что мы стоим на земле, многократно воспетой Лермонтовым и Пушкиным, Нико Пиросманишвили и Сарьяном{165}.
Почему-то именно здесь, высоко над Тифлисом, на обочине дороги, где цвели анемоны, я почувствовал свою родственность всему интересному на земле.
Я подумал о том, что мне, кажется, повезло в жизни. Может быть, главным образом потому, что я не требовал от нее многого. Конечно, я ждал этого многого и стремился к нему, но мог довольствоваться и малым. Может быть, это свойство больше всего и обогатило меня? Кто знает!
С этого дня Мария стала моим проводником по Тифлису. Все время я испытывал удивительное, как бы двойное чувство жизни. Иначе говоря, жизнь была хороша сама по себе и вместе с тем вдвойне хороша, потому что эту жизнь целомудренно и молча разделяла со мной молодая женщина.
Все в Тифлисе приобрело для меня особую цену и значение. Часто у меня появлялось странное чувство, что весь этот жаркий город и весь этот шумный азиатский люд только декорация для немногословной и грустной пьесы, в которой участвуют всего только два действующих лица – Мария и я.
Мы ходили всюду, мы видели многое, и единственно, на что нам всегда хватало денег, – это ледяная газированная вода. Мы пили ее из запотевших стаканов, облепленных осами. Вода казалась мне серебряной, а губы у Марии блестели от этой воды на солнце, как сок граната. Ее душистое дыхание вдруг доходило до моей щеки или до глаз. И я верил в это короткое мгновение, что счастье должно служить и нам и всем людям, как верная раба.
Мы ни слова не сказали о любви. Между нами все время лежала тонкая и непрочная нить, перейти которую никто из нас не решался.
Тогда же у меня родилось решение уехать из Тифлиса в Москву. Я уверял себя, что я как-нибудь перенесу горечь этой разлуки, но останусь в памяти Марии преданным и чистым.
Кроме того, я успокаивал себя тем, что страшно соскучился по России, по Москве, по любой речонке, где растут кувшинки, по шуму осинового мелколесья.
Все сразу переменилось в жизни. Валентина Кирилловна чаще обычного заговаривала со мной о маме и Гале, о Москве, спрашивала, что я думаю делать дальше: «Ведь нельзя же в такое время бесплодно сидеть в этом провинциальном Тифлисе».
Я понимал, что она все видит, все знает и беспокоится.
Какая-то хмурость вошла в дом. Даже обычный распорядок жизни был нарушен. Жизнью завладела тревога.
И я решил бежать главным образом потому, что по всему своему житейскому опыту знал, что не имею права безраздельно себе доверять. Я жил среди перемен как в родной своей стихии, избегая всего, что могло бы остановить и образумить меня. Должно быть, прав был мой отец, когда, умирая, сказал мне свистящим шепотом: «Боюсь… погубит тебя… бесхарактерность…»
Я понимал, что, по существу говоря, я всю жизнь плыл по течению. Но, как это ни казалось странным мне самому, течение несло меня именно туда, куда я хотел. Но все же я казнил себя за это свойство.
Я быстро уставал от таких размышлений, старался поскорее забыть их и возвратиться к чисто внешней и разнообразной жизни.
Так я и жил последние дни в Тифлисе. Я никому, даже Марии, не говорил, что это – последние дни, хотя знал это. Не говорил потому, что глупо надеялся на судьбу: а вдруг она повернет рукоятку, и сами по себе рухнут все преграды.
Мы исходили вместе весь город, его сады – Ботанический и Муштаид, майданы, окраинный Авлабар за Метехским замком, Сионский и Амчисхатский соборы, берега Куры и знаменитые престарелые духаны (они тогда еще действовали) «Симпатия», «Сюр Кура» и «Тили пучури», что означает «Маленькая вошь».
На майдане толпы кинто, торговцев и извозчиков, составив тесный круг, гоняли по середине этого круга дикого кабанчика. Он визжал и носился с неслыханной скоростью, пытаясь прорваться наружу. Специалисты определяли скорость кабанчика по секундомеру. Шла азартная игра.
Посетители духанов, высунувшись из окон, гоготали, нагоняли ставки и пели разливанные и беспорядочные песни.
Ишаки, мирно развесив уши, брали у Марии с ладони свежую морковку. Из их замшевых ноздрей вырывался теплый ветер.
Медники устраивали такой перезвон, что начинала болеть голова. Мы старались поскорее миновать их ряды, засыпанные блестящими обрезками жести, меди и цинка.
Тяжелыми гроздьями висели над головой прохожих чувяки. Пахло кожей, вином, уксусом и соком алычи. Из свечных лавок – благостно медом и воском. Около Сионского собора старухи, высохшие, как корешки, продавали бессмертники. За трамваями, кривляясь и приплясывая, бежали и били в бубны цыганята. Муши тащили на спинах, покрикивая на прохожих, пахучие тюки табака. Цветочницы в одно мгновение составляли букеты по самому прихотливому вкусу. В духане «Симпатия» на стенах были нарисованы портреты великих людей мира – Льва Толстого, Эдисона, Чарльза Дарвина, Пушкина и Наполеона, но все они были жгучими грузинами, в черкесках с газырями, с огромными кинжалами на боку.
Мы ходили в тенистый сад Муштаид, где цветы пахли сырой землей, и в Ботанический сад, где шумел горный поток, сидели на ступеньках древнего, как самые века, Амчисхатского собора, слушали рокот Куры, звон бубенцов на шее у лошадей и молчали.
Все было сказано без слов. И тоска, острая и неистребимая, – завладевала сердцем все сильнее.
В разгар этой тоски пришло призрачное избавление от нее: редакция «Гудка Закавказья» послала меня в длительную поездку по Азербайджану и Армении. Я ехал в специальном поезде с комиссией инженеров. Они должны были обследовать состояние закавказских железных дорог.
Мгла тысячелетий
В зеленых теснинах Помбакского ущелья по пути из Тифлиса в Эривань поезд брал предельные подъемы и закругления. Он скрипел всеми заклепками, рессорами и буферами и медленно, так медленно, что это было почти незаметно для глаза, проползал по узким, головокружительным мостам.
Все на этой железной дороге было построено на последнем пределе. Поезд шел двойной тягой, с толкачом.
Весьма солидные и изысканно вежливые старые инженеры, ехавшие в поезде, рассказывали мне и старому армянину – доктору, случайно попавшему, так же как и я, в их высокотехническое общество, что после постройки этой дороги инженер – ее строитель – был признан душевнобольным и посажен в сумасшедший дом. А дорога между тем исправно работала, хотя и наводила ужас на пассажиров.
Я никогда еще не ездил с таким комфортом, как в этом служебном поезде.
У меня было отдельное купе. Я все время сидел на столике у окна, и поезд проносил меня над ущельями, где листва была навалена горами и, нагретая солнцем, издавала скипидарный запах.
В разрывах гор открывались облитые росой, кудрявые долины. Их было множество, и, должно быть, ни одна географическая карта не могла вместить все эти долины, даже на самом большом своем листе.
В этих долинах жили, как мне казалось, очень счастливые и патриархальные люди. Они сидели, покуривая, у порога своих домов. Загорелые женщины несли в медных кувшинах свежую воду. Широкие брови оттеняли блеск их зрачков.
Я был уверен, что эти люди счастливы окружающим. Но на беглый взгляд никаких примет этого счастья нельзя было заметить. Нужно было превратиться в слух, в зрение, и тогда становился слышен струнный гул пчел, сопровождавший постукивание вагонных колес, свист суетливых птиц, были видны быстрое полыханье света в травах и стеклянная игра горной воды в потоках, все время пересекавших полотно железной дороги.
Я висел в окне, смотрел и думал. Думал о Марии, и мне уже представлялось, что всем этим пиршествам света, растений и гор я обязан ей. Как будто она привела меня за руку в эти места и смеялась, радуясь моему изумлению.
Я даже не знал, как называлась эта часть Грузии. Может быть, это была уже не Грузия, а Армения? Кто знает?
Я думал о Марии с нежностью и благодарностью, как будто она действительно сама создала этот Кавказ и легко, не задумываясь, подарила его мне.
И чем больше я так думал о ней, тем бесплотнее становилась в моих воспоминаниях Мария, тем туманнее звучал ее голос.
А поезд все дальше уносил меня от Тифлиса. Леса сменились зарослями кустарника и каменистыми осыпями.
Вдруг среди этих кустарников я увидел зрелище, показавшееся мне фантастическим: большую палатку, флагшток и на нем – норвежский флаг. Около палатки были привязаны к деревьям лошади и ходили, о чем-то весело перекрикиваясь, загорелые люди в клетчатых рубахах и серых фетровых шляпах.
Все это напоминало привал героев Майн Рида или Фенимора Купера. Я даже вскрикнул от удивления и бросился в соседнее купе, к старому доктору-армянину.
– Спокойно! – сказал доктор, раскуривая толстую крепчайшую папиросу. – То один из отрядов продовольственной миссии Нансена{166}. Это совсем не ковбои и не охотники за черепами, а счетоводы и доктора. Разве вы не знали, что Нансен работает в Армении?
Я знал это, но не мог себе представить, что «в натуре» это выглядит так экзотично.
Ночью поезд поднялся на плоскогорье, и стало холодно. А утром я вскочил, когда первый квадрат солнечного света пополз, крадучись, из угла в угол купе.
Я бросился к окну и замер. Легкие мурашки побежали у меня по спине. Первым моим побуждением было разбудить всех моих спутников.
Но все еще спали. Сонная тишина вагона прерывалась только легким храпом вежливых стариков.
Я метнулся от одного окна к другому, к третьему, потом изо всей силы схватился за ремень, рванул раму и опустил ее. Вместе с холодным воздухом ворвались в вагон резкость очертаний и чистота красок, – там, снаружи, в древнейшем и девственном небе вздымалась к самому зениту, закрывая весь край земли и половину неба, двугорбая снеговая гора. Это был Арарат. Снега его казались поднятыми вплотную к солнцу. Блеск их наполнял воздух светящейся мглой.
Арарат! Я никак не мог поверить в то, что вижу его воочию. Все мифы древности, все сказки далеких веков были воплощены в этой исполинской горе. Земли, что простирались у ее могучего подножия, не были даже видны: их закрывала толща воздуха. Вершина горы стояла над миром, проступая сквозь мглу.
Я смотрел на Арарат не отрываясь. Я не хотел ни пить, ни есть. Я боялся, что, пока буду этим заниматься, Арарат уйдет, исчезнет, станет невидимым.
Старый доктор неодобрительно качал головой и что-то говорил о моей излишней, даже опасной для здоровья впечатлительности. Но что он мог понимать, этот старик с галстуком-бабочкой!
Тысячелетия прикасались к моим глазам. Я дышал воздухом, нагретым камнями, в изобилии усыпавшими Армению. Камни получали этот жар от огромного солнца, резавшего здесь небесную синеву с уверенностью и силой.
Ему, этому солнцу, молились наши предки, чтобы оно не испепелило их землю, их кожу, их волосы. Реки света лились на землю, и сквозь их блеск доносилось гневное ржание коней и оскорбленный плач ослов.
Здесь был узел религий, преданий, легенд, истории, неотделимой от поэзии, и поэзии, закаленной в пламени истории.
В таком состоянии полусна и полубреда я приехал в Эривань. Еще не видев города, я уже принял его всем существом. Если бы во всей Эривани росла на улице или на каком-нибудь пустыре одна-единственная засохшая травинка, то и этого было бы для меня достаточно, чтобы почувствовать баснословность этих мест, их живую древность и силу.
В те годы в Армении только что начали разрабатывать легкий и пористый камень – артикский туф, окрашенный в мягкие краски: сиреневую, розовую, синеватую, терракотовую, желтую, черную.
Из туфа в первые же месяцы Советской власти были построены в Эривани нарядные дома.
Я проходил около этих пока еще пустых зданий и слышал, как внутри, в стенах из туфа, негромко перекликалось эхо.
Весь день в Эривани я провел совершенно один. Только к вечеру я вернулся в поезд. Мне нравилось мое одиночество в этой незнакомой стране, в выжженном, полупустом городе.
Нравилось тем, что никто меня ни о чем не расспрашивал, что я мог думать о Марии и часто смотреть на север – туда, где уже клубилась ночная мгла, затягивая дороги к Тифлису.
Ночью поезд тронулся дальше на юг, к Джульфе.
Днем мы прошли знаменитое раскаленное Змеиное ущелье, где на рельсах лежало, греясь, много змей, и поезда иной раз из-за этого буксовали.
Старый доктор утверждал, что змеи могут заползти в вагон через какое-нибудь отверстие. Он так напугал проводника, что тот ходил по вагону с маленьким железным ломом и несколько раз без надобности спускал воздух в тормозах, боясь, как бы змеи не залезли в тормозное устройство.
Я видел несколько змей, перерезанных колесами и еще извивающихся. Проводник подсчитывал убитых змей и радовался.
Второй день я не отходил от окна. Мне было грустно, но я был счастлив.
Земля была обработана лишь кое-где. В пустых каменистых полях я видел армянских крестьян, больше похожих на партизан или повстанцев: почти у каждого висела за спиной винтовка. То был давний обычай работать вооруженными из-за курдов.
До 1923 года, когда происходило все описанное в этой книге, курды делали опустошительные набеги на наши пограничные с Турцией и Персией земли два раза в год: осенью, чтобы обеспечить себя награбленным на зиму, и весной, чтобы прокормиться летом. Весенний набег считался легким и не таким опустошительным, как осенний.
Курды чаще всего переплывали пограничную реку Аракс на своих поджарых лошадях. Поэтому в излюбленных местах курдской переправы стояли наши заставы, а на площадках вагонов размещалась охрана.
Но мы курдов не видели. Видели только жаркую и быструю реку Аракс с розовой мутной водой. Вода была окрашена в цвет окрестных гор.
Александр Македонский{167} построил во время похода на Индию дорогу через Армению и мосты на Араксе. У одного из этих мостов мы вышли из вагона.
В знойной тишине звенели, как маленькие дрожащие струны, пустынные жаворонки.
В трещинах исполинских плит, которыми была вымощена дорога, желтела щетка выгоревшей травы и бегали большие ящерицы песчаного цвета.
Мост был в свое время перекинут гигантским прыжком с одного берега реки на другой. Середина моста, то место, где был так называемый «замок», обвалилась.
Старые вежливые инженеры долго смотрели на мост, отковыривали окаменевшую глину между его затесанными камнями, искали следы деревянных подпорок, но ничего не нашли.
– Непостижимо! – говорили они и качали головами. – Даже наш Белелюбский{168} не построил бы такой мост. Строительное чудо! Шедевр!
Десятки ящериц смотрели во все глаза на редких посетителей и тяжело, взволнованно дышали. Ветер носил по мосту то вперед, то назад шершавую пыль – горячую пыль земли фарсистанской.
Горы туманились от зноя. На персидском берегу на крыше низкого глинобитного дома стояли голые персидские дети, и солнце блестело на их коричневых животах, как на маленьких медных котлах.
– Непостижимо! – вздыхали инженеры. – Сверхъестественно!
Пока инженеры восхищались, я сел на обтесанный камень у входа на мост. Камень изображал бесстрастную морду льва. Глаза у льва были желтые от лишаев. Это придавало льву совершенно живой вид.
Я хотел выкупаться в Араксе, но на меня закричали и старый доктор, и инженеры, и даже проводник. Во-первых, в воде Аракса водится какой-то червь, тонкий, как волос; во-вторых, от воды Аракса можно заболеть проказой, и, в-третьих, персидские пограничники – аскеры (они жили, очевидно, в том доме, где сияли начищенными животами их дети) могут открыть по мне огонь.
В самом слове «проказа» было для меня что-то древнее. Слово это как будто поблескивало тусклой слюдой, как здешние горячие камешки.
Я не стал купаться, но все же опустил в тепловатую воду свои руки. Когда они высохли, то на них оказался тончайший, как пудра, слой коричневой пыли.
Днем поезд остановился в ущелье с крутыми откосами.
– Ну, – сказал мне старый доктор, – тут вы будете отдуваться и за себя и за меня. Там, вверху, – он показал прямо в небо, – стоит на отвесной скале собор, но добраться до него можно только по лестнице. Она вырублена внутри скалы, в пещере. Боюсь, что, кроме вас, проводника и инженера Баркина – самого любопытного человека в Грузии, – никто не решится лезть по этой лестнице. Да еще в такую жару.
Старик оказался прав. Полезло нас всего трое.
Вход в пещеру зарос колючими кустами. Мы продрались сквозь них и при свете электрического фонарика нашли первые ступени лестницы, уходившей вверх, в темноту.
Ступени были крутые и стертые. Но душно не было, – нам в спину все время дул, как в трубе, холодноватый ветер.
Вскоре вверху появился просвет, и мы, изнемогая и чертыхаясь, добрались до верхнего отверстия этого подземного хода и вылезли в алтаре собора, залитом потоками солнца.
В этом резком, как бы мертвом солнце летали под куполом собора ласточки. Фрески на стенах, будто сделанные только вчера, отблескивали золотыми венчиками святых и бирюзой и пурпуром их евангельских одежд.
Мы вышли в крошечный двор при соборе. Собор стоял на вершине отвесной скалы. Простым глазом были видны струйки горячего воздуха, летевшие около нас к небу и окружавшие собор зыбкой, дрожащей стеной.
Безмолвие лежало окрест. Воздух был так чист, что ничто не могло нарушить это безмолвие. Никакой звук не мог пробить эту толщу зноя, и можно было только с завистью представлять себе, как где-то за двести километров отсюда набегает на берега прохладная черноморская вода.
В соборе мы не нашли ни капли воды. Что пили обитатели этой неприступной крепости, понять было нельзя.
Мне повезло. В алтаре на окне лежала покрытая крепкой пылью маленькая книга. Я взял ее. Вернее, я осторожно отодрал ее от мраморного подоконника и открыл.
Пересохшие страницы затрещали. И я увидел латинский текст молитв и высохший цветок незабудки.
Я взял молитвенник. Мне захотелось подарить его Марии.
В ограде собора валялось среди жестких колючек много тонких мраморных плит с узорчатой резьбой.
Я подобрал одну разбитую плиту из розового мрамора. На ней была вычеканена виноградная кисть, голова единорога и сложная вязь армянских слов. Когда солнце падало на эту плиту, она просвечивала нежной кровью, как просвечивает на свет детская ладонь.
Я взял эту плиту. Мы с проводником дотащили ее до моего купе. Я хотел тоже подарить ее Марии. Если бы можно, я подарил бы ей весь этот собор, где столетиями не было слышно человеческого голоса, а сейчас ласточки сердито щебетали вокруг нас, требуя, чтобы мы поскорее ушли.
Я смутно помню Нахичевань в пыльных тутовых деревьях – город, такой удаленный от России, что трудно было даже представить себе, что на свете существует Москва.
Помню Джульфу, где за железнодорожным мостом была уже Персия, а посередине моста, где кончалась наша территория, сидели босые персидские солдаты и торговали воблой и табаком.
На обратном пути поезд шел медленно, подолгу стоял на каждой станции. Инженеры ко всему придирались, всё проверяли, вгрызались во все мелочи станционной жизни.
Старый доктор спал, а я, изнывая от духоты и зноя, целыми днями сидел в станционных садиках, в сомнительной тени от старого тутового дерева, читал единственную книгу, отобранную у старого доктора, – «Распознавание и способы лечения тропических болезней», – и время от времени дремал.
Изредка на станцию лениво втягивался товарный поезд, и тогда становилось вдвое жарче от раскаленного паровоза и лившегося из тендера маслянистого кипятка.
Я сидел на станциях почти до вечера и удивлялся собственному терпению. Но двигаться было почти невозможно.
Цинковый бак на платформе с остатками теплой воды протекал, и к лужице около бака все время бегали, чтобы напиться, маленькие ящерицы.
Я с тоской читал на товарных вагонах надписи: «Осмотрен в депо станции Тверь» или: «Осмотрен в депо станции Владимир».
Там, в Твери и Владимире, в запущенных городских садах, может быть, сейчас идет даже дождь, настоящий, спокойный дождь, и ему никто не мешает шуметь, стучать по листьям, увлажнять рыхлые клумбы с петунией и сбегать ленивыми ручейками в реку Клязьму, что издавна славилась своей прозрачной водой.
Иногда я всматривался в пологие горы на горизонте. У них не было, должно быть, имен. Да и следует ли давать имена бесконечным горбам сухой, слежавшейся из щебенки и глины земли? Каким нужно быть доверчивым мечтателем, чтобы, как Александр Македонский, идти в эти безрадостные пустыни с полной уверенностью, что за мертвым маревом текут огромные реки – Инд и Ганг и еще десятки других рек и несут бездонную и темную воду в океан среди лилий, лотосов и храмов, причудливых, как постройки термитов.
Иногда над горами проносился вихрь, и вершины начинали куриться столбами красной пыли.
Потом поезд начал подыматься из сожженной котловины на плоскогорье (или «плато», как говорили инженеры), где уже задувал ветер и по ночам было холодно.
Дорога шла вдоль берега реки Арпачай.
Однажды в конце дня поезд остановился у самой реки. Мы увидели на том берегу базилики, черепичные армянские купола и полное безлюдье. То были руины древней армянской столицы – города Ани, одного из подлинных чудес света.
Инженеры вызвали с турецкого берега начальника пограничного кордона – турецкого офицера.
Он небрежно, рисуясь, прошел к нам по висячему мосту, похлопывая стеком по лакированным крагам. За ним шли солдаты, похожие на дервишей или прокаженных, – только какие-то медные бляшки на плечах свидетельствовали об их воинском звании.
Офицер разрешил нам осмотреть Ани, но только до захода солнца. Это его решение вызвало радостное возбуждение среди солдат. Запахло «бакшишем» – чаевыми.
Я смело пошел вслед за офицером по висячему мосту на турецкий берег. Около каждого из нас шел позади аскер, изредка придерживая нас за локоть или останавливая раскачавшиеся веревочные поручни.
Мост был связан из узких планок. Расстояния между ними вполне хватало, чтобы провалиться в Арпачай при первом же неудачном шаге.
Мост дрожал, перекашивался, ложился набок и с каждым шагом раскачивался все сильнее, как качели, грозя просто вышвырнуть нас всех в воду. А до воды было метров двадцать.
Я дошел до половины и остановился – мост ударил меня снизу по пяткам и швырнул в сторону.
Солдат схватил меня сзади и закричал. Тотчас же остальные солдаты начали исполнять на мосту какой-то сложный танец, чтобы остановить размахи моста. При этом солдаты, красные от напряжения, с дико вытаращенными глазами, кричали так зверски, как во время атаки.
Твердая земля на берегу показалась мне великолепнейшим прибежищем от всех бед, в особенности от землетрясения.
В Ани в маленькой казарме жили солдаты, а в городе – всего несколько пастухов. Они пасли овец среди развалин и ночевали в любой из базилик по выбору.
Что такое Ани? Есть, конечно, вещи, которые мы не в силах передать, как бы ни старались. Как передать такое безмолвие, что издалека слышен сыплющийся шорох овечьих копыт и стук созревших семян в коробочках давно высохших цветов, как в детских погремушках?
Как передать тени от ласточкиных крыльев на плитах папертей, заросших обыкновенным одуванчиком?
Среди безлюдья, ветра, тишины живут только травы, фрески и небо, похожее на фрески.
Облака стоят, как выписанные знаменитым итальянским мастером, и между облаков иногда падает на землю тот знаменитый косой и единственный солнечный луч, который любил изображать Дорэ{169}.
Этот луч еще с раннего детства стал принадлежностью картин из Ветхого Завета. Увидев его над выжженными площадями Ани, я сразу же понял, что попал в места такие древние, как сама Земля.
Солнце садилось. Нам надо было возвращаться.
С каким бы наслаждением я переночевал в этих развалинах, вглядываясь в круговращение звезд и даже завидуя самому себе.
Что я расскажу об этом Марии? О созвездии Пса – путеводном созвездии для паломников, идущих ко гробу пророка. Вот оно – низкое, огнистое, горящее над множеством пространств этой скупой и милой земли.
Может быть, его видно из окна той комнаты, где спала Мария. Но для этого нужно, чтобы ветер откинул занавеску, чтобы Мария что-то быстро сказала во сне, на мгновение открыла глаза и свет звезды вошел бы в ее зрачки как напоминание.
Обратно идти через висячий мост было уже не так страшно. Помогала темнота.
Кричали турки, где-то зарыдал, прощаясь с нами, ишак, и запах полыни показался мне самым прекрасным запахом в мире. Это был запах скитаний и горечи. Так я подумал тогда и тут же обозвал себя хлипким символистом.
Все это выдумки!
Поезд шел Помбакским ущельем всю ночь. Ущелье казалось нагромождением плотной темноты. Но время от времени эта темнота просвечивалась десятками огней, становилась легкой, невесомой, и свет фонарей освещал с изнанки сотни листьев самых разных форм.
Я не спал. Я окончательно решил остаться в Тифлисе. Мне казалось невозможным жить вдалеке от Марии. Я был готов на все – пусть она ни разу не взглянет на меня, но, может быть, я вдруг услышу утром, днем или вечером ее отдаленный голос. Пусть одно и то же небо простирается над нами, и вот это облако, похожее на голову рыцаря в забрале, будет одинаково видно и ей и мне.
В Тифлис поезд пришел среди дня, в самое тяжелое время, когда жара превращает в серый цвет все краски и грязнит воздух.
Я очень волновался, когда ехал на извозчике к Зданевичам. У меня в ногах на пролетке лежала мраморная плита неслыханной красоты.
Переулок, где жили Зданевичи, был пуст, расплавлен солнцем. Окна в их квартире были закрыты. Когда я позвонил у дверей, мне долго не открывали. Это почему-то испугало меня. Извозчик втащил на площадку мраморную плиту, сказал: «Кому привез этот памятник? Бабушке или дедушке? Дорогой подарок, кацо!»
Я позвонил снова. Из-за двери Валентина Кирилловна спросила:
– Кто?
Я назвал себя.
– А я вас сегодня не ждала, – сказала она, открывая дверь.
В темной передней мутно горела электрическая лампочка, и в ее свете смотрел на меня со стены встревоженный, испуганный жираф, будто хотел предупредить меня о какой-то беде. Во всех комнатах было темно.
Валентина Кирилловна меня сегодня не ждала. Это я понимал прекрасно. Но где Мария? Ждала ли она меня сегодня? Почему в квартире темно и никого нет?
– Что случилось? – спросил я.
– Ничего не случилось, – ответила Валентина Кирилловна, и мне показалось, что она усмехнулась. – Просто никого нет дома. Мария уехала на два месяца в Боржом. Врачи предписали ей лечение в Боржоме. А что это за надгробный памятник?
– Это прекрасная вещь, – ответил я. – Ей пятьсот лет, не меньше.
– Пусть извозчик отнесет ее на террасу, а то тут все будут о нее спотыкаться, – сказала Валентина Кирилловна и, повернувшись, пошла к себе. На пороге она обернулась и сказала: – Тем более что это все – ваши выдумки…
Я вошел в свою комнату и почувствовал, что, пока меня не было в Тифлисе, комната умерла.
Я осмотрел стол. Я был почему-то уверен, что увижу на нем хотя бы самую маленькую записку от Марии. Но записки не было.
За окном знакомый медоточивый тенор запел о лилиях Идумеи. Я взглянул на часы. Было половина первого – самый слепой и знойный перевал дня.
– Идиот! – громко сказал я о медоточивом певце.
Мне захотелось заплакать, но я сдержался из последних сил. Потом эти невыплаканные слезы легли на меня такой тяжестью, будто вся гора Давида навалилась мне на грудь и дает дышать только в одну сотую дыхания.
Я вышел. Зной обливал меня, как горячий чай. Но я от него не прятался и шел по солнечной стороне улицы. Я прошел по Верийскому дрожащему мосту над Курой, зашел в «Гудок», сказал, что завтра уезжаю на север, попросил меня ни о чем не расспрашивать и вышел. Я пошел в сад Муштаид и долго сидел в тени на скамейке, потом сел прямо на землю, – она была холодная в тени.
Я набирал эту холодную землю в ладонь и прикладывал ко лбу.
Мне хотелось стонать от резкой до боли, совершенно ясной мысли, которая до этого дня еще никогда не приходила мне в голову, стонать от сознания своего полного, невыдуманного, а действительного и потому отвратительного одиночества, от сознания, что я не нужен никому: ни Марии, ни так называемым друзьям, ни самому себе.
Спазма, как всегда, стиснула мне горло. Ну, а мама? А Галя? Только они могли меня простить. Если бы было можно, то я позвал бы маму, попросил у нее помощи и защиты. И, может быть, я и вправду крикнул что-нибудь, потому что ко мне подошел бородатый человек с огромной медной бляхой на груди, должно быть сторож, и сказал:
– Ты больной? Уходи отсюда. Тут дети гуляют, – играют.
И я ушел. Теперь я точно знал, что нужно делать: ехать в Киев, только в Киев, к маме и Гале, и только это сможет успокоить меня, только это.
Да откуда я взял, откуда выдумал, что связан с Марией каким-то общим волнением и общей тревогой? Чепуха! Да, я был связан, но она, может быть, даже не подозревала об этом. Это все выдумки! Не более как мои выдумки. Пусть будет так!
Тифлисский вокзал находился невдалеке от Муштаида. Я пошел на вокзал, взял билет на местный поезд до Боржома и уехал.
Я ничего не видел за окнами и заметил только, что поезд идет необыкновенно быстро, так быстро, что трудно было усидеть на деревянной скользкой скамье.
В Боржоме я вышел, тут же взял билет на обратный поезд и к вечеру вернулся в Тифлис. Кроме вокзальной площади, я ничего в Боржоме не видел.
Открыла мне Валентина Кирилловна.
– Вы сегодня что-нибудь ели? – спросила она.
– Да… Спасибо… Я завтра уезжаю в Россию. Утром я зайду отдать долг и попрощаться.
Я быстро вошел в свою комнату и закрыл изнутри дверь на ключ. Слащавый идиот опять пел свой романс о белом венчике лилий.
Со стены смотрел испуганно и тревожно жираф, и мне казалось, что губы у него дрожат, как у детей, собирающихся заплакать.
Не раздеваясь, я лег на тахту. Под подушкой что-то зашуршало. Я поднял ее и увидел записку. Она была от Марии. В ней была всего одна фраза:
«Благословляю вас. Прощайте».
Всю дорогу до Киева я думал об этих словах и пытался растолковать их самому себе. Во всяком случае, эти слова не принесли мне ни крупицы утешения. «Все это выдумки!» – повторял я навязшие слова.
Да, но что же делать, если без выдумок тоже нельзя жить?
Ялта – Таруса на Оке
1959–1960
Книга шестая
Книга скитаний
Воспоминанье слишком давит плечи,
Я о земном заплачу и в раю…{170}
Марина Цветаева
Последняя встреча
Я очень долго добирался от Тифлиса до Киева.
В Киев поезд пришел к вечеру. Был широкий разгар весны, цвели каштаны, на куполах Владимирского собора горел горячий блеск заката, нарядно шумел Крещатик. И тем беднее и опустошеннее показалась мне комнатка, где жили мама и сестра Галя.
Прошло больше двух лет с тех пор, как я уехал из Киева в Одессу, а потом в Тифлис. За это время мама и Галя постарели, но стали спокойнее.
При каждой возможности я посылал маме деньги и все время мучился, что денег мало и доходят они с перерывами. Но мама не жаловалась. Я убедился, что характер у нее действительно был стоический.
– Костик, – сказала она после первых слез и первых беспорядочных расспросов, – мы с Галей нашли прекрасный способ жить без больших затрат и огорчений.
– Какой же это способ?
– Посмотри на комнату – и ты поймешь.
Я осмотрел комнату. Стены ее были желтые, как в больнице, обстановка нищенская – две жидкие железные кровати, старый шкаф, кухонный стол, три расшатанных стула и висячее зеркало. Все это было покрыто серым налетом, будто от пыли. Но никакой пыли не было. Серый цвет вещам придавали старость и беспрерывное вытирание их тряпками.
– Знаешь, – сказала Галя и болезненно улыбнулась в сторону окна, откуда падал солнечный свет. – Знаешь, мы даже сделали с мамой ремонт.
Я еще не успел спросить маму наедине, как у Гали со зрением, но понял, следя за ней, что она уже настоящая слепая, совсем слепая. Мама показала мне глазами на Галю, торопливо вытащила из рукава старой вязаной кофточки маленький платок и прижала к глазам.
– Мама, – спросила испуганно Галя. – Ты что? Плачешь?
– От радости, – ответила мама срывающимся голосом. – Костик приехал, и мы опять все вместе. Мы с тобой опять не одни.
– Костик приехал, – медленно повторила Галя. – Приехал! Мой брат, – неуверенно добавила она, как будто представляя меня кому-то. – Да, мой брат!
Она помолчала.
– Костик, ты знаешь, мы долго спорили с мамой, в какой цвет выкрасить стены. И покрасили в оранжевый. Правда, красиво?
– Очень красиво, – ответил я, глядя на стены, покрытые дешевой желтой краской. – Очень.
– Мама говорит, что даже в пасмурный день к нам в комнату как будто светит солнце. Правда?
– Правда, – ответил я – Очень яркий и радостный цвет у этих стен. Где вы только нашли такую хорошую краску?
– Я уже ничего не вижу, – сказала Галя и опять улыбнулась не мне, а куда-то в сторону, – но я чувствую, как от стен просто тянет теплом.
Она медленно пошла ко мне, придерживаясь за грубый кухонный стол. Я поднялся ей навстречу. Она дотронулась до моих пальцев, провела кистью по моей руке к плечу и коснулась щеки.
– Ой, какой ты небритый! – сказала она и засмеялась. – Я наколола пальцы. Я уже не делаю цветов из материи. Не вижу. Теперь наша соседка-вязальщица дает мне сматывать гарусные нитки в большие клубки. Она мне платит по два рубля за каждый клубок.
– Когда Галя наматывает гарус, – сказала мама, – я ей читаю. Теперь ты понял, Костик, как мы живем?
– Да, я понял, – ответил я, стараясь не выдать своего волнения. – Я все понял.
– Мы, – сказала мама, – продали все лишнее, все ненужные вещи.
– На Житном базаре, – добавила Галя. – Зачем нам, например, самовар. Или старые бархатные альбомы с фамильными фотографиями. У нас их было четыре. Они лежали много лет на хранении у пани Козловской.
Пани Козловская была ветхая и тихая старушка – давнишняя приятельница мамы.
– Все карточки я оставила, – заметила, как бы оправдываясь, мама.
– Маме повезло. Она и не думала, что кто-нибудь купит теперь эти альбомы.
– И кто купил, представь себе, – вмешалась мама. Она оживилась и даже засмеялась. – Какой-то монах из Братского монастыря. Он взял все четыре альбома. Ему они были нужны. Вот догадайся, Костик, зачем?
Я, конечно, не мог догадаться.
– Бархатные переплеты очень тяжелые, – объяснила мама. – Из них получились хорошие, прямо роскошные покрышки для Библии. Монах их распродал по сельским церквам, а мы избавились от хлама. Так спокойнее жить. Я всю жизнь говорила, что вещи берут у нас все силы и мучают нас. Они заставляют нас работать на себя, как поденщиц. В общем, – сказала мама, как будто прекращая затянувшийся спор, – так легче жить. Мы свели свои потребности к самому малому.
Мама сказала это с легким оттенком гордости.
– А что со старухой? – спросил я Галю. – Той, что покупала у тебя цветы для Байкова кладбища?
– Умерла эта старуха. Я сделала на ее могилу венок из одних только ромашек.
– Замечательный венок, – вздохнула мама. – Последний. Я сейчас разогрею обед, а потом ты нам все расскажешь про себя. Хорошо? Посидите пока в комнате у Амалии. Или на балконе, на воздухе.
Я взял Галю под руку и повел ее через комнату Амалии на балкон. Амалии не было дома. Галя шла по полу, как будто переходила мелкую реку, нащупывая ногой дно.
Мы сели с ней на балконе. Он выходил в сторону Ботанического сада. Изредка по Бибиковскому бульвару проползал, повизгивая, трамвай. На площади Владимирского собора меж больших булыжников уже выросла высокая трава.
Приближался вечер. Закатный свет, отраженный множеством оконных стекол, наполнял улицу.
– Костик, – спросила Галя, – ты правда напечатал несколько своих рассказов?
– Откуда ты знаешь?
– К нам как-то зашла Гильда, сестра Эммы Шмуклера. Ты ее помнишь?
– Как же! Такая длинная, нескладная.
– Ну, сейчас она, говорят, красавица. Не узнаешь. Так вот она и рассказала об этом. Что же ты нам их не прислал?
– Я привез их с собой.
– Так слушай, – таинственно сказала Галя, – ты положи их на мамину постель, на подушку, а сам ничего ей не говори. Ты знаешь, теперь это ее единственная мечта, чтобы ты стал настоящим писателем. Недавно мама сказала про тебя, что если ты сделаешь хоть немного хорошего для людей, то этим искупишь – так она и сказала: «искупишь» – все ошибки отца. Скажи, пожалуйста, – то, что ты пишешь, может помочь людям, чтобы они меньше страдали? Как ты думаешь?
Хлопнула парадная дверь.
– Спрячься, – быстро сказала Галя. – Это Амалия. Вот она удивится!
Я спрятался за кадку с большим олеандром. Амалия вошла, остановилась перед трюмо, подняла руки и устало поправила свои все еще красивые волосы.
– Я сижу у вас, – сказала Галя, – потому что мама жарит котлеты. И у нас чад.
Амалия усмехнулась и спросила:
– А где же он?
– Кто? – испуганно спросила Галя.
– Где он? – повторила Амалия. – Костик. В передней висит его плащ.
Тут она увидела меня, схватила за руку, вытащила на середину комнаты, обняла за шею и поцеловала несколько раз крепко и звонко, как целуют крестьянки.
Я сделал так, как мне посоветовала Галя, – положил вечером на мамину подушку три моих рассказа, вырезанных из газет, где они были напечатаны. Мама в это время возилась на кухне.
Я, конечно, струсил и тайком ушел в город. Бродя по улицам, я все время гадал – прочла ли мама рассказы или еще нет. Наконец я не выдержал и вернулся домой.
Дверь открыла мне мама. Она взяла в ладони мою голову и крепко поцеловала в лоб. Глаза у нее были заплаканы.
– Если бы ты знал, – сказала она, – какие вещи я сейчас прочитала! Спасибо тебе, Костик. От всех нас – и от отца, и от братьев, и от нашей несчастной Гали.
Мама не могла говорить. Она села на табурет в передней.
– Дай мне воды, – попросила она.
Я принес из кухни кружку воды и дал ей напиться.
– И это мой сын, – сказала она почти шепотом и погладила мои руки. – Мой Костик!
– Ну что ты, мама! – сказал я, пытаясь ее успокоить. – Я останусь здесь, с вами.
– Не надо! – твердо ответила мама. – Иди своей дорогой. Только смотри – не забывай нас.
Внезапно она сжалась в комок и зарыдала. Я обнял ее и прижал к себе.
– Если бы был жив отец, – сказала она, глотая слезы. – Если бы он был жив! Как бы он был счастлив. Он был чудный человек, Костик. Самый чудный человек на свете. Я ему все простила. И ты его прости. У тебя была тяжелая молодость. Теперь мне и умереть не страшно. Но обещай, что, если я умру, ты возьмешь к себе Галю.
Я обещал ей это, но все случилось совсем не так, как ожидала мама. Она не увидела даже моей первой книги. Жизнь распорядилась с ней и с Галей круто и несправедливо.
Как-то летом я уехал в Поти, в Колхиду, готовился писать книгу о субтропиках. В Поти я заболел каким-то «синим» сыпным тифом, долго лежал в больнице, долго боролся со смертью, а в это время мама умерла в Киеве от воспаления легких. Через неделю умерла Галя. Без мамы она не могла прожить даже нескольких дней. Отчего она умерла, никто не знал, и выяснить это не удалось.
Амалия похоронила маму и Галю рядом на Байковом кладбище в страшной тесноте сухих заброшенных могил.
С трудом я нашел их могилы, заросшие желтой крапивой, – две могилы, слившиеся в один холм, с покоробленной жестяной дощечкой и надписью на ней: «Мария Григорьевна и Галина Георгиевна Паустовские. Да покоятся с миром!»
Я не сразу разобрал эту надпись, смытую дождями. Из трещины в дощечке тянулся бледный, почти прозрачный стебелек травы. И странно и горько было думать, что это – всё! Что этот стебелек – единственное украшение их тяжкой жизни, что он – как болезненная улыбка Гали, как маленькая слеза из слепых ее глаз, застрявшая на ресницах, – такая маленькая, что никто и никогда ее не увидит.
Я остался один. Все умерли. Мать, давшая мне жизнь – не напрасную и не случайную, – лежала здесь, под глинистой киевской землей, в углу кладбища, рядом с полотном железной дороги. Сидя у могилы, я чувствовал, как содрогалась земля, когда проносились тяжелые поезда. Должно быть, и там, в могиле, мама тревожилась обо мне, как тревожилась в жизни. Она часто смотрела мне в глаза и спрашивала:
– Ты ничего от меня не скрываешь, Костик? Смотри, не скрывай. Ты же знаешь, что я готова пойти на край света, чтобы тебе помочь.
Полевая тишина
Тогда, в августе 1923 года, я вернулся из Киева в Москву.
Денег у меня оставалось на месяц полуголодной жизни. Надо было искать работу в московских газетах. Но вместо этого я, измученный недавней закавказской жарой, мечтал о сырых рощах и прохладных реках Средней России, мечтал непременно съездить, хотя бы ненадолго, в какую-нибудь деревенскую глушь. Кроме того, я хотел, начиная новую полосу жизни, попрощаться – и теперь уже навсегда – со старой деревней. Я знал ее воочию, а не только по рассказам Чехова и Бунина.
Попрощаться мне помог случай. В Москве я на время поселился в Гранатном переулке у прежней своей хозяйки, в комнате жильца, уехавшего в командировку.
В квартире все еще жила моя соседка по семнадцатому году – веснушчатая курсистка Липочка. Она никак не могла окончить медицинский институт.
К Липочке, как и пять лет назад, приезжали из рязанской деревни земляки, привозили мед и яблоки, а увозили все, что Бог дал раздобыть в Москве, – даже паклю и пачки старых газет на раскурку.
Отец Липочки был сельским священником под Рязанью. Это обстоятельство Липочка тщательно скрывала, но я случайно узнал правду об этом еще в семнадцатом году. При мне Липочка насмешливо называла отца «мой попик».
К нему, по совету Липочки, я и поехал пожить две-три недели.
Ока разделяет Рязанскую область на две обособленные части: северную – лесистую и болотистую – и южную – полевую и овражную. Село Екимовка, где жил отец Липочки, лежало в южной части, среди бесконечных полей.
Я был огорчен, что еду в безлесные места. Но как только я вышел из теплушки на полустанке Стенькино за Рязанью, то тут же забыл о своем огорчении.
В лицо мне подуло теплым воздухом ржи. Полевая тишина, не задетая ни единым звуком, кроме отдаленного гудка уходящего поезда, подошла вплотную.
Я немного постоял под старыми вязами на платформе и услышал давно позабытый запах дегтя от тележных колес. К одному из вязов была привязана телега. Серый мерин дремал, подрагивая сухой кожей.
Телегу выслал за мной отец Липочки. Возница – мальчишка лет двенадцати по имени Влас – конопатый и хмурый, – всю дорогу старательно хлестал мерина по впалым бокам. На мои вопросы Влас отвечал только одно: «Откуль я знаю».
Мы долго ехали молча. Потом Влас собрался наконец с духом и сказал:
– Батюшка наш, отец Петр, вдовый. Старенький и глуховатый. А мерина этого ему ссудил председатель. Из комитета бедноты.
Вскоре над шелестящим морем ржи возникли белая колокольня и зеленый купол церкви. Крест на куполе покосился и был готов вот-вот свалиться. На нем сидели, толкаясь и склочничая, воробьи.
Дом отца Петра стоял за селом, вблизи церкви. Он так зарос бузиной и одичалой сиренью, что виднелось только крылечко.
Отец Петр вышел в старом чесучовом подряснике. Низенький, с тощими косицами седых волос на затылке, он заглядывал мне в лицо водянистыми глазами и говорил, шепелявя:
– Спасибо, не побрезговали навестить старика. Житьишко у нас скудное. Но, как говорится, «буду есть мякину, а Екимовки не кину». Отдыхайте. Воздух у нас богатый.
И я поселился в доме, где весь день копошился глуховатый старик.
– Уж и не знаю, – говорил он тоном заговорщика, – почему не тронули меня, раба божьего? Или снизошли к престарелости моей? Или оттого, что приход этот – нищенский, бездоходный? Самый никудышный приход в Рязанской епархии. Только садом да картохой я и живу. Яблони – все перестарки. Плод имеют махонький, червивый. И цена этим яблочкам – две копейки за меру. Липочка вот помогает, а то давно бы меня сволокли на погост.
В доме было сумрачно, прохладно. Дряхлая чистота поселилась здесь, видимо, давно. Некрашеные выскобленные полы казались седыми.
Пахло лампадным маслом. За киоты были заткнуты пучки сухого зверобоя. Книг не было, кроме Часослова{171} и зачитанного романа Засодимского{172} «Хроника села Смурина». Чернила в баночке заросли белой плесенью.
Главным обитателем дома, как и окрестных полей, была оцепенелая тишина. Изредка ее нарушало уверенное гудение шмеля. Он облетал комнаты, как владелец. Насердившись и наворчавшись, он с облегчением вылетал в распахнутое окно, в зной и лазурь уснувших полей.
Шмель улетал, и снова возвращалось безмолвие. Отец Петр тихонько прокашливался и запевал дрожащим тенорком: «Объяли мя муки смертные, и потоки беззакония устрашили мя», но тотчас спохватывался и замолкал, боясь меня обеспокоить. И снова тишина. Только ветер иногда прошумит по саду и подымет на окошках ситцевые занавески.
Я отдыхал в этой скудной обители. Мысли подолгу задерживались на всем, что происходило вокруг. Я испытывал непрерывную радость от близости к земле, к России. Тогда я полностью почувствовал, что она действительно моя. Великие судьбы и потрясения ждали ее. Это было ясно всем, даже недалекому отцу Петру. Я же твердо знал, что прелесть ее полей, ее далей, ее небес всегда останется удивительной и неизменной.
Около дома раскинулся сад, разросшийся по своему усмотрению и потому особенно живописный. Огромные лопухи, похожие на слоновые уши, росли рядом с крапивой в человеческий рост.
Днем сад вяло опускал листья. Август стоял жаркий. Я радовался самой малой тени от облаков, величаво проносивших в вышине свои белоснежные громады. Но все же жара была мягкая, совсем не такая изнурительная и зловещая, как в Закавказье.
Зато каким роскошным, тенистым, зачарованным и полным дыхания бурьяна становился сад к вечеру! Какие свежие воздушные волны заполняли его к ночи и оставались в нем до утра!
Туманно светил в конце сада закат. Протяжно пел, замирая за речкой Павловкой, пастуший рожок.
Отец Петр зажигал в зальце кухонную лампочку, и день сменялся успокоительной ночью.
Пожалуй, лучше всего в Екимовке были вечера – как бы нарочно созданные, чтобы показать певучесть женских и детских голосов, скликавших телят и гусей.
Каждый вечер соседская девушка Луша пригоняла на двор к отцу Петру бычка с влажными каштановыми глазами. Луша, шепотом здоровалась и, боясь расспросов, убегала. Но все же я каждый раз замечал ее вспыхнувшее тяжелым румянцем лицо. Замечал мгновенный, как зарница, любопытный взгляд из-под пыльных ресниц.
Когда Луша убегала, отец Петр говорил:
– Крестница моя. Возросла в этой пустыне, как Марья-царевна.
Однажды к отцу Петру, очевидно узнав о моем появлении, приехал лукавый отец благочинный.
Он был оранжево-рыжий, носатый, говорил сиплым фальцетом, и ряса у него была разодрана на животе и заду.
Он тут же сообщил, что устроил лаз в заборе своего сада, дабы внезапно прокрадываться с тылу и ловить мальчишек – «яблококрадов». Но лаз оказался узковат, и, торопясь пролезать в него, отец благочинный изодрал одеяние.
Отец Петр при виде благочинного онемел. Он только беспрерывно кивал, соглашаясь со всем, что говорил благочинный. А тот объяснял, что нужна большая политичность, чтобы оградить пастырей от всяческих бед и находиться в хорошем расположении с властями.
Потом отец Петр сходил куда-то неподалеку и принес бутылку мутного самогона. Он вонял керосином и гнилым хреном. Но отец благочинный выпил под вареную картошку два граненых стакана этой жидкости, тотчас захмелел и начал нести околесицу.
– После Господа нашего Иисуса Христа и блаженных святителей церкви, – заговорил он, рыгая, – пуще всего уважаю большевиков. Люблю решительных мужчин. Поскольку сам прославлен на всю епархию отвагой. У меня разговор простой. Согрешит чего-нибудь вот такой попик гугнивый, я его – хвать за загривок и так единожды тряхану, что мозги у него разболтаются в окрошку. Тогда тряхану вторично – и мозги станут на место! Других мер не применяю. Из сострадания.
Отец Петр поежился. Косицы его тряслись на затылке.
– Вот, скажем, сей глуховатый иерей отец Петр! Что с него взять? Соленый огурец да облезлую камилавку?
Отец Петр хихикнул.
– Я безгрешен, – сказал он с опаской. – Мне намедни восьмой десяток пошел.
– Грехов на тебе, понятно, нету по дряхлости тела и убогости разума.
– Напрасно вы так говорите, – заметил я благочинному, – отец Петр – добрый человек. Зачем его обижать.
– А он не обижается, – благочинный повернулся к отцу Петру. – Вот видите, кивает. Смирение пастырское предписывает ему сносить безропотно и глад и поношение. А вы, молодой человек, за пастырей заступались бы не здесь, в Екимовке, а там, в Москве, в Кремлевских палатах, где новые кесари пекутся о благе народа. Все хорошо у большевиков, все одобряю, кроме запрета держать лошадей и устраивать конские ярмарки. Я на коней был первый мастак от Рязани до Липецка. Ни одной ярмарки без меня не обошлось. Как взойду на ярмарку, так всех цыган-барышников будто корова слизнула. Крепко я им холки накручивал! А вы говорите – большевики!
Отец благочинный внезапно замолк, опустил голову на грудь и страшно захрапел. Так прошло несколько минут.
– Срам! – сказал мне шепотом отец Петр. – Заметут его большевики! Ой, заметут!
– Не заметут! – неожиданно и совершенно спокойно ответил отец благочинный, открыл глаза и оглушительно чихнул. – Не радуйся, отче Петр! – Он чихнул второй раз. – Как бы тебя самого не замели из Екимовки.
Благочинный чихнул в третий раз, потом – в четвертый и вскоре зальца начала дребезжать и позванивать от его богатырского чиха.
Наконец благочинный отчихался, вытащил из кармана обширный красный платок, обстоятельно вытер лицо и сказал совсем ясным голосом:
– У меня хмель выходит чихом. В каком бы опьянении я ни находился, а на двадцатом чихе я тверезый. Как стеклышко! Такая особенность!
Он встал, попрощался и напоследок сказал отцу Петру:
– Сиди! Никто тебя не тронет. Ни Советская власть, ни церковная. Христос, истинный Бог наш, и Пречистая его Матерь услышат твои вопли и завывания, отче Петр.
Благочинный уехал, а отец Петр взял большие ключи от церкви и поплелся служить молебен, очевидно, по случаю избавления от благочинного.
Я пошел вслед за ним посмотреть церковь. Я в ней еще не был. Она делилась на зимнюю и летнюю. Зимняя была внизу. В сильные морозы ее протапливали. Летняя помещалась вверху, на втором этаже. Она была светлая, залитая сейчас солнцем. В его лучах розовела водянистая церковная роспись.
Отец Петр надел епитрахиль и начал служить. По глухоте своей, он себя не слышал и потому то выкрикивал молитвы во весь голос, то бормотал их едва слышно, почти засыпая.
Я распахнул рассохшееся запыленное окно, сел на подоконник – и передо мной как бы промыли небо яркой водой. Облака тесно толпились от одного до другого края земли. Они плыли по выпуклому поднебесью, подергиваясь сизой тенью.
Отец Петр служил долго. Облака за это время начали громоздиться башнями, подножия их стали темнеть. Потом бледная вспышка огня озарила их до самой глубины. Над полями пролетел, наклонив к земле рожь, короткий ветер.
Но гроза не пришла. Должно быть, август уже потерял грозовую силу. Гроза уже не могла раскатываться по полям, неся столбы пыли, зловеще блистая, припечатывая дороги крупными вескими каплями.
На паперти отца Петра ждал костистый крестьянин Никифор – отец Луши.
– За Лушу сватается жених самостоятельный, – сказал он, не глядя на отца Петра. – Благословите сыграть свадьбу, батюшка.
– А кто таков? – спросил отец Петр. Он устал, и руки у него, когда он снимал епитрахиль, сильно тряслись.
– Портной из Сторожилова.
– Молод.
– Да так… годов пятьдесят, не боле.
– Человек-то хороший?
– А шут его знает. Обыкновенный. Закладывает маленько. А вот лицом вроде не вышел. Рябой. Да не квас же Лукерье пить с его ряшки. Правда, вдовец. Двое ребят на шее.
– Полюбовно выходит?
– Да Господи! – вскричал Никифор. – Мне-то, сам понимаешь, жалко ее портить. Одно соображение, – при заработке он. Государственный портной. Моя старуха прямо Лукерью зубами грызет: выходи да выходи. Она у меня знаешь какая, старуха. Зрак у нее завидный на все.
– Да уж знаю, – вяло согласился отец Петр. – Дело ваше, родительское.
Мы спустились с паперти. Отец Петр брел, опираясь на посошок.
Снова вдали в темном облаке мигнул бледный свет.
– Как вы думаете, – спросил я отца Петра, – Луша любит его или нет?
– Какое там – любит! – с сердцем ответил отец Петр. – Да все равно, пора выходить. Дело крестьянское.
Отец Петр помолчал и заговорил, что скоро начнут убирать хлеб. Из Рязани, сказывают, придут новые советские косилки. Они весь клин до самого Стенькина уберут, сказывают, за один день. Какие только чудеса дает Бог увидеть на свете!
В Екимовке работали почти одни женщины. Мужчины уходили на заработки в соседние города – Михайлов, Рязань, Пронск, Коломну, в самую Москву. Они приезжали в Екимовку только в пору горячих полевых работ. Кое-кто привозил семьям гостинцы. После побывки мужей женщины ходили в новых баретках, а ребята с утра до вечера дудели в свистульки и верещали трещотками.
Работа для женщин была непосильной. После революции наделы выросли, помещичьи и монастырские земли отошли к крестьянам, и управиться со всей этой землей было трудно. Машин в то время почти не водилось. Хлеб и сено убирали вручную.
Всей сельской жизнью управлял комитет бедноты. Ему беспрекословно подчинялись. Но все же полагалось ругаться с председателем комитета, бывшим солдатом по прозвищу «Один момент». Для него не существовало трудностей, и любое дело он решал быстро, приговаривая: «Это мы – мигом! Один момент!»
Прощание мое с деревней затянулось. Я медлил возвращаться в Москву, боясь неизвестности.
Но все же надо было в конце концов уезжать.
До Рязани ехала со мной Луша, – мать послала ее в город купить марли на подвенечную фату.
До полустанка Стенькино мы шли с Лушей полями и всю дорогу молчали. Поверх линялого ситцевого сарафана Луша надела тесную черную жакетку, русые косы подвязала белой косынкой и шла, почти не подымая глаз от смущения.
По небу однообразно тянулись синеватые холодные тучи. Луша задевала подолом подсохшие по осени травы. Только цикорий и дикая рябинка – желтая, как горчица, – еще не увядали и безмятежно и ярко дожидались ненастья.
Я старался запомнить все: каждый сжатый колос, блестевший слюдой на стерне, каждый короткий взгляд Луши – вопросительный и несмелый. Мне казалось, что она хочет спросить меня о чем-то, но не решается. И я, признаться, был рад, что она ни о чем меня не спрашивает.
О чем она могла спросить? Выходить ли ей замуж? Я бы начал ее отговаривать и наговорил бы, наверное, много такого, чего бы она не поняла. А если бы и поняла, то испугалась.
В этой простой девушке с шершавыми маленькими руками, в ее стремительной улыбке, в наклоне ее лица – покорном и нежном – было столько неясного обещания любви для кого-то еще неизвестного, но совсем не для того, за кого ее выдавали, что идти с ней рядом было и грустно и радостно. Всю дорогу мне почему-то хотелось заботиться о Луше, прикрывать ее от резкого ветра, дувшего в спину. Чем дальше мы шли, тем она все чаще поправляла под косынкой светлый локон.
В теплушке мы сели на дощатые нары. Знакомые поля нехотя поползли мимо. Вагоны погромыхивали на стыках.
Мальчишка в новом картузе пронзительно свистел на губной гармонике.
Я занозил ладонь о неструганую доску нар. Луша испугалась. Она осторожно вытащила занозу и совершенно по-детски зализала ранку языком.
Расстались мы в Рязани на товарной станции. Все пути были засыпаны шелухой от подсолнухов. Ходили, матерясь, замасленные кочегары. В липах у переезда орали галки.
Я пожал маленькую твердую руку, и Луша ушла не оглянувшись. Но, уходя, она все время, как и в полях, нервно поправляла косынку на растрепавшихся косах.
Я хотел окликнуть ее, но не окликнул. Потом я долго ждал поезда на Москву и курил дешевые пересохшие папиросы.
Много лет спустя я еще раз увидел Лушу, – ее лицо и всю ее, похожую на стройную ветку. Это было страшно далеко от Рязани, в Северной Италии, в цветущей долине Аосты, замкнутой снеговыми вершинами Альп.
Луша стояла на высоком каменном постаменте у перекрестка дорог, чуть склонившись и глядя с улыбкой на цветы, которые положил кто-то к ее ногам.
Неизвестный скульптор, вырезавший эту Мадонну из дерева, чуть прокрасил алой краской ее щеки. У Мадонны был тот же застенчивый румянец, какой я часто видел у Луши.
Ветер с гор дул ей в глаза, колыхал платье. У нее не было на руках младенца. Она была еще непорочна. И эта прелесть непорочности делала итальянскую Мадонну подругой крестьянской девушки Луши из села Екимовка Рязанской области.
«Четвертая полоса»
После возвращения из Екимовки я долго бродил по разным московским редакциям в поисках работы.
Однажды я встретил в редакции «Гудка» Виктора Шкловского. Он остановился передо мной и сердито сказал:
– Если хотите писать, то привяжите себя ремнями к письменному столу. Старших надо слушаться!
– У меня нет письменного стола.
– Тогда к кухонному! – крикнул он и исчез в соседней комнате.
Слова о ремнях Шкловский сказал просто так, наугад. Мы с ним не были еще знакомы.
В комнате, где исчез Шкловский, сидели за длинными редакционными столами самые веселые и едкие люди в тогдашней Москве – сотрудники «Гудка» Ильф, Олеша{173}, Михаил Булгаков и Гехт{174}. Склонившись над столами и посмеиваясь, они быстро писали на узких полосках газетной бумаги.
Редакционная эта комната называлась странно: «Четвертая полоса». В простенке висела ядовитая стенная газета «Вопли и сопли».
В этой комнате готовили последнюю, четвертую полосу (страницу) газеты «Гудок». На этой полосе печатались письма читателей, но в таком виде, что ни один читатель, конечно, не узнал бы своего письма.
Сотрудники «Четвертой полосы» делали из каждого письма короткий и талантливый рассказ, – то насмешливый, то невероятно смешной, то гневный, а в редких случаях даже трогательный. Неподготовленных людей ошеломляли самые заголовки этих рассказов: «Шайкой по черепу», «И осел ушами шевелит», «Станция Мерв – портит нерв».
Сам редактор «Гудка» без особой нужды не заходил в эту комнату. Только очень находчивый человек мог безнаказанно появляться в этом гнезде иронии и выдерживать перекрестный огонь из-за столов.
В то время никто еще не подозревал, что в этой комнате собралась «могучая когорта» (так они себя шутливо называли) молодых писателей, которые вскоре завоюют широкую известность.
В эту комнату иногда заходил «на огонек» Бабель. За ним учтиво входил Василий Регинин. В то время он редактировал новый журнал «Тридцать дней». Стоя на пороге и как бы боясь войти, Регинин начинал быстро рассказывать последние анекдоты. Часто шквалом врывался Шкловский и с жестоким напором прославлял Стерна и Велемира Хлебникова.
Далеко не каждого принимали в этой комнате приветливо. Халтурщиков встречали зловещим молчанием, а бахвалов и крикунов – ледяным сарказмом.
Мирились только с одним старым и хрипучим халтурщиком-репортером по прозвищу Капитан Чугунная Нога. У него действительно была искусственная железная ступня. Однажды он наступил на ногу кроткому писателю Ефиму Зозуле, и тот около месяца пролежал в больнице. Поэтому, когда капитан входил, все тотчас поджимала ноги под стулья.
Я попал в эту страшную комнату вскоре после приезда из Екимовки. Меня встретили спокойно, должно быть, потому, что я водил дружбу с Бабелем. Для сотрудников «Четвертой полосы» он был бесспорным авторитетом.
– Творятся неслыханные дела! – говорили они. – Из Одессы прибыл выдающий писатель Пересыпи и беззаветный красный конник Исаак Ги де Бабель Мопассан!
Под этой насмешкой скрывалась любовь к Бабелю и даже гордость им. Считалось, что он один знал на ощупь вес каждого слова.
Когда Бабель входил, он долго и тщательно протирал очки, осыпаемый градом острот, потом невозмутимо спрашивал:
– Ну что? Поговорим за веселое? Или как?
И начинался неистощимый разговор, который сотрудники «Гудка» прозвали «Декамероном». Это было похоже на волшебную нитку в сказке (может быть, такой сказки нет и такой нитки тоже нет, но это не имеет значения). Нитку эту надо было отыскать в огромной куче других разноцветных свалявшихся ниток, потянуть за нее – и она начинала вытягивать за собой то красные, то серебряные, то синие и желтые нитки, а потом и запутавшиеся в нитках сосновые шишки, позеленевшие патроны, ленты, орехи и всяческие как будто ненужные, но интересные вещи.
Такая невидимая и несуществующая золотая нитка как бы лежала в ящике стола у кого-нибудь из сотрудников – у Ильфа или Олеши. Лежала до тех пор, пока в комнате не появлялся интересный собеседник. Тогда ее вытаскивали из ящика, и она как бы тянула за собой неистощимую вереницу рассказов.
Досадно, что в то время никто не догадался записывать их, хотя бы коротко. То был шипучий фольклор тех лет.
Я знал мастеров устного рассказа – Олешу, Довженко, Бабеля, Булгакова, Ильфа, польского писателя Ярослава Ивашкевича, Федина, Фраермана, Казакевича, Ардова. Все они щедрые, даже расточительные люди. Их не огорчало то обстоятельство, что блеск и остроумие их импровизаций исчезает почти бесследно. Они были слишком богаты, чтобы жалеть об этом.
К суткам следовало бы прибавить еще несколько часов, чтобы мы могли записать эти неожиданные устные рассказы. Записать, конечно, сверх того, что мы пишем «от себя».
Самый плодовитый писатель (не считая Бальзака) не может работать свежо и в полную силу больше четырех-пяти часов в сутки. Несправедливо, конечно, что писателю не дана возможность продлевать свою жизнь до того времени, когда он напишет все, что задумал. Обыкновенно писатели успевают написать небольшую часть того, что могли бы.
Извините, я, как всегда, отвлекся.
Я уже говорил, что после приезда из Екимовки начал заходить в «Четвертую полосу» «Гудка». Там мне давали кое-какую работу.
Там я неожиданно встретил Евгения Иванова, нашего одесского Женьку Иванова, бывшего редактора «Моряка». Он носил все ту же мятую, как у адмирала Нахимова, морскую фуражку. Он расцеловался со мной, рассказал, что редактирует в Москве новую морскую и речную газету. Называется она «На вахте», и редакция ее помещается этажом выше.
Тут же Женька предложил мне работать в этой газете секретарем. Я согласился, хотя и заметил Иванову, что название газеты мне не нравится. Что это за название – «На вахте», «На стреме», «На цинке», «На подхвате»!
Иванов не обиделся. Он принял мои слова за обычное зубоскальство.
«Гудок» и «На вахте» помещались во Дворце труда на набережной Москвы-реки около Устьинского моста.
До революции во Дворце труда был Воспитательный дом – всероссийский приют для сирот и брошенных детей, основанный известным просветителем Бецким еще при Екатерине Второй.
Московские салопницы без всякой задней мысли называли Воспитательный дом «Вошпитательным». Таково было московское простонародное произношение.
Это был громадный, океанский дом с сотнями комнат, бесчисленными переходами, поворотами и коридорами, сквозными чугунными лестницами, закоулками, подвалами, наводившими страх, парадными залами, домовой церковью и парикмахерской.
Чтобы обойти все это здание по коридорам, нужно было потратить почти час. Население Дворца труда пользовалось коридорами как дорожками для прогулок.
Во Дворце труда мирно жили десятки всяких профессиональных газет и журналов, сейчас уже совершенно забытых.
Некоторые проворные молодые поэты обегали за день все этажи и редакции. Не выходя из Дворца труда, они торопливо писали стихи и поэмы, прославлявшие людей всяких профессий – работниц иглы, работников прилавка, пожарных, деревообделочников и служащих копиручета. Тут же они получали в редакциях гонорары и пропивали их в столовой на первом этаже. Там продавала пиво.
В столовой под низкими сводами всегда плавал слоистый табачный дым. Мы курили тогда дешевые папиросы «Червонец», – тонкие, как гвозди. Они были набиты по-разному – или так туго, что нужно было всасывать в себя воздух со страшной силой, почти до головокружения, чтобы добыть самую ничтожную порцию дыма, или, наоборот, так слабо, что при первой же затяжке папироса складывалась с противным щелканьем, как перочинный ножик. При этом пересохший табак высыпался в пиво или в тарелку с мутным супом.
На столиках в столовой стояли гортензии – шары водянисто-розовых цветов на голых длинных ножках. Эти цветы напоминали сухопарых немок с пышными бесцветными волосами. Вазоны с гортензиями были обернуты сиреневой папиросной бумагой и утыканы окурками.
Мы любили эту столовую. По нескольку раз в день мы собирались в ней, пили рыжий, остывший кофе и много шумели.
По утрам в столовой было пусто, пахло только что вымытыми полами и паром. Окурки из вазонов были убраны. Шипело старое отопление. За окнами над Замоскворечьем наискось летел снег.
Как-то я сидел таким утром в столовой и дописывал рассказ «Этикетки для колониальных товаров». Неожиданно вошел Бабель. Я быстро прикрыл исписанные листки газетой, но Бабель подсел к моему столику, спокойно отодвинул газету и сказал:
– А ну, давайте! Я же любопытен до безобразия.
Он взял рукопись, близоруко поднес к глазам и прочел вслух первую фразу: «Вам, между прочим, не кажется, что этот закат освещает отдаленные горы, как лампа?»
Когда он читал, у меня от смущения похолодела голова.
– Это Батум? – спросил Бабель. – Да, конечно, милый Батум. Раздавленные мандарины на булыжнике и хриплое пение водосточных труб… Это у вас есть? Или будет?
Этого у меня в рассказе не было, но я от смущения сказал, что будет.
Бабель собрал в уголках глаз множество мелких морщинок и весело посмотрел на меня.
– Будет? – переспросил он. – Напрасно.
Я растерялся.
– Напрасно! – повторил он. – По-моему, в таком деле не стоит доверять чужому глазу. У вас свой глаз. Я ему верю и потому не позаимствую у вас ни запятой. Зачем вам рассказы с чужим привкусом. Мы слишком любим привкусы, особенно западные. У вас привкус Конрада{175}, у меня – Мопассана. Но мы ведь не Конрады и не Мопассаны. Да, кстати, в первой фразе у вас три лишних слова.
– Какие? – спросил я. – Покажите!
Бабель вынул карандаш и твердо вычеркнул слова: «между прочим», «этот» (закат) и «отдаленные» (горы). После этого он снова прочел исправленную первую фразу: «Вам не кажется, что закат освещает горы, как лампа?»
– Так лучше?
– Лучше.
– Разные бывают лампы, – вскользь заметил Бабель. – А Батума нам не хватает. Помните тесный буфет в пассажирском пароходном агентстве? Когда запаздывал пароход из Одессы, мы приходили туда, сидели и ждали часами. Совершенно одни. А зачем – не знаю. На пристани были свалены сосновые доски. Скипидарные. По воде шлепал дождь. Мы пили потрясающий черный кофе. Щеки горели от морского зимнего воздуха. И на душе было грустно. Потому что красивые женщины остались на севере.
За нашей спиной прозвенела расшатанная стеклянная дверь. Бабель оглянулся и испуганно сказал:
– Спрячьте рассказ! Надвигается «могучая когорта».
Я успел спрятать рукопись. Вошли Гехт, Ильф, Олеша, Славин и Регинин.
Мы сдвинули столики, и начался разговор о том, что «Огонек» решил выпустить сборник рассказов молодых одесских писателей. В сборник включили Гехта, Славина, Ильфа, Багрицкого, Колычева{176}, Гребнева и меня, хотя я не был одесситом и прожил в Одессе всего полтора года. Но все почему-то считали меня одесситом, очевидно, за мое пристрастие к одесским рассказам.
Бабель согласился написать для этого сборника предисловие.
Я знал еще по Одессе всех, кто сидел сейчас рядом за столиком. Но здесь они казались другими. Шум Черного моря отдалился на сотни километров, загар побледнел от зимних туманов. Кто знает, если бы все они не были пропитаны с детства морем, солнцем, причудливым бытом и южным весельем, то, может быть, из них не вышли бы писатели.
Особенно интересовал меня Ильф – спокойный, немногословный, со слегка угловатым, но привлекательным лицом. Большие губы делали его похожим на негра. Он был так же высок и тонок, как негры из Мали – самого изящного черного племени Африки.
Но больше всего поражала меня чистота его глаз, их блеск и пристальность. Блеск усиливался от толстых небольших стекол пенсне без оправы. Стекла были очень яркие, будто сделанные из хрусталя.
Ильф был застенчив, прям, меток и порой насмешлив. Он ненавидел пренебрежительных людей и защищал от них людей робких и уступчивых, – тех, кого легко обидеть. Как-то при мне в большом обществе он холодно и презрительно срезал нескольких крупных актеров, которые подчеркнуто замечали только его, Ильфа, но не замечали остальных – простых и невидных людей. Они просто пренебрегали ими. Это было после головокружительного успеха «Двенадцати стульев». Ильф назвал поведение этих актеров подлостью.
У него был поистине микроскопический глаз на пошлость. Поэтому он замечал и отрицал очень многое, чего другие не замечали или не хотели замечать. Он не любил слов: «Что же тут такого?!» Это был щит, за которым прятались люди с уклончивой совестью.
Перед ним нельзя было лгать, ерничать, легко осуждать людей и, кроме того, нельзя было быть невоспитанным и невежливым. При Ильфе невежи приходили в себя. Простое благородство его взглядов и поступков требовало от людей того же.
Ильф был человеком неожиданным. Иной раз его высказывания казались слишком резкими. Но почти всегда они были верными.
Однажды он вызвал сильное замешательство среди изощренных знатоков литературы, сказав, что Виктор Гюго по своей манере писать напоминает испорченную уборную. Бывают такие уборные, которые долго молчат, а потом вдруг сами по себе со страшным ревом спускают воду. Потом опять молчат и опять спускают воду все с тем же ревом.
– Вот точно так же, – сказал Ильф, – и Гюго с его неожиданными и гремящими отступлениями от прямого повествования. Идет оно неторопливо, читатель ничего не подозревает – и вдруг, как снег на голову, обрушивается длиннейшее отступление – о компрачикосах, бурях в океане или история парижских клоак. О чем угодно.
Отступления эти с громом проносятся мимо ошеломленного читателя. Потом все стихает, и снова плавным потоком льется повествование.
Я спорил с Ильфом. Мне нравилась манера Гюго.
Я думал тогда – и думаю это и сейчас, – что повествование должно быть совершенно свободным, дерзким, что единственный закон для него – это воля автора. Писатель может менять ритм, характер и окраску повествования, как ему будет угодно. Об этом и о многом другом мы говорили в сумрачной столовой.
Пришла мохнатая и будто заспанная зима. В два часа уже зажигали электричество. Снег за окнами становился синим. Уличные фонари желтели, и гортензии на столиках оживали и покрывались слабым румянцем.
Регинин утверждал, что цветы, как и люди, стали теперь неврастениками. Всем известно, что неврастеники мутно и расслабленно проводят день, а к вечеру веселеют и расцветают.
Однажды в столовую вошел со значительным и таинственным видом Семен Гехт.
Я познакомился с ним в редакции «На вахте». Он приносил туда очерки о маленьких черноморских портах. Не об Одессах, Херсонах и Николаевах, а о таких приморских городах, как, скажем, Аккерман, Очаков, Алешки, Голая Пристань или Скадовск. Там пароходы подваливали к ветхим дощатым пристаням – скрипучим, шатким и облепленным рыбьей чешуей.
Очерки были лаконичные, сочные и живописные, как черноморские гамливые базары. Написаны они были просто, но, как говорил Евгений Иванов, «с непонятным секретом».
Секрет заключался в том, что очерки эти резко действовали на все пять человеческих чувств.
Они пахли морем, акацией, бахчами и нагретым инкерманским камнем.
Вы осязали на своем лице дыхание разнообразных морских ветров, а на руках – тяжесть смолистых канатов. В них между волокон пеньки поблескивали маленькие кристаллы соли.
Вы чувствовали вкус зеленоватой едкой брынзы и маленьких дынь канталуп.
Вы видели всё со стереоскопической выпуклостью, – даже далекие, совершенно прозрачные облака над Кинбурнской косой.
И вы слышали острый и певучий береговой говор ничему не удивляющихся, но любопытных южан, – особенно певучий во время ссор и перебранок.
Чем это достигалось, я не знаю.
Очерки почти забыты, но такое впечатление от них осталось у меня до сих пор. Жаль, что Гехт не продолжил свой удивительный путеводитель по маленьким портам.
Есть люди, без которых невозможно представить себе настоящую литературную жизнь. Есть люди, которые, независимо от того, много или мало они написали, являются писателями по самой своей сути, по составу крови, по огромной заинтересованности окружающим, по общительности, по образности мысли. У таких людей жизнь связана с писательской работой непрерывно и навсегда. Таким человеком и писателем был Гехт.
На этот раз загадочный вид Гехта насторожил всех. Но, будто по уговору, никто его ни о чем не спрашивал. То был верный способ заставить его говорить.
Гехт крепился недолго. Подмигнув нам, он достал из кармана сложенный вчетверо лист бумаги.
– Вот! – сказал он. – Получайте предисловие Бабеля к нашему сборнику!
– Оно короче воробьиного носа! – заметил кто-то. – Просто отписка!
Гехт возмутился:
– Важно не сколько, а как. Зулусы!
Он развернул листок и прочел предисловие. Мы слушали и смеялись, обрадованные легким и пленительным юмором этого, очевидно, самого короткого предисловия в мире.
Потом дело со сборником сорвалось. Он не вышел, а предисловие затерялось. Только недавно его нашел среди своих бумаг один из тех, о ком писал Бабель.
Вот это предисловие:
«В Одессе каждый юноша – пока он не женился – хочет быть юнгой на океанском судне. Пароходы, приходящие к нам в порт, разжигают одесские наши сердца жаждой прекрасных и новых земель. Вот семь одесситов. У них нет ни денег, ни виз. Дать бы им паспорт и три английских фунта, и они укатили бы в недосягаемые страны, названия которых звонки и меланхоличны, как речь негра, ступившего на чужой берег.
Вот семь молодых одесситов. Они читают колониальные романы по вечерам, а днем они служат в самом скучном из губстатбюро. И потому, что у них нет ни виз, ни английских фунтов, – поэтому Гехт пишет об уездном Можайске, как о стране, открытой им и не изведанной никем другим, а Славин повествует о Балте, как Расин о Карфагене. Душевным и чистым голосом подпевает им Паустовский, попавший на Пересыпь, к мельнице Ванштейна и необыкновенно трогательно притворяющийся, что он в тропиках. Впрочем, и притворяться нечего. Наша Пересыпь, я думаю, лучше тропиков.
Третий одессит – Ильф. По Ильфу, люди – замысловатые актеры, подряд гениальные.
Потом Багрицкий, плотояднейший из фламандцев. Он пахнет, как скумбрия, только что изжаренная моей матерью на подсолнечном масле. Он пахнет, как уха из бычков, которую на прибрежном ароматическом песке варят малофонтанские рыбаки в двенадцатом часу июльского дня. Багрицкий полон пурпурной влаги, как арбуз, который когда-то в юности мы разбивали с ним о тумбы в Практической гавани у пароходов, поставленных на близкую Александрийскую линию.
Колычев и Гребнев моложе других в этой книге. У них есть о чем порассказать, и мы от них не спасемся. Они возьмут свое и расскажут о диковинных вещах.
Тут все дело в том, что в Одессе каждый юноша – пока он не женился – хочет быть юнгой на океанском судне. И одна у нас беда, – в Одессе мы женимся с необыкновенным упорством».
Ночные поезда
Все мы жили тогда как попало и потому неважно.
Олеше и Ильфу дали узкую, как пенал, комнату при типографии «Гудка». Гехт жил где-то в Марьиной Роще среди холодных сапожников. Булгаков поселился на Садово-Триумфальной в темной и огромной, как скетинг-ринг, коммунальной квартире.
Соседи Булгакова привезли из деревни петуха. Он смущал Булгакова тем, что пел ночью без времени. Жизнь в городе сбила петуха с толку.
Мне пришлось убраться с Гранатного переулка, так как вернулся из командировки жилец, в комнате которого я поселился.
Сотрудник «На вахте» капитан дальнего плавания Зузенко нашел мне пристанище в Пушкине, под Москвой, рядом с домом, где он жил сам. Пристанище оказалось пустой, как сарай, и ледяной дачей.
В моей комнате стояла кое-какая пыльная мебель и лежала на продавленной тахте потертая шкура белого медведя. Пыль на мебели просто окаменела. Ее нельзя было стереть ничем, разве только счистить напильником. В пазах между бревен пищали мыши.
О Зузенко я уже писал довольно много. Да и нельзя было не писать об этом строптивом и добром человеке с лицом, изуродованным боксом. Мы сдружились, очевидно, по резкой противоположности характеров. Зузенко не знал сомнений, я же был полон ими сверх меры. Зузенко был грубоват и насмешлив, а я, к своему огорчению, был вежлив даже с трамвайными ворами и не любил насмешек.
Сначала мне нравилось жить за городом. Тогда от Мытищ до Пушкина еще тянулся нетронутый лес. Каждый день приходилось ездить в Москву, в редакцию, и возвращаться в полночь последним поездом.
В Москве перед отходом поезда кондуктор проходил по вагонам и сгонял всех пассажиров в один вагон, – для их же собственной безопасности. Тогда в пригородных поездах сильно грабили (в то время говорили «раздевали»).
Пассажиры нервничали, помалкивали. Да и разговаривать было трудно. Маленькие вагоны шли с таким грохотом, что можно было только перекрикиваться.
Пассажиры были большей частью одни и те же и знали друг друга в лицо. Поэтому на всех новичков они посматривали подозрительно и садились от них подальше.
Самым опасным считался перегон от Лосиноостровской до платформы Тайнинка. «Бандитский вертеп», – говорили о Тайнинке опытные пассажиры. На попутчиков, сходивших ночью в безлюдной Тайнинке, смотрели с сожалением и гадали, дойдут ли они до дому или нет.
После Тайнинки пассажиры успокаивались и дремали до самого Пушкина.
Мы с Зузенко всегда ездили вместе. В этом было для меня два преимущества: одно на пути из Москвы в Пушкино, а другое – на пути из Пушкина в Москву.
Преимущество на пути из Москвы в Пушкино состояло в том, что с Зузенко я чувствовал себя в безопасности. Человек огромной физической силы и бесстрашия, он каким-то шестым чувством узнавал любую «шпану» и немедленно переходил в наступление. Заметив в вагоне «подозрительного по шпане» человека, он долго и тяжело смотрел на него, потом вставал, шел к нему зловеще и медленно и говорил:
– На первой же остановке выкатывайся с поезда! Без визга!
При этих словах Зузенко засовывал руку в карман шинели.
Удивительнее всего было то, что Зузенко ни разу не ошибся, – «подозрительные по шпане» выкатывались, даже не матерясь.
Но один раз Зузенко опешил. Было это уже за Тайнинкой. Все мирно дремали. Против нас на скамье спал, поджав ноги, мальчишка лет четырнадцати. Он очень вертелся и иногда даже подпрыгивал во сне.
Зузенко высказал предположение, что мальчишку мучают глисты. Поезд рвануло на стрелке, мальчишку подбросило, он проснулся и неожиданно начал стрелять. При этом он кричал: «Дяденька, спасите!» Стрелял он, как опытный бандит, из кармана своего ватника. Пассажиры проснулись и ринулись на площадку.
Зузенко схватил мальчишку за шиворот, но тотчас отпустил.
– Что это, распротак его так! – крикнул он. – Как он стреляет! Руки-то у него наружу!
В это время из кармана мальчишки раздался сам по себе еще один – последний – оглушительный выстрел. Мальчишка взвыл. Карман у него тлел. Из него шел удушливый дым.
– Ватник снимите! – отчаянно кричал мальчишка. – А то сгорю, дяденька!
Зузенко стащил с мальчишки ватник.
– Что у тебя в кармане, шкет несчастный?
Конопатый, заплаканный шкет признался, что у него в кармане лежали насыпью пробки для пугача. Очевидно, пробки согрелись, долго ерзали и терлись от качки и рывков поезда и на одном, самом сильном рывке наконец взорвались.
Ватник потушили. Мальчишку пассажиры, как водится, изругали. Зузенко хохотал, раскачиваясь, как араб на молитве. Потом он неожиданно сказал:
– Вот случай для Джекобса.
Джекобс был американский юмористический писатель, любитель такого рода бессмысленных историй.
Второе зузенковское преимущество было связано с утренними поездками в Москву. Во время этих поездок я выслушал множество увлекательных историй из его жизни.
Как только Зузенко входил в вагон в Пушкине, он тотчас начинал рассказывать мне эти истории. Любопытные пассажиры подсаживались поближе.
Вскоре слух об этих рассказах прошел по всему Пушкину. В вагон, куда садился Зузенко, набивалось столько народу, что негде было присесть. Чтобы лучше слышать, пассажиры тесно сбивались вокруг капитана и наваливались мне на спину. Я долго потом не мог отдышаться.
Приходил кондуктор и начинал речь о неправильной нагрузке поезда. Все вагоны пустые, а в этот не втиснешься. Да он и не рассчитан на такую уйму пассажиров. Беспорядок! Наверняка загорятся буксы.
Каждый раз Зузенко и пассажиры вступали с кондуктором в беспорядочный технический спор и доказывали ему, что вагон «не просядет и буксы никак не сгорят».
Зузенко приносил в редакцию «На вахте» свои воспоминания о плаваниях. Воспоминания эти он печатал на старой машинке с латинским шрифтом. В тех местах, где латинские буквы не совпадали с русскими, Зузенко вписывал русские буквы от руки. Это была каторжная работа.
Мне нравился у Зузенко насмешливый взгляд, взвешивающий собеседника, тяжелая и осторожная поступь, будто по палубе в шторм, грубоватый юмор и склонность к сложным и наивным предприятиям ради сомнительного заработка.
В то время в России было много безработных морских капитанов по той причине, что совсем не было морских кораблей. Поэтому Зузенко числился в резерве советского торгового флота. Он дожидался, когда наконец появится подходящее, по его словам, «корыто», на котором он будет плавать если не капитаном, то хотя бы третьим помощником. За пребывание в резерве Зузенко получал ничтожную ставку и потому постоянно изыскивал способы перехватить деньжат.
Был нэп. Нэпманов и так называемых «частников» Зузенко ненавидел люто и необратимо.
То было племя барышников и комбинаторов. Те из них, кто был повыше рангом и побогаче, пытались придать себе вид промышленников, крупных торговцев и дельцов. Но дальше этого внешнего вида дело обычно не шло, и все знали, что это – «липа».
В общем мы относились к нэпу скептически. Все знали, что нэп – явление временное, что с первых же дней своего рождения он дышит на ладан и, совершив свое дело, будет выброшен на свалку истории. Так оно и случилось.
Но нэпманы всех раздражали. Они дико торопились обогащаться. Они задыхались от спешки и шалели от всяческих комбинаций и неизбежного страха. Пределы дозволенного были не особенно ясны. Любой шаг мог оказаться роковым. Все это сообщало характеру нэпманов истеричность. Их существование с судорожным и кургузым размахом, облезлыми автомобилями, увядшими красавицами и ресторанной цыганщиной напоминало плохо сыгранный спектакль.
Где-то в Сибири и на Дальнем Востоке сдавались в концессии рудники и золотые прииски, но это было так далеко от Москвы, что казалось нереальным и, может быть, поэтому не вызывало тревоги. Мы же сталкивались только с нэпмановской «плотвой». Нас, конечно, не могли смутить кислые дамы и старушенции, торговавшие пончиками и самодельными тянучками из окон своих комнат в первых этажах домов.
Соблазнительные свои товары они раскладывали на подоконниках. Там, кроме пирожков и печенья, можно было увидеть горки пиленого сахара на облезлом фарфоровом блюде (настоящий «сакс»), вязаные галстуки, зажигалки, китовый ус для корсетов и нарядные – розовые и голубые – резинки для дамских подвязок, негодные к употреблению, так как резина давно пересохла. Мы воспринимали нэп главным образом с бытовой и комической стороны.
Особенно славился в то время в Москве «король древесного угля» Яков Рацер. Предприятие его помещалось в Марьиной Роще против дома, где жил Гехт. Каждое утро, чуть начинало светать, Яков Рацер выходил на балкон своего дома и пропускал мимо себя весь длинный обоз угольщиков на колченогих конях. Рацер стоял, как полководец, принимающий парад своих «войск».
После парада угольщики расползались по всем закоулкам Москвы, оглашая дворы унылыми криками: «Вот уголек кому надо!» Все в угольной пыли, они походили на негритосов. Они удивляли москвичей эмалевой белизной глазных яблок под сизыми веками.
Время от времени Яков Рацер печатал в «Известиях» объявление: «Бывали случаи, что уголь у Якова Рацера оказывался неполновесным, но не было случаев, чтобы уголь у Якова Рацера оказывался сырым». На кульках с самоварным углем Яков Рацер печатал несколько иные и довольно изысканные рекламные стихи:
Широко известен был еще один частник по фамилии Функ. Он открыл в Москве производство сапожного крема.
Функ тоже понимал толк в рекламе.
На всех улицах висели на фонарях веселые человечки, вырезанные из жести. Они танцевали чечетку, приподняв над головой желтые щегольские канотье, сверкая зубами и сияющими ботинками, только что начищенными пастой Функ.
Человечки восторженно призывали чистить обувь только пастой Функ. Но этот призыв выглядел в то время нелепо. По всем улицам шлепали заскорузлыми босыми ногами беспризорники, а обуви, требующей столь идеальной чистки, в Москве вообще не было.
Москва была полна беспризорными. Их вылавливали, увозили в колонии, но они снова возникали на улицах и рынках, ходили стаями, играли в карты в глухих закоулках, спали в подъездах и в пустых асфальтовых котлах, воровали, выпрашивали папиросы и пели по трамваям блатные песни, отбивая такт деревянными ложками.
Вплотную с беспризорными я встретился в ночном пригородном поезде. Это случилось поздней осенью перед жестокими морозами 1924 года.
Однажды мы с Зузенко вошли в плохо освещенный вагон. Ярко светили только фонари на платформе. Их свет проникал внутрь вагона сквозь забрызганные дождем окна. Дождь лил холодный, упорный, с ознобом. В углу вагона шевелилась груда серого тряпья.
– Нетопыри! – сказал Зузенко.
Это были беспризорные. Они лежали вповалку на полу, прижавшись друг к другу, прикрывая собой самого маленького мальчика лет восьми. Свет фонаря падал на него, и первое, что я заметил, это его большие глаза без слез, а потом – дрожь, ужасную неудержимую дрожь его высохшего маленького тела. Он дрожал так, что в ответ на его дрожь позванивало расшатанное стекло в окне вагона. Лежавшие по сторонам мальчишки натягивали на него полы своих рваных «клифтов».
«Клифтами» или «жакетами» называлась одежда беспризорных – кофты или пиджаки с чужого, взрослого плеча, – длинные, ниже колен, с болтающимися рукавами. От времени, пыли и грязи «клифты» приобретали одинаковый мышино-серый цвет и блестели, будто смазанные маслом.
В рваных, обвисших карманах этих «клифтов» хранилось все имущество беспризорников – «марафет», ножи, папиросы, корки хлеба, спички, засаленные карты и обрывки грязных бинтов. Под «клифтами» даже не было истлевших рубах, а желтело озябшее зеленоватое тело, расчесанное в кровавые полосы.
– Не трусись, Царевич, – проговорил осипшим голосом мальчик постарше. – В Мытищах отогреемся.
Вошел кондуктор, посветил на беспризорников фонарем, выругался и прошел мимо.
Мы сели поодаль. В вагоне, кроме нас, почти не было пассажиров. А те немногие, что вошли, сидели тихо и будто ничего не замечали.
– А ну, пацаны! – вдруг сказал Зузенко. – Желающие покурить – вали сюда!
Встал и подошел только мальчик постарше. Остальные – их было трое – продолжали лежать.
Мальчик сел на скамью против нас, поджал босые ноги, жадно закурил, длинно сплюнул и сказал, поглядывая на слабо блестевший морской герб (так называемый «краб») на фуражке Зузенко:
– Ты, моряк, красивый сам собою…
– Заткнись, пацан! – оборвал его Зузенко.
Но мальчик, глядя в сторону, вдруг запел во весь хриплый детский голос:
– Ты это брось! – повторил Зузенко. – Не до шуточек. Дружок твой пропадает вконец.
– Это Шурка Царевич, – объяснил беспризорник. – А я зовусь Летчик.
– Есть предложение, – так же спокойно сказал Зузенко. – Нельзя его так оставлять.
– Ага! – равнодушно ответил Летчик и высморкался в длинный, как труба, черный рукав. – Второй день горит, аж светится.
– Так вот! Айда к нам в Пушкино. У нас дача. Одну комнату протопим, переживете несколько дней, а там видно будет. Дальше будете действовать по своему усмотрению. Нельзя такого пацанчика загубить.
– А вы нас не зацапаете?
– Балда! – сказал, всерьез обидевшись, Зузенко. – Я капитан дальнего плавания. Понял? А это писатель.
– Шамовку дадите? – спросил Летчик. – На всех, на четверых?
– А ты, видно, и вправду дурак!
– Счас! – ответил Летчик и подсел к своим.
Они долго шептались, потом Летчик вернулся и небрежно сказал:
– Братва соглашается.
У меня на даче пустовало пять комнат. Рядом с моей была самая большая. Она обогревалась той же печкой, что и моя. Никого и ни о чем не надо было спрашивать, – хозяин дачи жил в Москве, и я видел его всего один раз.
Когда мы привели на дачу беспризорных, печка была еще теплая от утренней топки.
В кладовой валялись старые полосатые тюфяки. Мы расстелили их на полу около печки. Беспризорники расселись на тюфяках, закурили и притихли. Я принес Шурке-Царевичу подушку и медвежью шкуру. Мальчики молча смотрели на меня. Я уложил Шурку. Тогда Летчик сказал:
– Обовшивеет этот медведь.
Я промолчал. Мальчики тоже молчали, чем-то подавленные.
Зузенко принес со своей дачи австралийский усовершенствованный примус и вскипятил воду для чая в большом щербатом чайнике. Шепнув мне, что идет за доктором, Зузенко снова ушел. Беспризорники было забеспокоились, но я сказал им, что капитан ушел за шамовкой.
Шурка дышал с тоненьким свистом. Я потрогал его лоб, – от него тянуло палящим жаром.
Через час Зузенко привел старенького доктора-армянина. Он никак не мог протереть озябшими руками старомодное пенсне в черепаховой оправе и все время сокрушенно повторял:
– Ой, скандал, скандал! Какой скандал!
Ко времени его прихода беспризорники напились чаю и уснули, сбившись гурьбой на одном тюфяке. Никто из них не проснулся.
Доктор выслушал Шурку, сморщился и объявил, что у мальчика двухстороннее воспаление легких и его надо немедленно отправить в больницу.
На даче у Зузенко были хозяйские большие салазки. Капитан возил на них дрова и воду.
Пока Зузенко ходил за салазками, я налил доктору чаю. Он обхватил стакан обеими руками, чтобы согреть пальцы, и долго молчал. Пенсне вздрагивало у него на переносице, сползало и несколько раз чуть не упало на пол. Доктор снял его, поднес почти вплотную к старческим выпуклым глазам и спросил:
– Как это случилось?
– Что? С мальчиком?
– Нет! Как это случилось, что тысячи детей выкинуты, как котята, на улицу?
– Не знаю.
– Нет! – сказал он твердо. – Вы знаете. И я знаю. Но мы не хотим думать об этом.
Я промолчал. О чем говорить! Это безнадежно. Что толку переливать из пустого в порожнее!
– Вот скандал! – повторил доктор, криво усмехаясь. – Уход нужен. Только уход. А эти мальчики опоздали перекочевать на юг. Надо дать знать, чтобы их взяли в колонию. Иначе они пропадут.
Зузенко притащил салазки. Мы закутали Шурку чем могли, в том числе и медвежьей шкурой, уложили на салазки и осторожно повезли в больницу.
Я хотел разбудить Летчика, но он, так же как и все остальные мальчики, спал тяжелым сном и не проснулся, хотя во сне все время вертелся и яростно чесал грудь.
Мы ушли, но дачу не заперли, чтобы не напугать мальчиков, когда они проснутся.
Возвратились мы на рассвете. Дождь стих. Из леса тянуло острым водянистым холодом.
На даче было пусто. Беспризорники исчезли. На переплете книги «Голый год» Бориса Пильняка{177}, лежавшей на столе, было криво и крупно написано: «Шурка Балашов, отец умерши, мати потерялась».
– Ну что ж! – вздохнул Зузенко. – Улетели чижи. От своих филантропов. Я всегда считал, что свобода сильнее страха смерти. Пацаны это тоже понимают.
Шурка Балашов умер через четыре дня. Долго после его смерти я не мог избавиться от чувства вины перед ним. Зузенко говорил, что никакой вины нет, что я – гнилой интеллигент и неврастеник, но под кожей на скулах у капитана ходили твердые желваки, и он без конца курил.
Мальчика похоронили в мелкой могиле на краю кладбища. Все время шли дожди, сбивали гнилые листья и засыпали ими низкий могильный горб. Сейчас я, конечно, его уже не найду, но приблизительно знаю, где похоронено маленькое, беспомощное существо, совершенно одинокое в своем страдании.
Жизнь в Пушкине была неприютной. Весь день до позднего вечера я проводил в редакции «На вахте». К полуночи я добирался до вокзала, уезжал в Пушкино, там сразу же окунался в глушь, мрак и безлюдье, быстро засыпал, а утром, еще в полной темноте, приходилось вставать, топить печку и торопиться на поезд в Москву.
Чередование одних и тех же дел надоедало, утомляло, я подголадывал, и, может быть, от этого у меня несколько раз – всегда по ночам – бывали обмороки.
Один раз я упал на каменные плиты на Северном вокзале и очнулся в вокзальном приемном покое с разбитой в кровь головой. Больше всего меня потрясло то обстоятельство, что сонная медицинская сестра, приводившая меня в чувство, заподозрила, что я пьян.
Я обиделся и ушел, шатаясь, из приемного покоя. Я опоздал на последний поезд, не встретился с Зузенко и просидел всю ночь в пустом вагоне на путях вблизи вокзала. Голова у меня трещала, мутилась, и я жалел, что рядом нет беспризорных. Все-таки с ними было бы легче. Из-за своей слабости я чувствовал себя таким же беспризорным, как и они.
Стужа
Над кострами клубился черный смолистый дым, подкрашенный багровым огнем.
Дым костров и январской стужи низко висел над Москвой. Сквозь этот дым со скрежетом ползли, позванивая, трамваи. Вагоны заросли изнутри клочьями изморози и походили на ледяные пещеры.
Костры складывали на площадях из целых бревен и старых телеграфных столбов. Около огня грелись милиционеры в серых каракулевых шапках с красным верхом – «снегири». Так звали милиционеров в то время.
Милиционеры держали на поводу заиндевелых нетерпеливых коней.
Со стороны Красной площади доносились сильные взрывы. Там разбивали окаменелую землю, готовили могилу для Ленина.
Кострами и дымами Москва была окрашена в черно-красный траур. Черно-красные повязки были надеты на рукава у людей, следивших за бесконечной медленной толпой, продвигавшейся к Колонному залу, где лежал Ленин.
Очереди начинались очень далеко, в разных концах Москвы. Я стал в такую очередь в два часа ночи у Курского вокзала.
Уже на Лубянской площади послышались со стороны Колонного зала отдаленные звуки похоронного марша. С каждым шагом они усиливались, разговоры в толпе стихали, пар от дыхания слетал с губ все судорожнее и короче.
Кто-то запел вполголоса эти слова, но тотчас замолк. Любой звук казался ненужным среди этой полярной ночи. Только скрип и шорох многих тысяч ног по снегу был закономерен, непрерывен, величав. В непроглядной темноте к гробу шли люди с окраин, из подмосковных поселков, с полей, с остановившихся заводов. Шли отовсюду.
Молчание застыло над городом. Даже на далеких железнодорожных путях не кричали, как всегда, паровозы.
Страна шла к высокому гробу, где среди цветов и алых знамен не сразу можно было рассмотреть изможденное лицо человека с большим бледным лбом и закрытыми, как бы прищуренными глазами.
Шли все. Потому что не было в стране ни одного человека, на жизни которого не отразилось бы существование Ленина, ни одного, кто бы не испытал на себе его волю. Он сдвинул жизнь. Сдвиг этот был подобен исполинскому геологическому сбросу, встряхнувшему Россию до самых недр.
В промерзшем насквозь Колонном зале стоял пар от дыхания тысяч людей.
Время от времени плавное звучание оркестра разбивали пронзительные плачущие крики фанфар. Но они быстро стихали, и снова мерно звучал оркестр, придавая печали торжественность, но не смягчая эту печаль.
Со мной в толпе шел Зузенко.
Долго шли молча. Потом Зузенко поежился и сердито сказал:
– Ну и холодюга! Как в полярной трескоедне! (Так он насмешливо называл все полярные страны.) Веки смерзаются. Грандиозный мороз!
Он помолчал и сказал снова:
– Все сейчас грандиозно. Вот Ленин… Грандиозный разрушитель всяческой скверны и грандиозный созидатель… Дышите через шарф, а то отморозите бронхи… Жаль, не удалось мне с ним поговорить о всемирном союзе моряков. Грандиозный был бы у нас разговор!
Мы медленно прошли мимо гроба и еще медленнее вышли из Колонного зала. Все люди оглядывались и замедляли шаги, стремясь в последнем взгляде удержать все увиденное – лицо Ленина, его выпуклый лоб, сжатые губы и небольшие руки.
Он был мертв, этот человек, стремительно перекроивший мир. Каждый из нас думал о том, что теперь будет с нами.
– Наши дети, – сказал Зузенко, когда мы вышли из Колонного зала, – будут завидовать нам, если не вырастут круглыми идиотами. Мы влезли в самую середину истории. Понимаете?
Я это прекрасно понимал, как и все, кто жил в то тревожное и молниеносное время. Ни одно поколение не испытало того, что испытали мы. Ни такого подъема, ни таких надежд, ни такой жути, ни таких разочарований и побед. Зеленых от голода и почернелых от боев победителей вела только непреклонная вера в торжество грядущего дня.
Мне было в то время тридцать лет, но прожитая жизнь уже тогда казалась мне такой огромной, что при воспоминании о ней делалось страшно. Даже холодок подкатывал под сердце.
«Действительно ли ты сын своего времени?» – думал я. Всем существом я понимал, что я неотделим от времени, от судьбы страны, от радостей, какие так редко испытывал мой народ, и от страданий, которые выпали на его долю с такой незаслуженной щедростью.
Мы шли с Зузенко на Северный вокзал по улицам, охваченным стужей. Она яростно подвывала под ногами.
«Век шествует путем своим железным»{178}, – говорил я про себя. Эти слова преследовали меня весь тот день.
– Что вы бормочете? – спросил Зузенко.
– Да так… Ничего…
Железный век! И вдруг в памяти зазвенели, поднявшись из ее глубины, далекие слова:
«Век шествует путем своим железным». Но его путь, конечно, ведет к золотому веку, к миру, к разуму. К золотому веку! Надо верить в это. Иначе нельзя жить!
Потом мы долго ехали с Зузенко в Пушкино. Пустой дачный поезд грохотал и качался в пару. Колеса вагонов звучно били по стыкам рельс. Им вторило ночное эхо. Казалось, что оно тоже замерзает от стужи и потому звенит, как тонкий лед, разбитый камнем.
В Пушкине все дымилось от мороза.
– Сорок градусов, если не больше, – сказал Зузенко. – Зайдемте ко мне. Погреемся.
Я любил заходить к Зузенко. Маленькая его дача была засыпана снегом по самые окна.
Зузенко зажег свечу. На бревенчатых стенах висели, приколотые кнопками, заграничные пароходные плакаты. Они были очень старые, рваные, но заманчивые. Особенно один, где был изображен полосатый – белый с красным – маяк на песчаном берегу, маслянистое море и цветущий куст олеандра. Не верилось, что на свете бывают такие смелые сочетания алых цветов и лилового моря.
У Зузенко всегда было холодно. Окна заросли льдом, – снег в ту зиму валил почти беспрерывно. Плакаты, казалось, съеживались от такой зимы и быстро тускнели. Я любил рассматривать их, хорошо понимая, что никогда не попаду ни в одно из великолепных мест, изображенных на этих плакатах.
Кроме плакатов, у Зузенко была Библия, лоция Атлантического океана, несколько книг по марксизму и растрепанный том энциклопедии Брокгауза и Ефрона на букву «Н».
Зузенко, оказывается, изучал Библию, чтобы вести в Австралии, где он прожил несколько лет, бурные диспуты со священниками христианских церквей. Это было его любимое занятие, если не считать морского дела и постоянных схваток со всякими соглашателями, бюрократами, нэпачами, хлюпиками и размагниченными интеллигентами.
Зузенко разжег свой австралийский примус. Он ревел, как перегретый паровой котел, и был готов каждую секунду взорваться. Стало теплей.
Мы молча выпили чай с черными сухарями. Потом Зузенко спросил:
– Поедете завтра на похороны Ленина?
– Конечно.
– В чем? Мороз крепчает. Ваше осеннее пальтишко – чистое рядно, чтобы не сказать дерьмо. Да вас уже и сейчас трясет. Жаль, нет термометра.
– У меня есть.
– Померьте. А завтра утром я зайду. Пораньше.
Я ушел. Ко мне от дома Зузенко вела протоптанная в снегу тропинка. Густые ели опустили на нее мохнатые лапы, отягченные снегом. Я задевал их, и снег несколько раз слетал мне за шиворот. Каждый раз я вздрагивал, как от удара ножом.
Я часто оступался в глубокий снег. Лес вокруг трещал и скрипел.
В моей комнате было тоже холодно, как в запертом леднике. Часто присаживаясь на табурет, чтобы отдышаться и избавиться от головокружения, я затопил печку и тотчас лег, не раздеваясь, укрывшись, знакомой медвежьей шкурой. Под ней умирал маленький мальчик Шурка Балашов, и она из больницы вернулась ко мне. Занавески на окнах примерзли к стеклам, и где-то в пазах меж бревен пищали мыши.
Даже под медвежьей шкурой я слышал тошнотворный запах мышиного помета. И все думал, ежеминутно теряя нить своей мысли (она рвалась, как гнилая пряжа), о своей неустроенности, о том, что нужно сделать не только в комнате, но и в жизни генеральную уборку, все вымыть и выветрить. Но этого почему-то никак нельзя сделать зимой. Как будто беспорядок моего существования примерз ко мне и его не отодрать, – не хватит сил.
Я понимал, что заболеваю, и сказал громко – на всю комнату, на всю пустую промерзшую дачу:
– Человек не может быть один. Если он один, то только по собственной вине. Только поэтому.
Голова у меня мутилась. Я подумал, что сейчас, в такие дни, просто нельзя уступать смутным и печальным мыслям, нельзя позволять тоске распоряжаться собой.
Мир потрясен. Москва пылает в похоронных кострах. Люди ждут избавления от тысячелетних и бессильных страданий. Ушел человек, который знал, что делать.
Он знал. Завтра его опустят в прокаленную холодом землю. Первая же ночь засыплет могилу снегом и будет равнодушно продолжать предназначенный путь.
Я потянулся к часам. Печка догорала. При свете углей я увидел, что уже шесть часов. А между тем тьма как будто сгустилась.
В стенах сильнее забегали и запищали мыши. Мне было жарко, душно, хотя холод сжимал мне лоб ледяной рукой. От этого болела голова.
Очнулся я утром, если можно назвать утром серый сумрак, заползавший в комнату из окна и тут же падавший в темноту на пол. Снег уже не шел.
Надо было собираться и ехать в Москву.
Пока я умывался оттаявшей водой, сумрак начал наполняться синью. Вскоре оранжевые пятна солнца упали на черные стены и на фотографию Блока. На его лице лежала легкая надменность гения.
Зузенко постучал ко мне в окно и крикнул, приложив ладони к стеклу, что мороз осатанел и от него болят легкие.
– Вам ехать в Москву немыслимо, – прокричал он. – Оставайтесь. Не смейте вставать и открывать мне дверь. Я скоро вернусь и все расскажу.
У меня не было ни сил, ни голоса спорить. Он ушел. Я все же натянул пальто, замотал шею старым шарфом, натянул на уши кепку и вышел.
Я добрел до железнодорожного переезда как раз в то время, когда прошел на Москву последний утренний поезд. Я опоздал.
Тогда я пошел вдоль полотна в сторону Москвы, но не прошел и двух километров. Кружилась голова. Мне хотелось сесть на откос в снег и посидеть немного. Но я знал, что в такой мороз этого делать нельзя. Поэтому я все шел и шел, спотыкаясь, понимая, что идти бессмысленно и надо возвращаться.
По своей нелепой привычке я все время загадывал – вот дойду до того телеграфного столба и поверну.
Телеграфный столб задержал меня надолго. Я прислонился к нему, оглянулся и увидел, как Пушкино тяжело дымило всеми своими печными трубами, всем своим березовым дымом. Дым был алым от морозного солнца.
Впереди так же яростно, как и Пушкино, заваливая дымом всю землю, курилась Клязьма.
Лес потрескивал от мороза, как тлеющие дрова, и часто сбрасывал с вершин плоские блестки снега, похожие на рыбьи чешуйки. Каждая ель, отягощенная снегом, стояла, как страж этой тихой зимней пустыни.
Я стоял, ждал. Я убеждал себя, что в этой ломкой тишине обязательно услышу, когда гроб будут опускать в могилу, хотя бы и очень отдаленный, но слитный гул всех заводских гудков Москвы. Может быть, даже услышу громыхающий вздох орудийных залпов.
Но было очень тихо. Только все сильнее потрескивал лес.
Со стороны Пушкина, выбрасывая столбы дыма, шел поезд. Был слышен его нарастающий гром.
Шел сибирский экспресс. Он всегда проходил в это время мимо Пушкина, не останавливаясь, не тормозя, уволакивая за стрелки тяжелые пульмановские вагоны. Все казалось, что вагоны хотят отстать, остановиться, но паровоз безжалостно мчит их вперед и не дает отдышаться.
Поезд приближался. Внезапно он вздрогнул. Залязгали и заскрежетали тормоза. Грохот колес оборвался, и поезд сразу остановился среди леса. Паровоз дышал, как запаленная лошадь.
Он остановился там, где застало его время похорон.
Тотчас пар вырвался струей из недр паровоза, и паровоз закричал.
Он кричал непрерывно, не меняя тона. В его крике слышались отчаяние, гнев, призыв.
Этот могучий гудок летел окрест – в леса, в стужу, в поля, где одним глубоким пластом расстилались снега.
Прошла минута, две. Паровоз кричал, все так же томительно, так же тоскливо и непрерывно, возвещая, что сейчас на Красной площади в Москве предают погребению тело Ленина.
Поезд промчался через тысячи километров великой русской земли, но опоздал. Всего на сорок минут.
Мне казалось, что я слышу не только гудок сибирского экспресса, но вопль всей Москвы. В эту минуту остановилась жизнь. Даже морские пароходы легли в дрейф и оглашали свинцовые воды морей плачем сирен.
Гудок сразу стих, и поезд медленно тронулся в задымленную даль к близкой Москве.
Все было кончено. Я побрел домой.
На дачах мертво висели траурные флаги.
На обратном пути я не встретил ни одного человека. Мне казалось, что вымер весь мир и жизнь иссякла, как последний неприютный свет этого январского дня с его никому не нужной мучительной стужей и горьким запахом дыма.
Вечером вернулся Зузенко и застал меня в жару и бреду. Я проболел больше месяца.
Снежные шапки
Как-то ближе к весне, тихим и снежным днем ко мне в Пушкино приехал Булгаков. Он писал в то время роман «Белая гвардия», и ему для одной из глав этого романа нужно было обязательно посмотреть «снежные шапки» – те маленькие сугробы снега, что за долгую зиму накапливаются на крышах, заборах и толстых ветвях деревьев. Весь день Булгаков бродил по пустынному в тот год Пушкину, долго стоял, смотрел, запахнув старую, облезлую доху, – высокий, худой, печальный, с внимательными серыми глазами.
– Хорошо! – говорил он. – Вот это мне и нужно. В этих шапках как будто собрана вся зимняя тишина.
– Декадент! – сказал о Булгакове Зузенко. – Но, видно, чертовски талантливый тип. Добросовестно себя тренирует.
Что он этим хотел сказать? Я не понял. Тогда Зузенко столь же неясно и неохотно объяснил:
– Натаскивает себя на впечатления. Мастак!
Пожалуй, в этом он был прав. Булгаков был жаден до всего, если можно так выразиться, выпуклого в окружающей жизни.
Все, что выдавалось над ее плоскостью, будь то человек или одно какое-нибудь его свойство, удивительный поступок, непривычная мысль, внезапно замеченная мелочь вроде согнутых от сквозняка под прямым углом язычков свечей на театральной рампе – все это он схватывал без всякого усилия и применял и в прозе, и в пьесах, и в обыкновенном разговоре.
Может быть, поэтому никто не давал таких едких и «припечатывающих» прозвищ, как Булгаков. Особенно отличался он этим в Первой киевской гимназии, где мы вместе учились.
– Ядовитый имеете глаз и вредный язык, – с сокрушением говорил Булгакову инспектор Бодянский. – Прямо рветесь на скандал, хотя и выросли в почтенном профессорском семействе. Это ж надо придумать! Ученик вверенной нашему директору гимназии обозвал этого самого директора Маслобоем! Неприличие какое! И срам!
Глаза при этом у Бодянского смеялись.
Семья Булгаковых была хорошо известна в Киеве – огромная, разветвленная, насквозь интеллигентная семья.
Было в этой семье что-то чеховское, от «Трех сестер», и что-то театральное.
Булгаковы жили на спуске к Подолу против Андреевской церкви – в очень живописном киевском закоулке.
За окнами их квартиры постоянно слышались звуки рояля и даже пронзительной валторны, голоса молодежи, беготня и смех, споры и пение.
Такие семьи с большими культурными и трудовыми традициями были украшением провинциальной жизни, своего рода очагами передовой мысли.
Не знаю, почему до сих пор не нашлось исследователя (может быть, потому, что это слишком трудно), который проследил бы жизнь таких семей и раскрыл бы их значение хотя бы для одного какого-нибудь города – Саратова, Киева или Вологды. То была бы не только ценная, но и увлекательная книга по истории русской культуры.
После гимназии я потерял Булгакова из виду, и мы снова встретились только теперь, в редакции «Гудка».
В ту зиму Булгаков писал свои острые рассказы, где насмешка и гротеск достигали разящей силы.
Я помню то ошеломление, какое вызвали такие рассказы Булгакова, как «Записки на манжетах», «Роковые яйца», «Дьяволиада» и «Похождения Чичикова (Поэма в двух пунктах с прологом и эпилогом)».
Художественный театр предложил Булгакову на основе его романа «Белая гвардия» написать пьесу. Булгаков согласился. Так появились «Дни Турбиных».
Многострадальная и блестящая, эта пьеса пережила много перипетий, запретов, но победила всех своей талантливостью и драматургической силой.
В ходе той постановки возникло много гротескных, почти невероятных подробностей. Гофманиада сопутствовала Булгакову всю его жизнь.
Недаром любимым писателем Булгакова был Гоголь. Не тот истолкованный по-казенному Гоголь, которого мы принесли в жизнь с гимназической скамьи, а неистовый фантаст, безмерно пугающий людей то своим восторгом, то сардоническим хохотом, то фантастическим воображением, oт которого стынет кровь.
Гоголь всегда как бы стоит позади читателей и своих героев и пристально смотрит им в спину. И все оглядываются, боясь его всепроницающего взгляда. А оглянувшись, вдруг с облегчением замечают на глазах Гоголя слезы восхищения чем-то столь прекрасным, как сверкающее италийское небо над Римом или бешеный раскат русской тройки по ковыльным степям.
У Булгакова была странная и тяжелая судьба.
МХАТ играл только его старые пьесы. Новая пьеса «Мольер» была запрещена. Прозу его перестали печатать.
Он очень страдал от этого, мучился и, наконец, не выдержал и написал письмо Сталину, полное высокого достоинства русского писателя. В этом письме он настаивал на единственном и священном праве писателя – праве печататься и тем самым общаться со своим народом и служить ему всеми силами своего существа.
Ответа он не получил.
Булгаков тосковал. Он не мог остановить своих писательских мыслей. Не мог выбросить на свалку свое воображение. Худшей казни нет и не может быть для пишущего человека.
Лишенный возможности печататься, он выдумывал для своих близких людей удивительные рассказы – и грустные и шутливые. Он рассказывал их дома, за чайным столом.
К сожалению, только небольшая часть этих рассказов сохранилась в памяти. Большинство их забылось или, выражаясь старомодно, кануло в Лету.
В детстве я очень ясно представлял себе эту Лету – медленную подземную реку с черной водой. В ней очень долго и безвозвратно тонули, как будто угасали, люди и даже человеческие голоса.
Я помню один такой рассказ.
Булгаков якобы пишет каждый день Сталину длинные загадочные письма и подписывается: «Тарзан».
Сталин каждый раз удивляется и даже несколько пугается. Он любопытен, как и все люди, и требует, чтобы Берия немедленно нашел и доставил к нему автора этих писем. Сталин сердится: «Развели в органах тунеядцев, одного человека словить не можете!»
Наконец Булгаков найден и доставлен в Кремль. Сталин пристально, даже с некоторым доброжелательством его рассматривает, раскуривает трубку и спрашивает, не торопясь:
– Это вы мне эти письма пишете?
– Да, я, Иосиф Виссарионович.
Молчание.
– А что такое, Иосиф Виссарионович? – спрашивает обеспокоенный Булгаков.
– Да ничего. Интересно пишете.
Молчание.
– Так, значит, это вы – Булгаков?
– Да, это я, Иосиф Виссарионович.
– Почему брюки заштопанные, туфли рваные? Ай, нехорошо! Совсем нехорошо!
– Да так… Заработки вроде скудные, Иосиф Виссарионович.
Сталин поворачивается к наркому снабжения:
– Чего ты сидишь, смотришь? Не можешь одеть человека? Воровать у тебя могут, а одеть одного писателя не могут? Ты чего побледнел? Испугался? Немедленно одеть. В габардин! А ты чего сидишь? Усы себе крутишь? Ишь какие надел сапоги! Снимай сейчас же сапоги, отдай человеку. Все тебе сказать надо, сам ничего не соображаешь!
И вот Булгаков одет, обут, сыт, начинает ходить в Кремль, и у него завязывается со Сталиным неожиданная дружба. Сталин иногда грустит и в такие минуты жалуется Булгакову:
– Понимаешь, Миша, все кричат – гениальный, гениальный. А не с кем даже коньяку выпить!
Так постепенно, черта за чертой, крупица за крупицей, идет у Булгакова лепка образа Сталина. И такова добрая сила булгаковского таланта, что образ этот человечен и даже в какой-то мере симпатичен. Невольно забываешь, что Булгаков рассказывает о том, кто принес ему столько горя.
Однажды Булгаков приходит к Сталину усталый, унылый.
– Садись, Миша. Чего ты грустный? В чем дело?
– Да вот пьесу написал.
– Так радоваться надо, когда целую пьесу написал. Зачем грустный?
– Театры не ставят, Иосиф Виссарионович.
– А где бы ты хотел поставить?
– Да, конечно, в МХАТе, Иосиф Виссарионович.
– Театры допускают безобразие! Не волнуйся, Миша. Садись.
Сталин берет телефонную трубку.
– Барышня! А барышня! Дайте мне МХАТ! МХАТ мне дайте! Это кто? Директор? Слушайте, это Сталин говорит. Алло! Слушайте!
Сталин начинает сердиться и сильно дуть в трубку.
– Дураки там сидят в Наркомате связи. Всегда у них телефон барахлит. Барышня, дайте мне еще раз МХАТ. Еще раз, русским языком вам говорю! Это кто? МХАТ? Слушайте, только не бросайте трубку! Это Сталин говорит. Не бросайте! Где директор? Как? Умер? Только что? Скажи пожалуйста, какой пошел нервный народ!
Проводы учебного корабля
Норвежский парусный барк с железным корпусом – прекрасный океанский корабль – сел на камни во время Первой мировой войны в горле Белого моря.
Русское правительство купило этот корабль у Норвегии. После революции ему дали название «Товарищ», превратили в учебный корабль торгового флота и летом 1924 года отправили из Ленинграда в кругосветное плавание.
В редакции «На вахте» началось волнение – кого послать в Ленинград корреспондентом на проводы «Товарища»?
Это был первый советский парусный корабль, уходивший в такое заманчивое плавание. Я, конечно, никак не надеялся попасть на проводы «Товарища». Я понимал, что право на это имеют прежде всего наши сотрудники-моряки Новиков-Прибой{180} и Зузенко.
Женька Иванов устроил по этому поводу совещание. На нем неожиданно появился Александр Грин.
Я видел его тогда в первый и в последний раз. Я смотрел на него так, будто у нас в редакции, в пыльной и беспорядочной Москве появился капитан «Летучего голландца» или сам Стивенсон.
Грин был высок, угрюм и молчалив. Изредка он чуть заметно и вежливо усмехался, но только одними глазами – темными, усталыми и внимательными. Он был в глухом черном костюме, блестевшем от старости, и в черной шляпе. В то время никто шляп не носил.
Грин сел за стол и положил на него руки – жилистые сильные руки матроса и бродяги. Крупные вены вздулись у него на руках. Он посмотрел на них, покачал головой и сжал кулаки, – вены сразу опали.
– Ну вот, – сказал он глуховатым и ровным голосом, – я напишу вам рассказ, если вы дадите мне, конечно, немного деньжат. Аванс. Понимаете? Положение у меня безусловно трагическое. Мне надо сейчас же уехать к себе в Феодосию.
– Не хотите ли вы, Александр Степанович, съездить от нас в Петроград на проводы «Товарища»? – спросил его Женька Иванов.
– Нет! – твердо ответил Грин. – Я болею. Мне нужно совсем немного, самую малую толику. На хлеб, на табак, на дорогу. В первой же феодосийской кофейне я отойду. От одного запаха кофе и стука бильярдных шаров. От одного пароходного дыма. А здесь я пропадаю.
Женька Иванов тотчас же распорядился выписать Грину аванс.
Все почему-то молчали. Молчал и Грин. Молчал и я, хотя мне страшно хотелось сказать ему, как он украсил мою юность крылатым своим воображением, какие волшебные страны цвели, никогда не отцветая, в его рассказах, какие океаны блистали и шумели на тысячи и тысячи миль, баюкая бесстрашные и молодые сердца.
И какие тесные, шумные, певучие и пахучие портовые города, залитые удивительным солнцем, превращались в нагромождение удивительных сказок и уходили вдаль, как сон, как звук затихающих женских шагов, как опьяняющее дыхание открытых только им, Грином, благословенных и цветущих стран.
Мысли у меня метались и путались в голове, я молчал, а время шло. Я знал, что вот-вот Грин встанет и уйдет.
– Чем вы сейчас заняты, Александр Степанович? – спросил Грина Новиков-Прибой.
– Стреляю из лука перепелов в степи под Феодосией, за Сарыголом, – усмехнувшись, ответил Грин. – Для пропитания.
Нельзя было понять – шутит он или говорит серьезно.
Он встал, попрощался и вышел, прямой и строгий. Он ушел навсегда, и я больше никогда не видел его. Я только думал и писал о нем, сознавая, что это слишком малая дань моей благодарности Грину за тот щедрый подарок, какой он бескорыстно оставил всем мечтателям и поэтам.
– Большой человек! – сказал Новиков-Прибой. – Заколдованный. Уступил бы мне хоть несколько слов, как бы я радовался! Я-то пишу, честное слово, как полотер. А у него вдохнешь одну строку – и задохнешься. Так хорошо!
Новиков-Прибой разволновался и тоже отказался ехать на проводы «Товарища».
– Только сердце себе буравить, – сказал он сердито.
Пришла очередь Зузенко. Он подмигнул мне и сказал, что согласился бы идти на «Товарищ» капитаном. Приезжать же ему, старому морскому волку, на корабль в качестве «щелкопера» неуместно. Обойдутся и без него.
Тогда Женька Иванов предложил ехать мне. И сам тоже вызвался ехать.
Мы выехали на следующий день.
Я в первый раз в жизни ехал на Север. Уже в поезде за Тверью я почувствовал величавость его лесов, тусклого неба и равнин, озаренных бледным солнечным светом.
В детстве я читал у Пушкина, что «город Петра» возник во тьме лесов, среди чухонских болот. Потом это представление забылось. Его вытеснила сложная история города, его торжественная архитектура, постоянное присутствие здесь сотен замечательных людей.
Еще не зная Петербурга, я видел его их глазами.
Поколения писателей, поэтов, художников, ученых, полководцев, моряков и революционеров, прекрасных девушек и блестящих женщин сообщали полуночной столице облик романтический и почти нереальный. По милости писателей и поэтов Петербург был населен призраками. Но для меня они была так же реальны, как и окружающие люди.
В глубине души я верил, что Евгений Онегин, Настасья Филипповна, Незнакомка и Анна Каренина жили здесь на самом деле и этим обогатили мое познание Петербурга. Нельзя себе представить Петербург без этого сонма сложных и привлекательных лиц.
Я был уверен, что в Петербурге жизнь реальная и жизнь, рожденная воображением, сливаются неразрывно.
Я чувствовал на расстоянии его притягательную силу. Как будто в светлом воздухе и блеске ночей именно со мной должны были совершиться всякие события, похожие на те, что действительно происходили в этом городе и навек запомнились людям.
Поэтому, подъезжая к Ленинграду, я волновался так сильно, что просто оглох, не слышал вопросов, обращенных ко мне, и вообще был похож на одержимого.
Город появился как видение, созданное из мглистого воздуха. Дымка лежала в далях его проспектов. Сквозь нее бледно светила легендарная игла Адмиралтейства. Над Невой покачивался слюдяной солнечный блеск и пролетали легкие ветры со взморья.
Линии величественных зданий (я сразу понял, что таких архитектурных чудес нет больше нигде на свете) были чуть размыты северным воздухом и приобрели от этого особую выразительность.
На Невском проспекте меж влажных торцов пробивалась свежая трава. Ленинград был в тот год совершенно бездымен, чист. Почти все его заводы бездействовали.
Мы ехали с Ивановым с вокзала на Васильевский остров на стареньком «форде». Я боялся, что Иванов начнет болтать и мне придется прислушиваться к его словам и отвечать на них. Но он оказался молодцом! Он молчал и только, прищурившись, смотрел вокруг.
Сотни раз до этого я читал и слышал слова «На берегах Невы». Но я, конечно, не понимал, что это значит, пока со взлетающего длинного моста не грянул в глаза величавый разворот дворцов и не сверкнула синева обветренной Невы.
Над царственным простором горело солнце и цепенела тишина. Даже не тишина, а нечто большее – великая немота этого великолепия.
Очень легко дышалось. Может быть, потому, что воздух непрерывно соприкасался со смолой сосновых торцов и запахом лип. Здесь они казались такими темными, как нигде в мире. Особенно липы в Летнем саду.
Мы вышли из машины около Морского корпуса. По кривым, осевшим от времени огромным плитам мы поднялись в здание корпуса, в холодный парадный зал. Там шло собрание моряков в связи с отплытием «Товарища».
Иванов шепнул мне, что этот зал – единственный в мире, потому что он подвешен к стенам на огромных корабельных цепях. Я ему не поверил. Я не видел никаких цепей, но все же пытался уловить едва заметное качание паркетного пола. Если зал действительно подвешен, то он должен был бы качаться.
Но зал стоял твердо, не шелохнувшись.
Женя познакомил меня с рыжим веселым стариком – знаменитым парусным капитаном и морским писателем Лухмановым. Он подтвердил, что зал Морского корпуса действительно висит на цепях, и беспечно сказал, что в этом нет ничего удивительного.
Для меня же все вокруг было удивительным – и зал, и морские эмблемы на его стенах, и большие, блещущие сухим лаком модели кораблей, стоявшие на подставках вдоль стен.
Я сидел невдалеке от модели старого линейного корабля, очень пристально всматривался в него (модель стояла на уровне окна), и, должно быть, поэтому у меня в глазах вдруг что-то сместилось и дрогнуло. И вот уже этот линейный корабль уплыл за окно и оказался стоящим на якоре посреди Невы. Флаги его трепетали от ветра. Корабль кланялся жерлами старинных пушек – каронад, глядевших из люков.
Прикрыв его на минуту дымом, прошел буксирный катер. Корабль закачался на волнах от катера, чертя бугшпритом зигзаги по небу – то выше, то ниже Исаакиевского собора, видневшегося на другом берегу. Этот оптический обман радовал меня, как неожиданное возвращение детских моих ощущений.
Жестокое сожаление, даже досада охватили меня. Я был совершенно уверен, что не имею права видеть все это великолепное зрелище только один.
Всю жизнь я испытывал непоправимое сожаление, когда бывал один вдалеке от любимых людей – среди опаленных островов Эгейского архипелага, у берегов Сардинии, в темном и искристом Тирренском море, в феерическом блистании ночных парижских бульваров, во вписанном в туман и блеклую листву платанов Эрменонвиле, где умер Жан-Жак Руссо, на «плянтах» Кракова и в рыбачьих городках Болгарии, пропахших инжиром и «ясным» вином.
Иванов окликнул меня. Надо было идти на «Товарищ». Он стоял, расцвеченный флагами, у гранитной набережной.
На его палубе на длинных столах был сервирован обед. Столы были усыпаны полевыми цветами и обыкновенной травой.
Перед обедом Лухманов позвал Женю Иванова и меня в низкую темноватую каюту с дубовыми стенами, достал из шкафчика зеленую пузатую бутылку и налил всем какой-то адской жидкости. Она сожгла мне горло. Я сразу же пропитался до самых костей вяжущей горечью.
Поэтому, когда я вышел из каюты, Нева качнулась и чуть не сбила меня с ног. Шпиль Петропавловской крепости провел по небу размашистую дугу, а проходивший мимо катер показался мне дельфином. Он пенился, нырял, трубил в рог, от его борта водопадами летели радуги.
Я был пьян от одного стаканчика этой жидкости.
– Однако вы здорово надрались, – сказал мне Иванов. – Как в Одессе на даче капитана Косоходова. Помните?
Я помнил, конечно, но сейчас я не хотел вспоминать об Одессе. Довольно с меня Ленинграда. У меня от него началось сердцебиение.
Иванов обиделся за Одессу, но, по-моему, совершенно напрасно. Одесса – Одессой! Пусть живет, грохочет дрогами биндюжников, засоряет портовую воду арбузными корками, острит и хохочет, чадит жареными кабачками. Каждому свое!
Сейчас в меня вошел новый магический мир. Мне надо было привыкнуть к нему и вернуть потерянное спокойствие.
Бесплатный табак
Есть целые полосы жизни, о каких не хочется вспоминать. И не потому, что с ними связаны какие-нибудь наши ошибки, несчастья или неудачи. В неудачах, как говорил мой отец, тоже бывают хорошие стороны.
Нет, не из-за этих причин мне не хочется иной раз возвращаться памятью к прошлому. Вспоминать о некоторых годах нет охоты потому, что они ничего не прибавили к тому представлению о настоящей жизни, какое существует у каждого из нас. Наоборот, они даже урезали это представление.
Таким плохим было время, когда я ушел летом 1924 года из газеты «На вахте» и перешел на работу в телеграфное агентство РОСТА. Туда меня затащил Фраерман, переехавший в Москву из Тифлиса.
Поначалу я зарабатывал в РОСТА очень мало. Я все еще жил в Пушкине и никак не мог устроить свою жизнь более сносно. Каждый месяц у меня дней за десять до получки кончались деньги. На еду еще кое-как хватало, но на папиросы не оставалось ничего.
Беспрерывно «стрелять» папиросы у друзей и знакомых было неловко и в конце концов невозможно. Всему есть свой предел.
Тогда я совершенно неожиданно открыл простой и бесплатный способ добычи табака.
Я выходил в Пушкине к полотну железной дороги и шел вдоль путей, подбирая все окурки и так называемые «бычки», выброшенные пассажирами из окон вагонов. По пути от Пушкина до Клязьмы за какие-нибудь три километра я обычно набирал до двух сотен окурков.
Постепенно у меня накопились ценные наблюдения и над окурками и над курильщиками.
Некоторых курильщиков я презирал, а к другим, правда, немногим, чувствовал симпатию и благодарность.
Невзлюбил я тех, кто докуривал папиросы до картонного мундштука. Очевидно, это были люди расчетливые и скупые.
С одобрением я относился к курильщикам нервным и капризным. Они никогда не докуривали папирос до конца, а сплошь и рядом выбрасывали их после одной-двух затяжек.
Сначала я собирал окурки один и скрывал это от Зузенко. Но вскоре проницательный капитан догадался, откуда у меня появились запасы разносортного табака, пришел в восхищение от моего открытия, и мы начали собирать окурки вместе.
Это было веселее и добычливее.
Добычливее потому, что у Зузенко было острое капитанское зрение. А веселее потому, что окурки давали нам пищу для совместных выдумок, острот и насмешек, а в редких случаях – и для торжества.
Так, мы торжествовали, когда нашли на путях резиновый кисет, набитый легким табаком, и толстую сигару – совершенно черную и едкую, будто ее вымочили в селитре. Ее, должно быть, уронил какой-нибудь иностранец – пассажир сибирского экспресса («капиталистическая раззява», сказал о нем Зузенко).
Изредка мы находили окурки со следами губной помады. На оттиске от женских губ всегда оставалась легкая сетка морщинок.
Зузенко утверждал, что рисунок губных морщин у всех женщин бывает совершенно разный, подобно тому как разнятся у людей линии на большом пальце руки. Такие окурки вызывали у капитана взрыв фантазии. Он полагал, что по линиям губ можно было находить потерянных людей или отыскивать преступниц.
Цвет губной помады соответствовал, по мнению капитана, характеру женщин. Очень алая помада выдавала пылких южанок, розовая – наивных стрекотух, желтоватая – женщин загадочных и властных, а синеватая – нерях.
Довольно скоро мы заметили, что окурков на перегоне Пушкино – Клязьма становится все меньше. Тогда мы начали доезжать из Пушкина до платформы Тайнинка и оттуда уже шли пешком вдоль дороги до Лосинки. Так были открыты новые богатые россыпи окурков.
Возвратившись домой, мы отрезали от окурков обугленные концы, высыпали чистый табак, тщательно перемешивали его, сбрызгивали водой и сильно нагревали на времянке, – «ферментовали», как торжественно говорил Зузенко. От этого табачная смесь теряла горечь и курилась в самокрутках легко и приятно.
Зузенко даже предлагал написать вдвоем руководство по заготовке и переработке табака из недокуренных папирос. Он считал, что может получиться полезная книга со вставными сюжетными новеллами. Она будет пользоваться бешеным успехом, не меньшим, чем широко известное в Америке «Руководство по ограблению почтовых поездов», изданное в Чикаго.
Зузенко читал эту книгу и уверял, что она была полна разумных советов. Шутки шутками, а такая заготовка табака при скудости нашего существования нас очень выручала.
Птицелов
В Москве три Обыденских переулка. Название этих переулков вводит людей в заблуждение. Ничего обыденного в них нет. Наоборот, переулки эти отличаются некоторыми приятными качествами. Они сбегают к Москве-реке и упираются в пустынную набережную. По обочинам этих переулков весной даже цветут одуванчики.
Из Пушкина я переехал в Москву, в Обыденский переулок, в подвал старого купеческого особняка. Окно, пробитое ниже уровня земли, выходило в сад, обнесенный высокой кирпичной стеной. Над стеной поблескивал тусклым золотом купол храма Христа Спасителя и его тяжелый крест. В то время этот храм еще не собирались сносить.
Внезапно в один туманный зимний день в Обыденском переулке появился Эдуард Багрицкий. Он впервые приехал в Москву. Прямо с вокзала его привез ко мне Гехт.
Тяжелое астматическое дыхание Багрицкого, влажное хрипение его голоса и смущенный смех сразу напомнили Одессу и редакцию «Моряка».
Багрицкий, расстегивая зеленую бекешу, сказал, как бы утверждая все, что он читал и знал до тех пор о Москве:
– Златоглавая столица! Порфироносная! Азия! Но в общем знайте, что я не буду жить у вас в грубом понимании этого слова. Нет! Я буду стоять постоем!
Он явно храбрился. Но столь же явно было, что он чувствует себя в Москве неуверенно.
Друзья просто заставили его приехать в Москву. Довольно было сиднем сидеть в Одессе, где газеты платили Багрицкому за превосходные стихи по три рубля не за строчку, а за все стихотворение целиком (или, как говорили бухгалтеры, «аккордно»).
Довольно было голодать, продавать последние вещи и мечтать о пачке махорки и «кирпиче» черного мокрого хлеба.
Сейчас же после приезда Багрицкого ко мне в подвал нахлынули одесские литературные мальчики. В то время они уже всем кланом переселились в Москву.
Мальчики расхватали у Багрицкого привезенные стихи – весь этот рокочущий черноморский рассол, все поющие строфы, пахнущие, как водоросли, растертые на ладони.
Мальчики разобрали по рукам стихи, переписанные на щербатой машинке с пересохшей лентой, и ринулись разносить их по редакциям.
Сам Багрицкий этого бы не сделал никогда в жизни. Он боялся выходить на московские улицы. Он задыхался от московской желтой оттепели. Он клокотал бронхами, сидя весь день на тахте, поджав по-турецки ноги, и, отдышавшись, читал вслух «Уляляевщину» Сельвинского{181}.
Даже сквозь закрытое окно проникал во двор его певучий, срывающийся голос и знакомые слова:
Багрицкий читал «Уляляевщину» каждый раз по-новому, обыгрывая своим симфоническим голосом ритмы этой поэмы или какое-нибудь одно любимое место:
Я просил Багрицкого, чтобы он прочел мне свои стихи. Они утоляли в то время мою тоску по недавно покинутому Черному морю, по перегретому воздуху в тени одесских акаций. Но он не слушал меня и пел в каком-то самозабвении:
В конце концов он сжалился и прочел мне свои стихи, но не о море, а немного печальные и светлые стихи о непобедимой молодости:
Я не знал тогда, что это стихи не Багрицкого, а какого-то другого поэта. Но это обстоятельство Багрицкий, очевидно, считал несущественным, так как ничего не сказал мне об этом.
У него были свои понятия о принадлежности поэзии тому или иному поэту. Очевидно, для него стихи, как воздух, как солнечное тепло, были всеобщим достоянием.
Мне даже казалось, что, например, стихи Блока о Командоре, или «Веселые нищие» Бернса, или сказание Де Костера о Тиле Уленшпигеле – все это он считал как бы написанным не только Блоком, Бернсом или Де Костером, но им, Багрицким. Все это принадлежало ему хотя бы по той причине, что он умел открыть в них незамеченные богатства звуков, образов, красок и очарований.
Есть байка о том, что некоторые люди могут взять в руку тугой завиток цветка и от теплоты их рук он распустится со всей пышностью, на какую способен.
Чужие стихи как бы расцветали в руках у Багрицкого. Он был веселым феодалом государства поэзии. Он проходил по лугам этой страны, сбивая пыльцу с высоких перезревших цветов, прищурившись от солнечного света, сея богатства широкой рукой. И, может быть, к нему больше подходило слово «певец», чем «поэт».
После приезда Багрицкого я сказался больным и почти неделю не ходил на службу в РОСТА. Я предпочитал весь день болтать с Багрицким, готовить скудную нашу пищу и слушать стихи.
Однажды мне повезло. Я достал мороженого судака. Багрицкий решил зажарить его по «черноморско-греческому способу». Для этого понадобилось кило масла, кило чернослива и лимон. Такая трата была в то время неимоверной, но я не пожалел об этом.
Багрицкий засучил рукава, повязался полотенцем, придвинул к раскаленной времянке старое кресло с вылезшей из сиденья паклей (кресло я нашел в дровяном сарае), растопил на сковородке все масло и ждал, потирая руки, пока оно не пошло трещать и взрываться золотыми темными пузырями.
Тогда Багрицкий утопил в кипящем масле куски рыбы, обвалянные в муке, и торжественно сказал, почти пропел жирным, наигранным голосом незнакомые стихи:
Отсвет огня играл на смуглом средневековом лице Багрицкого. В то время он был еще худ и напоминал юношу с потемневшей итальянской фрески.
Трещали и румянились ломтики белого судака, синеватый чад вился над сковородой, а Багрицкий плотоядно присвистывал и говорил:
– Вот сейчас вы узнаете, какая это смакатура! Нигде в Греции, даже на острове Митиленакаки, вы не сможете поесть такого судака. Мировая шамовка! – повторил он, когда мы ели этого действительно замечательного судака с жареным черносливом. – Пища титанов и кариатид!
Потом мы закурили папиросы «Ира», и начались мечты. Мне они казались совершенно детскими и, конечно, нелепыми. Я относился к ним снисходительно, но в глубине души все же верил в мечты Багрицкого. Он говорил почему-то во множественном числе, но совершенно серьезно:
– Получим гонорар. Ну, сколько? Как вы думаете? На круг – тысячу рублей? Или, может, больше?
– Больше, – говорил я.
– Полторы тысячи! – восклицал Багрицкий. – Или две? – спрашивал он, испуганный собственной дерзостью, и выжидательно смотрел на меня.
– Свободно! – говорил я, небрежничая. – Очень даже свободно, что и все три. Чем черт не шутит.
– Три так три! Тогда так, – говорил Багрицкий и загибал палец на левой руке. – Одну тысячу – телеграфом в Одессу Лиде и Севе (жене и сыну). У них нет ни ложки постного масла. На другую тысячу мы покупаем на Трубе птиц. Всяких. Кроме того, на пятьсот рублей покупаем клеток и муравьиных яиц для корма. И еще канареечного семени. Самый легкий и калорийный корм для птах. Остается пятьсот рублей на дожитие в Москве и на обратную дорогу до Одессы-мамы.
Мечты эти каждый день менялись, но не очень значительно. То прибавлялись книги и за этот счет одесская тысяча сокращалась до семисот рублей, то возникало духовое ружье.
Багрицкий развлекался этими мифическими подсчетами. Я вместе с ним втянулся в игру. Меня только смущала сумма в 500 рублей, предназначенная на муравьиные яйца и канареечное семя.
Я представлял себе навалы, целые Чатырдаги яиц. Их, по словам Багрицкого, надо было хранить очень умело, в определенной температуре. Иначе в один прекрасный день все эти яйца могут превратиться в рыжих злых муравьев. Они разбегутся и за полчаса вынесут из дома до последней крупинки весь сахарный песок.
Я считал, что пятисот рублей на муравьиные яйца, пожалуй, много.
– Пусть много, – соглашался Багрицкий. – Но вы представляете, что будет с одесскими птичниками и птицеловами? Или с тем подлым стариком, который продавал мне на Привозе муравьиные яйца чуть не по штукам и выжимал из меня последние соки? Посмотрю я теперь на этого старика!
В это время пришел один из одесских литературных мальчиков по имени Сема. Он оторопел or безумных планов Багрицкого. Выражение ужаса появилось у него на лице. Посидев пять минут, Сема просто сбежал.
Багрицкий много рассказывал мне о своих одесских птицах. Но я знал это сам. Я был однажды у него на Степовой улице и помню сплошной треск, щебет, свист и чириканье в клетках, повешенных высоко под потолком. Брызги воды летели на головы из клеток, где птицы мылись в цинковых мисках, трепеща крыльями.
По словам Багрицкого, все это были самые редкие и самые дорогие птицы, хотя выглядели они затрапезно и довольно жалко.
Он покупал их на окраинных базарах, ловил в степи за Фонтаном, выменивал на соль и табак.
У него были паутинные сети для ловли птиц и разнообразные дудочки и манки.
Ловля птиц сетями – очень тонкое дело. Птицелов должен знать не только голоса и повадки птиц, но и обладать еще мастерством декоратора. Выбрав гладкое место, похожее на маленький ток, он рассыпал по нему пшено или крошки хлеба, растягивал над током на высоких колышках сеть, маскировал ее травой (бурьяном и цветами), пускал на ток какого-нибудь ручного предателя – щегла или чижа, привязанного леской за лапку к колышку, и прятался вблизи.
Предатель прыгал на току, клевал зерна, щебетал, обманывал вольных птиц, и они бесстрашно слетали на ток. Тогда птицелов, неподвижно лежавший за укрытием, дергал за бечевку, сеть падала и накрывала несчастных птах.
Но мечты мечтами, а за стеной подвала в редакциях и издательствах Москвы происходило нечто, казавшееся Багрицкому чудом.
Стихи Багрицкого газеты и журналы брали нарасхват. Издательства начали заключать с ним договоры на книги и платить авансы. Мальчики, нагруженные доверенностями от Багрицкого, приносили в подвал деньги. Они тщательно пересчитывали и записывали итог на стене около времянки.
Багрицкий денег не считал. Он только посматривал на цифры на стене и говорил:
– А птичий счет меж тем невидимо растет! Мы сможем купить на эти деньги еще и справный парусно-моторный дубок. Назовем его по традиции «Дуся» и будем возить на нем из Херсона в Одессу через Днепровско-Бугский лиман лучшие монастырские кавуны. Почернеем, как черти. Вы имеете понятие о лиманном загаре? Это – лучший в мире загар. Цвета коньяка с золотом. Он образуется не только от солнца, но и от его отражений в тихой лиманной воде. На лиманах много штилей. Жар от солнечного отражения такой же палящий, как и от прямого солнечного луча. Он качается и слепит, этот жар.
Иной раз незначительные, услышанные как бы мимоходом слова западают в душу и начинают мучить человека чем дальше, тем больше. Так случилось со словами Багрицкого об особенном, слепящем солнечном блеске лиманов, – обширных, неглубоких, с зеленоватой чистой водой и низкими полынными берегами.
С тех пор желание увидеть лиманы и пожить на их берегах прибавилось ко многим другим, столь же практически бесполезным желаниям, наполнявшим мою жизнь.
В первое же лето после этого разговора с Багрицким я уехал в Херсон и на Днепровско-Бугский лиман.
Об этих местах, напитанных запахом чируса и жаркой древности, я напишу отдельно. Даже венок названий, связанных с этим лиманом, волновал меня, – все эти Кинбурны, Ольвии, Очаковы, Тендры, Березани, Ингуллы и Ягорлыки.
Названия были как жестковатые степные цветы, как сухие букеты из репейника. Букеты эти пахли сами по себе горьковато и сладко и вместе с тем пропитывались запахом беленных мелом рыбацких лачуг. На их стенах эти букеты висели на ржавых гвоздиках целый год, – от одной весны до другой.
Неисповедимыми путями русская поэтическая мысль время от времени приближалась к лиманным берегам, селениям и водам: «Однако, как свежо Очаков дан у Данте»{182}, «Тонет белый парус на Лимане, много видел он морей и рек»{183}.
Здесь из этой пережженной земли хлеборобы выпахивали иной раз звонкие эллинские вазы. На рисунках этих ваз черноморский ветер, дувший тысячи лет назад, развевал легкие подолы эллинских женщин. Каждая из этих женщин казалась мне Ифигенией, умершей здесь в изгнании{184}.
Чем дальше по времени был умерший человек, тем он становился более живым и в конце концов делался действительно бессмертным.
Недавно я был летом на другом лимане – Днестровском. К глинистым его откосам нельзя было прикоснуться рукой: так они были раскалены, но за Пересыпью разливалось по пескам прохладой и пеной зернисто-зеленое море.
Теплое вино в лавчонках села Шабо мутило голову. Уютный, будто построенный в бесконечно мирные времена городок Аккерман (Белгород-Днестровский) задыхался от цветущего табака и лиловатой маттиолы. Рыбачьи лодки уходили на веслах в лиман за бычками и глоссой. На базаре продавали самотканые шерстяные ковры с такими пылающими розами и бешено-зелеными виноградными листьями, что покупателей брала оторопь.
Там же, на базаре, над корзинами с виноградом и сливами звенели на одной высокой ноте перетянутые в талии осы, и старик в черных очках говорил доверительно:
– Покупайте сливы-мирабельки. Чистая глюкоза! Покупайте и кушайте себе на здоровье в холодке под акацией. Очень укрепляет кровеносные сосуды!
Городок весь целиком был погружен в густейшую тень садов, будто над ним протянули зеленый прохладный брезент. А за резкой чертой этого брезента плавился на солнце лиман, испепеляя лица и шеи.
Об этих лиманных водах я впервые услышал от Багрицкого. Он сказал о них вскользь, может быть не придавая своим словам никакого значения, кроме шутливого. Но мимолетный образ лиманной воды упал, очевидно, на благодатную почву в мое сознание, стремившееся изучить в природе все, что замечено вскользь и о чем говорится почти всегда мимоходом.
Каждый день, по мере того как цифра гонорара на стене у времянки росла, мечты Багрицкого усложнялись. Ему уже мало было дубков и муравьиных яиц. Он мечтал о путешествиях и говорил о них, задыхаясь. Чтобы успокоить одышку, он курил астматол. Тогда в подвале пахло горелой травой и валерьянкой.
Багрицкий стремительно завоевал Москву. Успех его стихов был бурным и всеобщим. По вечерам в подвале уже трудно было дышать от обилия людей и папиросного дыма.
Как всегда, неожиданный успех принес с собой беспокойство. Он казался преувеличенным и шатким. Багрицкого мучили дурные предчувствия. Он начал поговаривать, что литературные мальчики перестарались, что в недрах редакций наверняка уже лежат разгромные статьи об его стихах, и, как большинство статей такого рода, они написаны нагло и фамильярно.
Он клялся, что его будут обвинять в «гнилом индивидуализме», «имитаторстве» и назовут «вертлявым гимназистом».
С немногими критиками, появлявшимися в подвале, Багрицкий держал себя настороженно. Но явно раздражал его только один из них, человек навязчивый и развязный, который всю поэзию нашего юга называл «повидлом из баклажан».
Уже тогда Багрицкого угнетало то обстоятельство, что чужие люди назойливо лезли к нему и советовали любить то, чего он не любил, и отрицать то, к чему он тянулся с самого детства. Впервые тоном приговора было произнесено по отношению к нему слово «романтик», но с оговоркой, что он заслуживает снисхождения.
Но все это меркнет перед тем, что произошло уже после смерти Багрицкого, в послевоенные годы, когда раздались нелепые обвинения, будто Багрицкий глумится над украинским народом.
Это было глупо и неверно: ведь каждая строка «Думы про Опанаса» исполнена любви к Украине, к ее поэзии, к Шевченко.
Оружием Багрицкого, кроме его подлинной поэзии, было еще острое слово. Он отбивался им, как рапирой, от надоедливых учителей. Под выдержкой и благодушием он скрывал порой жестокий сарказм. Но к нему он прибегал только ради достоинства и вольности стихов.
В то время я только что окончил повесть под нарядным названием «Пыль земли Фарсистанской».
Название это казалось мне очень заманчивым, хотя было неправильным. Дело в том, что действие повести происходило на крайнем севере Персии (я там был очень недолго), а Фарсистаном называется как раз южная часть страны. Там я никогда не был. Но звучность этого слова – «Фарсистан» – так мне понравилась, что я пренебрег точностью и сдвинул название с юга на север. Я успокаивал себя тем, что персидский язык называется «фарси» и потому все области страны, где говорят на этом языке, можно называть Фарсистаном.
О повести этой узнал Бабель и попросил, чтобы я дал ему прочесть ее. Сначала я здорово испугался и начал уверять Бабеля, что повесть еще не окончена. Но Бабель был неумолим.
– Через два дня, – сказал он, – я приду, и чтобы повесть к тому времени лежала вот тут на столе, как миленькая.
И он постучал ладонью по краю стола, который Багрицкий прозвал «обломком империи».
Стол действительно был ветхий, из черного дерева, с бывшей перламутровой инкрустацией. Ее, очевидно, долго и настойчиво выковыривали дети нескольких поколений. От инкрустации остались только осколки.
Потом Бабель долго, посмеиваясь, изучал на стене около времянки запись полученного гонорара и даже выписал итог на листке бумаги.
– Я рад за вас, Эдя, – сказал он. – Лида, наконец, вздохнет. Вы поживете спокойно и наверняка напишете чудную поэму.
Когда Бабель ушел, Багрицкий произнес зловещим голосом:
– Подходит беда! У него мертвая хватка и дыхание бенгальского тигра. Так что лучше положите рукопись на стол сейчас же. Чтобы она всегда была на месте, если он придет без вас. Иначе он вынет из вас душу.
– За что?
– Откуда я знаю за что? И как бы он и из меня тоже не вынул душу.
– А у вас за что?
– Вы видели, что он списал со стены цифры?
– Он списал только итог.
– А зачем! Не знаете? Вот то-то! Никогда нельзя догадаться, что думает этот человек. Кошмарный характер!
Бабель пришел, как обещал, – ровно через два дня.
Пока он тщательно протирал запотевшие очки и близоруко рассматривал их, Багрицкий спустил ноги с тахты и застегнул гимнастерку.
Бабель сел на стул против Багрицкого и начал смотреть на него смеющимися глазами. Багрицкий заерзал и отвернулся.
– Не нервничайте, Эдя! – сказал Бабель. – Нервничать будете, когда я уйду.
– А чего мне нервничать? Я всегда рад вас видеть, Исаак Эммануилович.
– Смотря при каких обстоятельствах, – ответил Бабель, все так же пристально и весело глядя на Багрицкого.
Багрицкий молчал. В коридоре дефективная соседская девочка стояла у телефона и, держа трубку вверх ногами, без конца повторяла:
– Я слушаю, слушаю, слушаю…
Так она могла повторять до ста и до двухсот раз, пока кто-нибудь не высовывался в коридор и не кричал:
– Положи немедленно трубку!
Родители дали этой девочке роскошное имя – Эволюция. Но потом они спохватились, отсекли начало имени, и девочка навсегда осталась Люцией.
Во всяком случае, вечное жалобное бормотание Люции «Я слушаю, слушаю, слушаю» придавало жизни в подвале несколько зловещий оттенок.
– Итак, Эдя, – сказал наконец Бабель, – что вы собираетесь делать?
Багрицкий продолжал молчать. За дверью бормотала, как заведенная, Люция.
– Конечно, – промолвил с грустью Бабель, – вас хватит на то, чтобы купить на весь гонорар вагон канареечного семени в Кишиневе и засеять им Дюковский сад.
– А что ж тут такого? – с осторожным вызовом спросил Багрицкий. – Между нами говоря, в Кишиневе канареечного семени нет. Им торгуют только Москва и Калуга.
– А то тут такого, – ответил Бабель, – что доставайте все деньги и выкладывайте на это место!
Бабель постучал ладонью по «обломку империи».
– Ну, хорошо. А что же будет дальше? – уже робея, осведомился Багрицкий.
– Дальше будет изъ-я-ти-е некоторых сумм, – внятно ответил Бабель. – На предмет отсылки Лиде в Одессу.
– Это очень мило с вашей стороны, – вежливо сказал Багрицкий, – что вы так печетесь о моем семействе. Но деньги в Одессу я переведу сегодня же собственной рукой. А этому пасквилянту Семе я – тоже собственноручно – набью морду. Это он накапал вам, что я хочу на две тысячи рублей купить певчих птиц и завалить весь Привоз в Одессе конопляным семенем. Вы же самый проницательный человек на свете, Исаак Эммануилович, а попались на удочку Семе – стопроцентному вралю и мишуресу.
Кстати говоря, Сема не был ни вралем, ни нахалом. То был хилый веснушчатый юноша с плохим воображением. Поэтому он принимал за чистую монету все наши разговоры, пугался, тотчас бежал предупреждать кого-нибудь из знакомых и вызывал бессмысленное смятение.
– Стопроцентных вралей не бывает, – убежденно ответил Бабель. – Даже Марк Твен не был абсолютным вралем. Он хорошо понимал это дело, но иной раз тоже давал слабину. Из современных писателей никто не умеет врать по-настоящему. Вдохновенно, возвышенно, смешно или красиво. Искусство вранья скоро будет утеряно. Что вы хотите, когда семилетние мальчики уже обыгрывают в шахматы Капабланку{185} и понимают схему детекторного приемника. А ваш Сема врет только впятеро, не больше.
– Допустим, – согласился Багрицкий.
– Если так, то вы, Эдя, худо-бедно, а решили истратить на птиц не две тысячи рублей, а, скажем, впятеро меньше – четыреста рублей.
– Верно! – подтвердил Багрицкий.
– Этого нельзя допустить, – сказал ледяным голосом Бабель. – Ни в коем случае. Хватит с вас двухсот рублей. Я даю вам настоящую цену.
– Последняя цена, – сказал Багрицкий, – четыреста рублей, и ни копейки меньше!
Он хлопнул ладонью по «обломку империи».
– Что вы такое говорите, Эдя? – воскликнул Бабель тоном перекупщика. – Побойтесь Бога! Четыреста рублей! Какой кретин даст вам четыреста рублей!
И Бабель, в свою очередь, ударил ладонью по «обломку империи».
– Триста рублей – и кончим этот разговор!
Началась игра. Бабель придумал ее молниеносно, на ходу, чтобы выйти из неловкого положения, в какое попал.
Он перевел неприятный разговор в шутку. Багрицкий подхватил эту шутку. Она была сейчас очень кстати. Она спасла Бабеля от открытой ссоры с Багрицким.
Шутка спасла положение. Но этого показалось мало, чтобы загладить неловкость. И, как всегда в таких случаях, люди, стремясь переменить разговор, бросились на первое, что им попалось под руку. К несчастью, под руку попалась моя рукопись «Пыль земли Фарсистанской».
Я мужественно принял на себя по поводу этой рукописи залп вопросов и замечаний, наспех придуманных Бабелем и Багрицким.
Наконец Бабель забрал мою рукопись, и мы вышли все вместе. Багрицкий пошел на почту отправлять деньги в Одессу, я пошел проводить его, а Бабель, подмигнув мне, деликатно исчез.
В одно хмурое предвесеннее утро (в подвале все утра казались хмурыми) Багрицкий встал, шумно выдохнул воздух и сказал:
– Постой прекращается! Послезавтра я еду в Одессу.
Он радовался возвращению в Одессу, как ребенок. Его бронхам не хватало черноморской соли. В Москве он задыхался все сильнее, но не жаловался. Чем хуже ему было, тем чаще он шутил над собой.
Просыпаясь среди ночи, я видел, как он, сидя на тахте и обхватив колени руками, тяжело, со свистом кашлял и потом долго ловил воздух судорожно открытым ртом.
Я вставал, сворачивал фунтик из бумаги, насыпал в него какую-нибудь сушеную траву и селитру, клал на тарелку и поджигал все это. Потом я кипятил на времянке чай. Горячий чай и едкий дым одинаково успокаивали Багрицкого и помогали ему, как он говорил, «раздышаться».
Он долго не мог уснуть (спал он полусидя), и после каждого такого ночного чая у нас начинался разговор до утра.
Однажды Багрицкий сказал мне, что астма – это типичная болезнь еврейской бедноты, еврейских местечек, зажатых и тесных квартир, пропитанных запахом лука, сухого перца и какой-то едкой кислоты. У нее, у этой кислоты, не было названия. Она, по словам Багрицкого, самозарождалась в воздухе жалких ремесленных мастерских и пахла так же мерзко, как муравьиный спирт. Ею пропитывалось до самого корня все – заплатанные сюртуки стариков, рыжие парики старух, вся шаткая мебель, все пышные и душные подушки в розовых мутных наперниках, вся еда. Даже чай отдавал этой кислотой, будто окисью медного самовара.
Багрицкий говорил, что как только он попадал в этот ремесленный чад, вдыхал запах кожи, коленкора и паяльных ламп, у него начиналась жестокая астма.
Проходила она начисто только в теплые приморские дни, когда рука, опущенная в морскую воду, не ощущала холода и можно было часами лежать грудью на раскаленных массивах рейдового мола и прогреваться насквозь – сверху солнцем, а снизу жаром ракушечника.
Он с тоской говорил о тех мельчайших приметах безмятежного одесского лета, какие всегда вызывают широкое счастливое состояние.
Он звал меня приехать летом в Одессу, обещал сводить на Сухой лиман и в замечательный рыбачий поселок Каролино-Бугаз, где-то около Днестровского лимана. Я поехал летом в Одессу (об этом я расскажу позже) и все это видел.
Но вскоре Багрицкий совсем переехал в Москву и поселился в Кунцеве, среди сыроватых и довольно унылых дачных участков и низкорослых берез.
Я всегда считал его переезд на север ошибкой, но не решался говорить об этом ни его родным, ни друзьям.
Я считал это ошибкой потому, что нельзя отрывать поэта от его жизненосных корней, от сложного соединения простых и милых для него явлений. Из них неведомыми путями рождалась поэзия. Вернее, рождался подтекст его поэзии – тот вначале неуловимый слухом ультразвук, который рано или поздно пробивал оболочку немоты и появлялся рядом с нами – печальный, радостный, торжественный.
Я бывал у Багрицкого в Кунцеве и все время чувствовал досаду и стеснение. Как большая нахохленная птица, он сидел все так же на тахте, поджав по-турецки ноги, как сидел в моем сыром подвале в Обыденском переулке.
Сидел и все шутил, все смеялся, хотя в глазах его временами появлялась неуемная тоска по степным шляхам, уходящим в туманные закаты, по веселому бегу наперегонки бесчисленных волн у пляжей, по мельканию солнца и виноградной листве и по обильно политым ранним утром одесским улицам.
И, конечно, по утреннему свисту птиц, гнездившихся в обрывах морского берега под корнями тамариска и акации.
Нелегкое дело
Со времени работы в РОСТА я начал упорно обороняться от всего, что могло засорить тот внутренний мир, который я носил в себе и пытался передать другим.
Больше всего я боялся заразиться стертым и беспомощным языком. Он безжалостно и быстро распространялся в те годы.
То обстоятельство, что я почти бессознательно забывал уродства языка, очевидно, и дало мне в дальнейшем возможность стать в какой-то мере писателем.
Отвращение к исковерканному языку накапливалось давно и перешло в ненависть к нему.
Ко многим словам, таким, как «поприветствовать», «боевитый» (их можно привести еще много), я чувствовал такую же ненависть, как к хулиганам. И не только потому, что они идут вразрез с характером русского языка, но еще и потому, что в них выражалось невежество и отсутствие национальных качеств.
Язык всегда должен быть под стать стране. Он должен определять ее лицо, ее красоту, ее характер с такой же наглядностью, как определяет все эти качества самый пейзаж страны, как это определяет какой-нибудь изволок, уходящий в вечереющий туман над милой до сердцебиения рекой. Многого не надо, чтобы догадаться, что ты в России. Достаточно увидеть, как синицы стряхивают на землю лимонные листья с прибрежных осин.
Возможно, я отношусь к языку с преувеличенной строгостью и благоговением. Но иначе и не может быть. Иначе мне следовало бы заняться счетоводством или еще чем-нибудь в этом роде.
Русский язык существует подобно своду величайшей поэзии, столь же неожиданно богатой и чистой, как полыхание звездного неба над лесистыми пустошами.
Ко времени работы в РОСТА у меня уже было напечатано несколько рассказов, большей частью написанных наспех. Писал я их за один-два вечера и относился к ним довольно легкомысленно.
Рассказы эти были данью моему детству, главным образом тому туманному восхищению морем и моряками, которое завладело мной еще в Киеве, когда я впервые встретил в Мариинском парке гардемарина с корабля «Азимут».
Правда, была уже вчерне написана повесть «Романтики». Но я считал ее еще недостойной печатания. Она лежала у меня без движения много лет, – так долго, что рукопись обветшала и пожелтела.
Более или менее удачные отдельные строчки и мысли были разбросаны по разным рассказам и терялись в них.
Я знал, что подлинный писатель должен быть в своем деле ясным, естественным, должен с полной силой и смелостью выражать свое отношение к жизни и людям. Тут отдельными хорошими местами не отделаешься. Да я и не очень верил в эти свои хорошие места. Сгоряча они мне нравились, но быстро приедались и казались безжизненными. Я даже начинал стыдиться их.
Но не это главным образом тревожило меня в первые годы. Работа над языком и первые удачи – все это было как бы в порядке вещей. Хуже всего были полуудачи. Ими я начал постепенно считать, как сказано выше, почти все свои первые рассказы.
Нет ничего более неприятного, чем забитый в стену и согнутый гвоздь. Ему не доверяешь.
Мои полуудачные рассказы были чем-то необъяснимо похожи на собрание то сильно, то чуть заметно согнутых гвоздей. Исправлять их не было смысла, – давно известно, что как ни выправляй гвоздь, он все равно останется хоть и немного, а кривым.
Так и рассказы. Есть рассказы хорошо написанные, но внутри пустые, как съеденное червями яблоко. Пустые потому, что они выдуманы или, вернее, придуманы, что от живой жизни в них присутствует всего только несколько крох, а все остальное набрано отовсюду и наспех связано непрочными нитями. Они вот-вот оборвутся, и рассказ развалится на куски.
Такое ощущение все чаще оставалось у меня от моих вещей. Это меня удручало.
Каждый раз я садился писать новый рассказ с твердым решением быть беспощадным к себе и не уходить от подлинности в мир искусственных вещей. Но каждый раз какая-то слепая внутренняя инерция понуждала меня идти по линии наименьшего сопротивления, брать внешний сюжет и уступать своей склонности к необычайным положениям, людям и обстановке.
Перечитывая только что написанный рассказ, какую-нибудь «Королеву голландскую», «Черные сети» или «Разговор во время ливня», я замечал, что он сделан хотя и из добротных, но все же из отходов какого-нибудь любимого мною в то время писателя, в частности из отходов Джозефа Конрада (на что мне впервые указал Бабель). Но, в общем, рассказ «держался», читать его было порой легко и даже интересно, и это давало мне ложное успокоение.
«В чем же дело? – спрашивал я себя. – Почему у меня не подымается рука перечеркнуть все это и выбросить в корзину?»
Пока я писал новый рассказ, все было как будто хорошо, но потом, особенно по ночам, вспоминая его, я не мог уснуть, находил в нем много скороспелого и проклинал себя за то, что дал его в печать.
Пока что я печатался главным образом в газетах. Газеты требовали срочных рассказов!
С тех пор у меня остался страх перед быстрым печатанием.
Так сам по себе получил силу закон – не печатать вещей, не дав им отстояться, пока не осядет, как в растворе, осадок, а влага не заиграет своей кристаллической чистотой. Этот элементарный закон подтверждался опытом многих писателей.
Я понял слова Пушкина об усовершенствовании любимых дум. Всего в четырех словах был дан изумительно ясный и четкий совет или, пожалуй, приказ для пишущих.
Так началась борьба за то, чтобы все, что пишешь, исходило из подлинности, борьба за неразрывное слияние этой подлинности со свободным воображением.
И здесь у меня появился, помимо Бабеля, новый учитель – Михаил Михайлович Пришвин{186}. Я прочел его рассказ «Башмаки» о холодных сапожниках-«волчках» из Марьиной Рощи, пытавшихся сделать туфли для женщины будущего. Весь этот рассказ был основан на совершеннейшей реальности, даже на быте, но вместе с тем он подчинялся легкому вымыслу.
Так для меня родился второй закон: рассказ о жизни в любых ее событиях и человеке в любых его качествах становится настоящим искусством, когда он связан с реальным опытом и вместе с тем с воображением и вдохновением.
Я был уверен, что нашел правильный путь в тот всегда прекрасный для меня, тяжкий труд писателя, о каком я так давно и бесплодно мечтал. Нашел я его почти инстинктивно, так как никогда не был способен к долгим и последовательным размышлениям.
Путь был найден и привел меня к первой моей, как говорили друзья, «настоящей» книге – «Кара-Бугазу».
Лесовик
За Пришвиным я долго следил издали; боясь встретиться с ним, с этим, как мне казалось, знахарем и мудрецом. От него как бы пахло талой водой, едким соком дягиля, лесной прелью, вечерней зарей над болотами.
Он всегда где-то скрывался, в каких-то российских гущах, как мужичок-лесовик, неслыханно лукавый и до того проницательный, что ни одна птичья хитрость не могла от него ускользнуть.
Потом мы встретились, но близко не сошлись. Он обладал тем качеством, которое не всегда помогает сближению, – своим особым и порой невнятным для окружающих языком для выражения своих совсем особых мыслей.
Что-то в нем было от старого цыгана, не только в наружности, но и в том вольном знании страны, что свойственно прирожденным бродягам.
Однажды Пришвин сказал мне, что все напечатанное им – сущие пустяки по сравнению с его дневником, с его ежедневными записями. Он вел их всю жизнь. Эти записи он главным образом и хотел сохранить для потомства.
После смерти Пришвина часть этих записей была опубликована. Судя по ним, это был труд поразительный и огромный, полный поэтической мысли и неожиданных коротких наблюдений, – таких, что другому писателю двух-трех строчек Пришвина из этого дневника хватило бы, если их расширить, на целую книгу.
Если в литературе есть подтекст – второе значение вещей, вторичное их видение, отражающее, как эхо, основной звук и укрепляющее его в нашем сознании, – то Пришвин открыл подтекст в русской природе.
Тайна этого подтекста состояла в том, что его личное, очень интимное ощущение от мелколесья, зверей, облаков, рек, глухих чапыг и вторичного цветения какой-нибудь облепихи сливалось с природой и давало ей особенный, пришвинский облик.
Пришвин сам существовал как явление русской природы.
Он был владетелем нашей земли по праву любви к ней, по праву знания и, как все владетели, был немного собственником, но в особенном значении этого слова.
Он жалел и охранял землю как собственник, но не для себя, а для искусства и для поколений. Охранял потому, что знал облагораживающую силу девственной земли.
Он хотел сохранить для людей хотя бы обрывки этой первозданной земли, чтобы человек мог дышать воздухом нетронутых уголков и видеть ту ее свежесть, какая быстро тускнеет и жухнет под слоями пыли и дыма.
Поэтому он очень сердился на меня за то, что я написал книгу «Мещерская сторона» и тем самым привлек к Мещерским лесам пристальное и губительное (к сожалению) внимание людей с его неизбежными тяжкими последствиями – толпами туристов, истоптавшими вконец эти свежие некогда места, и бригадами людей практических, тотчас же начавших приспособлять этот край к извлечению из него наибольшей выгоды.
– Вы знаете, что вы наделали своими восторгами перед Мещерой! – сказал он мне с укором и осуждением, как неосторожному мальчику. – В вашей тихой Солотче уже строят сотни дач для жителей Рязани. Пойдите-ка теперь в луга и найдите хоть один цветущий шпорник. Поищите! Черта с два вы его найдете! Красоту только тронь небрежной рукой – она исчезнет навеки. Современники, может быть, и будут вам благодарны, а дети ваших детей вряд ли за это поклонятся. А сколько в этой самой Мещере было сил для развития высокого народного духа, народной поэзии! Неосмотрительный вы человек, милый мой. Не сберегли свое Берендеево царство.
Да, шпорник теперь в Мещере, пожалуй, и днем с огнем не найдешь.
«Днем с огнем» – какие хорошие слова. Для детей. Потому что только ребенок может поверить, что по зарослям бродят днем какие-то чудаки и светят сильными фонарями в гущу трав, чтобы в их укромной тени найти синий – втрое более яркий и темный, чем небо, – цветок.
Сначала я был ошеломлен гневом Пришвина. И даже чуть возмущен. Все, мол, для себя, ничего для людей. Что хорошего и достойного в том, чтобы прятать от них красоту?
Но вскоре я убедился, что Михаил Михалыч говорил так, заботясь о благе людей, о том, чтобы их жизнь не была обездолена. Он думал далеко вперед, мы же привыкли думать о сегодняшнем дне, – в этом заключается наше себялюбие.
Медные подковки
Маяковский лежал на низком помосте в зале Дома писателей. Дом стоял в глубине двора, в зарослях сирени. Говорили, что этот старый особняк Толстой описал в «Войне и мире» как дом Ростовых.
Окна в зале были открыты. Манерную статую Венеры Медицейской в вестибюле закрыли черным покрывалом. Из-под него виднелось ее мраморное холодное колено.
Маяковский лежал на помосте в гробу, будто в каменном саркофаге, – тяжелый, большой, не переставший думать. Лежал ногами к входу и к людям, толпившимся около гроба. Поэтому прежде всего были видны его прочные ботинки с медными подковками на каблуках. Подковки блестели в луче солнца и были сильно стерты.
Поэт ходил по земле широко и немного небрежно. Медь быстро стиралась от такой ходьбы.
Должно быть, у многих появилась тогда мысль, что эти грошовые подковки не истлеют никогда, тогда как прах поэта исчезнет. А ведь людям были нужны не только его стихи, но и он сам – живой и гремящий.
Небывало теплый апрель стоял в Москве в год его смерти{187}. От сырой земли в палисаднике за окнами подымался пар. Он шевелил прошлогодние палые листья.
Листья были черные, пахли кисловатым вином. Из них нельзя было бы сплести венок поэту.
Кто-то положил вместо венка несколько таких листьев в гроб к его ногам. Они не потерялись среди оранжерейных хризантем и гвоздик, среди атласных траурных лент, веток туи и скипидарной елочной хвои.
Листья лежали там по праву. Один из них прилип к подошве Маяковского и вместе с ним сгорел потом в невыносимом пламени погребения.
Самое трудное в смерти для тех, кто остался жить дальше, заключается в том, что они не успели сказать умершему то главное, что чувствовали и думали о нем. Любящие, как всегда, опоздали. Непонятная застенчивость сжимала им губы. И теперь он, конечно, никогда не узнает, как бескорыстна была их любовь. Может быть, она могла спасти его?
А он молчал перед смертью и ни перед кем не выговорил свое последнее горе. Он лежал, чуть нахмурясь, никому не сказав о тех обидах и болях, какие жизнь нанесла ему – сильному духом и уверенному в себе поэту.
Да, он наступил на горло собственной песне{188}. Он совершил подвиг поэтического самопожертвования ради блага своей страны и народа.
Он был чернорабочим, агитатором, бойцом. На его плечи легла задача привить революцию каждодневной человеческой жизни. Мягкость была не к месту.
Вокруг было слишком много слюнтяйства. Надо было бичевать бездарность, глупость, тугие мозги и затылки. Надо было кричать на людей, чтобы они опомнились и вылезли из своих тепловатых гнезд.
Надо было просто выгонять людей из этих гнезд на резкий и холодный ветер революции, особенно поэтов.
Недаром в 1921 году он написал:
Он писал свои стихи, как молотобоец, – засучив рукава.
Есенин сказал, что «в этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей»{190}.
Безнадежность этих слов казалась Маяковскому возмутительной. Но прошло всего пять лет со смерти Есенина – и он сам позвал к себе смерть и полностью рассчитался с жизнью.
Зачем? Кто знает?
Его несли по улице Воровского, по улице иностранных посольств. Флаги над посольствами были приспущены. Даже недруги отдавали должное его поэтической мощи, его прямолинейности трибуна, его политическому темпераменту.
Раз он умер, то они, очевидно, успокоились и перестали придавать значение разящей силе его слов. Они просто не знали, что сплошь и рядом слово чем дальше, тем становится грозней. Его не обезвредишь, даже утопив на дне океана, как пытаются обезвреживать отходы атомного производства. Оно все время будет прорывать благополучную пленку жизни и взрываться то тут, то там.
Я почти не знал Маяковского.
После возвращения из скитаний по югу в Москву я целый год прожил в Пушкине по Северной дороге. Об этом я уже писал. За моей дачей глухо стоял сосновый лес, а за ним тянулась болотистая низина и разливалась речка Серебрянка, всегда затянутая туманом.
Всю зиму я прожил на этой даче один, а летом в ней поселился Асеев с женой и ее веселыми сестрами-украинками. Потом добрейший Семен Гехт (сестры произносили его фамилию «Хехт») снял пустой чердак, где по ночам спали хозяйские козы, и началась шумная и вольная дачная жизнь.
Маяковский жил в то время на Акуловой горе и часто приходил к Асееву играть в шахматы.
Он шел через лес, широко шагая, вертя в руке палку, вырезанную из орешника.
Он показался мне угрюмым. Я старался не попадаться ему на глаза. Я был излишне застенчив. Мне казалось, что Маяковскому просто неинтересно разговаривать со мной.
Что я мог сказать ему нового и значительного? Все уже сказано, вся мировая культура изучена им и перемыта в острых и остроумных спорах. Я это знал потому, что из комнаты Асеева до меня долетали все разговоры.
Однажды, когда Асеев уехал в Москву, Маяковский постучал ко мне и предложил сыграть в шахматы. Я играл плохо. У меня не было способности предвидеть игру за несколько ходов вперед. Но я согласился, и мы пошли к Асееву.
Там сидела на тахте, подобрав ноги, жена Асеева Оксана с золотыми распущенными волосами. Мне очень нравились стихи Асеева, посвященные ей:
Стихи эти по первой сокращенной строке назывались «Окжемир». Так же звали и Оксану.
Окжемир сказала, что ее тошнит от вида мужчин, нахохленных над шахматной доской. Маяковский только хмыкнул, а я промолчал.
Надо было о чем-нибудь говорить. С каждой минутой молчание становилось все тягостнее. У меня в голове носились обрывки всяких, преимущественно глупых мыслей. Я не мог ничего придумать, чтобы начать разговор.
Маяковский молчал, зажав папиросу в углу рта, и смотрел на доску. Почему-то молчала и Окжемир. Тогда в полном отчаянии я заговорил о ловле раков в реке Серебрянке. Там действительно водились огромные раки – настоящие речные крокодилы.
– Нудное дело, – сказал Маяковский. – Не понимаю, как можно заниматься такой ерундистикой!
Я покраснел и до конца партии не мог вымолвить ни слова. На мое счастье, пришел Асеев, и я сбежал к себе.
С тех пор я начал бояться знаменитых людей и боюсь их до сих пор. Я всегда чувствую себя свободно и спокойно только в обществе людей самых простых.
Среди писателей таких людей не так уж много. Правда, очень прост и доброжелателен был Ильф, прост и печален был Андрей Платонов{192}.
Когда мне впервые попал в руки один из рассказов Платонова и я прочел фразу: «Тихо было в уездной России», – у меня сжалось горло: так это было хорошо.
Платонова почти не печатали. Если в редких случаях где-нибудь появлялся его рассказ, на него обрушивали горы вздорных обвинений.
У Платонова есть маленький рассказ «Июльская гроза». Ничего более ясного, классического и побеждающего своей прелестью я, пожалуй, не знаю в современной нашей литературе. Только человек, для которого Россия была его вторым существом, как изученный до последнего гвоздя отчий дом, мог написать о ней с такой горечью и сердечностью.
Он тяжело болел, плевал кровью, месяцами лежал без движения, но ни разу не погрешил против своей писательской совести.
В первые годы революции умами и сердцами молодежи владели Маяковский и Сергей Есенин.
Мне так и не удалось узнать Есенина в жизни, – я вернулся в Москву незадолго до его смерти{193}.
Впервые я увидел Есенина в гробу в Доме журналистов на Никитском бульваре. Поперек бульвара протянули черное траурное полотнище. На нем белыми буквами было написано: «Тело великого национального поэта покоится здесь».
День был темный, с низкими неподвижными тучами, с хмурой тишиной. В такие дни в домах раньше времени зажигают лампы. Свет их похож на желток.
В зале, где лежал Есенин, горели люстры. В их неярком свете лицо Есенина казалось прекрасным. Красоту его выделяли густые тени от ресниц.
Он лежал, как уснувший мальчик. Звуки женских рыданий казались слишком громкими и неуместными – они могли его разбудить. А будить его было нельзя, – так безмятежно и крепко он спал, намаявшись в житейской бестолочи, в беспорядке своей быстрой славы, в тоске по своей рязанской земле.
Много позже, в 1960 году я увидел фотографию Есенина, только что вынутого из петли. Он лежал на боку, на диване, подобрав колени, и все лицо его было в слезах. Они еще не успели высохнуть.
Такая детская обида была на этом лице, что никто не мог смотреть на эту фотографию. Все отворачивались и отходили, пряча глаза.
Есенину я обязан многим. Он научил меня видеть небогатую и просторную рязанскую землю – ее синеющие речные дали, обнаженные ракиты, в которых посвистывал октябрьский ветерок, пожухлую крапиву, перепадающие дожди, молочный дым над селами, мокрых телят с удивленными глазами, пустынные, неведомо куда ведущие дороги.
Несколько лет я прожил в есенинских местах вблизи Оки. То был огромный мир грусти и тишины, слабого сияния солнца и разбойничьих лесов.
По ним раз в несколько дней прогремит по гнилым гатям телега, да порой в окошке низкой избы лесника мелькнет девичье лицо.
Надо бы остановиться, войти в избу, увидеть сумрак смущенных глаз – и снова ехать дальше в шуме сосен, в дрожании осенних осин, в шорохе крупного песка, сыплющегося в колею.
И смотреть на птичьи стаи, что тянут в небесной мгле над полесьем к теплому югу. И сладко тосковать от ощущения своей полной родственности, своей близости этому дремучему краю. Там текут из болот прозрачные ключи, и невольно кажется, что каждый такой ключ – родник поэзии. И это действительно так.
Зачерпните в жестяную кружку воды из такого родника, сдуйте к краю красноватые листочки брусники и напейтесь воды, дающей молодость, свежесть, вечное очарование родной стороны. И вы уверитесь, что только небольшая доля этой поэзии выражена в стихах таких поэтов, как Есенин, все же ее несметные богатства еще скрыты и ждут своего часа.
Недавно я читал стихи совершенно забытой сейчас поэтессы Ростопчиной, современницы Пушкина и Лермонтова, и нашел у нее две пророческие строки:
В этих словах было только признание того, что уже случилось.
Оскорбления, дуэли, клевета, ревность, тяжелый характер – все это было внешней картиной таких трагедий.
Понятно, когда человек уходит из жизни от отчаяния и усталости. Но, пожалуй, нет ничего странного в том, что человек может уйти из жизни и от сознания душевной полноты, когда она доходит до такой завершенности, что каждый следующий день – упадок и ущерб. Таких случаев мы не помним, но я допускаю, что они могут быть.
…Глухие зимние дни, поля в ночных снегах, в оловянной мути, скрежет смерзшихся дубовых листьев за окном – и он один, один в этих ночах без сна, без вдохновенья. Живут только воспоминания – бесплодные, томительные. Все необратимо, невозвратно.
И вдруг – отдаленный топот копыт. Кто-то скачет издалека. К нему. С какой вестью?
Всадник соскакивает у крыльца, и через мгновение в руках у Пушкина записка. Она приехала! Она ждет его у Осиповых в Тригорском! Анна!
Как будто все эти буреломы и мертвые леса, все эти косые избы и волчьи ночи озарил мгновенный метеор.
И вот он уже скачет через ночь, он видит только ее глаза во тьме – ее сияющие слезами и любовью зеленоватые глубокие глаза.
Он мог бы упасть с седла и умереть от одного удара в сердце. Где-нибудь здесь, у трех сосен на берегу озера Маленец или около песчаного косогора. И в тысячную долю мгновения этой смерти он был бы истинно счастлив.
Этот сон о Пушкине, или, как говорили в старину – «видение», так крепко вошел в меня, что я часто видел его наяву и мог бы описать во всех простых чертах – от зимнего ветра, бьющего Пушкину в глаза, до огней в доме Осиповых, играющих в обледенелых стеклах.
Девонский известняк
Первый подснежник я заметил у самого края подтаявшего хрустящего снега, в том месте, где уже сочились струйки талой воды. Они перекатывали какие-то зерна и песчинки.
Белые, почти прозрачные лепестки подснежника, измятые после зимнего сна, распрямлялись на солнце и вздрагивали.
Первая весна! Prima vera! Когда мы с мучениями зубрили в гимназии латынь, то только эти два благозвучных латинских слова впервые примирили нас – и то немногих – с этим языком. «Прима вера» – первая полудетская весна. Та весна, когда стрелки травинок еще не выползли из земли и видны только в сырых маленьких трещинах. Там они еще прячутся от ночных заморозков.
Тихое солнце в полном безветрии грело землю (это было в Орловской области около городка Ливны) и спокойно сверкало над просторной – тогда еще уездной, а ныне районной – Россией.
В оврагах за городом уже сердилась и бормотала вода. Вдали, в печном дыму пригородных слободок – Стрелецкой и Ямской – орали, надсаживаясь и сдуру теряя голоса, слободские бесстрашные петухи. Они радовались возвращению тепла и ликовали по случаю своей долгой жизни, – петухам, наверное, казалось, что они бессмертны на этой земле так же, как бессмертны и люди.
Я отпросился из РОСТА на несколько дней и поехал в Ливны к старым знакомым мамы. Поехал без всякого дела, просто так. Мне хотелось отдышаться после трудной жизни в Пушкине и затяжной московской зимы.
В Ливнах жила старушка, вдова земского врача Шацкого, с дочерью, тоже врачом, и сыном – геологом. После экспедиции на восточный берег Каспийского моря геолог Алексей Дмитриевич заболел тяжелым нервным истощением и теперь отдыхал в Ливнах у матери и сестры. Шацкие жили в старом деревянном доме вблизи железной дороги.
Геолог не любил сидеть на месте. Он все время бродил по городу и полям вокруг него и брал с собой в спутники девушку – дочь машиниста Таю – и меня.
Иногда с нами ходила и его сестра Нина Дмитриевна – строгая на вид, но добрая и близорукая сорокалетняя женщина, очень решительная в своем медицинском деле и влюбленная в это дело, как был в него влюблен и ее отец.
Слава о нем, как о бескорыстном и самоотверженном докторе-исцелителе, жила еще долго после его смерти в Ливнах, в Ельце и в самом Орле.
К отцу вдова его и дети относились с благоговением. Память его почиталась не только за его врачебный талант, но и за то, что он был из числа народников и боготворил Чернышевского. В кабинете доктора, где мне стелили на диване, висели фотографии юношей, похожих на писателя Гаршина, с длинными волосами и курчавыми бородками, и девушек в черных и тугих шелковых корсажах с буфами и гладкими прическами.
У всех девушек были открытые, очень русские лица и серые глаза. Конечно, на фотографиях цвет глаз разобрать было нельзя, но так мне казалось. Этот цвет глаз очень шел к чуть заметным улыбкам на губах девушек и к их приветливым лицам.
Сам я вырос в семье с неустойчивым и беспокойным бытом, с разнокалиберной обстановкой случайных квартир, и, может быть, поэтому чувствовал необыкновенную любовь к таким домам, как у Шацких.
В этих домах, как выражались в старину, можно было «отдохнуть душой». Тишина, изредка украшенная смехом и голосами молодежи, легкая суета праздников, старые диваны, над которыми склонялась тень фикусов, вечерний и непонятно почему успокаивающий писк керосиновых ламп, много старых книг и журналов, легкий запах лекарств, как и должно быть в доме врача. Сад за окнами, а за садом – железная дорога, станционный переезд, редкий перестук товарных поездов и громкое пыхтение старых паровозов. Мне всегда казалось, что вблизи станции они нарочно пыхтят так напряженно и так торопливо работают шатунами, чтобы показать, какие они незаменимые работяги. Милый запах вечернего чая, смешанный с легким самоварным паром, какое-нибудь всегда особенное варенье («Вы не поверите, Тая достала в Орле десять кило сахарного песку») то из китайских яблок, то из ежевики, – все это и еще сотни мелочей создавали уют, без которого плохо жить человеку. Уют этот одно время принято было ругать: он, мол, «обволакивает и успокаивает людей».
– Ну и слава богу, что успокаивает, – говорила старушка Варвара Петровна, – хоть подумать и прийти в себя будет время. А то среди ваших этих вопросов и, как их там, проблем, что ли, недолго и здоровье совсем потерять. Выпейте лучше чайку с вишневым вареньем да сходите в кино. Там, говорят, представленье идет замечательное про какого-то закройщика из Торжка{195}. Тая прямо обхохоталась.
Из окна докторского кабинета виднелись такие дали и такие мягкие округлые взгорья, что даже замирало от взгляда на них сердце. А у подножия этих далей, увалов, оврагов и взгорий широкой (по весне) лентой протекала под железнодорожный мост река Быстрая Сосна.
Она действительно была быстрая, струистая, несла последние коричневые льдины, шуршала, особенно громко по ночам, и с каждым часом подымалась, качая и затапливая кусты лозняка.
На ветках лозы тесно сидели, как крошечные воробьи с желтыми грудками, пушистые почки – «барашки». Они распушились как раз к Вербному воскресенью.
Вдоль берега реки снег уже стаял, но подальше, на краю полей, он еще лежал толстым покровом.
Геолог объяснял это тем, что Быстрая Сосна протекает у Ливен в мощных пластах девонского известняка, а этот известняк будто бы хранит в себе тепло далеких многомиллионных эпох. Это тепло сочится непрерывно из земных недр и отравляет жителей Ливен.
Поэтому, по словам геолога, в городке до сих пор, на седьмом году революции, еще много диких поверий. Он рассказывал, что бесплодные ливенские женщины покупают у рыбаков живых щук, пускают их в корыто с водой и долго – не меньше, чем два часа, – смотрят, не отрываясь, в желтые и злые щучьи глаза. Говорят, помогает. А старухи грызут от зубной боли куски известняка с могилы юродивого Петьки-Петушка. Тоже, говорят, помогает.
Тая только вскрикивала и с испугом взглядывала на меня, боясь, что я могу этому поверить.
Когда геолог заговаривал о девонском известняке, Нина Дмитриевна делала мне незаметный знак, чтобы я слушал, но не возражал. А Варвара Петровна начинала дрожащей рукой разглаживать скатерть на обеденном столе.
Губительное дыхание девонского известняка было той легкой и безопасной манией, какой страдал геолог.
Кроме того, он убеждал меня, правда не очень уверенно, что человечеству принесет много несчастий, а возможно, и полную гибель все, что начинается на букву «г» – Германия, Гогенцоллерны{196}, Гитлер, Геббельс (тогда уже начинался в Германии расцвет фашизма).
Но в общем геолог был человеком добродушным, молчаливым и никому не мешал.
На второй день после моего приезда в доме выставили рамы. Сырой разогретый сад дохнул в комнаты слабым запахом ванили, напоминая, что приближается Пасха.
На подоконниках обывательских домишек зеленой сочной щеткой прорастал в плошках овес.
Старухи плелись на кладбище с поминальными веночками из крашеных стружек – цветов еще не было, они не распустились.
Цветы и венки из стружек делали очень искусно (особенно большие лоснящиеся розы) ливенские мастерицы. Они даже славились этим на всю округу. Красили стружки анилином – ярко и неприятно.
Каждый день геолог гулял за городом с Таей и со мной.
Тая была хромая, милая девушка с толстой русой косой и светлыми круглыми глазами. У нее была какая-то болезнь щитовидной железы (по словам геолога, конечно, от излучения девонского известняка). Нина Дмитриевна давно ее лечила, надеялась вылечить окончательно и устроить после этого в медицинский техникум в Ельце.
Тая робко расспрашивала меня (геолога она немного побаивалась) о Москве, Черном море, о Крыме, о том, какие там растут деревья и правда ли, что, поднявшись в горы, можно попасть в облака.
Иногда она спрашивала меня, видел ли я Ленина и Льва Толстого, Горького, Маяковского и Шаляпина.
Я выдумывал и говорил, что видел, хотя не видел ни Толстого, ни Горького. Мне нравился восторг в ее глазах – она даже задыхалась и начинала пришептывать от волнения. Я рассказывал ей обо всем так, как ей хотелось бы услышать.
К счастью, геолог не обращал внимания на наши разговоры во время прогулок, а Нина Дмитриевна их не слышала, иначе мне здорово попало бы за обман.
Нина Дмитриевна была строжайшей ревнительницей правды во что бы то ни стало.
– У меня медицинский ум, – говорила она. – Я не понимаю, какая может быть польза для человека от выдумок, даже от самых приятных. Любая правда лучше их. И человечнее.
Я с ней не спорил, но правым считал, конечно, себя.
В воскресный день во время прогулки мы встретили за городом на берегу Быстрой Сосны молоденького красноармейца. Он сидел на сухом бревне и вырезал из куска ивовой ветки жалейку – простую пастушью дудочку.
Когда мы поравнялись с ним, он встал, как перед старшими, и вытянулся.
– Вот! – сказал он смущенно и покраснел. – Здравствуйте! Режу тут… Балуюсь помаленьку…
Мы присели на бревно, закурили. Красноармеец все стоял, не решался сесть с нами, пока Тая не потянула его за рукав шинели и не заставила сесть. Жалейку и нож он поспешно спрятал в карман шинели.
В Ливнах стояла какая-то воинская команда. Красноармеец был, должно быть, из этой команды.
– Новобранец? – спросил его Алексей Дмитриевич.
– Так точно! – охотно ответил красноармеец. – Касьян Звонарев. Сам я олонецкий. Тут я недавно.
С давних пор Олонецкий край привлекал меня. Мое увлечение географией России шло наплывом: то я читал запоем все, что мог достать о Белоруссии, потом – о Закаспийских степях, а одно время увлекся Севером, зачитывался строгой и неторопливой книгой Максимова{197} «Год на Севере» и описаниями северных монастырей.
– Был один хороший человек – Касьян с Красивой Мечи{198}, – сказал Алексей Дмитриевич и улыбнулся, что бывало с ним очень редко. – А ты будешь теперь у нас Касьяном с Быстрой Сосны. Согласен?
– Да не очень, – ответил красноармеец. – Я, вернее, Касьян из Заонежья. Может, слыхали?
– Слыхали. Гранитная страна! – сказал Алексей Дмитриевич.
– Вот-вот! Граниту у нас много. И озер. Да не в этом наша сила.
– А в чем же? – спросил я.
– В плотницкой работе. У нас избы рубят без гвоздей, на одних шипах. И церквей рубленых – сколько хошь. Ученые приезжали, считали, считали, сбились – так и уехали, не сосчитавши. У меня дед – плотник, батя мой – плотник, я сам – плотницкий ученик, а бабка моя – первая помощница наших мужиков по плотницкому делу.
– Неужели старуха плотничает? – удивилась Тая.
– Да нет, не то. У нас избы все в кружевах, как в полушалках. Понимаете? В деревянных кружевах. И каждый тщится, чтобы была у его избы иная лепота, иной узор, чем у соседа. А чтобы узор по дереву составить, для этого особый дар нужен. Большой дар. Бабке он даден, этот дар. Она такие узоры намечает, что не всякий и выпилишь. Даже большие мастера отступались, не осмеливались те узоры осилить.
– А как же она работает? – спросила Тая.
– Сначала тоскует. Сидит иной раз до полуночи на крылечке, на всходе в избу, все томится. Ночи у нас по лету все в свету, в белизне. В такие ночи дыхание у человека воздушное, как сквозь сон какой-то. Посидит бабка вот так, потоскует, потом запоет про себя чего-нибудь старинное-престаринное, протяжное, но не церковное, а общее, стародавнее. Из новгородских времен. А спевши, возьмет уголек и рисует на чем ни попало узор. И у всех у них, у этих узоров, есть имена. Один называется «Свиток», другой – «Травница», третий – «Петушиный переклик».
Он помолчал.
– Ой, разболтался я, прощения прошу.
– Девон источает яд, – внезапно строго сказал Алексей Дмитриевич, – а граниты, гнейсы и все эти крупнозернистые магмовые породы выдыхают силу, зоркость, упорство. В этом вся соль.
– Народ у нас действительно зоркий, – согласился Касьян. – Поэтому наших больше берут во флот, в мореплавание. Один я обчелся, заслали меня в эти поля да овражины. И река тут мутная, глины много.
– Вы бы сыграли, Касьян, – попросила Тая. – На вашей дудочке.
– Извольте, если желаете.
Красноармеец вынул жалейку, долго ее осматривал, вертел в пальцах, потом поднес к губам и заиграл жалобно, тонко, будто какая-то залетная птица призывала кого-то, просила прислушаться к ее птичьей беде. Мы сидели, слушали.
Потом Касьян, гремя тяжелыми сапогами, проводил нас до железнодорожного переезда, попрощался, за что-то поблагодарил и ушел.
– Жалко его, – вдруг сказала Тая. – Совсем мальчик. И бледный очень.
– Это от весны, – ответил геолог. – В ливенском весеннем воздухе особенно много девона.
Мне казалось, что все в этом северном мальчике было от весны – и бледность, и смущенный ласковый взгляд, и, главное, пение жалейки. Как будто звенели под сурдинку слабенькие весенние стебельки и проснувшиеся после зимы соки разных растений.
Вскоре я уехал из Ливен, но эти несколько дней весны я долго не мог забыть. Есть такое слово «светлость». Помните, у Тютчева: «Есть в светлости осенних вечеров…»{199} Все дни в Ливнах были наполнены этой светлостью, как солнцем.
Однажды Алексей Дмитриевич вошел в кабинет, где я лежал на диване, и высыпал на письменный стол из картонной коробки много фотографий.
– Хотите посмотреть места, – спросил он, – куда вам нельзя никогда ездить?
– Почему?
– Потому что при вашем цвете глаз и волос вам опасно спускаться ниже сорок пятой параллели. Я геолог и точно это знаю. Смотрите, тут такие наглядные пласты пород, складки, свиты и обрывы, каких нет нигде больше ни в Европе, ни в Азии. Смотрите спокойно и не пугайтесь. Если захотите, я вам кое-что объясню.
Он ушел, загадочно улыбаясь. Я встал, сел за стол и взял в руки первую же большую фотографию.
Под ней была надпись: «Порог Усть-Урт. Вид с северо-запада, со стороны Мангышлака».
Я всмотрелся в фотографию, и меня взяла оторопь.
В необыкновенной ясности воздуха над глинистой пустыней, усеянной мелкими сухими камнями, вздымалась отвесная черная стена высотой в двести – триста метров – гладкий порог, как бы срезанный ножом исполина.
Казалось, что в этом месте пустыня раскололась и неведомые силы подняли половину ее к небу гигантским домкратом.
На отвесной этой стене не было ни трещин, ни следов водомоин, – то была совершенно девственная стена, будто только что возникшая здесь, несмотря на многие тысячелетия, безусловно прошедшие со времени ее образования.
Так иногда подымается над землей в безоблачном свете неба, в чистой его синеве черная, как мировая ночь, глухая, могучая и молчаливая – грозовая или ураганная – туча, резко отделенная от остального мира.
Но в этой сухой туче нет ни вспышек молний, ни рокота грома, ни признаков далеких вихрей в виде косматых сосков пыли, припадающих к земле.
Усть-Урт! Я знал, что на восточном берегу Каспийского моря лежит это недоступное и смертоносное плоскогорье, похожее на могильную плиту с периметром в несколько сот километров. Туда нет никаких дорог.
Вопреки словам Алексея Дмитриевича, мне не стало страшно. Наоборот, жадное любопытство охватило меня, жестокое желание увидеть эти места лицом к лицу и почувствовать не страх, а какой-то непонятный восторг перед грозным одиночеством этих скал, раскаленных солнцем.
Очевидно, такое же состояние может охватить человека при виде катаклизмов, космических катастроф, извержений и великих ураганов, меняющих в одно мгновение знакомый облик Земли.
То был застывший катаклизм.
В лупу можно было рассмотреть на краю этой стены белеющий над обрывом скелет верблюда. И ни одной травинки. Даже чий – закаленное полумертвое растение пустыни – не рос нигде, сколько я его ни искал.
«Ад! – подумал я. – Ужас и одиночество».
В этом зрелище было что-то могучее, захватывающее, будто я стоял на краю бездны.
Я вспомнил недавний разговор с Ильфом в «Четвертой полосе» «Гудка». Говорили о путешествиях, и Ильф вскользь сказал:
– Чтобы взять от путешествий все, что можно, нужна большая психическая выносливость.
– Люблю афоризмы! – заметил Олеша. – Особенно из уст великих путешественников Джемса Кука и Ильи Арнольдовича Ильфа.
Ильф не рассердился.
– Юра, – сказал он убежденно, – вы же не собираетесь всю жизнь гулять в панаме в померанцевых рощах Сицилии или срывать лилии в пышных королевских садах Версаля. Что, если вам придется попасть в такие окаянные места, как, скажем, Антарктика или пустыня Гоби? Семьдесят градусов скрипучего мороза или паршивая колючая пыль, что будет хлестать вам в лицо несколько суток подряд. Надо это увидеть, выдержать, запомнить. И не проситься домой, до мамы. Так рождаются великие характеры и мужественные души. Иначе не стоит брать в руки гусиное перо.
Я вспомнил эти шутливые слова Ильфа и подумал, что я непременно поеду на восточный берег Каспийского моря и увижу эту омертвелую землю, как бы испепеленную мировым пожаром. И выдержу. И напишу.
Тем сильнее и преданнее я буду любить потом каждый серый денек у нас, в Средней России, – тот самый, что помаргивает дождиком и пахнет мокрыми лопухами.
Мне казалось, что свою старую любовь к обыкновенной земле я усилю, укреплю, доведу до предела, только испытав отчаяние этих бесплодных пространств, непригодных для человеческой жизни.
Я рассмотрел остальные фотографии. Все они были очень выразительны и даже величественны. То были снимки берегов Кара-Бугазского залива на Каспии.
Я ничего о нем не знал и даже не представлял себе, где он находится. Но он уже неудержимо тянул меня к себе свою дикостью, тайной, скрытой в его мглистых пространствах. Тайна была. Я это чувствовал.
Потом Алексей Дмитриевич скупо и странно рассказал мне о Кара-Бугазе. В его рассказе действительность была спутана с легким бредом. Но это, пожалуй, только усилило мой интерес к этому неведомому месту. После его рассказа загадочный туман кое-где поредел, а кое-где сгустился.
Я узнал, что залив этот похож на исполинский конденсатор соли и что вся местность вокруг него никем не исследована.
Так впервые в тихом провинциальном доме, где застенчиво цвел на окнах бальзамин, родилась мысль о книге, целиком взятой из реальной и суровой, даже жестокой жизни. Я начал много думать об этой книге и готовиться к поездке на Мангышлак и в Кара-Бугаз.
А когда через три года мне удалось совершить эту поездку и начать писать книгу, я второй раз приехал в Ливны. В силу чего – не знаю. Может быть, в силу прямой противоположности ливенских мест закаспийской пустыне. В Ливнах все были на старом месте – и старушка Варвара Петровна, и Нина Дмитриевна, и геолог, и Тая, и даже Касьян из Заонежья.
Он остался в Ливнах на сверхсрочную службу, как мне показалось, из-за Таи, возмужал, загорел и перестал быть похожим на хилого северного пастушка.
Мне легче было писать о Кара-Бугазе в дремоте старого дома, под непрерывную перекличку слободских петухов, под ровный звон дождевой воды, лившейся с крыши в старую бочку, поглядывая за окно, где сквозь облака просвечивало по временам нежаркое и безопасное солнце.
«Малый конотоп»
Захолустный городок Конотоп я видел несколько раз только из окна вагона. Я ничего о нем не знал, кроме того, что в нем умер вымышленный эренбурговский герой Хулио Хуренито.
Говорили, что «в свое время» городок этот был знаменит лужами. В них каждый год тонули многострадальные конотопские кони. Выражение «в свое время» казалось таинственным. Что значит: «в свое время»? Очевидно, во время расцвета, хотя во все времена ни о каком расцвете Конотопа не могло быть и речи.
Лужи эти давно высохли. В наши дни Конотоп славился только замечательными блинчатыми пирожками с мясным фаршем. Ими торговал буфет на конотопском вокзале.
К приходу каждого пассажирского поезда на стойку в буфете выносили большие противни с этими раскаленными пирожками. Делом чести для каждого пассажира было пробиться к стойке и съесть, обжигая пальцы, хотя бы один сочный и хрустящий пирожок.
Самый же Конотоп казался довольно уютным со своими чистыми домиками, плетнями и тополями. На пути из Москвы в Киев это были первые тополя. Пассажиры всегда радовались им, как предвестникам юга.
Непонятно почему, но этот городок дал имя одному московскому писательскому содружеству.
Почти каждый день у Фраермана в его маленькой квартире на Большой Дмитровке собирались друзья: Аркадий Гайдар; Александр Роскин – знаток Чехова, писатель и пианист; молодой очеркист Михаил Лоскутов; редактор Детского издательства добрейший Ваня Халтурин и я.
Сборища эти Роскин неизвестно почему назвал «Конотопами».
Объяснить происхождение этого названия он надменно отказался, ссылаясь на то, что существовал же во времена Пушкина литературный кружок «Арзамас» и никто толком не знает, почему он был назван именем этого маленького и такого же захолустного, как и Конотоп, городка.
У каждого из нас были по этому поводу свои соображения. Но, пожалуй, самым проницательным оказался Гайдар. (Он вообще был чертовски проницателен и лукав.)
Одно время жена Фраермана Валентина Сергеевна угощала нас блинчатыми пирожками. А поскольку Конотоп славился ими и Роскин об этом знал, то поэтому он, по мнению Гайдара, и придумал такое странное название нашему содружеству.
Собирались мы почти каждый день, читали друг другу всё вновь нами написанное, спорили, шумели, рассказывали всяческие истории, пили дешевое грузинское вино и водку и в один присест съедали по три огромные банки свино-бобовых консервов.
Мы были как будто беспечны и веселы, очевидно, потому, что литературные планы не только переполняли нас, но и постепенно осуществлялись. Тут же, как говорится, «на глазах» Гайдар писал свою великолепную «Голубую чашку», Фраерман – не менее прекрасную «Дикую собаку Динго, или Повесть о первой любви», Роскин со скрупулезной талантливостью работал над книгой о Чехове, Лоскутов, как бы стесняясь собственной наблюдательности, рассказывал о Средней Азии, а я был полон планами будущего «Кара-Бугаза».
О Гайдаре и Фраермане я писал много и не хочу повторяться. Но об остальных участниках «Конотопа» надо сказать несколько слов, в особенности о Роскине.
Он был человеком сложным и выдающимся как по обширности своих познаний, так и по острому и насмешливому уму.
Он великолепно играл на рояле и снисходительно презирал нас за отсутствие тонкого музыкального вкуса.
Когда на него находила хандра, он играл отрывки из «Хованщины»{200}, чаще всего сцену гадания, и пел щемящие слова «о великой страде печали» и «заточении в дальнем краю».
Всегда он был сдержан, немного замкнут, как большинство одиноких людей, был способен и к резкости, и к необыкновенной нежности. Среди нас он считался самым взрослым, самым серьезным и требовательным ко всему, что бы мы ни писали. Нам он не давал спуску. Его статьи о писателях настолько отличались от сырой критической писанины того времени, что сразу выдвинули его в число лучших исследователей советской литературы, в ряды ее знатоков.
Он первый начал писать очень короткие – в одну-две страницы – очерки о западных писателях. Они, к сожалению, забылись.
Я помню его очерк о Флобере, где писатель, человек и эпоха были даны чуть ли не на одной странице и оживали перед глазами в лаконичных и безошибочных подробностях. Так, например, вместо того, чтобы, как водится, подробно рассказывать об изнурительной, просто каторжной работе Флобера над рукописями, Роскин сообщил только одну частность.
Флобер, как известно, работал в Круассе, в своем маленьком доме на берегу Сены. Он просиживал за письменным столом до рассвета. На столе горела лампа с зеленым абажуром. Всю ночь светилось единственное окно в кабинете Флобера.
Свет в окне был таким постоянным, что капитаны морских пароходов, подымавшихся по Сене из Гавра в Руан, ориентировались по окну Флобера, как по надежному маяку. Среди моряков существовало правило: «Держать на освещенное окно в доме господина Флобера». Говорят, что это правило было даже внесено в лоцию Нижней Сены и вычеркнуто из нее только после смерти писателя.
Зимой 1962 года я был во Франции и решил съездить из Парижа в Круассе – в этот приют, увековеченный в письмах Флобера, в маленький дом на самом берегу реки, где у Флобера гостили Тургенев, Жорж Санд, братья Гонкуры, Мопассан – почти весь цвет тогдашней литературы.
Но в день, назначенный для поездки в Круассе, из Руана сообщили, что через Ла-Манш из Англии пришел тяжелый «смок» – непроницаемый и смертоносный туман. Всякое движение по дорогам Нормандии было прекращено, и поездку пришлось отложить.
Французский критик Пикон, устраивавший эту поездку, был огорчен. Он старался утешить меня довольно печальным сообщением, что хотя после войны разрушенный бомбежками дом Флобера восстановлен, но он уже не тот, что был при его старом и громогласном хозяине. От сада почти ничего не осталось. Кроме того, Руан, разрастаясь, стиснул усадьбу Флобера заводами и новыми зданиями и лишил его прежнего деревенского очарования.
Роскину, чтобы рассказать этот эпизод о Флобере, понадобился один абзац, а мне, как видите, пришлось исписать целую страницу. Очевидно, поэтому мы и называли статьи Роскина «стальными» – за их краткость, отточенность и холодноватый блеск.
Роскин оставил небольшое, но ценное литературное наследство.
Он написал книгу о замечательном нашем ботанике Вавилове{201} («Караваны, дороги, колосья»). Вавилов поставил себе задачу: «Мобилизовать растительный капитал всего земного шара» и сосредоточить в СССР весь сортовой запас семян, созданный в течение тысячелетий природой и человеком.
Эту исполинскую задачу Вавилов выполнил благодаря неукротимой энергии и большим своим познаниям.
В те годы у нас очень увлекались интересными, но несколько броскими работами Поля де Крюи об ученых-новаторах. Книга Роскина о Вавилове была серьезнее и живее, чем работы де Крюи. Она была лишена того несколько фамильярного пафоса, с каким де Крюи говорил о величайших ученых своего времени.
Эта книга Роскина сейчас совершенно забыта. Он писал ее для юношества. Ее, конечно, следовала бы переиздать. Написана она была со знанием дела, так как Роскин прекрасно изучил биологию и ботанику, помогая в свое время своему брату – биологу Г. И. Роскину. Этот последний стал широко известен своими поисками путей лечения рака.
Кроме книги о Вавилове, Александр Роскин написал превосходную биографическую книгу о Чехове и несколько статей по литературе, главным образом, как я уже говорил, о молодой советской прозе.
Мне он помог тем, что, несмотря на нашу дружбу, предостерег меня от опасности впасть в книжную экзотику и нарядную «оперность» стиля. Он напечатал это предупреждение в одной из своих статей.
К счастью, эта статья совпала для меня со временем глубокого недовольства своими первыми («молодыми») рассказами, заставила уйти от литературных прикрас и стремиться к ясности и простоте. Вскоре Роскин первый – и так же по-дружески – приветствовал появление в печати «Кара-Бугаза» и «Мещерской стороны».
Я часто жил с Роскиным в Мещерских лесах и в Ялте и хорошо узнал его.
Его присутствие придавало каждому дню особое, «роскинское» своеобразие. Он был человеком азартным, несмотря на кажущееся «английское» хладнокровие. Азартным во всем – в литературных спорах, музыке, рыбной ловле (это занятие он почему-то не презирал, хотя и относился к нему скептически), в игре в покер и в других своих увлечениях.
Как большинство азартных людей, он любил всякие пари и состязался в этом с изобретательным и хитрым Гайдаром. Выиграв пари, он ликовал, как мальчик.
У него было пристрастие к удивительным подсчетам. Например, он подсчитывал, сколько страниц мог бы написать за день без всякого утомления. Выходило, что две страницы, не больше. Роскин множил эти страницы на число дней в году (365). Получалось, примерно, семьсот страниц. Лучшим размером он считал книгу в среднем в двести пятьдесят страниц.
Итак, каждый год он мог бы выпускать по три больших книги, по три полновесных романа, если бы он работал как Дюма и Бальзак.
Мы говорили, что беда только в том, что он не Дюма и не Бальзак, но Роскин презрительно пропускал эти замечания мимо ушей. В оправдание своих выкладок он любил рассказывать о некоем французском писателе (имени я его не помню), который, кроме своей «большой» работы, ежедневно втайне писал по утрам всего пять минут прозы (что дает десять печатных строк).
Так, шутя, к концу года он заканчивал рассказ в восемьдесят страниц – для рассказа это немало – и дарил его ко дню рождения своей жене.
– Редкий случай супружеского внимания! – восклицал Роскин.
Мы соглашались, но не хотели следовать примеру французского писателя. Это обстоятельство Роскина не огорчало, хотя он и обзывал нас бездельниками и дилетантами.
Рыбу с нами Роскин (это было в Мещерском крае, в селе Солотче) ловил только «на очки».
С долгими препирательствами разрабатывалась сложная система этих «очков». Рыбы распределялись по величине и породе. Самое большое очко давалось за леща, самое пустяковое – за ерша.
После рыбной ловли, обычно тут же на берегу, шел шумный спор, сколько у кого очков. Выигрывал обыкновенно Фраерман. Ему почему-то везло на лещей, мы же с Гайдаром ловили больше окуней и плотву. За окуня Роскин не хотел давать больше четырех очков на том основании, что эта жадная и глупая рыба сама подсекается и ловить ее не такое уж большое искусство, тогда как лещ – очень осторожный и глазастый, и, чтобы поймать его, нужно не двигаться, не кашлять, не сморкаться и не курить. Поэтому за леща Фраерман получал по двенадцать очков, что было, между нами говоря, совершенно несправедливо.
Наши споры на берегу затягивались почти до темноты, до первого сияния далеких звезд или до того времени, когда низко в небе повисал месяц. Он приносил с собой медлительные волны речной сырости и всегда немного таинственную ночную тишину.
Все эти пари, «очки» и подсчеты были передышками, легкой и беззаботной стороной жизни. Все остальное время Роскин много и трудно работал.
Он делал для каждой своей работы огромное количество выписок, целую библиотеку цитат из книг, статей, газет, из частных писем, из записей разговоров, подслушанных на улицах, в трамваях, в редакциях. Работая, он заваливал весь стол книгами и выписками, сделанными бисерным, каким-то чеховским почерком.
Он рылся в них, находил нужное и так смело и ново вставлял в свой текст, что появление некоторых даже знакомых цитат напоминало внезапный взрыв, вскрывающий пласты нетронутой литературной породы. Как бы возвращенный блеск погасшей звезды падал на давно забытые, потускневшие страницы.
В руках Роскина цитаты становились его собственным творчеством. Я был уверен, что при таком остром «чувстве цитат» можно было бы соединить их в некую замечательную и цельную книгу, несмотря на разницу авторов, которыми они были написаны, и несхожесть эпох, когда они появились на свет.
Роскин не мог работать вглухую, как многие из нас. Он никогда не прятал свои вещи «до времени» от чужих глаз. Сдержанный и даже скрытный во всем, что касалось его личной жизни, он ничего не скрывал в своей работе. Ему не только хотелось знать, что и как пишут другие, но и знакомить других со своей работой в самом ее движении.
В своих оценках он был жесток, но требовал такой же жестокости и по отношению к себе.
Однажды тихой и свежей черноморской зимой в Ялте, в писательском доме, съехались несколько москвичей. В их числе был и Роскин.
Все работали по своим комнатам, встречались только в столовой, и только в общих чертах, из неохотных признаний мы знали, кто над чем работает.
Эта кротовая жизнь не нравилась Роскину. Он предложил нам собираться, по примеру «Конотопа», каждый вечер и прочитывать друг другу только то, что было написано за один сегодняшний день, – никак не больше. И очень коротко поговорить о каждом таком маленьком куске.
Поднялся шум. Как это можно разговаривать по поводу нескольких оторванных от целого абзацев. Абсурд!
Больше всего сердился «последний символист на земле» Георгий Чулков{202} – маленький изящный старик, похожий на композитора Листа. Он считал это предложение Роскина профанацией искусства.
– Все равно, попробуем, – сказал Роскин, – и вы увидите, что пищи для разговоров хватит. Особенно если принять во внимание, что среди нас есть непревзойденные болтуны.
С этим все согласились.
Эти вечерние собрания Роскин назвал «Американками» – так же странно, как и встречи у Фраерманов были названы им «Конотопами».
Дело в том, что в те годы в Москве было много маленьких пивных заведений, где посетители стоя выпивали свою кружку пива и уходили. Сидеть было не на чем. Тогда эти пивнушки назывались «американками».
Наши чтения были своего рода литературными «Американками». Каждый прочитывал свой отрывок, – как бы выпивал свою кружку пива.
Традиции «Американок» держались потом в Ялте несколько лет.
Первая же «Американка» прошла шумно и интересно. Роскин прочел отрывок из своего очерка об Альфонсе Доде. Потом каждый вечер кто-нибудь читал свое.
Арбузов{203} читал отрывки из пьесы «Таня», над которой он работал в Ялте, Атаров{204} – из рассказа «Араукария», я – из рассказа «Созвездие Гончих Псов». Читали еще Гехт, Письменный{205}, Лавренев{206}, Малышкин{207}, Гайдар и Дерман{208} – словом, все, кто тогда жил в Ялте.
Мы разжигали камин. За окнами туго гудели от ветра кипарисы. Споры достигали жестокого накала.
В конце концов сдался старик Чулков. Он пришел на «Американку» и прочел одну картину из своей новой пьесы.
Пьеса была чрезмерно символической и для нас совершенно старомодной и манерной. Поэтому, несмотря на уважение к богатому прошлому Чулкова и к его возрасту, пьесу «раздраконили». Особенно сердился Арбузов.
Но старик Чулков выказал такой свирепый запал в споре с нами, так ловко и изящно отбивался от нападений, швырял в нас таким количеством познаний из любых областей литературы и психологии, что мы в конце концов сдались (кроме Арбузова) и даже приняли Чулкова в почетные члены «Американки».
Чулков был, конечно, стариком совершенно удивительным. Символист, вечно и шумно ссорившийся с символистами, особенно со своим бывшим другом Александром Блоком, бывший политический ссыльный, исследователь Тютчева, мистик, знаток Италии, любитель отчаянных зимних поездок на Ай-Петри (вопреки запрещению врачей), великолепнейший эрудит в области поэзии и философии, выдумщик, создатель поэтических теорий, прелестнейший чудак – он вносил в нашу жизнь постоянное интеллектуальное беспокойство, а по манере себя держать – галантность XVIII века.
Он как-то разбудил меня ночью и с неподдельным ужасом рассказал, что его сосед, какой-то никому не известный угрюмый человек, – конечно, явный суккуб или инкуб (в этой мистической иерархии Чулков разбирался великолепно), не дает Чулкову ни на минуту уснуть ночью, так как ползает по стенам, как муха («Очевидно, у него есть какие-то присоски на пальцах», – говорил возмущенно Чулков), доползает до потолка, срывается и падает с таким шлепающим звуком, будто большая тряпичная кукла. Сорвавшись, он снова лезет на стену, снова срывается – и так всю ночь, до утра.
– Я только что выходил в парк и смотрел, – сказал шепотом Чулков. – Окно в его комнате освещено, и все видно. Это очень страшно.
Мы вместе пошли в парк, но опоздали, – инкуб погасил свет, и я так ничего и не увидел. Ветер подымал на голове у Чулкова его седые длинные волосы, и мне стало не по себе.
Наутро Чулков, выбритый, свежий, элегантный, пошел к директору дома, широко известному среди писателей Якову Федоровичу Хохлову, бывшему боцману Черноморского флота, и попросил перевести его, Чулкова, в другую комнату, подальше от инкуба.
– Раз этот инкуб, или как его там зовут, вас беспокоит, то, пожалуйста, – я переведу вас, – сказал со скифским спокойствием Хохлов. – Здоровье писателей для меня важнее всего.
По всему своему складу и образу жизни Роскин был горожанином («урбанистом», как мы его насмешливо называли). Он любил концерты, театры, работу в залах больших библиотек, кино, книги, яркий свет и шум городских улиц, но к природе относился с некоторым предубеждением.
По его мнению, природа причиняла много беспокойств. Терпеть неудобства, а порой и мучения от дождей, холода, ветра, грязи, комаров и темных осенних вечеров в Солотче, тех вечеров, когда приходилось читать и писать при кухонной керосиновой лампочке, – он не любил.
В Солотче мы с Фраерманом и Гайдаром досиживались обыкновенно до глубочайшей осени. Роскин считал нас сумасшедшими.
В первый же сырой и холодный осенний день, когда начинали быстро обнажаться леса и сады, он уезжал в Москву.
Но постепенно природа начала исподволь брать его в плен и в конце концов переломила. Он сдался и все чаще вспоминал среди московской сутолоки какой-нибудь вечер в лесах или тихий день на старице.
Однажды мы сидели с ним под вечер на пустынном берегу Оки около избы паромщика. За нашей спиной зеленели крутые обрывы правого берега. То был древний, крепко связанный с историей России берег с его обветшалыми крепостными монастырями – оплотами против татарских набегов, старыми ветлами и яблоневыми садами, с деревнями, носившими удивительные имена – Окоемово, Аграфенина пустынь, Иоанн Богослов, – отдаленным мычанием стад, блеянием овец, петушиным ором, запахом отцветающих лип и пением женщин, возвращавшихся с сенокоса.
Перед нами на левом берегу темной стеной стояли близкие Мещерские леса. Над лугами, над заливными озерами и старицами уже подымался, свиваясь, туман.
К нам подошел обыкновенный деревенский петух. Он сверкал чернью, пурпуром и золотом, но, несмотря на свой богатый наряд, выглядел круглым дураком. Подняв одну ногу, он долго смотрел на нас, потом оглушительно и сердито закричал нам прямо в лицо.
Я бросил в него щепкой. Он вскрикнул, сразу потерял заносчивый вид и побежал прочь, приседая и спотыкаясь. Я засмеялся, а Роскин с укором сказал:
– Ну зачем? Он вправе гордиться собой. Необыкновенно красивая птица. Я впервые это заметил. И вообще, в последнее время каждый день замечаю новые вещи, – хоть бы вот эти плоты и то, как ивы постоянно меняют цвет листвы от ветра. Я мог бы просидеть на этом бревне день напролет.
С этого времени он постепенно перестал дичиться природы и все чаще начал ходить с нами в длинные, утомительные, но заманчивые походы, которые Гайдар называл «вылазками рыбачьего патруля».
Роскин погиб в народном ополчении летом 1941 года под Вязьмой. Всегда внешне невозмутимый, он приходил в состояние холодного негодования, как только начинал говорить о фашизме.
Его ненависть к фашизму, к бесноватому диктатору Гитлеру, к тотальному режиму была полна глубокого отвращения, какое мы испытываем перед гадиной.
Перед смертью жизнь подарила ему, одинокому и замкнутому, последнюю свою улыбку, – любовь прекрасной и преданной женщины.
Уходя в ополчение и попрощавшись с ней, он не оглянулся. Это было свыше его сил.
Есть испытания, какие никогда не должен был бы переносить человек, настолько они безжалостны и противоречат тому возвышенному и дорогому, чем он жил все годы и к чему упорно и постоянно звал людей. Звал своими мыслями, книгами, всем строем своего внутреннего мира.
Он ушел, а женщина долго смотрела с отчаянием на его чуть согнутую спину.
И я почему-то вспомнил, как моя мать, когда разошлась с отцом, после того как она осудила его за легкомыслие и прокляла за свою разбитую жизнь и неизбежное горестное будущее своих детей, разрыдалась, когда увидела сгорбленную, виноватую спину уходящего отца.
В спине этой было столько беспомощности, что мама не могла не разрыдаться. Еще мгновение – и она позвала бы его, побежала бы за ним, и он бы, конечно, вернулся. Но гордость, обида, нетерпимость не позволили ей этого сделать.
Может быть, взгляд в спину уходящего навсегда человека – самое страшное, что приходится переживать.
Уходя в ополчение, Роскин взял с собой яд (морфий). Он не боялся смерти, был к ней как-то весело-равнодушен. Единственное, чего он не мог бы перенести, по его словам, – это попасть в руки фашистам и позволить им издеваться над собой.
Под Вязьмой часть Роскина попала в кольцо. Немцы начали опрашивать пленных и отбирать евреев.
Переводчик из ополченцев сказал им, что Роскин – армянин. Казалось, он был спасен. Но какой-то негодяй выдал Роскина, и часовые отшвырнули его в сторону, где стояли евреи. Тогда Роскин принял яд. Говорят, он мучился недолго.
«Не выйдет!»
С каждым годом у Фраермана становилось все больше друзей. Поэтому «Конотоп» начал разбухать, как тесто на опаре, и размножаться, как говорил Роскин, естественным почкованием.
Пришлось в конце концов установить три разряда «Конотопов» – малый, средний и большой.
«Малый Конотоп» собирался в первоначальном тесном составе почти каждый вечер. В «Средний Конотоп» вошли новые «общники» – Василий Гроссман, Семен Гехт, Андрей Платонов, старый наш друг по Батуму архитектор Миша Синявский и его жена Люсьена. Собирался «Средний Конотоп» вместе с «Малым» раз в неделю. И, наконец, примерно раз в месяц собирался «Большой Конотоп», – громоздкий и шумный.
На «Большом Конотопе» можно было встретить самых разношерстных людей – от сибирского восторженного поэта Вани Ерошина{209} («Душа горит!») до академика французского типа, как бы увенчанного лаврами историка Тарле{210}, и от корректного до последней пушинки, снятой с пиджака, писателя Георгия Шторма{211}, до волгаря и «окальщика» книголюба Шуры Алимова – косовороточного вечного студента.
Гайдар писал шуточные стихи про каждого участника «Конотопов», но, к сожалению, их никто не записывал, и сейчас они забыты. Он сочинил гимн «Конотопа». В этом гимне трогательно изображалась смерть Гайдара в Конотопе от неизвестной причины:
Гимн кончался отчаянным воплем Гайдара:
В стихах о Фраермане были совершенно точные строки:
Стихи эти Гайдар писал стремительно, лукаво и иной раз беспощадно.
Однажды на «Малом Конотопе» я прочел короткий рассказ о книге, какую собирался писать, – о «Кара-Бугазе».
Это был, собственно, не рассказ, а свободный план книги, украшенный авторскими отступлениями и цитатами из географических исследований, из книг по химии, отрывками из восточных поэтов и лоции Каспийского моря, из энциклопедии и моими размышлениями, выданными за чужие цитаты. Мне нравилось, что ни один ученый и литературовед не мог изобличить меня в неправильности этих цитат, так как и цитаты, и их авторы были вымышлены.
Я прочел на «Конотопе» свой план и отдал его на всеобщее обсуждение. Но обсуждать особенно не стали, так как никто не знал, что такое Кара-Бугаз. Только Роскин сказал, что охотно согласился бы вместе со мной написать книгу о Кара-Бугазе, но это – бессмысленно, так как он уверен, что ни в какой Кара-Бугаз я не поеду и книгу о нем не напишу.
Конечно, Роскин предложил пари. Если через год я не напишу книгу, то должен буду купить Роскину школьный микроскоп, а если напишу, то Роскин обязуется подарить мне хороший спиннинг. Понятие о хорошем спиннинге было чрезвычайно растяжимым и колебалось в пределах от пяти до тысячи рублей. Из-за цены этого спиннинга шли постоянные распри.
Мне хотелось написать книгу чисто географическую, суровую, строгую, похожую на отчет о путешествии – такой же живописный, как самодельная и грубая карта, набросанная углем на куске оберточной бумаги.
С детства я досадовал, что вся земля исследована и описана, а в тот год эта досада была особенно сильной. Должно быть, оттого, что я вынужден был сидеть в Москве и ежедневно вариться в вязкой скуке телеграфного агентства РОСТА. Скука эта была для меня даже окрашена в грязновато-желтый цвет.
Особенно было досадно, что земля была исследована и описана зачастую совсем не теми людьми, которые могли бы передать ее сложную красоту и таинственность.
Все описано! Все! Все изучено! Почему известный картограф капитан Бутаков{212} не оставил мне хоть небольшое Аральское море, чтобы я мог его объездить и описать. Я бы сделал это с величайшим наслаждением.
Я бы вспомнил до последней мелочи все обстоятельства, которые имели касательство к этому морю. Вспомнил бы даже проект французского писателя Бернардена де Сен-Пьера, пытавшегося устроить на берегах Арала республику для политических изгнанников изо всех стран мира. Но белобрысая трезвая немка Екатерина Вторая отвергла этот проект без всяких оснований.
Все на земле было описано, за исключением таких редких и адских мест, как Кара-Бугаз. Поэтому он особенно меня привлекал и тревожил.
Я – человек совершенно не суеверный – все же помнил предупреждение геолога Алексея Дмитриевича Шацкого о том, что Кара-Бугаз грозит мне гибелью. Предупреждение это мне тоже нравилось.
Я решил весной непременно поехать в Кара-Бугаз.
Денег, конечно, не было, да и надежд на деньги тоже не было. Единственный способ добыть деньги состоял в том, чтобы предложить какому-нибудь издательству еще не написанную книгу о Кара-Бугазе и получить под нее аванс.
Я пошел к директору одного из издательств. Директор смотрел на меня с досадой, как на нечто наскучившее и насквозь известное.
Я вкратце рассказал ему о Кара-Бугазе.
– На берегах этого залива, – сказал я, – непрерывно накапливаются гигантские, единственные в мире залежи мирабилита – глауберовой соли. Иначе она называется «английской».
Директор раздраженно повертел в пальцах отточенный карандаш, ударил острием карандаша по столу и сломал острие.
– Безобразие! – сказал он. – И то и другое – безобразие! И дрянь карандаш и ваш замысел воспеть в романе слабительную соль и получить под эту соль хорошенький аванс. На фоне нынешнего бурного индустриального роста Советского Союза ваша тема, если взглянуть как следует, является прямым издевательством и глумлением над народом и Советской властью.
Не вый-дет! – сказал он внятно и твердо, как будто говорил с жуликом, подсунувшим ему гнилой товар. – Не вый-дет! Этот номер не пройдет!
Он снова ударил карандашом по столу и теперь уже сломал его окончательно.
– Не вый-дет! – прокричал он, глядя круглыми остановившимися глазами не на меня, а куда-то за мою спину, где висел на стене портрет.
Я встал и, не попрощавшись, ушел.
В этом месте я на минуту прерву повествование, чтобы рассказать о том, как единственный раз в жизни видел Сталина.
Было это примерно в середине тридцатых годов. В Кремле заседал съезд комсомола{213}.
Кремль в те времена был наглухо закрыт для народа. Поэтому я обрадовался, когда в Детгизе мне предложили гостевой билет на последнее заседание комсомольского съезда.
После двадцати лет перерыва я снова мог увидеть Кремль, пройти по огромным плитам его площадей, посмотреть соборы в почернелом дряхлом золоте, в их угрюмом и боязливом молчании.
Я вошел в Кремль через Спасские ворота. Часовой, цепко и недоверчиво поглядывая мне в лицо, проверил документы.
Я прошел через площадь к Большому дворцу вдоль нескольких будок с часовыми. Каждый раз, когда я подходил к очередной будке, в ней требовательно трещал звонок, часовой выходил из будки и снисходительно отдавал честь, не меняя каменного, застывшего выражения лица.
Сталин на съезде еще не выступал. Участники съезда надеялись, что он выступит хотя бы на последнем заседании. Но никто не мог сказать, случится это или нет. Даже председатель съезда Косарев{214} не знал этого.
Участники съезда то дружно, то вразброд кричали: «Просим Сталина, Сталина, Сталина!»
По временам этот крик «Товарища Сталина!» сменялся возгласом: «Слава гениальному Сталину – нашему родному отцу!»
Этот возглас тонул в грохоте аплодисментов и топоте ног.
Время шло. Весь президиум ждал стоя появления Сталина.
И вот – свершилось! Из стены за столом президиума, из ореховой панели внезапно и незаметно возник Сталин.
Все вскочили. Яростно загремели аплодисменты.
Сталин неторопливо подошел к столу, остановился и, сцепив руки на животе, вращая большими пальцами, смотрел на зал.
Я сидел вблизи и хорошо рассмотрел его. Прежде всего меня поразило то обстоятельство, что он был мало похож на многотысячные свои приукрашенные портреты и парадные фотографии. Это был низкий, коренастый человек с тяжелым лицом, рыжеватый, с низким лбом и толстыми усами.
Одет он был в ту форму, какую, видимо, придумал для себя до того, как начал носить мундир генералиссимуса, – в серый френч и серые брюки, как всегда заправленные в блестящие, начищенные сапоги.
Зал сотрясался от криков. Люди аплодировали, воздев руки над головой. Казалось, сейчас обрушится потолок.
Сталин поднял руку. Сразу упала мертвая тишина. И в этой тишине Сталин отрывисто выкрикнул хрипловатым голосом с сильным грузинским акцентом:
– Да здравствует советская молодежь!
И так же таинственно и внезапно исчез в стене, как и появился.
Старинная карта
Когда я был в Ливнах, геолог Алексей Дмитриевич показал мне старую карту восточного побережья Каспийского моря. Я срисовал ее и даже кое-что к ней добавил, но очень осторожно.
Добавил я на карте или, вернее, отметил на ней те воображаемые места, где хорошо бы сделать привал во время столь же воображаемых будущих моих скитаний по берегам Кара-Бугаза. Места эти всегда чем-нибудь отличались от общего характера пустыни и ее известковых нагорий.
Я выбирал эти места около высохших колодцев или старых могильников, потерявших сейчас всякое подобие надгробных памятников и ставших грудой камней.
Где-то на окраине Мангышлака, к югу от него, во впадине, ведущей к Кара-Бугазу, я нашел отметку: «Несколько высохших деревьев». Я поставил свой привал около них. Должно быть, это были старые тутовые деревья или колючий саксаул – дерево, о которое можно ушибиться, как о ломаное железо.
Эти мои отметки были, конечно, игрой. Поэтому я прятал свою карту от чужих глаз. Мне было неловко рассказывать о ней даже таким всепонимающим и ребячливым людям, как Фраерман.
Я отмечал на своей карте не только привалы, но и места, где должен был, попав туда, обязательно вспомнить о ком-нибудь из близких мне людей или о каком-нибудь событии из моей жизни. Вот здесь хорошо бы вспомнить о ночи в Люблине, засыпанной сиренью, а здесь – о том, как мальчишками бродили мы по лесам в Рёвнах, – разыскивая в заросших оврагах бормочущие чистые ручьи. И сирень и ручьи должны были обязательно прийти мне на память среди палящей закаспийской пустыни.
Оправдание для этой мальчишеской игры пришло позже, когда я попал на берега Кара-Бугаза и убедился, что, погружаясь в такую странную игру над картой, я был совершенно прав.
Моя любовь к картам принесла мне много знаний, а порой и радостных неожиданностей.
С географическими картами в моей жизни связано несколько более или менее интересных историй. Одну из них я расскажу.
Это история о карте Атлантического океана, о близнецах, о моей рассеянности и о провинциальном французском городе в Провансе.
История эта началась давно, в 1957 году, когда я впервые попал в Париж и испытал на берегах Сены около лавок букинистов жестокое огорчение.
Почти у каждого букиниста были выставлены заманчивые карты, слабо подкрашенные акварелью и выгоревшие от старости. Легкий ветерок дул вдоль Сены, колыхая эти карты. Они напоминали затвердевшие флаги, вышедшие из употребления и развешанные для просушки на теплой гранитной набережной.
Я долго рассматривал карты, но не мог купить ни одной. У меня к тому времени иссякли скудные запасы франков. В кармане жидко постукивали ничтожные и невесомые сантимы. Они были такими легкими, будто их делали из швейцарского сыра.
О крупных купюрах – нарядных трескучих ассигнациях из тонкой бумаги с романтическим портретом молодого Бонапарта на Аркольском мосту{215} – осталась только приятная память. Так же как и о бородатом и вызывающем боязливое почтение Викторе Гюго на пятифранковых бумажках.
В общем, я не мог купить ни одной карты и свою досаду по этому поводу высказал в очерке «Мимолетный Париж», напечатанном вскоре в Москве. Отсюда и начала разматываться нить дальнейшей истории.
В то время в Париже в Сорбонне учился на славянском отделении студент-француз некто Имар, родом из города Монтобана на юге Франции.
Имар изучал русский язык. Он познакомился с русской девушкой-москвичкой, присланной в Сорбонну для усовершенствования во французском языке, и вскоре они поженились.
Окончив Сорбонну, Имар уехал с молодой женой учительствовать в Монтобан. Он случайно прочел там в номере журнала «Октябрь» «Мимолетный Париж», проникся состраданием ко мне, купил в Париже на набережной Сены старую карту и прислал мне в подарок в Тарусу.
Карта была вложена в толстую картонную трубку со множеством наклеенных на нее французских марок. Такое обилие заграничных марок вызвало большое оживление среди неизбалованных тарусских филателистов.
В письме, сопровождавшем посылку, Имар сообщал мне, что недавно переехал из Монтобана в маленький городок, где-то между Марселем и Экс-ле-Провансом.
В декабре 1962 года я вторично приехал во Францию и написал из Парижа Имару. В ответ он прислал мне в Париж приглашение обязательно приехать к нему в провансальский городок, и по возможности скорее, так как у Имара только что родились близнецы – две девочки – и хорошо было бы вместе отпраздновать это семейное событие.
В письмо была вложена пригласительная карточка, напечатанная, очевидно, в марсельской типографии красивым, широким шрифтом. Семейство Имар просило всех родственников, друзей и добрых знакомых посетить их дом в день, назначенный для празднества в связи с появлением на свет сразу двух новых Имаров.
Я довольно ясно представил себе этот веселый день под безоблачным небом Прованса.
Толпа любопытных, но вежливых школьников – учеников Имара собралась около его дома. Над калиткой развевался трехцветный флаг.
Вдоль тихой улицы стояли разнокалиберные запыленные машины гостей – загорелых и шумных провансальцев, – ценителей знаменитого марсельского блюда «буйябесс» (в него кладут всё, что водится съедобного в Средиземном море, – креветок, лангустов, омаров, мидий, разную рыбу и водоросли).
Женщины ласково болтали друг с другом. Молодая мать умиляла всех серыми русскими глазами, молодой отец – учитель и спортсмен – смущался, а мэр городка – жилистый старик в старомодной широкополой шляпе, какую носили знаменитый провансальский поэт Мистраль{216} и не менее знаменитый провансальский прозаик Альфонс Доде, – много шутил по поводу русско-французской дружбы, принявшей такую неожиданную и осязательную форму в их городке.
Накрывали столы. На очагах на французский манер жарили на вертелах мясо. Откупоривали выдержанные вина. И уже напившийся где-то молодой сосед – человек чувствительный и разговорчивый – уверял, что с малых лет влюблен в туманную и холодную Россию и до сих пор вот в такие, изрядно надоевшие ему солнечные дни грустит по облакам. Соседа не смущали взрывы хохота. Да, месье-дамм, он грустит по прекрасным облакам России. Он видел точно такие же облака, когда был недавно на берегу Ла-Манша.
Правда, этого молодого француза, грустившего по облакам, я встретил в другом месте, в деревне Эгальер, но это не имеет значения.
Но вообще говоря, трудно было представить себе все перипетии этого милого праздника. Я боялся опоздать на него.
Мы как раз уехали из Парижа в поездку по Провансу, и в конце этой поездки решено было посетить нашего заочного друга Имара. Поэтому путешествие по Провансу было в известной мере предвкушением этой встречи.
Об этом путешествии, пожалуй, стоит сказать несколько слов. Хотя бы потому, что проходило оно в стороне от традиционных путей с их набившей оскомину красотой.
Сначала был средневековый папский Авиньон. Могучие и вместе с тем легкие крепостные стены окружали этот город. Над ним возвышался как бы выросший из диких скал папский дворец. Быстрая Рона струилась за окнами кафе с милым названием «Все идет прекрасно». Там ручные хозяйские канарейки садились на руки подвыпившим шоферам грузовиков-камионов. Шоферы осторожно гладили их черными от автола пальцами по золотым и тугим, скрипучим на ощупь спинкам и ласково дышали на них перегаром вина.
За Авиньоном простирались ясные дали, а за рекой вздымался на холме безлюдный форт Святого Андрея – заповедник крепостной мощи и тишины.
В его могучие ворота могли въехать в ряд только два рыцаря, а меж камней в стенах росли тоненькие, как ниточки, побеги диких озябших ирисов (был декабрь, но, к счастью, не было мистраля – бича этих мест).
Мы осторожно вытащили несколько таких побегов, привезли в сырой бумаге в Москву, посадили в вазоны с нашей русской землей, и побеги за две недели превратились в пучки огромных мечевидных изумрудных листьев. Весной их высадят в грунт в Тарусе, и они будут жить в дружбе с русской ромашкой и мятой.
Улицы Авиньона составлены сплошь из средневековых домов с черными балконными решетками и бронзовыми дверными молотками.
На многих домах были прикреплены мемориальные таблички, настолько позеленевшие, что их трудно было прочесть. Но все же наш спутник разобрал на одной табличке неожиданную для нас надпись, что в этом доме жил и умер первый воздухоплаватель, изобретатель воздушного шара Монгольфье{217}. Дом, между прочим, был бедный, тесный и темный.
Потом был Арль. В жизни есть явления, которые больше походят на сновидения, чем на реальность.
Таким городом для сновидений оказался Арль. Свет дня – к тому же чистый и резкий – делал особенно стереоскопичной, особенно выпуклой картину этого города, его римскую арену, где теперь происходят корриды, его скупые по линиям, пустынные улицы, напоминающие о соседней Испании, сиротливый маленький дом Ван Гога, уцелевший на краю пустыря, оставшегося после разбитого воздушной бомбардировкой квартала.
В Лувре, в галерее импрессионистов, хранятся палитры всех больших художников Франции, в том числе и палитра Ван Гога. Она как бы составлена из жирных кусков арльской земли. Она светит охрой, суриком, красным вином, осенним цветом виноградного листа, столетней ржавчиной и сырой лиловой тяжестью только что перепаханной земли.
Деревья, завязанные в медные узлы руками неведомых исполинов, отсвечивают сизой корой.
Все густо, плотно. Краски как бы шарахаются одна от другой, не в силах выдержать напряжения и блеска своих соседок.
В арльской гостинице, обитой пунцовым штофом, сонной и настолько старой, что в ней даже как-то неловко было жить современному человеку, тщеславные владельцы привинтили к дверям многих комнат медные таблички с надписями: «Комната Мистраля», «Комната Пикассо», «Комната императора Наполеона III{218}». Очевидно, стоило хотя бы раз остановиться в этой гостинице мало-мальски известному человеку, чтобы на следующий же день старый арльский гравер-ворчун уже начинал нарезать новую дощечку для гостиничных дверей.
Нам отвели комнату Мистраля.
Рассматривая обстановку этой комнаты, я подумал, что Мистраль, наверно, был весьма почтенным и старомодным поэтом-говоруном. Ему легко было жить. От него ничего не требовалось, кроме того, чтобы воспевать в гладких стихах общепризнанные красоты Прованса.
Почему-то в комнате Мистраля я чувствовал себя неловко, будто нарушаю стариковский распорядок жизни прославленного поэта. Нарушаю тем, что Мистраль не может понять, что мне от него нужно, почему я попал в эту комнату, кто я такой и о чем, собственно, ему следует со мной разговаривать.
Это состояние мучило меня всю ночь сквозь непрочный сон, должно быть, потому, что за стенами задувал с недалеких Альп тезка поэта – настоящий бешеный и невежливый ветер мистраль. А он, как известно, путает человеческие мысли, раздражает людей и заставляет их делать всякие несообразности. Очевидно, поэтому местный суд смягчает наказания людям, совершившим какие-либо проступки во время мистраля.
Задолго до поездки во Францию я от кого-то слышал или где-то читал о красоте уроженок Арля – арлезианок. Но, как всегда, не придаешь слышанному вскользь никакого значения, пока не столкнешься с ним лицом к лицу. Так случилось и теперь.
Мы зашли в тесное и уютное кафе под стеной римской арены (так зовут в Арле сохранившийся римский цирк, своего рода арльский «колизей»).
В кафе не было ни души. Портреты знаменитых тореро в разноцветных традиционных костюмах висели на стенах.
В кофейной теплоте и тишине сверлил под сурдинку сверчок. От его пения делалось особенно уютно, тем более что за окнами сверкало холодное и ясное декабрьское предвечерие, и лучи солнца, падая на стены кафе, не давали тепла. Тепло шло от газовой печки.
Только через минуту после нашего прихода из задней комнаты вышла на звон колокольчика хозяйка – молодая арлезианка.
Как жаль, что поэтическая смелость поведения, свойственная таким людям, как Гейне, давно оставила нас, давно перестала быть свойством нашего времени.
Конечно, Гейне встал бы перед вошедшей арлезианкой, как перед испанской инфантой или Сарой Бернар, отвесил бы ей низкий поклон и сказал что-нибудь вроде того, что шуршание ее простого платья прекраснее и тревожнее для его мужского сердца, чем шум самых дорогих королевских шелков.
Он, конечно, сказал бы это тонко и остро, – мы уже давно разучились так говорить. Сказал бы и вызвал внезапный румянец на щеках прелестной арлезианки.
Мгновение назад ее еще не было. Но вот – она вошла, она есть, и уже ясно, что твой мир, конечно, не мог существовать без нее, что она давно жила в нем и владела твоей покорной душой.
Она не была даже очень молода. Ей было, должно быть, лет тридцать. Узкое лицо было покрыто тонкой смуглостью, какая существует только в Арле. Темнота и ясность ее глаз, немного сумрачных и суровых, ее взгляд прямо в глаза – и внезапно этот сумрак глаз арлезианки вспыхивает до самого их золотистого дна сиянием взволнованной и таинственной улыбки. И улыбка эта сливается с легкостью ее движений и легкостью ее голоса, ясного, как во сне.
Со школьных лет я чувствовал красоту русского языка, его силу и плотность. С годами это перешло в глубокую любовь к языку и в более или менее ясное знание его.
Вскоре я убедился, что одного знания языка мало, особенно для людей, посвятивших себя литературе. Помимо этого, нужно еще чувство своего родного языка. Зачастую оно бывает врожденным, органическим. Оно не позволяет нам нарушать благозвучие языка и его необъяснимый, но явственный ритм.
Но, несмотря на свою приверженность русскому языку, мне временами казалось, что он уступает по певучести, четкости, по некоторым своим модуляциям другим языкам, в частности французскому и итальянскому, древнееврейскому и даже голландскому.
Очевидно, я, как и все мы, слишком привык к своему языку, чтобы услышать его как бы со стороны и полностью оценить.
И вот в Арле, на бульваре Де-Лисс, в вечернем пустом кафе нас убедил в красоте нашего языка кельнер – «гарсон» средних лет – типичный арлезианец с насмешливыми глазами.
Он долго почтительно стоял невдалеке от нашего столика, слушал наш разговор, потом подошел и спросил, на каком языке мы разговариваем.
– А почему вы это спрашиваете? – спросили мы, в свою очередь, гарсона.
– Какой-то, – ответил он, – необыкновенно красивый язык. Я такого еще никогда не слышал. Это венгерский?
– Нет!
– Польский?
– Нет!
– Чешский?
– Нет!
– Какой же все-таки?
– Это русский язык.
– Погодите! – воскликнул гарсон и ушел за перегородку. Оттуда он привел другого гарсона – седеющего и благожелательного.
– Вот! – сказал он и с торжеством показал нам на своего товарища.
Тот смутился и вдруг произнес скороговоркой, но почти без акцента:
Мы онемели.
– Откуда вы это знаете?
– Я изучаю русский язык, – ответил седеющий гарсон с некоторой гордостью. – По старому учебнику. По такому же учебнику я уже выучил испанский язык. Но у меня нет практики в русском языке. Он неслыханно трудный. В Арле русские не бывают. За несколько лет вы – первые.
– Зачем же вы изучаете этот язык?
– Он мне нравится, – ответил, смущаясь, гарсон. – Я холостяк. Я совершенно одинок и трачу все свободное время на изучение языков. Я бы мог поговорить с вами по-русски, но я стыжусь своего произношения. И неправильных ударений.
– Но все-таки!
Гарсон оперся кончиками пальцев о столик и сказал с трудом:
Он достал из кармана белой куртки маленькую, но толстую книгу – учебник русского языка, выпущенный каким-то неведомым издательством в Марселе.
Это был смешной и неуклюжий учебник, вроде пресловутого учебника нашего детства – Марго, над которым принято было всячески издеваться. Особенно хороши в учебнике Марго были примеры: «Золотые зайцы не желают скакать по зеленым канатам», «Этот день, не понедельник ли он?», «Усыпляйтесь, моя дорогая бабушка, перед теплым огоньком из камелька».
Этот же гарсон привел к нам седого и сердитого на вид арльского таксиста мосье Мориса. Таксист, неожиданно оказавшийся приветливым добряком, охотно согласился проехать с нами по Камарге и по западному побережью Прованса, идущему в сторону Испании.
Камарг – это дельта Роны, огромная заболоченная низина, заросшая высоким тростником и покрытая множеством озер и лагун.
В Камарге пасутся черные быки для корриды в Арле и Ниме и одномастные белые лошади. Должно быть, многие читатели видели французскую кинокартину «Белая грива» о трогательной дружбе сельского мальчика – жителя Камарги – с дикой и вольной лошадью Белой гривой.
Низина подходит к морю. Там на дюнах среди шума сухих тростников живут маленькие рыбачьи поселки – пустынные, немного хмурые, совсем непохожие на близкие отсюда, ослепительные и пряные курорты – на все эти Сан-Тропезы, Ниццы, Канны и Ментоны.
В поселке Сент-Мари-де-ля-Мер у полосы прибоя вздымается, как глыба камня, старая церковь – серая, холодная и пустая.
Под алтарем сопит, всасываясь в пустоты берега, море. В церкви пахнет креветками. Горит несколько свечей, и висят по стенам ленты, бубенцы и детские неумелые рисунки кораблей и пароходов, похожих на корыта.
Ленты и бубенцы здесь оставляют цыгане. Раз в несколько лет сюда съезжаются представители цыган из всех стран Европы и выбирают в этой церкви цыганского короля.
Он «царствует» несколько лет.
Женщина в толстом теплом платке зашла вслед за нами в церковь и рассказала, что избранный недавно цыганский король, родом, кажется, из Австрии или Венгрии, полюбил молодую цыганку откуда-то из-под Риги и уехал к ней. Женщина – простая рыбачка – все же пошутила и посмеялась, что и в нашей революционной стране живет, оказывается, король.
Неумелые рисунки кораблей и пароходов (даже колесных) вывешивают на стенах родственники рыбаков и матросов, ушедших в море, чтобы охранить своих родных от бурь и прочих морских опасностей.
Второй интересный городок лежал к западу от первого, за руслом Малой Роны, и назывался Ле-Гро-дю-Руа.
То был рыбачий порт с двумя маяками, молами, тишиной, дремлющими барками и рыбаками в оранжевых брезентовых робах.
Мы прожили в Ле-Гро-дю-Руа два дня – два безмятежных дня среди стука деревянных сабо, тихого пения худеньких девочек, баюкавших кукол на пороге домов, среди простонародных кафе и как бы поминутно засыпающего звона пустой церкви.
Узкая лагуна перерезала город и уходила вдаль, в песчаную низменность, где в пятнадцати километрах от берега моря на краю лагуны стоял третий загадочный город Эгморт (по-провансальски это значит «мертвые воды»).
В Ле-Гро-дю-Руа через эту лагуну был переброшен железный мост с единственным в мире настилом из просмоленных толстых корабельных канатов, туго скрепленных друг с другом. По этому бесшумному мосту безопасно проходили трехтонные грузовики.
По словам старожилов, в Ле-Гро-дю-Руа мы были первыми русскими посетителями. Это обстоятельство вызывало у местных жителей по отношению к нам не только прилив любопытства и радушия, но временами и подлинного восхищения.
Нас зазывали в кафе, старались угостить, расспросить о таинственной и ледяной («бр-р!!») Москве.
В одном кафе рыбаки с торжеством притащили к нам единственного обитателя Ле-Гро-дю-Руа, которому посчастливилось побывать в России.
Это оказался маленький, багровый от смущения старичок, заросший, как старый еж, белой страшной щетиной, – ее, должно быть, не брала никакая бритва!
Старичок посматривал на нас виноватыми и ласковыми глазками. Оказалось, что он когда-то служил матросом на французском броненосце «Жан Барт» и во время гражданской войны в 1919 году был со своим броненосцем в Одессе.
В Ле-Гро-дю-Руа все дни стояла немного туманная, холодноватая погода. Море тихо сердилось около молов. По ночам напряженно горели по далеким невидимым берегам и белые и красные, очень чистые маяки.
На рассвете рыбачьи барки уходили в море, а возвращались в полдень. Две-три гостиницы – приют летних туристов – были закрыты на зиму.
Одну из них специально открыли для нас, четырех человек, – протопили, дали полный свет, собрали небольшой персонал, и мы очень дружно вместе с этим персоналом прожили два дня, питаясь в пустом ресторане всеми изделиями местной кухни.
И, наконец, последний городок – Эгморт.
Я уже чувствую недовольство читателя тем, что позволил себе такое отступление от прямой темы предыдущих глав. Единственным надежным оправданием для меня могут быть слова писателя Ренара{219}, который советовал писать совершенно вольно, нарушая все правила и создавая этим (так ему казалось) хорошее настроение у читателя.
Я сильно в этом сомневаюсь, но материал берет пишущих в плен, и избавиться от давления материала можно, только записав его.
В Средние века король Людовик Святой{220} выстроил на низких дюнах вблизи Средиземного моря огромный замок. По лагуне, тянувшейся от моря, к этому замку могли подходить морские корабли.
Отсюда король отправлял в Палестину первые отряды крестоносцев. Замок получил название «Мертвые Воды» из-за неподвижных вод лагуны.
Мы подъехали к Эгморту к вечеру. На закатном небе возникла монолитная громада стен и башен. Она подымалась прямо из песчаной равнины. У ее подножия шелестела сухая трава.
Вокруг не было видно ни души – ни человека, ни лошади, ни птицы, ни машины. Замок казался необитаемым.
Это придавало ему облик загадочный и даже пугающий. Жизнь, наверное, ушла из этой каменной крепости несколько веков назад, лагуна обмелела, корабли уже не подходят к Эгморту, и вообще трудно понять, зачем в этом бесплодном и плоском месте соорудили такую величественную твердыню. Мы подивились ее величию. В стенах был слышен посвист ветра, долетавшего с моря.
Потом через узкие ворота мы въехали внутрь и были ошеломлены: в крепостных стенах, как игрушка в скорлупе ореха, был спрятан прелестный маленький городок с фонтанами, памятниками, скверами, кафе, старинными домами, пением патефонов, магазинами и даже с бензиновой колонкой.
Голуби кружились над островерхими кровлями. Скромно покашливал колокол в часовне. Звук его был так слаб, что не проникал наружу за тяжелые стены.
Алым пламенем перебегала реклама кинотеатра: «Самый длинный день мира».
Жителей городка можно было, должно быть, пересчитать по пальцам.
Мы зашли в маленький и темный магазин. Там было пусто, но дверной колокольчик, потревоженный нами, так долго побренькивал, что наконец из задней комнаты вышел, не торопясь, с салфеткой в руке молодой краснощекий француз – владелец магазина.
Узнав, что мы русские, он всплеснул руками, с отчаянным воплем: «Франсуаза! Франсуаза!» – бросился назад, в недра магазина, и извлек оттуда миловидную молодую женщину – свою жену, чтобы познакомить ее с русскими. Франсуаза, должно быть, стирала. Бормоча извинения и краснея, она вытирала руки о фартук.
Потом, в свою очередь, она привела девочку трех лет, сделавшую нам низкий реверанс, а хозяин привел согнутую пополам старушку с клюкой – свою престарелую мать – и прокричал ей в ухо, что она видит перед собой в Эгморте первых советских людей.
Старушка ласково кивала нам и прижимала к глазам платок, вытирая слезы.
Можно было подумать, что в дом к этому французу вернулись пропавшие и чудом спасенные родственники.
Тотчас появилось вино, кофе, всякие пирожные – «патиссери», а в дверях уже толпились, напирая друг на друга, улыбающиеся жители Эгморта и большое количество мальчишек.
Они – эти мальчишки – первыми подали клич о нашем появлении, и они же последними проводили нас за ворота города в меланхолические равнины Камарга.
Но не бывает, должно быть, добра без худа. В этом милом городке я обнаружил, что забыл в Париже, а может быть, и совсем потерял адрес Имара, и что сейчас уже никак не могу припомнить название того городка, где он живет.
Я проклинал себя, свою память, свою недавнюю болезнь, которая, как всегда, была виновата во всех моих бедах, и прежде всего – в рассеянности.
Мы были удручены. Нас даже не утешило то обстоятельство, что мы заедем в Марсель.
Мосье Морис грустил вместе с нами, подсказывал мне названия разных городков вблизи Марселя, но ни одно из них не казалось мне знакомым.
Так печально закончилась история с картой Атлантического океана. Может быть, Имар и его жена прочтут эти строки, и они послужат для меня некоторым оправданием.
О Марселе я писать не буду. Представьте себе увеличенную в несколько раз Одессу, к тому же во сто крат более шумную, блесткую, разноязычную и анекдотическую – это и будет Марсель.
Обертка от голландского сыра
История с географической картой, которая будет рассказана ниже, случилась раньше, чем рассказанная выше. Она резко повлияла на всю мою жизнь.
Началось с того, что, живя летом в жаркой и пыльной Москве, я питался преимущественно (из-за собственной лени) чаем с сыром и колбасой.
Жил я уже не в подвале на Обыденском переулке, а в коммунальной квартире на Большой Дмитровке, на углу Столешникова переулка, где внизу был меховой магазин. В витрине его много лет сидел широко известный всей Москве волк с ощеренной мордой.
Сыр и колбасу я покупал в соседнем бакалейном магазине. В магазине этом все продавщицы были румяные и толстощекие и носили белые халаты поверх пальто. Халаты на них лоснились и трещали.
Однажды в бакалее мне завернули кусок голландского сыра в обрывок географической карты.
По своей дурной привычке всегда что-нибудь читать или рассматривать за чаем, я начал изучать этот обрывок карты и вдруг почувствовал холодок под сердцем.
Некоторые из нас любили в детстве (и любят до сих пор) придумывать и рисовать карты воображаемых великолепных мест, почти всегда – девственных и пустынных.
В эти карты, должно быть, каждый вкладывает свое представление о земном рае, о счастливых и богатых краях, куда с первых лет жизни стремились его помыслы.
И вот обрывок карты такой заповедной страны – и невыдуманной, а действительно существующей – лежал передо мной.
Бесконечные леса, озера, извилистые реки, едва намеченные пунктиром заросшие дороги, пустоши, деревушки, лесные кордоны и даже постоялые дворы – все, о чем я мечтал в своей жизни, было собрано здесь.
Обрывок карты относился к Мещерским лесам.
В конце лета я поехал туда, и с тех пор вся моя жизнь круто переменилась, окрепла, приобрела новую ценность, – впервые я узнал как следует срединную Россию. С тех пор сильнейшее чувство любви к ней, к своей, до тех пор почти неизвестной, но коренной родине, ни на минуту не покидало меня, где бы я ни был – в Калабрии или в Туркменистане, на сырой Балтике или в Альпах.
Для родины всегда находишь любое оправдание, как и для матери. Только сыновьям дано понимание материнского сердца, проникновение в его скрытую ласковость, в его муку, в его небогатые радости.
После Мещеры я начал писать по-другому – проще, сдержаннее, стал избегать броских вещей и понял силу и поэзию самых непритязательных душ и самых как будто невзрачных вещей, – к примеру, ветерка, несущего над выгоном запах дыма и качающего рыжие султаны сухого конского щавеля.
И еще одна карта сыграла большую роль в моей жизни – карта Кара-Бугаза. Ей я был отчасти обязан первой своей замеченной книгой. Но и только. На дальнейшей моей жизни Кара-Бугаз не оставил сколько-нибудь явных следов.
Испытание пустыней
Наконец я достал немного денег на поездку в Кара-Бугаз. «Конотоп» благословил меня, я с трудом взял отпуск в РОСТА и поздней весной уехал на Каспий. До отъезда я много времени просиживал в Ленинской библиотеке и читал без особого разбора все, что относилось к закаспийской пустыне и Каспийскому морю.
Я решил ехать поездом до Саратова, а оттуда на пароходе до Астрахани.
Журнал «Наши достижения» заказал мне два очерка – о Калмыкии и об Эмбинских нефтяных промыслах. Поэтому из Астрахани я должен был проехать в город Элисту – столицу Калмыцкой Республики, оттуда вернуться в Астрахань, потом на пароходе ехать в город Гурьев на Урале, где было управление Эмбанефти, оттуда опять вернуться в Астрахань и после этого уже двигаться дальше (тоже на пароходе) в Мангышлак и Красноводск.
Из Красноводска любыми способами надо было добираться через пустыню в Кара-Бугаз.
Впервые в жизни я ехал «за материалом» для книги. Я был тогда еще настолько наивным писателем, что это обстоятельство наполняло меня даже некоторой гордостью. Но очень скоро я понял, что никогда не следует нарочито искать материал и вести себя как сторонний наблюдатель, а нужно и в пути и во всех местах, куда ты попадаешь, просто жить, не стараясь обязательно все запомнить.
Только в этом случае ты остаешься самим собой и впечатления войдут в тебя непосредственно, свободно и без всякой предварительной их оценки, – без постоянной мысли о том, что может пригодиться для книги, а что не может, что важно и что не важно. Потом память сама безошибочно отберет все, что нужно.
До Саратова поезд шел очень медленно, через среднерусские поля и овраги.
В Саратове я прожил два дня на окраине города в береговой слободке. Там над всеми домами торчали нарядные голубятни, и тучи голубей весь день надоедливо кружились сизыми хлопьями над дворами.
Потом старый пароход «1812 год» отвалил в Астрахань. В моей каюте висел портрет одноглазого фельдмаршала Кутузова.
Нижняя Волга была явным преддверием пустыни, – тянулись мимо глинистые берега, желтая вода в пятнах мазута, охряное мглистое небо.
Было голодно. В пароходном буфете давали только тощую селедку и жидкий чай с маленьким куском черствого черного хлеба.
В поезде и особенно на пароходе я впервые столкнулся с поразившим меня упорным и как будто беспорядочным движением множества людей. Казалось, вся крестьянская Россия снялась с насиженных мест и движется в поездах и на палубах пароходов куда попало, надеясь осесть наугад в каких-нибудь более спокойных и сытых местах.
Палуба была завалена молчаливыми этими людьми и их заношенным скарбом. Почти все везли мешки с картошкой и черными сухарями.
Женщины весь день стирали серое белье и пеленки, заходились, пуская пузыри, грудные дети, старики и старухи пели вполголоса одну и ту же молитву: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!»
Под эти заунывные и мрачные песнопения пароход уходил все дальше к югу. Там с рассвета до вечера висела над горизонтом бурая мгла. Песчаная пыль оседала на всем. В каюте пахло пылью. Песок трещал на зубах.
На сожженных берегах появились первые верблюды. Шерсть после голодной зимы слезала с них большими кусками, и лиловые плеши на худых боках были хорошо видны даже с палубы парохода.
Верблюды бесстрастно смотрели вслед пароходу и непрерывно жевали – должно быть, колючки или полынь. Изо рта у них тянулись длинные и вязкие нити зеленой слюны.
Я вспомнил слова Ильфа о том, что путешествия требуют психической выносливости. Ильф был, конечно, прав.
Селедочная, сухая Астрахань открылась вдали в тяжелом мареве и запахе лежалой рыбы. Марево это не уносили даже порывистые знойные ветры, задувавшие с востока, с так называемой Бухарской стороны.
В Астрахани меня приютил молодой астраханский писатель и журналист. Жил он на Варвациевом канале, в зеленом маленьком доме с крошечным тенистым садом.
Этот сад, где молодая и болезненная жена писателя развела много цветов, особенно настурций, показался мне раем. Цветы пахли прохладой. У писателя недавно умер маленький восьмимесячный сын. Молодая женщина тосковала и часто плакала, запершись у себя в комнате, а муж ее до позднего вечера просиживал в редакции.
Я тоскливо ждал оказии, чтобы уехать в калмыцкие степи, в город Элисту. Оказии все не было, и я бродил по городу и по берегам Варвациева канала. Мутный и пустынный, этот канал казался мне выцветшим сновидением.
Единственным оазисом в городе была всегда безлюдная и прохладная картинная галерея. Я часто ходил туда, смотрел картины Нестерова, Сарьяна, Кустодиева{221} – уроженца Астрахани, и удивлялся тому, как эти картины сюда попали и кому они здесь нужны. За все время я встретил в галерее всего несколько человек.
Мне не верилось, что в Астрахани родился и вырос Велемир Хлебников.
Наконец я уехал в калмыцкие степи. Они цвели по весне морями темных трав. Утром сотни жаворонков вырывались, трепеща крыльями, из этих трав и разбрызгивали росу. Она сверкала на солнце, и казалось, что какой-то странный дождь как бы подымался над самой поверхностью земли и висел над ней, а выше него воздух был чист и прозрачен.
Грузовик мчался, виляя около надменных беркутов, сидевших по обочинам широкой дороги. Ни один беркут не шевельнулся, хотя машина проскакивала около них почти впритирку. Беркуты даже не давали себе труда повернуть голову, чтобы посмотреть на нас и на гремящее и пыльное сооружение, где мы жестоко тряслись в кузове, стиснутые грузом железных кроватей и бочек соленой рыбы.
Самым наглым из беркутов шофер, проносясь мимо, грозил кулаком, но это не производило на них впечатления.
Меня удивляло это бесстрашие беркутов. Мой попутчик – старый землемер, знаток этих степей, – объяснил мне, что беркуты любят сидеть по обочинам дорог по той простой причине, что машины спугивают суетливых сусликов и тушканчиков. Суслики начинают бестолково метаться по дороге, и беркуты лениво и безошибочно ловят их. Оказывается, машина, как гончая собака для охотников, спугивала для беркутов дичь.
Мы сели на грузовик не в Астрахани, а на правом берегу Волги, в сухом и сером поселке Калмыцкий Базар.
Перед отъездом начальник автомобильной станции записал пассажиров в подорожную книгу.
Он вписал в нее наши домашние адреса и адреса наших ближайших родственников.
Я расписался в этой истрепанной книге, как, должно быть, расписывались в ней путники в начале девятнадцатого века.
– Мало ли что может случиться в степи, – сказал начальник автостанции. – У нас тут бывает иногда неспокойно. Вы в первый раз здесь едете?
– Да.
– Тогда следите за водителем и делайте все так, как делает он. Не пейте воду из тех колодцев, из каких он не станет пить. Не заходите в те юрты, куда он не будет заходить. Водитель опытный. А то схватите или трахому, или еще что-нибудь почище.
Мне эти предосторожности казались чрезмерными, но вскоре я понял, что начальник автостанции был прав. Понял я это, когда мы остановились на минуту у первых юрт и к машине подошло несколько старых калмыков с кровавыми от трахомы глазами. Вместо век у них краснело обнаженное мясо.
Старики присели около машины на корточки и долго и одобрительно похлопывали ладонями по горячим пыльным покрышкам грузовика. Они восхищались машиной и считали ее, очевидно, чем-то священным.
На шеях у всех стариков висели большие связки окаменелых баранок.
Потом я видел эти ожерелья из баранок у многих калмыков. По числу баранок можно было судить о достатке калмыка, – чем больше баранок он носил на себе, тем был состоятельнее и тем высокомернее себя держал.
Юрты попадались редко.
Мы обгоняли караваны неправдоподобно худых верблюдов, они тащили на себе новые телеграфные столбы. Их привязывали к спинам верблюдов крест-накрест.
К полудню начались миражи. Всю степь – от колес машины до самого горизонта – заливало тусклой, непрозрачной водой. Было похоже, что мы несемся по огромной, устрашающей своими размерами луже. Над ней торчали, как вершины затопленных деревьев, стебли репейника.
Удивительнее всего было то обстоятельство, что эта сухая и сероватая вода начиналась в двух-трех метрах от машины, но шофер не сбавлял скорости, и вода все время убегала от машины с той же скоростью, с какой машина приближалась к ней.
Вода как бы сливалась с нашего пути. Это зрелище было утомительным и бросало в сон.
– Это мираж? – спросил я шофера.
Он с недоумением посмотрел на меня. Оказывается, он не знал слова «мираж».
– Да нет! – ответил он. – Просто степь показывает. Это еще что! А то иной раз она даже покажет море и целый лес на его берегу.
По пути к Элисте встретился только один саманный поселок. Мы объехали его по окраине.
Поселок перегревался на солнце. От него даже на расстоянии дышало мертвым жаром. Из трещин в стенах торчал окаменелый верблюжий навоз. Желтые калмыцкие борзые не гнались за машиной, а, наоборот, поджав хвосты, трусливо прятались по дворам. Дети со страхом смотрели на наш пыливший до неба грузовик. Кое-где в балках сочилась купоросная гнилостная вода.
Солнце светило тускло. Небо к полудню пожелтело и стало похоже на исполинский стеклянный колпак, замазанный охрой. Так в городах замазывают летом витрины, чтобы приглушить невыносимый свет.
Наконец показалась Элиста – новенькие кубические невысокие дома, разбросанные без заметного порядка по степному взгорью, как отара белых овец.
В Элисте я узнал, что сейчас главные усилия власти направлены на борьбу с болезнями, издавна губившими калмыцкий народ.
Медицинские отряды работали по аулам (скоплениям юрт) и поселкам. Прежде чем лечить болезни, надо было отучить калмыков от колдовства и диких способов лечения. Так, например, от трахомы калмыки крепко натирали больные, кровоточащие веки сахарным песком, а от туберкулеза прижигали кожу на спине тлеющим войлоком.
Туберкулезом болели главным образом женщины, из-за национальной женской одежды – казакина. Он туго, как железными обручами, стискивал женскую грудь с самых юных лет и не давал ей развиваться.
Кроме того, женщины носили на голове тяжелые шлыки, целые сооружения, и от этого у них часто бывал туберкулез шейных позвонков.
Незадолго до моего приезда в Калмыкию декретом Советского правительства женщинам было запрещено носить казакины и шлыки.
На обратном пути в Астрахань мы заночевали в степи, и я видел один из тех необыкновенных вечеров, которые бывают только в степных раздольях.
Ветер стих. Воздух сделался прозрачным до предела. Трава остыла от дневной жары и выдыхала прохладу.
Упала крупная роса. Крик перепелов равномерно и непрерывно обегал по кругу всю степь. Пахло мятой.
Шофер сказал мне, что за ближайшим увалом есть пресное озеро. Я спустился к нему, путаясь в высокой траве. Дружно чавкала в камыше рыба.
Садилось солнце, и казалось, последняя тишина опустилась на землю и я больше никогда не услышу ни человеческого голоса, ни гудка машины, ни рокота мотора.
В этом безмолвии ощущалось величие, будто вселенная отдыхала, встречая ночь.
Солнце садилось, но явно медлило. Может быть, оно хотело увидеть тончайшую световую нить, что непременно протянется от всегда неведомой первой звезды до поверхности озера.
Темнота упала как-то сразу. Всю ночь я ворочался и не спал, взволнованный медленным течением степной ночи. Оно становилось заметным по перемене звездных сочетаний над головой. Созвездия плыли, едва вращаясь, вокруг невидимой оси мироздания.
Северные, низменные берега Каспийского моря и самое взморье – очень мелкое в тех местах – заросли широкой полосой тростника – чагана.
Твердые черные его соцветия были похожи на маленькие початки кукурузы, или, хотя это сравнение и несколько сложно, на эбонитовые валики от пишущей машины.
Издали эти заросли чагана казались черной широкой лентой, разложенной по берегу моря. Поэтому эти места здесь и зовут «чернями».
От устья Волги до Гурьева, лежащего в самых низовьях Урала, нет ни одной пристани, ни одного убежища, куда бы пароход мог зайти во время шторма. А как известно, на мелких местах гуляет особенно крутая волна, и потому плавание вблизи «черней» неприятно и временами опасно.
Пароход «Гелиотроп» шел от Астрахани до Гурьева больше суток. Это был очень старый, заслуженный пароход с обилием медных частей. Медные поручни, обитые медью трапы, медные приборы и, наконец, огромный медный рупор, в который капитан перекрикивался со встречными рыбачьими шаландами и «рыбницами», – все это было начищено и надраено «до чертова глаза» и просто угнетало своим медным блеском.
На палубе, как и на волжском пароходе, лежали вповалку пассажиры.
Особенно много было пожилых женщин.
Говорили, что в устье Урала горят тростники и что их поджигают нарочно, чтобы уничтожить очаги несметного гнуса. Он не давал жить в тех местах ни людям, ни зверям.
На востоке как-то странно и тускло мигало небо. Эти вялые вспышки были совсем не похожи на наши зарницы или на приближение грозы. Какая могла быть гроза, если воздух на сотни километров был лишен даже признаков влаги!
В устье Урала «Гелиотроп» вошел в сумерки. Он торопливо плыл мимо горящих тростников. Пламя трещало и перебегало вдоль берега, дым душил и разъедал глаза. Только в Гурьеве мы наконец отдышались, – в этом приземистом городке, где все краски давным-давно выгорели до цвета золы.
В Гурьеве я жил за Уралом, в новых домах, сделанных из прессованного камыша. Они ничем не отличались от обыкновенных каменных домов, за исключением неверия в их прочность людей, обитавших в них.
Со мной в одной комнате общежития Эмбанефти поселился бывший матрос Балтийского флота, латыш. Он приехал в Эмбу из Баку по каким-то нефтяным делам. Когда ночью подымался ветер, матрос будил меня и говорил:
– Полундра! Лучше не спите. А то этот карточный домик завалится и прищемит нас, как котят.
Из Гурьева я ездил на Эмбу со старым нефтяником, инженером-поляком Яблонским. Этот тучный, насмешливый и необыкновенно спокойный старик посвятил меня в удивительные и увлекательные тайны нефтяной разведки нефтяных (соляных) куполов и всего, что было связано с добычей нефти.
Мы жили с ним вместе в поселке Доссор. В нашей комнате стекол в окнах вообще не было. Их заменили частой проволочной сеткой от гнуса. Когда задувал ветер с близкого Каспийского моря, из «черней», то гнус начинал лететь исполинскими тучами, приглушая солнечный свет.
– Что есть пустыня? – спрашивал меня Яблонский, лежа вечером на скрипучей койке и боясь пошевелиться, чтобы не стряхнуть с себя пыль – она густо оседала на нас за какие-нибудь полчаса. – Пустыня, – отвечал он самому себе, – это есть пыль. И еще раз – сплошная пыль. И гнус. И еще раз горячая и соленая пыль и отсутствие воды. Вы пробовали выплеснуть на здешнюю землю хоть немного воды? Да? Значит, вы видели, как, вместо того чтобы всосаться в землю, она превращается в крупные капли, в шарики воды. Капли эти, похожие на ртуть, катаются и прыгают по пыли, как по горячей плите, и обрастают пылью, как шерстью. Вот так, дорогой мой! Вроде как в стихах Киплинга об Африке: «Только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог!» Дышать, конечно, нечем. Это следует откровенно признать. Поэтому не пойти ли нам на озеро, на вышки, сделать замеры и проверить выход нефти? Все равно играть в шахматы вы не умеете, а читать при свете этой белокровной лампочки – значит вывихнуть себе глаза.
Я соглашался, и мы шли на соляное озеро, где на дамбах стояли вышки и нефтяные насосы, посапывая, качали из-под земли маслянистую коричневую с золотым отливом эмбинскую нефть.
Мне нравилось на озере. Вода в нем – густая и соленая – пахла крепчайшим йодом. В неярком свете фонарей, редко расставленных на дамбе, была видна осевшая на сваях розовыми кристаллами крупная соль.
Кроме йода, озерная вода пахла нефтью. Запах этот вызывал обманчивое впечатление некоторой ночной прохлады.
На самом же деле ночь была насыщена мельчайшей и теплой пылевой пудрой, и, может быть, от этой пыли свет фонарей приобрел душный жемчужный оттенок.
– Все, что вы видите здесь, – говорил мне Яблонский, – ничем не отличается от нефтяных промыслов в Маракаибской лагуне в южноамериканской республике Венесуэле. Условия зарождения и залегания нефти и там и на Эмбе одни и те же. Поэтому и посылают туда на практику инженеров-нефтяников. В связи с этим оставьте ваши мечты о Венесуэле. Ничего лучшего, чем здесь, вы и там не увидите.
– Я никогда не мечтал о Венесуэле.
– Напрасно! – говорил Яблонский. – Мечтать нужно всегда. Но не бесплодно, конечно. Например, я приветствую все мечты об освоении пустыни. Особенно когда они приобретают реальные формы, как сейчас у нас на Каспии – на Эмбе, на Мангышлаке и в Кара-Бугазе. В некоторых случаях нельзя природу предоставлять самой себе. Надо ею руководить для человеческого блага, но, конечно, не вмешиваясь в ее основные законы.
Счастье людей почти не зависит от хода цивилизации.
Счастье – категория вечная. Петрарка не был бы счастливее оттого, что услышал голос Лауры записанным на пленку. Цивилизация только тогда даст свои великолепнейшие плоды, когда народы – только сами народы и никто больше – будут хозяевами жизни и распорядителями своей судьбы.
В Доссоре, сидя на бревнах на дамбе и вдыхая душную тьму закаспийской ночи, мы говорили о покорении пустынь.
Потом у себя в комнате я читал допоздна затрепанную книгу стихов незнакомого мне тогда поэта Липскерова – «Песок и розы». Кто-то из постоянно менявшихся жильцов комнаты забыл эту книгу в ящике стола и уехал.
Я читал медленно, повторяя и скандируя про себя строки его стихов о Средней Азии и Самарканде:
Яблонский крепко спал, скрестив на груди руки. Тишина ночной пустыни тонко пела в ушах. Только по временам было слышно, как на озере сопели бессонные насосы, откачивая из безжизненных недр земли липкую нефть.
Все дальнейшее путешествие по Каспию описано мною в книге «Кара-Бугаз» и в нескольких очерках.
Вся беда книг такого рода, как эта, то есть автобиографий, заключается в том, что в них почти невозможно избежать повторений.
Объясняется это тем, что все вещи, созданные писателями, в значительной степени автобиографичны.
Правильно, но несколько грубо сказал мне по этому поводу писатель Александр Георгиевич Малышкин:
– Я рассовал всю свою жизнь по разным рассказам и романам. И ничего даже не оставил себе, чтобы рассказать при случае любимой женщине или друзьям. Ужасно глупо! Как у Блока, помните? «Жизнь давно сожжена и рассказана, только первая снится любовь»{222}.
Поэтому я не буду повторять то, что читатель может прочесть в «Кара-Бугазе» или в очерках «Соляные купола» и «Великая Эмба».
Если кто-либо из читателей задумает сравнить «Кара-Бугаз» и эти очерки с теперешними моими воспоминаниями, то пусть его не удивляет некоторая несхожесть их друг с другом.
Объясняется это, очевидно, тем, что тогда я был молод и многоречив, а сейчас, с возрастом, стал, если можно так выразиться, молчаливее в своей прозе.
И кроме того, теперешнее время бросило свой отблеск на прошлое, и прошлое предстало в новом виде, – иные краски померкли, а иные сгустились. Поэтому о поездке в Кара-Бугаз я ограничусь здесь самым коротким отчетом.
Из Гурьева я вернулся в Астрахань, а оттуда на таком же, как «Гелиотроп», престарелом пароходе (название его я забыл) поплыл в Мангышлак и Красноводск.
На этом пароходе были мачты, оснащенные, по-старинному, вантами. Пароход был тесен. Тепло от машины проникало во все его помещения, так же как и запах шашлыка из камбуза.
Море было тихое, светлое.
Крестьян на палубе уже не было, но весь день там пили кахетинское вино какие-то шумные и толстые люди. Они везли в Красноводск сто мешков с картошкой и ни за что не хотели продать хоть немного этой картошки пассажирам и команде.
Кончилось это тем, что перед Мангышлаком кто-то ночью распорол ножом несколько мешков с картошкой, и она, торопливо булькая, посыпалась в море под яростные вопли проснувшихся мешочников.
Я ждал кровопролития, но хозяева мешков неожиданно успокоились и, напевая какую-то песенку, начали зашивать суровыми нитками разрезанные мешки.
Мангышлак, на первый взгляд, был классическим пеклом. Единственное, что мирило с этим спекшимся от жары голым местом, было воспоминание о Тарасе Шевченко. Здесь он томился в каторжном батальоне, и здесь он не потерял ни крупицы своего таланта, доброты и своей любви к Украине. Это казалось чудом, но это было так.
Дальше к югу мы шли вдоль берегов таких безлюдных и однообразных, что все невольно отводили от них глаза.
Куполом из неясных испарений прошел по горизонту Кара-Бугаз, а потом за черными зубцами скал Уфра открылся Красноводск – пасть огнедышащего дракона, жерло испепеленной Азии с ее гипсовой землей и воздухом, густым и вязким, как глицерин.
А все, что было дальше, – иной раз в несколько сгущенном, иной в неприкрашенном, а иной раз и в несколько более угрюмом, чем в действительности, виде, вошло в книгу «Кара-Бугаз».
Но единственно, на что у меня не поднялась рука, чтобы хотя немного расцветить и украсить свою прозу, – это на людей и события. Их я писал по мере сил точно и просто. Но я, как говорится, «отыгрался» на пейзаже. И не моя вина или заслуга, что я его видел до мелочей таким, каким написал.
Единственное, о чем нет ни слова в книге, – это о страшной, временами совершенно невыносимой тоске по Средней России.
Жара обжигала мне легкие, давила на мозг, солоноватая вода обдирала горло. Чудесная, как воздух после дождя, свежесть, помогавшая думать там, на севере, сменилась тугой, саднящей болью. Кровь как бы с натугой продиралась в сжатых мозговых сосудах и вот-вот могла остановиться.
В Красноводске по утрам, когда можно было еще двигаться, я ходил на вокзал, на станцию, и с тоской смотрел на раскаленные товарные вагоны. Они были единственной, как мне казалось, реальной связью с Россией.
Я сидел в тени, смотрел на вагоны, как маньяк, и слушал глухой треск винтовочных выстрелов. Треск долетал из Гипсового ущелья, куда вплотную подошли банды басмачей под командой знаменитого Джунаид-хана.
Наши части вели бои с басмачами. Пули, по словам бойцов, упав на излете на землю, долго не остывали. Бой был короткий. Басмачи ушли в Персию, и снова безмолвие вернулось на наши берега.
И все вокруг казалось таким загустевшим от жары, что удивлял даже прибой, – было непонятно, как эта тяжелая морская вода могла собраться с силами и подняться, чтобы с шумом и изнеможением набежать на жаркий берег и, прошумев, отхлынуть назад.
История с географией
Однажды писатель Семен Григорьевич Гехт сказал мне, что у меня все романы и рассказы – сплошные «истории с географией». Я сгоряча не понял, хорошо это или плохо.
Но вскоре успокоился, решив, что Гехт прав и ничего страшного в этом нет.
Я никогда не мог писать о людях вне обстановки, вне географических координат, вне пейзажа и самых простых явлений природы. Я не мог отделить человека от окружающей его разнообразной действительности, иначе этот человек тотчас умирал.
Я всегда удивлялся писателям, равнодушным к внешней обстановке, которая окружала их героев. Люди, вырванные из обстановки, казались мне ходячими схемами, наделенными одной редкой способностью, – они умели действовать и говорить вне малейшей зависимости от времен года, дождя или ветра, цветения садов или шторма у морских берегов, – вне зависимости от множества важных явлений, но как бы не имеющих цены для их внутренней жизни.
Мне всегда казалось, что такие литературные герои не живые люди, а подопытные существа для писателей и драматургов, взятые этими последними для производства над ними жестоких экспериментов.
Что скрывать, – даже Достоевский грешил этим. Он нарочито ставил людей в мучительные положения, придуманные в тиши сумрачного и темного кабинета. О событиях этих он писал с газетной обнаженностью.
Природы почти совсем нет в его романах. Но рассказ, а иной раз и роман, построенный почти исключительно на диалоге, заставляет многих читателей просто задыхаться.
После этого вынужденного объяснения я спокойно могу поставить в начале главы заголовок «История с географией», потому что так оно и есть. Прошу только читателей не очень бранить меня, если в этой главе будет больше географии, чем истории.
«Кара-Бугаз» я писал урывками, – то в Москве, то в Березниках на Северном Урале, то в Ливнах.
В Москве я писал в темном чулане при электрической лампочке. Этот душный чулан был единственным тихим местом в крикливой коммунальной квартире.
Потом РОСТА послало меня своим корреспондентом на строительство огромного химического комбината в Березниках на Каме.
Против Березников на противоположном берегу Камы вяло курился полярным дымом древний город Усолье – бывшая столица Строганова, некоронованного уральского царя.
Некогда в Усолье Строганов отливал и чеканил собственные деньги.
В городе сохранились высокие бревенчатые башни – соляные варницы. В них выпаривали здешнюю соль.
Варницы почернели от времени. Стены их блестели, как антрацит. Огни строительства отражались в этих стенах в течение всей долгой полярной ночи.
Варницы были похожи на хмурых строгановских соглядатаев, оставленных здесь для надзора за новыми непрошеными хозяевами этой сумрачной земли. Соглядатаи стояли, надвинув на глаза тяжелые шапки – темные крыши, – и неодобрительно молчали.
На строительстве работали заключенные.
Строительство показалось мне непомерно огромным. Состояло оно из разных заводов – сернокислотного, каустического и нескольких других, из тепловой электроцентрали и целого государства больших разноцветных труб.
Стояла полярная ночь. Первое время я долго плутал в темноте среди котлованов, навала кирпичей, цементных плит, подъездных путей, железной арматуры для бетона, гигантских станин, ферм, недостроенных зданий, тепляков и экскаваторов.
Я с трудом находил дорогу к маленькой гостинице, оставшейся здесь со времен старого содового завода.
Гостиница эта была хотя и теплым, но ненадежным приютом. В каждой комнате помещалось по десять – двенадцать человек. Ночи напролет мы, трезвые, не спали из-за пьяных драк и скандалов.
Особенно изводил нас бывший актер, а ныне бухгалтер – старик, весь в седых игривых кудряшках, как некий спившийся купидон. Каждую ночь, ввалившись в комнату, он начинал швырять пустыми бутылками в электрическую лампочку под потолком и не успокаивался, пока ее не разбивал.
При малейшей попытке усовестить его он приходил в неистовую ярость и начинал швырять изо всей силы бутылками в своих соседей по комнате. А утром, чуть протрезвившись, садился к дощатому, заваленному объедками столу и, обхватив голову руками, пел, захлебываясь от слез:
Одна из комнат гостиницы называлась «изолятором». В нее помещали только непьющих.
В «изоляторе» никогда не было свободных коек. Но мне повезло, директор гостиницы без особых моих просьб втиснул меня в «изолятор».
– Подальше от греха, – сказал он. – Тут вас еще искалечат, а мне за вас отвечать. Вы ведь московский корреспондент.
В «изоляторе» я наконец вздохнул спокойно и смог отоспаться.
Соседом моим по койке был милейший человек – ссыльный химик, кажется, приват-доцент. Он много беседовал со мною о поэзии, о стихах Маяковского и рассказах Алексея Толстого, был деликатен, тих, рассудителен и сильно тосковал по жене и маленькому сыну. Тоску свою он всячески старался скрыть от меня.
Однажды ночью я проснулся от стеклянного звука и открыл глаза.
Химик тихо доставал из тумбочки около койки бутылку водки. Очень осторожно он налил полный стакан и одним духом выпил его. Потом тут же налил второй стакан и так же бесшумно выпил.
Я притворился спящим. Химик несколько минут полежал тихо, потом быстро сел на койке и пронзительно закричал:
– Изверги! Собственным языком удавлюсь! Будьте вы прокляты, собаки!
Через час его увезли в больницу. Он долго сопротивлялся, и санитары его связали.
Второй мой сосед, старый морщинистый техник с военной выправкой, сказал мне с укором:
– Какого лешего вы приперлись сюда? Подумаешь, какой любитель сильных ощущений! Сматывайтесь лучше в Москву.
Но, несмотря на эту безрадостную обстановку, я встретил в Березниках много людей, преданных своему делу с таким же фанатизмом, какой я до сих пор встречал чаще всего среди художников. Работали в Березниках, как я уже говорил, ссыльные. Но ссылка – ссылкой, а работа – работой. Ссыльное их состояние никак не отражалось на самоотверженности их работы.
Впервые, по словам химиков, они монтировали новейшие невиданные машины и установки. О них раньше они только мечтали или могли читать в заграничных научных и технических журналах.
Действительно, многое поражало непосвященных людей и казалось просто чудом.
Вскоре я более или менее узнал все строительство, все его заводы и цеха, подымался на крыши газгольдеров, отравлялся окисями азота, ездил на паровозах-кукушках и тягачах и всегда носил с собой противогаз.
При малейшем незнакомом запахе, сочившемся неведомо откуда, надо было тотчас надевать противогаз, чтобы не задохнуться.
Вся эта жизнь на строительстве происходила во мраке северной ночи.
Стоял декабрь – самый темный месяц на Севере.
Вначале эта долгая ночь мне нравилась. Особенно звонко в утреннем морозе перекликались голоса на разных языках (среди строителей комбината было много английских и немецких специалистов, выписанных из-за границы), свистели полозья саней, изредка в свете сильных фонарей из небесного мрака валил ливнями снег.
Иногда красноватым заревом горели непрочные и ускользающие северные сияния. Местные жители звали их сполохами и всплохами. Это последнее слово очень подходило к этим всполошенным, беспорядочно пульсирующим огням.
А за рубежом строительства ночь лежала так тяжело и беспробудно, что напоминала огромного зверя, который завалился на зимнюю спячку по диким увалам, буреломным лесам, по откосам гор. Там, как черные пагоды, стояли уральские гигантские ели и в звездные ночи дотрагивались своими вершинами до звезд.
Но звездное небо в ту зиму редко открывалось над строительством, – слишком много на земле было чада и дыма всех цветов и оттенков – от канареечно-желтого «лисьего хвоста» до фиолетовых, бурых, красных, белых и иссиня-черных дымов. Небо всегда было в дыму.
Настоящий Урал я увидел, когда поехал на несколько дней в Соликамск. Там в то время уже работали калийные копи.
То крутые, то пологие подъемы гор увязали в таком девственном снегу, что казалось, он выпал только этой ночыо. На самом же деле снег лежал здесь уже долго, не меньше трех месяцев.
Милые заячьи следы скакали повсюду, но только до полотна железной дороги. Там они круто поворачивали обратно, – зайцы почему-то боялись перебегать рельсы.
Чистое, но чуть затуманенное небо зеленело у края земли. Там, в сторону от железной дороги, лежали земли, до сих пор (во всяком случае, для многих, и в том числе для меня) совсем неведомые. Туда, в мглистые дали уходила древняя Биармия – страна неуюта и грубого богатства – рудного и хвойного, суровых людей, враждовавших с природой, отпетых и забубённых государевых ямщиков, золотоискателей, раскатывавших перед собой ковры по непролазной осенней грязи, – страна шалых обогащений и нищих изб. В них по ночам не затихал ровный шорох от полчищ рыжих тараканов.
Она была богата, эта страна, и потому считалась счастливой. «В лесах Биармии щастливой» находили много драгоценных камней. Здешний изумруд был чист и темен, как темен зеленый покров бесконечных, пугающих своей обширностью хвойных лесов. Резкий терпентинный запах этих лесов проникал далеко за Пермь, за Вятку и Кострому, доходил до древней царицы-Москвы, пугал заморских купцов, казался им запахом медвежьим, устрашающим и горьким, как русская болотная ягода клюква.
Я думал об этом, глядя в окно расшатанного холодного вагона, тащившегося вслед за чумазым паровозом из Березников в Соликамск. Я знал, что здесь происходило действие некоторых рассказов Мамина-Сибиряка{223} и, насколько я знаю, действие повести Бориса Пастернака «Детство Люверс».
Должно быть, только в России бывает так, что один и тот же источник мыслей и чувств (в данном случае Северный Урал) вдохновляет двух таких несхожих писателей. Но у них есть и нечто общее – острое ощущение России с ее утренниками, от которых сводит челюсти, и непрерывным холодным лепетом лиственных лесов.
Соликамск. Бешеная гонка мохнатых троек от маленького вокзала до сурового городка, красные валенки ямщиков, пронзительный присвист, бой ошалелых бубенцов под расписными дугами – «знай наших, держись крепче, не робей на крутых бросках!» Сани раскатывает и заносит так, что замирает сердце.
На улицы Соликамска мы влетели уже ночью. Помчались мимо одинокие и яркие электрические фонари, низкие каменные дома, похожие на лабазы, белые алебастровые соборы, чугунные доски, висевшие на низких столбах на перекрестках улиц. В эти доски сторожа в тулупах мерно отбивали ночные часы.
Монастырское подворье, превращенное в гостиницу, сводчатые коридоры, пропахшие вековым деревянным маслом, холодноватая келья, – там мне отвели койку. На соседних койках спали в полутьме две девушки – практикантки из Ленинграда.
Обе они показались мне красавицами, очевидно, потому, что у них обеих разметались по подушкам золотые косы. В то время почти все молодые женщины уже стриглись под мальчишек, и поэтому косы показались мне особенно трогательными.
Я тихо лег, чтобы не разбудить девушек, и долго не мог уснуть, слушая, как они то спокойно дышат, то вздыхают во сне. И почему-то обе они представлялись мне, хотя я их и не видел, очень родными, как мои младшие сестры.
Сторожа били на перекрестках. Ночь лила в окна таинственный свет. И я благословлял эту кромешную ночь в этой немыслимой русской глуши за теплоту девичьего дыхания – мне все чудилось, что я слышу его едва заметный ветерок на своем лице, – за легкую свою дремоту, за счастье ощущать рядом с собой целомудренную свежесть этих двух девушек, их легковейный задумчивый сон.
Утром, когда я проснулся, девушек уже не было.
Я уехал на калийные копи, спускался в очень глубокие штреки, вырубленные в толще прозрачных, сверкающих топазов и аметистов (таков был цвет калийных солей – карналлита и сильвинита), видел слепых подземных лошадей, покорно таскавших вагонетки с породой, в иных местах меня чуть не сбивало с ног подземными сквозняками.
Я долго бродил по широким и пустынным штольням, как по сказочным дворцовым помещениям, переливавшим на своих стенах множество звездчатых золотых и кроваво-винных огней.
Нарядность этих подземных галерей, их чистота и блеск, свежий воздух, дувший из невидимых труб, – все это делало их действительно похожими на дворцовые переходы.
Они вели, естественно, в нарядные бальные залы. Ничего бы не было странного, если бы я услышал в их глубине приглушенные звуки оркестра, женский смех, треск закрываемых вееров и легкий стук туфелек Золушки, убегающей из этого пышного дворца.
Я взял с собой на поверхность несколько больших кристаллов карналлита и сильвинита, но у меня в гостиничной келье они растаяли, как сахар, и превратились в цветную мутную воду.
Мне не хотелось уезжать из Соликамска. Мне очень нравился этот суровый город. Я надеялся встретить еще хоть раз ленинградских девушек, но сторож при гостинице – суетливый и косноязычный бывший монах – сказал мне, что они уехали дальше на север, в Чердынь.
Я переночевал еще одну ночь в келье, где от девушек остался только слабый запах «Красной Москвы», а ночью меня разбудил новый постоялец. Он стаскивал сапоги лежа, зацепив их за железную спинку кровати, кряхтел и сотрясал всю комнату. Мне захотелось вышвырнуть его вон.
Утром я уехал в Березники. Необъяснимая грусть преследовала меня потом несколько дней. До сих пор воспоминание о Соликамске вызывает у меня легкую печаль.
В Березниках я ходил по вечерам в редакцию маленькой газеты, выпускавшейся на строительстве, и писал там «Кара-Бугаз».
Редакция помещалась в старом пустом бараке, в каморке за дощатой перегородкой. Я запирался на огромный железный крюк и чувствовал себя в безопасности.
Ранней весной я вернулся в Москву, написал заказанные мне «Рабочей газетой» очерки о Березниковском строительстве (они потом вышли отдельной маленькой книгой под названием «Великан на Каме») и тотчас уехал к Шацким в Ливны, чтобы окончить там «Кара-Бугаз».
В Ливнах все было по-старому и потому особенно мило. Сначала я поселился на окраине городка, снял комнату в большом деревянном доме. Весь дом от ходьбы шатался и скрипел и с минуты на минуту грозил обвалиться. Кроме того, в нем происходили разные печальные события (о них я писал в «Золотой розе»). Поэтому Нина Дмитриевна вновь перетащила меня к себе.
Снова нежная весна, как год назад, робко раскрывала почки, как маленькие и чуть липкие детские губы, а солнце просвечивало насквозь через цветы яблонь. На свету они казались розоватыми и хрустящими, как облатки. Но это время тоже описано мной в «Золотой розе», а все, что связано с «Кара-Бугазом», – в одноименной книге.
Если собрать воедино все дни, потраченные мной на написание «Кара-Бугаза», то в общем получится, что написал я его быстро – за три месяца. Издало его детское издательство. Редактором был бывший балтийский моряк-эстонец Генрих Эйхлер. Его хорошо помнят все так называемые «детские писатели» старшего поколения. Он всем им сделал много добра. В начале войны он был сослан под Караганду и там вскоре умер. Сослали его потому, что кто-то донес, будто он не эстонец, а немец.
Первым откликнулся на «Кара-Бугаз» Сергей Третьяков{224}. Он прислал мне в подарок свою книгу с надписью «Мирабилиту русской литературы». Мирабилитом называлась крепкая соль, осевшая в Кара-Бугазском заливе.
Я испугался. Я вообще с некоторым почтительным страхом, как мальчик к взрослому, относился к решительному и всегда знающему, что делать, Третьякову. А тут еще начались какие-то читательские конференции по «Кара-Бугазу», и я, бросив все, сбежал в Мещерские леса, в Солотчу. Я был свободен – после поездки в Березники я совсем ушел из РОСТА.
В Солотче я отсиживался вместе с Фраерманом на самых глухих старицах Оки.
Мы с наслаждением жили там под тенью столетних ракит, спали на сене, пили совершенно волшебный и неслыханно вкусный напиток – чай, вскипяченный в котелке с попавшим в него пеплом и комарами, и были счастливы.
Пушечный завод
В Мурманске пахло мороженой картошкой и слабой анисовой микстурой. Этот сладковатый и неприятный запах исходил, очевидно, от Баренцева моря.
Темные и тяжелые волны этого неприветливого моря отливали железным блеском. Я не завидовал тем людям, которые впервые в жизни увидели именно это море, тогда как им следовало бы увидеть Черное море или хотя бы Азовское.
Люди часто несправедливы не только по отношению к себе подобным, но и к явлениям природы, в частности к морям. Азовское море принято считать лужей и болотом. Между тем оно очень теплое и рыбное, а в западной своей части отличается зеленоватой водой яркого и красивого тона. Особенно заметен этот цвет азовской воды, когда крутые волны подымаются прозрачным гребнем, чтобы упасть на ракушечные пляжи, и сквозь воду просвечивает солнце.
Но Баренцево море ничем не радовало. От его близости лицо сводило режущим холодком, хотя уже был май и белые ночи установились под этими широтами. Но они совершенно не были похожи на белые ночи Ленинграда. Призрачность и задумчивость исчезли из них. Остался только жесткий свет – ледяной, как талая вода. Мурманск в то время (весной 1932 года) был бревенчатый, заваленный щепой и беспорядочный.
В новой, только что срубленной гостинице постояльцы прилипали к смолистым стенам.
В Мурманск я попал без особой нужды. Если бы этот город не стоял на краю земли, на полярном океане, и в нем не кончалась бы железная дорога, то я мог бы сказать, что попал в него мимоходом.
Я поехал на север, в Карелию, писать историю Онежского завода. Завод этот находился в Петрозаводске, и дальше этого города мне не надо было заезжать. Но неистребимое любопытство заставило меня сначала заехать в Мурманск. И я не жалею об этом.
Я видел Баренцево море, каменные берега, заросшие каменными лишаями, и тундру за Полярным кругом. Она была похожа на исполинские военные кладбища после Первой мировой войны. Но на ней вместо крестов торчали хилые стволы берез с отломанными вершинами, вернее, гниловатые березовые шесты. Верхушки берез в тундре высыхали и отваливались сами.
Я видел огромный рыболовный флот и северные горы около озера Имандра, видел оленей, у которых было нечто общее с кроликами, так как и тех и других трудно считать настоящими, полноценными животными, настолько они казались мне слабосильными.
Я видел кромку серого океана, остров Кильдин и свинцовое небо, разглаженное непрерывными ветрами.
Да, нужны были большое мужество и выносливость, чтобы добровольно обречь себя на постоянную жизнь в этих местах. Мне все время не хватало тепла – обыкновенного тепла от самой обыкновенной русской печки, самого скудного уюта, который выражался бы в чашке крепкого кофе, последнем номере «Огонька» и в неподвижных глянцевитых листьях фикуса.
В конце концов, прожив в Мурманске несколько дней, я сбежал на юг, в милый, хлебосольный и неторопливый Петрозаводск.
Писать историю Онежского завода мне предложила «Редакция по истории фабрик и заводов», придуманная Горьким.
Из большого списка заводов я, в силу своей несколько мальчишеской настроенности, выбрал Онежский завод в Петрозаводске, потому что завод был очень старый, основанный еще Петром Первым сначала как пушечный и якорный, потом как завод чугунного литья (на нем отливали ограды для петербургских набережных и садов), а в тридцатые годы он делал дорожные машины – грейдеры, что было делом нужным и благородным в бездорожной России.
В Петрозаводске я занялся историей этого завода. В его станках, машинах, в постройках и в самых заводских нравах существовало удивительное смешение разных времен – от Петра до начала двадцатого века.
Я много бродил по городу без всякой цели и, можно сказать, «выбродил» в Петрозаводске замысел своей книги «Судьба Шарля Лонсевиля».
Об этом я подробно писал в той же «Золотой розе». Я слишком часто ссылаюсь на эту книгу потому, что она насквозь автобиографична и могла бы быть одной из частей «Повести о жизни».
Если бы мне было дано в будущем много свободного времени, я бы наверняка написал историю многих книг.
Дело в том, что каждая написанная книга является как бы ядром некоей отбушевавшей в человеке туманности, звездой, которая родилась из этой туманности и приобретает свой собственный свет.
Может быть, только одну сотую нашей жизни мы вводим в тесные рамки наших книг, а девяносто девять сотых остаются вне книг и сохраняются только в нашей памяти бесплодным, но, несмотря на это, все же значительным и драгоценным грузом.
Бессильное сожаление о том, что мы могли бы сделать и чего мы не сделали по лености, по нашему удивительному умению убивать время на малые житейские необходимости и заботы, приходит к нам, как правило, слишком поздно.
Сколько мы могли бы написать интересных вещей, если бы не тратили время на пустяки!
Как-то писатель Александр Степанович Грин решил подсчитать, сколько времени человек тратит в течение жизни на то, чтобы спрашивать «который час?». По его подсчетам, один этот вопрос отнимает у нас несколько дней. Если же собрать все ненужные и машинальные слова, какие мы произносим, то получаются целые годы.
В механике существует понятие «коэффициент полезности». Так вот, у человека этот «коэффициент полезности» ничтожен. Мы ужасались, когда узнавали, что паровоз выпускал на воздух без всякой пользы чуть ли не восемьдесят процентов пара, который он вырабатывал, но нас не пугает, что мы сами «выпускаем на воздух» девять десятых своей жизни без всякой пользы и радости для себя и окружающих.
Но эти попутные мысли тоже мешают и уводят в сторону от повествования. Вернемся к нему.
Из Петрозаводска я ездил на водопад Кивач и видел эту, по словам Державина, «алмазну сыплющуюся гору»{225}.
Я видел много озер с водой цвета олова, дышал запахом корья, пропитавшим всю Карелию, слушал старую сказительницу из Заонежья, чьи песни рождались из северной ночи и северной женской тоски, видел нашу деревянную Флоренцию – церкви и монастыри, плавал по Онежскому озеру и до сих пор не могу избавиться от впечатления, что оно заколдовано и осталось нам от тех времен, когда первозданная тишина земли еще не нарушалась ни одним пороховым взрывом.
Я ни на минуту не терял ощущения этой страны, погруженной в рассеянный северный свет.
Жизнь в Петрозаводске в то время была неустроенной и довольно голодной. Я жил и питался в столовой Дома крестьянина пареной репой без соли и растертой в зеленоватую кашу вареной ряпушкой. Пища была тошнотворная.
Дом крестьянина был построен лучшими лесорубами. Они украсили его стены великолепной северной резьбой. По вечерам в большом зале, пахнувшем воском, устраивались танцы. Каждый раз на них появлялись высокие и сильные русоволосые девушки-карелки в тугих корсажах и легких разлетающихся юбках.
Я однажды решился и протанцевал с одной из них и долго не мог забыть ее бледное, обморочное лицо, полуприкрытые синие глаза и теплоту ее крепкого бедра. Окончив танцевать, она шаловливо сжала тонкими ладонями мое лицо и убежала. Я не мог ее больше найти.
В рабочем поселке Голиковке в бывшей церкви был устроен краевой музей. Там рядом с огромными обломками розовой и золотистой слюды были выставлены кружева и образцы тяжелого и великолепного чугунного литья.
В этом музее, где я бывал в полном одиночестве (кроме старой сторожихи, там почти никогда никого не было), я понял, что до тех пор я вел себя в музеях, как и большинство посетителей, неразумно и утомительно. Я пытался по возможности рассмотреть все. Через полчаса начиналась тупая головная боль, и я уходил разбитый и опустошенный.
Нелепым было уже самое искреннее мое стремление узнать за два-три часа все то, что создавалось целыми веками и накапливалось людьми тоже в течение многих и многих лет.
После первого знакомства с Эрмитажем, а затем с Лувром и другими картинными галереями и музеями я пришел к мысли, что музеи в том виде, в каком они существуют, как несметные собрания человеческих шедевров и природных редкостей, приносят мало пользы. Они приучают к верхоглядству, к поверхностному знанию и к беглым – самым бесплодным – впечатлениям.
Я думал, что разумнее всего устраивать небольшие музеи, посвященные всего нескольким художникам или даже одному (как музей Родена в Париже, Голубкиной в Москве), или определенному и не очень длительному времени в нашей истории, или, наконец, одной какой-нибудь области знания и географической области страны – Северу или Поволжью, Кавказу или Дальнему Востоку.
Гораздо более живое впечатление остается, скажем, от руин древних городов, чем от собраний вещей, связанных с этими руинами и выставленных в витринах.
Ветер, дующий над остатками древних базилик, неизменная горечь полыни, шершавые теплые лишаи, глупые дрозды, что пытаются склюнуть маленьких ящериц, высеченных древними мастерами на потемневших мраморных колоннах, текущая над головой синева пустынного неба – все это погружает в мир величавой поэзии, в область далекого прошлого, которое неожиданно оказывается очень близким. Мы легче понимаем прошлое под открытым небом, чем в залах с блестящими паркетами.
Я испытал это чувство в Помпее, Херсонесе Таврическом, в руинах Никополиса в Болгарии и в Сан-Реми в Провансе, где лягушки скачут из-под ног в бездонные римские цистерны с черной водой.
В Петрозаводске, бегло осмотрев музей, я выбрал для изучения слюду – прозрачный, слоистый и гибкий и потому странный – минерал, отливающий разнообразным живым блеском.
Сначала я долго рассматривал разные сорта слюды – от черной до золотой и от фиолетовой и темно-зеленой до дымчато-белой. Внутри тончайших слюдяных пластинок можно было увидеть много волосяных трещинок, образовавшихся по каким-то неведомым законам.
На следующий день я пошел в некое учреждение – не помню его замысловатого названия, – ведавшее добычей слюды. Там удивились, но дали мне всю слюдяную «литературу» и щедро подарили несколько кусков разноцветной слюды.
Она легко расщеплялась на тончайшие, почти микроскопические пластинки. Самым удивительным было то, что эти пластинки, отделенные от большого и тяжелого куска совершенно черной слюды, оказывались белыми и прозрачными.
Я прочел все, что достал о слюде, обо всех ее замечательных и даже таинственных свойствах. Это знание само по себе радовало меня, хотя я сначала и не собирался его использовать.
Правда, знакомство со слюдой прибавило к облику Карелии несколько поэтических черт. Я видел перламутровый блеск слюды во всем – в воде Онежского озера, в гранитных «бараньих лбах» (в них она мелко поблескивала, будто ее рассыпали миллионы лет назад и она впаялась в непробиваемый камень), в самом воздухе, белесоватом от светлых ночей, в звездном небе над Карелией, – оно искрилось и преломлялось, как сквозь черную слюду. Даже дожди, изредка проливавшиеся в ту весну, походили на падение бесчисленных чешуек слюды.
Потом я решил написать книгу о слюде. В то время многие увлекались книгами французского писателя Пьера Ампа. Он выпускал живописные романы о разных производствах, например об изготовлении духов на юге Франции.
Я хотел написать такую же примерно книгу о слюде. И я бы ее написал – в молодости все возможно, – если бы раньше не начал писать две маленькие книги, родившиеся в моем воображении на севере: «Судьбу Шарля Лонсевиля» и «Озерный фронт».
Работая над этими книгами, я испытал странное состояние. О нем значительно позже я прочел в статье какого-то исследователя литературы.
Стоило мне сесть за стол, взять ручку и написать несколько слов о Карелии, как тотчас же я начинал чувствовать запах сосны и можжевельника. Он откуда-то проникал в комнату, хотя вокруг не было ни сосен, ни можжевельника, а только доцветали липы (это было в Солотче).
Иногда я подолгу сидел за столом, задумавшись, в оцепенении, потом внезапно приходил в себя, будто стряхивал навязчивый сон, и долго старался вспомнить, что же происходило со мной в те несколько минут, когда я, отложив перо и подперев голову руками, сидел над своей рукописью.
И вдруг я вспоминал. Я же сидел, опустившись на корточки, на обочине лесной дороги и старался очень осторожно развернуть спиральный побег молодого папоротника. Зачем? Чтобы вдохнуть наглухо запертый в нем глоток прохлады. Все вокруг пахло сосной. Сорванные с можжевельника прошлогодние ссохшиеся ягоды тоже пахли сосной и пахли еще оперением тетеревов – диким запахом непролазных чащоб и болот. Так случалось несколько раз.
Это состояние не было сном. Оно было как бы полуявью. Оно переносило меня на глухие просеки Карелии или к слабенькому плеску, вернее, всплеску, ее всегда серебрящихся у берега озер.
Я жил как бы внутри того материала, из которого рождалась книга. Я был болен им. Тоска по глотку озерного воздуха, по ощущению прохлады на лице от листьев березы достигала такой силы, что мне трудно было удержать себя, чтобы не вскочить с места, не броситься на вокзал и не вернуться в северные леса и хотя бы два-три часа провести в них, задыхаясь от их очарования и слушая крик кукушки, похожий на звонкое капание слез.
«Пусть медленно гаснет, – думал я, – олонецкая тишайшая заря. Одной минуты этой зари достаточно, чтобы заворожить человека на всю жизнь».
Из Петрозаводска я уехал в Ленинград, а оттуда по Мариинской системе вернулся в Москву.
На Охтенской пристани в Ленинграде я сел на маленький «озерный» пароход.
Пассажиров почти не было. В салоне сидел один только хмурый человек – заготовитель живицы для скипидарного и канифольного производства – и настойчиво пил из маленьких бутылок черное пиво – эль. Тогда эль впервые появился в продаже.
И заготовитель, и все остальные пассажиры – очень молчаливые люди – почти не смотрели по сторонам: должно быть, они бывали здесь часто. А между тем по берегам Невы проходили непрерывной полосой леса. То тут, то там они расступались, чтобы дать место запущенному парку с остатками великолепного дворца или гранитной лестнице, спускавшейся к самой воде. В трещинах лестницы цвел пунцовый кипрей.
За Шлиссельбургом пароход вошел в Ладожское озеро. Небо слилось с водой в сероватую и теплую мглу. Среди этой редкой мглы медленно возник из воды старинный полосатый маяк.
Снова вернулись ко мне мои глупые мечты, чтобы бросить все и поступить маячным сторожем. Я был уверен, что выдержу одиночество, особенно если заведу на маяке библиотеку из отборных книг. А время от времени я, конечно, буду писать.
Я всматривался в маяк и долго провожал его глазами. Капитан – тоже молчаливый северный «окающий» человек – дал мне бинокль, оклеенный черной кожей. Я старался увидеть в этот бинокль то, что происходило на маяке. Но там, должно быть, ничего особенного не происходило.
С маячного балкона, где висел большой позеленевший колокол, нам посигналили флагами, и мы ответили. Оказывается, нас просили передать на попутную пристань Свирицу, чтобы на маяк прислали солярку и побольше папирос «Пушка» (были тогда такие папиросы – очень толстые и действительно похожие на стволы маленьких пушек).
Мне понравилось, что в окне маяка, высоко над урезом воды, цвела в ящике всеобщая любимица – герань. Очевидно, на маяке жила женщина, но я ее не видел.
Потом, ближе к сумеркам, началось таинственное перемещение воздушных пространств. Облаков не было. Мгла рассеялась, но взамен нее какое-то розовое слоистое сияние легло на поверхность воды и начало медленно разгораться, пока вся западная половина неба и воды не наполнилась красноватым блеском заката.
Я еще никогда не видел такого затяжного заката, – он не погас, оставался на небе до утра и как бы опустил на озеро тишину.
В тихом сумраке на пароходе зажглись бортовые огни, совершенно, по-моему, ненужные, так как все было ясно видно вдаль на добрых пять миль.
Нам повезло. Дневной штиль перешел в ночной, еще более спокойный. Не плеснула ни одна волна. Только вода тихо булькала за кормой.
Капитан сказал мне, что я, очевидно, человек счастливый, так как на Ладоге редко бывает такая погода. Иной раз так штормит, что впору Баренцеву морю.
На бурной Свири встретился порожистый плес, где мы подымались двойной тягой. Наш пароход изнемогал, работая полным ходом против течения. Ему помогал мощный буксир.
Я помню длинные, вытянутые вдоль реки свирские рыбачьи посады, лодки с носами, изогнутыми подобно лебединым шеям (как на древних новгородских ладьях), пение женщин, бивших на плотах вальками белье.
Я часто смотрел с палубы на север, в сторону Олонца – лесистой, небогатой и, как говорили в старину, «забытой людьми и Богом» земли.
Мне давно хотелось попасть туда. Почему-то мне всегда казалось, что именно там со мной случится что-то очень хорошее.
Таких мест, где обязательно должно случиться что-то хорошее, становилось у меня с годами все больше. В конце концов, я чувствовал себя в своем воображении старожилом многих мест.
В каждой области, в каждом краю я отыскивал самый привлекательный угол и как бы «оставлял его за собой». Большей частью это были малоизвестные места: на севере – Олонец и Каргополь, Кирилло-Белозерский монастырь и Чердынь, в Средней России – милый город по имени Сапожок, Задонск, Наровчат, в Белоруссии – Бобруйск, на северо-западе – Гдов и Остров и еще много других мест. Столько, что мне не хватило бы жизни, чтобы побывать всюду.
Олонецкая земля лежала сейчас передо мной – застенчивая, скудная. Ветер, поднявшийся к вечеру и доносивший холодноватый воздух дождя, гнул прибрежные кусты ивняка и порывисто шумел в них.
В городе Вознесенье на Онежском озере мы, пассажиры, пересели на совсем маленький, так называемый «канавный» пароход по названию «Писатель». Он пошел в обход Онежского озера по обводному каналу в город Вытегру и дальше – по Мариинской системе.
Пароход был стар до того, что на нем не было не только электрического освещения, но даже керосиновых ламп. В каютах горели в жестяных фонарях парафиновые свечи.
От этих свечей ночи сразу стали гуще и непроницаемее, а места, где мы плыли, – глуше, бездорожнее и безлюднее. Да оно и действительно было так.
Я выходил ночью на палубу, долго сидел на скамейке около сипевшей трубы, смотрел во тьму, где шумели бесконечные невидимые леса, где не было видно ни зги, и мне казалось, что я каким-то чудом попал из двадцатого века во времена Ивана Калиты{226} и что если сойти с парохода, то тут же пропадешь, затеряешься, не встретишь на протяжении сотен километров ни одного человека, не услышишь человеческого голоса, а только лай лисиц да волчий вой.
Глушь началась за городком Вытегрой.
Этот бревенчатый городок, заросший муравой, будто богатым зеленым ковром, был ключом Мариинской системы. Всюду равномерно шумела вода, сливаясь с покрытых тиной плотин. На скатах стояли белые суровые соборы. В садах росли вековые березы. К сумеркам старухи в черных платках рассаживались на лавочках у ворот, плели кружева и поджидали коров. Улицы пахли парным молоком. На старом каменном доме со сводами, где помещалась теперь рабоче-крестьянская инспекция, висел почтовый ящик малинового цвета с белой надписью: «Ящик для жалоб на лиц, пренебрежительно относящихся к пролетариату».
Я сфотографировал этот странный ящик, но через год, когда я второй раз проезжал через Вытегру, его уже не было.
Погожим и прохладным утром, как любили писать наши предшественники – добродушные и обстоятельные писатели времен «Нивы» и «Живописного обозрения», – я проснулся в своей каюте и посмотрел в окно. Мне показалось, что я все еще сплю и вижу смешной детский сон: «Писатель» медленно плыл по узкому каналу, как по лотку, а внизу под пароходом проезжали с одной стороны на другую скрипучие телеги с сеном. Здесь канал действительно был заключен в лоток и поднят над окружающей местностью.
За телегами с сеном трусили, как водится, мохнатые собаки и обиженно лаяли на пароход. Возницы с гиканьем нахлестывали лошадей, таких же мохнатых, как и собаки. Лошади переходили на рысь, обгоняли пароход, а возницы свистели и гоготали.
Когда рулевому надоел насмешливый гомон и свист возниц, он высунулся из своей застекленной будки и закричал:
– Охламоны! Лапотники-икотники! Сунься хоть один на пароход, выкинем к лешему, – тогда дуй пешком двести верст до Белозерска! Я ваши фотографии крепко запомнил.
Возчики тотчас стихли и начали отставать. На пароход они даже не смотрели, отводили от него глаза. Не ровен час: действительно сунешься на пароход и получишь по шее.
Вскоре после этого случая началась знаменитая крутая «лестница шлюзов». Они были расположены близко друг к другу, почти «впритык». Чтобы одолеть эту водяную лестницу, «Писателю» понадобился почти весь день.
Пассажиры сошли на берег и пошли к самому верхнему шлюзу пешком. Там они дожидались парохода, чаевничали в соседней деревушке, а кое-кто и выспался на сеновалах. Женщины собирали по дороге цветы, а одна, самая шустрая молодайка, сбегала в знакомое село и принесла оттуда кошелку яиц.
Потом мы прошли вдоль берегов Белого озера. Оно и вправду было белое, но со слабой синеватостыо, как снятое молоко.
Временами от легкого ветра оно морщилось и покрывалось разводами черни, будто над ним мудрили старые северные мастера-чернильщики. Уже в то время секреты нанесения черных узоров на серебро были потеряны. Говорили, что только в Великом Устюге остался один престарелый чернильщик, но у него будто уже нет, как в прежние времена, учеников.
А иной раз ветер, ударяя, очевидно, по воде сверху, покрывал ее другим – звездчатым – узором. Таким узором в те же самые прошлые, но недалекие от нас времена украшали большие, обитые белой жестью сундуки для домовитых хозяек.
Еще и сейчас в маленьких городах можно увидеть эти сундуки со звонкими запорами, со знаменитым поющим замком. Одним из свойств этого замка была протяжность звука, – сундук уже закрыт, а еще звенит и звенит, будто в нем пересыпаются колокольцы и червонцы.
Секрет этого узора на сундуках, так называемого «мороза», тоже забыт. Любители этого редкого народного искусства только вздыхают. Никто не заботится, чтобы его воскресить. Да и вкусы изменились. Вряд ли теперешняя молодая колхозница купит такой сундук для своих нарядов.
Белозерск был стар, спокоен, зарос крапивой и лебедой, и даже приход «Писателя» не внес оживления на его пристань. Только мальчишки – за что им честь и хвала – толклись на берегу и пытались прорваться на пароход, чтобы посмотреть в сотый раз паровую машину. Но их не пускали.
Казалось, все, кроме любопытных веснушчатых и остроглазых мальчишек, было погружено в этом городке в дремоту.
«Писатель» вошел в Шексну, в издавна обжитые места с большими почтенными селами и каменными церквами на высоких берегах, с рудыми крутоярами и соснами на них, с бледными небесными далями, заполненными разноцветным хороводом облаков.
В вышине дул ветер, облака неслись и перемешивались в бегучем свете солнца, и потому небо походило на огромное лоскутное одеяло.
На пристани в Пошехонье – этот городок со времен Салтыкова-Щедрина{227} считался образцом захолустья – на пароход пришла экскурсия школьников из какой-то отдаленной деревни. Молодая учительница говорила детям:
– Пуще глядите! Запоминайте! Это вот паровая машина, что горячий конь. Глядите, как блестит стальными коромыслами. Будущей весной повезем вас на пароходе в самый Череповец. Надо вам ко всему привыкать.
Лица детей пылали жаром от радости, а одна маленькая девочка с тремя косичками спросила нараспев:
– А она может, что ль, взви-и-ться под небеса, эта машина, ежели сильно крутануть колесо?
– А ты попроси механика, – посоветовал ей заготовитель живицы – он все еще ехал на «Писателе». – Он крутанет, и мы улетим под самые тучи.
– Не! – ответила, подумав, девочка. – Не хочу. Я земная.
Ночью на Шексне я не мог уснуть. Берега гремели соловьиным боем. Он заглушал хлопанье пароходных колес и все остальные ночные звуки.
Переливы соловьиного свиста непрерывно неслись из густых береговых зарослей, из мокрых ольховых кустов. Иногда пароход шел под самым берегом и задевал гибкие, свисавшие над водой ветки. Но это нисколько не смущало соловьев.
Такого роскошества, такого безумного и вольного раската заливистых звуков, такого пиршества птичьего пения я не слыхал ни разу в жизни.
В Москву я вернулся с сожалением, понимая, что после стольких поездок я уже пропал и долго усидеть на одном месте никогда, быть может до конца жизни, уже не смогу. Так оно и случилось.
Пламенная Колхида
Деревянная гостиница в Поти пошатывалась и потрескивала, будто от землетрясения.
Низенький и толстый заведующий гостиницей Васо – престарелый гуриец – очень сердился на жильцов, если они шумно сбегали с лестницы, да еще при этом напевали модную в то время песенку:
– Зачем прыгаешь, как дикий кабан, кацо! – кричал старик. – Крыша свалится на голову, – что будешь делать без крыши и головы?
Вспыльчивый Васо вечно препирался с такими же вспыльчивыми жильцами. Скандалы возникали внезапно, как взрыв. Они обыкновенно начинались на ломаном русском языке, потом, разгоревшись до высокого накала, переходили на грузинский, а заканчивались таким бешеным потоком щелкающих и чмокающих звуков, что в этом яростном клекоте терялись последние признаки какого бы то ни было языка.
Скандалы стихали так же внезапно, как начинались, будто с размаху захлопывалась непроницаемая дверь.
Над конторкой у Васо были приколоты кнопками к стене открытки с «Типами старого Тифлиса». То были рисунки неизвестного, но безусловно талантливого художника.
Открытки эти Васо решительно отказывался продавать. Он развесил их ради удовольствия.
На одной из открыток был изображен, между прочим, круглый, стриженный ежиком и сердитый старик, очень похожий на Васо.
Широкие серые шаровары Васо, стянутые у щиколотки, раздувались на нем пузырями. На шаровары были натянуты белые носки на розовых подвязках. Кавказский поясок с серебряным набором свободно лежал на животе у Васо и во время крикливых скандалов подскакивал, как бы участвуя в перебранке.
Тотчас после моего приезда Васо вошел ко мне в номер с огромной пухлой книгой для записи постояльцев.
Он начал вписывать меня в эту книгу красивой грузинской вязью и сердито спросил:
– Зачем в Поти приехал?
Я объяснил ему, что приехал в Поти для работы над книгой об осушении колхидских болот. Васо почему-то начал сердиться.
– Что ты поешь мне про болото, кацо! – закричал он. – Ты говори сразу, зачем приехал?
Я повторил, что приехал изучать осушение Колхидской низменности.
– Ты думаешь, я не знаю, зачем ты приехал? – еще громче закричал Васо. – Ты думаешь, что я старый ишак и поверю, что ты приехал копать болота. Говори правду, смотри мне прямо в глаза, – или не будет тебе комнаты в гостинице!
Васо швырнул мне обратно мое удостоверение. Начинался очередной скандал. Пришла задыхающаяся старуха – жена Васо. Она сложила на груди руки, с мольбой посмотрела на меня и укоризненно покачала головой:
– Такой хороший человек, а старика обманываешь.
– Он не хочет сказать правду! – кричал Васо. – Упрямый, как буйвол. Разве он приехал ограбить банк, что не хочет сказать? Я тебя не выдам, кацо. Спроси у каждого человека в Поти, – он тебе скажет, выдавал ли я кого-нибудь или нет. Как ты смеешь так на меня думать!
Прибежала дочь Васо – молодая женщина с копной таких жестких волос, будто она носила черный и спутанный проволочный парик.
– Ты не смеешь так на меня думать! – кричал Васо. – Когда свели коней у Нонашвили, разве я выдал парней из Супсы! Ага, ты не знаешь, кто их выдал! Ты не знаешь! У тебя нету совести, чтобы сознаться перед старым человеком.
Мне надоел этот непонятный скандал.
– Я пойду, наконец, в милицию, – сказал я, стараясь перекричать Васо. Тогда дочь его схватила меня за плечи и зарыдала.
– Нет! – закричала она. – Он наговаривает на себя. Он совсем не знает, кто украл лошадей. И никогда не знал. Он не виноват. Если вы пойдете жаловаться в милицию, я вырву у себя волосы на голове и брошусь в Риони. Скажите ему правду, зачем вы приехали, и он успокоится. И будет конец.
Васо сел на стул и начал желтым платком вытирать мокрую шею. Он дышал со свистом, как астматик. После шеи он начал яростно тереть платком седую потную грудь.
– Вот видите, что вы делаете, – прокричала дочка Васо. – У вас не сердце, а железо.
– Ну хорошо, батоно, – примирительно сказала жена Васо. – Я сама скажу, зачем вы приехали в Поти. Я уже догадалась.
– Что вы догадались? Чего вы от меня хотите? – спросил я оторопело.
У меня голова шла кругом.
– Вы фотограф! – радостно воскликнула она. – Вы будете снимать людей на базаре. Только я не вижу у вас картины.
– Какой картины? О чем вы говорите?
– Ха, ха, он не знает! – сказала дочь. – Как же вы без нее будете работать?
Она стремительно рванула за пояс и повернула вокруг своей талии пеструю юбку, – в пылу скандала юбка у нее сама по себе сбилась назад.
– Где же ваша картина с отрезанной головой? – повторила она. – Где? Или вы собираетесь снимать на пляже всяких голых девчонок, которым я когда-нибудь выцарапаю глаза вот этими руками.
Тогда я догадался, о какой картине она кричала. Сколько раз я видел около уличных фотографов облупленные холсты с изображением жгучего черкеса с кинжалом. Он сидел, подбоченясь, на гнедом кабардинце. Голова у этого наездника была вырезана начисто. В отверстие от головы каждый снимающийся мог засунуть собственную голову и выйти на фотографии лихим джигитом. Внизу под конем была надпись: «Хаз-Булат удалой быстро едет домой».
– Я не фотограф! – простонал я в отчаянии.
– Так кто ж ты такой наконец? – зашипел Васо, поднял книгу записей и в сердцах швырнул ее на стол. – Зачем ты приехал в Поти? Делать фальшивые деньги?
– Я знаю! – радостно закричала дочь Васо. – Я знаю, отец. Он приехал на базар.
Шум сразу стих. Все смотрели на меня выжидательно и с радостным изумлением.
– Да, если хотите, то я приехал на базар, – сознался я. Другого выхода у меня не было.
– Ай, нехорошо как поступаешь, – сказал Васо усталым и умиротворенным голосом. – Что ж ты молчал, как глухонемой. На базар так на базар. Так и запишем. Живи теперь, сколько хочешь. Ай-ай, как ты меня напугал!
Васо ушел с женой и дочерью успокоенный и просто счастливый. А вечером кто-то, очевидно дочь Васо, поставил мне на стол консервную банку с несколькими толстыми бордовыми розами.
Так началось мое, в дальнейшем совершенно безоблачное, знакомство с Васо. Он оказался хотя и неслыханно вздорным, но добродушным и ленивым стариком.
Уезжая в Колхиду, в Поти, я, как всегда, представлял себе этот город привлекательнее, чем он был на самом деле. Издали он казался мне затененным от жгучего солнца старыми и разлапистыми ореховыми деревьями и мимозами. Они распространяли, как нарядные женщины, сладкий и вянущий запах духов.
В Поти я понял, как неверны и опасны для правильного восприятия жизни наши общие представления. Ничего подобного тому, чего я ждал, в Поти не было, за исключением мимоз. Но зато в Поти был большой порт, где, бурля малахитовыми водопадами, долго разворачивались грузовые пароходы. Они приходили сюда за марганцевой рудой.
Бетонные массивы портовых причалов, раскалившись на солнце, пахли засохшими крабами.
В город из порта (город лежал за рекой Риони) ходил тесный старый трамвай. Удивительно было, как он не сгорал от солнцепека во время каждого медленного рейса и как пассажиров не хватал солнечный удар.
Потийские (колхидские) болота тянулись от самого города до отдаленных Гурийских гор. К полудню эти болота, казалось, закипали, обволакиваясь паром, и кипели до вечера.
Река Риони – желтая, как кизяк, неслась среди этих болот с непостижимой быстротой. Она все время пыталась перелиться через плоские берега и затопить город.
Риони весь завивался воронками и водоворотами. Падение в него грозило неизбежной гибелью. Даже переходить Риони по мосту было немного страшно.
Низкие городские дома весь день перегревались на солнце. Веера молодых пальм, насаженных вдоль улиц, не давали тени. Тяжелые классические розовые розы цвели в палисадниках и засыпали мостовые грудами быстро желтеющих лепестков.
Весь день из домов сочился чад жареного лука и баранины и запах кислого вина.
Тех читателей, которые хотят составить себе более ясное представление о Поти, я мог бы отослать к своей книге «Колхида», если бы сам не понимал, что в книге этой Поти изображен несколько приукрашенным. Таким я увидел этот город, и тут уж я ничего не могу поделать. Я не могу изменить свою способность видеть.
Временами Поти казался мне тропической каторгой, чем-то вроде Новой Каледонии{228}, особенно когда слепящий блеск моря и неба погружал его в оцепенение.
Часто гнетущая тишина потийских дней прерывалась отдаленным, быстро нараставшим гулом грозы. Стена ливня набегала на город со стороны моря, под неистовый гомон лягушек.
Ливень обрушивался зловещей темнотой и занавесами воды. Пар подымался над крышами.
Но ливень быстро уходил в сторону гор. Нигде в жизни я не видел таких ультрамариново-синих и прозрачных луж, как те, что оставались на улицах Поти после этих скоропалительных ливней.
Я каждый день ходил в Колхидстрой. Там главный инженер Нодия – человек шумный, но рассудительный – знакомил меня с работами по созданию в Колхиде советских субтропиков.
Изредка Нодия устраивал в духанах маленькие ужины и любил произносить во время этих ужинов витиеватые тосты. «К нам, – говорил он, – приехал академик, „золотое перо“. Он напишет о Колхиде свою лебединую песню».
Я не мог опровергать Нодию, – он был так добродушен, что язык не поворачивался возражать ему. К тому же я понимал, что «академик», «золотое перо» и «лебединая песня» – это только обязательные цветы застольного красноречия.
В Поти я познакомился с молодым инженером-грузином. Он вошел в «Колхиду» под именем Габунии.
Если бы мне понадобилось описать его в двух словах, то я бы сказал, что в нем яснее всего были видны черты скептика и поэта. Эти, как бы враждебные друг другу черты жили совершенно слитно в этом немногословном и мягком человеке.
Больше всего в нем привлекало меня редкое свойство сближать свою огромную начитанность с повседневной окружающей жизнью, со своей работой в Колхиде (Габуния руководил проведением канала в Чаладидах), с разнообразными людьми, событиями в стране и течением своей личной жизни.
Читал ли он Страбона{229} или Монтеня{230}, статьи профессора Краснова{231} о субтропиках или стихи Бараташвили{232}, путешествия Вамбери или «Корабль „Ретвизан“ Григоровича{233}, Блока или «Тропическую природу» Уоллеса{234} – во всем он находил мысли, отвечающие его сегодняшним интересам.
Я считаю, что встреча с ним была самым плодотворным событием во время поездки в Колхиду. Она помогла мне узнать Колхиду в той – несколько острой и резкой – новизне, какая была необходима, чтобы представить себе недалекое будущее этой земли.
Габуния возил меня в Чаладиды. Там я впервые увидел джунгли. Понадобилась все же сила воли, чтобы не заболеть «болезнью джунглей». Не я придумал эту болезнь. Она существует в действительности, хотя подвержены ей далеко не все люди, попавшие в джунгли.
Болезнь джунглей – это внезапно завладевающее вами очарование этих непроходимых зарослей (в них почему-то мало птиц) с их дурманящим душным воздухом, с коричневой землей, безмолвием, могучими лианами, стоячими реками, подернутыми дымком зноя, чавканьем диких кабанов и постоянным ощущением, что где-то рядом живут нераскрытые тайны. И даже, несмотря на то что этих тайн на самом деле нет, вы все же находитесь в постоянном ожидании чего-то нового и неиспытанного.
С Габунией мы иногда по вечерам ездили на трамвае из Поти в порт, в безлюдный ресторан на молу и долго сидели, слушая, как шумели волны, разбиваясь о массивы, и смотрели, как, мигая огнями, подходили к Поти из открытого моря неизвестные пароходы.
И Габуния однажды сказал, как бы сообщая мне дружескую тайну:
– Быстроногая муза, – повторил он. – Хорошо?
– Хорошо, – согласился я.
– Самая быстроногая муза – это муза Пушкина.
Он замолк, наклонился над стаканом вина, и я подумал, что передо мной сидит большой поэт. Он не написал ни строчки стихов, но – все равно – отдаленной, но явной поэзией была полна его жизнь и его работа.
Пароходы входили в порт. Их огни колебались на волнах. Мне всегда казалось, что эти огни особенно ярки оттого, что они прошли через обширные пространства морского воздуха и как бы впитали в себя его чистоту.
– Если человек чувствует пространство, – сказал однажды Габуния, – то он уже счастлив. Это – высокое и благородное чувство. Но, к сожалению, оно не так часто навещает нас. А жаль!
И я в десятый раз начал гадать: кто же этот мой собеседник со спокойным, а временами грустным и насмешливым лицом? Поэт, инженер или просто привыкший думать обо всем человек?
Начальник Колхидстроя Нодия со свойственной ему трезвостью считал Габунию чудаком. Он объяснял его чудачества (склонность к философии и поэзии) тем, что Габуния малярик. Эта болотная лихорадка притупляет у человека чувство действительности и вызывает в мыслях некоторый беспорядок.
Но как инженера Нодия очень ценил Габунию за смелость, упорство и находчивость. Все работники Колхидстроя с восхищением говорили о том мужестве, больше похожем на героизм, с которым Габуния спас строительство от разрушения, когда во время ливней вода хлынула на Колхиду с окрестных гор. Но об этом я не могу рассказывать второй раз, так как уже рассказал в своей книге «Колхида».
Однажды я объезжал с Нодией осушительные работы. Мы ездили по Колхиде в старомодной пароконной коляске, так называемом «ландо».
В местечке Натанеби нас застигли проливные дожди. Мы застряли и три дня провели в дощатом тесном доме у приятеля Нодии, старого учителя-мингрела. С утра до ночи стол ломился от еды и вина – от лобии, сациви, жареной рыбы локо, шашлыков, сыра «сулугуни», купатов, глиняных горшочков с тушенным в острых пряностях мясом (пети), от водки «чача» и терпкого лилового вина «Изабелла». Если это вино случайно попадало на руки, то стягивало пальцы. Должно быть, в нем было много винной кислоты.
Все время, свободное от еды, Нодия или спал, или азартно играл с хозяином в нарды.
Мне дали, чтобы я не скучал, растрепанный журнал «Паломник» за 1889 год. Я, лежа на тахте, прочел его почти целиком. Там были статьи о Палестине, о пещере в Вифлееме, где родился Христос, о монастырях на старом Афоне и Синайском полуострове и благочестивые биографии разных седобородых патриархов, митрополитов, экзархов и католикосов.
Когда дожди стихли, мы проехали в Батум, где у Нодии были какие-то важные дела. В Батуме мы заночевали. Нодия остановился у своих друзей, мне же было неловко стеснять чужих людей, и я провел ночь в гостинице. Это, пожалуй, была одна из самых страшных ночей в моей жизни.
Лил тяжелый дождь. Свободных комнат в гостинице не было, а идти под проливным дождем в другую гостиницу мне не хотелось. Администратор гостиницы вел себя странно. Он сказал, что у него, правда, есть одна комната, но он не решается поселить меня в ней.
– Почему? – спросил я.
– Да как сказать, – ответил он нерешительно. – Эта комната не совсем плохая, но… неудобная. Это единственная в гостинице комната на мансарде. Под самой крышей. Лестница очень крутая и узкая, деревянная, и ведет только в одну эту комнату.
Швейцар, слушавший наш разговор, что-то быстро и недовольно сказал по-грузински администратору. Тот почмокал губами, покачал головой и повторил, что, пожалуй, мне не стоит ночевать в этой комнате.
– Почему? – снова спросил я.
– Не знаю… Не могу сказать, кацо. Мы не любим пускать в эту комнату постояльцев.
Швейцар снова что-то сказал администратору и испуганно посмотрел на меня.
– В чем же дело? – спросил я. – Значит, есть для этого какая-нибудь причина?
– Там один человек недавно сошел с ума.
– Не каждый же, кто там живет, сходит с ума.
– Ну, все-таки… – уклончиво ответил администратор.
Тогда вмешался швейцар.
– Он сошел с ума ночью, – сказал он вполголоса, – я хорошо помню, было сорок минут четвертого, когда он в первый раз закричал.
– Это было очень страшно, – добавил администратор. – Особенно когда он закричал второй раз. Он выскочил из комнаты, сорвался с лестницы, упал и сломал себе руку. Он ничего не мог сказать, что с ним случилось.
– Ничего особенного в этом я не вижу, – сказал я. – Не ночевать же мне на улице. Покажите мне эту комнату.
Администратор поколебался, взял ключ, и мы поднялись на третий этаж. С площадки третьего этажа шел вверх еще один пролет каменной лестницы. Он заканчивался маленькой глухой площадкой.
С площадки подымалась к чердаку узкая деревянная лестница, похожая на стремянку. Лестница упиралась в дверь, выкрашенную охрой.
Администратор долго не мог открыть эту дверь, – ключ заедал в замке и не поворачивался.
Наконец он открыл дверь, но, прежде чем войти, нащупал в комнате, не переступая порога, выключатель около притолоки и зажег свет.
Я увидел комнату с железной койкой и одним стулом. Больше в комнате ничего не было. Но ничего неприятного в этой комнате я не заметил. Мне только показалось, что единственная, очень сильная электрическая лампочка под потолком слишком выпукло освещает скудную обстановку, – я даже увидел слабую вмятину на подушке от головы. Здесь кто-то, очевидно, недавно ночевал.
– Ничего особенного я не вижу, – повторил я, хотя мне уже стало не по себе от сознания, что эта комната будто наглухо отделена от гостиницы темной лестницей.
– Смотрите сами, – ответил администратор. – Звонка к коридорному нет. Ключ плохо работает. Поэтому лучше не закрывайте дверь.
Он ушел, и только тут я заметил, что в комнате нет окон. Она была похожа на морг – только голые желтые стены и белый потолок.
Я лег, но дверь на ключ не запер. Свет я не погасил. Лампа под потолком мешала уснуть, но мне не хотелось вставать, чтобы погасить ее.
По крыше порывами барабанил дождь. Изредка ветер подвывал на чердаке, в разбитом слуховом окне.
В конце концов я все ж уснул. Проснулся я внезапно. Несколько секунд я пролежал с закрытыми глазами, потом потянулся к ручным часам на стуле около кровати. Часы показывали сорок минут четвертого.
Почему-то это время испугало меня. С ним было связано что-то неприятное или опасное. Но что? И вдруг я вспомнил рассказ швейцара, что именно в это время из этой комнаты закричал человек, когда он сошел с ума.
Я повернулся на спину, и внезапно ледяная дрожь прошла у меня по всему телу от затылка до пяток, – в потолке, над моей головой, был настежь открыт квадратный люк. За ним зияла чердачная темнота.
Люка этого я раньше не заметил. Кто-то открыл его, когда я спал. И открыл изнутри, с чердака.
Я не спускал глаз с люка и говорил себе: «Спокойно. Главное, не волноваться».
Я быстро осмотрел комнату, – в ней никого не было и не могло быть. В ней не мог спрятаться не только человек, но даже сороконожка. Но все-таки… Я осторожно заглянул под кровать. Там тоже было пусто.
Тогда я перевел глаза на черное отверстие люка и заметил, как там что-то зашевелилось.
Сердце у меня зазвенело, и забилось в висках.
Я увидел, как на краю люка медленно появились мясистые пальцы, – сначала от правой, потом от левой руки. Пальцы вцепились в края люка. Там, на чердаке, был человек.
В свете лампы я видел на пальцах этого человека черные редкие волосы и синие выпуклые ногти.
Пальцы сжались. Очевидно, кто-то лежа подтягивался на них. В отверстии люка появилась голова человека.
До сих пор я помню его лицо. Ничего более тупого и зловещего я до тех пор не видел в жизни и, должно быть, не увижу никогда.
Обрюзгшее это лицо показалось мне огромным. Оно было чисто выбрито. Человек медленно и спокойно двигал губами, будто жевал.
Наши глаза встретились, и я понял, что это – смерть. Человек смотрел на меня усмехаясь. Он не дрогнул, не сделал ни малейшего движения, чтобы скрыться. Он рассматривал меня, как жертву, примериваясь, потом вдруг быстро поднялся на руках и опустил одну босую ногу в открытый люк.
Он собирался спрыгнуть, но неосторожно двинулся, и заостренный ломик упал на пол, подпрыгнул и покатился к кровати.
Я не помню, как я очутился за дверью. Должно быть, я рванулся со скоростью света. На площадке я закричал и тут же потерял сознание. Должно быть, я закричал так же страшно, как и тот человек, что сошел в этой комнате с ума.
Очнулся я в коридоре третьего этажа. Около меня стояли администратор, швейцар и несколько полуодетых испуганных жильцов. Незнакомый восточный человек в трусах щупал мне пульс. Пахло нашатырем.
Вскоре появилась милиция. У меня хватило сил отвечать на расспросы и даже войти с милиционерами в комнату.
Люк был открыт. Из него свешивалась бельевая веревка. Ломика на полу уже не было.
Милиционеры бросились кружным ходом на чердак, но никого не нашли. Привели сыскную собаку. Она повела милиционеров через разбитое слуховое окно на крышу, оттуда – на крышу соседнего дома, но дальше не пошла.
– Ваше счастье, – сказал мне старший милиционер, – что вы проснулись. Вы имели дело с хитрым и наглым преступником. А в лучшем случае с сумасшедшим.
Милиционеры опечатали комнату и ушли. Остаток ночи я просидел в вестибюле гостиницы, где на стенах были написаны масляными красками обломки колонн, увитые розами.
Больше всех взволновался Нодия. Мы тотчас же уехали по железной дороге в Поти. Свой экипаж Нодия отправил обратно из Батума.
Но, как известно, злоключения никогда не приходят в одиночку.
На станции Самтреди, где мы пересаживались на поезд в Поти, я заразился сыпным тифом.
В то время на Украине начался голод, и тысячи беглецов оттуда бросились на юг, в Закавказье, в сытные и теплые края. Они запрудили все станции между Зугдидами и Самтреди. Среди них начался сыпной тиф. Его почему-то называли «синим тифом» и говорили, что он дает большую смертность.
Конечно, я не знал, что заразился в Самтреди. Через несколько дней я уехал из Поти в Москву. До Одессы я плыл на старом знакомце «Пестеле» и только в Ялте догадался, что я заболеваю. Там меня настигла резкая, как удар пули, головная боль. Как сквозь вязкий туман, я помню качку у Тарханкута, пыльную и показавшуюся мне начисто вымершей Одессу и твердую, как железо, верхнюю полку в вагоне.
Потом я уже ничего не помню. Очнулся я ночью в Боткинской больнице в Москве. Я лежал на койке под открытым окном. В окно сильно пахло из сада цветущими липами.
Только в больнице от старого профессора Киреева я узнал, что сыпной тиф – это болезнь крови.
Действительно, мне казалось, что кровь у меня сделалась липкой, как столярный клей, и сгущается все сильнее, особенно к ночи. Тогда она совсем перестает протискиваться сквозь узкие сосуды.
Каждую ночь я пытался бежать от этого тугого, скрипящего в моем теле движения умирающей крови. Но только один раз мне удалось сползти с койки и добраться до распахнутого настежь окна в коридоре. Сестры вблизи не было.
Я стал на колени перед окном, высунул наружу неправдоподобно худую, прозрачную руку и всей тонкой, как будто птичьей, кожей этой руки ощутил великолепие ночи – ее равномерно шумящий в липах прохладный ветер, долетавший, очевидно, от звезд, и потрясшую меня до дрожи слабую сырость травы. Должно быть, к вечеру на сад пролился короткий дождь.
Я понимал, что этот запах обещает мне жизнь, выздоровление, глубокую свежесть, будто воздушный душ промывает насквозь мое воспаленное тело.
Я дышал судорожно и хрипло, пока не потерял сознание.
В больнице в меня литрами вливали физиологический раствор, но я почти не чувствовал боли. Меня преследовало томительное ощущение вялого, немощного, плетущегося времени.
Самое представление о времени резко изменилось, – день растянулся так сильно, что в него можно было вместить несколько дней. И мысли тоже ползли медленно, растягивались, как резина, и постоянно повторялись. И даже не мысли, а, по существу, одна только мысль или, вернее, воспоминание о той ночи, когда я стоял на коленях перед открытым окном.
Лежа пластом на койке и беспрерывно рассматривая свои пальцы, как будто я мог узнать по ним свою судьбу, я перебирал в памяти ту ночь, что пламенела звездами в ветках лип и явственно разделялась в моем сознании на составные части.
Каждая часть этой ночи была удивительно хороша и приносила успокоение, – и невзрачный, крылатый цветок липы, упавший на подоконник, и писк птицы сквозь сон, и далекий монотонный шум, будто вокруг Москвы гудели, качаясь от плавного ветра, вековые сосновые леса.
Почему-то мне хотелось, чтобы этим лесам было триста лет и чтобы смола в сердцевине сосен приобрела маслянистую красную окраску.
В ту ночь откуда-то доходила свежесть воды. Может быть, вблизи был пруд, а может быть, ветер принес запах выпавшего за горизонтом дождя.
Во всяком случае, все это было для меня целебнее самых сильных лекарств. Я просил профессора Киреева отправить меня в Мещеру (год назад я впервые узнал этот край), перевезти в маленькую лесную сторожку на берегу Черного озера. Он усмехался и обещал.
Я уверял Киреева, что буду лежать там тихо, пить чистую воду и есть только бруснику. И от этого и от тишины я непременно выздоровею.
Тишина леса казалась мне совершенно блаженной именно здесь, в больнице, где непрерывно ревели над крышей самолеты с Ходынского аэродрома{235}.
Рядом со мной лежал муж писательницы Лидии Сейфуллиной{236}. Как сквозь сон, я видел тогда эту некрасивую, маленькую и обаятельно-добрую женщину. Такой она и осталась у меня в памяти до сих пор, хотя она давно умерла.
От частых уколов камфоры у меня в бедре образовалась глубокая флегмона.
От флегмоны меня оперировали прямо на койке в палате. Я был так еще слаб, что перевезти меня в операционную врач не решался.
После операции я лежал почти в беспамятстве с забинтованной ногой. Был жаркий, летний вечер, двери в коридор были открыты. Яркая электрическая лампа нестерпимо сияла под потолком и резала мне глаза. На соседней койке мучительно стонал муж Сейфуллиной.
Потом я услышал рядом с собой чье-то натруженное дыхание и открыл глаза.
На полу около моей койки сидел красноармеец в мятой грязной шинели. У него на голове была облезлая папаха из искусственной мерлушки с пришитым наискось лоскутком выгоревшего на солнце кумача. Папаха была велика на него и наползала на землистые прозрачные уши.
Острое лицо красноармейца туго обтягивала на скулах лимонная нездоровая кожа. Она блестела в свете лампочки, будто смазанная маслом.
В глубоких морщинах на щеках красноармейца шнурами слежалась черная пыль.
– Друг, как ты сюда попал? – спросил я его, но он не ответил и даже не поднял на меня глаз. Морщась от боли, он разматывал заскорузлый от высохшей крови грязный бинт у себя на ноге. Бинт, когда он отдирал его, трещал, как пергаментная бумага.
Я сообразил, что этот красноармеец вошел в палату из сада, воспользовавшись тем, что сестра куда-то отлучилась (маленький больничный корпус, где я лежал, стоял в саду, и по случаю летнего времени дверь в коридор из сада никогда не закрывалась).
От ноги красноармейца шел тяжелый запах запущенной раны.
– Ты зачем снимаешь перевязку, земляк? – снова спросил я, но красноармеец опять не ответил и только показал мне глазами на стену рядом с собой.
Тогда я увидел на стене квадратный листок бумаги. На нем жирным шрифтом было напечатано:
«Всем бойцам и гражданам, имеющим перевязки, надлежит немедленно снять оные и под угрозой предания ревтрибуналу ни в коем случае не возобновлять их впредь до осмотра ран особой комиссией».
Я понял, что красноармеец разбинтовывает ногу, подчиняясь этому приказу. Тогда я сел на койке и тоже начал сматывать бинты со своего бедра.
Разрез на бедре был очень глубокий, и сделали его мне всего два часа назад. Из свежей раны хлынула кровь. Но прежде чем потерять сознание, я успел дотянуться рукой до столика и позвонить сестре.
Когда я очнулся, около моей койки толпились перепуганные сестры, и молодой хирург, закусив губу и сердясь, наново перевязывал меня. Вся койка была в крови.
Красноармеец исчез. Я рассказал о нем хирургу. Он только усмехнулся:
– Вульгарный случай галлюцинации, – сказал он сестрам. – Не оставляйте его ни на минуту одного.
К концу лета я выздоровел. Из больницы меня отвез домой, на Большую Дмитровку, Роскин. Очевидно, я ничего не весил, так как Роскин, который не мог таскать даже такие пустяковые тяжести, как кошелка с хлебом, легко внес меня на руках на третий этаж и даже не запыхался.
Речка Вертушинка
У нас в России так много чудесных названий рек, озер, сел и городов, что можно прийти в восхищение.
Одно из самых точных и поэтических названий принадлежит крошечной реке Вертушинке, вьющейся по дну лесистых оврагов в Московской области невдалеке от города Рузы.
Вертушинка все время вертится, как егоза, шныряет, журчит, бормочет, звенит и пенится около каждого камня или упавшего ствола березы, тихонько напевает, разговаривает сама с собой, пришепетывает и несет по хрящеватому дну очень прозрачную воду.
Вода эта вытекает из древних и темных, как их возраст, земных пластов, из каких-нибудь юрских глин и девонских песчаников.
Непонятным, но милым кажется одно обстоятельство, связанное с Вертушинкой.
Как известно, у нас, в Московской области, никаких гор нет, – одна всхолмленная равнина, а между тем Вертушинка откуда-то вымывает и притаскивает большие обкатанные гранитные камни.
Это, конечно, валуны, оставшиеся от ледникового периода. Летом они лежат в теплой струистой воде и будто жмурятся от дремоты. Они заросли лишаями. Вода, обтекая валуны, напевает свою немудрую песенку. Трудно поверить, что эти добродушные валуны были свидетелями катастрофы нашей Земли, что ледник свирепо проволок их через всю Россию, от самых Скандинавских гор, и бросил здесь, в уютной Вертушинке, мирно доживать бесконечный и спокойный каменный век.
Но вернемся на минуту к названиям.
Названия – это народное поэтическое оформление страны. Они говорят о характере народа, его истории, его склонностях и особенностях быта.
Названия нужно уважать. Меняя их в случае крайней необходимости, следует делать это прежде всего грамотно, со знанием страны и с любовью к ней. В противном случае названия превращаются в словесный мусор, рассадник дурного вкуса и обличают невежество тех, кто их придумывает.
Нельзя называть города так неблагозвучно, что людям в них неприятно жить. Примеров можно привести много.
Вместо того чтобы город, где жил украинский писатель Иван Франко{237}, назвать просто и хорошо Франко, неуклюжий переименователь сообразил дать ему непроизносимое имя «Ивано-Франковск».
Коктебель в Крыму (кстати, красивое и легкое имя) переименовали в Планерское. Прежде всего, это неграмотно. Если исходить от слова «Планер», то нужно говорить «Планерное», а не «Планерское». И что за окончание – Планерск-ое? К чему оно относится, это прилагательное «Планерское», повисшее без существительного? Это, очевидно, тайна даже для тех, которые так казенно назвали это удивительное по своей суровой красоте место.
Сравнительно недавно в Крыму без всякой огласки и без согласования с населением, а значит, и без согласия населения, поспешно переименовали почти все города, села и поселения, за исключением приморских.
В новых названиях нет и намека на природу или историю Крыма. Новейшая карта Крыма пестрит топорными, безличными, а то и просто нелепыми названиями.
Например, в Крыму, где нет и сроду не было земляники, появилось название: «Земляничное». Что Земляничное? Мыло? Или мороженое? Или варенье?
Исчезли имена, связанные с жизнью в Крыму многих наших великих людей.
Этот случай с переименованиями свидетельствует об отсутствии первичной культуры, пренебрежении к народу, к стране и, конечно, об отсутствии выдумки и воображения.
Мы будем сотни лет ломать себе язык на всяких Ивано-Франковсках, тогда как Вертушинка всегда будет легко звенеть и литься, и свободно и широко, по-северному на «о», к примеру, будет произноситься Вологда.
Над оврагами Вертушинки стоял просторный бревенчатый дом, принадлежавший некогда писателю Вуколу Лаврову{238}.
После революции там устроили дом отдыха для писателей. Назывался он «Малеевка».
Я поехал в Малеевку на три месяца, чтобы отдохнуть и окрепнуть после болезни.
Впервые я попал в дом отдыха и стал так тесно жить рядом с несколькими писателями. В первое время я стеснялся, дичился, но был счастлив, что у меня после многих лет житейского неустройства есть, хотя бы и временно, теплая и светлая комната с хорошим письменным столом, маленьким камином, коврами и креслами, в которых можно было читать и дремать.
Моим соседом по столику в столовой оказался жизнерадостный и общительный писатель Сергей Буданцев{239}. Он учил меня играть в бильярд на маленьком столе, затянутом не зеленым, как полагается, а серым солдатским сукном. Оно было во многих местах заштопано. Бильярд стоял на открытой веранде. За ночь его густо засыпало сентябрьским палым листом и сухой хвоей. Прежде чем начинать неизменную «американку», самые отчаянные бильярдисты – драматург Шкваркин{240}, Буданцев и Эмиль Миндлин{241} – тщательно сметали с бильярда осенний мусор.
Если на столе оставалась хотя бы одна хвоинка, рыцарски вежливый и точный Шкваркин наотрез отказывался играть. По его словам, даже ничтожный пух от крыла какой-нибудь сойки или синицы мог сбить шар с верного направления и испортить самый блестящий удар.
Играли на этом многострадальном бильярде в любую погоду – и в вёдро и в дождь. В дождь сукно на бильярде промокало так сильно, что шары, ударяясь друг о друга, выбивали из него фонтаны воды. Игроки ходили мокрые от брызг, но это их не огорчало – азарт преодолевал все.
Вокруг бильярда весь день сидели «болельщики» (тогда впервые появилось это новое слово) и любители поговорить и «потрепаться».
Первое место среди разговорщиков занимал Сергей Буданцев – плотный шутливый человек с веселым и добрым блеском глаз под хрустально-чистыми окулярами.
Его рассказы не прекращались с утра и до позднего вечера. Память и способность к ассоциациям у него были необыкновенные. Любое слово тотчас вызывало рассказ, анекдот, воспоминание.
Буданцев был человеком шипучим и легким. Вся сила его таланта, как мне казалось, уходила на разговоры. Для того чтобы писать, почти не оставалось времени. Может быть, этим и объясняется то обстоятельство, что Буданцев мало писал и редко печатался.
Самым опасным по отношению к себе, как к писателю, было у Буданцева его свойство охотно и подробно рассказывать замыслы своих еще не написанных вещей и притом рассказывать замечательно. У него постепенно накапливался целый цикл таких отработанных и отделанных до последней черточки устных глав и новелл. Сгоряча казалось, что стоит только записать все эти главы – и книга будет готова.
Но на деле оказывалось, что все обстоит совершенно не так: устный рассказ, перенесенный на бумагу, бледнел и умирал. Может быть, потому, что Буданцеву было интереснее его рассказывать, чем писать. Было невозможно перенести на бумагу те богатые интонации и ту мимику, какими в совершенстве владел Буданцев.
С тех пор я понял сдержанность многих писателей в рассказах о том, что они собираются писать, понял, что выбалтывание еще не созданных вещей может быть просто опасным.
Буданцев одним из первых погиб в Чукотских лагерях.
Александр Бек писал в Малеевке книгу о знаменитом доменщике Курако.
Всех поражал придуманный Беком{242} способ работы над книгами. Прежде всего, Бек, найдя свою тему, по его словам, «золотую жилу», определял главного героя и круг людей, необходимых ему для очередной книги. Это всегда были реальные люди.
Потом Бек простодушно, но беспощадно выспрашивал этих людей обо всех обстоятельствах их жизни и работы до самых последних мелочей. При этом Бек старался поменьше записывать, чтобы их не смущать.
Таким образом, у Бека накапливалось много записей и стенограмм. После их расшифровки Бек приступал к работе. Он переводил стенограммы на язык художественной прозы и смело компоновал книгу. Он добивался полной достоверности, но вместе с тем, отбирая, разъединяя и соединяя в разных комбинациях полученный материал и давая свою собственную окраску и оценку людям, создавал не документальную, а подлинно художественную прозу.
Так была написана книга о Курако и остальные книги Бека, вплоть до прославившего его на весь мир «Волоколамского шоссе».
Бек предложил устроить при Союзе писателей грандиозное хранилище стенографически записанных бесед со всеми замечательными людьми нашей страны. Таким образом, утверждал Бек, мы создадим великолепный свод по истории СССР и вместе с тем дадим в руки писателей богатейший материал. Каждый сможет пользоваться для работы любыми стенограммами.
Насколько я знаю, Бек даже начал составлять обширный список наших выдающихся современников, которых следовало опросить. В этот список входили ученые, инженеры, изобретатели, рабочие, артисты, писатели, агрономы, селекционеры, певцы, путешественники, революционеры, архитекторы, бетонщики, поэты, садоводы, балерины, врачи, путейцы, моряки, полководцы, охотники – люди всех профессий и разнообразного, подчас неожиданного жизненного опыта.
К сожалению, этот грандиозный план не удалось осуществить.
Ни у кого из писателей я не встречал такой настойчивости в работе, как у Бека. Временами его труд казался мне непосильным для одного человека.
Бек – лукавый и подчас любивший изображать из себя простака – был необыкновенно мягок, но прямолинеен.
Где бы ни появлялся Бек, он тотчас втягивал окружающих в орбиту своих увлечений, заражал их своей неукротимой, но мягкой энергией, своим неистовым любопытством. Как всегда в таких случаях, жизнь в его присутствии оказывалась интереснее, чем это было до него. Недаром о Беке шутливо говорили, что «наш бог – Бек».
Каждому, кто близко узнавал Бека, без него уже трудно было обойтись, – без его смелых планов, шумных споров, шуток и умения жить.
До конца я оценил энергию Бека и его преданность литературе гораздо позже, когда мне посчастливилось вместе с Эммануилом Казакевичем{243}, Беком и несколькими другими писателями участвовать в выпуске одного альманаха.
Альманах вел Казакевич – человек, если можно так выразиться, сверкающий. Безмерно талантливый, обладавший разящим умом, храбростью простого солдата, убийственным юмором, лирической нежностью к друзьям и привязчивостью к хорошим людям.
Он был беспощаден к подонкам всех рангов, к двурушникам, угодникам и пошлякам. В обращении с ними он был резок и даже циничен.
Я пришел к Казакевичу за несколько дней до его смерти. Он умирал от рака и хорошо знал это. Ничто не могло скрыть от него быстрого приближения конца. Все говорило об этом – и страшные боли, и яркий, совершенно лимонный цвет его тела, и даже то, что дверь в его квартиру стояла открытой, чтобы люди, приходя, не звонили и не стучали. Малейший звук отзывался в теле Казакевича резкой болью.
По многим признакам он знал, что умирает. Прежде всего, по глазам родных и друзей, по их неестественному деланному спокойствию, по тем невидимым сдерживаемым слезам, которые тяжелее самых отчаянных рыданий.
И все же он прочел мне только что придуманную им ядовитую эпиграмму на одного критика, а когда мы прощались, сжал мою руку, загорелую и здоровую, – своей желтой, слабой рукой (на ней сквозь мертвую уже кожу проступали тонкие кости), посмотрел на наши две руки и сказал, усмехаясь:
– Дружба народов! Европейца и желтого. Годится для плаката.
Мы обнялись. Все кричало во мне о чуде, о необходимости чуда, о том, чтобы вдохнуть в него жизнь, хотя бы свое дыхание, чтобы вернуть к существованию этого пленительного, нужного всем, нужного народу человека.
Через несколько дней у открытой настежь двери его квартиры в Лаврушинском переулке стояла прислоненная к стене крышка гроба.
С чем угодно можно было примириться, но только не с гробовым одиночеством, наступившим для Казакевича.
В тот год быстро подходила осень, рано начались утренники. Окрестные леса за две-три ночи сильно пожелтели.
Больше всех времен года я люблю и жалею осень. Может быть, за то, что ей очень мало отпущено времени для ее шелестящей и облетающей жизни.
В Малеевке я изучал осень неторопливо и пристально, как натуралист. Врачи запретили мне работать два месяца. Но все же я начал писать. Я обманывал себя тем, что пишу не прозу, а сухой отчет о движении осени. Мне ничего не надо было придумывать, а только записывать свои наблюдения.
В Малеевке жил в то время некий старый, всем недовольный поэт. Кислая гримаса не сходила с его лица. Он был язвителен и несправедлив. Все современные поэты, по его словам, писали только «вонючие стишки».
У этого старого поэта был свой собственный язык – какой-то скрюченный и неприятный. Чаще всего он употреблял выдуманное им самим существительное «пыс». Что оно означало, можно было только догадываться. Например, он говорил, вместо «ни в каком случае» – «ни в каком пысе!». О красивой женщине он говорил с едкой искоркой в глазах: «Женщина на полный пыс».
Нас осталось в Малеевке доживать до поздней осени всего трое: этот старый поэт, какой-то громоздкий объемистый экономист (поэт почему-то называл его «маленьким птичиком») и я.
Экономист вел с нами разговоры только на литературные темы. Очевидно, из тех соображений, что «с писателями жить – по-писательски выть». Мы изнемогали от его упорных расспросов о писателях и литературных сенсациях.
Особенно экономиста занимал почему-то Михаил Светлов{244}. Он долго приставал к нам с одним и тем же вопросом: «Из какой жизни пишет Светлов?» Сначала мы пытались всерьез рассказывать ему о поэзии Светлова. Но это его, очевидно, не устраивало, и вечером он снова задавал нам все тот же проклятый вопрос, на который мы ответили ему еще утром: «Из какой жизни пишет Светлов?»
– Из испанской, – ответил я ему с легким раздражением. – Вы же читали его «Гренаду».
– Ну и что с того, что читал? Там у Светлова все напутано. Разве в Испании есть Гренадская волость?
– Конечно, есть.
– Скажите, как интересно! А из какой жизни пишет Эренбург{245}?
– Из дипломатической и среднеевропейской, – свистящим шепотом ответил старый поэт, и глаза его и очки загорелись дьявольским блеском.
Но экономист не унимался.
– Разве есть такой жанр? – простодушно спросил он. – Разве Эренбург служил в Комиссариате иностранных дел? Кем он там служил, вы не знаете?
Мы этого не знали. Тогда экономист, не теряя времени, тотчас спрашивал, из какой жизни пишет Пастернак.
– Из дачной, – ответил я, изнемогая.
– Почему? – вдруг встревожился экономист. – У него разве есть дача под Москвой? Скажите пожалуйста. Поэт имеет дачу!
Экономист нам смертельно наскучил. Мы прятались от него, но он настигал нас всюду: в лесу, в полях, в оврагах Вертушинки и – что было совсем невыносимо – у нас в комнатах во время работы.
Я иногда ходил на соседнюю речку Рузу ловить рыбу. Поэт увязывался со мной, но рыбы не ловил, а садился рядом и читал полным голосом свои и чужие стихи.
Я несколько раз намекал ему, что рыба боится шума и уходит подальше от таких громогласных поэтов.
– Ничего! – отвечал поэт. – Пусть привыкает. Это вам неинтересно слушать мои стихи. А для рыбы это редкое развлечение. Жизнь у нее каторжная. Вода в реке ледяная, ил грязный, жрет она черт знает что, в общем всякую пакость – червей, личинок и горькие водоросли. И темно ей в воде, и зябко, и боязно. Только и жди, что где-нибудь по соседству вдруг лязгнет стальной челюстью щука. Тогда надо драпать вовсю!
Разговоры эти мешали мне, но приходилось терпеть: поэт знал наизусть много стихов и эпиграмм. Он сам их сочинял на ходу. Чаще всего он вспоминал шуточные стихи Олейникова{246}:
Вскоре экономист уехал. После этого в Малеевке началась замечательная жизнь. Нас осталось всего двое, и мы сами удивлялись, почему ради двух человек дом еще не закрывают.
Поэт подобрел, стал даже задумчив и начал работать. Весь его яд будто выветрился в осеннем холодноватом воздухе.
Он каждый день писал стихи о закатах. Действительно, в эту осень над Подмосковьем горели прекрасные закаты. Они зажигали окрестные рощи, как зажигают свечи – одну за другой, – сумрачным желтым огнем.
В каждом закатном времени было несколько минут, когда краски начинали гаснуть, небо как бы взлетало к зениту и сиреневый сумрак бесшумно заполнял поля и леса. Листья все падали и падали, и этому, казалось, не будет конца.
Живите так, как начали
Несмотря на запрет врачей, я написал в Малеевке повесть «Колхида». Писалась она легко и быстро, без напряжения, и это меня даже пугало. Я наслушался писательских разговоров (в общем справедливых) о том, что чем труднее пишется книга, тем она обдуманнее и крепче.
Мне некому было показать свою новую повесть. Но на мое счастье, в Малеевку приехал на несколько дней детский писатель Розанов{247}, автор очень славной книги «Приключения Травки».
Я прочел ему несколько глав из «Колхиды», и он так ласково и просто похвалил ее, что я успокоился и даже решился отдать ее в горьковский альманах «Год шестнадцатый»{248}.
Горький прочел «Колхиду», как он сам сказал мне потом, «собственноручно» и сделал всего одно замечание. Относилось оно к цветку герани. Я написал, что герань – цветок мещанского обихода, главное украшение обывательских окошек.
Горький написал на полях рукописи, что никакие растения и цветы не могут быть мещанскими или пошлыми и что герань – любимый цветок городской бедноты, душных подвалов, где ютятся ремесленники. В народе издавна сложилось убеждение, что герань очищает тяжелый воздух слесарных, сапожных и других мастерских. Поэтому ее и любят.
Вскоре после Малеевки я встретился с Горьким, и он попрекнул меня тем, что я не замечаю красоты этого цветка.
– Может быть, попадете когда-нибудь в Италию, – сказал он. – Там вы повсюду увидите такую пышную герань, что от нее не оторвешь взгляда. А у нас лучшую герань выращивают, по-моему, в Новгороде Великом. Все пригородные слободки этого чудесного города просто горят шарлаховой геранью. Вы были в Новгороде Великом?
– Нет, не был.
– Обязательно поезжайте. Обязательно! Попьете у слободских старушек липового чая. Удивительный вкус, но, правда, на любителя.
Он побарабанил пальцами по столу и добавил:
– Местная особенность! Люблю местные особенности. Из них, как бы из густых красок, на полотне рисуется Россия. Вы любите художника Кустодиева?
– Очень.
– Все это явления одного порядка, – сказал Горький, следя за витиеватым дымком от своей длинной и тонкой папиросы. – Кустодиев, ярмарочные балаганы, выгоны в мураве, щепной духовитый товар{249}, шали на плечах волжских красавиц, мезонины, герань на подоконниках, румяные закаты – именно те, что так славно отражаются в самоварах, мальчишки с расписными пряниками… Чудесный художник! Чудесный! Стихи любите? – спросил он неожиданно.
– Да. Но по-своему.
– Как это «по-своему»?
– Я не могу прочесть больше двух-трех стихотворений в день. Но эти два-три стихотворения я запоминаю надолго, иной раз на всю жизнь.
– Завидное качество, – сказал Горький, снова постучал пальцами по столу и добавил, глядя в сторону: – А я вот уже не могу. Склероз, что ли? А кем вы, милостивый государь, сейчас увлекаетесь? Из современных поэтов.
– Блоком. И Пастернаком.
– Богато живете! – заметил Горький. – Это похвально. Каких только чудес не наслушаешься у поэтов. А я все-таки больше всего люблю Пушкина. «Буря мглою небо кроет»{250}. Помните? «Выпьем, добрая подружка бедной юности моей».
Он пропел эти слова своим басом и задумался.
– Вот поезжайте в Новгород Великий. Там этих добрых подружек, как Арина Родионовна, полно. От них вроде и началась русская поэзия.
В ту осень в Малеевке я много читал поэтов – Васильева{251}, Светлова, Заболоцкого{252}, Пастернака. Я не удержался и прочел Горькому по нескольку любимых строк из этих поэтов. Он неожиданно растрогался.
– Как, как? – спросил он. – Прочтите еще раз.
Я прочел из Васильева:
– А вот это – Пастернак:
– Точно сказано, – заметил Горький. – Да вы кто – прозаик или поэт? Пожалуй, поэт.
Он положил свою большую руку мне на плечо и слегка нажал на него.
– Валяйте! Живите так, как начали. Черт не выдаст, свинья не съест.
1963
1
Ильф Илья Арнольдович (1897–1937) – русский советский писатель, соавтор Евгения Петрова (Евгения Петровича Катаева; 1903–1942).
2
Де Рибас Хосе (Дерибас Осип Михайлович; 1749–1800) – русский адмирал. Испанец, с 1772 г. – на русской службе, участник русско-турецкой войны 1787–1791 гг. Руководитель строительства порта и города Одессы.
3
Форд – имеется в виду, очевидно, Генри Форд (1863–1947), американский промышленник, один из основателей автомобильной промышленности США.
4
Качалов Василий Иванович (1875–1948) – советский актер, народный артист СССР.
5
«Веселая вдова» – оперетта Ференца Легара (1870–1948), венгерского композитора.
6
Спенсер Герберт (1820–1903) – английский философ и социолог, один из родоначальников позитивизма.
7
Кант Иммануил (1724–1804) – немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии.
8
Пуанкаре Раймон (1860–1934) – государственный деятель, был президентом Франции в 1913–1920 гг., один из организаторов иностранной интервенции в Советской России в годы гражданской войны.
9
«Сейте разумное, доброе, вечное…» – Из стихотворения Н. А. Некрасова «Сеятелям».
10
Марк Аврелий (121–180) – римский император из династии Антонинов, философ – представитель позднего стоицизма.
11
Аппиевы дороги. – Аппиева дорога – первая мощеная дорога, проложенная при римском цензоре Аппии Клавдии в 312 г. до н. э. между Римом и Капуей, затем доведена до Брундизи. Сохранилась почти вся.
12
Колизей – амфитеатр Флавиев в Риме, служивший для гладиаторских боев и других зрелищ. Памятник древнеримской архитектуры (75–80 гг. н. э.).
13
Пергам (Пергамское царство) – государство в северо-западной части Малой Азии, существовавшее в 283–133 гг. до н. э. Пергамом также называлась цитадель Трои.
14
Эллада – Греция; здесь имеется в виду открытая археологами в Центральной Греции Элладская культура бронзового века (ок. 2500–1100 гг. до н. э.).
15
…об экономических последствиях Версальского мира. – Версальский мирный договор, завершивший Первую мировую войну, был подписан 28 июня 1919 г. державами-победительницами, носил грабительский империалистический характер.
16
Гафель грот-мачты – наклонный рей, закрепляемый нижним концом на верхней части мачты (здесь – грот-мачты, второй от носа), служит для подъема флагов и сигналов.
17
Траверз – направление, перпендикулярное курсу судна. «Быть на траверзе» какого-нибудь предмета – находиться на линии, направленной на этот предмет и составляющей прямой угол с курсом судна.
18
Писанки – раскрашенные, разрисованные яйца.
19
Вольтер (Мари Франсуа Аруэ; 1694–1778) – французский писатель и философ-просветитель.
20
Гюго Виктор Мари (1802–1885) – французский писатель.
21
Пастер Луи (1822–1895) – французский ученый, основоположник современной микробиологии и иммунологии.
22
Делакруа Фердинанд Виктор Эжен (1798–1863) – французский живописец и график.
23
Варфоломеевская ночь – массовая резня гугенотов католиками в ночь на 24 августа 1572 г. (день святого Варфоломея) в Париже, организованная Екатериной Медичи и Гизами.
24
Избиение младенцев – ставшее крылатым выражение, возникшее из евангельской легенды об умерщвлении всех младенцев в Вифлееме по повелению иудейского царя Ирода после того, как он узнал от волхвов о рождении Иисуса, названного ими царем иудейским.
25
Похищение сабинянок – эпизод, относящийся к легендарному периоду римской истории – похищение девушек у приглашенных Ромулом на праздник соседей-сабинян, не желавших отдавать их римлянам в жены.
26
Последний день Помпеи. – Римский город Помпея погиб при извержении вулкана Везувий 24 августа 79 г. н. э. «Последний день Помпеи» – название картины Брюллова на эту тему.
27
Саргассовы водоросли – морские бурые водоросли, большие скопления которых находятся в Саргассовом море в Атлантическом океане.
28
Фрахтовщик – лицо, предоставляющее судно для перевозки грузов.
29
Стивидор – лицо, заведующее погрузкой и выгрузкой грузов на суда в заграничных портах.
30
Корбьер Тристан (Эдуар Жоакен Корбьер; 1845–1875) – французский поэт.
31
Лафарг Жюль (Лафорг Жюль; 1860–1887) – французский поэт-символист.
32
Планшир (планширь) – деревянные или металлические перила поверх судового леерного ограждения или фальшборта.
33
Юшкевич Семен Соломонович (1868–1927) – русский писатель. В 1920 г. эмигрировал за границу.
34
Греко-турецкая война – война турецкого народа в 1919–1922 гг. против интервенции империалистических держав Антанты, проводившейся силами греческой армии.
35
Барбюс Анри (1873–1935) – французский писатель и общественный деятель, коммунист.
36
Регинин Василий Александрович (1883–1952) – русский советский журналист.
37
«Старик Регинин нас заметил…» – Переделанные строки А. С. Пушкина «Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил» («Евгений Онегин», гл. 8).
38
…произнесенной Лениным в Москве речи о новой экономической политике. – Имеется в виду доклад В. И. Ленина на X съезде ВКП(б) в 1921 г.
39
Аврора – в древнеримской мифологии богиня утренней зари.
40
Голконда – крепость и город в Индии близ г. Гайдерабада, место усыпальниц древних раджей, в древности входила в состав могущественного государства Декана. Всемирную известность приобрели алмазы Голконды, обрабатывавшиеся в городе.
41
Костанди Кириак Константинович (1852–1921) – украинский художник-передвижник.
42
Нарбут Владимир Иванович (1888–1944) – русский советский поэт.
43
…«сладок и приятен» – из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» – слова Чацкого: «И дым Отечества нам сладок и приятен!»
44
«Закаты в августе! Плывут издалека…» – стихотворение Г. Шенгели без названия (приведено полностью).
45
Брашпиль – судовая лебедка для подъема якоря или швартовки.
46
Нобель – имеется в виду, очевидно, Эммануэль Нобель (1859–1932) – крупный промышленник и предприниматель, в 1888–1917 гг. возглавлявший крупнейшую нефтяную фирму России (Т-во бр. Нобель).
47
Чемберлен Остин (1863–1937) – министр финансов Великобритании в 1903–1905, 1919–1921 гг., министр по делам Индии, министр иностранных дел в 1924–1929 гг., занимал и другие министерские посты. В 1927 г. – один из инициаторов разрыва дипломатических отношений с СССР.
48
Ллойд-Джордж Дэвид (1863–1945) – премьер-министр Великобритании в 1916–1922 гг., один из крупнейших лидеров Либеральной партии. Один из организаторов антисоветской интервенции, затем выступил за установление контактов с Советской Россией.
49
Боккаччо Джованни (1313–1375) – итальянский писатель, гуманист Раннего Возрождения.
50
Вермеер Дельфтский (Вермер Делфтский) Ян (1632–1672) – голландский живописец, работал в Делфте.
51
Киплинг Джозеф Редьярд (1865–1936) – английский писатель.
52
Мопассан Ги де (1850–1893) – французский писатель.
53
Аничков (Аничковский) дворец сооружен в 1741–1751 гг. по проекту архитектора Земцова, окончен Растрелли. Название получил от соседства с Аничковскою слободой, названной по фамилии командира батальона морской рабочей команды, заселявшей ее.
54
«Я вижу берег очарованный…» – Из стихотворения А. Блока «Незнакомка». В оригинале: «И вижу…»
55
Куприн Александр Иванович (1870–1938) – русский писатель. После 1917 г. – в эмиграции, в 1937 г. вернулся в СССР.
56
«Тишина умирающих злаков…» – Из стихотворения А. Блока «Пляски осенние».
57
«Тяжкий, плотный занавес у входа...» – Из стихотворения А. Блока «Шаги командора».
58
«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…» – Первая строфа стихотворения А. Блока без названия.
59
«Копытом и камнем…» – Из стихотворения Э. Багрицкого «От черного хлеба и верной жены…».
60
«И розы, осенние розы…» – Из стихотворения А. Блока «Пойми же, я спутал, я спутал…».
61
…«закат из неба сотворил глубокий многоцветный кубок…» – Из стихотворения А. Блока «В северном море».
62
…«руки одна заря закинула к другой…» – Оттуда же.
63
«драгоценный камень фероньеры». – Оттуда же. Фероньера – женское украшение для волос.
64
Дольник – условный термин, которым обозначается вид стиха, основанный на соизмеримости ритмических групп неравного слогового состава.
65
Александрийский стих (от старофранцузской поэмы об Александре Македонском) – французский 12-сложный стих или русский 6-стопный ямб (с цезурой после шестого слога) с парной рифмовкой. Основной размер крупных жанров в литературе классицизма.
66
Форум – в Древнем Риме площадь, рынок – место, ставшее центром политической жизни.
67
Пантеон – в Древнем Риме «Храм всех богов», усыпальница выдающихся людей.
68
«Несу в себе дыхание приливов…» – Из стихотворения Г. Шенгели «Закрыв глаза, пересекаю берег…».
69
Боткин Василий Петрович (1811/12—1869) – русский писатель. В молодости член кружка Н. В. Станкевича, друг В. Г. Белинского, А. И. Герцена. После 1855 г. сторонник теории «искусства для искусства». «Письма об Испании» написаны в 1847–1849 гг.
70
«Мне хочется про вас, про вас, про вас…» – строки из стихотворения В. Нарбута «Большевик». В оригинале: «о вас».
71
Кирсанов Семен Исаакович (1906–1972) – русский советский поэт.
72
«Дышала ночь восторгом сладострастья…» – Из популярного городского романса В. Мазуркевича «Письмо», музыку к которому писали разные композиторы XIX в.
73
Овидий Назон (Публий Овидий Назон; 43 г. до н. э. – ок. 18 г. н. э.) – римский поэт
74
…крез – от имени Креза (595–546 до н. э.) – последнего царя Лидии, богатство которого вошло в поговорку.
75
Матрос Селькирк – герой книги Стивенсона «Остров сокровищ».
76
Симеон Столпник (356–459) – легендарный христианский «мученик», известный своим аскетическим образом жизни; ввел религиозный обет стояния на колонне (столпе).
77
Великий немой – кинематограф.
78
Айвазовский Иван Константинович (1817–1900) – русский живописец-маринист.
79
Форпик – крайний носовой отсек судна, где обычно размещается цистерна для водяного балласта.
80
Донки – донка – судовое название, применяющееся к большинству поршневых паровых насосов.
81
SOS (Save our souls! (англ.) – Спасите наши души!) – сигнал бедствия терпящих кораблекрушение.
82
Сусанин Иван (?—1613) – герой освободительной борьбы русского народа начала XVII в., крестьянин Костромского уезда. Зимой 1613 г. завел отряд польских интервентов в непроходимое лесное болото, за что был замучен.
83
Бушприт – горизонтальный или наклонный брус, выступающий за форштевень парусного судна.
84
«…пора уже в дорогу бренные пожитки собирать». – Строка из стихотворения С. Есенина «Мы теперь уходим понемногу…» В оригинале: «скоро мне в дорогу…»
85
…«студеный ключ, играя по оврагу…» – Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива…». В оригинале: «Когда студеный ключ играет по оврагу // И, погружая мысль в какой-то смутный сон, // Лепечет мне таинственную сагу // Про мирный край, откуда мчится он».
86
Вира – термин гражданского флота, обозначает: выбирай, поднимай при погрузке и выгрузке.
87
Майна помалу. – «Майна» – термин, применяемый в торговом флоте при погрузке судов. Означает: трави, опускай.
88
Шолом-Алейхем (наст. имя Шолом Нохумович Рабинович; 1859–1916) – еврейский писатель.
89
Монитор – класс артиллерийских надводных бронированных кораблей для борьбы с береговой артиллерией, уничтожения кораблей противника.
90
Одоевский Александр Иванович (1802–1839) – русский поэт-декабрист.
91
Шамиль (1799–1871) – третий имам Дагестана и Чечни, руководитель освободительной борьбы кавказских горцев против царских колонизаторов и местных феодалов под лозунгами мюридизма, основатель имамата.
92
…«престолы природы, с которых, как дым, улетают багровые тучи». – Строка из «Опыта ритмической прозы» М. Ю. Лермонтова «Синие горы Кавказа, приветствую вас!..». В оригинале: «с которых, как дым, улетают громовые тучи…»
93
«В томленьи твоем исступленном…» – Из стихотворения А. Блока «Демон».
94
Гулия Димитрий (Гулиа Дмитрий Иосифович; 1874–1960) – народный поэт Абхазской АССР; просветитель, зачинатель абхазской литературы.
95
Либкнехт Карл (1871–1919) – деятель германского и международного рабочего движения, един из основателей Коммунистической партии Германии.
96
…со времен царицы Тамары. – Тамара (ок. сер. 60-х гг. XII в. – 1207) – была царицей Грузии в 1184–1207 гг.
97
Венизелос Элефтериос (1864–1936) – премьер-министр Греции, вовлек страну в антисоветскую интервенцию (1919 г.), в греко-турецкую войну 1919–1922 гг.
98
Католикос – титул патриархов армянской церкви и грузинской православной церкви.
99
Баядерка (баядера) – индийская танцовщица, участвовавшая в религиозных церемониях или праздничных увеселениях.
100
Немирович-Данченко Василий Иванович (1848/49– 1936) – русский писатель, брат Владимира Ивановича Немировича-Данченко. С 1921 г. – в эмиграции.
101
…времен покорения Дагестана. – Дагестан был присоединен к России в 1813 г. (Гюлистанский мирный договор).
102
Ахтерштевень – кормовая часть судна (продолжение киля) в виде рамы.
103
Дядя Сэм – традиционное ироническое название правительства США, а также – типичного американца, янки. Основано на совпадении начальных букв (US – аббревиатура слов Соединенные Штаты).
104
Джон Буль – традиционное ироническое прозвище английского буржуа.
105
Фригийский колпак – головной убор древних фригийцев, послуживший моделью для шапок участников Великой французской революции.
106
Каульбах Вильгельм (1805–1874) – немецкий живописец и рисовальщик, представитель позднего романтизма и академизма.
107
Леда – в греческой мифологии – супруга спартанского царя Тиндарея. От союза с Зевсом, который явился ей в виде лебедя, она родила яйцо, и из него появилась Елена.
108
Джинс Джеймс Хопвуд (1877–1946) – английский физик и астрофизик.
109
Геракл – герой греческой мифологии, сын Зевса, отличавшийся большой силой и совершивший много подвигов.
110
Атлант – в греческой мифологии титан, древнее доолимпийское божество, отличавшееся мощной силой, поддерживал небесный свод.
111
Муэдзин – служитель при мечети, возглашающий с минарета (башни) часы молитвы.
112
Намаз – в исламе ежедневное пятикратное моление.
113
Гяур – название всех немусульман у исповедующих ислам, главным образом в Средние века.
114
Пиранези Джованни Батиста (1720–1778) – итальянский гравер.
115
Номад – кочевник.
116
Тарасов-Родионов Александр Игнатьевич (1885–1938) – русский советский писатель, входил в литературную группу «Кузница», один из организаторов РАППа.
117
…голос «ласковый и томный». – Слова из стихотворения А. С. Пушкина «Ночь».
118
…чеховское прозвище «Спать хочется». – «Спать хочется» – название рассказа А. П. Чехова.
119
«Речь» – газета, орган кадетской партии, выходила в Петербурге с 1906 по 1917 г.
120
Фраерман Рувим Исаевич (1891–1972) – русский советский писатель.
121
«А над Невой – посольства полумира…» – Из стихотворения О. Мандельштама «Петербургские строфы».
122
Кригсгефангене (нем.) – военнопленный.
123
В то время уже Горький сказал свои слова о людях, подобных слепым червям. – Речь идет о «Песне о Буревестнике», написанной А. М. Горьким в 1901 г.
124
Шелгунов Николай Васильевич (1824–1891) – русский революционный демократ, публицист, литературный критик.
125
Шопенгауэр Артур (1788–1860) – немецкий философ-идеалист, эстетик.
126
Андерсен Ханс Кристиан (1805–1875) – датский писатель.
127
«Но к полночи восходит на востоке…» – Из стихотворения И. А. Бунина «Сатурн».
128
«Измучен жизнью, коварством надежды…» – Начало стихотворения А. А. Фета без названия. В оригинале: «…в битве душой уступаю…», «еще темнее мрак жизни…», «сверкают звезд золотые ресницы».
129
«Мне холодно. Прозрачная весна…» – Начало стихотворения О. Мандельштама без названия.
130
«Немая степь синеет – и венком…» – Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Памяти А. И. Одоевского».
131
«Вернись обратно, Виттингтон…» – Из «Баллады о Виттингтоне» Э. Багрицкого.
132
Синдетикон – клей, приготовлявшийся из костей.
133
Ахматова (наст. фамилия Горенко) Анна Андреевна (1889–1966) – русская советская поэтесса.
134
Анаграмма – слово или словосочетание, образованное перестановкой букв другого слова или словосочетания.
135
Акростих – стихотворение, в котором начальные буквы строк образуют слово или фразу.
136
Романс Чайковского «Ни слова, о друг мой, ни вздоха…» – на слова Гартмана в переводе Плещеева.
137
«Виоль д’амур» – музыкальный инструмент семейства виол (струнные смычковые музыкальные инструменты вертикального, ножного, способа держания).
138
Палладио (наст. фамилия ди Пьетро) Андреа (1508–1580) – итальянский архитектор, представитель Позднего Возрождения.
139
Даль Владимир Иванович (1801–1872) – русский писатель, лексикограф, этнограф, создатель «Толкового словаря живого великорусского языка», друг А. С. Пушкина.
140
Нефертити – египетская царица конца XV – начала XIV вв. до н. э., супруга Аменхотепа IV.
141
Остроухов Илья Семенович (1858–1929) – русский живописец-передвижник.
142
Жуковский Станислав Юлианович (1873–1944) – русский живописец, пейзажист и интерьерист. В 1923 г. эмигрировал в Польшу.
143
«Бывало, солнце без лучей…» – Из стихотворения Н. М. Языкова «Тригорское».
144
Мария-Антуанетта (1755–1793) – французская королева, жена Людовика XVI. Казнена во время Великой французской революции.
145
Вилайет – административно-территориальная единица в Турции.
146
Лоррен Клод (1600–1682) – французский живописец и график, представитель классицизма.
147
Манэ (Мане) Эдуар (1832–1883) – французский живописец, предшественник импрессионизма.
148
Тернер Уильям (1775–1851) – английский живописец и график, представитель романтизма.
149
Мацони – грузинская простокваша.
150
Гудиашвили Ладо (Владимир) Давидович (1896–1980) – советский живописец и график.
151
Табидзе Тициан Юстинович (1895–1937) – грузинский советский поэт.
152
Пиросманишвили Нико (Николай Асланович) (1862? – 1918) – грузинский художник-самоучка.
153
«Черногорцы? что такое…» – Из стихотворения А. С. Пушкина «Бонапарт и черногорцы» (цикл «Песни западных славян»).
154
«Белых лилий Идумеи белый венчик цвел кругом…» – Из стихотворения Ап. Майкова «Еврейские песни». В оригинале: «снежный венчик».
155
Гончарова Наталья Сергеевна (1881–1962) – русский живописец. С 1915 г. – в Париже.
156
Ларионов Михаил Федорович (1881–1964) – русский живописец. С 1915 г. – в Париже.
157
Чавчавадзе Илья Григорьевич (1837–1907) – грузинский писатель, общественный деятель. Вместе с грузинским поэтом Церетели Акакием Ростомировичем (1840–1915) стоял во главе национально-освободительного движения 60-х годов. Последователь русских революционных демократов.
158
Шеллер-Михайлов – Шеллер (псевдоним – Михайлов) Александр Константинович (1838–1900) – русский писатель.
159
Ратгауз Даниил Максимович (1868–1937) – русский поэт. В 1922 г. эмигрировал.
160
Каменский Василий Васильевич (1884–1961) – русский советский поэт. Один из первых русских пилотов; ввел в обиход слово «самолет».
161
Шенгелая Николай Михайлович (1903–1943) – советский режиссер и драматург кино.
162
«И в зал, как лилия крылатая…» – строки из восьмой главы «Евгения Онегина» А. С. Пушкина. В оригинале: «И в зале яркой и богатой… // Подобно лилии крылатой, // Колеблясь, входит Лалла-Рук…»
163
Ван Гог Винсент (1853–1890) – голландский живописец, представитель постимпрессионизма.
164
«И сказал проводник…» – Из стихотворения И. А. Бунина «Иерусалим». В оригинале: «Погляди на цветы…»
165
Сарьян Мартирос Сергеевич (1880–1972) – советский живописец.
166
Нансен Фритьоф (1861–1930) – норвежский исследователь Арктики.
167
Александр Македонский (Александр Великий; 356–323 до н. э.) – царь Македонии, один из величайших полководцев и государственных деятелей древнего мира
168
Белелюбский Николай Аполлонович (1845–1922) – русский инженер и ученый в области строительной механики и мостостроения.
169
Дорэ Гюстав (1832–1883) – французский график.
170
«Воспоминанье слишком давит плечи…» – Из стихотворения М. Цветаевой «В раю».
171
Часослов – православная богослужебная книга, содержащая молитвы и песнопения суточного круга богослужения, в т. ч. служб, называемых «часами» (отсюда название).
172
Засодимский Павел Владимирович (1843–1912) – русский писатель.
173
Олеша Юрий Карлович (1899–1960) – русский советский писатель.
174
Гехт Семен Григорьевич (1903–1963) – русский советский писатель.
175
Конрад Джозеф (наст. имя – Юзеф Теодор Конрад Коженёвский; 1857–1924) – английский писатель.
176
Колычев Осип Яковлевич (1904–1973) – русский советский поэт.
177
Пильняк (наст. фамилия – Вогау) Борис Андреевич (1894–1941) – русский советский писатель.
178
«Век шествует путем своим железным». – Из стихотворения Е. А. Баратынского «Последний поэт».
179
«Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы…» – Первые строки стихотворения А. С. Пушкина без названия, посвященного Дельвигу («При посылке бронзового сфинкса»).
180
Новиков-Прибой Алексей Силыч (1877–1944) – русский советский писатель.
181
Сельвинский Илья (Карл) Львович (1899–1968) – русский советский писатель.
182
«Однако, как свежо Очаков дан у Данта». – Из стихотворения Б. Пастернака «Лейтенант Шмидт».
183
«Тонет белый парус на Лимане…» – Из стихотворения И. А. Бунина «Песня».
184
…Ифигенией, умершей здесь в изгнании. – В древнегреческой мифологии богиня Артемида перенесла спасенную ею во время жертвоприношения Ифигению в Тавриду и сделала ее своей жрицей. Однако Ифигения не умерла «в изгнании», а вернулась позже в Элладу, где стала жрицей Артемиды.
185
Капабланка Хосе Рауль (1888–1942) – кубинский шахматист, дипломат. Чемпион мира (1921–1927 гг.).
186
Пришвин Михаил Михайлович (1873–1954) – русский советский писатель.
187
…в год его смерти. – В. В. Маяковский умер 14 апреля 1930 г.
188
…он наступил на горло собственной песне. – Имеются в виду строки из Вступления в поэму «Во весь голос» В. Маяковского: «Но я себя смирял, становясь на горло собственной песне».
189
«Подернулась тиной советская мешанина…» – Из стихотворения В. Маяковского «О дряни».
190
…«в этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей». – Из стихотворения С. Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья…».
191
«Оксана! Жемчужина мира!..» – Эти строки Н. Асеева вошли в стихотворение «Заржавленная лира» (1920).
192
Платонов Андрей Платонович (1899–1951) – русский советский писатель.
193
…до его смерти. – С. Есенин умер 28 декабря 1925 г.
194
«Поэты русские свершают жребий свой…» – Из стихотворения Е. П. Растопчиной (1811–1858) «Нашим будущим поэтам».
195
…про какого-то закройщика из Торжка. – Речь идет о фильме «Закройщик из Торжка» (1925) режиссера Я. А. Протазанова.
196
Гогенцоллерны – династия бранденбургских курфюрстов, прусских королей, германских императоров.
197
Максимов Сергей Васильевич (1831–1901) – русский писатель, этнограф. Книга «Год на севере» издана им в 1859 г. в результате участия в этнографической экспедиции в район Белого моря, Ледовитого океана, Печоры.
198
Касьян с Красивой Мечи – герой одноименного рассказа «Записок охотника» И. С. Тургенева.
199
«Есть в светлости осенних вечеров…» – Строка из стихотворения Ф. Тютчева «Осенний вечер».
200
«Хованщина» – опера Мусоргского, цитируется ария Марфы в сцене гадания.
201
Вавилов Николай Иванович (1887–1943) – советский ученый, основоположник современного учения о биологических основах селекции и учения о центрах происхождения культурных растений.
202
Чулков Георгий Иванович (1879–1939) – русский советский писатель.
203
Арбузов Алексей Николаевич (1908–1986) – русский советский драматург.
204
Атаров Николай Сергеевич (1907–1978) – русский советский писатель.
205
Письменный Александр Григорьевич (1909–1971) – русский советский писатель.
206
Лавренев Борис Андреевич (1891–1959) – русский советский писатель.
207
Малышкин Александр Георгиевич (1892–1938) – русский советский писатель.
208
Дерман Абрам Борисович (1880–1952) – русский советский литературовед.
209
Ерошин Иван Евдокимович (1894–1965) – русский советский поэт.
210
Тарле Евгений Викторович (1875–1955) – советский историк, академик АН СССР.
211
Шторм Георгий Петрович (1898–1978) – русский советский писатель.
212
Бутаков Алексей Иванович (1816–1869) – русский гидрограф, контр-адмирал. В 1848–1849 гг. исследовал Аральское море.
213
В Кремле заседал съезд комсомола. – Речь идет о X съезде ВЛКСМ (апрель 1936 г.).
214
Косарев Александр Васильевич (1903–1939) – деятель комсомола, в 1929–1938 гг. – генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ.
215
О… ассигнациях из тонкой бумаги с романтическим портретом молодого Бонапарта на Аркольском мосту… – Речь идет об ассигнациях достоинством в сто франков.
216
Мистраль Фредерик (1830–1914) – провансальский поэт, глава движения фелибров, стремившихся возродить провансальскую литературу, ее язык.
217
Монгольфье – французские изобретатели воздушного шара, братья: Жозеф (1740–1810) и Этьенн (1745–1799).
218
Наполеон III – Луи Наполеон Бонапарт (1808–1873) – французский император в 1852–1870 гг., племянник Наполеона I.
219
Ренар Жюль (1864–1910) – французский писатель.
220
Король Людовик Святой – Людовик IX (1214–1270) – французский король с 1226 г.
221
Кустодиев Борис Михайлович (1878–1927) – русский живописец.
222
«Жизнь давно сожжена и рассказана…» – Из стихотворения А. Блока «Все, что память сберечь мне старается…».
223
Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович (1852–1912) – русский писатель.
224
Третьяков Сергей Михайлович (1892–1939) – русский советский писатель.
225
…«алмазну сыплющуюся гору». – Имеется в виду стихотворение Г. Р. Державина «Водопад», начинающееся строкой: «Алмазна сыплется гора».
226
Иван Калита – Иван I Данилович Калита (?—1340) – князь московский, великий князь владимирский. Заложил основы политического и экономического могущества Москвы.
227
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (наст. фамилия – Салтыков, псевдоним – Н. Щедрин; 1826–1889) – русский писатель-сатирик.
228
Новая Каледония – группа островов в Меланезии – в 1864–1896 гг., будучи колонией Франции, служила местом каторги, сюда были сосланы участники Парижской коммуны 1871 г.
229
Страбон (64/63 до н. э. – 23/24 н. э.) – древнегреческий географ и историк.
230
Монтень Мишель де (1533–1592) – французский философ-гуманист.
231
Краснов Андрей Николаевич (1862–1914) – русский ботаник и географ, основал Батумский ботанический сад.
232
Бараташвили Николоз Мелитонович (1817–1845) – грузинский поэт-романтик.
233
Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1899/1900) – русский писатель.
234
Уоллес Джо (1890–1975) – канадский поэт, писал на английском языке.
235
Ходынский аэродром – позднее Тушинский аэродром.
236
Сейфуллина Лидия Николаевна (1889–1954) – русская советская писательница.
237
Франко Иван Яковлевич (1856–1916) – украинский писатель, публицист, общественный деятель.
238
Лавров Вукол Михайлович (1852–1912) – русский писатель, издатель, переводчик.
239
Буданцев Сергей Федорович (1896–1940) – русский советский писатель.
240
Шкваркин Василий Васильевич (1894–1967) – русский советский драматург.
241
Миндлин Эмиль – Миндлин Эмилий Львович (1900–1980) – русский советский писатель.
242
Бек Александр Альфредович (1902/1903 – 1972) – русский советский писатель.
243
Казакевич Эммануил Генрихович (1913–1962) – русский советский писатель.
244
Светлов Михаил Аркадьевич (1903–1964) – русский советский писатель, поэт, драматург.
245
Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967) – русский советский писатель, общественный деятель.
246
Олейников Николай Макарович (1898–1942) – русский советский писатель.
247
Розанов Сергей Григорьевич (1894–1957) – русский советский писатель.
248
…горьковский альманах «Год шестнадцатый» – литературно-художественный и общественно-политический альманах, первая книга (1933) называлась «Год XVI» (т. е. 16-й год революции), затем – «Год XVII» и т. д. С 1950 г. орган Союза писателей. С 1956 г. преобразован в альманах «Наш современник» (с 1964 г. – одноименный журнал).
249
…щепной… товар – изделия из лучины, а также деревянные резные и токарные изделия.
250
«Буря мглою небо кроет…» – Из стихотворения А. С. Пушкина «Зимний вечер».
251
Васильев Павел Николаевич (1910–1937) – русский советский поэт.
252
Заболоцкий Николай Алексеевич (1903–1958) – русский советский поэт.
253
«Поверивший в слова простые…» – Из поэмы Павла Васильева «Лето».
254
«Скорей со сна, чем с крыш, скорей…» – Из стихотворения Б. Пастернака «Лето».