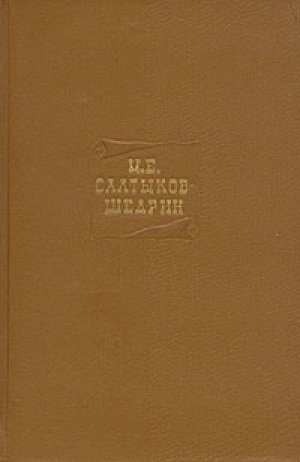
1
Приятель мой Глумов — человек очень добрый, но в то же время до крайности мрачный. Ни одной веселой мысли у него никогда не бывает, ни одного так называемого упования. Еще будучи в школе, он не питал ни малейшего доверия ни к профессорам, ни к воспитателям. По выходе из школы он перенес тот же безнадежный взгляд и на более обширную сферу жизни. Самое отрадное явление жизни, от которого все публицисты приходят в умиление, он умеет ощипать и сократить до таких размеров, что в результате оказывается или выеденное яйцо, или пакость. На самые светлые чаяния он в одно мгновение ока набрасывает такой сермяжный мундир, что просто хоть не уповай! Это до такой степени тяжело, что когда он приходит ко мне, человеку «упований», по преимуществу, то мне положительно становится не по себе.
И не то чтобы Глумов был обойден судьбою, был беден или по службе терпел неудачи — нет, в этом отношении он устроился очень удовлетворительно. А просто ропщет — и все тут. Придет, сядет, задумается, обопрется головой об руку и начнет через час по ложке задавать самые неожиданные, можно сказать, даже щекотливые вопросы. Куда девалось наше молодое поколение? Отчего в настоящее время люди так охотно лишают себя жизни? Отчего у нас нет критики? Правда ли, что на днях должно последовать, в административном порядке, окончательное решение женского вопроса? Правда ли, что в газете «Чего изволите?» готовится ряд статей об учреждении единой и нераздельной железнодорожной станции? и т. д. По всем этим вопросам он рассуждает пространно и озлобленно, и хотя я не раз пытался поворотить его на путь упований, но должен сознаться, что все мои усилия в этом смысле остались тщетными. Теперь я большею частью выслушиваю его молча и только в случае крайней необходимости играю роль актера, подающего реплику.
Но, несмотря на постоянно придирчивое настроение духа моего приятеля, я считаю его человеком в высшей степени для меня полезным. Мы оба воспитывались в одном и том же, заведении, оба принадлежим к школе сороковых годов, но он пошел по пути озлобления, а я по пути упований. Что ж! если нам так нравится, то в этом еще большой беды нет. Для меня даже удобно, что мы идем разными дорогами, потому что, при моем беспечном характере, Глумов играет в моей жизни роль memento mori, возвращающего меня к чувству действительности. По-видимому, мое существование идет вполне благополучно, ибо я постоянно живу в сфере сладкой уверенности, что со временем все разъяснится. Вчера я был в Михайловском театре — видел «La fille de m-me Angot»;[1] сегодня иду в театр Буфф — увижу «La fille de m-me Angot»; завтра отправляюсь в Мариинский театр — и опять возобновляю в своей памяти «La fille de m-me Angot». Что может быть благополучнее этого не разнообразного, но зато совершенно верного благополучия! Нет у меня ни митингов, ни парламентов, зато есть «La fille de m-me Angot» в трех интерпретациях; а быть может — на милость образца нет! — будет и «Timbale d’argent».[2] Хожу я беспечно по солнечной стороне Невского проспекта и напеваю:
и вдруг, несмотря на полнейшее благополучие, чувствую, что мне чего-то хочется. Чего именно хочется — этого, по беспечности характера, я и сам с достоверностью определить не могу. Может быть, хочется парламента (с жиру какие фантазии не забредут в голову!); может быть, съесть чего-нибудь; может быть, опять послушать «La fille de m-me Angot» в четвертой интерпретации; может быть, забраться в какую-нибудь канцелярскую комиссию и там заснуть… Но заснуть…
а так, чтоб и день, и ночь надо мною заливались канцелярские соловьи…
И вот в эту-то тяжкую минуту недоумений, когда я от нечего делать готов осведомиться у первого встречного, на какой улице помещается наш парламент, со мною равняется мой озлобленный друг и озадачивает меня вопросом:
— Да скоро ли же, наконец, начнется печатание ряда статей о единой и нераздельной железнодорожной станции? Что они мямлят!
Услышавши этот вопрос, я вдруг возвращаюсь к чувству действительности и начинаю понимать, чего мне хочется. Да, говорю я себе, не нужно для моего благополучия ни парламентов, ни митингов, ни земских собраний! А нужно только, чтоб газета «Чего изволите?» каждый день неупустительно твердила мне, что Россия тогда только будет счастлива, когда вполне исчерпается вопрос о необходимости учреждения единой и нераздельной железнодорожной станции.
«Господи! — думаю я, — сколько разнообразнейших эпизодов заключает в себе этот, по-видимому, бросовый вопрос! у скольких читателей можно будет вымотать душу, если умненько развивать его и не торопясь доводить до пределов последней ясности!»
Так вот об этом-то приятеле я и намереваюсь от времени до времени беседовать, или, лучше сказать, не столько об нем самом, сколько о тех мрачных вопросах, которыми он имеет обыкновение возвращать меня к чувству действительности. Если обстоятельства позволят, я постепенно переберу большую часть занимавших нас вопросов, а чтоб не откладывать дела в долгий ящик, начинаю теперь же с одного из капитальнейших: куда девалось наше молодое поколение?
На днях приходит ко мне Глумов, как-то особенно мрачно настроенный. Садится, подпирает рукой голову, закуривает сигару и начинает исподволь рычать.
— Черт знает что делается! Отвратительно становится жить! — разражается он наконец.
Я сижу как на иголках, в ожидании, что вот-вот он сейчас огорошит меня.
— Правда ли, — говорит он наконец, с трудом сдерживая свой гнев, — правда ли, что газета «Чего изволите?» предполагает в будущем году украшать столбцы полным переводом заграничных путеводителей Бедекера?
— Послушай, мой друг! отчего у тебя всегда такие унылые мысли?
— Гм… унылые! почему же ты называешь их унылыми?
— Потому что это, наконец, бог знает какой отчаянный скептицизм! Кто же когда-нибудь сомневался, что под тою или другой формой, а «Чего изволите?» непременно напечатает полный перевод всех «путеводителей» Бедекера!
— Так, стало быть, правда?
— Столь же истинно, как и то, что вслед за Бедекером предполагается перепечатать географию Ободовского со всеми выпусками, сделанными цензурою в первом ее издании!
Наступило несколько минут тягостнейшего молчания, в продолжение которого лицо моего друга делалось все мрачнее и мрачнее. Ясно было, что эффект, произведенный на меня вопросом о Бедекере, не удовлетворил его и что он обдумывает средства так меня огорошить, чтоб я, как говорится, не усидел, не устоял. Наконец идея созрела. Он поднялся с кресла и почти угрожающим тоном обратился ко мне:
— Ну, черт с ним, с Бедекером! Нет, ты мне вот что скажи: куда девалось наше молодое поколение?
Переход был так неожидан, что поначалу я не вдруг собрался с мыслями. Мне показалось, что я не в первый раз слышу этот вопрос, что и в моей голове когда-то мелькало нечто подобное. Но отчего же вопрос этот только мелькал и ни разу не нашел для себя ясной формулы? оттого ли, что мысль моя слишком робка и ленива для разработки подобных сюжетов, или оттого, что самый вопрос неоснователен и не имеет никаких корней в современной действительности?
Вскоре, однако ж, я оправился от смущения. Обратившись к своей памяти, я нашел в ней такую бесконечную вереницу молодых адвокатов, молодых земских деятелей, молодых бюрократов, молодых фельетонистов (они же, по нужде, и публицисты), что подозрительность моего друга-мизантропа показалась мне просто смешным парадоксом.
— А наши адвокаты? — начал я, — надеюсь, что ты не будешь отрицать…
— Адвокаты, ты говоришь? Но разве их можно называть представителями, а тем более руководителями интеллигенции? Люди, которые занимаются отниманием чужой собственности! разве это свойственное «молодому поколению» занятие? разве это занятие вообще?
— Позволь! ты сказал: люди, занимающиеся отниманием чужой собственности! По-моему, это не совсем верно. Есть, конечно, адвокаты, которые свою деятельность посвящают преимущественно отниманию, но я уверен, что есть многие, которые занимаются не отниманием, а только возвращением собственности от незаконного владельца к законному!
— Во-первых, разграничить это очень трудно, если не невозможно. Адвокат не исповедник, и самый честный из них не может поручиться, что ему известна интимная сторона дела, а между тем она-то, собственно говоря, и составляет настоящую суть. Поэтому ни ты, ни он не в состоянии определить, где кончается «отнятие» и где начинается «возвращение».
А во-вторых, это даже и не существенно для меня. Отнимает ли адвокат собственность или возвращает ее, — все-таки он занимается ремеслом, к которому молодое поколение, взятое в смысле двигающей интеллигенции, должно относиться совершенно безразлично.
— Но ведь если гражданский суд существует, нельзя же его игнорировать, душа моя! Есть истцы, есть ответчики — не может же общество…
— Обойтись без адвокатов? — Совершенно верно. Общество нуждается в самых разнообразных профессиях, я это понимаю. Но ведь есть бесчисленное множество молодых сапожников, молодых слесарей, молодых золотарей, — и никому, однако ж, не приходит в голову сопричислить их к «молодому поколению»! А ежели говорить по совести, так, пожалуй, эти почтенные ремесленники имеют даже больше прав на это название, нежели адвокаты. Их мысль не изувечена, в их действиях нет злостности. Если сапожник шьет тебе сапоги, то он делает это без предвзятого намерения устроить у тебя на ногах мозоли, между тем как большинство адвокатов именно одну мозоль и имеет в виду.
— Как хочешь, но это парадокс, mon cher![4]
— Очень возможно, но я того мнения, что слово «парадокс» глупые люди выдумали. Те люди, которым не по нутру истина и которые в то же время не знают, что возразить против нее. А, впрочем, парадокс так парадокс: меня, брат, жалкими словами не огорошишь! Постараемся быть еще парадоксальнее. Хочешь ли ты, например, знать, какое старинное ремесло напоминает мне ремесло современных русских адвокатов?
— Любопытно…
— Ремесло не помнящих родства бродяг. Эти люди никогда не могли определить себе заранее, где они проведут следующий час или, по крайней мере, следующую ночь. Так точно и современный русский адвокат: он никогда не может сказать, в каком вертепе проведет следующий час своей жизни, в вертепе ли «возвращения» или в вертепе «отнимания».
— И опять-таки парадокс! Блестящий… но парадокс!
Мой друг взглянул на меня, удивленными глазами и потянулся за шляпой.
— Блестящий… но парадокс! — передразнил он меня, — и откуда ты выражаться так научился! Ему дело говорят, а он: «блестящий… но парадокс!» И кто дал тебе право думать, что я желаю блистать перед тобой? Прощай.
— Постой! зачем уходить! Поговорим. Ты знаешь: du choc des opinions…[5]
— Оставь!
— Ну, хорошо, хорошо! не буду! Но согласись, что и между адвокатами… ведь не все же чужую собственность… возвращают! Я знаю очень многих, которые даже к мысли о вознаграждении относятся без особенной страстности, а просто увлекаются тонкостями ремесла. Юридическая практика, душа моя, представляет такой разнообразный мир, который сам по себе может увлечь… право, даже независимо от вознаграждения!
— Ну?!
— Есть, братец, такие юридические вопросцы, разрешение которых даже в общечеловеческом смысле далеко не бесполезно. Например, представь себе, что я обещал тебе подарить что-нибудь — что означает это действие? Представляет ли оно обязательство или только обольщение? В законах-то, брат, на этот счет бабушка надвое сказала, а между тем для человечества… Как же тут не увлечься… даже помимо мысли о предстоящем вознаграждении?
— А я, стало быть, должен разыгрывать роль anima vilis,[6] на которой ты будешь упражнять свою юридическую любознательность? Прощай.
— Да постой же. Ну, пожалуй, уступаю тебе адвокатов. Коли хочешь, уступлю еще и бюрократов…
— Слава богу! еще на двугривенный уступил!
— Ну, да, уступаю тебе и адвокатов, и бюрократов! Que diable![7] В самом деле, какое же это «молодое поколение»! Какую двигающую мысль они собой представляют! Одни исполняют предначертания начальства, другие находят более выгодным исполнять предначертания своих клиентов! Да, я согласен: тут даже интеллигенции нет никакой! Но что ты скажешь, например, о наших земских деятелях?
— Это о тех, что ли, что в земских-то собраниях гудят?
— Гудят? — опять-таки резкое выражение, и ничего больше. Гудят или не гудят — это ведь безразлично, мой друг! Для нас важно одно: сила это или не сила?
— Сила… комариная!
— Комариная… позволь! Но ведь и комар иногда может… вспомни-ка басню о комаре и льве!
— Так ведь тот комар умный был! он в самую мякоть залез! а наши земские комары и места-то такие излюбили, откуда их всего удобнее смахнуть можно! Смахнул — и нет его! Да и какое это «молодое поколение»! Я, брат, прошлым летом в «своих местах» был, так на земское собрание взглянуть полюбопытствовал: все подряд сивое мериньё сидит.
— Ну, вот видишь! как же тебе не сказать, что ты парадоксы говоришь! Сивое мериньё!.. Но разве у стариков не могут быть молодые мысли?
Но Глумов даже не ответил на мой вопрос. Он ходил взад и вперед по кабинету, хмуря брови и что-то вполголоса напевая. По временам он останавливался против меня, вперял в меня мутно-сосредоточенный взгляд и как бы машинально произносил:
— Душка!
Однако я далеко не сознавал себя побежденным. Мне даже показалось несколько обидным, что он так легко относится к моим мнениям. Душка! что это за слово! разве это опровержение! И я пустил ему в упор:
— Так и земские деятели не угодили тебе! Отлично! Люди, которые так охотно сами себя облагают сборами… которые так смело выразились по вопросу о всеобщей воинской повинности… Это не интеллигенция! И не забудь, что, независимо от сейчас названных вопросов, у них на плечах все мосты и перевозы! И это не интеллигенция… прекрасно! Что же ты после этого скажешь о нашей новой литературе? Надеюсь…
— Надейся!
— Душа моя, это не ответ! Если ты хочешь диспутировать, то диспутируй серьезно! Прежде всего надо уважать мнения своего противника!
— Хорошо. Хоть я и не согласен насчет «уважения» (ведь уважение достается само собой, а не предписывается), но пусть на этот раз будет по-твоему. Давай диспутировать. Хочешь ли ты знать, что такое твоя новая литература?
— Желаю знать.
— Изволь. Это средней руки кокотка, которая утратила даже сознание, что женщине легкого поведения больше, нежели всякой другой, необходимо соблюдать опрятность.
— Ого-го!
— Ты не думай, однако ж, что я говорю это в видах защиты старой литературы нашей. Я знаю, что литература у нас во все времена занималась гимнастикою недомолвок и изнурительным переливанием из пустого в порожнее. Но у старой литературы была известная опрятность, без которой податливая женщина делается просто отвратительною. Она умела вовремя остановиться, умела видеть в читателе честного человека. А нынче даже руководящий принцип опрятности утратил свою обязательность.
— И опять-таки пара… — заикнулся было я, но, вспомнив, что употребление слова «парадокс» строжайше воспрещено, продолжал: — Подумай, однако ж, мой друг! не отзывается ли такой взгляд на нашу новую литературу слишком исключительным ригоризмом? Воля твоя, а это ригоризм!
— И «парадокс», и «ригоризм» — два родные братца. Впрочем, это я только к слову, и если ты окончательно не можешь без того обойтись, то, сделай милость, уснащай свою речь ригоризмами, парадоксами и вообще всеми пустопорожними выражениями, которыми так богат пенкоснимательный лексикон. Затем прошу тебя понять мою мысль. Я сам не щепетилен, и ежели мне приходится выбирать между славословием и сквернословием — я всегда предпочту последнее. Что делать? таков, братец, дух русского языка! Сквернословие образнее, а образность — слабость моя. Поэтому я не о внешней опрятности говорю, которая может нравиться и не нравиться, но которая ни в каком случае не задевает внутреннего человека. Я говорю о той внутренней опрятности, которая заставляет человека если не бороться с нечистоплотными мыслями, то, по крайней мере, не так свободно выбалтываться!
— Примеров, душа моя, примеров!
— Примеров? а какой афоризм выработала новейшая русская литература в качестве руководящего жизненного принципа? — этот афоризм: «Наше время — не время широких задач». Разве это не довольно погано? С каким словом обращалась литература к нашему «молодому поколению»?..
— Вот видишь, ты, стало быть, сам признаешь, что у нас есть молодое поколение? — перебил я.
— Было, да сплыло… но не перебивай, об этом речь еще впереди… Итак: с каким словом обращалась литература к «молодому поколению»? с словом глумления и много-много с словом дряблого соболезнования! Укажи мне на то увлечение, которое не было бы в нашей литературе забрызгано грязью и не возведено в квадрат! Скажи, когда в другое время литература, сколько-нибудь опрятная, позволила бы себе остановиться на мысли, что жизнь есть непрерывная игра в бирюльки, и кто больше бирюлек вытащит, тот больше и заслужит перед любезным отечеством! «Наше время — не время широких задач»! И это говорится в такую минуту, когда ни широким, ни каким задачам доступа в литературу нет! Растолкуй, что это такое: отупелость, подвиливание или просто глупость?
— Но ведь нельзя же, черт побери, запрещать людям высказывать свои убеждения! Если мое убеждение таково, что наше время — не время широких задач, то почему же я, из-за каких-то ложных опасений, стану воздерживаться и насиловать себя?
— Да по тому же закону приличия, по которому ты воздерживаешься от некоторых естественных отправлений в публичных местах. Но если таково твое убеждение…
— Постой. Я совсем не говорю, что это мое убеждение. Напротив, я сам всегда говорил, что приведенная тобой фраза чересчур уже решительна. Я сознаюсь, что можно бы и другую форму употребить… а пожалуй, даже и никакой формы не употреблять… Но ведь ежели отбросить форму, ежели взглянуть только на сущность… согласись, qu’au fond il y a du vrai dans tout ceci![8]
Но он опять оставил мое возражение без ответа и молча ходил по кабинету, так что я имел нелепый вид человека, говорящего «мысли вслух», адресуемые в пространство. Может быть, его рассердила моя заключительная французская фраза. Он всегда говорил мне, что я с своими французскими фразами, пересыпанными «парадоксами», «ригоризмами» и проч., представляю счастливое сочетание кокодеса и пенкоснимателя. Как бы то ни было, но через минуту после того он вновь остановился против меня, вперил в меня не то беспредметный, не то лукавый взгляд и, ущипнув меня за обе щеки (что делать! ради старого товарищества я даже эту фамильярность прощаю ему), произнес:
— Душка!
Потом, проскакав на одной ножке из одного конца в другой (что было в нем признаком редкого прилива веселости), подпевал:
— В этих словах вся суть современной русской литературы! — сказал он, обращаясь ко мне. — Тут есть все: и малодушие, исправленное малоумием, и малоумие, ищущее для себя смягчающих обстоятельств в малодушии!
— Но разве ты не знаешь условий нашей литературы! Разве не ужаснейшее это положение: надобно говорить, а говорить нельзя!
— Или, другими словами: хоть тресни, а говори! Прекрасно. Но в таком случае будь же опрятен. Не забегай, не заискивай! Не гаркай во все горло афоризмов, которые ничего, даже сострадания в литературных меценатах, возбудить не могут!
— Согласись, однако ж, что при необходимости говорить ежедневно не мудрено и провраться!
— У кого есть в голове царь, кто выработал себе известный взгляд на общность жизненных явлений, тот таким капитальным образом не проврется. Но довольно об литературе. Резюмируем наш спор. Из трех образчиков современного молодого поколения, на которые ты указал, одни занимаются отниманием чужой собственности, другие представляют собой принцип бессодержательного гудения и комариной силы, третьи, наконец, провозглашают: не торопитесь! ждите разъяснений! наше время — не время широких задач! Где же молодое-то поколение?
На этот раз задумался и я. Во мне происходила борьба. С одной стороны, слова этого лишенного упований человека действовали на меня заразительно; с другой — я никак не мог победить в себе мысли: как же это так? каждый день я гуляю по Невскому и вижу пропасть молодых людей всевозможных оружий, — и вдруг вопрос: куда девалось наше молодое поколение?
— Душа моя! — сказал я тоскливо, — да сообрази же ты, сделай милость! ведь если бы не существовало молодого поколения, не прекратился ли бы человеческий род?!
— Чудак! разве я в жеребячьем смысле с тобой говорю! — ответил он мне с нетерпением, — я ведь знаю, что в производителях нигде никогда недостатка не бывало!
Опять горькое сомнение! ужели вся эта молодежь, гремящая саблями о тротуары, наполняющая воплями наши суды, изливающая на всю Россию поток циркуляров, увлекающаяся вопросами о дарении, об единоутробии, об истинных признаках взлома, произносящая в земских собраниях угнетающие речи о неизбежности мостов и переправ, добросовестно пережевывающая в литературе вопросы о необходимости ожидать дальнейших разъяснений, — ужели все это только производители, способные лишь на то, чтобы производить других таких же производителей?
Если это так, если Глумов говорит правду, то что же ожидает нас впереди? Не должна ли, при подобных условиях, самая история прекратить течение? Положим, что наше, то есть ныне действующее молодое поколение — отпетое; допустим, что за него, в смысле двигающей силы, нельзя дать полгроша, — но в таком случае как же мы живем? Вопросы о неизбежности мостов и перевозов, о необходимости ожидать разъяснений — все это вопросы бесспорно полезные, но разве ими человечество живет и движется, разве они составляют содержание истории? Должна же быть где-нибудь эта необходимая двигающая сила! Быть может, она скрывается в школах; быть может, разъединенная, но умудренная опытом, она продолжает дело движения, изменив лишь обстановку его и набросив на него до поры до времени пелену непроницаемости?
— Есть у нас, наконец, целый мир учащихся! — рискнул заметить я.
— Да, есть; есть учащие, должны быть и учащиеся.
— Неужели же ты и их не причисляешь к молодому поколению?
— Вот видишь ли, любезный друг! я имею привычку говорить только о том, что доподлинно знаю, а разве можно что-нибудь знать об учащихся! Учащееся поколение находится вне арены исторической жизни; в массе это материал, на котором так или иначе может отразиться дух современности, но не агент этого духа. Взгляни на каплунов-пенкоснимателей современной литературы! ведь и они были когда-то учащимся поколением и даже, пожалуй, горели энтузиазмом к Грановскому — а что из них вышло!
— Но если я не ошибаюсь, наша литература именно в учащихся и видела «молодое поколение», когда указывала на некоторые особенности современной русской жизни?
— Да ведь это, братец, делалось для того, чтоб смешнее вышло. В последнее время наша литература поставила себе совершенно новую задачу: изобразить в смешном виде все цели, к которым стремилась передовая мысль. Каким образом достичь этого? заставить начальника отделения рассуждать «о пище» по Молешотту и «о происхождении видов» по Дарвину — пожалуй, выйдет и смешно, но смех над такими «особами» нежелателен. Заставить действительного представителя молодого поколения о тех же предметах беседовать — того гляди, не будет смешно. Стало быть, лучше всего взять подростка и предоставить ему изъяснять своим родителям, что они от обезьяны происходят. И пронзительно, и смешно. Ведь я же говорил тебе, что новейшая русская литература есть средней руки кокотка, которая позабыла, что для нее прежде всего обязателен закон чистоплотности!
— Однако нельзя же предполагать, чтобы литература так нагло лгала. Вероятно, было же нечто подобное, если даже наша нечуткая литература о том засвидетельствовала?
— Еще бы не было! Дело детское. Но ведь подобные факты доказывают только одно: что в обществе в данный момент господствует известное направление. Если в обществе царствует вкус к военным упражнениям — дети маршируют, играют в солдатики и бьют в барабаны; если общество озабочено только ограждением общественной безопасности — дети фискалят, наушничают и т. п.; если в общество проникает стремление проверить авторитеты, дотоле руководившие им, — дети начинают объяснять родителям, что они происходят от обезьян. Это вопрос педагогический, а не политический, а потому тот, кто хочет рисовать общество, а не карикатуру на него, должен брать предметом для своих исследований взрослых, а не детей.
Таким образом, и эта попытка отстоять существование «молодого поколения», в качестве действующей двигающей силы, рушилась. Нет молодого поколения. Есть адвокаты, есть земские деятели, есть литераторы, сапожники, золотари, производители — все, что угодно, исключая «молодого поколения»!
— Да ведь ты сейчас же сам обмолвился, что оно было, это искомое «молодое поколение»? — обратился я к Глумову.
— Не «обмолвился», а говорил утвердительно, и теперь утвердительно повторяю: было!!
— Где же оно?
— Это, брат, история длинная и горестная. Может быть, расскажу ее тебе — но в другой раз…
II
Первый час утра; вслед за сильным звонком вбегает в мой кабинет Глумов, на лице которого я читаю, что он намерен в чем-то поймать или уличить меня.
Накануне мы с ним таки поспорили. По обыкновению, он предложил загадку: отчего умственный уровень упал везде, во всех отраслях человеческой деятельности, исключая железнодорожной? — и, по обыкновению же, я отвечал, что прежде надобно еще доказать понижение умственного уровня, а потом уж искать причину, так как, по мнению моему, умственный уровень не только не понизился, но, с божьего помощью, идет все в гору и в гору. В подтверждение я сослался на музыку и указал на блестящую плеяду молодых русских композиторов, на ее стремление осмыслить мир звуков, приспособить его к точному выражению разнообразнейших жизненных функций, начиная от самых простейших и кончая самыми сложными.
— Прежде, — говорил я, — музыка выражала только неясные ощущения печали и радости, да и тут все зависело не столько от содержания звуковых сочетаний, сколько от замедления или ускорения темпа. Теперь же найдены такие звуковые сочетания, в которых можно уложить даже полемику между Сеченовым и Кавелиным. И ты ни разу не ошибешься определить: когда полемизирует Сеченов и когда — Кавелин.
— То есть тебе скажет Неуважай-Корыто: вот это поет Сеченов, а это — Кавелин, — и ты должен верить.
— Нет, не Неуважай-Корыто, а ты сам поймешь, что Сеченов — basso profondo,[9] а Кавелин — tenore di grazia.[10]
— Да ведь и Катков, братец, basso profondo!
— Ну, нет, Катков — это симфония особого рода!
Тем бы, может быть, разговор наш и кончился, но Глумов вдруг запел. Сначала он прогремел коронационный марш из Мейерберова «Пророка», а вслед за тем проурчал несколько тактов из Vorspiel’я[11] к «Каменному гостю». Проделавши это, он как-то злорадно взглянул на меня.
Признаюсь: при всем несовершенстве голосовых средств Глумова, разница была так ощутительна, что мне сделалось неловко. Действительно, думалось мне, есть в этом Vorspiel’е что-то такое, что скорее говорит о «посещении города Чебоксар холерою», нежели о сказочной Севилье и о той теплой, благоухающей ночи, среди которой так загадочно и случайно подкашивается жизненная мощь Дон-Жуана.
— Да ты Неуважай-Корыто знаешь? — вдруг спросил меня Глумов.
— Немного знаю, а что?
— Ладно. Завтра скажу.
Он ушел, не произнеся больше ни слова. Теперь он явился.
— Идем! — сказал он, злорадно потирая руки.
— Куда? зачем?
— Говорю: идем!
Через четверть часа мы были в квартире Неуважай-Корыта. Я с любопытством осматривался кругом, ибо здесь, в этих стенах, разработывался тип той новой музыки, которой предстояло изобразить полемику Сеченова с Кавелиным. Лично Неуважай-Корыто не был композитором (он, впрочем, сочинил музыкальную теорему под названием «Похвала равнобедренному треугольнику»), но был подстрекателем и укрывателем. Он осуществлял собой критика-реформатора, которого день и ночь преследовала мысль об упразднении слова и о замене его инструментальною и вокальною музыкой. Мы застали его в халате, пробующим какой-то невиданный инструмент, купленный с аукциона в частном ломбарде (впоследствии это оказалась балалайка, на которой некогда играл Микула Селянинович). Это был длинный человек, с длинным лицом, длинным носом, длинными волосами, прямыми прядями падавшими на длинную шею, длинными руками, длинными пальцами и длинными ногами. Халат у него был длинный, обхваченный кругом длинным поясом с длинными кистями. Это до такой степени было поразительно, что самый кабинет его и все, что в нем было, казалось необыкновенно длинным.
— Вот тебе, Никифор Гаврилыч, новый адепт! — представил меня Глумов.
— Очень рад! очень рад! Мы немного знакомы, но на почве музыки покуда еще не встречались… позвольте приветствовать!
Он протянул мне обе свои длинные руки и так сжал мои в своих костлявых пальцах, что мне показалось, словно я попал в передел к самому «Каменому гостю».
— И скажу вам, — продолжал он, — что вы пожаловали очень кстати, потому что Василий Иваныч здесь.
— Василий Иваныч? кто же такой этот Василий Иваныч? — легкомысленно спросил я.
Неуважай-Корыто сначала удивился и даже откинулся корпусом назад, но потом вспомнил нечто, ударил себе по лбу и снисходительно улыбнулся.
— Да! что ж я! — воскликнул он, — я и забыл, что вы новичок! Вы знаете Мусоргского, Римского-Корсакова, Кюи — и думаете, что с вас этого будет! Но мы, батенька, — совсем другое дело! Мы так легко не удовлетворяемся! Мы не отдыхаем-с! Мы ищем, и находим-с! И находим — Василья Иваныча-с!
Сказавши это, он троекратно вздрогнул от наслаждения и начал длинными ногами шагать по длиному кабинету, ежеминутно длинными руками отбрасывая назад длинные волосы.
— Да-с! — продолжал он, — Василий Иваныч — это, доложу вам, своего рода аэролит-с! Бывает это! Бывает, что вокруг царствует полнейшее и гнуснейшее затишье — и вдруг словно камнем по лбу хватит! Это — Василий Иваныч!
— Да что за Василий Иваныч такой? откуда ты его выкопал? — заинтересовался Глумов.
— Ну, нет! Это покуда еще секрет! Он у нас еще под спудом! Вот мы его сначала выдержим, вышлифуем, а потом и отдадим Ларошам на поругание!
— По крайней мере, покажешь ты его нам?
— Нет, и не покажу. Услышать вы его услышите, а видеть — ни-ни. Вот он у меня здесь, в этой комнате, рядом. С полчаса тому назад он позавтракал и теперь спит. Вообще он ведет удивительно правильную жизнь: половину дня ест и спит, другую половину — на фортепьяно играет. Представьте себе, он никогда никакой книги не читал, кроме моих критических статей да еще полного собрания либретто, изданного книгопродавцем Вольфом!
— Но ежели он ничего не читал, то ведь умственный его кругозор…
— Должен быть ограничен, хочешь ты сказать? — Я совершенно с тобою согласен. Но мы нашли его так недавно, что ничего еще не успели сделать для умственного его развития; это придет со временем. Впрочем, дело не в том, откуда он почерпает содержание для своего творчества, а в том, что у него есть это содержание, и он относится к нему вполне правильно. Жизнь целой вселенной есть не что иное, как бесконечный контрапункт — вот исходная точка. До сих пор он поднял только один край завесы, он наблюдал только простые и несложные явления, но надобно видеть, с какою изумительною осязаемостью он их воспроизвел! Засим, когда он от простых задач постепенно будет переходить к более и более сложным, то сам собою придет и к воспроизведению бесконечного: это уж наша забота, как направить его!
При этих словах он инстинктивно оттопырил губы и испустил звук вроде трубного. Вероятно, под влиянием идеи бесконечного он вспомнил о Страшном суде.
— Он скоро проснется! Вы услышите его! — продолжал он после кратковременной остановки, подойдя к спущенной портьере и заглядывая в соседнюю комнату. — Вот он уже плюнул — верный знак, что скоро проснется!
И действительно, не прошло минуты, как мы услышали такое чудовищное зевание, что я разом перенесся воображением в зало Мариинского театра, в одно из представлений «Псковитянки».
— Каков пошиб зевоты! — воскликнул Неуважай-Корыто и вдруг ударил себя по лбу, — ба! идея!
Он подбежал к письменному столу и что-то наскоро написал на листе бумаги. Потом он взял этот лист и поднес его к моим глазам. Я прочитал: «Симфоническая рапсодия (A-dur): чиновник департамента разных податей и сборов, зевающий над чтением музыкального обозрения г. Лароша».
— Департамент разных податей и сборов уже не существует, — сказал я, — он распался надвое: на департамент окладных сборов и департамент неокладных сборов.
— Благодарю вас! ваше замечание важнее, нежели вы полагаете! Мы обязаны изображать в звуковых сочетаниях не только мысли и ощущения, но и самую обстановку, среди которой они происходят, не исключая даже цвета и формы вицмундиров. Все должно быть слажено так, чтоб никто не мог уличить нас в клевете.
В это мгновение из соседней комнаты донесся новый звук: Василий Иваныч отдувался.
— Опять идея! — воскликнул Неуважай-Корыто, снова подбегая к письменному столу.
Я прочитал: «Симфоническая идиллия (f-moll): Ной, после известного злоупотребления виноградным соком, просыпается и не понимает, что вокруг него происходит».
— Это для Василия Ивановича?
— Да, для него. Разумеется, постепенно. Сначала он обработает тему о чиновнике департамента окладных сборов, а потом и к Ною приступит. Кстати, не забыть бы! надо купить для Василия Ивановича Священную историю…
— Ты, брат, с картинками! — посоветовал Глумов.
— Господи! прости наши прегрешения! — вдруг раздалось в соседней комнате.
— Слышите! слышите! кажется, он говорит! — как-то испуганно засуетился Неуважай-Корыто.
— Да; а что?
— Он никогда… никогда не говорит! Это новость! Василий Иваныч! батюшка! что с вами?
— Му-у-у!
— Вот это — так! Он всегда выражает свои ощущения простыми звуками! Иногда это очень оригинально выходит. Однажды он вдруг крикнул: «ЫЫ!» — и что бы вы думали! сейчас же после этого сел за фортепьяно и импровизировал свою бессмертную буффонаду: «Извозчик, в темную ночь отыскивающий потерянный кнут»!
— И ты так-таки и не покажешь нам автора этой бессмертной буффонады? — упрекнул Глумов. — Господи! хоть бы глазком на него взглянуть!
— Нельзя, душа моя! Я тебе говорю: он под спудом у нас! Пускай он там, в той комнате, для нас поиграет, а мы его отсюда послушаем! Василий Иваныч! — крикнул он, — пришли господа, которые желают вас послушать! Сыграйте, голубчик! И знаете ли что: сыграйте-ка сначала «Поленьку»!
— Го-го-го! — откликнулся Василий Иваныч.
Мы сели все трое на диван: Неуважай-Корыто посередке, мы с Глумовым — по бокам. Раздался аккорд.
— Слушайте! слушайте! дишканты! заметьте работу дишкантов! — шепнул нам Неуважай-Корыто, сдерживая дыхание.
Действительно, дишканты работали сильно; Василий Иваныч необыкновенно быстро перебирал пальцами по клавишам верхнего регистра, перебирал-перебирал — и вдруг простукал несколько нот в басу.
— Это — няня Пафнутьевна! — шепотом объяснил Неуважай-Корыто.
Опять дишканты; щебечут, взвизгивают, и все словно на одном месте толкутся, и вдруг — бум! — опять няня Пафнутьевна! Бум-бум-бум! — и снова дишканты! Защебетали, застрекотали — бум! — и затем хаос… Руки забегали по всей клавиатуре от верхнего конца до нижнего и наоборот…
— Поленька поссорилась с Пафнутьевной…
Пауза. Неуважай-Корыто, не сводя глаз с портьеры, хватает нас обеими руками за рукава сюртуков, как бы желает воспрепятствовать, чтобы мы не ушли. Глумов открывает рот, чтобы что-то сказать, но Неуважай-Корыто мгновенно закрывает ему рот рукою и делает головою жест не то умоляющий, не то приказательный. Пауза длится пять минут, после чего игра возобновляется. В деле принимают участие уже только две самые верхние октавы, на пространстве которых пальцы Василия Ивановича без устали переливают из пустого в порожнее; темп постепенно замедляется и впадает в арпеджио.
— Поленька просит прощения! — чуть дыша, произносит Неуважай-Корыто.
Бум! — Пафнутьевна не прощает! Звуки сливаются; дишканты, басы, средний регистр — все смешалось. Руки Василия Иваныча аккордами забегали по клавишам… бац! кто-то всем телом сел на клавиатуру и извлек…
— Это примирение! — воскликнул Неуважай-Корыто и поднял такой гром ладонями, что можно было подумать, что они у него костяные.
— Каково? — обратился он к нам, когда в соседней комнате водворилась тишина.
— Хорошо, братец! — ответил Глумов, — только вот чего я не понимаю: почему это «Поленька», а не «Наденька»?
— Глумов! ты ничего не смыслишь! ты не понимаешь даже, что у Наденьки совсем другой музыкальный образ, нежели у Поленьки! Наденька мечтательна и сентиментальна, Поленька — бойка и игрива. Наденька никогда не ссорится с Пафнутьевной, Поленька — на каждом шагу! Наденька — f-moll, Поленька — C-dur. Неужели, наконец, это не ясно?
— Ясно-то ясно, а все-таки…
— Глумов! ты профан! Василий Иваныч! душенька! Слышите, Глумов утверждает, что это «Наденька», а не «Поленька»!
— Цырк!
— Вот видишь — он рассердился! И он не будет больше играть! Нельзя так, душа моя! Ведь он художник! он очень на эти вещи чувствителен!
— Цырк! цырк! цырк! — раздавалось за портьерой.
— Теперь — кончено! теперь — он ни за что не станет играть! А кто виноват? Нельзя так, мой друг! Ежели ты ничего не смыслишь в музыке, то это тем меньше дает тебе прав оскорблять человека… художника!
— Господи, да разве я намеренно? разве я знаю ваши обычаи? Ты бы сказал, что сомнений не допускается! Хочешь, я у него прощения попрошу?
— Хорошо, только это еще вопрос! Он художник, а для художника раскаянье — еще не все! Не в том дело, что ты просишь забыть о своей опрометчивости, а в том, что тут есть прискорбный факт, которого уничтожить нельзя! Это не какой-нибудь Мендельсон-Бартольди, у которого («Гебриды») нельзя понять, море ли плещет или пьяные матросы покачиваются (однако и у него есть уже представление о «качке»! — прибавил он, приложив длинный палец к длинному лбу), — это Василий Иваныч… понимаешь? Тот Василий Иваныч, у которого всякий звук так типичен, так ясен и реален, что он имеет полное право требовать, чтоб слушатель, без всякого предуведомления, прямо, сказал: да! это она! это «Поленька»! И ежели нашелся слушатель, который этого не сказал, ежели…
— Постой! я все-таки попробую! может быть, он и простит! Василий Иванович! батюшка! — обратился Глумов по направлению к соседней комнате, — по глупости ведь я! Ну, какая же это «Наденька», ежели вы говорите, что это «Поленька»! Простите же, голубчик, да сыграйте еще что-нибудь!
Но Василий Иваныч ни одним звуком не ответил на мольбу Глумова. Мы приняли бы это молчание в неблагоприятную сторону, если б Неуважай-Корыто не успокоил нас.
— Не цыркает — значит, смягчается! — шепнул он, — самолюбив он у нас — страшно! У всех этих художников раны какие-то — точно под Севастополем они изувечены! Прикоснись только — беда! Просите, просите еще!
— Ты-то что ж стоишь! проси! — толкнул меня Глумов.
— Василий Иваныч! — начал я, — за что же я-то наказан! Я-то, собственно, ведь ни на минуту даже не усумнился, что это «Поленька»!
— Му-у-у! — слабо раздалось по ту сторону портьеры.
— Ну, вот! слава богу! отлегло! — более знаками, чем словами, объяснил нам Неуважай-Корыто и, обратившись к портьере, громко прибавил: — Василий Иваныч! милейший! И в самом деле! сыграйте-ка… ну, что бы такое? ну, вот хоть ваш «симфонический tableau de genre»: «Торжество начальника отделения департамента полиции исполнительной по поводу получения чина статского советника»… сыграете?
— Го-го-го!
Мы опять в том же порядке уселись на диван; но Неуважай-Корыто выпятился несколько вперед и простер перед нами руки.
— Начинается! — шепнул он.
Tremolo в нижнем регистре, потом tremolo в среднем регистре, наконец tremolo в верхнем регистре. Pianissimo, piano, sforzando, forte, fortissimo, потом diminuendo, piano, pianissimo — раз десять одно и то же.
— Это он мечтает. Что лучше, — спрашивает он себя, — чин статского советника или орден святыя Анны второй степени?.. Заметьте эту фразу: святы-ы-ы-ыя Анны-и! Заметьте, как он вдруг обрубил: Анны-и!
Василий Иваныч пальцем ударяет в нескольких местах по клавишам — это «переход». Затем следует трель, которая попеременно проделывается во всех регистрах и из-за которой смутно выступает какой-то мотив. Не то «во лузях», не то «по улице мостовой», не то «шли наши ребята»…
— Он охорашивается перед зеркалом… слышите: ззз? — Это щетка по голове ходит… А вот и песни… слышите, русская песня раздается? — это он детство вспоминает… Он— сын попа… слышите эту трель в дишканту — это ви́ца! Ви́ца свистит!
Минутная пауза («он идет в департамент!»). Несколько раз сряду повторяется звук, образуемый двумя соседними клавишами, ударяемыми одновременно («он пришел в департамент и снимает калоши… слышите, шлепают!»), потом рррр… («это сторож Михеич харкает!») и вдруг — бум! бу-ми-бум! бум-бум!
— Директор звонит! — в ужасе шепчет Неуважай-Корыто.
Coda; отдаленные звуки альпийского рожка и тирольской песни… чок-чок-чок!
— Директор целует его!
Sforzando, forte, fortissimo… Дишканты звенят, средний регистр подзванивает, басы рокочут… Общий торжественный гимн — во вся. Раздаются несколько аккордов «Славься!» — и утопают в невыразимой трескотне.
— Слышите: какофония? — это поздравляют его разом все прочие начальники отделения, а также сослуживцы и подчиненные. Слышите: оттолчка в басу? — это экзекутор! Но так как все они не имеют ни малейшего понятия о правильной постройке звуковых сочетаний, то понятное дело, что хор выходит, как говорится, кто в лес, кто по дрова…
Первая часть кончена. После пятиминутного антракта начинается вторая часть. Я не буду, впрочем, следить за игрой Василия Иваныча, а поделюсь с читателем только объяснениями Неуважай-Корыто.
— Он возвращается домой и передает жене о случившемся. Allegro energico, в котором выражается его признательность начальству. Слышите! слышите! дишканты! дишканты! Это дети веселой гурьбой врываются в комнату и поздравляют отца. Но вот и дети, и жена уходят, он остается один. Чу! звуки пастушьей свирели! Lentamente con tranquilezza. Опять отзывается прошлое. Воспоминания плывут, плывут… Серый дом, нетопленная печь, отец — поп, мать — попадья, на столе — полштоф сивухи… Слышите: буль-буль — это они наливают вино… А на дворе — он! Он засучил рубашонку и шлепает по грязи… шлеп! шлеп! шлеп! Трах! полетели брызги — он упал в лужу… слышите: в дишкантах! — это брызги! — Вот он барахтается, а в это время издали доносится удалая песня дьячка, возвращающегося из кабака… Ближе, ближе — и вот…
Целый гром льется на нас из-за портьеры. Я прислушиваюсь и узнаю «Вниз по матушке по Волге»… Но под пальцами Василия Иваныча она скорее похожа на «херувимскую» Львова, нежели на разгульную бурлацкую песню.
— Чи-рик! Чи-рик! — продолжает объяснять Неуважай-Корыто, — allegro giocoso… Это поздравляют департаментские сторожа. Слышите, как отбивает нижнее do, — это Михеич; а там вверху, словно брызгами, вторит ему si-bemol — это разливается директорский курьер Семенчук… Пятирублевая бумажка — заметьте, как мимоходом удивительно обрисован Дмитрий Донской! — полагает предел этим восторгам. Общий гимн, на манер «Тебе бога хвалим»…
Вторая часть кончена.
Часть третья. Содержание ее: пирушка по случаю получения чина статского советника. Подают пирог («с сигом и с капустой! слышите! слышите! как запахло! слышите, как звякают ножи и вилки, как сыплются на тарелки крошки сига, как чавкает экзекутор Иван Михайлыч!»). Чи-рик! чи-рик! Agitato. Входит отставной, похожий на старинной формы подсвечник, губернатор, находящийся двадцать лет под судом и пользующийся лишь половинной пенсией. Выпив предварительно рюмку очищенной, он начинает «рассказ» о претерпенных им бедствиях. Двадцать лет, говорит он, я был губернатором и двадцать же (tremolo) лет нахожусь под судом! Самое дело о моих гнусных преступлениях пропало в сенате, — а меня все не реша-а-а-а-а-ют, и я все еще нахожусь на половинной пенсии! И вот теперь, вместе с многими другими генералами, я состою в качестве загонщика при Самуиле Соломоныче Полякове! («Заметьте этот рассказ! он весь держится на одной ноте, то замедляемой, то ускоряемой!») — Милости просим, ваше прево-о-о-о-сходительство! — говорит виновник торжества, — хоть я и забыл вас пригласить, однако в такой день и для незваных кусок пирога найдется! («Заметьте эту фразу: «х’ть я и забы-ы-ы-ыл ва-ас пригл’сить»… а какова язвительность этого sol-dièze![12] заметьте, как отодвигаются стулья, чтобы дать место новому гостю… тррр… тррр… изумительно!») Опять еда; ножи звякают, крошки пирога сыплются. Подают шампанское. Василий Иваныч по ту сторону, а Неуважай-Корыто по сю сторону портьеры подражают губами хлопанью пробок. Входит еврей. «Насе вам поцтение! — подпевает Неуважай-Корыто, — кольцы, броски хороси! и помада, и духи!» («Понимаете? это, собственно говоря, полемический прием! Это Мендельсон-Бартольди и Мейербер… жиды!») Жида обступают, торгуются с ним и в заключение показывают свиное ухо. Жид убегает. Общий хор (alla capella), оканчивающийся приглашением на преферанс.
Четвертая часть. Иван Михайлыч объявляет семь в червях. Отставной губернатор подсматривает в карты и, видя, что Иван Михайлыч принял туза пик за туза червей, провозглашает: «Вистую и приглашаю — в темную!» Мгновенно обнаруживается роковая ошибка. Трио: он (я) без трех! — к которому незаметно присоединяются голоса прочих. Тррах! — раздается раздирающий уши звук…
— Конец еще не доделан, — объясняет Неуважай-Корыто, — мы даже не знаем, следует ли остановиться на четвертой части или написать еще с десяток частей. Некоторые из «наших» говорят, что надо ограничиться четвертою частью, но Василий Иваныч, а вместе с ним и я полагаем, что необходимо продолжать. Не забудьте, что вслед за праздником у виновника торжества должно последовать приглашение от Ивана Михайлыча, у которого, кстати, жена родила, потом приглашение (на селедку) от находящегося под судом губернатора, где гости уличают хозяина в нечистой игре в карты; потом наш герой едет благодарить директора (который знакомит его с своею женою), потом — министра, и наконец, поблагодарив всех, убеждается, что ему ничего больше не остается, как благодарить создателя. Ежели ограничиться только четырьмя частями, то придется все это оставить. Не правда ли, жалко?
— Да еще как жалко-то! Не оставляй! Слушай! у него поясница… надежная?
— Поясница у него — удивительная!
— Пусть продолжает! пускай пишет все десять частей!
— Василий Иваныч! голубчик! вот и Глумов на нашей стороне! он тоже говорит, что надо продолжать!
— Му-у-у!
— Итак, будем продолжать! — говорил Неуважай-Корыто, весело потирая руки, — а теперь, господа, не хотите ли чего-нибудь легонького, буффонаду какую-нибудь… например: «Извозчик, отыскивающий в темную ночь потерянный кнут»?
Но мы уже ничего не слушали. Мы наскоро простились с гостеприимным хозяином, наскоро накинули шубы на плечи и выбежали на улицу.
Некоторое время мы шли подавленные, ошеломленные.
— И ты не хочешь понять, отчего нынче так много самоубийств! — вдруг обратился ко мне Глумов. — Вот хоть бы этот самый Василий Иваныч… как освободится он от этих звуков, которые со всех сторон осаждают его, которые, как он ни беги от них, все-таки настигнут его? Одно средство… прорубь!
III
На этот раз Глумов пришел в настроение самообличения.
— Да, брат, — сказал он, — все мы только по наружности об каких-то новых порядках разглагольствуем, а разбери-ка хорошенько: ведь мы только и дышим тем, что в нас от старой закваски осталось, да еще теми лазейками, которые эта закваска отыскивает для себя в так называемых новых порядках.
— Не чрез край ли ты, однако ж, хватил? — возразил я, — ведь жить тем, что мы прячем, в чем не можем открыто сознаться — право, дело довольно трудное. Как бы ни сильно говорила в нас старая закваска, мы все-таки чувствуем, что обнаруживать ее не совсем для нас удобно: как же жить, опираясь на такой сомнительный материал? Да и сама формальная обстановка современной жизни так уж сложилась, что волей-неволей приходится оставить старую закваску.
— Что касается до того, что мы не имеем смелости открыто обнаруживать живущую в нас старую закваску, то это обязывает нас совсем не к тому, чтобы расстаться с нею, а только к тому, чтобы действовать исподтишка. Поэтому для своего прикрытия мы выдумали целую бессодержательную фразеологию; мы изобретаем каждый день новые обстановки, в которых новое представляют, собственно, только формы; одним словом, потихоньку блудим и пакостим в руку старине. И ежели все это, взятое вместе, действительно представляет очень сомнительный жизненный материал, то усилия, которые мы употребляем для ограждения его от погибели, все-таки доказывают, что он нам дорог, несмотря на свою негодность. А что касается до влияния формальной обстановки современной жизни, то само собой разумеется, что я не полезу в уездный суд с просьбой, коль скоро знаю, что уездные суды упразднены. Это так, это влияние я признаю.
— Послушай! ведь это у тебя уж привычка такая — все в странном свете представлять. Не одни уездные суды, а кой-что и другое. И даже не кой-что, а очень многое. Разумеется, старики, вот как мы с тобой…
— Да я об стариках-то, собственно, и говорю, потому что покуда они одни и стоят на виду. Что будет с подрастающим поколением, как будет оно действовать и какие чувства проявлять — этого я не знаю, хотя приблизительно и могу догадываться, что оно будет лучше, да и ему будет лучше. Я говорю о деятелях минуты — кто эти деятели? Ведь это, брат, мы с тобой, мы, пропитанные насквозь преданиями крепостного права, мы, для которых упразднение старых судов, например, означает только, что отныне до такой-то суммы человек мировому судье подсуден, а свыше этой суммы — окружному суду.
— Нет, с этим я положительно согласиться не могу. Не говоря уже о том, что, кроме нас и наших сверстников, в числе современных деятелей найдется достаточно и молодых людей, почти чуждых преданиям крепостного права, я утверждаю, что даже мы, старики, — да, и мы изменились к лучшему. Скажу, например, про себя. Конечно, отмена крепостного права встречена была мною с сочувствием преимущественно с точки зрения идеальной, как величайшая и либеральнейшая мера нашего времени; конечно, личные матерьяльные мои интересы были настолько задеты ею, что я… ну да, я сознаюсь в этом… я не мог не почувствовать последствий ее… Но ведь в человеке есть ум, душа моя, ум, который доказывает, что в известных случаях возврата не может быть. Я понял, что личное чувство мое должно подчиниться… я убедил себя, я делал в этом смысле усилия…
— И успел в этих усилиях?
— Да, успел.
— И никогда тебя не подмывало дать подножку новым порядкам? Никогда, даже инстинктивно, ты не старался утянуть что-нибудь, устроить какую-нибудь возможность… ну, хоть возможность тыкать вперед руками?
— Никогда!
Глумов посмотрел на меня не то проницательно, не то с укором, как смотрят на человека, от которого не ждали, чтоб он солгал.
— Ну, исполать тебе! — произнес он, — а вот я, постепенно об себе размышляючи, знаешь ли, на какое открытие я набрел?
— На какое?
— А на такое, что и до сих пор, несмотря ни на какие новые порядки, нет для меня удовольствия выше, как на травлю смотреть.
— Как так?
— Да так вот. Люблю, братец, видеть, как связанного человека бьют. Нет для моего нутра усладительнее этого зрелища! Искажения человеческого лица, корчи, подавленные вздохи… прелесть!
— Да где же ты ухитряешься нынче отыскивать подобные зрелища?
— Везде, голубчик, на каждом шагу; а чтоб не захватывать слишком широко, ограничимся хоть камерою суда.
— Помилуй! отправление правосудия…
— Отправление правосудия — само собой, а травля — сама собой. В том-то и вещь, душа моя, что отправление-то правосудия интересует меня на золотник, а от травли — у меня дыхание в зобу спирается. И я тоже думал, как крепостное-то право рухнуло: ну, думаю, пропали мы теперь! Теперь и досугов наших девать нам некуда, потому что отныне все на тонкой деликатности пойдет. И вдруг меня словно озарило: се́м-ка на уголовное судоговорение схожу. Пришел — и духом обновился: так на меня из старой кладовой и пахнуло. Боже ты мой! как они его били! Сперва вышел один молодой человек — и с маху по щеке ударил; потом разбежался другой молодой человек — и вырвал клок волос; потом выступил развязным шагом третий молодой человек — и запустил живого ежа в глотку; четвертый молодой человек, ради шутки, встал сбоку — и облил помоями. Бойко, весело, остроумно, с полной уверенностью в безнаказанности… ах, молодые люди!
Я молча выслушал эту диатрибу и некоторое время раздумывал, что бы такое возразить. Мысль Глумова поражала странностью, почти неожиданностью. Я знал очень хорошо, что в современном уголовном судопроизводстве действуют представители так называемых «сторон», которые и устраивают промеж себя обвинительно-защитительный турнир, но чтобы можно было по этому случаю набрести на мысль о «травле» — это и в голову мне не приходило. Поэтому разоблаченье Глумова произвело на меня отупляющее впечатление. Проверяя это впечатление, я не мог, впрочем, не сознаться сейчас же, что и во мне таится какое-то словно бы болезненное пристрастие к современному русскому уголовному процессу. Тем не менее до сих пор я старался объяснить себе это явление некоторыми сочувственными мне формами, в которые этот процесс облечен: публичностью, скоростью, равноправностью обвинения и защиты, наконец, присутствием присяжных заседателей, выражающих живую общественную совесть. И вот является человек, который говорит мне: не то! совсем не отправление правосудия тебя занимает, а травля! Конечно, Глумов преувеличивает, но почему же, однако, когда я прочитывал стенографические отчеты, например, процессов супругов Непениных или игуменьи Митрофании, у меня то и дело вырывались восклицания: «молодец!», «хорошенько его!», «так его, так… катай!» Какое отношение имели эти восклицания к «отправлению правосудия»? Не говорило ли во мне в этом случае, напротив, то животное чувство травли, которое заставляет человека сосредоточивать внимание исключительно на защитительно-обвинительном турнире, совершающемся по поводу процесса, а не на содержании самого процесса или на предполагаемом исходе его?
— Да, брат, люблю видеть, как связанного человека бьют! — продолжал между тем Глумов, как бы отвечая на мои тайные размышления, — да ведь и вообще вся наша публика это любит и только иезуитствует, ссылаясь на какой-то либерализм. Почему из всех новшеств современной жизни она вполне примирилась только с преобразованным уголовным судопроизводством? Почему ко всему прочему она отнеслась с легкомыслием, с тревогой и даже с желанием подставить ножку, а к публичной уголовщине стремится с ненасытной жадностью, и ежели по временам и поварчивает, то потому только, что суды-де воров и убийц слишком часто оправдывают: нужно бы их, канальев, в три кнута! А потому, мой друг, что только уголовная реформа не произвела в русском человеке внутренней ломки, что она одна не нарушила его инстинктов, одна дозволила ему остаться самим собою, то есть тем же любителем травли, каким он всегда был.
— Душа моя! — собрался я наконец с духом, — очевидно, ты смешиваешь травлю с судоговорением и в тех спасительных обвинительно-защитительных пререканиях, без которых немыслимо произнесение правильного приговора, видишь…
Но он только махнул рукой, словно бы отогнал докучливую муху, и продолжал:
— Знаешь ли ты, что я не пропускаю ни одного заседания, в котором есть надежда услышать, как связанному человеку кинут публично в глаза, что он вор и злодей; что он был таковым в утробе матери и пребудет таковым до могилы; что он попрал законы божеские и человеческие; что он святотатственной рукой подорвал основы, на которых зиждется общественность; что он оскорбил человеческую совесть; что украденный им рубль вопиет к небу; что нужно немедля, сейчас же, сию минуту отсечь этот омерзительный, гангренозный член, дабы оградить общественный организм от ежечасно угрожающего ему разложения! Знаешь ли, что, слыша эти горячие слова, я чувствую, что кровь бьет в голову, что еще одна минута, еще одно обвинительное усилие — и я зарычу, как скотина? Знаешь ли ты, что мне даже этого мало, что я все газеты перечитываю, чтобы быть, так сказать, очевидцем всякого удара, наносимого связанному человеку по всему лицу нашего обширного отечества?
— Воля твоя, а ты на себя клеплешь! — прервал я, — ты вообще человек неумеренный в выражениях, и вот…
Но он, опять-таки не слушая, продолжал.
— И никогда, — говорил он, — зрелище травли не было сопряжено с такими удобствами, как теперь. И прежде русский человек любил взглянуть, как бьют связанного человека, но он делал это келейно, где-нибудь на конном дворе, а под конец, когда уже стали показываться признаки освобождения, то начал понимать, что такого рода зрелища даже не безопасны. И прежде почтеннейшая публика охотно смотрела на развязку уголовной драмы, в виде торговой казни на площади, но при этом она вынуждалась вытерпеть множество неудобств: спозаранку встать, стоять и ждать на открытом воздухе, подвергаясь неблагоприятным атмосферическим влияниям, видеть обнаженную спину осужденного, наблюдать, как плеть, свистя в воздухе, симметрически укладывает один рубец подле другого, пока не образуется сплошной кровавый полумесяц, и проч., и проч. Все это воздерживало от зрелищ, налагало на охотников узду. Теперь это дело обставлено удивительнейшим комфортом. Утром ты встаешь в свое время, не торопясь пьешь чай, прочитываешь газету и в урочный час отправляешься в суд. Там ты в теплой комнате, сидишь на скамье, даешь своему телу то положение, какое находишь для себя удобнейшим, ищешь в толпе знакомых, рассуждаешь, споришь, шутишь. Тсс… вдруг все замерло! Это он… Это «связанный человек»! Он еще не осужден, он предполагается еще невинным, но по унынию, разлитому в его лице, ты замечаешь, что он смутно о чем-то догадывается, нечто предчувствует. И точно: подожди час-другой, и по тому, как он замечется и скорчится на скамье своей, ты убедишься, что самые горькие его тревоги были ничто в сравнении с огорошившею его действительностью. А! ты еще не осужден! ты еще предполагаешься невинным! Так вот же тебе, вот! вот! вот!
— Но надобно же, чтоб общество в лице…
— Постой! знаю я и «общество», и «в лице» — все знаю. Дай кончить. Корчится «связанный человек», а между тем ты не видишь ничего режущего, ничего бьющего в глаза, ничего такого, что могло бы видимым, осязательным образом быть причиной этих корчей. Перед глазами твоими нет ни обнаженной спины, ни кровавого полумесяца, ничего такого, что некогда заставляло «даму приятную во всех отношениях» опускать стыдливо глаза. Теперь она может дать волю и зрению, и слуху, потому что действующим лицом в новейшей травле является не плеть, а психология. Под действием ее обвиняемый (не обвиненный, а обвиняемый!) обливается потом, бледнеет, краснеет, бросает то умоляющие, то дурацки-угрожающие взгляды… «Что, если этой психологии поверят? — мерещится ему, — что, если мой защитник в ответ на эту обвинительную психологию не выдумает такой же защитительной психологии?» А ты, едва сдерживая дыхание, не пропускаешь ни одного моментального подергиванья мускулов лица, которое обличает разнообразные нравственные судороги, его обуревающие, — и тебе не стыдно, и ты не опасаешься, что тебя уличат в зверских инстинктах, как уличали (хоть изредка, да уличали!) наших отцов, когда они злоупотребляли помещичьей властью. Вот видишь: прежде все-таки хоть особенный вид преступления был, называвшийся «злоупотреблением помещичьей власти» и именно означавший неумеренную страсть к травле, а нынче даже и этого нет. Да и кому же, в самом деле, придет на ум выдумать такой вид преступления, который назывался бы «злоупотреблением хождения в суды для присутствования при уголовных судоговорениях»?
Он остановился наконец, чтоб перевести дух.
— Ну, вот, видишь ли, — поспешил я воспользоваться этой паузой, — сам же ты говоришь, что нет ни обнаженной спины, ни крови, и хоть, по словам твоим, все это с избытком возмещается психологией, но я убежден, что внутренно ты все-таки согласишься, что тут есть разница…
— Разница, разумеется. Во-первых, психология казнит обвиняемого, не выжидая его осуждения, а во-вторых, она принимает в расчет брезгливость «дамы приятной во всех отношениях» и освобождает ее от обязанности выказывать хотя внешние признаки стыда. Разница капитальная.
— Любезный друг! я не об даме приятной во всех отношениях говорю: и ей, и тебе вольно присутствовать или не присутствовать при уголовном судоговорении. Но я утверждаю, что психология, как средство разобраться в многоразличии признаков, сопровождающих преступление, есть все-таки прогресс сравнительно с тем действием дикого самовластия или уединенной канцелярской казуистики, которые еще так недавно творили суд и расправу по всему лицу земли русской.
— И которые… впрочем, не будем вдаваться в полемику с «временами возрождения»… Ты ошибаешься, мой друг! Психология, в смысле орудия травли, не только не прогресс, но шаг назад. Она менее убеждает, нежели плеть и пощечина, и больнее уязвляет, ибо захватывает не только тело человека, но и его внутреннее существо. Даже предки наши, вообще не большие психологи, понимали это и охотно допускали вмешательство психологии в тех случаях, когда нужно было совершить что-нибудь действительно зверское, поражающее.
— Надеюсь, что ты не докажешь этого!
— Не надейся. Разумеется, я не об тех временах говорю, когда наши предки были чистыми дикарями, когда они, вместе с татарами, печенегами, самозванцами и прочими охочими людьми — их же имена ты, господи, веси! — предавали огню и мечу Россию. Тогда психологии действительно не существовало. Подвиги этих людей были грубы, составляли, так сказать, modus vivendi[13] тех времен и свидетельствовали не о преднамеренной жестокости, а о молодечестве и благородной жажде славы. Но как только нравы начали смягчаться, так тотчас же отцы наши догадались, что без психологии обойтись нельзя, и от огня и меча перешли к «застенку» и «дыбе». Ведь допрос-то с пристрастием немыслим без участия психологии!
— Гм!.. хождение по спицам, вздержка на дыбу… хороша психология!
— Не одна вздержка, а с аккомпанементом… с аккомпанементом психологии, милый друг! «Давно ли ты скверный свой замысел задумал? И кто тебе таковое противное дело внушил? и кому ты оные скверные слова говорил? И во время тех разговоров не было ли кого еще?» — что это, как не психология? Люди, чуждые психологии, не допрашивают: они просто бьют — и дело с концом. Что психология застенка была недостаточно упорная и недостаточно белая — с этим я, пожалуй, соглашусь; но причина ее слабости заключалась не в ней самой, а в тесноте арены и в недостатке публичности. Отцы наши сознавали себя слишком властными господами, чтобы доводить истязание внутреннего человека до конца, при помощи одной бескровной, белой психологии. Их раздражало всякое препятствие, им хотелось поскорее… Отсюда внезапные переходы от психологии к дыбе и спицам. «А! психология-то, видно, не пронимает тебя, так попробуй-ка по спицам пройтись!» — вот как рассуждали они. Но это нимало не устраняло идеи об уместности психологических приемов, которые и призывались на помощь во всех случаях, когда простое наказание по телу оказывалось бледным и сознавалась необходимость более утонченного уголовного фестиваля.
Итак, вот оно, вот откуда ведет начало психология! — думалось мне, покуда Глумов разъяснял свою теорию родства психологии с пыткой. Прекрасно; но почему же, однако, вмешательство психологического расследования в сферу телесных истязаний все-таки повсюду принимается как признак смягчения нравов? Почему даже этот слабый проблеск деятельности человеческой мысли представляет уже успех сравнительно с той темнотой, которая облекает простые, бессознательные заушения? Не потому ли, что мысль имеет такие разлагающие свойства, перед которыми все неустойчивое, дрянное обязывается непременно сойти со сцены и пропасть? Вот она как будто на первых порах и скрасила пытку, но, в сущности, уничтожила ее. А затем, конечно, поведет свою разлагающую работу и дальше. Уж и теперь она изобрела чистую, бескровную, белую психологию, а, может быть, со временем она же эту самую белую психологию… ну, впрочем, там еще что бог даст! Правда, Глумов говорит, что эта белая психология и есть самая язвительная… ну, нет, это он врет! Конечно, она уязвляет не тело, а внутреннее существо человека, да как же иначе поступить? Ведь надо же как-нибудь выяснить, выйти из лабиринта противоречий, которые, как облако, окутывают преступление? Да и притом ежели существует психология обвинительная, то рядом с нею существует и психология защитительная, а следовательно, du choc des opinions (знаю я, что Глумов недолюбливает этих афоризмов, да и без них, однако, нельзя!)… С одной стороны, психология обвинительная, с другой — защитительная… нашла коса на камень! чья-то еще возьмет! А между тем у меня рубль украли — надо удовлетворить и меня. Конечно, ущерб не бог знает какой, но для меня, как для человека развитого, важно не рубль отыскать, а то, чтобы идея правды и справедливости была отомщена. Ни я, ни другие не знают, кто украл мой рубль, а между тем открыть и обличить укравшего — необходимо, потому что иначе почва ускользнет у нас из-под ног и никто не будет знать, где кончается приобретение и где начинается воровство. А как же обличить без психологии, как доказать подозреваемому, что никто другой не может быть вором, кроме его, не покопавшись в его внутренностях, не выяснив, перед лицом почтеннейшей публики, его всегдашнее нравственное тяготение к воровству? Не спорю: в этом случае могут быть недоразумения очень прискорбные. Может случиться так, что сперва обругают человека, припомнят, что он, еще в школе будучи, колбасу у товарища украл, а потом окажется, что в данном случае он совсем не виноват. Но, во-первых, errare humanum est,[14] а во-вторых, «ошибка в фальшь не ставится». Это не мы выдумали, это сама мудрость веков говорит. А главное все-таки: как иначе поступить? Я уверен, что Глумов не ответит на этот вопрос. Вот то-то и есть! Все эти желчные люди, страдающие недугом самообличения, не довольные ни собой, ни другими — все они таковы! И то им не нравится, и другое не по нутру, а спроси-ка: каким образом в сем случае поступить? — они сейчас и в кусты!
— Уж на что, кажется, было аляповато, грубо и по́шло наше крепостничество, разбросавшееся по деревенским захолустьям и медвежьим углам, — продолжал умствовать Глумов, — а и оно было не чуждо психологии, как средства поставить травлю на известную высоту. Не говоря уже о помещиках, даже между дворовыми встречались психологи очень искусные. У нас был, например, повар Кузьма, который собаку Полкана избрал предметом своих психологических исследований. Он не бросал в него мимоходом осколками кирпича, не ошпаривал зря кипятком, как обыкновенные дворовые — не психологи, но создал целый мартиролог, в основании которого лежала эксплуатация наклонностей и инстинктов Полкашки, или, говоря высоким слогом, истязание его внутреннего пса. Задача, впрочем, была не трудная, потому что у Полкашки, что у малого ребенка, все инстинкты спали, кроме непреодолимого стремления к еде. И Кузьма воспользовался этим инстинктом широкой рукой. Каждый день, во время поварской работы, он по целым часам беседовал с Полкашкой, ласкал его, обольщал зрелищем всевозможных мясных обрезков, заставлял умиляться, взвизгивать, вилять хвостом, и вот, в тот момент, когда кушанье было уже отпущено, когда Полкашка уже с уверенностью взирал на кучу костей, красовавшуюся на столе, — Кузьма мгновенно его ошпаривал, а кости и обрезки выбрасывал другим собакам. И что всего замечательнее, несмотря на ежедневное повторение этой проделки, Полкашку так и тянуло к Кузьме. Каждое утро, в один и тот же час, он являлся на кухню, садился на задние лапы, присутствовал при варении и жарении, облизывался, вилял хвостом, и каждый же день, без перемены, в один и тот же час, получал свою порцию кипятка. Надеюсь, что это была психология!
— Но надеюсь также, что ты возмущался… этою психологией!
— Не помню: я был в то время слишком мал, чтоб отдавать себе отчет в получаемых впечатлениях. Но я знаю наверное, что подобная психология имела в наше время громадное воспитательное влияние. Кузьма был воистину праотцем нынешней уголовной психологии, хотя совершил свою воспитательную задачу в безвестности и исчез со сцены никем не оплаканный. Но я-то ведь помню его, и потому каждый раз, как мне приходится присутствовать при современном обвинительно-защитительном турнире, — всякий раз мне словно живой представляется повар Кузьма, ведущий неустанную психологическую игру с Полканом.
— Зачем же ты ходишь смотреть на эти турниры, коль скоро они для тебя омерзительны?
— То-то и есть, что не омерзительны. Разумом-то я, пожалуй, и смекаю, что зрелище травли не есть человека достойно, да нутро вот унять не могу. Ведь ни домашнее воспитание, ни публичная школа просто-напросто не дали нам никаких идеалов, — чем же тут жить? С детских лет нами управляло лишь представление о дозволенном и недозволенном, и так как понять, почему одно называлось дозволенным, а другое недозволенным, было очень трудно, то весьма естественно, что дисциплина являлась единственным средством, с помощью которого можно было регулировать поведение молодых людей. Дисциплину эту мы ненавидели и употребляли все усилия, чтоб освободиться от нее. К чему же привели нас эти усилия? — с одной стороны, к лицемерию, с другой — к подсматриванью и наматыванью на ус. Мы рано подсмотрели, что в действительной жизни первое место занимала травля. И она нравилась нам, потому что представляла нечто положительное, широкое, возбуждающее, тогда как дисциплина вся состояла из недомолвок. Вспомни, душа моя, что даже наименее испорченные из наших сверстников — и те только теоретически тяготились видом «связанного человека». На практике же «связанный человек» до того вошел в обиход, что не внушал ничего, кроме инстинктивных проявлений, свойственных тому или другому темпераменту.
— Заметь, однако, что именно эти-то проявления и сделались невозможными в настоящее время.
— Уступаю. Действительно, нынче сфера заушений материальных значительно сузилась. Но, повторяю, все это отлично заменено психологией. Последняя до такой степени усовершенствовалась, что человек уже не чувствует нужды ни в материальной пытке, ни в заушениях. Она сама по себе представляет высшую пытку, и я уверен, что человек умственно развитый охотнее предпочтет даже незаслуженное наказание, лишь бы не заставляли его проходить через психологию, составляющую обязательное преддверие к краткому «да, виновен» или «нет, невиновен», изрекаемому старшиной присяжных заседателей.
— Воля твоя, а тут есть что-то недосказанное. Положим, что та психология, о которой ты говоришь, имеет свои неприятные стороны, но ежели это единственно доступное средство обличить, доказать…
— В том-то и дело, что психология только делает вид, что доказывает, а в действительности ничуть ничего не доказывает. Она только для формы признает своим исходным пунктом суровый факт, называемый поличным, но на деле сейчас же оставляет его и сочиняет по поводу его роман, роман косвенных улик, который по очереди принимает то обвинительный, то защитительный характер. Призывают, например, в свидетели прошлое обвиняемого и говорят: на основании таких-то и таких-то данных, подтвержденных достоверными свидетельскими показаниями, письмами, журналом подсудимого, его отрывочными, невольно вырвавшимися признаниями, — вы должны считать это прошлое не просто косвенною уликою, но уликой, имеющей почти характер поличного. С помощью психологических приемов это сделать очень удобно. Психология или искусно скрывает те первоначальные положения, из которых она выходит, или же предлагает их как нечто непогрешимое и обязательное. Затем она начинает группировать факты: одни оставляет в тени, другие подводит ближе к свету. В результате получается очень тонкая, почти кружевная работа, которая может нравиться, но в которой никак нельзя отличить, что правда и что налгано. Но, должно быть, налгано достаточно, потому что следом приходит другой психолог и начинает именно с того пункта, как и его предшественник. Этот новый психолог тоже имеет в запасе целый роман, темою которого служит нравственное перерождение. «Я, — говорит он, — нимало не отрицаю того интереса, который могут иметь экскурсии в прошлое обвиняемого, и с наслаждением следил за превосходным исследованием моего почтенного сопсихолога. Но в данном случае превосходная работа его оказывается сделанною втуне. Дело в том, что незадолго до того момента, когда произошла кража со взломом рубля, составляющая предмет настоящего судоговорения, в подсудимом совершился полный нравственный перелом, который делает немыслимым всякое предположение о влиянии на него его порочного прошлого. Он тосковал, пил, а многие даже слышали, как он проклинал час своего рождения. Мой сопсихолог коснулся этого факта лишь слегка и для того только, чтобы видеть в нем признак нераскаянности. Я же не только не вижу здесь нераскаянности, но, напротив того, усматриваю несомненные признаки боли, той сердечной боли, которой не может не ощущать человек, решившийся окончательно рассчитаться с заблуждениями прошлого и идти по новой стезе». Затем опять начинается группированье, опять одни факты освещаются, другие оставляются в тени, словом сказать, развивается целый роман… Или вот тебе еще один пример: человек совершил убийство. Он сам уже признал себя убийцей, но для психологии важно определить — и Христос ее знает, зачем это так важно для нее! — с обдуманным ли намерением или без обдуманного намерения совершено преступление. Прежде всего она обращается к орудию преступления, которым оказывается тяжелая трость с налитым свинцом набалдашником. Этою тростью преступник прямо угодил в темя своей жертве. Вопрос: метил ли обвиняемый в темя или это сделалось случайно, помимо его воли? Подсудимый говорит на это: «Нет, я не целился, я очень хорошо помню, что бил его как попало, срывая свой гнев и не имея никакой мысли о нанесении смертельного удара». Но перед этим тот же подсудимый, относительно множества обстоятельств, сопровождавших совершение преступления, показал, что совершенно ничего не помнит. Отсюда повод для психологической игры. Один психолог говорит: «Как! вы это помните? вы забыли вот это, вот это, вот это, вы утеряли из памяти все несущественные факты и помните только один факт, тот, который помогает вам выпутаться из беды!» На это другой психолог возражает: «То, что кажется странным моему сопсихологу, в сущности представляется явлением очень обыденным в области психологии. Душевный мир есть мир пробелов, по преимуществу, и хотя существование ассоциации идей не подлежит сомнению, но я думаю, что величайший из психологов, Шекспир, — и тот отказался бы соследить ее в таком сложном, необычайном случае. Он сказал бы: «Да, подсудимый все забыл; он только это помнил!» Представь себе теперь положение присяжных при таком судоговорении! что могут они вынести из этого разговора, кроме мысли, что подсудимый с обеих сторон оболган: и в видах обвинения, и в видах защиты. А еще лучше: представь себе, что и со стороны обвинения, и со стороны защиты стоят лицом к лицу два равносильных Шекспира: каково должно быть положение подсудимого, слышащего, что его с двух сторон возводят в перл создания и делают героем двух взаимно друг друга уничтожающих романов, которые вдобавок не имеют ничего общего с действительным романом его жизни?
— Гм!.. а хорошо бы Шекспира послушать — вот хоть бы на месте г. Шайкевича. Как ты думаешь, обелил ли бы Шекспир мать Митрофанию или не обелил бы?
— Полагаю, что обелил бы. Он сумел бы нарисовать и поставить фигуры. Но и за всем тем это было бы только произведение его личного художественного гения, которое, несмотря на свой оправдательный тон, быть может, гораздо сильнее подавило бы мать Митрофанию, нежели даже восхождение на Синай, предпринятое г-м Плевако. Да знаешь ли, впрочем! я думаю, что Шекспир одинаково отказался бы и от роли защитника, и от роли обвинителя. Ведь его психология чувствовала себя гораздо свободнее и независимее, имея под руками Гамлета и Ричарда III, нежели тот уголовный матерьял, который украшает скамьи подсудимых в современных судах.
— Стало быть, по-твоему, окончательный-то исход дела зависит от того, кто кого переврет?
— Понимай, как знаешь.
— Так что, ежели я, например, совершая преступление, имею возможность рассчитывать на психологическую помощь Спасовича, то я рискую меньше, нежели другой, которому угрожает психологическая помощь адвоката, назначаемого от казны?
— Стало быть.
— Однако, брат, очень печально!
— Печалься; не возбраняется.
— Ну, хорошо; оставим печаль в стороне и резюмируем наш разговор. Из сказанного тобой выходит: во-первых, что мы не только не воспользовались благами возрождения, но и до сих пор продолжаем жить остатками старинной дикости; во-вторых, что характеристический выразитель этой дикости, травля, не упразднилась, но при помощи психологии получила характер более утонченной жестокости, и притом сделалась, так сказать, à la portée de tout le monde.[15] Так, кажется?
— Верно.
— Теперь, спрашиваю тебя, ответь мне по совести: как же, по твоему мнению, в этом случае поступить? что нужно сделать, чтоб избежать этого?
Я формулировал этот вопрос не без торжественности. По моему мнению, все человеческие стремления, негодования, анализы, утопии — все это приводится к вопросу: прекрасно, но как в сем случае поступить? Поэтому я надеялся настигнуть Глумова в последнем его убежище, заставить его перенести дело на практическую почву и затем уж поговорить по душе о перемещениях и увольнениях, о разъяснении такой-то статьи и дополнении такой-то… Но, к удивлению, Глумов не только не тронулся моею торжественностью, но даже отнесся к ней как бы иронически.
— Прежде всего, — сказал он, — я не вижу никакой надобности «поступать». А потом, ведь под словом «поступать» нельзя же разуметь исключительно: совершить мероприятие, предписать, воспретить, дозволить. Констатировать факт — тоже значит «поступать». Вот я и «поступаю», то есть констатирую факт.
IV
Я — русский литератор и потому имею две рабские привычки: во-первых, писать иносказательно и, во-вторых, трепетать.
Привычке писать иносказательно я обязан дореформенному цензурному ведомству. Оно до такой степени терзало русскую литературу, как будто поклялось стереть ее с лица земли. Но литература упорствовала в желании жить и потому прибегала к обманным средствам. Она и сама преисполнилась рабьим духом и заразила тем же духом читателей. С одной стороны, появились аллегории, с другой — искусство понимать эти аллегории, искусство читать между строками. Создалась особенная, рабская манера писать, которая может быть названа езоповскою, — манера, обнаруживавшая замечательную изворотливость в изобретении оговорок, недомолвок, иносказаний и прочих обманных средств. Цензурное ведомство скрежетало зубами, но, ввиду всеобщей мистификации, чувствовало себя бессильным и делало беспрерывные по службе упущения. Публика рабски восторженно хохотала, хохотала даже тогда, когда цензоров сажали на гауптвахту и когда их сменяли. На место смененных цензоров являлись другие, которых также сменяли и сажали на гауптвахту. А публика вновь принималась хохотать и зачитывалась статьями, вроде «Китайские ассигнации» или «Австрийский министр финансов Брук» (см. «Русский вестник», издатель-редактор М. Катков). И существовала эта манера долго-долго, существует и доныне, так что объявление в 1866 году воли книгопечатанию почти совсем не повлияло на нее. Аллегорический, рабий язык продолжает пользоваться правом гражданственности, хотя справедливость требует сказать, что современные молодые писатели стараются избегать его. Я не берусь определить, хорошо ли, или дурно они поступают, но думаю, что, ввиду общей рабьей складки умов, аллегория все еще имеет шансы быть более понятной и убедительной и, главное, привлекательной, нежели самая понятная и убедительная речь. Ясная речь уместна там, где уже народился читатель, которого страшными словами не удивишь, но там, где читатель, с повода и без повода, привык разевать рот, там простая и бесфигурная речь может только свидетельствовать о рабьем самомнении и наложить еще новый балласт на плечи писателя, то есть ко всем прочим не легким обязанностям прибавить еще новую и тягчайшую: обязанность ежемгновенно трепетать.
Привычке трепетать я обязан послереформенному цензурному ведомству. Я не стану распространяться о том, что именно сделало это последнее, чтобы заставить меня трепетать — похвала живым может быть принята за лесть, — я только констатирую факт. Я знаю, что, с тех пор как мы получили свободу прессы, — я трепещу. Покуда я пишу — я не боюсь. Иногда я даже делаюсь храбр; возьму да и напишу: напрасно, мол, думают некоторые, что благожелательное и ничем, кроме почтительности, не стесняемое обсуждение действий (заметьте аллегорию: я даже умалчиваю, чьих и каких действий) равносильно нападению с оружием в руках… Но как только процесс писания кончился, как только статья поступила в набор, боязнь чего-то неопределенного немедленно вступает в свои права, И она усиливается и усиливается по мере того, как исправляется корректура и наступает час, с которого должен считаться четырехдневный для журналов и семидневный для книг срок нахождения произведений человеческого слова в чреве китовом. Чудятся провинности, преступления, чуть не уголовщина. И в то же время ласкает рабская надежда: а может быть, и пройдет! Я знаю, что это надежда гнусная, неопрятная, что она есть не что иное, как особое видоизменение трепета, но я знаю также, что она не только лично для меня, но и вообще представляет единственную руководящую нить в современном литературном ремесле. Избавиться от нее, правда, очень легко; стоит только забросить перо, распроститься с корректурами и, как чумы, обегать типографии, но вот подите же… Сдается, что, не будь этой надежды, пожалуй, не было бы и русской литературы, а были бы одни «Московские ведомости»…
Само собой, однако ж, разумеется, что я всячески стараюсь скрывать и мой рабий трепет, и мои рабьи надежды. Я — либерал и потому прежде всего стараюсь выказать, что очень хорошо понимаю свои права. «Нет! теперь уже шалишь! — твержу я и устно, и письменно, — теперь цензору до меня, как до звезды небесной, далеко!» И начинаю горячиться, начинаю рассказывать анекдоты из дореформенной цензурной практики и доказывать, что сравнительно мое нынешнее положение… «Помилуйте! да теперь я сознаю себя господином своего слова; хочу — скажу, хочу — не скажу; вспомните, что мы были прежде и чем сделались теперь! Теперь ежели что, так ведь я и тово… Я ведь и сам когти покажу… нет, теперь не так-то легко меня обездолить!» Говорю я все это, даже кричу, чтоб пуще себя ободрить, и — о ужас! — в это же время чувствую, как невидимый трепет ползет по всему моему организму, ползет, ползет и незаметно разрешается сладкой надеждой, что, «может быть, и пронесет»…
Но приятели мои понимают, что все это с моей стороны не больше, как напускное хвастовство, напоминающее те «невидимые миру слезы сквозь видимый миру смех», о которых упоминал еще Гоголь. И так как они — люди русские, веселые, то нередко я служу для них предметом довольно жестоких шуток, канвою которым служат: слухи о преднамерениях и предначертаниях, сведения, почерпнутые «из достоверных источников», канцелярские тайны и проч. Иногда рассказываются даже целые сцены, рассказываются в лицах, так жизненно и с такими характеристическими подробностями, не поверить которым нет никакой возможности. Как тут не вдаться в обман, как не счесть себя погибшим, когда и сам уж заранее, так сказать, признаешь, что погибель есть только снисходительно-отсроченное возмездие за те неключимости, которые, с помощью пера, содеяла правая рука твоя?
Но особенную озорливость в этом смысле являет приятель мой Глумов. Он отлично знает мою наклонность увлекаться трепетом и надеждами и потому каждый раз, как я попадаю в чрево кита (а это случается почти ежемесячно), является ко мне с специальною целью наблюсти, в какой степени я боюсь. Изредка он бывает и в добром расположении духа, и тогда мы вместе твердим: «Небось! ничего! может быть, и пронесет!» Но чаще всего он приходит преисполненный глумливого подстрекательства, в котором я никогда не могу отличить искренности от неискренности и которое поэтому еще более увеличивает мой страх.
Именно в таком озорливом настроении явился он ко мне на днях. Уже три дня лежал я в чреве; оставалось еще двадцать четыре мучительных часа… Пронесет или не пронесет?
— Да, брат, видно, быть бычку на веревочке! — сразу огорошил он меня, войдя в кабинет.
— Что? что такое? разве что-нибудь слышно? — встрепенулся я.
— Как не слыхать! слухом земля полнится! Да, брат, нельзя! Нельзя, мой друг, таким образом… невозможно!
— Что такое случилось? Говори, сделай милость, не мямли!
— Покуда еще ничего не случилось, но признаки есть, и признаки серьезные… сейчас иду я к тебе, и вдруг навстречу мне человек один… понимаешь? Идет этот человек к месту служения, и на челе у него: нельзя!
— Господи!
— «Нельзя» — только одно это слово! Но ты понимаешь: завтра тебе срок, а сегодня… понимаешь?
— Как не понимать! Но как же это, однако… нельзя? И что это за слово «нельзя»? Нельзя! ведь это даже понять трудно!
— Нельзя — и все тут.
— Да ты, может быть, ошибся! Может быть…
— Неужто ж мне в первый раз на лбах-то читать! Да и напроказничали же вы, должно быть! Идет «он» и словно обдумывает: какую бы пытку на вас изобрести.
Затем мы начали горевать. Я, как истинный либерал, оглашал стены кабинета возгласами: «За что же? господи! за что?» Глумов подавал мне реплику, большею частью пословицами. Наконец, когда я достаточно высказал, что все мои обычные разглагольствования о каких-то якобы правах разлетаются, как дым, от прикосновения одного слова: «нельзя», тогда Глумов сознался, что никого «идущего к месту служения» он не видал, ни на каких лбах ничего не читал и что вообще вся эта история была им выдумана в видах испытания, в надлежащей ли степени я боюсь. И вновь сладкая надежда озарила мою душу, и вновь я стал предаваться работе проникновения в мрак будущего: пронесет или не пронесет?
— Нет, ты уж эти глупости-то оставь! — прервал меня Глумов, — это, брат, дело исследовать нужно!
— Какое дело?
— А вот хоть то, что вы, русские писатели, обязываетесь не только услаждать досуги публики вашими писаниями, но и периодически подвергаться унизительному трепету.
Но я, разуверенный насчет предстоящей опасности, уже настолько ободрился, что взглянул на друга моего не только самоуверенно, но почти нахально.
— Я не знаю, — сказал я, — о каком ты трепете говоришь! Я думаю, что в настоящее время положение мое, как русского писателя…
— Пхе — вот твое положение! Дунуть на тебя — ты и погас!
— Ну, нет, любезный друг, это не совсем так! Я свои права…
— А кто сейчас восклицал: за что, мол, о судьба прежестокая!.. кто восклицал?
— Еще бы! ты бы побольше выдумывал!
— Да как же иначе с тобой поступать? Как иначе остепенить твое малодушие? Взгляни ты на себя, сделай милость, ведь даже понять нельзя, каким образом ты эту пытку выдерживаешь! Двадцать шесть дней в месяц ты приготовляешься к трепету, а четыре дня — трепещешь! где, скажи, в какой сфере деятельности возможно такое существование!
— Ну, хорошо! Положим, что в настоящую минуту мое положение… ну, да, допустим это. Но дело ведь не в одной той минуте, которую мы переживаем, а в тех залогах, которые представляет нам будущее…
— А ты про эти залоги слыхал?
— Не только слыхал, но даже из достоверных источников знаю…
— Страмник ты — вот что!
Сказавши это, Глумов так строго взглянул на меня, что я совершенно явственно почувствовал, как краска разлилась по моему лицу.
— Так ты до того доволен своим положением, — продолжал он, — что даже не хочешь подумать о том, почему ты всегда должен чего-то бояться, хотя, в сущности, никакой вины за тобой нет?
— Ну, как никакой вины? Вин-то, любезный друг, за нами — слава богу!
— И опять-таки страмник! Сам на себя клеплет, да еще ломается! Никаких, понимаешь ты, никаких за тобой вин нет, и ты на себя небылиц не выдумывай! До такой степени нет никаких вин, что тебе даже и в голову не приходило разобрать, дурно или хорошо твое положение и отчего оно так устроилось, а не иначе. Ведь если б что-нибудь за тобой было — уж, наверное, ты хоть бы понять постарался, что тут такое есть!
— Да; действительно, я как-то мало об этом думал; корректура, знаешь, спешная работа…
— И это говорит человек, который весь по уши погряз в литературное ремесло! Человек, у которого не только умственные, но и материальные интересы, словом, вся жизнь до такой степени связана с литературой, что завтра отними у него возможность писать, и он исчез — без следа! И тебе не совестно сознаваться, что ты ни разу не подумал, отчего литературное ремесло у нас так странно поставлено, что, занимаясь им, почти трудно оставаться порядочным человеком! Вечно холопствовать, вечно думать о каких-то «обстановочках»! — помилуй, да самый последний мастеровой, и тот не выдержит этого! и тот прежде всего позаботится о том, чтобы сделать свое положение, по возможности, независимым от случайностей! А вы, литераторы, вы, люди, называющие себя выразителями умственного уровня страны, — вы только и делаете, что бегаете, как угорелые, обдумывая, как бы так схорониться, чтобы и найти вас никто не мог!
— И прибавь еще, что как ни хоронимся, а все-таки нас умеют найти!
— Да уж не думаешь ли, что вас оттого находят, что видят в вас что-нибудь опасное? Как бы не так! Просто видят в вас, во всей русской литературе (даже исключения, и те допускаются нехотя, скрепя сердце) что-то омерзительное, какую-то пресмыкающую гадину, при виде которой, без всякого повода, приходит на мысль: а дай-ка я ее раздавлю! Кто вас читает? скажи по совести: кто читает вас?
— Ну, брат, что касается до читателей, то это — факт несомненный, что число покупающих книги и подписывающихся на журналы с каждым годом все увеличивается и увеличивается.
— Да, это — явление действительно загадочное. Число читателей как будто и в самом деле увеличивается, если судить по расходу книг и журналов. Но, скажи по совести, знаешь ли ты своего читателя? Можешь ли ты указать, к кому именно ты обращаешь свою речь? Кого ты хочешь воспитывать? Нет, ты не ответишь на эти вопросы, потому что современный русский читатель до того разбросан, что делается неуловим. Во всяком случае, что касается до влиятельных классов, до так называемых представителей культурного слоя, то они, честью тебя заверяю, до такой степени игнорируют вас, писателей, что единственное твердое сведение, которое они имеют о русской литературе, заключается в том, что она омерзительна.
— Но какая же надобность литературе до этого! Что ее игнорирует, а пожалуй, и презирает небольшая кучка выродившихся людей, размыкивающих свои досуги по Баден-Баденам, Висбаденам и Вильдбаденам, разорвавших всякую связь с Россией, за исключением получки доходов, и составляющих себе библиотеки из Монтепенов, Февалей и Самаровых, — так ведь это еще небольшая потеря!
— Постой! Покуда я назвал только один из числа игнорирующих вас классов — класс людей, именующих себя культурными, — но можно ведь идти и дальше. Вообще, я думаю, гораздо легче ответить на вопрос, кто не читает русских книг, нежели на вопрос, кто их читает. Знает ли вас народ? — Нет, он даже не подозревает о существовании русской литературы. Знает ли вас молодое поколение? Нет, оно хуже нежели не знает: оно относится к современной русской литературе, как к чему-то недомысленному, лишенному каких бы то ни было прав на воспитательный авторитет. Знает ли вас так называемое ученое сословие? — Нет, и оно смотрит на литературу, как на проявление легкомыслия, которое в благоприятном случае можно считать бесполезно-невинным, а в большей части случаев имеет характер раздражающий и, стало быть, вредный. Кто же, спрашивается, читает вас? От кого вы ждете оценки для себя? На кого думаете влиять?
— Согласись, однако, что если бы нас не читали, если б влияние русской литературы не существовало, то и внимания никто бы на нее не обращал, и писателю не для чего было бы ни лукавить, ни бояться.
— И с этим не соглашусь. Повторяю тебе, современный русский читатель неуловим и рассеян по лицу земли, как иудеи. Он читает в одиночку, он ничего не ищет в литературе и ни с кем не делится прочитанным. Печатное русское слово не зажигает сердец и не рождает подвигов. Нигде и ни на чем не увидишь ты следов влияния действующей русской литературы. И благонамеренность и неблагонамеренность одинаково зреют и развиваются вне ее воздействия. И ежели, за всем тем, на литературу обращают внимание и заставляют вас трепетать, то это отчасти по старой укоренившейся привычке, а отчасти по недоразумению…
— Однако ж…
— Да, именно по недоразумению, потому только, что культурный-то слой наш очень уж плох — и плох, и пуглив. Вот ты сейчас сказал, что для литературы еще не большая потеря, что ее презирает шайка людей, которая шляется по Баденам да Висбаденам; но встань на практическую почву, да и отвечай мне: отчего трепет-то твой происходит?
— Да оттого, полагаю, что строго нынче уж очень. Руководств надлежащих не издано, которые содержали бы отчетливую и для всех внятную классификацию предметов, которыми может или не может заниматься литература, — вот и путаются, словно в тенётах.
— Ты не остри, а вникнуть старайся. Строго, ты говоришь? да отчего строго-то, то есть даже и не строго, а просто-напросто презрительно? А оттого, любезный друг, что эти самые культурные люди, которые размыкивают за границей свое отвращение к России, вот они-то уж слишком большую силу взяли! Шипят они, душа моя, клевещут, сплетничают, смуту сеют! А ты вот тут сидишь да обдумываешь: как бы мне так мою мысль выразить, чтобы никто не поймал?
— Ну, это уж ты преувеличиваешь! Конечно, когда происходит процесс печатания и выхода книжки — я не изъят от некоторых беспокойств; но пишу я всегда…
— Стой! сейчас же тебя поймаю! Вот хоть бы теперь: ты пишешь и хочешь выразить самую простую и отнюдь не зажигательную мысль. Ты желаешь сказать: бессилие русской литературы зависит, во-первых, от того, что у ней нет достоверного читателя, на которого она могла бы опереться, и, во-вторых, от того, что в составлении ее репутации слишком большое участие принимают так называемые культурные люди, то есть бродяги, оторванные от всех интересов России. Такова ли твоя мысль?
Я должен был сознаться, что такова.
— Ну, так смотри же, сколько ты обходов должен был сделать, чтобы пустить в ход эту совершенно простую мысль, на которую нигде в другом месте не обратили бы внимания, да, пожалуй, в другом-то месте она и у самого тебя, за неимением повода, зародиться бы не могла… Во-первых, ты должен был затеять статью в печатный лист, тогда как все дело ясно из пяти-шести строк; во-вторых, ты должен был выдумать, что у тебя есть какой-то приятель Глумов, который периодически с тобой беседует, и пр. Сознайся, что ты этого Глумова выдумал только для реплики, чтоб объективности припустить, на тот случай, что ежели что, так иметь бы готовую отговорку: я, мол, сам по себе ничего, это все Глумов напутал! И с этим я должен был согласиться.
— Что касается до меня, — продолжал Глумов, — то я тебе извиняю. Потревожил ты меня, друг любезный, ну, да это — еще небольшая беда! Но зачем ты все это делал? зачем ты мозги свои беспокоил? ведь все-таки никто из культурных людей мыслей твоих не узнает и с объективностью твоей не познакомится!
— Да, но ведь ты сам же сейчас сказал, что ежели человек чувствует себя нехорошо, то прежде всего он должен уяснить себе, отчего это нехорошее ощущение происходит. Ну, я и выбрал для достижения этого тот способ, который мне показался наиболее подходящим.
— И прекрасно. Стало быть, я послужил к тому, что заставил тебя высказаться, — и то барыш. Теперь ты знаешь источник твоего трепета; следовательно, остается только разработать эту тему, и буде возможно, то идти и дальше. А так как без объективности ты все-таки не обойдешься, то я, с своей стороны, всегда к твоим услугам готов!
Итак, причина сказалась, хотя, быть может, и не единственная, но, во всяком случае, одна из причин. Глумов прав: достоверного, веского читателя современная русская литература не имеет, а между тем культурные Бобчинские и Добчинские до того уж расщебетались, что даже, по-видимому, совсем позабыли, что еще очень недавно Сквозник-Дмухановский без церемонии называл их «сороками короткохвостыми». Не будь короткохвостых сорок, сплетничающих, стрекочущих, праздно порхающих — много бессмысленной кутерьмы умерло бы в самом зародыше, не опутывая своими тенётами добропорядочных людей. Но спрашивается: что же тут делать? как унять сорочье племя? как, по крайней мере, сделать безвредным его стрекотание? убеждать их? но разве можно иметь дело с сплетничающим племенем, которое прежде всего не знает даже предмета своих сплетен? Сделать их сплетни безвредными? но ведь для этого нужно еще доказать, что сорока — ни больше, ни меньше, как дрянная и не заслуживающая доверия птица; а какая же возможность достигнуть этого, когда весь мир склонен видеть в Бобчинских представителей культуры, и уж по малой мере носителей благонадежных элементов? Сколько раз были делаемы попытки в этом роде! Сколько раз я сам и убеждал, и удостоверял, и даже до начальства доходил!
— Ваше превосходительство, — говорил я, — ведь это — птица!
— Ну-с, дальше-с.
— Ведь птица, ваше превосходительство, глупа и робка. Ей, с глупости да со страху, бог весть что привидеться может… Птицы это, ваше превосходительство, птицы!
— Птицы да птицы — затвердили одно! Знаю, что — не люди, но есть случаи, когда птица… Птицы, милостивый государь, не волнуют общественного мнения, не смущают умов, а люди, а вы-с…
Это — единственный результат, которого я добился ценою многолетних усилий. Неужели же мне предстоит опять приниматься за ту же работу убеждения, то есть возобновлять сейчас приведенный разговор? Но если бы я и действительно мог убедить, что не я волную и смущаю, а именно Бобчинские и Добчинские, которые своими бессмысленными сплетнями сеют повсюду не менее бессмысленную панику, то разве его превосходительство поцеремонится ответить мне:
— Ну что же-с! пусть будет и так-с! Они и смущают, и волнуют — я с вами согласен-с! Но Бобчинские нам милы, в Добчинских мы уверены, а в вас-с…
И дело с концом. Ужели я и тут еще не умолкну? «Они нам милы», «мы в них уверены» — разве этого мало? кого же, наконец, и баловать, как не людей, относительно которых существует уверенность, что уж они-то никаких затруднений представить для нас не могут!
Ставши на эту почву, мнительное мое воображение уже не останавливалось в созидании перспектив, исполненных всякого рода препятствий. Мне чудилось, что я стою среди бесчисленной стаи сорок и держу им такую речь: «Сороки короткохвостые! понимаете ли вы, что такое литература и что такое, в сравнении с нею, ваше сорочье стрекотанье? Литература, о легкомысленнейшие из птиц! есть воплощение человеческой мысли, воплощение вечное и непреходящее! Литература есть нечто такое, что, проходя через века и тысячелетия, заносит на скрижали свои и великие деяния, и безобразия, и подвиги самоотверженности, и гнусные подстрекательства трусости и легкомыслия. И все, однажды занесенное ею, не пропадает, но передается от потомков к потомкам, вызывая благословения на головы одних и глумления на головы других. Понимаете ли вы все бессилие ваше ввиду этого неподкупного и непоколебимого величия? Ежели вы этого не понимаете, то подумайте хоть то, что есть суд веков и что у вас есть дети; что если вы лично и равнодушны к суду истории, то ваши дети могут, ради вашего всуе звенящего срамословия, изнемочь под его тяжестью! Остановись же, Бобчинский, и не извергай яда легкомыслия на то, что недоступно твоему скудному пониманию! Ибо сын твой, который будет несомненно лучше и прозорливее тебя, угадает твои деяния — и, быть может, устыдится признать в тебе отца своего!»
Одним словом, я спускаюсь на почву чисто практическую, хватаюсь за самую живую струну — за детей, хочу растолковать, что ради их, этих многолюбимых детей, не бесполезно держать язык за зубами, даже в том случае, ежели имеется в перспективе медаль за спасение погибающего культурного общества. И что ж! сороки сначала смотрят на меня и друг на друга недоумевающими глазами, но потом мало-помалу осмеливаются, щеголевато подскакивают к самым моим ногам, расправляют крылья, чистят носы и, как ни в чем не бывало, продолжают прерванное стрекотание… «А наплевать нам на историю! наплевать на детей! и мы — навоз, и история — навоз, и дети наши — навоз!» — слышится мне среди безнадежного хаоса звуков…
Ах! никогда я не знал ничего более унизительного и до боли гнетущего, как это праздное сорочье стрекотанье! Есть в нем что-то посрамляющее слух человеческий и в то же время дразнящее, подуськивающее. Бобчинские не вызывают гнева, а именно только дразнят, нахально опираясь при этом на свою сорочью невменяемость. Делая пакости, иногда равносильные злодеяниям, они вовсе не сознают неключимости своего творчества, но лишь выполняют провиденциальное свое назначение. И вот к этому-то подневольному, невменяемому и вдобавок неопрятному виду человека я должен обращаться, должен думать об нем, объяснять его и обличать сорочье его щебетание! Где, в какой стране возможен подобный подвиг, исключая тех постылых сорочьих углов, где Бобчинские и Добчинские дают тон жизни, где, быть может, даже совсем погасла бы жизнь, если б не будило ее их назойливое стрекотание!
Да и с каким правом я обращу свою проповедь к Бобчинским? где тот противовес, на который я мог бы опереться при этом? где он, где тот загадочный русский читатель, от которого я имел бы право ожидать оценки и одобрения?
Покуда я таким образом размышлял, Глумов молча ходил по комнате и, по-видимому, тоже что-то обдумывал. Наконец он остановился против меня и сказал:
— Знаешь ли что? ведь я на днях Петьку Износкова встретил!
— Ну, и бог с ним!
— Да ты слушай. Идет он по Морской, а в глазах у него так и светится культурность. Словом сказать, производитель во всех статьях. Встретились — ничего. Других культурных людей поблизости не случилось — стало быть, и мне втихомолку руку подать можно. Постояли, поглядели друг на друга, школьную жизнь вспомнили. Выправился он, раздобрел — страсть! В плечах — косая сажень, грудь колесом, тело крупитчатое, румянец так и хлещет во всю щеку. Та́к вот весь, всем нутром словно говорит: а хочешь, я сейчас тебе целую десятину унавожу! А картавит как — заслушаешься!
— И охота тебе говорить об нем!
— Вот видишь, любезный, ты об нем и говорить не хочешь, а он об тебе вспоминал! «Где, говорит, он? я, говорит, слышал, что он с мерзавцами связался?»
— И ты, разумеется, подтвердил?
— Еще бы! Да, говорю, жаль малого! скружился!
Затем Глумов, по своему обыкновению, засыпал меня анекдотами из жизнеописания русского культурного человека, так что мало-помалу и меня самого увлек в область воспоминаний об нашей совместной школьной жизни.
— А помнишь ли, — сказал я, — как мы в школе родословную Износкову сочинили: отец — Бычок, мать — Светлана, бабка — Резвая, от Громобоя и Гориславы, прапращур — сам Синеус?
— А дядя, который в то время полковником в гусарах служил, — серый в яблоках Борисфен? А помнишь, как он рассказывал: «У меня maman такая слабенькая, что даже родить меня сама не решилась, а тетеньке поручила»?
— Да, да, да! как давно, однако, все это было! и сколько воды с тех пор утекло!
— Так много утекло, что он даже поумнеть успел. Серьезно говорю. Прежде, бывало, только зубы показывал, белые-разбелые, а нынче и говорить начал. «Пальто, говорит, у меня от Шагмега, панталоны — от Тедески, жакетка — от Жогже!» И об заграничном житье тоже: «В Германии, говорит, горы зеленые, в Швейцарии — горы голые, в Италии — небо синее, а в Риме — римской папа сидит!» Словом сказать, ведет светский разговор, да и шабаш!
— В администраторы, чай, метит?
— Нет, эта в нем благородная черта есть: без дела слоняться предпочитает. А то как бы не попасть! ведь ему графиня Нахлесткина теткой родной приходится. Да ему и незачем: и без того его положение завидное. Нынче, брат, такой особенный чин народился: всякий, кому голову преклонить некуда, представителем культурного слоя себя называет. Вот он приписался к этому чину, да и щеголяет в нем по белу свету. Летом — на водах и в Швейцарии, осенью и весной — в Париже, на зиму — в Петербург; ест и пьет он отлично, спит в меру, желудок у него варит на славу, огорчений никаких — чего еще, каких еще почестей нужно!
— Да, брат, хорошо бы хоть годок так пожить! А то маешься-маешься, словно бы и дело делаешь, а результат один: воочию видишь, как подтачивается и засыхает твоя жизнь!
— А я тебе, знаешь ли, что́ хотел предложить? Сходим-ка вместе к Износкову!
— Это зачем?
— Во-первых, для разогнания хандры. По моему мнению, что́ с Износковым подвидаться, что́ на хороший пирог с начинкой посмотреть — одинаково сердцем расцветешь. А во-вторых, хотелось бы и предполагаемого читателя твоего тебе показать — ведь ты говоришь, что у вас их много, — чтобы ты сам убедился, как он на тебя смотрит и об тебе разговаривает.
— Да ведь Износков, пожалуй, сделает вид, что не узнаёт меня! Или и узнает, да какую-нибудь глупость брякнет!
— А мы, для предосторожности, такой час выберем, когда у него культурных людей не бывает. Часов, этак, около половины двенадцатого утра. В это время он всегда отлично себя чувствует. Выспался превосходно, пищеварение совершилось благополучно… добр он тогда! Много-много что легонький репримандец сделает; ну, да ведь ты насчет репримандов-то — травленый волк!
По обыкновению, я некоторое время слегка противоречил и, по обыкновению же, в конце концов сдался.
Мы застали Износкова за занятием, которому он, по-видимому, придавал большую важность. Он сидел за туалетным столом перед зеркалом, в брюках, без жилета, в тончайшей и белой, как снег, рубашке и повязывал на шею галстух. Подтяжки так и врезывались в его пухлые плечи. Я уж лет двадцать пять не встречался с Износковым, и мне вдруг почудилось, что я вновь очутился в школе и что Петька Износков показывает мне свои ослепительно-белые зубы. Высокий, широкогрудый, румяный и белый, он подавлял своим могучим здоровьем, которое так и лучилось из всех его пор. На лице ни единой морщинки; глаза с каким-то сизо-металлическим блеском, словно сейчас отчеканенные пятиалтынные сорок второй пробы; губы пухлые, алые, осененные тоненькими усиками, вытянутыми в нитку; щеки чистые, румяные; тело, правда, несколько тучное, но крепкое; грудь высокая, почти женская. Одним словом, время скользнуло по нем, не оставив ни на одной части его организма никакого следа.
— Ба! литератор! — воскликнул он, протягивая руки с тем порывистым жестом, который употребляют актеры Михайловского театра, когда хотят выразить радушие, — какими судьбами?
— Да вот, как видишь!
— Постой! встань-ка ближе к свету! вот так! Постарел, душа моя! Все стихи пишешь?
— Какие же он стихи пишет! — вступился Глумов, — отродясь, я чай, ни одного стиха не сочинил!
— Ну, все равно — прозой пишет! Я, признаюсь откровенно, с русской литературой не знаком. C’est à dire, я, конечно, знаю… Derjavine, Karamzine, Pouschkine, le comte Sollogoub…[16] Но тебя, мой друг, — каюсь! — не читал! Но как ты, однако ж, непозволительно постарел! Эта седая борода, этот землистый тон лица, эти морщины… Я пари готов держать, что все это у тебя от стихов!
— Ну, а ты так совсем не изменился: как в школе красавцем был, так и теперь молодцом глядишь!
— Да, но ведь это— целая наука, mon cher![17] Конечно, не столь трудная, как, например, стихи писать!
Он сел и усадил меня против себя, держа за руки и смотря мне прямо в глаза. При этом лицо его озарилось не то глупою, не то лукавою улыбкой, как будто он хотел сказать: хоть я стихов и не пишу, но тебя вижу! и даже насквозь тебя, голубчик, понимаю!
Я помню, эта улыбка еще в школе меня ужасно смущала, хотя я никогда не мог хорошенько определить, в чем собственно состоит ее смущающее свойство. Сидит перед вами человек, смотрит вам прямо в глаза и улыбается. Хочет ли он этим сказать: «Я глуп несомненно, но мне нимало этого не совестно» — или желает выразить мысль более сложную: «Посмотри, как я чист сердцем (у нас сердечная чистота очень часто считается непременным спутником глупости); а ты?» И начинает вдруг казаться, что этот улыбающийся человек, при всей его глупости, все-таки себе на уме; что он знает нечто больше, нежели можно ожидать от его простодушия, и знает именно то, что́ пуще всего хотелось бы скрыть… А ну, как он «ляпнет»! Умный человек — тот посовестится и не «ляпнет», а дурак — ведь недаром же говорят, что дураку море по колено, — ляпнет он, непременно ляпнет!
— Постой, об стихах говорить незачем, — сказал между тем Глумов, — а вот мы лучше об чем поговорим. Сейчас ты промолвил, что есть какая-то наука, благодаря которой ты до сорока пяти лет прожил, а все еще тридцатилетним мужчиной смотришь. Так объясни ты нам, сделай милость, что́ это за наука такая?
— Mon cher! Главный секрет этой науки состоит в том, чтоб начертать себе известный esprit de conduite[18] и затем все делать в свое время и не упускать ни одной подробности из того режима, который ты однажды признал для себя полезным, — отвечал Износков. — Если ты твердо решился следовать этой линии — твое дело выиграно; если же ты хоть однажды что-нибудь пропустил или сделал не вовремя — все пропало!
— Да, но ведь ты понимаешь, что с одним хорошим поведением…
— О! что касается до средств, то с этой стороны мы совершенно обеспечены. Нам остается только протянуть руку и черпать. Это даже невероятно, какие громадные успехи сделала в последнее время туалетная химия, туалетная механика и туалетная гигиена! Нет самой ничтожной безделицы, которая не была бы предусмотрена, нет того cosmétique,[19] действие которого не было бы определено с величайшею точностью! Конечно, ошибки могут быть и здесь… Так, например, в газетах сплошь и рядом мы читаем объявления об разных dentifrices, eaux de Vénus[20] и так далее — ну, разумеется, к этим средствам необходимо относиться с некоторою предусмотрительностью…
— Как же тут быть предусмотрительным! — как бы недоумевал Глумов, — ну, прочитал, например, в газетах: мазь для ращения волос… взял, намазался ею на ночь — ан на утро у тебя вместо головы голое колено!
— Да, ежели ты только эмпирик — оно непременно так и случится. Я сам, когда вышел из школы, тоже сгоряча прибегнул к одной crème d’odalisque,[21] которая, судя по объявлению, должна была сообщить моей коже «un velouté jusqu’ici inconnu»;[22] но на поверку вышло, что я целую ночь проспал с щеками, вымазанными какою-то мерзостью, а наутро у меня по всему лицу выступили прыщи. Ошибки, мой друг, неизбежны; но они-то и должны нам указывать, до какой степени необходимо во всяком деле быть осмотрительным. Нужно пользоваться этими ошибками, но не для того, чтобы вновь впадать в них а для того, чтобы их не повторять.
— Это ты правду сказал насчет ошибок-то. Но легко ведь говорить: будь осмотрителен, а как ты будешь осмотрителен, когда пред тобой все неизвестность и мрак?
— Откровенно скажу тебе, что я в этом случае — консерватор. Литератор! — обратился он ко мне, — может быть, тебя это слово шокирует, но уж извини меня, душа моя: я ведь — везде и во всем консерватор! Во всем, ты понимаешь?.. Я революций не терплю… никаких!.. А впрочем, об этом после. Итак, я — консерватор и потому в большей части случаев прибегаю к таким средствам, надежность которых уже испытана. Конечно, я допускаю и новые пути; я не до такой степени упорен, чтобы не понимать, qu’il y a quelque chose à faire,[23] но на этот конец я имею таких субъектов, которым я плачу и которые на себе испытывают действия средств, кажущихся мне интересными. Сверх того, везде существуют такие шимисты и ижиенисты,[24] которых специальность составляет туалетная химия и таулетная ижиена. Я, например, имею на этот предмет в Петербурге годового доктора, которого советы были всегда для меня драгоценны. Но, кажется, разговор наш не занимает тебя? — опять обратился он ко мне с тою же глупо-лукавою улыбкой, — ведь ты привык говорить о предметах возвышенных… об революциях, например?
— Помилуй, любезный друг! — испугался я, — да я и сам…
— Оставь его! — вступился за меня Глумов, — нравится или не нравится ему наш разговор — какое нам до этого дело! Главное, чтобы нам нравился. Ну-с, так продолжаем. И много у тебя времени берет эта туалетная гигиена?
— Да как тебе сказать? — почти что весь день! Нынче разделение труда доведено до такой степени, что каждая часть тела служит предметом особенного ухода, особенных попечений. Вот хоть бы сегодня. Я встал в восемь с половиной часов и до сих пор — теперь половина двенадцатого — не успел еще кончить моего туалета. Разумеется, главное уже кончено; а все таки необходимо дать последний coup de main.[25] С вашего позволения, господа!
— Сделай одолжение! мы и во время туалета можем вести разговор!
Износков позвонил француза-лакея и опять отправился к туалетному столу. Последовал обряд надевания жилета и жакетки, во время которого Износков повертывался перед зеркалом на собственной оси, подергивал плечами, слегка постукивал пальцами по груди, как бы взбивая ее, а француз-лакей не ходил, а как-то беззвучно плавал вокруг него, следя за всеми его движениями и стараясь уловить на лету всякую его мысль. Наконец все было слажено, все сидело как вылитое, хотя ничто не обличало мучительной работы, предшествовавшей последнему coup de main. Мы отправились в столовую, где уж был сервирован завтрак на три персоны.
— Ну, а насчет пищи и пития как? — поинтересовался Глумов.
— Увы! ты затронул самое больное место моего существования! — ответил Износков, — да, хромает у меня эта часть, сильно хромает! Хотя, конечно, и в этом отношении я делаю все, что можно, tout ce qui est humainement possible![26]
— A например?
— Вот видишь ли, чтоб ты мог понять меня вполне, я расскажу тебе весь свой петербургский день. Литератор! это не обеспокоит тебя?
— Да нет же! Я даже не понимаю, почему ты предполагаешь! — поспешил я разуверить его и при этом улыбнулся так глупо, так глупо, что, право, кажется, глупее самого Износкова.
— Ну, так слушайте же меня! — серьезно начал Износков, предварительно налив нам по стакану превосходного лафита. — Я пробуждаюсь утром всегда в восемь с половиной часов. Почему в восемь с половиной, а не в восемь и не в девять — это я вам сейчас объясню. Во-первых, раньше восьми с половиной в Петербурге зимой редко бывает достаточно светло; во-вторых, если б я встал раньше, мой француз был бы не готов, а без него я не могу сделать шага; если бы же я встал позднее, то сам непременно бы везде опоздал; в-третьих, это — именно тот час, когда пищеварение у меня уже совершилось, а в-четвертых, с восьми с половиной часов передо мной, по крайней мере, два с половиной часа, в продолжение которых никто — вы понимаете: никто! — не может мне помешать. Затем, ceci posé, continuons.[27] Вставши с постели, я сейчас же сажусь в ванну. В ванну в двадцать два градуса, ни больше, ни меньше, и с двумя фунтами savon dulcifiant,[28] предварительно распущенного в воде. В ванне я сижу ровно двадцать две минуты, и в девять часов я уже там, в той комнате, в которой вы меня застали. Я начинаю свою работу с того, что мою губкой лицо, руки, чищу ногти, прополаскиваю себе рот, чищу зубы, язык, и проч. и, вытеревши себя досуха особого рода впитывающим влажность полотенцем, прихожу на свой пост, к моему туалетному столу. Здесь я прежде всего начинаю с исследования: внимательно рассматриваю свое лицо, и ежели замечаю где-нибудь прыщ или красноту, то стараюсь припомнить проведенный мною накануне день, чтобы вполне точно определить причину накожного раздражения. Кончивши исследование, сообразивши те средства, которые мне могут потребоваться, и расположивши стклянки так, чтобы они были как можно ближе под рукою, я начинаю работу практических применений, то есть делаю все, что нужно, чтоб получить в результате лицо вполне приличное. Ma foi, messieurs![29] если б вы пришли ко мне часом раньше, то не ручаюсь, что вы не увидели бы меня с лицом, засыпанным пудрою и покрытым различными onguents![30] Затем, покуда все это сохнет, я начинаю отделку ногтей. Ногти, messieurs, то есть ногти порядочного человека, — вещь очень важная и вполне зависящая от нас самих. Ни носа, ни глаз, ни даже зубов мы ни удлинить, ни укоротить не можем; с ногтями же мы можем сделать все, что только в состоянии придумать изящный вкус, согласованный с требованиями современности. Ногти порядочного человека должны быть ни очень коротки, ни очень длинны (при этом изречении Износкова я невольно взглянул на свои ногти: они были обгрызенные!). Слишком длинный ноготь с трудом поддается обделке и скоро принимает неряшливый роговой цвет; слишком короткий ноготь придает пальцу неприличный мясистый тон. Et puis un ongle doit être effilé[31] и иметь розовый цвет — вот (он показал нам свои ногти)! Отделка ногтей берет у меня около двадцати минут и требует, в практическом смысле, большой опытности. Я употребляю при этом до двадцати названий разных ножниц, ножичков, подпилков, щеточек — по этому одному вы можете судить о том, до какой степени в этом деле доведено разделение труда! Покончивши с ногтями, я пью свой кофе и терпеливо ожидаю действия тех средств, к которым счел нужным прибегнуть перед отделкой ногтей. В одиннадцать часов я умываюсь вновь, обтираюсь с особенною тщательностью, и непременно перед зеркалом. Потому что если б я вытирался не перед зеркалом, то из этого могли бы выйти следующие последствия: во-первых, не все части моего лица и рук были бы вытерты равномерно и досуха, а во-вторых, я мог бы допустить некоторые недосмотры, которые потом было бы гораздо труднее поправить, нежели теперь, по горячим следам.
Справившись окончательно с лицом и руками, я начинаю причесываться, приступаю к одеванию и завязыванию галстуха. Здесь — опять целая наука. Вот эти панталоны — посмотрите, как они схватывают ляжку и как потом незаметно, почти нечувствительно спускаются-спускаются и наконец… ложатся на сапог! Они — от Тедески. В Петербурге есть довольно хороших портных, но что касается панталон — это Тедески! Тедески — это ваятель, который создаст ногу почти неожиданно, точно так же, как Микешин совсем неожиданно создал памятник тысячелетию России. Затем, жилет и фрак должны быть от Жорже. Но этого еще мало — одеться! Нужно еще знать, во что одеться, нужно понимать толк в цветах. Во всем необходима гармония, и ежели, например, при панталонах gris perle[32] ты надел зеленый жилет, то, как бы отлично все это ни сидело на тебе, ты никогда не будешь порядочным человеком. Все это необходимо взвесить и сообразить, и вы поймете, почему я только теперь, в двенадцать с половиной часов, то есть через четыре часа после пробуждения, могу принять вас за завтраком. Не забудьте, что я опустил еще множество интересных подробностей, которые также требуют времени. Так, например, я утром непременно осматриваю весь гардероб и распределяю мои костюмы на целый день; утром же я регулирую мои счеты и т. д. Так что, говоря по совести, если б я захотел исполнить все как следует — мне мало было бы и двадцати четырех часов в сутки. Но что же делать! à l’impossible nul n’est tenu![33] Я — человек, я имею обязанности относительно общества, и потому…
— Ты покоряешься? понятное дело, душа моя! — прервал Глумов, — ах, голубчик! ведь то-то в тебе и дорого, что отделка наружности у тебя — сама по себе, а обязанности относительно общества — сами по себе!
— Благодарю, ты понял меня. Есть люди, господа (Износков взглянул строго, но ни на кого в особенности), которые думают сами и внушают другим, что мы исключительно заняты разными másquineries,[34] но это доказывает только, что нас совсем не знают. Но оставим это. Итак, мы остановились на том, что в половине первого я завтракаю и принимаю друзей. В час мой завтрак уж кончен, и я выхожу делать мою первую прогулку, причем стараюсь как можно больше себя утомить. В это время в гостиных не принимают, следовательно, нет еще большой беды, если мое тело даст и испарину. В эти же часы я позволяю себе сделать один короткий деловой визит — один за раз, никак не больше, — и в два с половиной часа я снова дома.
— Ты говоришь, один визит? но отчего не два, например? — заинтересовался Глумов.
— А потому, мой друг, что два или больше деловых визитов утомили бы меня. Вообще это — правило, которое почти не терпит исключений: деловой элемент должен входить в жизнь лишь настолько, насколько этого требуют самые-самые нетерпящие обстоятельства!
— Помилуй, душа моя! Как же ты-то можешь это говорить, когда ты сам, можно сказать, — мученик дела! когда ты с утра до вечера…
— Да, но это—совсем другое. То дело — моя специальность, тут я вполне в своей сфере. Тогда как под «деловыми визитами» я разумею собственно те, к которым обязывают меня общественные отношения. Я — человек партии, друг мой! я — консерватор, и притом один из представителей великого культурного слоя России. Одно это звание уж налагает на меня тьму обязанностей. Лично для себя я не ищу ничего — я не честолюбив, я вполне обеспечен и люблю свободу; но во мне имеют нужду люди моей партии, и тут — il faut que je m’exécute![35]
— Что и говорить! Тому местечко, другому крестик или чин — культурные люди должны поддерживать друг друга, благо обстоятельства сложились благоприятно для них.
— Вот это и есть моя мысль. Но ты понимаешь, что все эти ходатайства, просьбы и рекомендации не могут же быть особенно интересны. Тем больше, что нередко нас осаждают такие шалопаи, которые впоследствии ставят в большое затруднение само правительство…
— А ты бы таких не ходатайствовал!
— Нельзя, mon cher. Во-первых, я, к сожалению, — не сердцеведец, а во-вторых, нам нужны люди. Необходимо, чтобы ряды наши были наполнены, чтобы мы всегда были в состоянии противостоять. Но, во всяком случае, эти ходатайства составляют одно из больных мест моего существования, и потому очень понятно, что, относительно деловых визитов, я не могу допустить более одного в день.
— Однако, брат, и у тебя… шипы-то, верно, у всякого есть!
— И какие еще шипы! На днях Коля Персиянов, наш общий товарищ и человек, которого мнением я больше всего на свете дорожу, прямо в глаза мне сказал: «душа моя! ты всегда рекомендуешь или глупцов, или негодяев! один из твоих protégés[36] на днях у Доминика пирог украл!» Каково мне было слышать это! Правда, он тут же поспешил прибавить: «А впрочем, все эти прекрасные незнакомцы, которые являются к нам под личиной консерваторов, — все они большой руки шалопаи»… но все-таки мне было очень и очень неприятно!
— Еще бы! ведь мнение Коли Персиянова…
— Ах, мой друг! это — такой человек! такой человек! Наш ровесник — и уж правая рука. Ma tante, la comtesse Nakhliostkine,[37] называет его государственным юношей. Et avec ça, d’une bonté, d’une prévenance…[38] ни один проситель не уходит от него не очарованным! Добр и в то же время тверд, особливо если дело коснется принципов. Уж он по шерстке не погладит… ни-ни!
— Ну, об Персиянове после. Ты так интересно рассказываешь свой день, что я, право, заслушался. Продолжай, пожалуйста.
— К половине третьего я возвращаюсь домой. Тут я опять освежаю себе лицо и руки; но, понятно, уж не с тем вниманием, как утром. Истинное достоинство моей системы в том и состоит, что утром вся главная работа уже сделана, и затем, в продолжение дня, я отдаюсь одним поправкам. Освежившись, я надеваю костюм, предназначенный для визитов, и в три часа, если погода благоприятствует, выхожу на Невский — это вторая моя прогулка, которую я делаю, уже не утомляя себя. Тут я встречаюсь с знакомыми, узнаю новости дня и около четырех часов сажусь в карету и отправляюсь с визитами. И так как главные новости дня мне известны, то понятное дело, что недостатка в sujets de conversation[39] не может быть. Но ежели новости скудны, то у меня всегда есть в запасе различные impressions de voyage,[40] которые очень легко припоминаются и всегда как-то новы. Время проходит быстро, так что и не увидишь, как наступит половина шестого, момент, когда я должен быть вновь на своем посту, то есть дома, за туалетным столом. Здесь я опять освежаю лицо и руки и надеваю фрак или сюртук, смотря по тому, куда отправляюсь обедать. Все это делается быстро, очень быстро, потому что в шесть часов я должен быть на месте. Вот тут-то именно и начинаются те затруднения, о которых я уже говорил.
— Насчет пищи и пития, что ли?
— Именно. До сих пор я был сам себе господином, я распоряжался и своим временем, и своими действиями по плану, мною самим составленному и обдуманному. Лично — я очень умерен. Мой каждодневный завтрак вы видите: это — добрый кусок мяса, блюдо сладкого и полбутылки, много бутылка, лафита. Этого, конечно, достаточно, чтоб насытить, но пресыщения тут быть не может. Между тем вне дома я уже не завишу от себя. Я не пользуюсь достаточной суммой свободы, которая необходима, чтобы благоразумие и строго рассчитанная система действий не переставали служить руководящей нитью моих жизненных отправлений.
Износков задумался на минуту, потом взгрустнул и вдруг впал в сентиментальность.
— Да, господа, — сказал он, — иногда я завидую вам! Я завидую той умеренности, которая так просто вам достается, завидую тем скромным обедам, после которых чувствуется так легко на душе! Что вам! Вы зайдете в какой-нибудь маленький ресторанчик, спросите себе обед в полтинник — и довольны. Вы счастливы, веселы, вы возвращаетесь домой, ни в каком смысле не чувствуя обременения. Однажды в Париже я именно таким образом провел мой день. Нас было трое, и мы условились отобедать самым простым и дешевым образом. Отправились в один из établissements de bouillon,[41] заказали обед в два с половиной франка с человека, и, поверите ли, никогда я не чувствовал себя так хорошо, так свободно, как в это памятное послеобеда! Потом мы отправились в какую-то третью галлерею театра Gaieté[42] и оттуда в Jardin Bullier,[43] где до такой степени развеселились, что незаметно кончили ночь au violon.[44] И вот тогда-то я сказал себе: если обстоятельства мои изменятся, если я сделаюсь беден, comme Job,[45] — я всегда буду жить таким образом! Да, господа, я вам завидую!
— Что и говорить! с этой стороны мы действительно обеспечены, — сказал Глумов, — разумеется, лучше иметь спокойную совесть, нежели переполненное брюхо. А все-таки и еще было бы лучше, если б совесть с брюхом-то как-нибудь примирить!
— Да, но мир так устроен… Entre nous soit dit,[46] я ведь и сам — немножко социалист; я сам не раз задумывался об этой «курице в супе», которую так желал Генрих IV для своих верноподданных. Но я убедился, что пути провидения ведут человечество иначе — и вот в чем, собственно, заключается то громадное различие, которое существует между мною и распространителями превратных идей. Мы, русские, все более или менее социалисты, но я — я борюсь со страстями, а другие — беспрекословно отдают себя им в плен. Вот и все.
— И хорошо делаешь, что борешься. Потому что если каждый день всякому по курице — сколько бы куриц надо было! А потом, пожалуй, и курицами перестали бы удовлетворяться — захотели бы бифштексу!
— C’est ce que je me suis toujours dit.[47] Мы, консерваторы, понимаем это ясно. Но вот… Литератор! ты как об этом думаешь?
— Помилуй! Совершенно так же, как и ты!
— Là! la main sur la conscience?[48]
— Ну, ей-богу! — поклялся я.
— Я тебе верю. Итак, будем продолжать. Повторяю: сам по себе я умерен; но, к сожалению, обед без общества для меня немыслим. Я охотно обедал бы в семействах, но увы! направление нашего века таково, что об семейных обедах никто нынче не помышляет, и даже сами семейные люди находят, что эти обеды годны только для воспитанников военно-учебных заведений, отпускаемых по праздникам домой. Тонкий обед в ресторане, обед с немногими друзьями, оживленный непринужденным и живым разговором, — вот идеал нашего времени. Но, понятно, что в смысле menu такой обед должен быть совершенством, а это — уже слишком серьезное дело, чтобы можно было положиться единственно на самого себя. Menu обеда должно быть дебатировано и резонировано, ибо только тогда получится действительный гастрономический результат. К сожалению, такого рода результат не всегда согласуется с результатом гигиеническим, и вот что, по мнению моему, образует ту страшную пропасть, которая разделяет l’homme de la nature et l’homme civilisé! L’homme de la nature se nourrit de matières premières;[49] его кухня — вся вселенная. Он ловит рыб, птиц и зверей — и съедает их почти живыми. En fait de légumes[50] — у него под руками бесчисленные корни и злаки. И при этом он ест и пьет, и заметьте — пьет только воду! именно столько, сколько ему надо, чтобы утолить голод и жажду. Но по мере того, как цивилизация прикасается к человеку, таинственная книга природы мало-помалу закрывается для него.
Уже наш мелкий петербургский чиновник с презрением отворачивается от внутренностей какого-нибудь оленя и, как подспорье к воде, изобретает квас. Но питание чиновника все-таки еще довольно близко подходит к питанию человека природы, потому что главный характер его составляют умеренность порций и преобладание воды, хотя бы и замаскированной под формою кваса. Затем, чем ближе человек подходит к состоянию культурности, тем больше он удаляется от первообраза питания, предлагаемого природой, и тем неудержимее стремится к переполнению желудка. Являются комбинации, вследствие которых matière première[51] до того изменяет свой интимный характер, что делается почти неузнаваемою. Сначала говядина сортируется, причем сорты жесткие и трудно проглатываемые достаются в удел людям, питающимся в греческих кухмистерских, а сорты мягкие и легко проглатываемые — культурному человеку. Но этого мало: вместо говядины, просто вареной или жареной, выступает на сцену бифштекс, ростбиф, languettes de boeuf,[52] то есть говядина идеализированная, — говядина, которая одним наружным видом свидетельствует об усилиях человеческого разума, работавшего над ее просветлением. Но и этого недостаточно: наступает эпоха соуса. Соус — это высшее выражение современного кулинарного гения; соус — это преобразователь, по преимуществу. И, что всего важнее, заслуги его состоят не в прошедшем, не в том, что уже им совершено, а в тех бесчисленных перспективах, которые он позволяет предвидеть в кулинарном будущем. Ах, messieurs![53] вы не можете иметь даже приблизительной идеи о том, что совершило кулинарное искусство в последнее время! Карэм был велик и, вероятно, не повторится больше, но идея его жива и будет жить вечно. Ученики его разрабатывают эту идею так неутомимо и добросовестно, что каждый из них в своей специальности непременно представил какое-нибудь изобретение или пролил новый свет на какое-нибудь блюдо! Впрочем, у нас, в Петербурге, еще нельзя иметь полного представления той неизмеримой высоты, на которой стоит современное искусство хорошо есть. Наши рестораны недурны — и только; но надобно быть в Париже, в этой благословенной Франции, которая со всех концов шлет что-нибудь съедомое, чтоб убедиться, до какой степени развития может дойти кулинарный гений. Каждый француз — природный повар, каждая француженка — природная повариха, в самом возвышенном, благородном значении этих слов. Ни один французский король не умер, не оставив потомкам какого-нибудь кулинарного изобретения, и весь народ стремился подражать ему. Заметьте, что даже революции имеют у них кулинарный характер, потому что всем хочется попробовать той «курицы в супе», которую так великодушно пообещал Henri IV![54] Каждый раз, как я приезжаю в Париж, я не верю глазам своим. Казалось, что уже найдены были геркулесовы столбы, что здание и увенчано, и переувенчано, — ничуть не бывало! Oh! il y a encore immensément à faire![55] скажет вам всякий француз, и скажет святую истину, потому что, например, то, что вы в прошлом году ели под именем rognons sautés,[56] — уже совсем не то, что вы едитие теперь под тем же именем. В прошлом году вы должны были размалывать мясо почки зубами; теперь вы только присасываетесь к почке языком — и она растаяла. А Бисмарк думал своими пятью мильярдами раздавить эту страну! Да она одними трюфелями уплатит сто таких контрибуций, одними poulets de Mans[57] подорвет всю его жалкую политику! Правда, он отрезал у Франции Страсбург… Strasbourg!
Он поник головой, как бы оплакивая участь Страсбурга.
— Да, брат, Страсбург… не видать теперь французам страсбургских пирогов, как своих ушей! — сказал Глумов, — но вот что, душа моя! Слушаю я тебя и удивляюсь: сколько ты должен был и поработать, и подумать, чтобы представить себе всю эту картину в такой поразительной ясности! Прогресс человечества в связи с кулинарным искусством! — какая грандиозная идея! Эти дикие, которые едят животных сырьем, эти чиновники, которые питаются в греческих кухмистерских произведениями кухни, так сказать, свайного типа, и, наконец, этот венец созданий божиих, культурный человек, который уже употребляет бифштекс и постепенно возвышается до соуса… изумительно! Поверишь ли, я даже сотой части того не подозревал, что теперь, после твоего изложения, так ясно мне представляется!
— Да, мой друг, и поработал я, и подумал, а все-таки в конце концов могу сказать только одно: я знаю, что я ничего не знаю. Или еще точнее: я знаю, что благодаря развитию кулинарного искусства у меня иногда в один вечер пропадают целые недели упорных гигиенических усилий. Трудно быть осмотрительным, когда все вокруг приглашает к неосмотрительности, и хотя я никогда не позволял себе крайностей, но все-таки каждый раз с наступлением лета чувствую потребность ремонтировать себя в Карлсбаде! Но пора уж и кончить. В изложении остального я буду краток, потому что приближается время моей первой прогулки. Вечер я обыкновенно провожу в балете или у французов и оканчиваю свой день на рауте или бале. Я никогда не ужинаю — это принцип, от которого я не позволяю себе отступить ни на йоту. Домой я возвращаюсь отнюдь не позднее двух часов ночи. Ночной туалет берет у меня не меньше получаса, потому что это — время, когда я применяю те средства, которых действие продолжительно. Но раз в постели, я засыпаю как убитый. В этом отношении я сумел так дисциплинировать себя, что утром все повязки на голове и лице оказываются всегда на тех самых местах, на которых они были с вечера. Затем опять начинается утро, и таким образом идут дни за днями, почти не изменяясь даже в подробностях. Зная мой один день, вы знаете всю мою жизнь. Что сказать вам еще? Я здоров, я мало состарелся, мне никогда не бывает скучно, и я способен даже теперь совершать некоторые exploits,[58] которые впору человеку лишь самой цветущей молодости. Но, повторяю, все это достается мне далеко не легко.
— Еще бы! — воскликнул Глумов, — каждый шаг рассчитан, каждое притирание обдумано, — какая тут легкость! Но вот что: ты сказал сейчас, что тебе никогда не бывает скучно, — действительно ли это так?
— Никогда. L’ennui est l’ennemi de l’utile.[59] Я гоню скуку, потому что она приводит за собой дурные фантазии. Вот вы, господа… Литератор! я уверен, например, что ты даже теперь не знаешь, куда деваться от скуки?
— Теперь — нет; но вообще не могу сказать, чтоб жизнь была весела.
— Недоволен? революций хочется? Да, â propos![60] скажи, пожалуйста, правда ли, что ты требовал cent milles têtes à couper?[61]
— Опомнись! Христос с тобой!
— Да, да, да; мне сказывали. Я лично по-русски давно ничего не читаю, — я считаю нашу литературу помойной ямой, в которую сваливаются все общественные нечистоты, — но знаю из достоверных источников… Ах, голубчик! голубчик! зачем ты это делаешь?
— Да что делаю-то? говори!
— Постой! твоя речь впереди. Неужели ты можешь думать, что нас это меньше заботит, нежели тебя?
— Что заботит? Ничто меня не заботит!
— Неужто ты можешь думать, что мы не видим, qu’il y a encore immensément à faire?[62] Что мы сами от души не желали бы, чтоб все шло к общему удовольствию, чтобы эти широкие идеи, toutes ces idées généreuses, enfin…[63]
— Да что ж это, наконец! Глумов! объясни ему, сделай милость!
Но Износков уже ничего не слышал.
— Друг мой! — продолжал он, беря меня за руки и сильно сжимая их, — я, конечно, не имею никакого Права!.. но ради бывшего нашего товарищества убеждаю тебя; оставь! Laisse, mon cher![64] Оставь другим заботу волновать общественное мнение, а ты— будь с нами! Право, Россия не так безобразна, как это кажется с первого взгляда! А ежели бы она и в самом деле была так непозволительно дурна, то, право, мы, русские, мы, люди культуры, должны пожалеть об ней!
Он говорил это таким дурацки-убежденным тоном, что я стоял как ошеломленный и, ничего не понимая, глядел ему в лицо. Но там было все загадочно. Ясно было только то, что в эту минуту он и любил меня, и жалел; любил, не зная за что, и жалел, не зная за что. Наконец он спохватился и взглянул на часы.
— Ба! пять минут второго! — воскликнул он торопливо, — ну, господа, прошу извинить! Надеюсь, что мы видимся не в последний раз! Литератор! ведь ты не сердишься на меня? Ты понимаешь, что я от души… Оставь, мой друг! Право, жизнь не так дурна, как это кажется господам революционерам, которые по природе своей склонны все видеть в черном свете! До свидания, господа!
Выходя, я готов был взять Глумова за горло: до такой степени изумила меня последняя сцена.
— Это — все ты! — упрекал я его, — ты привел меня к этому шалопаю! по твоей милости я наслушался его наставлений! Ты говорил мне: пойдем на культурного человека посмотреть, а этот культурный человек, того и гляди…
— Не горячись! — прервал меня Глумов, — во-первых, беды от Износкова не может быть никакой. Он уж и в настоящую минуту, вероятно, забыл не только о своих наставлениях, но и об тебе самом. Во-вторых, ты все-таки в выигрыше, потому что видел лицом к лицу подлинного русского культурного человека и знаешь, как он относится к твоему ремеслу.
V
1-й золотарь. Давеча мне дядя Николай говорит: «Не понимаю я, дядя Павел, как вы, золотари, это делаете? и должность свою справляете, и хлеб едите». А я ему: «Не твоего разума эта задача, дядя Николай! зато мы в день целковый получаем, а тебе и вся цена грош».
2-й золотарь. Ну, а он что на это?
1-й золотарь. Ничего. «Отчаянные! — говорит. — Ин и вправду об вас забыть нужно!»
Из неизданной книги: «Житейские разговоры в отходной яме»
От времени до времени наша печать оживляется, и поводом для этого оживления обыкновенно служат уголовные скандалы. Много и безбоязненно было писано об матери Митрофании; еще более обильную пищу для литературных излияний дал купец Овсянников; наконец, выступил на сцену уголовный процесс г. Кронеберга…
Процесс этот немногосложен: г. Кронеберг сек свою дочь и давал ей пощечины. О существовании этой дочери он узнал уже спустя значительное время после ее рождения, и потому первоначальное ее воспитание было более чем небрежное. Немедленно по появлении на свет она была отдана своею матерью в одно крестьянское семейство в Швейцарии, где и нашел ее г. Кронеберг. Затем он отдал ее в семью пастора в Женеве, но и тут удовлетворительных результатов не получил. Оставалось поселить ребенка вместе с собою и лично заняться его воспитанием, что г. Кронеберг и исполнил. Но, задавшись мыслью сделать из свой дочери «женщину не блестящую, но полезную», молодой отец с огорчением заметил, что в ребенке уже укоренились некоторые дурные привычки, при существовании которых женщина хотя и может быть блестящею (в благонамеренном мире кокоток), но ни в каком случае не имеет права на название полезной. Надлежало воздействовать на эти привычки, устроить так, чтоб ребенок забыл об них. Намерение отличное, но, к сожалению, г. Кронеберг — педагог-самоучка, и притом человек раздражительный, пылкий и самонадеянный. Он сказал себе: не нужно мне никаких советов, ничьей помощи! я сделаю все сам. Но так как человек, не приготовленный к известного рода деятельности, может только производить путаницу, то весьма естественно, что самонадеянный педагог на первых же порах должен был сознаться в своей несостоятельности и, за недостатком времени для изучения новейших педагогических систем, прибегнуть к тем воспитательным приемам, которые в ходу в той среде, где он живет. А в среде этой педагогика одна: плюхи, ежели дело не терпит отлагательства, и розги, ежели можно вести дело искоренения пороков с чувством, с толком, с расстановкой. И действительно, розги, пополняемые плюхами, поступили на сцену.
Но система телесных воздействий имеет троякую невыгоду. Во-первых, она действует медленно, ибо относится к злой воле ребенка не непосредственно, а при участии некоторых посредствующих членов, которыми являются: со стороны воспитывающего — розги и кулак, а со стороны воспитываемого — бренная оболочка бессмертной его души и преимущественно задние ее части. Понятно, что через спину, и притом при помощи розги, не имеющей в себе ничего духовного, гораздо труднее проникнуть до души, нежели при помощи убеждения, которое, как начало тонкое, имеет свойство действовать на душу непосредственно. Во-вторых, телесные наказания, не удовлетворяя условиям быстроты действия, — что собственно и ожидается от них педагогами-самоучками, — раздражают последних и заставляют их тем сильнее упорствовать в избранной системе, чем сомнительнее получаемые от нее результаты. В-третьих, они вынуждают наказываемых свидетельствовать об испытываемой ими боли более или менее громкими криками, которые впоследствии могут служить не совсем приятным для педагогов поводом для начатия против них судебного преследования.
Это последнее обстоятельство в особенности важно; оно оказалось и в деле г. Кронеберга. Мария Кронеберг так сильно и часто кричала, что возбудила сострадание в двух сердобольных женщинах (дворничихе и кухарке), которые и заявили в участке об истязаниях. Педагогические эксперименты были прерваны; на сцену явился участковый пристав, затем прокуратура, врач, судебный следователь, судебная палата и проч. А г. Кронеберг поспешил обратиться к помощи г. Спасовича, о котором даже стены судебных зданий вопиют: vir bonus, dicendi peritus.[65]
Судебное следствие состоялось и, как следовало ожидать, было направлено к разъяснению следующих трех капитальных пунктов: 1) не было ли каких посторонних причин, заставивших упомянутых выше двух сердобольных женщин довести до участка дело об истязаниях? или другими словами: заявили ли они об этом деле бескорыстно или же руководились какими-либо личными непохвальными побуждениями? 2) заслуживала ли Мария Кронеберг, чтобы на порочную волю ее воздействовали при посредстве розог и оплеух, то есть обладала ли она такими наклонностями, которые могли ей впоследствии воспрепятствовать сделаться полезною женщиной? 3) выходили ли употребленные г. Кронебергом меры и исправления из пределов, очерченных законом, настолько, чтобы потребовать вмешательства в форме судебного преследования?
По первому вопросу на возбудительниц была накинута сильная тень. Дворничиха была замешана в историю о пропавшем цыпленке, за что подвергнута г. Кронебергом вычету из жалованья в количестве 80-ти копеек. Кухарка же состояла с девочкой в каких-то преступных отношениях, которые, однако ж, на судоговорении разъяснения не получили. Вообще этот вопрос был поставлен довольно ребячески, и защита поняла, что опираться на него нет надобности; но сомнение все-таки было возбуждено, и чистый образ сердобольной дворничихи значительно потемнел в глазах людей, которые из всех побуждений, двигающих человеком, верят только в побуждение, заставляющее ради 80-ти копеек предавать своего ближнего.
По второму вопросу свидетельница, доктор Суслова, показала, что девочка занималась онанизмом и не умела управлять своими естественными нуждами. Да, именно так, в этих словах и показал доктор, четко и ясно, как будто боялся что-нибудь упустить из вида. Другие показывали о «пороках» Марии Кронеберг уклончиво, как бы не желая компрометировать ребенка, и без того уже самым возмутительным образом обвинившего себя в воровстве и лганье, но доктор Суслова показывала именно так, как «перед богом и страшным его судом показывать о сем надлежит». Там, где другие останавливались перед мыслью, что девочке предстоит еще долгое поприще жизни, доктор Суслова, с солдатскою, можно сказать, откровенностью, не усомнилась выдать ей аттестат на всю жизнь. Затем, из других показаний, хотя и не столь веских, как сусловское (их давали: подсудимый Кронеберг, г-жа Жезинг и пастор Комба́, который уже выказал свою несостоятельность в деле воспитания), можно заметить, что Мария Кронеберг позволяла себе лгать и однажды даже подала повод заподозрить ее в намерении присвоить себе из запертого помещения (кража со взломом) принадлежащий г-же Жезинг чернослив.
И таким образом перед присяжными невольно возникла следующая дилемма: ежели уже до начала судебного преследования Мария Кронеберг не умела управлять своими естественными надобностями, то не будет ли вынесенный подсудимому обвинительный приговор косвенным для нее поощрением и впредь упорствовать в том же ложном направлении?
По третьему пункту свидетели неученые отчасти показывали, что наказания были жестокие, отчасти отзывались неведением. Свидетели ученые, то есть эксперты-врачи, путались. Врач Лансберг сначала высказывался не в пользу г. Кронеберга, но потом начал мало-помалу отступать и кончил тем, что, собственно говоря, провести границу между легкими и тяжкими повреждениями «мы не можем» и что иногда и от легких повреждений люди умирают, а другие и от тяжких выздоравливают. Так что когда г. Спасович обратился к нему с вопросом, нашел ли он на теле прорезы кожи или только пятна и полосы (этот вопрос следовало бы вырезать золотыми буквами на мраморной доске и повесить последнюю в зале заседаний совета присяжных поверенных), то г. Лансберг ответил уже совсем темно, что «повреждения относятся к тяжким по отношению наказания, а не по отношению нанесенных ударов», желая этим, вероятно, выразить, что солдат мог бы вынести такие повреждения без особенного вреда, но для ребенка они могли составить и вред. Врач Чербишевич свидетельствовал по части рубцов и выразил то мнение, что повреждения особенного влияния на здоровье ребенка не имели, но рубцы остались на всю жизнь и, судя по форме их, произошли не от ушибов, а от ударов прутьями. Давность же происхождения рубцов г. Чербишевич определил так: может быть, за несколько лет, а может быть, и за три недели. Эксперт Флоринский тоже отнес наказание не к тяжким, причем присовокупил, что Мария Кронеберг принадлежит к числу таких субъектов, у которых раздражение кожи бывает резче, чем у других. Наконец, эксперт доктор Корженевский выразился, что девочка принадлежит к субъектам, малейшее прикосновение к телу которых производит синяки. Словом сказать, экспертиза не только не внесла никакой ясности в дело, но еще более запутала в лабиринте противоречий и оговорок. Никто ничего не сказал прямо, по-сусловски, так что для слушателей этого бесплодного разговора защиты с экспертами мог даже возникать совсем особого рода вопрос: да уж не Мария ли Кронеберг виновата тем, что принадлежит к числу субъектов, малейшее прикосновение к телу которых производит синяки? Хотя, с другой стороны, слушателям более сообразительным мог представиться и такой вопрос: для чего же, однако, г. Кронеберг предметом своих педагогических воздействий избрал дочь, а не солдата, малейшее прикосновение к телу которого, наверное, синяков не произведет?
Господин Спасович бесподобно воспользовался неопределенным характером матерьяла, добытого на судебном следствии. Вообще, независимо от талантливости, это самый солидный и дельный из ныне действующих адвокатов. Он всегда стоит на почве фактов и прежде всего интересуется не тем, действительно ли преступление имело место, а тем, не имеется ли для него оправданий в законе и могут ли быть опровергнуты представляющиеся в деле улики. Он не допускает чувствительности и бесплодных набегов в область либерального бормотанья. Он помнит, что он адвокат, только адвокат, а не философ и не публицист, и приглашает присяжных заседателей помнить об этом. В его глазах преступление не имеет в себе ничего чудовищного, изумляющего, и он мало ожидает, чтобы суды перестали действовать, за прекращением уголовных преступлений. Он знает законы со всеми продолжениями и дополнениями, умеет толковать их и всегда хранит про запас кассационный повод. Свидетеля он изучил до тонкости и потому не учит его и не надоедает назойливыми вопросами, а только слегка направляет, ибо знает, что свидетель, предоставленный самому себе, гораздо скорее преподнесет ему сущий мед, нежели свидетель, которого адвокат берет под опеку. Присяжных заседателей он тоже проник и нередко упрощает их обязанности, объясняя (обыкновенно в заключение), что о преступлении уже по тому одному не может быть и речи, что самое судебное преследование возбуждено несогласно с такими-то и такими-то требованиями закона. Сверх того, судя по репутации, г. Спасович принадлежит к числу адвокатов, не обуреваемых жаждой легкого и быстрого стяжания, что еще больше влечет к нему сердца подсудимых.
Таков адвокат, выступивший в роли защитника г. Кронеберега на судоговорении 23 января.
Сделавши довольно краткий, хотя, нужно сознаться, не особенно замечательный очерк жизни и семейных отношений подсудимого, г. Спасович прежде всего приступает к вопросу: имеют ли право родители наказывать своих детей? — и разрешает его не на основании каких-либо произвольных умозаключений, но ссылкою на статью закона, которая гласит прямо, что родители, недовольные поведением детей, могут наказывать их способами, не вредящими их здоровью и не препятствующими успехам в науках. Отсюда вывод: да, г. Кронеберг наказывал свою дочь, и имел на это право, гарантированное ему законом. Но, может быть, он злоупотреблял этим правом и пускал в ход такие способы наказания, которые могли вредить ее здоровью? — чтоб разрешить этот вопрос, Спасович входит в подробное, хотя и утомительное рассмотрение качества побоев, следы которых найдены на теле ребенка. Знаки от побоев разделяются на три категории. Прежде всего представляются знаки на лице, которых так много, что, по признанию самой защиты, «если пристально вглядеться в лицо ребенка, то это лицо точно исписано по всем направлениям тонкими шрамами». Но это ничего не значит, ибо показания экспертов так неопределенны, что защите нет никакого труда вывести заключение, что «нет ни одного знака, о котором можно было бы сказать, что он произошел от удара, нанесенного отцом». Жаль, что подсудимый сам сознался в пощечинах, а не будь этого сознания, не было бы и пощечин, так как нет на лице синих и сине-багровых пятен. Но ежели и были синяки, то разве присяжным не памятно показание доктора Корженевского, который удостоверил, что существуют субъекты, малейшее прикосновение к телу которых производит синяки? Ребенок золотушный, изобилующий лимфой, — что же тут мудреного, что тело его покрыто синяками! Итак, знаки на лице есть, но нет уверенности, нет улик и доказательств, что они произошли от побоев, нанесенных отцом. И притом это знаки мелкие, ничтожные, знаки, которых не заметила даже доктор Суслова, заметившая, что Мария Кронеберг не умеет справляться с естественными надобностями. Затем, следуют знаки на руках и на ногах. Что касается до них, то они произошли очень просто: девочку держали за руки и за ноги во время сечения. Сечение — было; этого никто не отрицает; сам подсудимый сознался в этом, и на этот раз сознался кстати, потому что иначе нельзя было бы объяснить происхождение знаков на руках и на ногах. Tout se lie, tout s’enchaîne dans ce monde,[66] сказал некогда Ламартин и прибавил: aléa jacta est![67] то есть когда собираешься сечь, то имей в виду, что секомого нужно будет держать за руки и за ноги, вследствие чего у него, несомненно, образуются синяки. Дальше, переход от знаков на руках и на ногах к знакам на задних частях тела — самый естественный. Эти знаки тоже есть; но, прежде всего, сам эксперт Лансберг засвидетельствовал, что «прорезов кожи» не было, а были только сине-багровые пятна и полосы; а коль скоро «прорезов кожи» не было, то стоит ли о подобных знаках и толковать! хотя же, сверх полос и пятен, найдены были на ягодицах следы струпьев, то струпья эти, по объяснению эксперта Корженевского, суть не что иное, как местное омертвение кожи, которая сходила и заменялась новой. Да и самый вопрос этот не медицинский, а педагогический, ибо медик не может определить ни пределов власти отца, ни силы неправильного наказания (?), — все это могут определить только инспекторы и учители гимназий. Но на столе, в числе вещественных доказательств, тем не менее лежит пук розог, которые эксперт Флоринский назвал шпицрутенами, и несомненно бывший в употреблении, и именно в руках г. Кронеберга, — этого, конечно, отрицать нельзя! Нельзя, однако ж, отрицать и того, что г. Кронеберг пользовался этим педагогическим орудием только один раз. Он сорвал эти рябиновые прутья за несколько дней до наказания, а срывая их, быть может, не знал, что придется употреблять их в дело. Правда, что случай не заставил себя ждать; но до тех пор г. Кронеберг наказывал свою дочь только «маленькими ветками», да и то раза три, в промежутках времени довольно значительных. Хотя же некоторые и показывают, что девочка кричала сильно и часто, но она вообще «кричать горазда, кричит и тогда, когда ее ставят в угол или на колени».
Итак, о происхождении знаков на лице нельзя сказать ничего верного; что же касается до сечения, то хотя оно и производилось, но при посредстве совсем «маленьких веток», за исключением лишь одного раза, когда употреблены были в дело шпицрутены, срезанные за несколько дней до наказания, но без ясно сознанного намерения употребить их в дело. Можно ли назвать тяжким это единократное наказание, не сопровождавшееся даже прорезами кожи? — ответ на это дает кассационная судебная практика, из которой до очевидности ясно, что в настоящем случае самое возбуждение подобного вопроса представляется немыслимым.
Совсем иное дело вопрос: была ли достаточная причина для употребления меры домашнего исправления в тех увеличенных размерах, которые допущены были при том единократном наказании, когда г. Кронеберг употребил шпицрутены? Само собою разумеется, что была. Нужно отдать справедливость чистоплотности г. Спасовича: он ни на минуту не остановился на солдатски-откровенном показании доктора Сусловой. Но в этом не было и надобности, потому что девочка имеет много других пороков, которые требуют педагогического воздействия: она — лгунья и воровка… Пропадает сахар, чернослив, и, наконец, является поползновение (следствием, впрочем, не подтвержденное) добраться и до денег.
Равнодушно к таким поступкам относиться нельзя. «Я полагаю, — сказал г. Спасович, — что от чернослива до сахара, от сахара до денег, от денег до банковых билетов — путь прямой, открытая дорога». Слова сильные, но неосновательные, свойственные тем остервенелым педагогам, которым до того опостылело воспитательное ремесло, что они в каждом воспитываемом готовы усматривать будущего злодея. Едва ли также можно согласиться с мнением г. Спасовича, что отец, наказывая своего сына (как?), избавляет его от каторжных работ и поселения, а наказывая дочь, избавляет ее от того, чтоб она не сделалась распутною женщиной; ибо можно указать на множество лиц, которые, никогда не быв сечены ни с рассечением кожи, ни без рассечения оной, не только не угодили на каторгу, но занимают более или менее значительные общественные должности. Тем не менее, несмотря на парадоксальность и ребяческую несостоятельность подобных мнений, высказывать их в защитительной речи, обращенной к присяжным заседателям, все-таки недурно. Хорошо поразить воображение присяжного, сказав: вот девочка, которая была на пути к банковым билетам, но г. Кронеберг ее остановил! И еще: секи своего сына, ибо это избавляет его от каторги! секи свою дочь, ибо это воспрепятствует ей сделаться жертвой распутства! Нужды нет, что все это вздор и галиматья и что подобные мнения отзываются не то старческим бессилием, не то ребяческими пеленками, — г. Спасович очень хорошо знает, что существуют аудитории, в среде которых подобные перспективы пользуются силою почти неотразимою, и покуда эти аудитории будут существовать, до тех пор и он будет рисовать свои перспективы в интересах подсудимых, которые прибегнут к его адвокатской помощи.
Из всего изложенного выше оказывается, что г. Кронеберг отнюдь не истязатель, а только плохой педагог. Наказывая девочку сильно, больно, так что остались следы наказания (вот кабы найти такой способ, чтобы можно было наказывать сильно и больно, а следов бы не оставалось!), он «сделал две логические ошибки: во-первых, поступил слишком рьяно, предположив, что можно одним ударом искоренить все зло, которое годами посеяно в душу ребенка и годами же взрощено», и, во-вторых, он «действовал не как осторожный судья и не вошел в исследование обстоятельств, которые склоняли девочку к краже».
Плохой педагог, неосторожный судья — и больше ничего. Вот если б его за это предали суду, тогда был бы другой разговор! Тогда его можно было бы даже присудить к высшей мере наказания, то есть к отдаче на покаяние в педагогическое общество (но тогда можно было бы также доказать, что суждение о достоинстве той или другой педагогической системы до присяжных не относится), а то, помилуйте! предают человека суду за истязание! Да где же оно? где его признаки? вот вам свод законов, вот кассационная судебная практика и вот, наконец, показания экспертов-врачей! Истязания! тяжкие повреждения! И это говорится ввиду показаний, совершенно определительно установивших, что не было даже пресечения кожи!
Одним словом, как адвокат, г. Спасович исполнил свое дело вполне исправно. С знанием законов и кассационной судебной практики, с тонким пониманием свидетелей и присяжных заседателей. С своей стороны, и присяжные отнеслись к его усилиям с полным доверием и вынесли г. Кронебергу оправдательный вердикт.
Собственно говоря, здесь бы и следовало кончить настоящую статью. Все сделали свое дело. Г-н Кронеберг сек свою дочь, но без просечения кожи, а ежели она кричала, то потому только, что вообще «кричать горазда». Г-н Спасович исполнил свое провиденциальное назначение бесподобно, то есть доказал, что клиент его наказывал не произвольным аллюром, но на точном основании указаний, представляемых кассационною судебною практикой. Присяжные заседатели вынесли оправдательный вердикт. Во всем этом нет ничего ни необычного, ни удивительного. Не удивительно даже и то, что в таком деле фигурировал г. Спасович, а не адвокат чувствительной школы, г. Языков. Ведь г. Спасович, помнится, уже заявил однажды, что адвокатская деятельность должна не посторонними какими-либо соображениями руководствоваться, но преследовать лишь те чисто художественно-юридические цели, которые непосредственно вытекают из свода законов и кассационной судебной практики…
Но есть в защитительной речи г. Спасовича одна сторона, которая как-то не клеится с идеалом чисто художественно-юридических целей, рекомендуемым им адвокатскому сословию. В начале этой речи существует небольшое вступление, в котором знаменитый адвокат желает как бы выгородить свою личную солидарность с розгами и пощечинами и внушить слушателям, что его личные понятия насчет способов педагогического воздействия далеко не сходны с теми, которые исповедует г. Кронеберг. Ввиду такого заявления, конечно, всего естественнее было бы обратиться к г. Спасовичу с вопросом: если вы не одобряете ни пощечин, ни розог, то зачем же ввязываетесь в такое дело, которое сплошь состоит из пощечин и розог? Но, по-видимому, это нравственное и умственное двоегласие имеет особенную и вполне уважительную причину, а именно: г. Спасович, не будучи лично сторонником пощечин и розог (и он родился в Аркадии, и он не чужд посторонних соображений!), видит в них тем не менее своего рода воспитательный пантеон, к которому надо приближаться с осторожностью, а всего лучше ожидать с терпением, пока он сам собой рухнет. А не рухнет он никогда, невольно проговаривается при этом уважаемый оратор и адвокат.
Вот об этой-то стороне защитительной речи и предстоит теперь сказать несколько слов, тем более что она значительно подрывает солидно-деловую, изъятую от всяких мечтательностей, деятельность г. Спасовича как адвоката.
Существует в Европе и, вероятно, в целом мире политическое и философское учение, известное под именем учения о компромиссах и сделках. Сущность этого учения заключается в том, что человечество должно подвигаться вперед, отступая. Некоторые адепты этого учения еще сохранили память о кой-каких идеалах и собственно ради их достижения рекомендуют уступки и компромиссы; но другие до того завертелись в беличьем колесе компромиссов, что уже ничего впереди не видят и ничего назади не помнят, а смотрят на жизнь как на исторически организованную игру, в которой никакой цели никогда не достигается, хотя все формы неуклонного поступательного движения имеются налицо. Игра эта бывает более или менее сложная, смотря по большей или меньшей сложности замысла и большему или меньшему количеству сил, которые в нее введены, но, во всяком случае, она с избытком наполняет досуги людей.
В настоящее время в Европе существует как бы поветрие на компромиссы и сделки. Всюду чувствуется смутная боязнь, и потому всюду раздаются клики: «Осторожнее! Не спешите! Отступайте! Заманивайте! Не раздражайте!» На этой наклонности компромисса основан союз германских национальных либералов с Бисмарком, и этим же явлением объясняется и то, что происходит теперь во Франции.
Практика компромиссов до такой степени втягивает, что заставляет забывать прежние связи и прежних друзей. Люди делаются придирчивыми, подозрительными, приходят в одичание и в конце концов до такой степени погрязают в мелочах, что начинают все прикидывать на золотники и вершки и от этих вершков ставить в зависимость успех поступательного движения в беличьем колесе. Каждый открытый шаг друзей-единомышленников кажется компрометирующим, каждое слово, разоблачающее действительные цели стремлений партии, представляется рискованным, преждевременным. Хотелось бы достигнуть этих целей «потихоньку», не в смысле большей или меньшей медленности процесса достижения, а так, чтобы никто не заметил. Все бы на минуту задремали, а мы бы взяли да и воспользовались. И так как, при таком беспокойном состоянии ума, последний все усилия направляет лишь к устройству внешних форм движения, то есть к дисциплине и субординации, то нередко случается, что первоначальные цели мало-помалу стираются и отходят очень далеко назад. Так что не без удивления можно видеть, что человек, который первоначально ни о чем не хотел слышать, кроме maximum’a, преспокойно съезжает себе на minimum и упорно сидит в новосозданной им раковине умеренности до тех пор, пока новая горячая волна жизни не вымоет его оттуда.
Веяние времени, носящееся в воздухе, сказывается до того решительно, что подчиняет себе, например, даже Луи Блана, который до сих пор гораздо сочувственнее относился к требованиям «мечтателей», нежели к «политике рассудка» и «политике результатов». В письме, обращенном в 1875 г. к избирателям XIII округа города Парижа, он уже прямо выражается, что уступки необходимы и что одним скачком очутиться у цели невозможно…
То же явление встречается и в современной России, хотя и в иных применениях. У нас нет широких интересов, волнующих Францию и Германию; у нас человеческая мысль может от времени до времени высказываться лишь по поводу частных случаев, проявляющихся преимущественно на судоговорениях. Поэтому и в деятелях чувствуется некоторая разница: во Франции проводителями учения о компромиссах являются Гамбетта и Луи Блан, у нас — г. Спасович. С этою оговоркой письмо Луи Блана, без всякой натяжки, может стоять рядом с речью г. Спасовича, и читателю, при сравнении их, остается только уменьшать размеры в той степени, в какой он сам заблагорассудит.
Изложив свою избирательную программу и установив те политические общественные идеалы, торжеству которых была всецело посвящена его жизнь и в пользу коих он и впредь обязывается неленостно ратовать, Луи Блан вдруг делает переход, в сущности, ничем не мотивированный, кроме смутного представления: а что, ежели честный солдат Мак-Магон, за такие мои слова об республиканских идеалах, республику прихлопнет, а нам всем «фельдфебеля в Вольтеры даст»? Вот этот переход: «Мне, конечно, не безызвестно, любезные сограждане, что в трудном шествии человечества к царству правды необходимы известные станции; что победы прогресса не совершаются в один день; что нужно терпение, нужна осторожность, нужен практический смысл вещей; что, идя вперед с излишней быстротой, человечество рискует быть поставленным в необходимость отступить». То есть, другими словами: ваше превосходительство! господин маршал Мак-Магон! Вы слышали, что я сейчас говорил о рабочем вопросе, о церкви, о народном образовании, но ведь это Улита едет — когда-то будет. Желая всем сердцем реформ в моем отечестве, я, однако ж, понимаю, что на хотенье есть терпение и что в настоящее время мы уже и тем совершенно счастливы, что имеем такого снисходительного начальника, как ваше превосходительство. Успокойтесь же насчет нашей благонамеренности и имейте в виду, что ежели в 1880 году потребуется устроить для вас новый септеннат, мы, хотя, быть может, ради приличия, не будем деятельно участвовать в этом торжестве, но и препятствовать оному не станем, так как идеалы наши трудные, и в 1880 году пословица «скорость потребна только блох ловить» будет существовать в той же силе, как и в настоящую минуту.
То же говорит и г. Спасович в той скромной сфере сечения, в которой он, в качестве адвоката, вынужден вращаться. «Я, гг. присяжные, — объясняет он, — не сторонник розги; я вполне понимаю, что может быть проведена система воспитания, из которой розга будет исключена, но… нормальные меры употребляются в нормальном порядке вещей». Или, другими словами: хорошо воспитание без розги, но нужно запастись терпением, осторожностью и практическим смыслом вещей и с этим ждать нормального порядка вещей. А до тех пор следует довольствоваться необходимыми станциями, в числе коих г. Кронеберг составляет такую, на которой поезд, стремящийся в царство правды, останавливается для сечения до тех пор, покуда об этом не будет заявлено в участке.
Далее Луи Блан продолжает: «Было бы несомненно неблагоразумно думать, что можно одним прыжком очутиться у цели путешествия, для совершения которого потребно продолжительное время». А г. Спасович, из скромной сферы розог вступая в еще более скромную сферу пощечин, объясняется так: «Остается открытым вопрос о пощечинах и о тех синяках, которые были, может быть (г. Спасович твердо держится показания доктора Корженевского о принадлежности Марии Кронеберг к таким субъектам, малейшее прикосновение к телу которых производит синяки, и только по страсти к компромиссам допускает, что синяки, может быть, произошли и от пощечин), последствием пощечин. Кронеберг давал пощечины ребенку — это верно: он сам признает, что ударил девочку по лицу раза три или четыре. Я признаю, что пощечина не может считаться достойным одобрения способом отношения отца к дитяти. Но я знаю также, что есть весьма уважаемые педагогики, которые считают удар рукой по щеке нисколько не тяжелее, а может быть, и предпочтительнее, в некоторых отношениях, сечения розгами. Причины, почему пощечина считается особенно обидным ударом, кроются в нравах, в прошедшем. Следя в истории за возникновением этого понятия, мы отыщем его в те рыцарские времена, когда рыцари ходили в шлемах с забралом, когда ударять их по лицу в обыкновенном их наряде было невозможно, а подобные удары сыпались только на смердов, на вилланов. Разбирая же власть родительскую, трудно сказать, чтоб она не доходила ни в каком случае до пощечин; от постороннего человека удар по лицу может сделаться кровной обидой, но не от отца». Иными словами, то же самое, что говорит и Луи Блан, только переведенное на язык пощечин. Шествуйте вперед к царству, изъятому от пощечины, но знайте, что вас ждет путь долгий и трудный, у цели которого нельзя очутиться одним прыжком; и что путь этот весь усеян пощечинами. Конечно, Луи Блан был бы очень изумлен, узнав, что существует «открытый вопрос» о пощечинах, но по нашему месту и это сойдет с рук.
Сходство, впрочем, на этом и оканчивается. Высказав изложенные выше мысли насчет уступок, Луи Блан прибавляет: «Но необходимо иметь идеал и никогда не терять его из вида, даже в тех случаях, когда допускаются жертвы в пользу действительности. Неразумно думать, что один прыжок достаточен для того, чтобы достигнуть цели долгого пути, но еще неразумнее пускаться в путь, не зная, куда он ведет, и выбирать окольные дороги, не будучи уверенным, что они ведут именно к тому пункту, которого предполагаешь достигнуть». Г-н Спасович, напротив того, дав сначала понять, что для него вполне понятна система воспитания без розог и без пощечин и что, следовательно, нельзя отрицать возможности и действительных, вполне беспощечинных отношений родителей к детям, тем не менее относится к этому идеалу беспощечинности мрачно, почти безнадежно. «Я, — говорит он, — так же мало ожидаю совершенного и безусловного искоренения телесного наказания, как мало ожидаю, чтоб вы (присяжные заседатели) перестали в суде действовать, за прекращением уголовных преступлений и нарушений той правды, которая должна существовать, как дома, в семье, так и в государстве».
Люди придирчивые могут сказать, что последние, подчеркнутые сейчас, фразы или затем только пущены в ход, чтоб сделать гг. судьям и присяжным заседателям комплимент, внушив им, что царствию их не будет конца, или же представляют собой набор пустых и бессодержательных слов, высказанных без всякого соображения с историей тех усилий — историей далеко не бесплодною, — которые делаются в видах ежели не окончательного и немедленного упразднения преступлений, то, по крайней мере, значительного сокращения числа их. Есть выражения готовые, к которым уже исстари приучено человеческое ухо и к которым, в случае отсутствия мысли, можно прибегать точно так же, как прибегают к магазину готовых платьев, чтобы выйти оттуда франтом. Но пусть будет так, как утверждает г. Спасович: пусть розги не прекратятся, пусть пощечины господствуют вечно; пусть преступления умножаются и процветают на утешение адвокатам, in secula seculorum;[68] спрашивается: зачем же было заводить разговор о педагогических идеалах? Зачем было говорить: «Я вполне понимаю, что может быть проведена система воспитания, из которой розга будет исключена»? Странное дело! объявлять себя «не сторонником» розги и в то же время вступаться в дело, в основании которого лежит исключительно розга! намекать на возможность каких-то беспощечинных педагогических идеалов и вслед за тем объявлять, что идеалы эти следует положить в шкаф и навсегда запереть на ключ!
Ежели слова о возможности существования беспощечинной педагогики были высказаны не ради щегольства (чего даже нельзя предположить со стороны г. Спасовича, зная его всегдашнюю трезвость в этом смысле), то их не следовало говорить совсем, особливо ввиду того, что вся остальная речь представляет лишь категорическое опровержение этого опрометчиво выраженного афоризма. Правда, жалкие слова имеют еще очень большое значение в современном обществе, но все-таки туман, ими напускаемый, начинает мало-помалу рассеиваться. Ясно, что г. Спасович вышел из своей роли и сделал ошибку. Его ум, по преимуществу деловой, наклонный к политике результатов, должен тщательно отметать от себя чувствительные примеси, которые составляют удел тех, которые за прогоны готовы посетить какую угодно область теоретических общностей. И, наверное, речь г. Спасовича не утратила бы своей ценности и не сделалась бы менее убедительною, если б он, не выгораживая своей личности от подозрений в солидарности с пощечинами, выразил прямо и просто, чего он требует от присяжных заседателей. Скомпанованная таким образом речь могла бы иметь приблизительно следующий вид: «Гг. судьи! гг. присяжные заседатели! перед вами на скамье подсудимых находится г. Кронеберг, который обвиняется в истязании своей дочери. Для того чтобы вы могли судить правильно, действительно ли г. Кронеберг виноват в том преступлении, за которое он преследуется (всякий опытный адвокат должен подчеркнуть эти последние слова, чтоб присяжные не смешивали: подсудимый может быть и виноват, но не в том преступлении, за которое судится), необходимо разрешить три вопроса: 1) имел ли г. Кронеберг право подвергать свою дочь телесному наказанию? — ответом на этот вопрос служит такая-то статья свода законов, которая вполне это право за ним подтверждает; 2) подавала ли Мария Кронеберг повод для педагогических воздействий на теле? — на это служит ответом энергическое показание доктора Сусловой, и 3) можно ли назвать употребленные г. Кронебергом педагогические приемы истязанием? — на это даст вам ответ, во-первых, кассационная судебная практика и, во-вторых, достаточно удовлетворительный вид, который представляли ягодицы Марии Кронеберг при освидетельствовании. Я кончил».
И только.
Можно быть уверенным, что эта простая и безыскусственная речь оказала бы на присяжных заседателей по малой мере такое же влияние, как и те темные намеки, которые допустил г. Спасович, чтобы установить свою личную непричастность к педагогической практике г. Кронеберга.
Кажется, не будет ошибки, ежели сказать, что все указанные выше оговорки и недомолвки суть плод неясных отношений, в которые стала русская адвокатура к органам нашей печати, носящим назавание «либеральных». Адвокатура наша поначалу довольно горячо заявила о своей солидарности с вопросами жизни и потому весьма естественно встретила со стороны либеральной прессы самое горячее сочувствие. Но, симпатизируя защитнику вдовы и сироты, литература, как старшая сестра в либерализме, до того простерла свое усердие, что, подвергая действия адвокатов неусыпному контролю, заявила претензию держать это сословие в постоянной опеке. Начались обличения, взыскания, выговоры, почти угрозы, и долгое время сходило это с рук, потому что в самой среде адвокатов не установилось еще совершенно определенных понятий о тех целях, которым она призвана служить.
Такое отношение литературы едва ли может быть названо правильным. Франция — классическая страна адвокатуры, представители которой со времени первой революции играли в ее истории очень значительную политическую роль, но и там об адвокатах, как об адвокатах, в литературе нет и речи. Адвокат, за очень редкими случаями, никого не занимает, покуда из него не образуется политический деятель, а раз сделавшись министром, сенатором, депутатом, он уже и сам забывает в первородном грехе, в котором валялся до того времени. В последнее время, как политические деятели, адвокаты утратили много из прежнего обаяния. Перенося на политическую и административную арену изнурительные привычки своего ремесла, они никогда не приходили к действительно плодотворным результатам, а только вертелись в беличьем колесе, вследствие чего в настоящее время Франция, после четырех революций, и находится под начальством у Мак-Магона. Поэтому на избирательных сходках в Париже уже слышатся голоса, что адвокатов довольно. Но, во всяком случае, как служителей своего ремесла, и литература, и даже публика (кроме нуждающихся в их услугах) их игнорирует, и, право, едва ли можно указать на пример, чтобы в последнее время в каком бы то ни было французском органе печати было заявлено кому-либо из адвокатов, что он поступает недостойно, защищая французских Овсянниковых и Мясниковых. Единственное исключение составляет защита Базена адвокатом Лашо, но это статья особенная.
У нас ремесленное значение адвокатуры, по-настоящему, должно бы выказаться еще резче, потому что наши адвокаты уже окончательно не имеют никакого отношения к политической жизни государства. Не вопросы жизни стоят для них на первом плане, а вопросы, истекающие из свода законов и из кассационной судебной практики. Ловкое обращение с статьями законов — вот что имеется прежде всего в виду, точно так же, как в некоторых ремеслах главную роль играет ловкое обращение с иглою, шилом, заступом и т. д. Спрашивается: почему никому не приходило в голову обвинять в недостоинстве башмачника, который шьет матери Митрофании башмаки, или портного, который одевает Овсянникова, и напротив того, отовсюду сыплются обвинения на адвоката, который, видя Овсянникова покрытым сажею пожарища, взялся омыть его банею пакибытия?
Наша печать долгое время не решалась принять этого взгляда, но в последнее время сама адвокатура решилась заявить, что он представляет единственное правильное мерило, с которым можно относиться к ней. Опекунские замашки печати произвели неизбежную реакцию в той самой среде, которая еще так недавно увлекалась желанием доказать, что ничто человеческое ей не чуждо, хотя на самом деле всегда имела в виду только то, как бы «слопать боженьку», чтоб никто этого не заметил. Возник бунт; долгое время он тлел, так что нельзя было разобрать, откуда гремит гром, из тучи или из навозной кучи, но наконец в адвокатскую похлебку попал такой жирный кус, что долго сдерживаемые страсти не устояли.
Поводом к разрыву с литературой послужило знаменитое Овсянниковское дело, и, помнится, г. Спасович (конечно, как добрый товарищ, ибо лично он играл в этом деле роль противо-овсянниковскую) первый поднял знамя бунта, сказавши на каком-то обеде, что адвокатура должна шествовать своим путем, независимо от внушений и контроля печати. За ним последовал и г. Потехин, который без церемонии обвинил русскую литературу в идиотстве.
Вероятно, эти случаи изменят взгляд нашей печати на русскую адвокатуру и укажут, какой должен быть характер их взаимных отношений. Во всяком случае, это не могут быть отношения товарищества, ибо общей почвы для этого здесь найти нельзя, кроме разве того, что и литератор и адвокат обладают одним и тем же орудием для достижения своих целей — словом. Затем, и объект действия, и характер его — все разное. Литература служит обществу, адвокатура — клиенту; честность литературы состоит в разработке идеалов и перспектив будущего, честность адвокатуры — в строгом согласии с действительностию и подчинении идеалам, выработанным в прошедшем и вверенным охране положительного закона. А что касается до общего орудия — слова, — то ведь оно раздается и на Сенной.
Коль скоро адвокатура выказала намерение отмежеваться от области общих умственных и нравственных интересов, надо воспользоваться этими ее поползновениями, не навязывать ей общения и отвести то место, которое она должна действительно занимать в кругу разнообразных ремесл. Что адвокатура ничего не выиграет от этой эмансипации — это несомненно. Тяготея все больше и больше к независимости от общих интересов жизни, она скоро очутится в том же незавидном положении, в каком еще недавно находились ябедники и строчители просьб. То есть настоящей независимости не достигнет, а только переменит господина и вместо литературы приобретет себе такового в лице клиента, который до сих пор сдерживал свои инстинкты именно благодаря тому, что думал, будто адвокатура и печать солидарны друг с другом. Что же касается печати, то, освободившись от кошмара кляузы, она несомненно выиграет. Кляуза в последнее время отнимала слишком много досуга у публики и заслоняла от ее глаз другие интересы, гораздо более важные. Это не соответствует ее действительному значению в общей экономии жизни общества, и, к счастию для человечества, у него на очереди стоят вопросы, гораздо более животрепещущие, нежели вопрос об отношениях адвокатов к клиентам и к суду.
VI
На дворе знойно; Петербург опустел и наполнился смрадом. С «вопросами» тихо; даже еврейский вопрос, наделавший было изрядного переполоху, — и тот словно изныл. Но кой-где еще скребут перьями; вероятно, это какая-нибудь невзначай уцелевшая комиссия доскребывает свою последнюю песню… Ну, что бы стоило окончательно сказать: оботрите перья, спрячьте в ящик бумаги, заприте на ключ и бегите куда глаза глядят — какой бы мир во все души эти простые слова пролили! Так нет, об этом еще не слыхать: не приспело, знать, время. А тут вдобавок еще дернуло околоточного на Петербургской стороне две души загубить! Думаешь: нет ли тут внутренней политики и не отразится ли это происшествие на литературе, яко попустительнице и укрывательнице…
И все эти сомнения рождаются в такую пору, когда неслыханный зной так и прожигает насквозь, когда не только возиться с вопросами, но и фривольные мысли в голове содержать тяжело. Говорят, будто в такой зной хорошо сено убирать и хлеб жать, но насколько это справедливо — сказать не умею. Не сеял, не жал, а только в еде себе не отказывал. На днях, впрочем, видя, как дворник Иван ловко машет косой, обкашивая лужайку перед дачей, я рискнул-таки полюбопытствовать:
— А что, брат Иван, я думаю, что в такое благоприятное для уборки время и душа радуется косить-то?
Но он, вместо того чтобы но душе покалякать, процедил сквозь зубы:
— Попробуйте!
Так я и не узнал, радуется или не радуется у человека душа, когда он машет косой при тридцати градусах по Реомюру.
Нынешним летом я не поехал за границу, а устроился на даче под Петербургом. В сущности, пора бы свой собственный угол где-нибудь припасти, но столько нынче во всех местах «вопросов» развелось, что поневоле берет оторопь. На юг заберешься — там еврейский вопрос у всех в свежей памяти; на север — там о каких-то аграрных вопросах поговаривают. Даже в Петербурге нынче своим домком завестись жутко: а ну, как столица-то?.. Катков с Аксаковым в Москву зовут, Булюбаш — в Полтаву, а потом, глядишь, и в Саратове свой собственный патриот объявится: пожалуйте в Саратов!
Главным образом, я потому не поехал за границу, что вестей туда из России доходит мало, а знать хочется. Думал: поселюсь-ка в сорока верстах от Петербурга — всего наслушаюсь. И что же! в сорока-то верстах еще меньше известий из России, нежели за границей! Точно она сквозь землю провалилась, голубушка. Те же газетные листы, что и за границей, и те же в них голые факты. А какие загадки скрываются за этими фактами и какие загвоздки готовят они в будущем — молчок.
Довольно поболтали. Налгали с три короба, насуетились — и будет. Теперь попробуем, не лучше ли будет, если сядем и будем сидеть, уставив брады. Но какой переход!
Как опознаться в этом Concertstück,[69] где мажорные тоны внезапно сменяются минорными, минорные — мольными и, наконец, наступает отсутствие всяких тонов?..
Паровозы между тем чуть не ежечасно выбрасывают на дачную платформу целые массы людей с потфелями и без портфелей, людей, которые ежедневно, в урочный час, уезжают от нас в Петербург и, настряпавши там целые вороха внутренней политики, в урочный же час приезжают обратно глотнуть дачного воздуха. Вяло вылезают эти люди из вагонов и, лениво перебирая по платформе ногами, направляются к извозчикам. Глаза померкли, губы запеклись, в носу залегло, голова пуста… После, в портфеле, опять все без труда отыщется, и опять голова наполнится внутреннею политикой, но покуда утренняя стряпня взяла все силы, какие только могла взять. А тут, как на грех, зной, словно из ушата, так и льет на опустелую голову…
— Что новенького? — слышится где-то сонный вопрос.
— А? что? — тоже словно сквозь сон раздается из чьей-то утробы.
Одним словом, предположенная цель: остаться в России, чтобы жить в оной, — оказывается недостигнутою. Живешь неведомо где, слышишь загадочные звуки, видишь протянутые веревки, на которых качается масса юбок и кальсонов (вот фуфайка главы семейства, а вот кальсоны матери семейства!), и от времени до времени освежаешься мыслью, что, того гляди, явятся прекрасные незнакомцы и потребуют: пожалуйста паспорта! Паспорта, паспорты, паспорты — вот в чем состоит прелесть нынешней дачной жизни…
— Кто вы, прекрасные незнакомцы? Дворник! следует ли отдавать им паспорты?
— Помилуйте, вашескородие! стало быть, следует, коли требуют!
А впрочем, в последнее время наша жизнь уразнообразилась еще слухами о воровствах. Здешние воры довольно снисходительны. Придут и попробуют, подается ли окно или не подается; ежели подается, то влезут, если же не подается, то, не настаивая, идут дальше. На их счастие, дачи ремонтируются редко, и оконные переплеты почти всегда ветхи. Но и в таком случае здешние воры не задерживаются, а возьмут первое, что попадется под руки, и уйдут. Очевидно, что главным мотивом тут является не ненависть к людям и не протест против неравномерного распределения богатств, а выпивка. Хочется выпить, а денег нет, — вот они и пробуют, прочны ли оконные рамы. При этом всего чаще достается ложкам, которые везде, в ягодный сезон, валяются неприбранчые. Иногда попадается несколько настоящих серебряных ложек — тогда вор радуется и называет обворованного «хорошим господином»; но иногда ложки попадаются мельхиоровые — тогда вор ропщет, называет обворованного обманщиком и сравнивает его поступок с тою мельхиоровою внутреннею политикой, которая суетится и сулит, но, корме мельхиоровых дел, ничего после себя не оставляет.
Однако, покуда не было опубликовано происшествие на Петербургской стороне, мы не очень тревожились. Но зверски-бессмысленный поступок околоточного Иванова заставил и нас встрепенуться. Сейчас же у всех окон появились наружные ставни, сквозь которые просовываются железные болты, и теперь, с десяти часов вечера, мы сидим запершись и ничего не боимся. Сверх того, я лично, ложась спать, на каждое окно кладу по ложке и по две, в расчете, что вор прямо возьмет, что следует, и затем ему уже не будет надобности убивать. А так как у нас околоточного нет, а есть урядник, то я и с ним на всякий случай имел разговор.
— Уж вы, Семен Парфеныч, ежели вам нужно, лучше спросите!
— Я, вашескородие, завсегда лучше спрошу!
— Пожалуйста. Я тоже лучше десять, двадцать пять рублей отдам, нежели жизнь!
Устроившись таким образом, я сплю тем спокойнее, что на днях нам сделан сюрприз: нанят ночной сторож. Сторож этот слепенький, на оба уха не слышит, на одну ногу хромает, а другую волочит; однако еще дышит. А это все, что нужно, потому что на здешнего простодушного вора один вид человека движущегося действует спасительно. Иногда, впросонках, я слышу, как наш сторож зевает, а по временам нет-нет, да и потрещит в трещотку: спите, мол, я тут! А я ему в ответ: бди, калека, за восемь целковых в месяц, бди!
Ах, этот Иванов! Мало того, что две души загубил, но, что еще хуже, целое ведомство своим поступком скомпрометировал. Вместо того чтобы держать знамя полиции высоко, а он, смотрите, что выдумал! И как нарочно, сряду два таких случая. Один с Ивановым, а другой с господином — не помню уж фамилии, — который в магазине пять байковых платков стянул. Поймали, привели к мировому.
— Кто таков?
— Чиновник департамента государственной полиции.
Ах!
К счастию, оказалось, что он соврал. Никогда он в департаменте государственной полиции не служил, а только от времени до времени исполнял отдельные поручения. Исполнит поручение, а вслед за тем воровать пойдет; потом опять поручение исполнит, и опять воровать. Делу время, и потехе час. А в департаменте, по рассмотрении его поручений, распоряжения идут: штандарт скачет, андроны едут, паровоз свистит…
Кто ж ему, однако ж, в душу влезет! думали, что он просто курицын сын, а он оказался… орел!
Как бы то ни было, но в обоих приведенных случаях внутренней политики нет и следа, и те, которые полагают, что здесь примешан вопрос о расширении полицейской компетенции, очень грубо ошибаются. Равным образом заблуждаются и те, которые утверждают, что ничего подобного не могло бы произойти при «правовом порядке» (псевдоним). Ибо псевдоним этот давно уж у нас существует, только мы, по недоразумению, другими псевдонимами его называем. Ничего нам не нужно: ни реформ, ни упорядочений, ни правовых порядков. Все у нас есть. А ежели есть, сверх того, и много лишнего, то стоит только построже предписать: чтоб не было — и не будет.
Ведь справляются же с литературой. Не писать о соборах, ни об Успенском, ни об Архангельском, ни об Исаакиевском — и не пишут. Вот об колокольнях (псевдоним) писать — это можно, но я и об колокольнях писать не желаю. Бог с ними, с псевдонимами вообще.
В старину опытные губернаторы именно так и поступали. Прослышит, бывало, генерал, что в вверенном ему крае неблагополучно — сейчас циркуляр: «Дошло до моего сведения… чтоб не было!» И разом все воровства, грабежи, убийства — всё как рукой снимет. А отчего? оттого, что в старину администраторы знали, чего хотят, и в согласность с сим требовали; об журавлях не разговаривали, а прямо указывали на синицу. Зато уж если потребовал генерал синицу, то хоть тресни, а подай; а не подал — умри!
А нынче, с комитетами да с комиссиями, совсем мы спутались. Понаделали комиссий, думали, что польза выйдет, а вышли псевдонимы. Реформа — псевдоним, упорядочение — псевдоним, правовый порядок — псевдоним. Понятно, что никакая комиссия такого множества псевдонимов не выдержит. И вот они нарождаются и умирают, умирают и опять нарождаются. А мы ходим между ними, словно по полю, усеянному мертвыми телами. Идешь и думаешь: почили, неисправимые празднословы! — смотришь, ан между ними уж кудрявые купидоны резвятся и тоже об чем-то празднокартавят… ах, дети, дети!
Жалко смотреть на этих детей. Едва из колыбели, а уж не знают иных игрушек, кроме трупов! И каких трупов! таких, которые заведомо сделались оными от руки псевдонимов! Ведь псевдонимный-то яд силен; живые трупы давно стали мертвыми трупами, а яд и теперь витает над полем смерти! И молодые легкие вдыхают испарения его и постепенно заражаются ими. Не успеет купидон подрасти — глядь, уж новое мертвое тело присовокупляется к числу прежних таковых… Бедные, нерасцветшие дети!
В том-то и беда наша, что часто мы сами не знаем, чего хотим. По крайней мере, в Москве давно уж твердят, что только тогда мы будем благополучны, когда на фронтисписе нашей жизни будет написано: А = А. Вот это верно. Все равно как в старые годы кресты на дверях мелом писали, чтобы холера в дом не входила. Но ежели и затем холера входила, то умирали.
Однако довольно о псевдонимах — еще беды с ними наживешь. Поговорим лучше об евреях. Ибо хотя нынче с этим вопросом и тихо, но, право, даже теперь, как вспомнишь, что происходило месяца три-четыре тому назад, мороз по коже подирает.
Не так давно и в печати, и в обществе в большом ходу были толки о «народной политике» и о необходимости практического ее применения. Но, к удивлению, эти толки более смущали, нежели радовали.
Не потому смущали, чтобы выражение «народная политика» представляло для кого бы то ни было загадку: у всех народов оно имеет одно и то же значение и на всех языках имеет соответствующий термин. Означает оно такую правительственную систему, в результате которой является здоровый рост народа, как физический, так и духовный. Процветание наук, промышленности, искусств, литературы, общее довольство, обеспеченность и доверие — вот в нескольких словах программа «народной политики». Ясно, что такого рода явление, в глазах всякого здравомыслящего человека, может быть только желательным.
Но у нас, вследствие укоренившейся привычки говорить псевдонимами, понятия самые простые и вразумительные получают загадочный смысл. У нас выражение «народная политика» означает совсем не общее довольство и преуспеяние, а, во-первых, «жизнь духа», во-вторых, «дух жизни» и, в-третьих, «оздоровление корней». Или, говоря другими словами: мели, Емеля, твоя неделя.
Вот эта-то «народная политика» и взялась покончить с еврейским вопросом. Она всегда и за все бралась с легкостью изумительной. И «ключей» требовала, и Босфору грозила, и в Константинополе единство касс устроить сбиралась, и на кратчайший путь в Индию указывала. Но нельзя сказать, чтобы с успехом. Если б она меньше хвасталась, не так громко кричала, сбираясь на рать, поменьше говорила стихами и потрезвее смотрела на свою задачу — быть может, она чего-нибудь и достигла бы. Но она всегда продавала шкуру медведя, не убивши его, — понятно, что ни «ключи», ни «проливы» не давались ей, как клад. И вот, после целого ряда проказ по части оздоровления корней, ей подвертывается пресловутый еврейский вопрос.
Читатель, помните ли вы сказку о «Диком помещике»? Содержание ее очень незамысловатое. Не весьма умный помещик, огорченный крестьянской реформой и начитавшийся россказней о белой кости и алой крови, взмолился к богу, прося, чтобы он освободил его от мужика. «Одной только милости прошу, — вопиял он, — чтобы мужичьим духом у меня во владениях не пахло!» И бог внял мольбе неразумного (конечно, с тем, чтобы он впоследствии сам сознал свое неразумие): в одно прекрасное утро поднялся вихрь и, в глазах помещика, унес из его владений весь мякинно-мужичий рой…
Какие плоды вкусил помещик от мужичьего исчезновения — это сюда не относится. Но очевидно, что легенда о легком исполнении помещичьей прихоти увлекла наших народных политиков. Стесняясь еврейскою назойливостью и видя, что тут ничего не поделаешь ни «жизнью духа», ни «духом жизни», ни даже «оздоровлением корней», они избрали легчайший путь: попробовали применить к постылым евреям тот же летательный процесс, какой был применен «диким помещиком» к постылым мужикам. И точно, поднялся вихрь, но при этом случилось нечто неожиданное: улетели народные политики, а евреи остались. До такой степени остались, что даже на днях я видел: ходит еврей у нас по дачам, как будто полотно продает, а сам подслушивает, не наклевывается ли где-нибудь революции — точь-в-точь как полноправный русский гражданин!
Итак, евреи остались, но вместе с тем остался нетронутым и еврейский вопрос.
История никогда не начертывала на своих страницах вопроса более тяжелого, более чуждого человечности, более мучительного, нежели вопрос еврейский. История человечества вообще есть бесконечный мартиролог, но в то же время она есть и бесконечное просветление. В сфере мартиролога еврейское племя занимает первое место, в сфере просветления оно стоит в стороне, как будто лучезарные перспективы истории совсем до него не относятся. Нет более надрывающей сердце повести, как повесть этого бесконечного истязания человека человеком. Даже история, которая для самых загадочных уклонений от света к тьме находит соответствующую поправку в дальнейшем ходе событий, — и та, излагая эту скорбную повесть, останавливается в бессилии и недоумении.
Очевидно, что в ненормальном положении еврейского вопроса играют фатальную роль такого рода запутанности, которые с течением времени не только не смягчаются, но даже больше и больше обостряются. В ряду этих запутанностей главное место, несомненно, занимает предание, давно уже утратившее смысл, но доселе сохранившее свою живость. Затем к числу причин, содействующих незыблемости предания, следует отнести, во-первых, несознанные капризы расового темперамента и, во-вторых, совершенно произвольное представление об еврейском типе на основании образцов, взятых не в трудящихся массах еврейского племени, а в сферах более или менее досужих и эксплуатирующих.
Нет ничего бесчеловечнее и безумнее предания, выходящего из темных ущелий далекого прошлого и с жестокостью, доходящей до идиотского самодовольства, из века в век переносящего клеймо позора, отчуждения и ненависти. Не говоря уже о непосредственных жертвах предания, замученных и обесславленных, оно извращает целый цикл общественных отношений и на самую историю налагает печать изуверской одичалости. Но бесчеловечие явится еще более осязательным, если припомнить, что нет вещи более общедоступной, как предание, и что, следовательно, последнее прежде всего становится достоянием толпы, и без того обезумевшей под игом собственного злосчастия. Именно этою-то общедоступностью и обладает предание, поразившее отчуждением еврейское племя. Когда я думаю о положении, созданном о́бразами и стонами исконной легенды, преследующей еврея из века в век на всяком месте, — право, мне представляется, что я с ума схожу. Кажется, что за этой легендой зияет бездонная пропасть, наполненная кипящей смолой, и в этой пропасти безнадежно агонизирует целая масса людей, у которых отнято все, даже право на смерть.
Ни один человек в целом мире не найдет в себе столько творческой силы, чтобы вообразить себя в положении этой неумирающей агонии, а еврей родится в ней и для нее. Стигматизированный он является на свет, стигматизированный агонизирует в жизни и стигматизированный же умирает. Или, лучше сказать, не умирает, а видит себя и по смерти бессрочно стигматизированным в лице детей и присных. Нет выхода из кипящей смолы, нет иных перспектив, кроме зубовного скрежета. Что бы еврей ни предпринял, он всегда остается стигматизированным. Делается он христианином — он выкрест; остается при иудействе — он пес смердящий. Можно ли представить себе мучительство более безумное, более бессовестное?
Мне скажут, быть может: однако ж мы видим, что промышленные центры переполнены евреями, которые нимало не стесняются своим еврейством. Биржи, театры, рестораны, будуары самых дорогих кокоток — все это кишит веселонравными семитами, которые удивляют вселенную наглою расточительностью и нелепою привередливостью прихотей и вкусов. Да, таких субъектов существует достаточно (их-то одних мы и знаем), но ведь в них еврейство играет уже далеко не существенную роль. Это обыкновенные гулящие люди (многие называют их «татями», но я не вижу надобности следовать этой терминологии), члены той международной аффилиации гулящих людей, в которую каждая национальность вносит свой посильный вклад. Об еврействе в этих людях говорят только некоторые ухватки, но ведь ухватки самые резкие легко стушевываются в пучине всевозможных интернациональных утонченностей. Тем не менее можно сказать с уверенностью, что даже подобные личности по временам переживают нестерпимо горькие минуты. Ибо и во сне увидеть себя евреем достаточно, чтобы самого неунывающего субъекта заставить метаться в ужасе и посылать бессильные проклятия судьбе.
Несмотря, однако ж, на это организованное мучительство, евреи живут. Какая загадка таится за этим фактом — это вопрос трудный. Одни объясняют еврейскую живучесть надеждой на отмщение, другие — мудростью, третьи — просто привычкой. Но кажется, что главную роль тут играет тот общечеловеческий закон самосохранения, в силу которого племя, однажды сознавшее себя племенем, никогда добровольно не налагает на себя рук.
Как бы то ни было, но уничтожить силу предания или даже ослабить ее — задача настолько сложная, что даже люди очень убежденные отступают перед нею. Предание наслоилось веками, и каждое новое наслоение прибавляло к нему новую жестокую черту. Да и кто всего упорнее хранит эти предания? — их хранит толпа, которая сама насквозь пропитана злосчастием и в отношении которой всякий укор был бы несправедливостью и всякое решительное воздействие — делом в высшей степени щекотливым. Даже поднятие общего уровня образованности, как это показывает современное антисемитское движение в Германии, не приносит в этом вопросе осязательных улучшений, потому что до сих пор мы были свидетелями только относительного поднятия этого уровня, которое не обладает достаточной силой для водворения принципа абсолютного равноправия. Следовательно, чтобы упразднить предание, необходимо, чтобы человечество окончательно очеловечилось. А когда это произойдет?
Перспектива бессрочная и тем более безнадежная, что в союзе с преданием против еврейского племени действуют и несознанные капризы расовых темпераментов. Эти капризы, переходя из поколения в поколение, в свою очередь образуют предание, столь же компактное и не менее преисполненное всякого рода баснословий, как и изукрашенная веками легенда о несмываемом еврейском клейме.
И образ жизни еврея, и внешняя его складка, его манера говорить, ходить, одеваться — все дает пищу для неосмысленной досады, которая проявляет себя тем беспрепятственнее, что выражение ее почти всегда сопровождается безнаказанностью. Никто так мастерски не боится, как еврей, никто не создал для себя такого странного внешнего облика. Еврей самый солидный напоминает внешним своим видом подростка, путающегося в отцовских штанах. Для темной массы этого вполне достаточно, чтобы видеть в еврее всегда готовый источник потех и издевок. Никому нет дела до причин, породивших «странности», ибо в глазах чересчур уж живо мечется грубый факт, который заслоняет и проклятое прошлое, и презренную обстановку настоящего. Смешной ламбсердак, нелепые пейсы, заячья торопливость, ни на минуту не дающая еврею усидеть на месте, — чего еще нужно? Еврей и ходит не так, как люди, и говорит не так, как люди, и смотрит не так, как люди. От еврея — пахнет; еврей не смотрит, а глаза у него бегают; он не живет, а блудит. А как смешно и даже гнусно он шепелявит!
— Что, еврей, губами мнешь?
— Дурака шашу́!
То ли дело Дерунов с Колупаевым! Никогда они не скажут: «шашу», а прямо отчеканят: «сосу дурака» — и шабаш. И правильно, и для потехи резонов нет: слушай и трепещи!
Давно ли власть имеющие лица стригли у евреев пейсы и снимали с них ламбсердаки? Давно ли, как лакомство, выслушивались рассказы о веселонравных военных людях, ездивших на евреях и верхом, и в экипажах, занимавшихся травлей их и не знавших более высокого наслаждения, как подстеречь еврея с каким-нибудь членовредительным сюрпризом и потом покатываться от уморы при виде смешного ужаса, который являлся естественным последствием сюрприза. И что же! разве это прошлое так и кануло в вечность? — нет, оно только видоизменило формы, а сущность передало неприкосновенною, так что в настоящее время пропаганда еврейской травли едва ли не идет шире и глубже, нежели когда-либо.
Говорят, будто выражение «дурака шашу́» представляет девиз, которым определяются отношения всякого еврея к окружающей среде. Но в таком случае отчего же не допустить подобного же толкования и для выражения «сосу дурака», которое на практике имеет отнюдь не менее обширное применение. По существу, они оба одинаково омерзительны, да и на практике имеют одинаковое применение. Но и в том, и в другом виде доступны совсем не всякому встречному, а только могущему вместить.
Сосать простеца или «дурака» (он же рохля, ротозей, мужик и проч.) очень лестно, но для этого нужно иметь случай, сноровку и талант. Дерунов и Колупаев — сосут, а Малявкин и Казявкин хоть и живут с ними по соседству — не сосут. Первые обладют всеми нужными для сосания приспособлениями, вторые — теми же приспособлениями обладают наоборот. Тот же самый закон имеет силу и в еврейской среде. И между евреями правом лакомиться «дураком» пользуются лишь сильные организмы, а Малявкин и Казявкин не только не лакомятся, а, напротив, представляют собой материал для лакомства.
Вся разница в том, что коренной Дерунов, присасываясь к Малявкину, называет его «крестником» и не чуждается прибауток, вроде: «По милу да по-божецки, ты за меня, я за тебя, а бог за всех!» А Дерунов-еврей сосет без прибауток, серьезно. Возьмет дурака двумя пальцами, пососет и скорлупу выплюнет; потом возьмет другого дурака и опять скорлупу выплюнет. Ужасно видеть это серьезное выплевывание скорлупок, но, право, и прибаутки слушать не слаще.
Кому же, однако, приходило в голову указывать на Разуваева как на определяющий тип русского человека? А Разуваева-еврея непременно навяжут всему еврейскому племени и будут при этом на все племя кричать: ату!
Но для Дерунова-еврея есть даже смягчающее обстоятельство: он чаще всего сосет вотще. Ибо как только он начинает насасываться досыта, так тотчас на него налетает ревизия: показывай, жид, что у тебя в потрохах? И всякий, кому не лень, берет оттуда часть. Как все-то разберут — много ли останется? И какую надобно иметь силу воли, какую удачливость, чтобы, претерпев все ревизии, благополучно вынырнуть в мир концессий и банкирских гешефтов и там, сбросивши с себя узы еврейства, кормить обедами тайных советников, а некоторых из них иметь даже в услужении…
Почему же, однако, мы с такою легкостью отожествляем еврея сосущего с евреем не сосущим, почему мы так охотно вымещаем на последнем досаду, которую пробуждает в нас первый? Не потому ли, что сосущий еврей есть сила, за которою скрывается еще сила, и даже не одна, а целый легион? Весьма вероятно, что в этом предположении есть очень значительная доля правды, хотя это и не приносит особенной чести нападающей стороне. Но, во всяком случае, в бесчеловечной путанице, которая на наших глазах так трагически разыгралась, имеет громадное значение то, что нападающая сторона, относительно еврейского вопроса, ходит в совершенных потемках, не имея никаких твердых фактов, кроме предания (нельзя же, в самом деле, серьезно преследовать людей за то, что они носят пейсы и неправильно произносят русскую речь!),
В самом деле, что мы знаем об еврействе, кроме концессионерских безобразий и проделок евреев-арендаторов и евреев-шинкарей? Имеем ли мы хотя приблизительное понятие о той бесчисленной массе евреев-мастеровых и евреев — мелких торговцев, которая кишит в грязи жидовских местечек и неистово плодится, несмотря на печать проклятия и на вечно присущую угрозу голодной смерти? Испуганные, доведшие свои потребности до минимума, эти злосчастные существа молят только забвения и безвестности, и получают в ответ поругание…
Даже в литературу нашу только с недавнего времени начали проникать лучи, освещающие этот агонизирующий мир. Да и теперь едва ли можно указать на что-нибудь подходящее, исключая прелестного рассказа г-жи Оржешко «Могучий Самсон». Поэтому те, которые хотят знать, сколько симпатичного таит в себе замученное еврейство и какая неистовая трагедия тяготеет над его существованием, — пусть обратятся к этому рассказу, каждое слово которого дышит мучительною правдою. Наверное, это чтение пробудит в них добрые, здоровые мысли и заставит их задуматься в лучшем, человечном значении этого слова.
Знать — вот что нужно прежде всего, а знание, несомненно, приведет за собой и чувство человечности. В этом чувстве, как в гармоническом целом, сливаются те качества, благодаря которым отношения между людьми являются прочными и доброкачественными. А именно: справедливость, сознание братства и любовь.
VII
Пришел и Новый год. Пришел и, по обыкновению, новое счастие принес. Счастие пока еще не определилось, но надежд и уверенности более чем достаточно. Не было, я полагаю, того угла в целом Петербурге, где бы в ночь с 31 декабря на 1 января не ободряли себя приятными перспективами. Конечно, и в прошлом году в этот момент точно так же все поздравляли себя с новым счастием и льстили себе новыми надеждами (как в старину добрые дети родителям писали: «Льщу себя, милый папенька, надеждою, что новый год принесет новое счастие, которое поможет вам многие лета в сей печальной юдоли благополучно провести»), но нынче пожелания выражались как-то настойчивее и убежденнее, так что можно было догадываться, что поздравляющие понимают, с чем поздравляют друг друга.
С первого же дня газеты предприняли ревизию старого года. Рассматривают его во всех смыслах и очень хвалят. Многое уже выполнено, а остальное — не замедлит. Во всяком случае, и того, что сделано, уже достаточно, чтобы считать почву будущего подготовленною. Все процвело и преуспело, кроме литературы, которой прошлый год принес одни утраты. И таковы эти утраты, что даже недавний юбилей российской Академии[70] не заставил об них позабыть.
Надо сказать правду: тон общественного мнения за последние годы изменился к лучшему. Вместо прежних колебаний — солидность, вместо витания в эмпиреях — стремление к «настоящему» делу и уверенность обрести его. Встречаются множества людей, которые еще недавно легкомысленно восклицали: «sursum corda!»[71] и которые теперь, видимо, озабочены тем, чтобы их недавние возгласы были преданы забвению. И надо думать, что усилия их увенчаются успехом, потому что у нас насчет возгласов просто: сотрясение воздуха — и больше ничего. Имеющий уши их слышит и сейчас же забывает, а не имеющий ушей хоть всю литургию верных пропой — он все равно ничего не услышит.
Резонность и солидность — вот лозунг настоящего. Это, вероятно, и при поздравлениях с Новым годом имелось в виду. Sursum corda! что это такое? зачем? по какому случаю? разве где-нибудь горит? То ли дело: поспешишь, людей насмешишь — тут, по крайней мере, реальный прием слышится. Не воздухоплавание, а достоверная поездка вокруг света на сдаточных. Давно уж мы эти sursum corda-то слышим, да путного мало из них вышло. Стало быть, пора и образумиться; пора понять, что при известных условиях прежде всего о том памятовать надлежит, что маленькая рыбка лучше, нежели большой таракан.
Это нынче все говорят. И прежде говаривали, но машинально, по привычке; а нынче — с толком, с чувством, с расстановкой. Точно порох выдумали. Иные при этом слегка краснеют (но все-таки отчетливо все слова выговаривают), но большинство говорит прямо, не краснеючи. Советую, впрочем, и первым как можно скорее победить пагубную привычку краснеть, так как, чего доброго, их, в противном случае, в сонмище укрывателей эмпирейных витаний зачислят. Потому что как ни искренно их обращение, но все-таки на них, как на новообращенных, смотрят еще с некоторою подозрительностью. Все равно как с вотяками бывает: есть вотяки «старокре́щены» и есть «новокре́щены». В «старокре́щенах» никто не сомневается, но относительно «новокре́щена», хоть он всякий праздник что следует попу отдает, а все-таки кажется: вот-вот он сейчас в кереметь убежит. И согласно с сим принимаются меры.
Итак, надо «дело» делать — вся задача в этом состоит. Только «дело» может поднять наш дух и восстановить нас и в собственном мнении, и в мнении наших сограждан. Об этом и не спорит никто. Спросите в любой мелочной лавке: что лучше, дело или безделье? — наверное, вы получите в ответ: как же возможно, безделье или дело! И сейчас же вам назовут бесчисленное множество дел, которые тут же, в стенах мелочной лавки, и совершаются. Отвешивать, отмеривать, упаковывать, принимать, отпускать, следить за выручкой, наполовину гнилой лимон показать здоровою половиной и проч. Голова крутом идет. То же самое происходит в кабаке, в портерной и, наконец, в каждой богом хранимой хижине. Везде дела прямые, ясные, осязательные. То же самое и нам, людям интеллигенции, для себя придумать предстоит.
Но на беду, чем выше сфера человеческих отношений, тем меньше замечается точности в определении признаков «дела». Вместо прямых указаний, вроде: отмеривать, отрезывать (а в иных случаях даже прямо «производить»), мы встречаемся с такими же отвлеченностями, как sursum corda, только низменного и даже глупого свойства. Между тем именно для этой-то высшей сферы и требуется отыскать подходящее дело. Именно она, а не сфера хижин богохранимых, страдала обилием эмпиреев, и она же в последнее время заговорила, что вне дела для нас нет спасения. И тут-то вот, несмотря на всеми чувствуемую потребность, мы не находим ни малейших указаний ни насчет места нахождения «дела», ни насчет подлинного его названия. Конечно, и здесь вы услышите ответ: «как можно сравнить, безделье или дело!» — но вслушайтесь в интонацию голоса, которым произносятся эти слова, и вы убедитесь, что в ней звучит: «Безделье-то, пожалуй, лучше»…
Все затруднение оттого происходит, что интеллигентный человек думает, что он в некотором роде «правящий класс», и потому для себя какого-то особенного дела требует. Даже самые неинтеллигентные из интеллигентных так об себе полагают. Скажу более: чем глупее интеллигентный человек, тем он сильнее за титул «правящего класса» цепляется. Слышал, что где-то на теплых водах правящие классы в свое удовольствие живут, и себе того же желает. Но каким образом попасть в такие «правящие классы», которые в свое удовольствие живут, не знает. Ежели в эмпиреях витать, так опыт практически доказал, сколь сие вредно; ежели «дело» делать — так укажите, сделайте милость, в чем оное заключается. Вот кабы вход в крепостное право каким-нибудь чудом опять открылся, сейчас бы мы все правящими классами сделались! И «дело» тогда само бы собой выскочило, а ты только знай жезлом помахивай!
Вообще, с тех пор, как начались толки об «деле», противоречий не оберешься. С одной стороны, несомненно, что витания и парения приводят к самообольщению, но, с другой стороны, как только раздумаешься об «деле» — вдруг, словно сам собою, начнешь парить и витать. Не под носом у себя «дела» ищешь, а в сторону заглядываешь, и все как-то в сторону «теплых вод». Эта привычка у нас еще от крепостных времен осталась; и тогда мы были убеждены, что в России можно оброки и дани получать, а жить в свое удовольствие только на теплых водах можно. Но нынче оказывается, что в подобных заглядываниях спасения не обретешь. Почему оказывается — об этом опять-таки никто не сказывает (сказывать-то, должно быть, нечего)… Оказывается — только и всего. Как бы то ни было, но для того, чтобы спастись, нужно не «чужое», не «иностранное», а «свое собственное» и притом «настоящее» дело найти… Что бы такое? ну, например?
Такой это интересный вопрос, что нет той минуты, чтоб я не думал об нем. И все, что от меня зависело, в видах его правильного разрешения — все я предпринимал. И к говору трактирных завсегдатаев прислушивался (vox populi[72]), и в участке справлялся, и с сведущими людьми совещался — ничего не поймешь! заладили одно: дело делать! Господа! да ведь это то же, что «sursum corda»! только наоборот…
Говорят, будто славянофилам что-то об этом «самостоятельном» деле было известно; но они свой секрет в могилы унесли. Теперь, на смену славянофилам, появились какие-то выморочные бонапартисты, которые могут только в трубы трубить, но секрета не знают.
Говорят еще, будто в газетах каждый день об «делах» разговаривают — ну, да какие уж это «дела»!
Наконец я обратился с вопросом к моему другу Глумову:
— Не знаешь ли, друг любезный, каким бы самостоятельным «делом» наши «правящие классы» угостить?
И что ж! он в ту же минуту все мои сомнения разрешил.
— Как «какими»! да вот в одних со мной меблированных комнатах отставной статский советник Культяпка живет, так он с утра до вечера дело делает. Утром — проекты нравственного и умственного оздоровления (да с картинками, братец!) сочиняет; среди дня — извещения пишет, а вечером — по коридору ходит и к дверям уши прикладывает. Однажды ему даже лоб нечаянно дверью раскроили. Надеюсь, что это достаточно «свое собственное» дело.
И не успел я настоящим манером его ответ обдумать, как он продолжал:
— А то еще молодой человек у нас живет. Утром — коричневый галстух перед зеркалом повязывает; перед обедом — черный галстух; вечером — белый. Или возьмет в руки шляпу и сам с собой перед зеркалом раскланивается. Чем не дело?
А в заключение повествовал следующее:
— Что же касается до особ дамского сословия, то об них и заботиться нечего. Их существование не только наполнено, но даже, можно сказать, битком набито. Утром «она» встает — утренний костюм надевает; в три часа по магазинам или гулять едет, или идет — гуляльный костюм надевает; перед обедом — над обеденным костюмом думу думает; вечером, ежели в театр едет — театральный костюм, ежели на бал — бальный. И всякий раз перед зеркалом целая драма происходит. То подойдет, то отойдет, то сядет, то как ужаленная вскочит. Иная, коли на бал ехать собралась и нужно определить меру декольте, то даже особенную систему зеркал устраивает и на коленки становится. И сверху, и с боков, и сзади, и спереди — отовсюду разом видно. Сверху — это «les messieurs»[73] смотрят; с боков — члены общества распространения грамотности, братчики, отставные дипломаты и проч. А издали, совсем в перспективе — муж. И ему взглянуть хочется. Тут, брат, коли все-то в точности исполнить, так и на бал, пожалуй, к шапочному разбору попадешь.
То-то я смотрю: давно ли все на скуку жаловались, а нынче ее и в помине нет. Ан оно вон что: «дело» найдено.
Слухами о сезонных увеселениях все стогны петербургские полны. Извозчики только об том и говорят, что господа опять веселиться начали. В газетах пишут: у одной дамы на балу, независимо от глубокого декольте, бриллиантовую подкову на спине видели. Теперь эта подкова всех наших статских советниц с ума сведет. Будут они, каждая к своему статскому советнику, до тех пор приставать, покуда целых созвездий на спины не получат…
Придется-таки статским советникам изворачиваться; придется «дела» изобретать, евреям-гешефтмахерам душу продавать. И когда, наконец, ювелир влепит в поясницу статской советницы целое бриллиантовое солнце, то в лучах его будут играть кавалеры всех сортов оружий и пера, а соответствующий статский советник будет в это время гешефтмахера обучать, како наилучшим манером любезное отечество подкузьмить…
А какая новая эра занятий и дел для статских советниц откроется! Ежели вечером на бал ехать, так ведь с утра приседать перед зеркалом придется! Солнце-то ведь не шутка, умеючи надо его показать! Суп на столе, дети есть просят, статский советник копытами землю в нетерпении роет, а статская советница то вскочит, то опять присядет! «Да скоро ли, матушка?» — кричит разъяренный муж, стучась в запертую на ключ дверь. «Ах, да обедайте без меня… несносные! я после… одна!» И действительно, между приседаний чего-нибудь перехватит, но зато к одиннадцати часам — готова!
Факт, по-видимому, сам по себе ничтожный, а между тем по милости его процветает промышленность. Мудрено как будто это согласовать, а между тем оно так. В Петербурге на балу у барона Гинцбурга, например, статская советница Коромыслова на бриллиантовом солнце сидела, а у крестьянина деревни Комаринской, Павла Антипьева, от этого ее действия в мошне два с полтиной прибыло. И прибыло совершенно резонно. Еще доктор Кене, глава физиократов и друг Тюрго, говаривал: «Дама, которая покупает шаль, подает милостыню бедняку». Вот эту-то истину и зарубили статские советницы у себя на носу. Подумайте, в самом деле: солнце-то, на которое статская советница Коромыслова села, — где оно сделано? — Оно сделано в мастерской, в которой сын Павла Антипьева, комаринский мужик Иван Павлов, работал. На свой пай он половину луча этого сделал и за это получил пять рублей, а из них два с полтиной домой в село Комаринское послал. Так вот.
Но этого мало. Получив два с полтиной, Павел Антипьев распорядился с ними так: на рубль купил у другого комаринского мужика сена, на рубль — у третьего комаринского мужика муки да на полтину у четвертого комаринского мужика — соли. В результате оказалось: прислано было два с полтиной, а процвели на них: во-первых, Павел Антипьев — полностью на все два с полтиной и, во-вторых, трое его односельцев — все вместе тоже на два с полтиной. Итого, на пять рублей. То же и с остальными двумя с полтиной случилось: во-первых, Иван Павлов полностью на все процвел (пропил), да кабатчик, у которого он вино пил, — тоже на два с полтиной. Опять на пять рублей. Вот она экономистическая арифметика-то какова: пущено в оборот пять рублей, а в процветании оказалось десять. Это относительно только половины луча, а сколько у солнца полных лучей — сочтите! Да фабрикант, наверное, вдесятеро, чем все комаринские мужики в совокупности, процвел. И все это статская советница Коромыслова одним движением поясницы произвела!
Не знаю, шепнуло ли ей об этом солнце, покуда она на нем сидела, но знаю, что к началу шестой фигуры г-жа Коромыслова была вполне убеждена в целесообразности своих поступков и действий.
— Вы не подумайте, — сказала она млевшему подле нее кавалеру, — что я легкомысленничаю, садясь на бриллиантовое солнце. Я этим действием на целое комаринское село благоденствие изливаю!
Очень возможно, что нечто вроде этих соображений приходило в голову Нерону, когда перед его глазами пылал Рим.
Или купцу Овсянникову, когда горела его фабрика. И они, каждый по-своему, подавали милостыню бедному.
Вот почему, когда я вижу, как дамочка изнуряет себя перед зеркалом, то никогда не осуждаю ее, но говорю: это она промышленность оживляет, ценность кредитного рубля поднимает, милостыню бедняку подает. Одним словом, по мере своего дамского разумения, «дело» делает.
Вот и адвокатура наша собралась дело делать. Правда, что она и прежде себя преимущественно с этой стороны уже зарекомендовала; но лет пять-шесть сряду об ней как-то совсем не было слышно, точно она сквозь землю провалилась. А теперь опять всплыла.
Я помню, что когда адвокатское сословие впервые выступило на арену общественного служения, я был очень этим обрадован. Как хотите, а чрезвычайно приятно живое слово слышать, хотя бы оно раздавалось по поводу подтопа принадлежащих корнету Отлетаеву лугов мельницею купца Подзатыльникова. Это слово казалось тогда как бы естественным продолжением другого слова, которое, при помощи печатного станка, посвящало себя пробуждению в сердцах добрых чувств. Подобно печатному тогдашнему слову, и адвокатское устное слово на первых порах звучало такою убежденностью и страстностью, что Отлетаев и Подзатыльников ничего не понимали, а только чувствовали, что слезы градом льются из их глаз; суд же, по выслушании сторон, в величайшем смущении удалялся в совещательную камеру, не зная, кому присудить протори и убытки. И большею частью постановлял такие решения, которые приводили за собой сначала апелляцию, потом кассацию, потом новое решение и так далее, до тех пор, пока кто-нибудь из тяжущихся не пропустит срока. Тогда, делать нечего: подтопляй, купец Подзатыльников, отлетаевские луга! А ты, Отлетаев, вперед не зевай!
Но, озаряя новые суды блеском своего красноречия, адвокаты, кроме того, были осмотрительны как в выборе дел, так и в исходатайствовании исполнительных листов и во взысканиях по оным. Этого тогда не было, чтоб адвокат говорил клиенту: «вашего дела ни по какой статье выиграть нельзя, но попробуем: может быть, кривая и вывезет!» Напротив того, один адвокат своему клиенту (истцу) говорил: «Ваше дело вот по такой-то статье выиграть можно»; а другой адвокат — своему клиенту (ответчику): «ваше дело вот по какой статье выиграть можно!» И каждый шел в суд, убежденный, что его статья победит. Да и того тоже не было, чтобы деньги по исполнительному листу получить и в свою пользу употребить; напротив того, все силы-меры употреблялись, чтобы всё до копеечки клиенту предоставить, разумеется, за исключением процентов, заранее выговоренных за беспокойство.
А беспокойств в то время немало набиралось, потому что больших бар в то время между адвокатами почти не было, и всякий свою работу сам делал: и имущество должника сослеживал, и при описях присутствовал; словом сказать, в пользу клиента себя в струнку вытягивал.
Помню я, как на моих глазах один молодой адвокат карьеру свою обстроивал. Взыскивал он с меня в то время должок, и взыскивал, надо сказать правду, чрезвычайно благородно: и до суда не доводил, и не теснил насчет уплат. Есть деньги — возьмет и расписку даст; нет денег — завтра придет. Частенько он ко мне таким образом хаживал, и когда я совестился, что так много ему беспокойств доставляю, то говорил: «Ничего! это наша обязанность!» Даже от моих папирос отказывался, а вынет из серебряного портсигара («это мне клиент подарил!») собственную папироску и с удовольствием выкурит. Так вот, бывало, придет он ко мне, полный рвения, но бледный и утомленный.
— Что вы как будто нынче устали? — спросишь его.
— Да вот имущество ответчика одного наконец соследил! — ответит он и по порядку расскажет, какую ему бог радость послал. Совсем было на чужую квартиру должник имущество-то переправил, а он, адвокат, и на чужую квартиру проник. Пришел, а его там дама встречает: «Как вы смеете, говорит, в чужой квартире распоряжаться! Это мое имущество!» Однако нет, извините-с! Ведь он, адвокат, не нахалом в чужую квартиру пришел, а на законном основании. И даже привел с собою свидетелей, которые тут же и удостоверили: «Помилуйте, сударыня! мы не раз у Моисея Исаича (имя должника) на этом диване сиживали!»
И таким образом он иск своего доверителя обеспечил, а об укрывательнице-даме составил, при содействии полиции, протокол.
А на другой день после этой удачи опять придет, еще более утомленный.
— Неужто вы и сегодня какого-нибудь должника соследили? — спросишь его.
— Нет, сегодня я при описи и оценке имущества присутствовал. Представьте себе, девятьсот шесть предметов и между прочим тридцать стклянок из-под одеколона. А нельзя! каждую вещь надо особенно в реестр занести.
Так вот каковы были первые христиане… то бишь адвокаты.
Чувствительные, скромные и притом непьющие. Однако ж в «Московских ведомостях» и тогда уж писали, что они основы потрясают; а об том, что они в эмпиреях витают и куда-то далеко уду закидывают, — об этом походя во всех харчевнях рассказывали.
Но эта идиллия была непродолжительна. Пришлось мне года на полтора за границу уехать; возвращаюсь и первое, что слышу: такие нынче адвокаты дела делают, такие куши рвут, что даже евреи-железнодорожники зубами скрипят. А чтобы клиенту помочь, как прежде бывало, имущество должника отследить — об этом нынче и не заикайся! Сам ищи!
Дальше — хуже. Подошло Овсянниковское дело; разыгралось несколько крупных банковских краж. Куши так и лились. И тоже торговля процвела, но не столько суровским, сколько бакалейным товаром. По фунту икры зараз съедали опытные адвокаты, а неопытные — по ящику сардинок. А ужины у Бореля с кокотками — само по себе. Одним словом, ни один дореформенный откупщик в целую неделю столько не проедал, сколько в один вечер какай-нибудь Балалайкин.
Ужасно это меня огорчило. Я надеялся, что по возвращении в отечество храм славы увижу, а увидел — помойную яму. Вся литература того времени гремела адвокатскими безобразиями, но гремела бессильно. И бессилие это совершенно естественно объяснялось тем, что адвокатура сознавала себя стоящею прочно на почве «дела». Многие адвокаты так-таки прямо и заявляли: у нас свое дело есть, а что думает об нас литература и общественное мнение — это для нас безразлично.
Однако же раз адвокатура освободила себя от контроля литературы и общественного мнения, раз она признала для себя обязательным только тот контроль, который приводит за собою больший или меньший размер гонорара, — понятно, что она сделалась с нравственной стороны неуязвимою. Но в то же время она утратила способность к самосовершенствованию в какой бы то ни было сфере, кроме процессуальной кляузы.
Затем слухи о подвигах адвокатуры как-то вдруг замолкли. И сами адвокаты попритихли, перестали бакалейную торговлю оживлять, да и безмерно они всем своими апелляциями и кассациями надоели. Но, главное, обстоятельства такие пристигли, что не до адвокатов было…
Но нынче для адвокатов опять золотое время пришло. На сцену выступили толки об «деле», а у них оно уж давно готово. Теперь они, вместе с банкирами (купить — продать, продать — купить) и всех сортов оздоровителями, покажут нам, какие размеры может принять процветание страны, ежели все ее обитатели настоящим трезвенным делом заняты. В эмпиреях они не витают, широких задач не преследуют, а долбят скромненько с утра до вечера: апелляция — кассация, кассация — апелляция…
И для начала выбрали дело о травле городских обывателей в пользу общества водопроводов. Контракт, говорят, будто бы дозволяет обывателей негодной водой отравлять. Что ж, коли контракт, так, разумеется, приходится пить воду по точному оного пониманию. Видишь: § такой-то, пункт такой-то… читай! И пей отравленную воду, и молчи. Та́к это ясно, точно и даже свято (в контракте — святость прежде всего), что, сказывают, будто целое скопище адвокатов за общество водопроводов горой стоит и что ради этого дела забыты связи дружества и даже узы родства! Еще бы!
Но неужели и теперь еще будут говорить, что адвокаты основы потрясают и в эмпиреях витают?!
Таким образом, все «правящие классы» постепенно присасываются к делам. Адвокаты, дамочки, банкиры, земцы, оздоровители и проч. Одна литература продолжает ни при чем состоять. Дела для нее решительно не отыскивается, а в эмпиреях витать — и не ко двору, и не ко времени.
Да и читающая публика нынче равнодушна к эмпиреям стала. Ничего не хочет знать, кроме газет. Прочтет кой-какие столбцы, а остальное время твердит: купить — продать, кассация — апелляция…
Впрочем, это я об той части литературы говорю, деятели которой называются «разбойниками печати» и «мошенниками пера» (клички эти непременно надо сохранить в назидание потомству, как исторический документ). Что же касается до остальной литературы (преимущественно газетной), то она, наравне с прочими оздоровителями, нашла для себя «настоящее» дело и, по-видимому, ведет его с полным успехом.
VIII
А вот и еще «дело» нашлось.
«Мой собственный корреспондент» прислал мне из Одессы очень любопытное объявление. К сожалению, он не сопроводил свою присылку никаким объяснительным письмом, так что я не знаю ни личности самого корреспондента, ни его фамилии, ни того, когда был издан доставленный им документ.
Из пометок, имеющихся в конце объявления, видно, что оно разрешено к печатанию полицеймейстером Буниным и тиснуто в Одессе, в типографии «Труд» В. Семенова. Ни года, ни месяца, ни ч’исла — не значится.
Во всяком случае, документ этот в педагогическом отношении настолько поучителен, что я решаюсь привести его здесь дострочно, не изменяя и несколько произвольной его орфографии. Вот он:
ШКОЛЬНЫЕ
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СТОЛЫ СИСТЕМЫ КУНЦА
И
КУШЕТКИ
ПО НОВОЙ СИСТЕМЕ
Эти кушетки имеют преимущество пред скамьей старинных школ и в гигиеническом, и экономическом отношениях. Кушетка гигиеническая состоит из скамьи в аршин шириною. На одной ее стороне находится подвижной на шалнерах деревянный футляр в виде четвероугольной коробки дном кверху. Длина ее 6 четвертей и 4 ширина с высотою в 5 четвертей. Три боковые наружные стороны, а также и верхняя состоят из толстой проволочной решетки с крупными до 3 кв. в. промежутками. Со стороны, обращенной к скамье, вместо решетки вставляется подвижная сверху вниз доска с дугообразным вырезом. С другой стороны скамьи такой же подвижной ящик в 5 вер. вышины и до 17 длины. Когда подвигается 1-й ящик, то он закрывает голову, грудь и большую часть спины. Опускная доска с вырезкой охватывает спину и не допускает движений наказываемого ни вперед, ни назад. Точно так же 2-й футляр прикрывает ноги и не допускает свернуться в сторону. Таким образом избегается вредного держания наказываемого, когда училищная прислуга притискивает обыкновенно голову наказываемого мучительным образом, так что он одной щекой и искривленной шеей плотно прижат к скамье, и вместе с тем лакей давит всей силой мускулов на нежную грудь мальчика. Шея, наискось прижатая в искривленном положении, производит полузадушение. Все жилы головы наливаются кровью. Лицо и белки глаз краснеют, начинается головокружение, а иногда и обморок. Этот прилив крови к мозгу надолго оставляет головные боли и неспособность к умственным занятиям. Держащий сторож, конечно, в это не вникает и, раздосадованный обыкновенно конвульсивными движениями наказываемого в припадках жгучей боли в оконечности позвоночного столба, начинает как попало надавливать на голову и плечи, сжимая, как в клещах, верхнюю часть туловища. Гигиеническая кушетка, оставляя свободными шею, грудь и голову, мешает в то же время движениям средней части тела, которую оставляет в полное распоряжение экзекутора почти неподвижною. В экономическом отношении она избавляет заведения и пансионы от содержания лишних двух человек прислуги для держания. Имея эту скамью-кушетку, сторож каждого училища может служить делу.
Удобство также заключается и в том, что голова наказываемого закрыта, а то иногда страдальческое и умоляющее выражение лица мальчика подкупает секущего, и он невольно облегчает удары и боль, что, со стороны правдивой педагогики, совсем нежелательно — напротив, наказание должно быть соединено с болезненным и продолжительным страданием без малейшего послабления и внимания к стонам и крикам, как единственная педагогическая.
ЦЕНЫ ГИГИЕНИЧЕСКИХ КУШЕТОК: Ясеневого дерева, раздвижная, годящаяся для всякого возраста с шалнерами и винтами из николя и всех металлических частей работы Фрелиха 50 р.
Нераздвижная для младшего возраста 30»
«старшего» 40»
Для употребления в семействах, смотря по отделке, в ненужное время могут заменять шкапы и столы от 25»
Простые для народных училищ и т. п. 20»
Вот сколь несправедливы те, которые ропщут, что у нас «дела» нет. Помилуйте! одни гигиенические кушетки захватывают целую массу заинтересованных личностей. Родители, опекуны, попечители, всех сортов воспитатели и воспитательницы, члены общества гувернанток, педагоги и педагогички, директора, инспектора, ревизоры и, наконец, сами секуторы, или экзекуторы, как их вежливо величает объявление. Ежели все-то как следует поймут святость лежащих на них обязанностей, тут такая уйма «дела» найдется, что даже червь неусыпающий — и тот придет в отчаяние. Одни — укладывают пациента на кушетку и прилаживают ящики, другие — воздействуют на «среднюю часть тела», третьи — присутствуют при воздействии и приговаривают: «Шибче!», четвертые инспектируют самое орудие гигиены, все ли в исправности и не представляется ли возможности для поблажки. Словом сказать, хлопот полон рот.
Ведь если у нас идет плохо воспитание детей, то именно потому, что несерьезно слажены относящиеся к тому орудия. Иной родитель или воспитатель и рад бы сечь, да, кроме розог, все прочие приспособления находятся в таком младенческом состоянии, что смотреть больно. Начать хоть бы с того: как приступить к делу? Ежели ущемить ребенка между коленами, то он будет биться, не предоставит родителю «в полное распоряжение средней части тела». Ежели позвать на помощь служителей, то, во-первых, не у каждого родителя таковые обретаются, а во-вторых, служители имеют обычай «мучительным образом притискивать голову наказываемого». А многих, кроме того, «подкупает страдальческое и умоляющее выражение лица наказываемого». Повозится-повозится родитель, два-три раза хлестнет лозой наудачу (ах, да и рубашонку-то бог знает как подняли!) и бросит: пускай родное детище погибает!
Тогда как, с введением гигиенических кушеток, все разом явится к услугам, слаженное, соображенное, очищенное от всяких случайностей и даже от страдательного выражения лица: бери в руки розги и секи. Секи шибче, секи не смущаясь! ибо все то добро, все то на пользу. Смело пиши всяко лыко в строку, ибо корни сечения горьки, но плоды его сладки. И знай, что, прибегая к гигиенической кушетке, ты не токмо детищу своему счастие в будущем уготоваешь, но и для самого себя создаешь «дело», вполне, по обстоятельствам, достаточное.
Объявление украшено картинками. Изображена очень красивая кушетка, и ящики нарисованы в таком виде, как в момент сечения их подобает приладить. Только «средней части тела» не изображено — ну, да ведь и воображению почтеннейшей публики что-нибудь надо оставить. И дешево. Обыкновенная, «для употребления в семействах» кушетка стоит всего 25 рублей, да притом еще может, «в ненужное время», заменять шкапы и столы — обедать можно. А для народных училищ и всего-то двадцать рублей за штуку. То-то народное образование процветет!
Допустите, что население России простирается до 101 442 242 души («Русский календарь» за 1884 г.); предположите, что на это население в настоящее время, при несовершенстве современных секуторских средств, производится в день по 500 000 секуций (по одному человеку на каждых 200 обывателей — право, немного!) и что каждая секуция (с раздеваниями, укладываниями и прочею церемонией) длится не больше четверти часа, — окажется, что 500 тысяч секуций ежедневно требуют 125 тысяч рабочих часов. Принимая же в расчет, что рабочий день состоит из десяти часов, мы придем к тому выводу, что двенадцать тысяч пятьсот человек имеют определенное «дело», которое не дает им досуга парить в эмпиреях и тем навлекать на себя подозрение в вольномыслии. Это теперь, при отсутствии гигиенических кушеток — что же будет, когда, с введением кушеток, сечение сделается почти общедоступным? Очевидно, что сообразно с сим возрастет и охота к сечению, а в то же время утроится, учетверится — отчего же не удесятерится? — и масса людей, занятых определенным делом, свободных от парений и ко всему равнодушных, кроме той «средней части тела», которая оставляется «в полное распоряжение экзекутора почти неподвижно». Почему же, однако, «почти» неподвижно? почему не «вполне»? Совершенствовать так совершенствовать. Или, быть может, в деле сечения вредны только впечатления, производимые умоляющим выражением лица, а не те, которые производятся непроизвольными движениями «средней части тела»?
Но, право, я все-таки очень рад, что кушетки эти изобрел Кунц, а не Иванов. Почему рад — я и сам объяснить не могу, но мне кажется, что если б это изобретение принадлежало Иванову, то аторги за него ему было бы мало. А Кунцу — как раз впору. Даже приятно было бы познакомиться. Herr[74] Кунц! не угодно ли позавтракать на той самой кушетке (обращенной в стол), на которой только сейчас Иванова, за неплатеж недоимок, высекли?
Но еще больше я рад тому, что изобретение Кунца, несмотря на осязательную пользу, как будто у нас не привилось. По крайней мере, я лично ничего о кушетках не слыхал. Должно быть, думал нас удивить немец, а мы взяли да еще больше его удивили: дерем через пень колоду, как в древности драли, и горюшка нам мало, какое выражение имеет лицо наказуемого и в каком направлении двигается «предоставляемая в распоряжение часть тела».
Замечательно, но в то же время и совершенно естественно, что всякий раз, как идет речь об розге, воспоминания детства так и встают перед глазами, словно живые. Счастливое детство!
Впрочем, я не припомню, чтоб лично я много страдал от розги; но свидетелем того, как терпела «средняя часть тела» за действия и поступки, совсем не по ее инициативе содеянные, бывал неоднократно. Публичное воспитание я начал в Москве, в специально-дворянском заведении, задача которого состояла преимущественно в подготовлении «питомцев славы». Заведение, впрочем, имело хорошие традиции и пользовалось отличною репутацией. Во главе его почти всегда стояли ежели не отличнейшие педагоги, то люди, обладавшие здравым смыслом и человечностью. В первый год моего пребывания в заведении директором его был старый моряк, С. Я. У., о котором, я уверен, ни один из бывших воспитанников не вспомнит иначе, как с уважением и любовью. Об сечении у нас не было слышно, хотя оно несомненно практиковалось, как и везде в то время.
Но, во-первых, практиковалось только в крайних случаях и, во-вторых, келейно, не задаваясь при этом ни теорией устрашения, ни теорией правды и справедливости, якобы вопиющей об отмщении именно на той части тела, которую г. Кунц именует среднею. Присутствовал ли при этих экзекуциях лично сам директор — не знаю; но уверен, что ежели и присутствовал, то не для того, чтоб кричать: «Шибче-с!», а для того, чтобы своевременно скомандовать: «Довольно-с!»
Через год старый директор, однако, вынужден был удалиться. На его место был назначен бывший инспектор, добрый человек, но не самостоятельный, а в качестве инспектора явился молодой человек, до тонкости изучивший вопрос о роли, которую должна играть «средняя часть тела» в деле воспитания юношества. Этот молодой человек почему-то вообразил себе, что заведение, отданное ему в жертву, представляет собой авгиевы конюшни, которые ему предстоит вычистить, и, раз задавшись этою мыслью, начертал для ее выполнения соответствующую программу.
Программа эта немногим отличалась от всех вообще воспитательных программ того времени и резюмировалась в одном слове: сечь. Но у нее была язвительная особенность, заключавшаяся в том, что она выводила сечение из его изолированности и делала его наглядным (à la portée de tout le monde). Каждую субботу, по выходе от всенощной, воспитанники выстраивались по обе стороны обширной рекреационной залы и в глубоком молчании ожидали появление инспектора. Многие припоминали совершенные за неделю грехи, шептали молитвы и крестились; напротив того, воспитанники «травленные» (в заведении образовался особый контингент, как бы сословие, для которого «субботники» вошли почти в обычай) держали себя довольно развязно и интересовались только тем, которому из двоих урядников в данном случае будет поручена экзекуция. Ежели дежурным оказывался урядник Кочурин, то смотрели в глаза будущему с доверием; ежели же дежурным был урядник Купцов, то даже самые храбрые задумывались. Кочурин был солдат добрый и сек больно, но без вычур; Купцов сек и в то же время как бы мстил секомому. Посредине залы между тем стояла простая, совершенно не гигиеническая скамейка, около которой ожидали: дежурный секутор и двое дядек, обязанных держать наказываемого за плечи и за ноги.
Наконец он появлялся в глубине залы. Прямой, как аршин, с несгибающимися коленками и с заложенными за спину руками, он медленным шагом подходил к скамье и бесстрастным голосом выкрикивал по списку имена жертв (список хранился в секрете до самого часа экзекуции), приговаривая: «За леность! за дерзость! за буйство! за воровство!» Вызывалось обыкновенно от 8 до 10 человек, но почти каждую субботу слышались одни и те же фамилии и «посторонних» бывало немного. Число розог определялось от пяти до шестидесяти (за самые тяжкие вины, вроде искалечения, воровства, повторенного пьянства и т. д.). «Травленные» выступали твердо, сами спускали с себя штаны и сами ложились, причем некоторые доводили ухарство до того, что просили: «Разрешите, господин инспектор, чтоб меня не держали!» Но все-таки, ложась на скамью, инстинктивно крестились. Напротив, «посторонние» стонали и упирались, так что инспектор вынуждался напомнить: «Хуже будет, господин такой-то, ежели я прикажу привести вас силой!» Затем дядьки овладевали плечами и ногами пациента, секутор прицеливался, и розги выполняли свое воспитательное назначение. Раздавались пронзительные крики, но выискивались и такие воспитанники, которые, закусив нижнюю губу до крови, не испускали ни звука. Последних называли «молодцами».
Так длился целый год, после чего я оставил заведение и сведений о дальнейшей судьбе субботников уже не имею.
Не знаю также, что сталось с изобретателем субботников; но уверен, что ежели он еще не перестал быть деятельным членом общества, то, наверное, принадлежит к контингенту тех, которые настойчиво требуют перехода от фразы к делу. Оно, впрочем, и естественно: кто с младых ногтей вращался в сфере «дела», тому сфера «фразы» должна быть тяжела и противна.
Но вот вопрос: не присутствовал ли, хоть невидимкою, педагог Кунц при наших «субботниках»? И не тогда ли созрела в нем идея гигиенических кушеток? Ибо, в сущности, и субботники, и кушетки имели одну общую цель: сделать сечение общедоступным (à la portée de tout le monde).
С окончанием масленицы прекратился и сезон зимних утех. Многие опасались, что промышленность опять упадет, но опасения оказались преувеличенными. Торговцы шелковыми и галантерейными товарами действительно несколько приуныли, но барыши истекшего сезона помогут им бодро перенести печальные дни великого поста. Больше всех, впрочем, пострадает Ворт из Парижа (см. газетные описания балов) да берлинские псевдо-Ворты, но, с точки зрения народной гордости, это, пожалуй, и не дурно: пускай иностранные зазнайки почувствуют, что вся их торговля находится в руках русских жен и дев! Но зато несомненно процвела торговля грибами и моченою морошкой. Радуйся, Кола! ликуй, Судиславль! А на пасху грибам и морошке скажем шабаш, а на их месте процветет торговля яйцами, куличами, молочным товаром, ветчиной. И таким порядком пойдет круглый год.
Вот как у нас просто делается. Тайный советник щи со снетками ест — смотришь, кто-нибудь и процвел; супруга его с кузеном на тройке на острова поехала — опять кто-нибудь процвел; лакей его барские сапоги ваксой чистит — и еще кто-нибудь процвел! И непременно процвел меньший брат, а старший брат только жует да на тройках катается.
При крепостном праве русская интеллигенция строго соблюдала посты, в особенности же Великий и Успенский. Многие даже раков и устриц не ели, не зная, как их счесть, скоромными или постными. Соблюдая посты, правящие классы и сами очищали души от греховных помыслов, и подавали пример воздержания меньшей братии. Дни поста бывали днями тишины и успокоения, и контраст между последним, безумным днем масленицы и чистым понедельником даже в столицах был поразителен. Сильные мира смирялись и изобретали грибные соусы, меньшая братия довольствовалась толокном, но в то же время, под влиянием общего молитвенного настроения, чувствовала прилив каких-то надежд.
С упразднением крепостного права соблюдение постов — да и то самых кратковременных — стало уделом преимущественно женского пола; что же касается до интеллигентных мужчин, то они предпочитали отделываться по этому поводу парадоксами. Пример подавать стало некому, а вопрос о спасении души был до того затемнен и запутан беспрерывными реформами, что даже из числа действительных статских советников многие сомневались, есть ли у них душа или нет. При таком настроении общества пост сделался как бы продолжением масленицы, с тою лишь разницей, что блины заменялись ропотом на устарелость предрассудков, мешающих пользоваться жизнью «по-человечески». Грибы осиротели; морошка плеснела и выкидывалась, белозерские снетки совсем исчезли с рынка. Целые местности, которых процветание было тесно связано с процветанием постов, увидали себя обездоленными.
Теперь смута устранена. Посты восприяли прежнее дореформенное действие, и те же самые действительные статские советники, которые не могли утвердительно ответить на вопрос, есть ли у них душа? — ныне положительно, твердо и ясно восклицают:
Я лично знаю тайного советника, который в течение всей первой недели поста говорил по-славянски, как бы опасаясь оскоромиться русским языком. А другой тайный советник даже совсем от дара слова отказался и проводил время в том, что молча созерцал свой пупок. Но это, по-моему, уж ригоризм.
В согласность с этим новым веянием, и движение на улицах в чистый понедельник значительно сократилось сравнительно с реформенным временем. Оживление замечалось только около бань и вблизи больших чиновнических центров. Давно так бойко не торговали банщики, и никогда так исправно не посещали чиновники своих департаментов, никогда так свято не хранили канцелярской тайны. Придут ранехонько, возьмутся за перья, сделают свое дело и затем — молчок. Слышно только, что плодом этой великопостной ретивости ожидается великое множество отрезвительных проектов. Проекты эти к будущему великому посту будут переписаны набело, а постом 1886 года их положат под сукно. Suum cuique,[75] или: нет худа без добра. Но, как подспорье к грибам, эти проекты неоценимы; они оживляют ум и утверждают в публике убеждение, что страна, в которой с такою легкостью предпринимаются всевозможные оздоровления, не оскудеет.
Не только об раутах, но даже о простых вечеринках не было слышно в течение целых шести дней, так что и немцы отпраздновали свою масленицу келейно, без публичных оказательств. Редко-редко в каком окне мелькает огонь, да и то скромный, трепещущий, при свете которого ничего другого и делать нельзя, как сосредоточенно смотреть себе на пупок. Сквернословие, столь обычное на улицах в скоромные дни, уступило место скромным и солидным афоризмам, вроде: «Всяк сверчок знай свой шесток» и т. д. «Московские куранты» целых два дня сряду появлялись в Петербурге без передовой диффамации.
Однако со второй недели уже ощущается довольно заметное оживление. Освещенные окна попадаются столь же часто, как и в сезонные дни; бани пустеют, портерные наполняются; выражения: катанье на тройках, раут, декольте — слышатся чаще и чаще. Сквернословие вступает в свои права; куранты свирепеют.
Раут — это самая скучная из всех форм общежития, участники которой думают только об том, как бы от нее улизнуть. Люди собираются пестрые и подозрительнее; разговоры ведутся шаблонные, неискренние; пересказываются новости дня, которые всеми выслушиваются с удовольствием или негодованием (смотря по содержанию новости), но никто ни в это удовольствие, ни в это негодование не верит; старики изрекают приличные обстоятельствам афоризмы и стараются проникнуть в намерения Бисмарка; младшие почтительно с ними соглашаются, но внутренно думают: да, брат, порядком-таки ты от старости ошалел! Разносят чай, прохладительные, устроено несколько буфетов; там и сям разложены карточные столы; но никто ни к чему не прикасается, точно боятся, что это может задержать лишнюю минуту. Редко кто даже садится, потому что всякому думается, что на ходу ловчее можно улетучиться. А хозяева стеснены больше всех. Они стоя принимают беспрерывно появляющихся гостей и с тоскою взглядывают на входную дверь, откуда должен показаться тот «полезный человек», ради которого затеяна вся эта история. Но «он» не появляется, ибо знает себе цену, а вместо него дефилируют сотни неполезных и неинтересных людей. Словом сказать, всюду царствует деланное оживление, деланный говор, деланные поучения, деланное гостеприимство, деланная почтительность… И вдруг среди этой щемящей скуки и бесцельной сутолоки появляется… декольте! Но такое блестящее, ослепительное, с таким изумительным вырезом на спине, что у тайных советников мгновенно спирается в зобу дыхание. Смотрите! вот еле дышащий старец, который за минуту перед тем мечтал, как было бы хорошо намазаться на ночь оподельдоком, надеть на голову белый колпак и залечь с Матреной Ивановной спать. Он уже заносит ногу, чтоб привести этот проект в исполнение, он уже приближается к лестнице и мысленно видит себя в шубе и теплом картузе — как вдруг останавливается, как вкопанный, и начинает чихать. А ослепительное декольте торжествующе смотрит на это сонмище тщетно усиливающихся проникнуть намерения Бисмарка мудрецов и всеми своими вырезами бросает им в лицо: ага! вы думали, что наступил великий пост? — так вот же вам… масленица!
Но повторяю: рауты сами по себе так безмерно скучны, что даже наиболее возбуждающие декольте могут сообщить им лишь скоропреходящее оживление. Посещают их, по преимуществу, старцы, которые уже наяву сны видят, да подростки лет эдак пятидесяти, из которых одни уже овладели «делом», а другие сгорают нетерпением засвидетельствовать о готовности перейти от фразы к делу. Для подобных засвидетельствований раут самая подходящая арена; но и тут все зависит от того, успеет ли жаждующий подросток попасть в район зрения подростка полезного или не успеет. И никакое искусство, никакие подходы не принесут пользы, если не придет на помощь удача. Иной и очень старается, а его или другие чающие ототрут, или же сам полезный подросток так поместится, что не видит своего обожателя, да и шабаш. Другой, напротив, не успел войти, как уже сорвал банк. Смотришь, через четверть часа он уже ходит с полезным подростком под руку, а прочие перед ними расступаются и едят их глазами. Это интимное хождение служит поводом для бесконечных комментариев. Стараются угадать его смысл и определить результаты в будущем. А наиболее прозорливые прямо прорицают: «теперь только держись!» Ежели у счастливца-подростка имеется, кроме того, в запасе программа, то комментаторы заранее приискивают компромиссы и соглашения. Ежели нет программы или есть маленькая — чего изволите? — то комментаторы говорят: «Во всяком случае, хуже не будет». И вдруг, под шумок этого переполоха, оба подростка делают внезапное фланговое движение, врезываются в толпу и исчезают в ней. Туда-сюда — растаяли! Куда они направили бег свой? что знаменует это внезапное исчезновение? какими новыми загадками разрешится завтрашний день? — Опять комментарии, комментарии без конца…
Как бы то ни было, но положение чающих подростков совсем незавидное. Удача достается в удел немногим, а большинство толчется на одном месте, ведет пустопорожние разговоры и агонизирует. Поэтому некоторые мудрецы предпочитают действовать посредством своих жен, ежели последние обладают исправным декольте. Такого рода мудрецов называют дипломатами, и усилия их нередко дают хорошие плоды. Но, по моему мнению, это уж подлость.
Гораздо интереснее и веселее проводится время на простых интимных вечеринках, которых в нынешнем посту особенно много. Здесь на первом плане фигурирует молодежь, та особливая нынешняя молодежь, которая не страстностью речей и телодвижений, а солидным образом мыслей и скромным поведением умеет заслужить и доверие дев, и мимолетную ласку жен, и покровительство мужей и отцов. В этой молодой среде стремление к «делу» и забота об его осуществлении являются ныне преобладающим элементом. Чаще всего под словом «дело» здесь разумеется карьера, но карьера, приобретаемая не в видах удовлетворения эфемерного честолюбия, а в видах достижения определенных общественных идеалов. Нынче редко можно встретить людей, подобных Кротикову или Козелкову, которые еще так недавно мечтали о губернаторских и иных местах, единственно ради целей любоначалия, осложненного любострастием. Нынешние молодые люди на первом плане ставят общую пользу, а потом уже — если время позволит — преследуют и любовные подспорья, помогающие не изнемочь под бременем служебного подвига. Подвиг этот не легкий, хотя и не имеющий реального, обязательного содержания. Дело, предстоящее этим людям, не в том заключается, чтобы самим дело делать, а в том, чтобы заставить делать дело других и, в случае нужды, облегчить переход от фразы к делу. А средства для выполнения этой программы общеизвестны. Это, с одной стороны, неуклонность, а с другой — строгость. И наоборот.
— У меня, дяденька, не зазеваются! — говорил мне на днях один из моих племянников, молодой человек, на которого можно вполне положиться. И, говоря это, он отлично понимал, что, имея в запасе такое испытанное средство, как строгость, можно всего достигнуть: и изобилия, и оживления промышленности, и хорошего денежного рынка, и элеваторов, и транзитов — словом, всего, что смущает воображение современных отощавших празднословов.
Самую излюбленную принадлежность таких интимных вечеров представляют так называемые спиритические сеансы. Наше интеллигентное общество всегда было склонно к волшебствам, но нынешние спиритические радения имеют совсем отличный характер от прежних. Прежде молодые люди по преимуществу вызывали усопших дам. Из древних: Семирамиду, Клеопатру, Агриппину, Мессалину; из позднейших Монтеспаншу, Ментеноншу, Помпадуршу и др. Разумеется, происходил игривого свойства colloquium,[76] от которого молодые адептки спиритизма алели, но не гневались, и который адепты сопровождали еще более игривыми комментариями. Нынче усопших дам оставляют в покое, а вместо них вызывают лиц, оказавших услуги благоустройству и благочинию. Например: Шешковского, фон Фока, Булгарина. Но должно сознаться, что от времени до времени тут не обходится без печальных недоразумений.
Вызывают, например, однажды Шешковского и предлагают ему вопросы. Старик, конечно, очень рад посодействовать, хотя, из кокетства, и жалуется на ревматизм.
— Всего больше, — говорит он, — надо избегать путаницы. Затеявши предприятие, необходимо зрело обдумать оное, не обращая внимания на подстрекательства темперамента и в особенности не дозволяя себе несвоевременной болтовни. Язык мой — враг мой, говорил я себе всякий раз, когда собирался в поход, и никогда не раскаивался в том, что содержал эту пословицу в памяти. То же самое нужно сказать и относительно самого выполнения предприятий. Никогда не следует спешить и суетиться, ибо, спеша и волнуясь, мы девяносто девять раз из ста рискуем попасть пальцем в небо. Конечно, юридическая ошибка сама по себе не представляет важности, но часто она увлекает нас совсем не в ту сторону, куда надо. Многое даже не бесполезно предоставить времени. Ибо ежели мы действуем благоразумно и притом воспитательно, то и время, или, лучше сказать, дух оного, постепенно принимает споспешествующий характер. По крайней мере, я всегда так поступал. Всякий раз, как предприятие ставило меня в тупик, я говорил себе: пускай лучше дело полежит! И никогда не раскаивался.
Высказавши это, Шешковский вновь повторяет жалобы на ревматизм и улетает.
— Какой у этого старика замечательный деловой смысл! — дивятся молодые люди.
— Да, был в старые годы смысл! был смысл! — вздыхает тайный советник (из ропщущих), который, за простоту, допущен в среду молодой компании.
— Какая отчетливость! какое глубокое знание споспешествующих свойств времени!
Но в другой раз с тем же Шешковским случилась целая история. Зовут его, стучат — не идет, да и полно. «Уж не позвал ли его на партию в ламуш граф Ушаков?» — догадываются некоторые, как вдруг появляется урядник Купцов (не тот, который в тридцатых годах стегал «питомцев славы», а предок его, современник и сотрудник Шешковского) и докладывает, что Шешковского бесплодно ждать, потому что душа у него была смертная и вместе с телом без остатка истлела…
Поднимается суматоха; дебатируется вопрос: кто же являлся под именем Шешковского в прошлый сеанс? И что ж открывается? — что в прошлый сеанс разговаривал чревовещатель, которого любезный хозяин посадил в соседнюю комнату.
В сей крайности решаются вызвать фон Фока. Последний является и отсырелым голосом объявляет, что хотя душа у него и не вполне смертная, но частица ее порядком-таки попорчена…
— Однако какая жестокая будущность! — провозглашает один из присутствующих.
— Ежели, впрочем, и тут опять не замешался вантрилок, — прибавляет другой.
Смотрят одновременно и под столом, и в соседних комнатах — нет никого. Очевидно, на сей раз являлся подлинный Купцов и подлинный фон Фок. Остается последнее средство: послать за Булгариным. И точно: Булгарин является на первый же стук и сразу начинает хрюкать:
261
— Призывает меня однажды Леонтий Васильич. Прихожу — рвет и мечет. Увидел меня, вскочил, подбежал, забрызгал: «Бездельник!» — «Слушаю, отец командир!» — «Ренегат!» — «Рады стараться, отец командир!» — «Уж и на меня ябеды сочинять начал!» — «Виноват, отец командир!» — «Пошел вон, сатана!» — «Кубарем, отец командир!»
Водворяется молчание, во время которого, однако, слышится легкий шелест. То реет над собравшимися булгаринская душа.
— Продолжайте! — предлагает один из участников.
— Только и всего.
— Ничего другого вы сказать не имеете?
— Все в этом роде.
— Но было же что-нибудь…
— Вся жизнь — в этом роде.
— Однако!
— Ах, господа, господа! Посмотрю я на вас: слышите вы звон и не знаете, откуда он! Да ведь это-то самое и нужно!
С этими словами душа Булгарина улетает восвояси, а в комнате распространяется легкий смрад. Большинство в недоумении оглядывается по сторонам, но у некоторых уже спадает с глаз пелена.
— «Это-то самое и нужно», — задумчиво повторяет один из присутствующих (из молодых, да ранний) и прибавляет: — le vieux cochon a raison… peut-être![77]
Возвещают, что сервирован ужин. Общество поднимается и в сладком сознании, что вечер проведен «дельно», следует в столовую.
А в заключение, и Петербургская городская дума нашла себе дело. Чествует приезд в «здешнюю столицу» немецкого романиста Шпильгагена, а когда получатся окончательные подробности насчет взятия французами Бак-Нина, то, конечно, будет чествовать и взятие Бак-Нина. Вина в погребах много; «уры» накопилось в сердцах видимо-невидимо — надо же как-нибудь распорядиться и тем и другим.
Что Шпильгаген очень талантливый писатель и в шестидесятых годах имел значительное влияние и на русскую литературу, и на русское общество — это бесспорно; но Дума-то петербургская тут при чем?
Шпильгагена чествуют, а вот про то, что в Петербурге существует Общество для пособия русским литераторам и ученым, которое на днях втихомолку праздновало свое двадцатипятилетие, — никто знать не хочет. А, право, ведь это учреждение сотни Шпильгагенов стоит. Подумайте! оно одно поддерживает (насколько может) интересы пишущего пролетариата, одно, которое без ужимок признает свою солидарность с русскою литературой! Каких еще больше прав на внимание общества!
Бедный русский Литературный фонд! Он всецело разделяет судьбы русской литературы. Подобно ей, он находится в забвении, подобно ей, влачит унылое и скудное существование. Коли хотите, это логично, но как-то горько мириться с этою логикою. Все думается: куда было бы лучше, если б благоденствовала литература и вместе с нею благоденствовал бы и Литературный фонд!
В русской литературе встречаются имена, принадлежащие лицам вполне обеспеченным. Литература дала им все: и деньги, и славу, а вспомнили ли они об ней! Уделили ли они Литературному русскому фонду что-нибудь, кроме жалких крупиц! Многие из них так и сошли в могилы, не вспомнив о своих бедствующих собратиях по литературе.
А книгопродавцы? а те, которые на костях литературы создали свои более или менее значительные состояния? Знают ли они даже, что существует русский Литературный фонд, который, приходя на помощь к бедствующему литературному деятелю, косвенно содействует созданию той самой «книжки», которая легла в основание всех этих капиталов в виде многоэтажных домов, акций и облигаций?
Право, лучше бросить (ведь у нас иначе жертва и не понимается, как в форме бросанья) деньги на поддержание русского Литературного фонда, нежели на чествование Шпильгагена, как бы ни почтенна была литературная деятельность последнего. Подумайте об этом, милостивые государи! и ежели вы полагаете, что встреча, устраиваемая вами Шпильгагену, есть в своем роде оказательство в смысле сочувствия к просвещению, то поймите, что оказательство это выразится гораздо решительнее, ежели оно явится в форме сочувствия к русскому Литературному фонду.
IX
Я с величайшим любопытством слежу за той частью нашей публицистики, которая сама себе присвоила название охранительной. Я знаю, что многие ее не любят за ее проделки, и даже сам вполне разделяю эту нелюбовь. Она недобросовестна, назойлива, недальновидна, всегда находится под гнетом темперамента и любит, в угоду ему, солгать, подсидеть, подтасовать, извратить самый ясный факт. И при этом как-то беспардонно нагла, так что ни одной своей срамоты не скрывает: на, смотри! Читать гадко. И все-таки надо читать, потому что это и любопытно, и отчасти даже утешительно. Любопытно, потому что извивы лукавой мысли, которая суетливо пенится в пустом пространстве, сами по себе представляют очень замечательное психологическое явление; утешительно — потому что все усилия этой мысли настолько проникнуты легкомыслием, что, в сущности, и обмануть никого не могут. Не умеет русская охранительная пресса шить свои диффамации иначе, как белыми нитками; не умеет прятать концы в воду. Сегодня она пустит в ход агитацию по какому-нибудь небезынтересному для нее делу, будет ссылаться на ходатайства, постановления, подписи и т. п., а завтра, натолкнувшись на другую, встречную агитацию (тоже с постановлениями, ходатайствами и подписями), станет утверждать, что агитации вообще ничего не доказывают, что они скорее вредны, нежели полезны для дела. Даже лазейки для себя не будет приискивать, а просто отопрется, солжет. И так как она каждый день повторяет эту историю, каждый день только что не говорит: читатель! все, что я ни предполагаю, можно видеть только во сне! — то понятно, что и самому простодушному профану наконец надоест принимать сновидения за действительность.
Я понимаю, что может такой казус случиться, что, не имея за душой ничего, кроме праха, поневоле приходится им одним торговать, но ведь и с прахом следует обходиться бережно. Прах так прах; но пускай же он будет один и тот же всегда и везде, ибо только тогда он сделается владыкой мира. Отрицайте разум, прогресс, правду, человеческое право на счастье — прекрасно. Называйте все это опасной утопией, источником заблуждений и потрясений — еще того лучше. Утверждайте, что завтрашнего дня нет, что перспектив не полагается, а есть только то, что торчит под носом, — и это хорошо. Но держитесь этих отрицаний твердо и не призывайте разума, человечности и проч. ни на помощь, ни в свидетельство. Совсем не произносите этих слов, так как вы выходите из принципа, который признает их праздными. Не пишите, в смысле порицания: такое-то действие противно разуму, ибо, согласно вашей программе, это-то и есть действие, достойное похвалы. Не угрожайте завтрашним днем, потому что вы раз навсегда установили, что завтрашнего дня нет, а вместо него зияет черная дыра, о которой вы и будете калякать тогда, когда в ней очутитесь. Проводите ваш прах логично, а не пестрите его поправками, не перескакивайте легкомысленно от одного праха к другому. Ибо ничто так не вредит возведению праха в принцип, как его пестрота.
Вспомните, читатель, что́ вопияла охранительная публицистика года три тому назад по адресу так называемой интеллигенции. Все кривды и беззакония, какие только можно совместить в наиболее извращенной человеческой личности, она, нимало не стесняясь, приурочивала к интеллигенции. Приурочивала, надрываясь, волнуясь и кипятясь, не считая даже нужным приискивать какие-нибудь аргументы. И не к той интеллигенции приурочивала, которая умеет в винт играть, которая устраивает катанье на тройках и пикники и в этом усматривает свое провиденциальное назначение, а именно к той, которая руководится какими-либо умственными и нравственными интересами. Именно на эти-то интересы и указывалось, как на источник всякого рода пагубы. Этого мало: она не ограничивалась платоническими воплями, но инсинуировала и практическое воздействие. Столбцы охранительных газет приятно пестрились корреспонденциями простецов-обывателей, которые простодушно предлагали топить интеллигентов, делать им встряски. И все это говорилось и предлагалось во имя здравого смысла народа, во имя «исконных русских начал». Любопытно бы знать: пуская в обращение эти наивные подстрекательства и ссылаясь на оные, как на документ, спросил ли себя кто-либо из охранителей-публицистов, что же такое он сам? Что он причисляет себя к сонмищу интеллигентов — в этом не может быть сомнения; что он понимает слово «интеллигент» не в смысле умения играть в винт — это тоже не требует доказательств. Ибо каким бы прахом ни было наполнено его существо, как бы малоинтеллигентно ни вел он свое дело, все-таки это дело, и по форме, и по существу, свойственное только интеллигенции. А следовательно…
Вот до этого-то «следовательно» никогда и не договариваются люди, которые называют себя охранителями, а в сущности охраняют только прах. Многие думают, что они не хотят договориться, но я решительно склоняюсь в пользу выражения: не могут. В минуты паники они теряют и память, и способность делать обобщения, а часто ли бывают такие минуты, когда бы они не находились под гнетом паники? Все пробуждает в них панику, все приводит их в исступление. Не только политическая смута, но и спокойное отправление правосудия, и действия акцизных чиновников, и дело Зографа, и дело Мельницкого, и элеваторы, и направление железных дорог, и транзит. Везде они видят не сущность дела и даже не обстановку его, а какой-то блуждающий огонь, за которым скрывается измена. И ради этого огня забывают все, И себя, и предмет, на защиту которого вышли, и применения, и выводы, к которым подают повод их вопли.
И все-таки повторяю: это фаталистическое свойство, в силу которого прах на каждом шагу изобличает и побеждает самого себя, есть своего рода благо, которое необходимо принимать в расчет. Я знаю, что бойкие слова подкупают, но знаю также, что, пущенные на ветер, утопленные в массе противоречий, они могут иметь успех лишь минутный. Нельзя верить публицисту, который никогда ни к какому логическому выводу не приходит, который слоняется из угла в угол, сегодня говорит за, а завтра против, не сознавая даже, что и в том и другом случае дело идет о предметах вполне однородных, хотя бы и обозначенных различными рубриками. И действительно, ему редко кто доверяет, хотя, к сожалению, еще слишком часто говорят: «вот ведь какое перо!»
По моему мнению, это результат далеко не безнадежный. Потому что, если б прах проводил себя вполне логично, как в былые времена, например, в Китае, тогда нельзя было бы дышать. А теперь все-таки еще можно, хотя проворство, с которым глаголемые охранители отыскивают прахи и играют ими, во всяком случае, делает роль очевидца и современника этих игр довольно тяжелою.
Но продолжим наши воспоминания. Посылая прямые и косвенные укоризны вдогонку интеллигенции, которая и без того в авантаже никогда не обреталась, охранители указывали на «здравый смысл» народа и в нем одном находили надежное убежище против подвохов растлевающей цивилизации. В народе, говорили они, сохранились во всей неприкосновенности исконные русские начала, которые и помогут победить умственную и нравственную смуту, угрожающую нам окончательным разложением. И такова, дескать, живоносная сила этих начал, что, раз доверившись им, уже не представится надобности ни в сложных мероприятиях, ни в обременительных затратах, которые такие мероприятия неизбежно за собою ведут. Здравый смысл народа восторжествует без всякой посторонней помощи. Все устроится само собой, мирно, но грозно, без притязаний на блеск, но достаточно внушительно.
Казалось бы, чего лучше? Власть, доверяющая здравому смыслу народа, и народ, естественно, без предвзятой мысли, идущий навстречу этому доверию! От осуществления такой перспективы, полагать нужно, и либералы не прочь. Никто не видит идеала в антагонизме для антагонизма; никто… кроме, быть может, охранителей, которые никогда не смотрели на народ иначе, как на помеху в деле благоустройства и благочиния. Но на этот раз даже они говорят нам: «Да, в доверии к народным массам единственное наше спасение!» Стало быть, и действительно уже неоткуда больше ждать помощи.
Но кто допускает известную цель, тот, конечно, должен допустить и соответствующие этой цели средства. Кто возлагает на народ все упования, тот, хотя бы и притворно, обязывается рисовать его образ чертами не только вполне сочувственными, но даже с примесью некоторой идиллии. Народ, мол, это не какие-нибудь рядские сорванцы, которые способны лишь на то, чтобы по сигналу: взы-взы! — набрасываться на всякого встречного потому только, что он одет в кургузку. Нет, это собрание благомысленных мужичков (что ни мужичок, то хоть сейчас в бурмистры… если б крепостное право опять народилось!), которые за десятым самоваром истово калякают о мирской крестьянской правде да о поровёнке, а о том, каким образом с мошной поступить, — помалчивают. Вот это какой народ!
Нужды, мол, нет, что «благомысленные», между прочим, и о поровёнке разговаривают, — ведь это только издали страшно. Сегодня у них поровёнка в ходу, а завтра, «гля́дя по времю», и другие разговоры найдутся. «На то щука в море, чтобы карась не дремал!» — чем это не разговор! Или: «Не плачь, казявка! только сок выжму!» — хоть какому благомысленному не стыдно! Сначала поровёнку в ход пустим, потом «сок выжмем», а потом и опять, пожалуй, за поровёнку примемся! А самовары между тем со стола не сходят. Пьют себе благомысленные чашку за чашкой, в ус не дуют, да мошну поглаживают! Мы, мол, не горланы, не рядские сорванцы, не кулаки, не мироеды, не захребетники — мы «благомысленные»! А ежели, мол, карась к щуке в хайло попал, так он сам же и виноват: не зевай!
О достолюбезные дети природы! Как не довериться вам, коль скоро вы не только здравый смысл и русские начала в неприкосновенности сохранили, но при сем и мошну из вида не упустили!
Вот в каком виде следовало бы консерваторам-публицистам живописать русский народ, если бы они могли вести свое дело последовательно. Положим, что это вышел бы не заправский народ, а харчевня, наполненная идиллическими мироедами; но ведь русская публика на этот счет невзыскательна: идиллия в соединении с поровёнкой да с мошною и до сих пор на нее без промаху действует.
Да; это было бы с их стороны «очень ловким шагом» (специальное выражение охранителей-публицистов, когда они хотят охарактеризовать какой-нибудь подвох) и сразу отбило бы у либералов хлеб, на который они рассчитывают. Ротозеи! они воображают, что они одни секретом «рассказов из народного быта» обладают… милости просим! Да мы, охранители, такую по этой части ахинею за пазухой держим, что в нос бросится… да! Мужички! милые! что вы там заробели-спрятались! Вылезайте, не бойтесь! Покажите, какие такие в вас русские начала сидят? какой такой здравый смысл? Ах, хорош здравый смысл!
Истинно говорю, что либералы не только остались бы ни при чем, но, может быть, и в помине об них уж давным-давно не было бы!
Но охранители наши не могут быть последовательны. Малодушные, всецело угнетенные темпераментом, то необузданно ликующие, то сеющие бессознательный страх, они бросают на ветер слово и сейчас же забывают об нем. Забывают, потому что в данную минуту не видят в нем надобности; но ежели встретят таковую, то и опять вспомнят. Увы! не понимают они, что подогретому слову цена уже грош…
В самом деле, тот же самый темперамент, который только что продиктовал им теорию обращения к здравому смыслу народа, тут же, кряду, подсказывает и картины самого несомненного отсутствия этого смысла. Тот народ, который, за несколько столбцов перед тем, являлся вместилищем исконных русских начал, представляется теперь лишенным всякого нравственного инстинкта, почти безумным. Прислушаемтесь, например, хоть к такого рода фактам.[78]
«Леса рубятся безнаказанно, на лугах — перекосы и потравы; с полей воруют снопы с каждым годом все сильнее и сильнее; поджигают друг друга; доходит дело до того, что начинают отравлять скотину друг у друга…»
Так повествует охранитель-корреспондент из нижегородской деревни. Кто же все это делает? не интеллигенты ли? Нет, это делает тот самый народ, о здравом смысле которого, чуть ли не в том же номере, охранитель-публицист начертал пространную и убедительную передовицу. Таковы понятия этого народа о собственности; а вот его понятия о справедливости:
«Ничего не поделаешь; некуда обратиться за помощью. В крестьянское общество? но в нем чинит суд и расправу пропившаяся голь деревенская, которая и производит все эти безобразия; степенный мужик давно уже потерял вес… хлопочет только о том, чтоб его оставили в стороне… В волостной суд? но и там сопьют с виноватого и пустят на все четыре стороны…
К мировому? но выйдет еще хуже: оштрафуют на полтину, а конфузу тебе на рубль… Следователь ответит на твою жалобу, что ясных улик нет… И деревенская вольница прекрасно понимает силу своей безнаказанности и неуязвимости. Она так набаловалась тем, что все сходит ей с рук, что, не стесняясь, говорит старшине на сходе: разве ты не понимаешь, что ноне вся сила в нас? делай нам в угоду: нас, брат, много! Вдумайтесь в эти слова: вольница, объединяемая, поддерживаемая и просвещаемая кабаком, поняла, что с нею заигрывают, за нею ухаживают, и подняла голову».
Таковы понятия «народа» о справедливости. Вот так подоплека! Но отношения его к собственному самоуправлению едва ли еще не любопытнее:
«Вот, например, деревня выбирает старосту. Выбор падает на мужичонка-воришку, который к тому же и деревенский живодер, и пастух крестьянского стада, словом, последний человек… Через полгода — начет в 60 рублей, удаление от должности и новый выбор, на этот раз горького пьяницы. Чем же объясняются эти изумительные выборы? а вот чем. «Ноне страху стало мало. В начальство идти путному человеку — только казниться; ты с него подать собирать, а он посмеивается: ничего, говорит, за мир посидишь. Правое не стало».
Так самоуправляются эти представители здравого смысла. И заметьте объяснение: «страху нет»! Страх — это альфа и омега наших охранителей-публицистов. Будь страх — и все пойдет хорошо. Но вот, в заключение, и самый здравый смысл налицо. Слушайте. «Летом, среди горячей деловой поры, мир постановляет: праздновать три-четыре дня подряд. В первый день сходят в церковь, а потом начинают гулять. Ветер выхлестывает спелую рожь, и заботливый хозяин с грустью смотрит на свою трудовую ниву, но взять серп в руки не смеет: за ним зорко следят десятки глаз и только ждут, чтобы содрать четверть водки за нарушение мирского приговора. Вот другое дело «по́мочь» — там за вино работать можно. Кулак, разумеется, и пользуется этим; весело потирает руки и друг его, кабатчик…»
Итак, вот каков этот народ, который, в случае нужды, прославляют, как носителя русского здравого смысла и исконных русских начал, и который, по миновании надобности, топчут в грязь! С одной стороны — единственное убежище, оплот, купель силоамская; с другой — обезумевшая от водки толпа, сборище воров, поджигателей, отравителей, не могущих управлять своими действиями, не имеющих ни малейшего понятия о правде, не понимающих даже той простой истины, что без пищи нельзя существовать. И все это рядом, через несколько столбцов, в одной и той же охранительной газете. Правда, в последнем случае народ не называется народом, а говорится о какой-то вольнице: но ведь это только шутливая кличка, которая позволяет подойти к предмету вольным аллюром. В сущности, эта вольница и есть именно «народ»; это та самая масса, которая знает, что «ноне вся сила в нас», за которою ухаживают, с которою заигрывают…
Кто ухаживает? кто заигрывает? — положительно не кто иной, как те самые, которые и вкривь, и вкось именуют себя охранителями. Ибо невозможно себе представить, чтобы, наделяя народ «здравым смыслом», они разумели только «степенных» да «путных». Во-первых, потому, что если даже прибавить к этим «путным» кулаков и кабатчиков, то и тогда их будет чересчур мало, чтобы фигурировать в качестве народа, а во-вторых, и потому, что эти «степенные», по наивному сознанию самих охранителей, хлопочут только о том, чтоб их оставили в покое. Какая же корысть обращаться к здравому смыслу таких людей? Ведь он давно уже превратился у них в трусливое вожделение покоя, которое, впрочем, нимало не препятствует им разыгрывать, в своем месте, роль благомысленных сельчан.
Нет, как хотите, а все это именно бред, ничего, кроме бреда. И здравый смысл, и антиздравый смысл, и «народ», и вольница— все это сказалось внезапно, невзначай, в угоду темпераменту, без разумения. Бог справедлив: он поражает наглых людей глухотою, слепотою, безумием. Если б не это, они, несомненно, не только ближних своих, но и самого господа бога давно бы слопали.
Повторяю и повторяю: хотя противоречия, в которых путается блудливая мысль псевдоохранительной прессы, в высшей степени постыдны, но в данном случае они весьма знаменательны, ибо поселяют уверенность, что существуют известные пределы, за которыми и бойкие слова оказываются просто-напросто глупостью.
В последнее время особенным вниманием охранительно-публицистического лагеря пользовался вопрос о расхищении власти. До сведения публики доводилось, что рядом с законным самодержавием возникло несколько самочинных самодержавий, которые открыто отрицают авторитет власти, нахально провозглашают себя независимыми от нее и противодействие ее распоряжениям вменяют себе в обязанность и в заслугу. Стоит заправскому властителю дум засадить Ивана Непомнящего в кутузку, как самочинный властитель дум в ту же минуту вырастает из-под земли и освобождает Ивана из кутузки; и наоборот, не успеет заправский властелин поощрить Ивана Благонамеренного, как самозванец уже тащит его на скамью подсудимых. И всё — нарочно.
Что всякий, кто хоть сколько-нибудь знаком с обычным церемониалом русской жизни (в особенности провинциальной), имеет вполне достаточные сведения о явлении, именуемом расхищением власти, — это не подлежит никакому сомнению. Летописи наши изобилуют и преизобилуют подобными фактами. Кто не помнит целой организованной шайки, благодаря которой произошло уфимско-оренбургское земельное расхищение? Кому не известны лукавые рабы, которые, под прикрытием обаяния власти, обделывают свои личные делишки? Кто, наконец, еще в детстве не слыхал о целой массе мелких самоуправцев, по милости которых существование в провинции становится год от году более и более загадочным? Все эти люди, без всякого сомнения, имеют полное право на кличку расхитителей власти. Они посевают вокруг себя скудость материальную, умственную и нравственную, они вносят озлобление и смуту в умы, они умерщвляют народную силу в самом источнике и, совершая все это, в качестве органов власти и ее именем, неизбежно подрывают доверие к ней. Они хуже чем расхищают власть, они бесчестят ее. Указывать на подобные расхищения власти, предлагать способы к их устранению — вот задача публицистики, сознающей себя действительно охранительною. Вот в сторону каких расхитителей должны быть направлены ее самые бойкие фразы, если уж без бойкости нельзя обойтись.
На деле, однако же, видится совершенно противное. О подлинных расхитителях охранительная публицистика в большинстве случаев проходит молчанием, а некоторых из них — например, самоуправцев — даже похваляет. Название же расхитителей власти присвоивается ею тем учреждениям и лицам, которые, по самому свойству своих обязанностей, не могут иметь никакой прикосновенности ни к расхищениям при помощи воровства, ни к расхищениям при помощи самоуправства…
В особенности часто прилагается ныне это клеймо к новым судебным учреждениям. И слепая ярость, и клевета, и раскатистый хохот — все по их поводу считается пригодным, дозволительным и уместным. Не странно ли видеть, что в сфере охранительной может существовать пресса, которая слово «легальность» произносит не иначе, как с прибавлением паскудного «risum teneatis, amici?»[79] А между тем это не фантазия, а действительность. Надрывают охранители животы со смеху, да и полно. Судей так-таки прямо в лицо и называют «несменяемыми» и «независимыми», а для присяжных заседателей даже сугубо уморительную кличку придумали: «непогрешимые»! И всё ведь в насмешку…
Я не к тому заговорил о судах, чтобы произносить в их пользу защитительную речь. Прежде всего я не сознаю себя достаточно компетентным в этом деле, а затем лично нахожу, что как бы ни были хороши суды, все-таки лучше совсем не иметь в них хождения, нежели состоять с ними в непрестанном общении. Так что ежели бы ко мне явился адвокат Балалайкин и стал убеждать, что я без всяких прав могу наверняка оттягать у соседа каменный дом (какой-нибудь охранительный Иудушка наверняка сказал бы по этому случаю: бог послал!), то я и тогда, наверное, отказался бы от предъявления иска. Но и за всем тем, наравне со всеми неодержимыми «колером» членами русской семьи, я убежден: во-первых, что судебная реформа исходит от той самой власти, на защиту которой выходят самозванные охранители; во-вторых, что «легальность» не только не подрывает власти, но, напротив, укрепляет ее и что, следовательно, если оба эти выражения употребляются рядом, то смешного в этом ничего нет; и в-третьих, что в практике новых судебных учреждений, со времен их преобразования, решительно ничего такого не произошло, что угрожало бы опасностью государству или вызывало бы хохот. Так что даже кличка «непогрешимости», присвоенная суду присяжных, есть, в сущности, только паясничество, ибо нигде и никогда суд присяжных не признавался символом непогрешимости, а считался только выразителем известного уровня общественного и народного самосознания.
Вот если б охранительная публицистика хлопотала о поднятии этого уровня — это было бы с ее стороны заслугой. Но в том-то и дело, что интересы ее заключаются совсем не в этом (пожалуй, чем ниже уровень, тем даже лучше, покойнее, благочиннее), а в том, чтобы учинить подтасовку, которая помогла бы подлинных расхитителей власти подменить расхитителями мнимыми.
Подтасовка это совершенно в нравах нашей охранительной публицистики и могла бы представлять серьезную опасность, если б последняя не умерялась значительной примесью недомыслия и бестолковости. Благодаря этому обстоятельству читатель, наиболее наивный и терпеливый, начинает уже видеть в подтасовках только дурную привычку, и больше ничего.
В сущности, по поводу вопроса о расхищении власти происходит такое же столпотворение, как и по поводу обращения к исконным русским началам. И в том, и в другом случае извергаются только бойкие слова, нимало не вяжущиеся с предметом, о котором заведена речь. О выводах или о пожеланиях нет и в помине. Людям более или менее подозрительным может показаться, что вот-вот сорвется с языка что-нибудь решительное, вроде «закрепощения» или восстановления старой судебной волокиты — отнюдь не бывало! Даже этих немудрых слов нет. Вообще никаких слов, кроме бойких, да и бойкие-то слова вырываются как-то внезапно, исключительно под влиянием всполошившегося темперамента. И в результате — ни шествия вперед, ни возврата назад, ничего, кроме бессодержательной пропаганды паники.
Если б охранительная публицистика была способна формулировать свои вожделения, если б она ясно и отчетливо произнесла те слова, вокруг которых она ныне только бессмысленно мечется, — она, наверное, выполнила бы свое назначение с успехом. У нее нашлись бы адепты — не особенно много, но кучка порядочная (ведь и до сих пор встречаются старички, которые облизываются при воспоминании о старых порядках), — с помощью которых она, чего доброго, провела бы в жизнь и закрепощение, и судебную волокиту. Словом сказать, она могла бы принести вред действительный, грандиозный, могла бы уязвить не того или другого из своих противников, а всех, всех вообще… Всех, кто носит человеческий образ, или, по крайней мере, мыслит и чувствует, как человеку мыслить и чувствовать надлежит.
К счастию, этого нет. Как ни беспредельно злопыхательство охранительной прессы, но бессилие ее мысли таково, что последнее непременно положит конец и бойким словам, и распространенному ими ошеломлению. Не перед разумом сложит оружие злопыхательство, а перед собственною бессмыслицей. Это настолько верно, что те из адептов, которые лучше других понимают, чье мясо кошка съела, начинают уже недоумевать и сердиться.
— Топчется на одном месте златоуст-то наш — ни взад, ни вперед! — жаловался мне на днях один старичок, который с 1862 года все ждет, что бог его простит, — мы было надеялись, что он «возвестит», а он только знай захлебывается.
Кстати о публицистике. В одной из газет я вычитал, что в одном из «Пошехонских рассказов» изображена «довольно темная аллегория, в которой, между прочим, действует «газетчик», отыскивающий революционеров для представления по начальству».
Это положительно неверно. Аллегория рассказа, о котором идет речь (если тут есть аллегория), заключается в том, что пошехонцы, застигнутые затруднениями, не находят другого выхода, кроме личных репрессалий, распри и взаимных пререканий задним числом. Вероятно, они предполагают, что если достаточно друг друга перекалечат, то у них, по щучьему веленью, явится и panis,[80] и circenses.[81] Однако же ничего, кроме исконных пустых щей (panis) и синяков на теле (circenses), не получают; и не получают по той простой причине, что ни из разгромления, ни из опустошения, ни из калечения (сих излюбленных пошехонских панацей) никакого приварка не извлечешь, а извлечешь только безлюдье и всеобщую одичалость.
Эта особенность пошехонских оздоровительных приемов и пошехонского миросозерцания известна не со вчерашнего дня: все летописные рассказы наполнены примерами усобиц и пререканий. Искони пошехонцы любили заниматься расследованием корней и нитей, то есть переборкой отдельных персон, и искони же уклонялись от выяснения самим себе действительных, а не персональных причин постигшего затруднения. И потому-то, быть может, как они ни надсаживаются, подсиживая друг друга, а пустые щи и до сегодня не сходят у них со стола.
Бесспорно, что отыскать для жизни новые, более плодотворные основания гораздо труднее, нежели дать ближнему оплеуху; но ведь, с другой стороны, оплеуха, с какой стороны на нее ни взгляни, все-таки не больше, как оплеуха. А дальше что?
Говорят, будто пошехонцы недостаточно подготовлены для того, чтобы думать о новых основаниях для жизни, так надо же, дескать, в ожидании лучшего, хоть что-нибудь предпринимать… Помилуйте! да ведь есть же, наконец, честность, есть здравый смысл! Допустим, что без серьезной подготовки на прочное строительство надеяться нельзя, но, право, и одной честности достаточно, чтобы произвести что-нибудь более прочное, нежели этот паскудный обмен оплеух, который и заушающихся, и заушаемых одинаково доводит до полного нравственного растления.
Вот мысль, которая положена в основание рассказа о фантастическом пошехонском отрезвлении. Ежели это аллегория, то необходимо допустить, что и вся вообще пошехонская жизнь есть не что иное, как аллегория.
Что же касается до «газетчика», то он привлечен к рассказу вовсе не в качестве «отыскивателя революционеров для представления по начальству», а в качестве подстрекателя в том бесплодно-самоедском направлении, благодаря которому пошехонцы мечутся, изнуряются и все-таки живут впроголодь. Хотя тип такого газетчика и не встречается в пошехонских летописях, однако ж и он не представляет животрепещущей новости. Развелось этих газетчиков очень достаточно, и муть от них большая идет.
Право, небесполезно напоминать литературе (особливо ввиду неравномерной растяжимости правила: «audiatur et altera pars[82]), что сдержанность для нее обязательна, что существуют задачи более ей приличествующие, нежели злая и притом явно бесплодная травля одних посредством других. Кругом то и дело раздаются вопли: «Довольно фраз! за дело пора, за дело!» — а вслушайтесь-ка попристальнее в смысл этих воплей, и вы убедитесь, что, в сущности, кроме травли, никакого дела и не предвидится. Стало быть, что-нибудь одно предстоит: или дознаться, в чем же именно состоит это пресловутое, беспрерывно возвещаемое «дело», или же положить предел лицемерному галденью.
Я знаю, впрочем, что ни «рассказами», ни вообще литературным воздействием ни того, ни другого добиться нельзя. Газетчики того типа, о котором идет речь, никогда ничего не скажут о сущности «дела», потому что они сами этой сущности не знают, и никогда не перестанут галдеть, потому что галдение составляет их ремесло. Но ведь речь писателя имеет значение скорее воспитательное, нежели непосредственно-практическое. Он обращается к обществу не за тем, чтобы пристигнуть такое-то лицо или такое-то действие, а с целью воздействовать на общественную совесть, на общественное самосознание.
Чтение газет наводит иногда на мысли совершенно неожиданные, но в то же время и не бесполезные. В жизни встречается великое множество явлений, которые пропускаются без внимания единственно потому, что уж очень всем примелькались. И вдруг о чем-нибудь в этом роде начинает разговаривать газета. Разговаривает строго, с пафосом, с примесью так называемой аттической соли (ныне, благодаря безакцизности, она дешева) и даже как бы с затаенным опасением. С первого взгляда никак не поймешь, что именно случилось, и, только пристально вдумавшись, догадаешься: ба! да ведь это оно самое и есть!
Возьмем для примера хоть такой факт: каким образом зачинались наши Пошехонья? как и по какой причине возникли в них каланчи? — Много ли найдется любознательных людей, которых интересовали бы подобные вопросы? Я, по крайней мере, никогда, до последнего времени, не думал о них. Проезжая мимо того или другого Пошехонья, я осведомлялся у ямщика, как оно называется, и, получив удовлетворительный ответ, менял на станции лошадей и следовал дальше, по направлению к следующему Пошехонью. Проезжая мимо каланчи, я машинально восклицал: «Вот она, каланча-матушка!» — и не давал этому восклицанию ни особливого значения, ни дальнейшего развития. И таким образом, чего мудреного, я и в могилу сошел бы, не давши себе отчета в собственных впечатлениях и восклицаниях…
По необъяснимой случайности, вопрос о происхождении русских Пошехоний и о постройке в них каланчей с особенною настоятельностью предстал передо мной после прочтения газетных статей о деле волчанского исправника Зографа. Читал-читал — и вдруг мысль: да кто же кому предшествовал, Зограф ли Волчанску или Волчанск Зографу? Вопрос был поставлен мною неправильно и даже неподлежательно (следовало бы спросить так: Волчанск ли для Зографа существует или Зограф для Волчанска? — тогда, наверное, было бы ясно: конечно, с одной стороны, Волчанск… но с другой стороны, несомненно, что и Зограф…), и потому весьма естественно, что в бодрственном состоянии я ответа на него дать не мог. Тогда поневоле пришлось прибегнуть к сновидению, и вдобавок аллегорическому.
Прилег, и так как дело было к спеху, то сейчас же увидел сон. И вот какую аллегорию развернуло предо мной сновидение.
Вначале будто бы появился исправник (точнее было бы, по-старинному, сказать: городничий, но во сне за исторической точностью не угоняешься) и, памятуя, что ему предстоит, с одной стороны, пожары тушить, а с другой — бунты, с помощью пожарной трубы, усмирять, выбрал местечко на берегу реки. Который исправник в рубашке родился — выбрал реку многоводную, с стерляжьей ухой, с нагруженными хлебом расшивами, с раскольниками; который без рубашки, в одном вицмундире родился — удовольствовался речкой Гнилушкой, в надежде, что и малая река, при усердии, большой процент даст. Не успел он умом-разумом раскинуть — смотрит, ан у него уж, по щучьему веленью, помощник родился. А немного погодя — частный пристав, а еще немного спустя — пара квартальных. Сотворили совет и на вопрос: как в сем случае поступить? — в один голос ответили: выстроить каланчу! И только что они это слово вымолвили — глядь, ан каланча уж готова!
Стоит, сердечная, и сама собой пожарные сигналы выкидывает. Обрадовался исправник, взбежал на вышку и, вспомнив Пушкина, произнес:
И погрозил…
И что ж! как только он погрозил, так со всех сторон налетели полицейские и пожарные нижние чины и зачали кругом каланчи город завивать. А исправник засел в каланче, сидит да, подобно древнему Девкалиону, из окошка камешками пошвыривает. Побольше камень бросит — вскочит купчина и начнет торговать; поменьше — вскочит мещанин и начнет воровать. Наконец целую глыбу выкатил — народился «венец созданий божиих», откупщик. И тут же поздравил испавника с окладом: тысяча рублей в год — само собой, а четыре ведра водки в месяц — само собой.
Словом сказать, не прошло без году недели, а город уж во всех статьях так и играет на солнышке. И казначейство, и суды, и всякие управления, и кабаки, и гостиный двор, и кутузка — чего хочешь, того просишь. И вдруг исправник спохватился.
— А у кого же мы по праздникам пироги будем есть? — обратился он к сослуживцам.
— То-то что градского голову приходится сделать…
Сказано — сделано. Взял исправник глины ком, замесил с соломенной резкой, дунул, плюнул — вышел голова! «Что, брат, не чаял? — ласково молвил ему исправник, — то-то! Смотри у меня! Я тебя из праха воззвал, я же тебя и обратно в оный погружу!»
Сделавши все как следует, пошел исправник с помощником своим по городу гулять. Гуляет и не нарадуется. Взойдет в бакалейную лавку, зачерпнет в пригоршню изюму и ест; взойдет в суконную лавку — себе на мундир сукна отрежет, а жене на пальто драпу; зайдет к откупщику — спросит: «Скоро ли же на бал звать будете? надо, сударь, общество веселить!»
Долго ли, коротко ли так дело шло, только начал исправник мечтать.
— А знаете ли, Иван Иваныч, — сказал он однажды помощнику, — какую я штуку придумал?
— Не могу знать, вашескородие!
— Угадайте!
— И угадать не могу, вашескородие!
— И не угадаете. А я между тем самую простую штуку придумал. Доселе я их — создавал, а отныне начну их… уничтожать!
Помощник весь превратился в слух. Стоит и не шелохнется. Знал он, что у исправника ума палата, но такой премудрости, признаться сказать, даже от него не чаял.
— На какой же, собственно… предмет? — очнулся он наконец.
— Как на какой предмет! — рассердился исправник, — на службе вы, милостивый государь, состоите, а самых элементарных вещей не понимаете! sic volo, sic jubeo[83] — вот на какой предмет! Исправник я или нет?
И затем, призвав градского голову, сказал ему такие слова:
— Я сей град, ради некакой надобности, воздвигнул, я же его, ради той же надобности, и разрушить хочу.
Но голова хотя и должен был исправнику жизнью, однако ж, на сей раз не понял.
— На какой же, собственно… предмет? — осмелился он заикнуться.
— Не для того я тебя призвал, чтобы твои смеха достойные слова слушать, — рассердился на него исправник, — ступай и выполни! С завтрашнего же дня обязываются обыватели сами себя постепенно расточать, и когда всех расточат до единого, тогда я и о тебе промыслю.
Действительно, на другой же день город оживился, точно во время дворянских выборов. Насилу успевал секретарь думский приговоры о расточении сочинять, насилу успевали полицейские те приговоры по домам да по кабакам для подписи разносить! Обыватели подписывали ходко, не отнекивались.
— Мы люди привышные! — говорили они, — нас хоть со щами хлебай, хоть с кашей ешь!
Даже откупщик на первых порах обрадовался, потому что расточаемых провожали родные, и каждые проводы сопровождались не малою выпивкой. «Пущай расточают друг дружку! — говорил себе откупщик, — исправник из щебенки опять мне целую уйму пьяниц наделает!» Но когда город заметно опустел и когда притом оказалось, что Девкалионов секрет исправником был уже при закладке города без остатка истрачен, тогда и откупщик встрепенулся: ежели всех пьяниц расточить — кто же в кабаках водку пить будет? И шепнул он стряпчему: «caveant consules!»,[84] как бы де для казны ущербу от исправницкой затеи не произошло? А у стряпчего два ока были, из коих одно — недреманное. До сих пор он в недреманном оке надобности не видел, а теперь вдруг вздумал: дай-ка, посмотрю! И посмотрел.
И вот, когда уж обывателей осталась самая малая горсточка, и городской голова с грустью подумывал о том, что в недолгом времени ему придется расточить самого себя, вдруг, по доносу стряпчего, раздался трубный звук:
— Под суд исправника!
И проследовал исправник из города, им созданного и им же расточенного, прямо под суд; проследовал тихо, смирно, благородно. И кто ни встречал его на пути к суду — всякий говорил:
— Неужто сей человек прегрешил?
И начали его судить…
. . . . . . . . .
Но тут я, конечно, проснулся и дальнейшего развития этой истории не знаю. Равным образом не знаю и того, что сталось с расточенным городом. Явился ли туда новый Девкалион и населил его новыми пьяницами, или так до днесь и остается он вроде древней Ниневии. Там и сям встречаются изящные портики, великолепные колоннады, памятники и проч., а между тем базарная площадь, как была в последней базарный день, так и посейчас невыметенная стоит.
Март месяц ознаменовался тем, что адвокатское сословие получило неожиданный реприманд. Печальную эту обязанность принял на себя известный юрист и в то же время член прокурорской семьи, Н. А. Неклюдов. Частые оправдательные вердикты, благодаря которым преступления, несомненно содеянные, остаются не наказанными, обратили на себя его просвещенное внимание. Но в особенности, по-видимому, повлияли на его решимость вопли охранительной печати, направленные против судебной реформы. По рассмотрении оказалось, что во всем виноваты адвокаты. Они вводят в заблуждение присяжных заседателей, они сознательно извращают факты, они — распинают закон…
Господин прокурор говорил горячо и убежденно, и притом при открытых дверях, в присутствии Уголовного Кассационного Департамента Правительствующего Сената. Жаль, что он не упомянул при этом, не распинали ли, при случае, закона и прокуроры. Ведь и на них в этом смысле кивает наша охранительная печать.
Вопрос о лганье на суде очень существенный. Но что касается до меня, то я далеко не убежден, можно ли разрешить его «с пылу, с жару, по пятаку за пару». Страшно подумать, что исход дел, с которыми неразрывно связываются честь и доброе имя обвиняемых, зависит от того, кто кого перелжет, но в данном случае и самые крупные слова едва ли могут что-нибудь разъяснить. Гораздо было бы полезнее отнестись к делу вполне серьезно и обстоятельно. Но тут опять беда: нет в нас живого места, к которому мы могли бы прикоснуться без ощущения боли. Непременно какой-нибудь «неокрепший, молодой институт» заденешь. И пойдут потом аханья: «ах, что вы!» да «неужели же вы не понимаете?» Вот почему так много встречается людей, которые на все махнули рукой и говорят: «А коли так, то процветайте, как знаете, сами собой… институты!»
Адвокаты возражали г. Неклюдову печатно. Возражение вышло небезосновательное, хотя чересчур растянутое. Любопытно, однако ж, могли ли бы адвокаты сделать возражение на суде столь же горячо и откровенно, как это сделал г. Неклюдов?
X[85]
Пасхальные праздники на время заслонили внутреннюю политику. Но так как общий склад жизни за последние годы приобрел характер серьезный, то и праздники вышли серьезные. Пили и ели, быть может, даже более, нежели когда-либо, но не ради угождения мамоне (об этом ныне и не помышляет никто!), а ради оживления промышленности и поддержки курсов. Многие бесшабашные советники насильно заставляли себя съедать по нескольку десятков крутых яиц в день, лишь бы пустить в народное обращение несколько лишних рублей. У всех на уме были: отечество, деревня и мужичок. «Деревню поддержать надо! мужичка!» — раздавалось везде, где зреет солидная мысль и ведутся солидные разговоры о переходе от фразы к делу. Даже неисправимые пьяницы — и те ныне как бы сознают, что на них лежит какая-то серьезная обязанность, и потому пьют не для того, чтобы весело было, а чтобы поскорее остолбенеть и тем принести пользу винокурению. Я несколько лет сряду живу против портерной и, следовательно, имею полную возможность наблюдать за проявлениями алкоголизма. Прежде, бывало, выйдет пьяница из портерной и сейчас же начнет песни петь, к прохожим приставать, писать мыслете; нынче, смотрю, в самый первый день праздника, вышел пьяница из дверей и сейчас же лег на тротуар. С четверть часа он лежал на плитах, как на пуховике, не возбуждая ни в ком удивления, пока не появилась в воротах дома дворникова кума и не всплеснула руками. Тогда пришел дворник, поднял пьяницу и, прислонив его к стене — точно это был не человек, а деревянный шест, — не торопясь отправился за городовым. А городовой в это время с подчаском христосовался, и когда кончил, то оказалось, что пьяница ему не подсуден, а подсуден вон тому кавалеру… вон, который под козырек делает… Покуда городовые разрешали вопрос о подсудности, откуда-то прибежал прокурорский надзор, а следом за ним — адвокат, и еще больше дело запутали. А пьяница все стоял у стены, стоял солидно и трезвенно, не сгибая колен и как бы сознавая, что ежели начальство прислонило его к стене, то он всем трезвым должен подавать пример.
Но ежели пьяницы вели себя с таким достоинством, то бесшабашные советники тем больше должны были сознавать себя обязанными служить образцом для своих граждан. Я знаю целых троих, которые заранее согласились приятно провести праздники, и действительно провели их так благородно, как дай бог всякому. Первые два дня, разумеется, посвятили поздравлениям, а остальные — тихим удовольствиям. Вставши утром, беседовали за кофеем, каждый со своею кухаркой, объясняя им, в чем заключается различие пасхальных яиц от обыкновенных, а также почему в течение пасхальной недели едят куличи и пасхи, — а кому дозволят средства, то и ветчину, — а с фоминой недели начинается еда обыкновенная. Наговорившись досыта, навешивали на шеи новые орденские знаки и отправлялись на Николаевский мост смотреть, как ломает на Неве лед. Там все трое сходились и, объяснив друг другу, что теперь идет лед невский, а недели через две пойдет ладожский, шли в балаганы, где смотрели пьесу «Ермак Тимофеевич, или Покорение Сибири» и ощущали подъем чувств. Выйдя из балагана на площадь, обсуждали виденное и слышанное применительно к современным обстоятельствам.
— Как вы думаете, вашество, если б Ермак Тимофеевич да в теперешнее время эту самую Сибирь покорил? Сдобровать бы ему? — спрашивал бесшабашный советник, отличавшийся большею против других пытливостью ума.
— Что уж ее покорять! и без того чуть жива! — уклончиво ответствовал другой бесшабашный советник.
— Однако! если бы?!
— Полагаю, что предварилки бы не миновать, — отзывался третий. — А может быть, впрочем, под манифест бы подвели!
— То-то вот и оно. С одной стороны, конечно… от Петербурга до Верхнекамчатска в два месяца на курьерских не доедешь — лестно этакой перл заполучить!.. Но, с другой стороны, строптивость… А впрочем, государи мои, так как с третьей стороны Ермак Тимофеевич волею божией помре, то я полагал бы о поступке его суждения не иметь, Сибирь же приобщить к числу прочих Российской короны недвижимых имуществ… И затем шествовать в Палкин трактир, где и совершить приличное сему случаю возлияние. Так ли я говорю?
Неожиданность этого заключения всех приводила в восхищение. Бесшабашные приходили к Палкину, выпивали по рюмке анисовки и заедали килькою. Причем пытливый бесшабашный советник объяснял буфетчику, с которых пор и по какой причине возник обычай красить яйца в красную краску. Закусивши и полюбовавшись плавающими в сажалке стерлядями, друзья отправлялись на Невский и молча делали два-три конца взад и вперед, от Аничкина моста до Адмиралтейской площади. На всех троих были новенькие ватные пальто и новые шляпы от Чуркина (без наушников); у всех в руках было по тросточке. Шли они и всему дивились: и серебряным рублям, выставленным в витринах менял, и выставке модных и ювелирных товаров, но всего больше — книжным магазинам. Слышали они, якобы книгопечатание прекратилось, а между тем…
— Вот говорят, что у нас свободы нет! — припоминал по этому случаю пытливый тайный советник, — вон они, книги-то… копни-ка в них как следует!
В заключение заходили к Елисееву, покупали по апельсину и возвращались с гостинцем каждый к своей кухарке домой, где их ожидал готовый обед. Выспавшись после обеда, вспоминали происшествия дня, перебирали лиц, получивших к праздникам чины и ордена, напевали приличные случаю песни и терзались сомнениями, ежели к кухаркам приходили в гости земляки. А в одиннадцать часов — спать.
Так провели праздники все благонамеренные и благородные люди. Так что ежели и в будни дело пойдет столь же солидно, то можно сказать наверное, что мирное развитие наше вскоре будет вполне обеспечено. Пусть всякий выполняет свой долг по силе возможности, делясь своим избытком с меньшим братом, не объедаясь, но и не отказывая себе в лакомом куске. Недостаточные пускай съедают по одному куличу в день, среднего состояния люди — по два, богатые — по три и соответственно этому яиц, пасхи и ветчины, и увидите, что рубль сам собою взыграет и никаких внешних займов не потребуется.
Я тоже всеми мерами старался выполнить эту программу и, кажется, успел в этом. Правда, что с поздравлениями я не ходил, но не потому, чтобы восхищенное мое сердце не ощущало в том потребности, а потому единственно, что ездить не к кому. В последнее время одиночество — пожалуй, даже заброшенность — до такой степени охватило меня, что я почти исключительно разговариваю с одними читателями. Их я и поздравляю: Христос воскрес! поцелуемтесь!
Когда-то это был удивительно приятный для меня праздник. Я говорю не про детство, когда весь смысл праздника заключался в том, что я катал с лунки яйца, качался на качелях и скакал с доски, а про позднейшее время, когда на первом плане стояли уже не яйца и куличи, а вся эта веселая, ликующая ночь. Я, крепостной до мозга костей, я, раб от верхнего конца до нижнего, в продолжение нескольких часов чувствовал себя свободным от уз… И могу засвидетельствовать, что чувство это столь прекрасно, что может сравняться только с тем, которое испытывает человек, сознающий себя свободным, кроме светлого Христова воскресния, и в прочие дни. И заметьте, что я ощущал это сладкое чувство, имея на плечах мундир, сбоку — шпагу и под мышкой — трехуголку.
Лучшую пору моей жизни я размыкал по губернским городам и с особенной живостью припоминаю пасхальный церемониал. Нигде так весело и так торжественно не служится великая утреня, нигде так охотно не христосуются, так бескорыстно не радуются празднику. Правящие классы радуются предстоящему недельному отдыху; управляемые — тому, что в течение осьми дней об них не будут иметь суждения. В церквах читается слово Златоуста, всех призывающее к жизни, всем предлагающее вкусить «тельца упитанна». В позднейшее время власти стали как будто побаиваться этих призывов — как бы, дескать, не вышло превратных толкований; но дореформенные власти не ощущали еще двоегласия в своем миросозерцании и потому относились к церковным поучениям гораздо проще. Я помню, как при упоминовении о «тельце упитанном» у губернатора Набрюшникова рот сам собой раскрывался до ушей, и он торжествующе озирался, в уверенности, что речь идет именно о той телятине, которую весь официальный губернский мир будет есть у него после ранней обедни. И не видел он ничего зазорного в том, что в такой великий день все преисполнятся ликованием, все будут вкушать (разумеется, ежели предшествующий год был урожайный). Напротив, он и городничим, и исправникам внушал: «Не препятствуйте! показывайте пример!» И все начальники отдельных частей оказывали ему содействие, почтительно соревнуя и даже соперничая. Ежели у губернатора ели изумительную телятину, то у управляющего палатою государственных имуществ подавали двенадцать сортов сосисок и диковинное малороссийское сало, у председателя казенной палаты — фартированных каплунов, а начальник внутренней стражи откармливал к празднику на батальонном дворе целое стадо свиней. Одним словом, все чины действовали в пределах предоставленной им власти, и сами ели достаточно, и других потчевали, не предвидя никаких превратных толкований.
К счастию, нынче начинается вновь поворот в этом смысле. Продолжительное ожидание превратных толкований оказалось настолько бесплодным и до того всем опостылело, что даже бесшабашные советники начинают понимать, что сытость не только в праздники, но и в будни ничего угрожающего не представляет. «Только те народы счастливыми почитаться могут, кои тучны», — сказал, не помню, какой-то законодатель, — Соломон или Дракон, — и сказал такую истину, которая у всех на глазах входит в мировой административный обиход. А ежели прибавить к этому изречению, что всякий съеденный окорок ветчины есть косвенная милостыня, подаваемая богатым бедному, то вот вам и целая административная система готова. Хоть какому угодно директору департамента не стыдно.
МЕЖДУ ДЕЛОМ
(Продолжение)
Свидание с Износковым произвело на меня скверное впечатление. Есть в жизни условия, на которые лучше не открывать глаз; неприятно и унизительно бродить в темноте, но еще неприятнее и унизительнее получить такие разъяснения, которые не только не устраняют темноты, но представляют ее как неотвратимый факт и не подают никакой надежды на выход из нее. В жизни русской литературы есть тайна, и на дне этой тайны сидит «шлющийся» русский человек, из породы тех, которых в просторечии называют прохвостами. Этот человек, праздный, невежественный, не знающий, куда преклонить голову, поглощенный интересами жилетов и штанов, — этот человек имеет какое-то соприкосновение с литературой, воздействует на нее, и ежели не произносит прямо <Quos> vos ego[86] — то потому только, что русский язык выработал гораздо более целесообразное выражение: в бараний рог согну. Этот человек игнорирует литературу (он даже не без смеха говорит: я по-русски давно ничего не читаю), но, взамен того, презирает ее. Этот человек неразвит и невежествен до бестияльности, но так как на нем штаны от Тедески и сюртук от Жорже, то этого достаточно, чтоб он присвоил себе название представителя культурного слоя. Он — человек культуры, а литература — это сброд темных и подлых людей, не имеющих об культуре никакого понятия! И что всего страннее, этот человек чувствует, что он сила, что он и ему подобные представляют в некотором смысле «контингент»… Не сказка ли это?
Если б Износков был единичным явлением, он был бы только скучен, но безвреден; но двое Износковых уже не безвредны, потому что вдвоем они могут уже комплотировать. Пойдите дальше, представьте себе целый легион Износковых, которым, по причине их праздности, ничего не остается, как комплотировать, — и вы убедитесь, что тут есть уже действительная опасность, что это своего рода дамоклов меч, постоянно висящий над головой. Насколько достойны посмеяния эти люди, взятые поодиночке, настолько же страшны они, взятые скопом.
Говорят: литература уклонилась от благородного пути, что она пошла путями извилистыми и подлыми, путями, угрожающими утопить историческую русскую культурность в хаосе наплывных элементов, не имеющих ничего общего с культурою. Но позвольте же, милостивые государи! Во-первых, все это одни слова, опровергаемые вашим собственным наивным признанием, что русская литература для вас terra incognita,[87] а во-вторых, позволительно еще усомниться, кто имеет больше прав указывать путь, которым должна следовать литература: сама ли литература или так называемые люди культуры, то есть люди культуры, потолику-посколику надетый на них фрак удовлетворяет последним требованиям портного искусства?
Нет, дело не в путях, а в том, что задачи новой русской литературы сделались строже и яснее. Литература не забавляет больше, а призывает к самосознанию и к делу. Как бы ни многоразличны и несходны были понятия о предстоящем деле — все-таки дело, а не безделье представляет литературный point de mire.[88] Вот тот нож вострый, который так не по нутру «шлющимся» людям. Им противна самая мысль об «деле»: даже такое дело, как дело «Домашней беседы» — и то тяжело, непосильно для них. И вот почему они так охотно останавливаются на «заблуждениях», маскируя этим словом самую простую ненависть к делу. Если б литература по-прежнему вела речь об улучшении быта безделицы — она могла бы блуждать и заблуждаться в этой области сколько угодно; но она блуждает в какой-то совершенно новой области, именуемой «делом», — и вот это возбуждает против нее целую бурю негодований и сквернословия!
И между тем влияние этих людей на литературу бесспорно и решительно. Ради их она утопает в недомолвках и оговорках, ради них она сохраняет Езоповские формы. Где она найдет для себя противовес, на который она могла бы опереться в борьбе с людьми культуры? Где тот читатель настолько сильный, чтоб она могла ожидать от него защиты и спасения? Ради их… но ради их ли одних? Вот Глумов уверяет, что культурные «герои» безделицы далеко не одиноки в этом случае; что и русские ученые, и русские исправники, и русские прокуроры, и русские сотские — все одинаковым образом относятся к русской литературе, то есть все высокомерно ее игнорируют, и в то же время все видят в ней или буффонство, или угрозу.
Что господа исправники относятся к русской литературе недоверчиво — это довольно понятно: им и без того дела по горло. Никогда еще вопрос о мерах ко взысканию недоимок не получал такого развития, и в то же время никогда так пропорционально мерам взыскания не развивались самые недоимки. Чем больше стараются взыскивать, тем больше получается поводов для дальнейших стараний. Вся жизнь сгорает в бесплодных усилиях «очистить уезд» и ради этой перспективы забываются и комфорт, и личные интересы, и даже семья. До литературы ли тут, когда поесть путем времени нет? Притом же литература ведет себя как-то странно: она говорит о производстве и накоплении ценностей, об истреблении же их умалчивает. Вопрос: что такое продажа крестьянской коровы ради уплаты недоимки? Есть ли это производство ценностей или истребление их? Вот что должна решить литература и решить непременно в смысле производства, а не истребления, а до тех пор, покуда это не будет сделано, все декламации литературы о производстве и накоплении будут не что иное, как личное оскорбление господ, на заставах команду имеющих, и вся литература — сквернословием.
То же самое должно сказать и относительно господ прокуроров. Они тоже всецело заняты ограждением общества от наплыва неблагонадежных элементов, и тоже чем больше стараются оправдывать доверие начальства, тем больше получают поводов и впредь стараться оправдывать начальственное доверие. И для них возникает вопрос: что такое преследование и ловля неблагонадежных элементов? есть ли это производство и накопление умственных ценностей или же истребление таковых? И дотоле пока литература не разрешит этого вопроса в пользу производства, до тех пор она будет сквернословием и опасным буффонством.
Но ученые — ведь это цвет интеллигенции; им не нужно ни недоимки взыскивать, ни преследовать неблагонадежные элементы. Интересы науки и интересы литературы должны быть одни и те же, ибо литература только популяризирует результаты, добытые наукой, заботится о применении их к практике жизни, обмирщивает их, делает общим достоянием. Или, быть может, эта-то популяризация и кажется подозрительною? Или, быть может, с идеей популяризации соединяется темное предчувствие обличений в бесплодности некоторых усилий, в их совершенной оторванности от жизни, от мира явлений, рассматриваемого как гармоническое целое?
И мне невольно припоминались некоторые «ученые», с которыми мне случалось встречаться в жизни. Один из них, возвратившись с какого-то археологического съезда, хвастался, что по окончании работ съезда был устроен банкет и что на банкете этом пили из урны, в которой некогда был заключен прах Овидия.
— Вы в этом уверены? — спросил я его.
— Еще бы не быть уверенным, коль скоро я пятнадцать лет употребил на то, что Овидий умер в Полтавской губернии, в имении, принадлежащем Ивану Иванычу Перерепенко, который и доставил на съезд урну.
— И слаще было вино из этой урны?
— Слаще-с, — сухо ответил он мне и с такою ненавистью взглянул на меня, что мне сделалось страшно.
Другой раз другой ученый хвастался тем, что он окончил давно задуманное сочинение «Домашний быт головастиков».
— Понимаете, я дальше головастиков не иду, — говорил он мне, — из головастиков образуются лягушки, но это уже не моя область, а область моего почтенного друга Семена Семеныча Грустилова.
— Так что вы на всю жизнь предполагаете остаться при одних головастиках!
— На всю-с, — ответил он мне и, шаркнув <?>, сухо раскланялся <?>.
В числе моих товарищей по школе был некто Никанор Полосатов. В то время об ученом сословии в обществе существовали совершенно особенные понятия, очень недалекие от тех, выразителями которых были пресловутые Цыфиркин, Кутейкин и Вральман. Ученый человек представлялся в виде неряшливого существа, облеченного в фризовую шинель с бесчисленным количеством воротничков и заплатанные сапоги, существо, от которого постоянно несло смешанным запахом водки и чесноку. Фигура Полосатова-мальчика как-то странно напоминала собой этого фризового ученого. Несмотря на то, что он был одет в казенную курточку и пил и ел то же, что пили и ели и прочие воспитанники «заведения», но при взгляде на него всякий говорил себе: как смешон этот маленький педант в своей желтой фризовой шинели с множеством воротников. Он был рассеян и ходил, словно в лесу; не кстати спрашивал, не кстати отвечал; внезапно начинал хохотать и внезапно же впадал в угрюмость. Когда учитель реторики объяснял, что всякую мысль следует развивать при помощи вопросов: quis, quid, quomodo, quando[89] и т. д., — то это поразило. Когда дальнейшее обучение объяснило, что каждое явление может быть рассматриваемо с различных сторон, с одной стороны то-то, с другой стороны то-то, с третьей то-то, — то это поразило его еще более. Казалось, что он уже с малолетства облюбовывал ту бездну пустословия, которая открывалась перед ним, при помощи рекомендуемых с кафедры приемов и что воротнички его фризовой шинельки трепетали при этом от восторга. Одна истина вдвигается в другую, другая в третью и т. д., покуда не образовался целый лес истин, в котором он и гулял. Это был очень удобный механизм вроде клавикорд, в которых каждую клавишу можно вынуть и заменить другою. Когда мы перешли на последний курс, последовала в русской уголовной практике реформа: четыреххвостный кнут был заменен треххвостною плетью. Полосатов, который перед этим только что окончил сочинение на тему: «Кнут, перед судом правды и справедливости», в котором доказывал, что злая воля преступника ничем другим не может быть так совершенно удовлетворена, как кнутом, — вдруг переменил клавишу, и на место старой вставил новую: «Плеть, перед судом правды и справедливости», причем, предпослав упражнению жестокую полемику с кнутом, доказал самым наглядным образом, что совсем не кнут, но именно треххвостная плеть есть наилучший ответ на требования, предъявляемые злою волей преступника. И чем старше он делался, тем с большею легкостью вынимал и вставлял клавиши, так что под конец заслужил уважение не только со стороны профессоров, но и со стороны директора заведения, старого генерала, страстно любившего фехтовать и потому полагавшего, что всякая наука должна обучать своих адептов ловким ударам и умению обмануть противника.
После выхода из школы я потерял из вида Полосатова: он остался в Петербурге, я запропастился куда-то вглубь. Но я никак все-таки не думал, что из него выйдет ученый. Я полагал, что он сделается со временем отличным начальником отделения и будет с изумительною ловкостью вынимать и вставлять клавиши по манию директора департамента. Захочет директор написать: «с совершенным почтением имею честь быть» — он напишет: «с совершенным почтением имею честь быть»; захочет директор написать: «примите уверение в совершенном почтении» — он напишет: «примите уверение в совершенном почтении». «И преданности», — прибавит директор — «и преданности», — повторит и он. Увы! я совершенно упустил из вида ту фризовую шинель, которую я видел на нем в школе, видел, несмотря на то, что в натуре ее не было.
Лет через двенадцать я воротился в Петербург и узнал от Глумова, что Полосатов сделался ученым, что он служит в трех министерствах, но не как тягловой работник, а как эксперт от науки. Это было время нашего возрождения; время возникновения акционерных компаний и неслыханного развития железных дорог. Полосатов прежде всего обратил на себя внимание сочинением «Оплодотворяющая сила железных дорог», в котором очень тонко насмехался над гужевым способом передвижения товаров и людей и доказал, как дважды два четыре, что с развитием железных дорог капитал получит такую быстроту обращения, что те проценты, которые до сего времени получались с него один раз, будут отныне получаться десять, пятнадцать, двадцать раз. Всем тогда показалось это просто и удивительно. Просто, потому что ведь и в самом деле… Это так просто! Удивительно, потому что в самом деле странно как-то, что до Полосатова никто и не догадался подумать об этом. Мне и самому, когда я читал сочиненение Полосатова, показалось оно какою-то Шехеразадою. Катится-катится капитал по железной дороге с быстротою молнии, получает проценты, потом катится назад и опять получает проценты, опять и опять катится…
Потом он написал еще статью: «Единственный в своем роде случай», в которой, указывая на неистощимые богатства России и упрекая соотечественников в недостатке предприимчивости, приглашал мелких капиталистов употребить свои сбережения для образования акционерных компаний, которые одни могут вырвать промышленное дело из рук невежественных толстосумов-рутинеров, монополизировавших производительные силы России в свою пользу. Эта статья окончательно установила репутацию Полосатова как ученого и произвела такое впечатление на маленьких капиталистов, что некоторые из них, не имея собственных сбережений, стали воровать таковые у других с единственною целью вручить их специалистам по части разработки недр земли. И это сочинение я прочел, и тоже мне показалось так просто, так просто. Собрал свои сбережения, отдал их какому-нибудь Ивану Иванычу, и затем гуляй себе да погуливай в Петербурге. Ты гуляешь, а там где-то у черта на куличках откармливаются на твои денежки бесчисленные стада четвероногих, из которых получается мясо, сало, кожа, рога; из мяса приготовляются консервы, из сала вырабатываются стеариновые свечи, из кож — обувь, из рогов и костей — клей. А через год у тебя в кармане тридцать процентиков! Да-с! тридцать процентиков за то только, что ты гулял в Петербурге да последовал приглашению ученого Полосатова!
Но мне все-таки казалось, что Полосатов не более как гороховый шут, который потому только воспользовался дипломом ученого, что прочая-то культурная братия чересчур уж невежественна. Это убеждение было до того во мне сильно, что когда я в первый раз после долгой разлуки встретил его на улице, то, вместо того чтоб броситься к старому товарищу на шею, я вдруг предложил ему вопрос:
— Послушай, Полосатое, ты, кажется, ученый?
— Да, душа моя, — ответил он мне скромно, — то есть не гелертер, но ученый в хорошем значении этого слова. Ты понимаешь: для нас спасение в одной науке! В на-у-ке! — прибавил он строго и с расстановкой.
Я смотрел на него и ничего не понимал.
— Я стою на практической почве, — продолжал он, — я не понимаю немецкого взгляда на науку; по моему мнению, наука прежде всего должна искать применений. Конечно, ты читал мои статьи — их все читали. Но твое мнение для меня особенно важно, потому что ты профан. Я пишу для профанов, понимаешь ли? — для про-фанов!
Последние слова он почти выкричал и при этом взглянул на меня не то нагло, не то лукаво, так что мне сделалось очень неловко. Но он даже не выждал моего ответа и опять продолжал:
— Главное достоинство моих статей заключается в том, что они затрагивают ближайшие интересы, такие, которые поймет всякий, у кого в кармане лишних сто рублей. Эти сто рублей мне нужно, потому что я хочу их отдать производительности. Я хочу, чтоб на них получилось еще сто рублей. Ты понимаешь? Сто ру-блей!
— Да, мне и самому иногда казалось… — пробормотал я, чтоб что-нибудь сказать.
— Да? так ты, значит, читал? Не правда ли, что все очень просто? И многим, как и тебе, это кажется просто! А между тем это совсем не просто… А впрочем, я очень рад, очень рад! Приходи ко мне по середам: у меня собираются ученые… А покуда прощай!
Мы расстались, и я опять потерял его из вида надолго. С тех пор он успел остепениться, и хотя ни одно из его предсказаний не исполнилось, но репутация ученого так и осталась за ним.
ПРИМЕЧАНИЯ
Сборник состоит из десяти очерков и статей. Первые девять впервые появились под разными названиями и подписями, в ОЗ 1873–1884 гг. Из них семь напечатаны в серийной рубрике «Между делом». Десятый очерк остался незаконченным и впервые был опубликован в книге: «Недоконченные беседы (Между делом). Сочинения М. Е. Салтыкова (Щедрина). С.-Петербург. Издание Н. П. Карбасникова, 1885. Типография M. M. Стасюлевича» (фактически книга вышла в свет в 1884 г. — 20 или 21 октября). В этом первом и единственном прижизненном издании сборника первоначальные (в журнале) названия очерков и статей были заменены обозначениями «Глава…», с порядковой римской нумерацией глав.
Цензурная история книги освещена Евгеньевым-Максимовым (ЛН, т. 13–14. М., 1934, стр. 154–155). Так как объем ее был свыше 10 печатных листов (13 1/4), то, по цензурным правилам, она освобождалась от предварительной цензуры. Но когда 12 октября 1884 года восемь экземпляров книги были представлены типографией в С.-Петербургский цензурный комитет, то последний все же сделал попытку подвергнуть ее предварительной цензуре. В отношении на имя старшего инспектора типографий Петербурга от 13 октября председатель Комитета просил «приказать сделать тщательное дознание, вполне ли отпечатана настоящая книга и разобран ли набор оной, — и в случае неисполнения сего условия обязать типографию, на основании примечания к 67 статье приложения к ст. 4 (прим.) Уст<ава> цензуры по «Прод<олжению> св<ода> зак<онов> 1876 г.», выпустить книгу как издание, подлежащее предварительной цензуре». Пришедший в типографию инспектор установил, что «означенная книга отпечатана вполне, в количестве 3050 экземпл. и набор, служащий для тиснения оной, весь разобран». Об этом сразу же стало известно Салтыкову, который 14 октября сообщал Соболевскому: «Я издаю книжку разных мелких статей, и в пятницу она отправлена была в цензуру. В субботу уже приходил в типографию инспектор узнать, разобран ли весь набор. Если б хотя один лист был не разобран — тогда всю книгу подвергли бы цензуре, но оказалось, что типография Стасюлевича настолько искушена, что отправила книжку в цензуру не прежде, как разобрав весь набор. Теперь я жду ареста — вот и еще 600 р. убытка».
Опасения Салтыкова о возможном аресте «Недоконченных бесед» на этот раз не оправдались. В своем донесении от 15 октября начальнику Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистову председатель С.-Петерб. цензурного комитета писал: «Очерки эти изложены с тою же тенденциозностью и пессимизмом, с тем же грубым глумлением над обществом, которыми отличаются все произведения Салтыкова, но, по мнению цензора, которое я вполне разделяю, эти очерки не настолько вредны, чтобы по поводу их задерживать книгу. Я полагаю, что прекращение «Отечественных записок», редактором которых был Салтыков, не находилось ни в какой связи с этими очерками. Вследствие сего Комитет не видел основания препятствовать выпуску книги в свет».
Таким образом, из приведенного «отношения» Комитета видно, что высшие цензурные власти были обеспокоены тем, что в своей новой книге Салтыков откликнется на состоявшееся весной 1884 г. правительственное запрещение его журнала «Отеч. записки» (так оно и было в действительности, см. ниже).
О дальнейшей судьбе книги известно из писем Салтыкова к Стасюлевичу. Сообщая 18 октября, что Феоктистов «сегодня с докладом у министра, вместо обычной субботы», он выражал надежду: «Быть может, сегодня решится участь «Недоконченных бесед». Наконец, 21 октября Салтыков с облегчением сообщал тому же адресату: «Книжка, наделавшая немало хлопот, вышла».
Для отдельного издания Салтыков заново пересмотрел текст и, наряду с дополнительной стилистической правкой, частично его изменил. Эти изменения относятся, главным образом, к первой половине книги. Кроме того, им были устранены те намеки и политические выпады, которые к этому времени потеряли свою актуальность.
В настоящем издании «Недоконченные беседы» печатаются по тексту отдельного Изд. 1888 с устранением ряда опечаток и нескольких пропусков по журнальным публикациям и дошедшим до нас рукописям (все хранятся в ИРЛИ).
В «Недоконченных беседах» Салтыков «как бы раздваивает <…> свой старый и уже привычный читателю образ авторского «я» — прекраснодушного либерального оппозиционера «школы сороковых годов» — давая ему в спутники «мрачную и даже трагическую личность» Глумова,[90] носителя бескомпромиссно-критического взгляда. Рассказчик и Глумов здесь, в отличие от «Современной идиллии», не становятся действующими героями и плотью конкретности не обрастают. Глумов участвует лишь в четырех первых «беседах» и мелькает в одном эпизоде 7-й статьи; в остальных случаях Салтыков обходится без его «помощи». «Раздвоение» повествователя является откровенно публицистическим средством, необходимым для более усложненной и глубокой постановки проблем, открывающим простор диалектике салтыковской мысли.[91] Роль проводника авторских мнений и оценок бывает доверена то Глумову, то рассказчику, причем, если в начальных очерках Глумов всюду оказывается ближе к подлинному воззрению писателя, то во второй половине книги условное повествовательное «я» все более объединяется с реальным писателем Салтыковым.
Кроме того, споры героев и возникающая благодаря им видимость «опровержения» «крамольных» мыслей, заявленных как бы в дискуссионном порядке, послужили верным цензурно-маскирующим приемом, на «обнажение» которого Салтыков прямо пошел в главе IV: «ты должен был выдумать, что у тебя есть какой-то приятель Глумов, который периодически с тобой беседует <…> на тот случай, что ежели что, так иметь бы готовую отговорку: я, мол, сам по себе ничего, это все Глумов напутал».
Выпуская серию статей «Между делом» отдельным изданием через полгода после закрытия «Отеч. записок», Салтыков многозначительно назвал книгу «Недоконченные беседы» (сохранив в скобках и журнальную рубрику серии). Этим названием он хотел сказать читающей России о постигшей его катастрофе. Эту цель преследовала смысловая и графическая — строка точек — недоконченность последней главы книги. Салтыков воспроизвел в ней внезапно оборванную речь.
«Пестрый» характер книги, соединившей в себе «статьи, разновременно напечатанные», отмечал сам автор (см. письмо М. М. Стасюлевичу от 21 октября 1884 г.). Но в то же время он собрал здесь только те свои выступления, которые действительно относятся к жанру «бесед». Проблема подразумеваемого собеседника-читателя — весьма важна в составе книги и отнюдь не случайна для нее. Продолжать это произведение вне своего журнала, не располагая свободной возможностью своевременного отклика на события, не имело смысла. От мелькнувшей было идеи продолжения книги Салтыков неизбежно должен был отказаться: такой жанр после закрытия «Отеч. записок» стал для него недоступен.
Отзывы печати о «Недоконченных беседах» были немногочисленны и предельно лаконичны. «Библиографический листок» «Вестника Европы» (1884, № 11) кратко известил читателей о том, что «этюды» эти «хотя и принадлежат к различным эпохам и годам, но <…> не утратили своей свежести как благодаря известному таланту автора, так и тому, что общественная жизнь наша не подвигается», они, «появляясь теперь в особом издании, приобретают даже вящую силу». Столь же скупым был положительный отклик «Нови» (1884, 15 ноября, № 2, стр. 116). Чуть позже К. К. Арсеньев в статье «Новейшие произведения Салтыкова» («Вестник Европы», 1888, № 1) коснулся «Недоконченных бесед», отметив свойственный сатирику «дар предвидения», благодаря которому «позднейшая действительность» подтверждает его сатирические «преувеличения» (поползновения реакции к «упразднению самостоятельного суда», дальнейшее обострение «еврейского вопроса», торжество «охранительной прессы» — стр. 355–361).
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Впервые — ОЗ, 1873, № 11, отд. II, стр. 183–194 (вып. в свет 14 ноября). Под названием «Между делом. Заметки, очерки, рассказы и т. д.» и за подписью «М. М.»
При подготовке главы к отдельному изданию Салтыков несколько сократил и изменил текст.
В первом очерке «Недоконченных бесед» поставлены два взаимосвязанных вопроса современности: «куда девалось наше молодое поколение?» п что представляет собою «наша новая литература»? Каждая из этих проблем, и иллюстрирующие их факты российской действительности, получают как бы двойное освещение — истинное и ложное: трезво-критическое (Глумов), близкое самому Салтыкову, и либерально-уклончивое, затемняющее суть общественных явлений «жалкими словами» (повествователь).
Комментируемый очерк, как и хроника «Наша общественная жизнь» (1863, январь), определяет «молодое поколение» «в смысле двигающей силы», носителя обновляющего, передового идейного начала. Из определяемой категории выводятся «молодые бюрократы» и «адвокаты» — слуги самодержавного режима и слуги капиталистического благоприобретения, «земские деятели». В условиях монархического режима буржуазно-демократическое местное самоуправление представляло «силу… комариную», «земские учреждения были поставлены в положение гонимых и, в крайнем случае, лишь терпимых органов».[92] Салтыков отказывает в праве на высокий титул «молодого поколения» всем, чья деятельность не соприкасается с теми «вопросами», которые «составляют содержание истории», которыми «человечество живет и движется», — то есть с задачами революционного преобразования жизни.
Салтыков с болью и горечью констатирует, что настоящее «молодое поколение» России, в недавние годы принявшее на себя нелегкий труд «проверить авторитеты, дотоле руководившие» обществом, — «было да сплыло». Речь идет здесь о поколении революционных борцов-шестидесятников, идейным вождем которого был Чернышевский и которое оказалось скошено реакцией 1862–1866 гг. Но, несмотря на временное поражение, Салтыков предрекает необратимость самого процесса освободительного движения, неизбежную преемственность идей и поколений: «Должна же быть где-нибудь эта необходимая двигающая сила. Быть может, она скрывается в школах, быть может, разъединенная, но умудренная опытом, она продолжает дело движения, изменив лишь обстановку его…»
Сама проблема «молодого поколения» возникла не случайно: 1873 год проходит под знаком споров о русской молодежи. В начале его в Московском окружном суде состоялся процесс С. Г. Нечаева (см. «Правительственный вестник», 1873, № 10, 12 января). Одновременно с этим «Моск. ведомости» осуществили публикацию хлестких статей «раскаявшегося» участника студенческого движения 60-х годов Е. К. Гижицкого — «Русские эмигранты» (1873, 16–18 января, №№ 12–14). Осенью 1873 г. в Москве был разгромлен кружок «долгушинцев», успевший выпустить несколько прокламаций. Наконец, «фабула» нечаевского дела, а вместе с нею — толки о молодом поколении ожили в связи с романом Ф. М. Достоевского «Бесы», который был закончен печатанием в последних книгах «Рус. вестника» 1872 г. (№ 11–12) и обсуждался на протяжении 1873 г. (в начале этого года появилось и отдельное издание его).
Реакционная критика пыталась использовать роман Достоевского для нового похода против революционно настроенной молодежи, а известные издержки «нечаевщины» (см. т. 9 наст, изд., стр. 520–521) давали повод к извращенному толкованию нравственного кодекса русских социалистов. Как «болезнь раздраженной, но неразвитой мысли, доходящей до беспутства, до сатурналий», характеризовались идеалы «подполья нашей интеллигенции» в «Рус. вестнике» (А. <В. Авсеенко>. Общественная психология в романе. — PB, 1873, № 8, стр. 825–828).
Проблеме молодого поколения целиком посвящена остро-полемическая глава «Дневника писателя» «Одна из современных фальшей» («Гражданин», 1873, 10 декабря, № 50). В ней от лица бывшего петрашевца, «стоявшего на эшафоте», Достоевский опроверг охранительные измышления реакционной журналистики, утверждая, что на «мечтательный бред» революционности в России обречены не «праздные недоразвитки», а лучшая, «чистейшая сердцем» часть молодежи. Но одновременно он обрушил резкую критику на тех, кто передал новому поколению приверженность к «идеям «общечеловеческим», то есть социалистическим, и «высокомерное <…> отрицание». Достоевский оспорил, как он выразился, «прием, общий многим органам нашей псевдолиберальной прессы»: «Сущность его <…> в сплошной похвале молодежи, во всем и во всяком случае, и в грубых нападках на всех тех, которые, при случае, позволят себе отнестись даже и к молодежи критически».
Салтыков и Достоевский, таким образом, принципиально разошлись прежде всего по объективным итоговым выводам своих почти одновременных выступлений. Но дата выхода в свет «Отеч. записок» с комментируемым очерком Салтыкова (14 ноября) позволяет предположить, что Достоевский мог учесть взгляд авторитетнейшего из радикальных изданий на проблему молодого поколения и непосредственно откликнуться.
С темой «молодого поколения» непосредственно связана у Салтыкова тема «новой литературы», которая характеризуется в одном аспекте: по ее отношению к передовой, революционной мысли. Под «старой литературой», которая «умела видеть в читателе честного человека» и считала «обязательным» «руководящий принцип опрятности», в статье подразумевается литературный круг, сложившийся в «Отеч. записках» и «Современнике» 1840-х годов, воспитанный статьями Белинского. «Новой» названа беллетристика последнего десятилетия, не нашедшая в себе сил, в условиях реакции после 1862 г., ответить на «цели, к которым стремилась передовая мысль», и оказавшаяся в состоянии кризиса, идейного распутья.
Однако горькая и язвительная характеристика «новой литературы», по-видимому, подразумевает и несравненно более значительные явления — такие, как «Отцы и дети» Тургенева, «Обрыв» Гончарова, «Бесы» Достоевского. Комментируемый очерк ближайшим образом соотносится с двумя важными публицистическими и литературно-критическими выступлениями Салтыкова: «Уличная философия» и «Так называемое «нечаевское дело» и отношение к нему русской журналистики» (см. т. 9 наст. изд.), где утверждалось, что «все известнейшие русские беллетристы <…> стали на сторону <…> заповеданного, общепринятого и установившегося против сомневающегося, неудовлетворенного и ищущего» (см. т. 9, стр. 65–66).
Но статья содержит еще и прямые намеки на «нечистоплотность», «подвиливание» современной прессы перед властями: «Не забегай, не заискивай! Не гаркай во все горло афоризмов, которые ничего, даже сострадания в литературных меценатах, возбудить не могут». Речь идет здесь о литературной политике министра внутренних дел П. А. Валуева, который в 1860—1870-х гг. пытался «приручить» российскую печать путем различных сделок и льгот. Эту тактику он, как известно, неудачно пытался распространить на «Отеч. записки» еще в первые годы существования журнала, однако с успехом осуществлял в отношениях с другими периодическими изданиями, в том числе и либеральными (см. об этом: М. В. Теплинский. «Отечественные записки». 1868–1884. Южно-Сахалинск, 1966, стр. 42–52).
Первая публикация «Между делом» вызвала резко враждебный по существу и по тону отклик В. П. Буренина. Очерк Салтыкова был использован критиком как повод для прямого выступления против «Отеч. записок»: «…современный сатирик, на потеху почтеннейшей публике, доходит <…> до юмористического заушения себя самого и того органа, где он пишет <…>. «Отечественные записки» говорили свое радикальное «ничего» за неимением (а отнюдь не за невозможностью, по независящим причинам, как наивно думают они сами) сказать что-либо».
Но знаменательно, что даже Буренин, несмотря на откровенную враждебность к сатирику, был вынужден отметить его растущую популярность среди русских читателей, «заметный успех г. Салтыкова в последние годы, когда потребовалось усиление недомолвок» (Z <В. Буренин>. Легкая сатира г. Салтыкова <…> Подражание бесцеремонной манере глумления г. Салтыкова. — «СПб. вед.», 1873, 1 декабря, № 331).
Стр. 151. Отчего в настоящее время люди так охотно лишают себя жизни? — В начале 1870-х годов среди учащейся молодежи участились случаи самоубийства, нередко вызванные казарменным режимом в классических гимназиях. Эпидемия самоубийств захватила, однако, не только учащихся. В ОЗ (1873, № 10, стр. 310–311) Н. К. Михайловский посвятил этой трагической теме раздел своих «Литературных и журнальных заметок»: «О тоске и самоубийствах». В мае 1876 г. в «Дневнике писателя» Достоевского («Одна несоответственная идея») отмечено: «Самоубийства у нас до того в последнее время усилились, что никто уж и не говорит об них. Русская земля как будто потеряла силу держать на себе людей».
Стр. 152…не тем холодным сном могилы. — Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу».
Стр. 155…меня, брат, жалкими словами не огорошишь! — Скрытая цитата, характеризующая обломовскую природу повествователя: «жалкими словами», непонятными крепостному слуге, «пропекал» своего Захара Обломов в романе Гончарова.
Стр. 156. Вспомни-ка басню о комаре и льве! — Имеется в виду мораль басни Крылова «Лев и комар»: «Мстят сильно иногда бессильные враги».
Люди, которые так охотно сами себя облагают сборами… которые так смело выразились по вопросу о всеобщей воинской повинности… — Несомненна ирония Салтыкова насчет мнимого бескорыстия земских деятелей. Веселовский, основываясь на документальных данных, свидетельствует, что «земские взгляды, высказанные в 1871 году» по поводу сборов, «не содержали даже намека на какое-либо самоотвержение со стороны земцев-землевладельцев», «вопрос об уравнении земского обложения поднимался именно крестьянами» («История земства», т. 1, стр. 169, т. 4, стр. 192). Всеобщая воинская повинность была введена в России в 1874 г.
Стр. 158…«наше время — не время широких задач». Разве это не довольно погано? — В. Буренин в отклике на комментируемый очерк невольно засвидетельствовал точность и силу сатирического удара Салтыкова по либеральной прессе (и ближайшим образом — по газете, в которой появилась буренинская рецензия): «В фельетонной болтовне г. Салтыкова производится глумление над «СПб. ведомостями» за высказанную ими мысль о том, что «наше время — не время широких задач», которая фельетонному болтуну «Отечественных записок» кажется <…> преступною до такой степени, что он над этою мыслью считает необходимым глумиться чуть не в каждой статье своего легкого пера» (СПб. вед., 1873, 1 дек., № 331). По поводу конкретного источника приведенного «афоризма» — см. т. 10, стр. 755.
И это говорится в такую минуту, когда ни широким, ни каким задачам доступа в литературу нет! — 7 июня 1872 г. министр внутренних дел получил право задерживать любое бесцензурное издание, если признает его «особенно вредным», не обращаясь в суд, а получая санкцию комитета министров; 14 июня 1873 г. было высочайше утверждено «мнение государственного совета» о взысканиях с периодических изданий, освобожденных от предварительной цензуры, за оглашение «вопросов внешней или внутренней политики, гласное обсуждение которых могло бы быть сопряжено со вредом для государства» (Вл. Розенберг, В. Якушкин. Русская печать и цензура в прошлом и настоящем. М., 1905, стр. 130, 131, 161). Карательная практика не замедлила коснуться «Отеч. записок»: за июльскую книжку 1872 г. журнал получил первое предостережение.
Стр. 159…счастливое сочетание кокодеса и пенкоснимателя — то есть прожигателя жизни (cocodès — франц.) и беспринципного либерального приспособленца.
Ах, не могу я не сознаться! // Но и признаться не могу! — ироническая формула, найденная в «Дневнике провинциала в Петербурге» для выражения уклончивости мнений либеральной печати (см. т. 10, стр. 781).
Стр. 161…и они <…> горели энтузиазмом к Грановскому — а что из них вышло?! — Постоянная у Салтыкова характеристика «попутчиков» Белинского, Герцена, Грановского (законченным представителем их был, например, редактор «СПб. вед.» В. Ф. Корш), которые позже эволюционировали или к дюжинному либерализму, или к прямо охранительным воззрениям. Об огромной идейной дистанции между ними и вождями умственного движения 40-х годов Салтыков писал в статье «Один из деятелей русской мысли» (т. 9).
ГЛАВА ВТОРАЯ
Впервые — ОЗ, 1874, № 11, отд. II, стр. 288–297 (вып. в свет 29 ноября). Под заглавием «Между делом. Заметки, очерки, рассказы и т. д.» II. Подпись: «М. М.»
Сохранился следующий фрагмент начала черновой рукописи первоначальной редакции.
МЕЖДУ ДЕЛОМ
Заметки, очерки, рассказы и т. д.
II[93]
По словам Глумова выходило, что русская интеллигенция изгибла, или, по малой мере, измельчала и утратила свойства двигающей силы. Вопрос о молодом поколении, говорил он, не следует понимать в буквальном смысле этого слова; это вопрос об интеллигенции, о движении вперед, о тех нравственных и умственных идеалах, под влиянием которых растет молодое поколение. Последнее привлекается здесь преимущественно перед другими поколениями потому, во-первых, что молодежь всегда восприимчивее, страстнее и привязчивее, а во-вторых, потому, что ей, а не отживающим людям предстоит воспитывать эти идеалы и развивать их в будущем. Не пристрастие к выражению «молодое поколение» заставляет давать ему роль, а соображения, основанные на том, что молодости предстоит дальше жить.
Из приведенного текста и авторского примечания к нему видно, что работа над очерком II «Между делом» была предпринята сразу же после написания очерка I. Салтыков намеревался продолжить в новом очерке начатое в предыдущем развитие темы «Куда девалось наше молодое поколение?» и напечатать очерк в 1873 году, в декабрьской книжке «Отеч. записок». Однако работа была отложена в самом начале. И лишь в конце следующего, 1874 г., Салтыков написал и опубликовал очерк II,[94] но на другую тему, хотя и связанную опосредственно с вышеупомянутой, — на тему о «понижении умственного уровня».
Один из признаков падения «умственного уровня» в русском обществе середины 70-х годов Салтыков усмотрел на этот раз, как это ни странно с первого взгляда, в творчестве композиторов «Могучей кучки», собственно, в музыке ее крупнейшего представителя Мусоргского, и в программных выступлениях идеолога и пропагандиста нового направления — Стасова. Первый персонифицирован в гротескном образе композитора Василия Ивановича, второй — в уже знакомом читателю по «Дневнику провинциала в Петербурге» образе «критика-реформатора» с заимствованной у Гоголя фамилией, Неуважай-Корыто. Оба сатирических героя увлечены идеей создания ультрареалистической, предметно-изобразительной музыки. Один сочиняет, а другой комментирует музыкальные произведения на такие темы, как «Торжество начальника отделения департамента полиции исполнительной по поводу получения чина статского советника» и «Извозчик, в темную ночь отыскивающий потерянный кнут».
Современники были единодушны, относя насмешки Салтыкова к названным деятелям новой русской музыкальной школы. Да и сами они, во всяком случае Стасов, угадывали, о ком идет речь1. Однако, как всегда у Салтыкова, его сатирические образы не могли быть и не стали только
1 Имея в виду статьи Салтыкова о передвижниках, Стасов писал в 1888 г., то есть еще при жизни сатирика: «…Салтыков — первый из крупных русских писателей, с истинной симпатией отнесся к новой русской художественной школе <…>. Но Салтыкова не хватило на понимание новой музыкальной русской школы, и он над нею только весело и забавно глумился. Всего более он обрушился, со своим комизмом, на Мусоргского, который в своих стремлениях за реализмом сочиняет пьесу на тот сюжет, что «извощик, в темную ночь, ищет своего потерянного кнута» («Северный вестник», 1888, № 10, с. 192). Другое, более раннее, упоминание Стасовым в печати запавшего ему в память названия «бессмертной буффонады» Василия Ивановича, дало Д. О. Заславскому повод утверждать, что «Мусоргский собирался ответить на сатиру Щедрина музыкальной сатирой» («Щедрин, Мусоргский, Стасов». — «Красная новь», 1940, № 11–12, с. 265). Речь идет о пьесе для голоса с фортепьяно «Крапивная гора, или Рак». Сюжет пьесы был разработан и предложен Мусоргскому Стасовым. «В начале, — писал Стасов об этом замысле в биографическом очерке о Мусоргском 1881 г. — должен был быть представлен сам Рак <муз. критик Ларош>, как он, в темную непроглядную ночь, вползает на Крапивную гору, заросшую бурьяном, и оттуда сзывает все свое ретроградное войско <…>. Между ними присутствуют многие русские писаки и писатели, всю жизнь осыпавшие Мусоргского грубо-невежественными сатирами и насмешками (напр., что ему бы надо сочинить, как извозчик трагически ищет в темноте потерянный кнут…)» («Вестник Европы», 1881, №№ 5 и 6; цит. по изд.: В. В. Стасов. Собр. соч., т. III. СПб., 1894, с. 792). Намек на Салтыкова, в подчеркнутых нами словах, очевиден. И все же замысел, понравившийся Мусоргскому и частично осуществленный им, не мог иметь в виду именно этого конкретного выступления Салтыкова. В памяти Стасова произошло смешение хронологии фактов. Сюжет музыкальной сатиры на Лароша и других противников «Могучей кучки» был предложен Мусоргскому зашифровкой конкретных явлений и лиц, хотя намеки на эти явления и лица очевидны.
В своих стремлениях и идеалах «Могучая кучка» отражала демократическое движение шестидесятничества и была близка тому направлению русской общественной мысли, к которому принадлежал сам Салтыков. Чтобы понять смысл его полемического выступления, оно должно быть увидено в исторической перспективе.
Враждебное, критическое или недоуменное отношение к эстетическим принципам новой русской музыкальной школы было проявлено многими передовыми современниками. Достаточно назвать в этой связи имена Тургенева и Чайковского. Памфлетное выступление Салтыкова не было явлением исключительным. Подлинное понимание и признание пришли к «Могучей кучке» значительно позже. Подобно большинству людей своего поколения 40-х годов, Салтыков музыкально был воспитан на итальянской и французской опере того времени — на героической опере Россини и Беллини, Мейербера и молодого Верди. «Вильгельм Телль», «Норма», «Гугеноты», «Пророк», «Пуритане», «Жидовка» — вот оперы, которые упоминаются в произведениях Салтыкова, в частности, и прежде всего в автобиографических местах его сочинений. Представления этих опер в Петербурге силами первоклассных итальянских певцов пользовались огромным успехом в кругах демократической интеллигенции столицы, служили для нее, по выражению Кропоткина, «своего рода форумом для демонстрации» оппозиционных настроений.[95] Музыкальной же основой итальянской и «большой» французской оперы была мелодия. В ней, в первую очередь, и находил эмоциональное выражение тот пафос освободительной борьбы, который несли в себе эти произведения и который так высоко ценился Салтыковым.
В новаторстве «Могучей кучки», прежде всего в исканиях Мусоргского, Салтыков увидел, с одной стороны, умаление роли и значения мелодии, за счет возвышения речитатива и внешне-изобразительных средств музыкального языка, а с другой стороны, уход от подвластных музыке тем, в частности, героической темы, в сферу задач и сюжетов чуждых, на первый взгляд, искусству звуков и «сниженных» (изображение быта, жанра, предметного мира и т. д.). Своего рода сатирическим тезисом выступления Салтыкова являются слова «критика-реформатора» Неуважай-Корыто: «Мы обязаны изображать в звуковых сочетаниях не только мысли и ощущения,
Стасовым, по собственному свидетельству последнего, в июне 1874 г. (там же), а сохранившееся начало пьесы «Крапивная гора, или Рак», датировано в автографе 10-м августа 1874 г. («Музыкальный современник», 1917, № 5–6, с. 232). Таким образом, и возникновение замысла музыкальной сатиры на противников «Могучей кучки», и начало работы над ней Мусоргского, тут же и брошенной, на несколько месяцем предшествуют памфлету Салтыкова, написанному, как сказано, в конце 1874 г. но и самую обстановку, среди которой они происходят, не исключая даже цвета и формы вицмундиров».
Ярчайший просветитель по идеологии и типу мышления, Салтыков из всех форм и видов деятельности человека отдавал предпочтение тем, главным орудием которых было слово («…звание литератора предпочитай всякому другому», — завещал писатель сыну в предсмертном письме). Программные требования «кучкистов», Мусоргского прежде всего, о «нераздельном» соединении музыки и слова представлялись ему, «кровному литератору», чем-то почти кощунственным. Особенно раздражало его шумное возведение Стасовым в канон новой музыкальной школы девиза Даргомыжского, провозглашенного в дни работы над оперой «Каменный гость»: «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды». Девиз этот сатирически расшифровывается Салтыковым как «мысль об упразднении слова и о замене его инструментальною и вокальною музыкой».
В гротескно-буффонадном описании музыки, сочиненной «адептом» новой школы Василием Ивановичем, не следует усматривать ни пародии на какое-либо конкретное произведение Мусоргского, ни тем более критики и отрицания всего его творчества. Сатирическому осмеянию подвергаются не те или иные сочинения композитора или их совокупность, а лишь крайности (в оценке Салтыкова) его новаторских поисков и тенденций, сказавшихся, например, в опыте переложения на речитатив, на интонации живой речи, подлинного, неприкосновенного текста гоголевской «Женитьбы»[96] или иллюстрирования музыкой (в цикле «Детская») таких сюжетов, как, например, «рост гриба в лесу», «прихрамывающий человек», «чиханье няни» и др.
Не кто иной, как глава и непосредственный руководитель новой школы М. А. Балакирев признал впоследствии обоснованность салтыковской сатирической критики таких экспериментов. «Что касается Мусоргского, — писал Балакирев в 1906 г. музыкальному деятелю М. Д. Кальвокоресси, — скажу Вам, что, вполне признавая в нем огромный талант, <…> я не принадлежу безоговорочно к тем его сторонникам, которые <…> соглашаются с тем его воззрением, что музыка не есть цель сама по себе, но лишь способ беседовать <…> вследствие чего он выбирал порою сюжеты, совершенно непригодные для музыки. Это дало талантливому сатирику Салтыкову (Щедрину), его современнику, повод высмеять такую тенденцию, за которую ратовал некогда Стасов…».[97]
В материалах для биографии Салтыкова нет сведений, из которых было бы видно, какие из произведений Мусоргского он знал непосредственно, то есть слышал. Но 1874 год, когда был написан комментируемый очерк-памфлет, был годом театральной премьеры «Бориса Годунова» и годом создания программно-изобразительных «Картинок с выставки». Обсуждение этих событий в печати и обществе и явилось, следует думать, непосредственным поводом для выступления Салтыкова, ставшего одним из примечательных эпизодов в истории русской художественной культуры XIX века.
Стр. 162…исключая железнодорожной… — то есть исключая деятельность железнодорожных концессионеров и подрядчиков.
Стр. 163…даже полемику между Сеченовым и Кавелиным… — Полемика по вопросам психологии между физиологом-материалистом И. М. Сеченовым и либеральным публицистом К. Д. Кавелиным, стоявшим на философско-идеалистических позициях, велась на страницах журнала «Вестник Европы» с 1872 по 1875 г.
«Каменный гость» — опера А. С. Даргомыжского на неизмененный текст Пушкина, построенная целиком на мелодическом речитативе (первая постановка — в 1872 г.). Произведение это, как и эстетические воззрения его автора, оказали большое влияние на формирование новаторского стиля композиторов «Могучей кучки», больше всего Мусоргского. «Великий учитель музыкальной правды» — называл он Даргомыжского.
Стр. 165…отдадим Ларошам на поругание! — Поборник русского музыкального просвещения — критик Г. А. Ларош считал, однако, что оно должно идти по пути, уже проложенному музыкой Запада. Отсюда — проявленное им непонимание национально-самобытного творчества композиторов «Могучей кучки» и враждебное или остро-критическое отношение к ним, особенно к Мусоргскому.
Стр. 165. «Псковитянка» — написанная в формах новой русской музыкальной школы опера Римского-Корсакова. Впервые была поставлена в 1873 г. на сцене Мариинского театра в Петербурге.
Стр. 168. «Гебриды» — «Гебриды», или «Фингалова пещера» (1830), одно из симфонических произведений Мендельсона-Бартольди в созданном им жанре романтической программной увертюры (концертной).
Стр. 169…coda — заключительная часть музыкального произведения.
Стр. 170. «Славься!..» — торжественно-гимнический хор, заключающий оперу Глинки «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»).
…оттолчка — сильные «удары» звуком в речи или в пении («соловьиное колено с оттолчкой»).
…похожа на «Херувимскую» Львова. — Одна из наиболее известных музыкальных композиций на текст богослужебной песни православной церкви «Иже херувимы…» принадлежит композитору А. Ф. Львову, автору музыки царского гимна.
«Тебе, Бога, хвалим…» — гимническое песнопение христианской церкви (у католиков — «Те deum laudamus…»); исполняется на благодарственных молебствиях.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Впервые — ОЗ, 1875, № 1, отд. II, стр. 183–195 (вып. в свет 22 января). Под заглавием «Между делом. Рассказы, очерки, афоризмы и т. д.» и за подписью «М. М.»
При подготовке главы для отдельного издания Салтыков внес в текст несколько мелких поправок.
Внимательно приглядываясь к судебным учреждениям, созданным реформой 20 ноября 1864 г., Салтыков убеждался, что современный суд, вместо того чтобы стать институтом защиты человека, охраны прав личности, быстро превращался в арену социальной несправедливости, хищничества и лганья адвокатов, представителей новой буржуазной интеллигенции.
Этим объясняется парадоксальное, на первый взгляд, нападение сатирика на новые юридические формы: обычно они подвергались атакам «справа» — со стороны дворянско-монархической реакции. Салтыков увидел в буржуазном судопроизводстве изощренные способы ущемления личности, «травли» человека, лишь внешне иные, по сравнению с травлей крепостнической: теперь орудием пытки служит не плеть, а «психология». Салтыков проводит параллель между современным моментом, который либеральная печать славословила как «время возрождения», и эпохой «старинной дикости» — крепостного права — и обнаруживает много общего, заключающегося, главным образом, в защите собственнического идеала («у меня рубль украли — надо удовлетворить и меня <…> иначе почва ускользнет у нас из-под ног»), только осуществляемой различными способами.
В размышлениях об этих проблемах обнаруживается наибольшая близость Салтыкова к Достоевскому, который в «Дневнике писателя» (1873, «По поводу новой драмы») отмечал, что «мрачные нравственные стороны прежнего порядка — эгоизм, цинизм, рабство, разъединение, продажничество не только не отошли с уничтожением крепостного быта, но как бы усилились, развились и умножились». Он дал характеристику нового судебного процесса, совпадающую в своих основаниях с салтыковской («тут, в основе, какая-то ложь», извращение «гуманного чувства» — 1877, октябрь), и задался тем же тревожным вопросом: «ведь трибуны наших новых судов — это решительно нравственная школа для нашего общества и народа <…> как же нам относиться хладнокровно к тому, что раздается подчас с этих трибун?» (1876, май). Одинаковую аттестацию получила у писателей адвокатская корпорация: «блестящее установление адвокатура, но почему-то и грустное <…> какая-то юная школа изворотливости ума и засушения сердца, школа извращения всякого здорового чувства по мере надобности, школа всевозможных посягновений, бесстрашных и безнаказанных» (1876, февраль). Впоследствии, в «Братьях Карамазовых», писатель использовал для характеристики современного судоговорения такой же термин, который привел Салтыков в комментируемом очерке («роман»), и скрыто процитировал салтыковский текст в главе «Черт. Кошмар Ивана Федоровича»: о «нравственных муках», которые заменили в результате «смягчения ваших нравов» (эти слова поставлены в кавычки) «древний огонек» в качестве орудия пытки.
В печати, кроме краткого положительного отзыва «Одесского вестника» (1875, 13 февраля, № 36), настоящий очерк вызвал язвительное замечание рецензента «Киевского телеграфа»: «Очерк «Между делом» М. М. обнаруживает отрицательную сторону наших гласных судов <…> подвергающих жестокой духовной пытке всякого своего пациента. По выразительности языка и по остроумию статейка г. М. М. не отстает от благонамеренных речей, даже едва ли не выше их; но к концу ее и неизбежно возбуждается вопрос: какой цели хочет добиться автор, затрачивая свое остроумие? <…> его alter ego, г. Щедрин, пожалуй, и посовестился бы так блистательно плевать в пустое место!» (Т. Л. К. Журн. обозрение. — «Киев. телеграф», 1875, 12 февраля, № 19).
Стр. 173…уездные суды упразднены. — Уездный суд — отмененная уставами 1864 г. первая судебная инстанция для дворян; составы их избирались дворянством уезда сроком на три года и утверждались губернатором.
…до такой-то суммы человек мировому судье подсуден, а свыше этой суммы — окружному суду. — Мировой суд (в составе единоличного судьи) в уездах и городах предназначался для рассмотрения малозначительных уголовных и гражданских дел: он рассматривал иски на сумму не свыше 500 рублей. Дела, выходившие за эти пределы, поступали в окружные суды (судебный округ охватывал несколько уездов).
Стр. 176…в виде торговой казни на площади — публичного наказания кнутом, рукою палача.
Стр. 177…«даму приятную во всех отношениях» — персонаж 9-й главы «Мертвых душ» Гоголя.
…особенный вид преступления был, называвшийся «злоупотреблением помещичьей власти»… — юридический термин в эпоху крепостного права, нередко подразумевавший смерть «провинившегося» в результате истязаний.
Стр. 184…вот хоть бы на месте г. Шайкевича <…> восхождение на Синай, предпринятое г-м Плевако. — Упомянуты защитник игуменьи Митрофании и гражданский истец по ее делу и процитирована выспренняя речь последнего (см. подробно в т. 12, стр. 645).
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Впервые — ОЗ, 1875, № 9, отд. II, стр. 129–152 (вып. в свет 19 сентября). Под заглавием «Между делом» и за подписью «Н. Щедрин».
Настоящий очерк — одна из самых личных «бесед» Салтыкова с читателем во всем этом незавершенном цикле. Здесь сделана попытка определить результаты «бесцензурного» существования русской литературы на протяжении почти целого десятилетия.
Большинство поставленных в очерке проблем затронуто в письмах Салтыкова этого времени в непосредственной связи с собственной литературной биографией. В очерке содержатся широкие обобщения, подготавливающие важнейшие итоговые суждения Салтыкова в «литературных» главах циклов «Круглый год» и «Мелочи жизни» (см. тт. 13 и 16 наст. изд.).
Некрасов в письме Анненкову от 27 апреля 1875 г. очень точно охарактеризовал поистине героическую мобилизующую роль Салтыкова в «Отеч. записках» перед отъездом его за границу, где и был написан очерк: «Журнальное дело у нас всегда было трудно, а теперь оно жестоко; Салтыков нес его не только мужественно, но и доблестно, и мы тянулись за ним, как могли» (Н. А. Некрасов. Собр. соч. в 8 тт. М., «Художественная литература», 1967, стр. 397).
Опираясь на собственный опыт, писатель доказывает, что, несмотря на упразднение предварительной цензуры, русское слово — по-прежнему скованное слово, а положение русского писателя полностью зависимо от административного произвола («Дунуть на тебя — ты и погас!»). Одна из главных причин угнетенного положения русской передовой литературы — укрепление реакции и продолжавшийся отход от интересов подлинной культуры «влиятельных классов», «так называемых людей культурного слоя». Вторая часть очерка раскрывает глубокое убожество этих «благонадежных элементов» (в образе Износкова). Салтыкова окончательно убедили в необходимости сатирической разработки подобного типа его заграничные впечатления. 24 (12) сентября 1875 г. он сообщал Анненкову, что «вынес из Бадена еще более глубокую ненависть к так называемому русскому культурному слою, чем та, которую питал, живя в России. В России я знаком был только с обрывками этого слоя <…> живущими уединенною жизнью <…> В Бадене я увидел целый букет людей, довольных своею праздностью, глупостью и чванством».
В характеристике «шлющихся» представителей «русской культурности» с Салтыковым сомкнулся Достоевский, через несколько месяцев посвятивший им в «Дневнике писателя» (1876, апрель) специальную главу: «Культурные типики. Повредившиеся люди». Возможно скрытое указание на очерк Салтыкова в строках: в последнее время «разъяснился совсем новый культурный тип», который «в каретах-то, в помаде-то <…> и видит всю задачу культуры, все достижение цели». Как характерные черты этого типа, «имеющего некоторое общее значение», Достоевский также отмечает отсутствие национальных корней и пренебрежение к отечественной литературе. Но противопоставлен он не носителям передовой общественной мысли, а «почве», народной нравственности.
Однако причины «холопского» положения литературы Салтыков видит не только в засилье «клевещущих» на нее «культурных людей». В очерке встает как одна из основных проблем литературного развития — проблема читателя — «неуловимого» и во многом «загадочного» для сатирика. Здесь поднимаются глубокие вопросы о связи литературы с жизнью, о степени и характере непосредственного влияния печатного слова на общественное самосознание, о реальных результатах деятельности честной мысли.
Салтыков говорит о нравственной ответственности читателя перед литературой: «бессилие русской литературы зависит, во-первых, оттого, что у нее нет достоверного читателя, на которого она могла бы опереться». Как раз в те дни, когда завершалась работа над этим очерком (29 (17) августа Салтыков извещал Некрасова о посылке рукописи), писатель делился своей тревогой с Анненковым: «…я начинаю думать, что моими писаниями никто не интересуется и что «Отечественные записки», несмотря на 8 тыс. подписчиков, никто не читает. То есть читает какой-то странный читатель, который ни о сочувствии, ни об негодовании заявить не может. <…> Это штука почти безнадежная, и на старости лет тяжело ее переживать» (27 (15) августа 1875 г.). Очерк предваряет те глубокие и социально дифференцированные определения различных категорий русского читателя, которые будут даны в «Мелочах жизни»; здесь же выделены: народ, «даже не подозревающий о существовании русской литературы», высший круг, который «ее игнорирует», и современное «молодое поколение», которое не признает ее «прав на воспитательный авторитет».
В известной мере «Недоконченные беседы» отразили зреющую неудовлетворенность Салтыкова результатами «литературной формы борьбы с легальной трибуны» (А. С. Бушмин. Сатира Салтыкова-Щедрина. М.—Л., Изд. АН СССР, 1959, стр. 298), которая со всей полнотой выразится позже в сказке-элегии «Приключение с Крамольниковым».
В этих драматических размышлениях много перекличек с поздней лирикой Некрасова: «Скоро стану добычею тленья» (1876), «Угомонись, моя муза задорная» (1876), «Приговор» (1877).
Важно отметить, что в комментируемой статье наиболее глубоко воплощена сложная диалектика авторской мысли, по сравнению с предшествующими очерками, где желчный Глумов всюду ближе к Салтыкову, чем прекраснодушный повествователь. Здесь скептическая трезвость Глумова также помогает определить всю трагическую противоречивость положения современной литературы (на которую пытается закрыть глаза рассказчик). Между тем и в высказываниях повествователя, пробиваясь сквозь либеральную словесную эквилибристику, убеждающе звучат сокровенные авторские мысли о великой миссии литературы, о неколебимой преданности «литературному ремеслу», несмотря на сопряженную с ним унизительную необходимость «трепетать».
В настоящей статье Салтыков развернул свои соображения о значении и функции эзоповских приемов. Необходимость объяснить читателю принципы прочтения своих произведений сатирик особенно остро почувствовал, столкнувшись с явным непониманием широкой публикой замысла рассказа «Сон в летнюю ночь», опубликованного в августовской книжке «Отечественных записок» (см. т. 12, стр. 704). 24 (12) сентября 1875 г. он пояснял Анненкову: «если мои вещи иногда страдают раздвоенностью, то причина этого очень ясная: я Езоп и воспитанник цензурного ведомства. Я объявляю это всенародно в статье «Между делом», которая явится в сентябрьской книжке».
Печатные отклики на очерк были, в основном, благожелательны, но поверхностны. Внимание большинства критиков привлек эпизод с Износковым; однако весьма емкий общественно-политический смысл этого образа был раскрыт ими не до конца. По мнению рецензента «СПб. вед.», «это один из многочисленных, удачно очерченных г. Щедриным персонажей, которые <…> и среди реформ, изменяющих условия частного и государственного быта, остались неизменными», «забавная фигура, как будто выхваченная из дореформенного периода» (В. М. <В. В. Марков>. Литературная летопись. — СПб. вед., 1875, 4 окт., № 265). Автор анонимного обзора «Русская литература» в «Сыне отечества» также отмечал, что «в лице Износкова» Салтыков «мастерски изобразил и превосходно осмеял тот ложный взгляд, то фальшивое направление, которые внешний лоск ставят главной задачей жизни <…> А между тем <…> считают себя какими-то охранителями России!» (1875, 6 ноября № 257).
На серьезность литературных проблем, поставленных Салтыковым, откликнулся только Скабичевский, подвергший обсуждению «открытый вопрос: кто же вас ныне читает, господа литераторы?» Критик определил тип русского читателя: ими были «всегда наиболее <…> тяготившиеся условиями жизни и жаждавшие ее обновления»; «во все эпохи <…> умники и счастливцы <…> всегда брезгали» русской литературой, «а интересовались, дорожили ею одни несчастные. <…> Какое это высокое призвание у тебя, о русская литература!» Скабичевский отметил процесс постепенной демократизации читательской аудитории. Ныне «литературе давно уже пора убедиться, что у нее совсем не те уже читатели, что были прежде <…> У нее есть массы новых читателей, на которых должна она сосредоточить все свое внимание и для них только и работать». Но от ответа на вопрос, «где же те несчастные русские люди, которые по-прежнему ищут в литературе всяческих утешений и разрешений», критик уклонился («Но отвечать на этот вопрос в двух словах нельзя») — (Заурядный читатель <А. М. Скабичевский>. Мысли по поводу текущей литературы. — «Бирж. ведомости», 1875, 3 октября, № 272).
Стр. 186…цензоров <…> сажали на гауптвахту <…> их сменяли. — Подобные многочисленные эпизоды из собственной длительной цензорской практики и служебной биографии коллег приведены А. В. Никнтенко в «Дневнике» (см. т. I, ГИХЛ, 1955, стр. 160–161, 252–256, 327). Уже при Александре II «за недостаточно строгое исполнение своих служебных обязанностей» был отрешен от должности Н. фон Крузе (М. К. Лемке. Эпоха цензурных реформ. СПб., 1904, стр. 12–14).
…публика <…> зачитывалась статьями, вроде «Китайские ассигнации» или «Австрийский министр финансов Брук»… — Речь идет о том, что в середине 1850-х гг., в период относительного либерализма Каткова, издаваемый им «Русский вестник» также использовал иносказательный способ критики отечественных порядков под видом обзора иностранных событий (см. об этом: т. 5, стр. 352, 644). Впоследствии катковские издания твердо стояли на той позиции, что «недосказанная ложь, намеки, гримасы гораздо хуже лжи, высказанной до конца» (W. Петерб. письма. IV. — МВ, 1880, 13 октября, № 284).
…объявление в 1866 году воли книгопечатанию… — Закон 6 апреля 1865 г. о печати, заменивший предварительную цензуру карательной, был введен в действие с 1 сентября того же года.
Стр. 187…«невидимые миру слезы сквозь видимый миру смех*… — Цитата (неточная) из главы VII первого тома «Мертвых душ» Гоголя.
Стр. 193…культурные Бобчинские и Добчинские <…> расщебетались <…> еще очень недавно Сквозник-Дмухановский без церемонии называл их «сороками короткохвостыми». — Смысл этого иносказания, использующего эпизод из гоголевского «Ревизора» (д. V, явл. VIII), состоит в следующем: реакционный дворянский, помещичий круг (Бобчинские и Добчинские), который правительственная бюрократия (Сквозник-Дмухановский) в момент подготовки крестьянской реформы была вынуждена одергивать и ограничивать в претензиях, ныне снова обрел силу. «Противоречия» его с царской властью были временными и кажущимися, а союз — постоянный («Бобчинские нам милы, в Добчинских мы уверены»).
Стр. 194…не волнуют общественного мнения, не смущают умов… — Воспроизводятся обычные мотивы «предостережений», которые получали передовые печатные органы, в том числе и «Отеч. записки» (См.: Свод данных о мотивах предостережений, полученных журналами и газетами в 1865–1904 гг. в кн. Вл. Розенберга и В. Якушкнна «Русская печать и цензура в прошлом и настоящем», стр. 227–250).
…подумайте <…> что у вас есть дети… — Мысль о возмездии носителей реакционного начала «в потомстве», которое сойдет с торной дороги отцов, Салтыков разрабатывал в цикле «Господа Молчалины», рассказе «Больное место» (см. т. 12).
Стр. 203…Микешин <…> создал памятник тысячелетию России. — См. т. 6, стр. 575.
Стр. 204…Коля Персиянов — персонаж цикла «Господа Ташкентцы» (см. т. 10 наст. изд.).
349
Стр. 206…об этой «курице в супе»… — См. т. 8, стр. 493.
Стр. 208…питание чиновника <…> близко подходит к питанию человека природы… — Под «человеком природы» подразумевается крестьянин, мужик, на послереформенное обнищание которого намекает Салтыков.
Стр. 209…Бисмарк думал своими пятью мильярдами раздавить эту страну! <…> он отрезал у Франции Страсбург… — Упомянуты тяжкие для Франции условия мирного договора после ее поражения во франко-прусской войне 1870–1871 гг.
Стр. 210. Вечер <…> провожу <…> у французов… — на спектакле французской труппы Михайловского театра.
…требовал cent milles têtes à coupez? — Обывательски-утрированный отзвук, связанный с изречением Марата. — См. т. 14, стр. 235 и 604.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Впервые— ОЗ, 1876, № 3, отд. II, стр. 154–170 (вып. в свет 22 марта). Под заглавием «Отрезанный ломоть» и за подписью «Молодой человек».
Время работы над данной главой определяется письмом Салтыкова к Некрасову из Ниццы от 9/21 февраля 1876 г.; «Письмо Ваше получил 5 дней тому назад не от Панаева, а по почте, и, вследствие выраженного в нем желания иметь статью по Кронеберговскому делу, сел за оную и написал. Первую половину посылаю, вторую вышлю завтра <…>. Я хотел бы сохранить тайну ее происхождения от меня». Рукопись второй половины статьи, написанная рукой Е. А. Салтыковой, была отправлена на другой день (см. письмо Салтыкова к Некрасову от 10/22 февраля 1876 г.). Однако по цензурным соображениям статья не могла быть помещена в февральском номере журнала.
В Изд. 1884, кроме некоторых изменений и стилистической правки, текст несколько дополнен. Но, судя по содержанию письма Салтыкова к Некрасову от 25 фепраля / 8 марта 1876 г., доцензурный вариант статьи восстановлен лишь частично (см. ниже). Видимо, это объясняется тем, что Салтыков либо не получил от Некрасова корректуру, либо позднее сам ее затерял. Приводим три варианта ОЗ.
Стр. 223, строка 43, после слов: «…ударил по лицу девочку раза три или четыре» —
(Иоанн Грозный поступил искренне, записав в синодике убиенных и потопленных им под рубрикой «имена же их ты, господи, веси!»)
Стр. 224, строка 9, после слов: «…удары сыпались только на смердов, на вилланов» —
…(см. в одном из будущих №№ «Вестника Европы» статью «О значении пощечин во времена рыцарства»).
Стр. 228, строка 7, после слов: «…обвинил русскую литературу в идиотстве» —
Так что очередь теперь за Плевако…[98]
В январе 1876 года в СПб. окружном суде слушалось дело С. Кронеберга, обвинявшегося в истязании малолетней дочери Марии. Его оправдали: заключения врачебной экспертизы оказались противоречивыми, а присяжные, как это ни странно, не смогли доказать необходимости «беспощечинного» воспитания; этой компромиссной ситуацией умело воспользовался адвокат В. Д. Спасович. Юрист с либеральной репутацией, он был назначен к защите Кронеберга судом и в ходе процесса дал понять, что ему лично претит педагогика «плюхи и розги», по ввиду ее общераспространенности требовал оправдания для своего клиента. Поведение Спасовича было расценено Салтыковым как выразительный симптом углублявшегося разрыва адвокатуры с передовыми общественными идеалами и прогрессивной литературой (в этом смысл заглавия «Отрезанный ломоть»).
«Дело Кронеберга» оживленно обсуждалось либеральной печатью, которая сосредоточилась преимущественно на процессуальных моментах. На этом фоне резко выделились выступления Салтыкова и Достоевского, во многом близкие. Оба писателя отказались обсуждать юридические подробности, поскольку в самой основе дела видели «фальшь нестерпимую», «фальшь со всех сторон».[99] Салтыков и Достоевский апеллировали не к статьям действующего закона, а к «человеческим чувствам», которые были изгнаны из судебной процедуры «по самой силе вещей»: «не нашлось никого, чтоб почувствовать всю невозможность, всю чудовищность этой картины! Крошечную девочку выводят перед людей и серьезные гуманные люди — позорят ребенка…»[100]
Процесс этот, возмущавший нравственное чувство жестокостью, буквально подтвердил справедливость тех мыслей о «новом» суде, которые Салтыков высказал ранее, в 3-й статье «Между делом». Но внимание писателя он привлек все же не поэтому: Салтыкова заинтересовала не «криминальная» сторона кронеберговской истории, а проявление в частном бытовом эпизоде «поветрия на компромиссы и сделки», ставшего общеевропейским явлением. Компромисс В. Д. Спасовича с несостоятельной для него самого «идеей розги» в семейном быту позволил сатирику, при помощи испытанного в его публицистике метода широких аналогий, перейти от петербургского адвоката — к идеологу французской трудовой демократии Луи Блану, делавшему в 1875–1876 гг. в ходе подготовки парламентских выборов политические уступки реакции. В статье широко поставлен вопрос о «политическом и философском учении, известном под именем «учения о компромиссах и сделках», которое писатель напряженно осмыслял с 1860-х гг. («Каплуны», «Тихое пристанище», «Наша общественная жизнь»).[101]
Салтыков четко выражает мысль о том, что осуществление «трудного» социалистического идеала («maximum’a», «царства правды») невозможно без решимости на «открытый шаг», на «слово, разоблачающее действительные цели стремлений партии». В статье раскрыта принципиальная ошибочность уравнения революционных и нереволюционных методов изменения жизни: желание «достигнуть <…> целей «потихоньку», не в смысле большей или меньшей медленности движения, а так, чтобы никто не заметил», ведет лишь к тому, что «первоначальные цели <…> стираются и отходят очень далеко назад». Иронически воспроизводя лозунги идеологов и практиков «политики результатов», — «потихоньку», «отступайте! заманивайте!» — Салтыков доказывает, что тактика компромиссов приносит иллюзорные результаты («игра, в которой никакой цели никогда не достигается», «поступательное движение в беличьем колесе») и влечет неминуемую сдачу идеала.
Писателя привели к этим выводам печальный итог пятнадцатилетних уступок реакции, которые осуществлял русский либерализм; общеевропейское «реакционное поветрие»; прошедшая на его глазах эволюция вождей европейского мелкобуржуазного социализма и некоторых деятелей русской общественной мысли и литературы. Салтыков писал своим друзьям об опасности «нравственного двоегласия», которое «не свойственно истинно передовым людям».[102]
«Отрезанный ломоть» в первоначальном виде встретил не только цензурные препятствия (в результате чего он не попал в февральский номер «Отеч. записок»), но, видимо, и внутриредакционные возражения из-за суровой непримиримости тона. Посылая в редакцию окончание статьи, Салтыков предвидел такую возможность: «Боюсь, что статья не понравится Григорию Захаровичу <Елисееву> и Унковскому. Во всяком случае, я желал бы, чтобы, кроме Елисеева, никто не знал, что статья принадлежит мне» (Некрасову, 22 (10) февраля 1876). 8 марта (25 февр.) Салтыков писал Некрасову: «Сейчас получил Ваше письмо насчет «Отрезанного ломтя» и могу сказать только одно: лучше не печатать совсем, чем в марте подавать разогретую телятину. Я прихожу к убеждению, что мне совсем нужно обождать писать. Тогда будет совсем без затруднений. Я никак не воображал, что обругание Гамбетты может встретить цензурные препятствия. Если нужно было исправлять и переделывать, то можно было это сделать и для февральской книжки — без разговоров <…>. Мне нравится рассуждение о том, что адвокаты еще не совсем безнадежны — пусть будет так. Тоже и о Гамбетте: ежели Шассен[103] правильнее пишет, и есть несогласимое противоречие, то тоже пусть будет так. Я писал, помня предания «Современника». В тексте, опубликованном в мартовской книжке журнала, «обругания Гамбетты» мы не находим, но резкая определенность в постановке проблем сохранена.
Статья подписана псевдонимом «Молодой человек», но весь ход мысли неизбежно открывал ее автора для каждого внимательного читателя салтыковской публицистики с 60-х годов. Таким внимательным читателем, видимо, и оказался Достоевский, бросивший в «Дневнике писателя» полемическое замечание: «А умные старички наши все еще до сих пор уверены, что они-то и есть самые новые и молодые люди и что говорят самые новые слова!» (чуть выше разъяснялось, что речь идет о «писателях», «обративших на себя большое внимание общества и возбудивших в нем горячее сочувствие к их обличениям» «после Севастополя»).[104]
Стр. 213…vit bonus, disendi peritus — определение оратора, данное Катоном Старшим и приведенное Квинтилианом в его сочинении «О воспитании оратора» («De institutione oratoria», XII, I).
Стр. 217. Tout se lie, tout s’enchaîne dans ce monde, сказал некогда Ламартин и прибавил: Alea jacta est! — Салтыков юмористически контаминирует французский афоризм «все переплетено, все связано в этом мире», приписываемый А. Ламартину, с латинским изречением «Жребий брошен!» (фраза Кая Юлия Цезаря при переходе реки Рубикон, означавшем начало гражданской войны).
Стр. 219…на покаяние в педагогическое общество… — См. примеч. к «Современной идиллии», т. 15, кн. первая, стр. 325.
Стр. 220…адвокат чувствительной школы г. Языков. — Присяжный поверенный А. И. Языков, стихотворец, переводчик, сотрудничавший в «Вестнике Европы», в своей юридической практике также отличался, по словам современников, «задушевным красноречием».
Стр. 221…и он родился в Аркадии… — Перефразировка первой строки стихотворения Шиллера «Resignation» («И я в Аркадии родился»).
В настоящее время в Европе существует как бы поветрие на компромиссы, и сделки. — Незадолго до выступления Салтыкова «Отеч. записки» уже откликнулись на это явление: в статье М. К. Цебриковой «Дух компромисса в Англии» (ОЗ, 1875, № 9) содержатся выводы, близкие к тем, какие делает сатирик.
…союз германских национальных либералов с Бисмарком <…> то. что происходит теперь во Франции. — Возникшая в 1867 г. в Германии партия национал-либералов, представлявшая интересы отечественной буржуазии, сначала выступала под флагом гражданских свобод и добивалась ответственности правительства перед рейхстагом, но быстро отреклась от этих требований и послушно поддерживала политику канцлера Бисмарка (особенно ярко проявилось это при вотировании военного бюджета в 1874 г.); во Франции 1875–1876 гг. парламентские выборы проходили под знаком борьбы монархистов с республиканцами. Падение потенциала революционности в лидерах республиканской оппозиции, либерально-оппортунистические тенденции в республиканских группировках привели к тому, что даже после победы республиканцев в январе 1876 г. на выборах в палату депутатов правительство оказалось консервативным.
Стр. 222. Веяние времени <…> подчиняет себе <…> даже Луи Блана, который до сих пор гораздо сочувственнее относился к требованиям «мечтателей»… — В России Луи Блан имел высокую политическую репутацию общественного деятеля, который «выводами здравого смысла и справедливости» «подрывал вековое здание социального неравенства, насилия и эксплуатации <…> он выказывал неизменное постоянство и храбрился не на одних словах, а подвигом целой жизни» (П. Д. Боборыкин. Политическая злоба дня. Луи Блан. Questions d’aujourd’hui et de demain, Paris, 1873. — ОЗ, 1873, № 10, стр. 213).
…«фельдфебеля в Вольтеры даст» — измененная реплика Скалозуба из 4 акта «Горя от ума» А. С. Грибоедова.
Стр. 223…ежели в 1880 году потребуется устроить для вас новый септеннат… — Септеннат — установленный в ноябре 1873 г. семилетний срок президентских полномочий Мак-Магона, которые были прекращены в январе 1879 г. после провала готовившегося с его участием монархического переворота.
Стр. 227…защита Базена адвокатом Лашо… — Маршал Базен был судим в 1873 г. за измену родине во время франко-прусской войны.
Стр. 228…г. Спасович <…> играл <…> роль противо-овсянниковскую… — В. Д. Спасович в деле Овсянникова представлял интересы страховых обществ; с этих компаний обвиняемый намеревался получить крупную страховую премию за умышленно подожженную мельницу.
…г. Потехин <…> без церемонии обвинил русскую литературу… — В жалобе, поданной С. Т. Овсянниковым в СПб. судебную палату и составленной его поверенным П. А. Потехиным, шла речь о «притеснении со стороны литературы» — «прошение составляла рука юриста, очевидно, тонкого в казуистике и опытного в кляузах. На всякий случай он не забыл даже литературу лягнуть» (Г. З. Елисеев. Внутр. обозрение. — ОЗ, 1875, № 9, стр. 68).
…на Сенной — на главной базарной площади столицы.
…адвокатура выказала намерение отмежеваться от области общих умственных и нравственных интересов… — Наиболее отчетливо это «намерение» сформулировал К. К. Арсеньев («Заметки о русской адвокатуре»), с которым полемизировали «Отеч. записки»: «послушайте, что пишет <…> Арсеньев: «…Желание адвоката охранять неприкосновенность своей репутации <…> не должно доводить до малодушной боязни перед общественным мнением». Елисеев, доказывая, что «адвокат есть представитель общественного взгляда или, если угодно, общественной совести относительно применяемости идеи закона к данному преступнику», обвинял «в наивности, или, правильнее сказать, в невежестве» адвоката, «не подозревающего, что он — представитель общественного мнения» (Г. З. Елисеев. Внутр. обозрение. — ОЗ, 1875, № 4, стр. 301–303).
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Впервые— ОЗ, 1882, № 8, отд. II, стр. 248–258 (вып. в свет 17 августа). Под заглавием «Июльское веяние» и за подписью «М. С».
Сохранились рукописи первой и второй редакции (частично — ЛИ, т. 11–12. М., 1933, стр. 284–293).
Статья написана в июле 1882 года в Ораниенбауме. На полях рукописи первой редакции имеются записи карандашом, относящиеся к развитию сюжета: «Околот<очный>. Если так — спроси. Я ваш<ество> завсег<да> лучше спрош<у>. Компрометирует общ<ество> шпион. Дерунов сосет и человеком делает. Еврей сосет и скорлупки бросает. Сцена из евр<ейского> быта». Во время работы над рукописью первой редакции очерка Салтыков предназначал его не для цикла «Между делом» («Недоконченные беседы»), а хотел им завершить «Письма к тетеньке». Так как появившееся незадолго перед этим в майской книжке очередное «Письмо к тетеньке» напечатано с подзаголовком: «Письмо девятое и последнее», то он дает очерку заглавие «Postscriptum». На связь с «Письмами» указывают и начальные строки рукописи:
Вы чересчур уж требовательны, милая тетенька. Засыпали меня вопросами. С чего вдруг поднялась возня с евреями? что означают текущие административные перемены? что такое происходит в Египте? и проч. Все-то вы хотите знать и на все требуете ответа. Даже поступок околоточного, который убил на Петербургской стороне купца, — и тот интересует вас. Не замешана ли тут внутренняя политика? спрашиваете вы, и каких дальнейших поступков следует ожидать?
В процессе работы над рукописью второй редакции замысел Салтыкова изменился, он решает не заканчивать этим очерком «Письма к тетеньке». Он зачеркивает в рукописи приведенные выше строки и вместо прежнего заглавия «Postscriptum» пишет новое: «Июльские размышления». Текст второй редакции более близок к журнальному, который, в свою очередь, почти не отличается от текста отд. Изд. 1884. Приводим один из наиболее важных вариантов первой редакции.
К стр. 233, после данного в иной редакции абзаца: «В том-то и беда наша…» —
Начну с вопроса — еврейского.
По моему мнению, корень этого вопроса — в темпераментах. Темпераменту русскому претит прежде всего внешний вид еврея. Все-то он движется, все-то высматривает и все что-то жует и сосет.
— Что, еврей, сосешь?
— Музицка шашу.
Ужасно это сердит. Мужичка сосать не диковина; и Колупаев, и Разуваев, и Дерунов — все сосут. Но они сосут и в то же время «человеком» делают. Стало быть, есть тут и воспитательная цель.
— Я тебя сосу, — говорит Дерунов, — да я же тебя и «человеком» сделаю!
И точно. Стоит только выдержать эту воспитательную практику — и «человек» готов. Сначала Дерунов называет его «крестником», потом начинает шутить, что, мол, мы «на одном солнце онучи сушили», а потом, смотришь, крестник уж и сам начинает, благословясь, посасывать Дерунова. Словом сказать, процесс сосания идет здесь и «по-милу», и «по-божецки» и никогда так, чтобы совсем без остатка. «Ты за меня, я за тебя, а бог за всех — так-то, милый друг!» «Точно так, ваше степенство!»
Разумеется, выдерживали немногие, но тут уж Разуваев не виноват.
— Я все силы-меры употреблял, чтобы его «человеком» сделать, — говорит Разуваев, — ан из него вышел пентюх!
Пентюх! но кто же об пентюхах говорит!
Напротив того, еврей никаких воспитательных целей в виду не имеет, именно <?> «человеком» сделать не намеревается. Он просто возьмет «музицка» двумя пальцами, пососет и скорлупку выбросит. Потом возьмет другого «музицка» — и опять выбросит скорлупку. Когда же скорлупок наберется достаточно, он соберет их в кучку и продаст.
Никакого разговора «по душе», «по-милу» при этом не происходит. Одна только оговорка! «шаши мене, ежели можешь!»
— То-то, Давид Саулыч, что не изловчились еще мы!
— А коли ты не можешь, так я тебя шашу!
И дело с концом.
Но, кроме «божецких разговоров», есть и еще разница между Деруновым и евреем. Дерунов обыкновенно выходит на промысел в одиночку. Жена его в это время «гуляет», а дети воспитываются в пансионах, с тем чтобы из них вышли «добрые господа». Напротив того, еврей сосет целым родом. Не только он, старый Давид, но и Рифка, и Рохля, и Иосель, и Идек, и Элья — все жуют скорлупки и выплевывают. Как хотите, а это обидно. И никто из этих сосущих и жующих однажды ничего прожеванного не отдаст. А в довершение всего, никогда он сыт не бывает, а громадное большинство детей редко в довольстве живет. Потому что едва только начнет еврей порядком насасываться — сейчас его к капитану-исправнику, а ну, показывай, жид, что у тебя в потрохах есть? Посмотрит капитан-исправник, посмотрит заседатель — много ли останется?
— И зачем я пошел — не знаю!
Только и всего.
Разумеется, частенько-таки выискиваются и такие молодцы, которые несомненно на пользу сосут, но такие удачники обыкновенно бегут из «своих мест» в большие центры и там заканчивают свое поприще в виде банкиров, железнодорожников, а прежде в виде откупщиков. Вот по ним-то и составилось мое <?> мнение о еврейском благоденствии.
Верхний угол следующего листа вместе с текстом оторван. Приводим одну из вставок к оторванной части текста:
Но это бесчеловечие явится еще более осязательным, если припомнить, что нет на свете вещи более общедоступной, как предание, и что, следовательно, это последнее прежде всего становится достоянием толпы, и без того обезумевшей под игом собственного злосчастия. Именно такого рода характер имеет предание, наложившее клеймо отчуждения на еврейское племя. Когда я думаю о положении, созданном образами и стонами старой легенды, которая преследует евреев из века в век на всяком месте, — право, мне кажется, что я с ума схожу. Сдается, что зияет безграничная и бездонная пропасть, наполненная кипящей смолой, и в этой пропасти мучится человек, у которого отнято все, даже право на смерть.
Поводом к написанию «Июльского веяния» послужили еврейские погромы, прокатившиеся по югу России весной и летом 1881–1882 гг.1. Откликаясь в своей сатире и публицистике на все главные явления текущей общественной жизни, Салтыков не мог обойти молчанием этих событий и всего еврейского вопроса, резко обострившегося в период так называемой «народной политики» гр. Н. П. Игнатьева и сохранившего напряженность и при его преемнике на посту министра внутренних дел гр. Д. А. Толстом. Сатирическому обличению «народной политики» посвящены многие страницы в «Письмах к тетеньке» (см. т. 14 наст. изд.). В «Июльском веянии» Салтыков продолжает критику этой реакционно-демагогической и националистической политики применительно к «еврейскому вопросу». Но предметом внимания писателя являются здесь не правительственные мероприятия как таковые. В еврейском вопросе они отличались определенной двойственностью. Изданные в мае 1882 года «Временные правила о евреях», с одной стороны, вводили ряд мер чрезвычайно стеснительных для еврейского населения, а с другой стороны, ставили своей целью не допускать антиеврейских беспорядков. Последнее объяснялось, однако, не просвещенно-гуманной позицией власти, но паническою боязнью всяких активных движений народных масс, «толпы», хотя бы и возникавших на архиреакционной расово-шовинистической почве. При обсуждении «Временных правил…» в Комитете министров, его председатель М. Х. Рейтерн с полной откровенностью указал на эту подоплеку: «Сегодня, — сказал он, — травят и грабят евреев. Завтра перейдут к так называемым кулакам <…> потом
1 Существует не поддающееся проверке мемуарное свидетельство об одном обстоятельстве, послужившем будто бы непосредственным толчком для написания «Июльского веяния». В заметке «Черты из жизни М. Е. Салтыкова» анонимный автор (А. И. Эртель?) вспоминает: «И. Н. Сорокин, полуписатель, полуподрядчик из евреев, рассказывал мне в 80-х годах о посещении им в погромную эпоху Салтыкова, которого он просил заступиться за его гонимых бывших единоверцев. Салтыков обрушился на Сорокина с криком:
«Ступайте к Каткову, которому ваш Поляков подарил дом для Лицея, а меня оставьте в покое!..»
И оба собеседника пришли в такое возбужденное состояние, что схватились за спинки стульев. Сорокин выскочил как ошарашенный. Салтыков… написал немедленно свою знаменитую сатиру в защиту евреев…». может очередь дойти до купцов и помещиков. Одним словом, при бездействии властей, возможно ожидать в недалеком будущем развития самого ужасного социализма».[105]
Указав в общей форме на неспособность «народной политики» «покончить» с еврейским вопросом («улетели народные политики, а евреи остались <…> вместе с тем остался нетронутым и еврейский вопрос»), Салтыков переходит к существу поставленной им перед собой более обширной и глубокой задачи. В условиях подъема антисемитских настроений — одном из спутников общественной и политической реакции 80-х годов — писатель решил возвысить свой голос, чтобы привлечь силы добра и разума к еврейскому вопросу, о котором сказал: «История никогда не начертывала на своих страницах вопроса более тяжелого, более чуждого человечности, более мучительного…»
Подход Салтыкова к вопросу о евреях и еврействе исполнен, с одной стороны, исторического идеализма и просветительского этизма, а с другой — демократизма и социального анализа.
«Главное место» в ряду тех «запутанностей», которые определяют ненормальное положение еврейского вопроса, Салтыков отводит «преданию», о котором пишет, что хотя оно давно уже утратило смысл, но и доселе сохраняет «свою живость». Речь идет, разумеется, о евангельском «предании», хотя оно и не названо. Согласно повествованию евангелистов, Иисус Христос был казнен на кресте по воле иудейских первосвященников и воинов, потребовавших от прокуратора Рима, Пилата понтийского, не хотевшего смерти Иисуса: «Распни, распни его!..» — и клятвенно заявивших при этом от имени всего народа еврейского: «Кровь его на нас и на детях наших!..»
С поразительной смелостью Салтыков пишет об этом повествовании, принадлежащем главнейшей из «священных» книг христианской религии: «Нет ничего бесчеловечнее и безумнее предания, выходящего из темных ущелий далекого прошлого и с жестокостью, доходящей до идиотского самодовольства, из века в век переносящего клеймо позора, отчуждения и ненависти на все еврейское племя».
Объяснение происхождения антисемитизма ранне-христианским мифом и религиозным фанатизмом не научно. Оно грешит историческим идеализмом; оно узко и недостаточно. Но обличительная критика «предания» в выступлении Салтыкова не была ни беспредметной, ни несвоевременной. Враждебная по отношению к евреям эксплуатация евангельской легенды в самом деле служила на протяжении веков действенным оружием в агитационно-идеологическом арсенале антисемитизма. Оружием этим широко пользовалась реакция и в царской России. Сам глава самодержавной власти император Александр III написал однажды на ходатайстве об улучшении положения евреев: «Если судьба их печальна, то она предначертана Евангелием».[106] Эта же мысль, вольно или невольно, внушалась с детских лет массам верующих христиан домашним, школьным и церковным чтением Евангелия.
Среди причин, содействующих сохранению «незыблемости предания», Салтыков подчеркивает две. Первая — «несознанные капризы расового темперамента», то есть те или иные проявления еврейского племенного типа и характера. К этому ниже добавлено указание на необычность для русского человека «образа жизни еврея», «внешней его складки», «манеры говорить, ходить, одеваться» — то есть указания на все то, что сформировалось и поддерживалось в еврейском народном быте традицией и изолированным существованием еврейских масс в условиях гетто и местечек, в специфической обстановке черты оседлости и власти раввината. Вторая причина — «совершенно произвольное представление о еврейском типе на основании образцов, взятых не в трудящихся массах еврейского племени, а в сферах более или менее досужих и эксплуатирующих». Разъясняя эту причину, Салтыков один из первых — если не первый — в русской литературе, применяет социальный подход к еврейскому вопросу.
Салтыков отвергает «сплошной» взгляд на еврейскую среду и ее отдельных представителей. Как и в любой другой общественной среде, в ней действуют законы социального расслоения. Есть еврейская буржуазия (во всех ее модификациях — от местечковых арендаторов и шинкарей до космополитических банкиров-миллионеров), и есть еврейские трудящиеся. Салтыков ставит рядом с ранее созданными им фигурами отечественных кулаков-мироедов Деруновым, Колупаевым и Разуваевым их еврейских собратий. И те и другие осуществляют беспощадную эксплуатацию людей нужды и социальной придавленности. Деяния Разуваева-русского и Разуваева-еврея — «одинаково омерзительны». «Кому же, однако, приходило в голову, — спрашивает Салтыков, — указывать на Разуваева как на определяющий тип русского человека?» И продолжает, — формулируя главный обличительный тезис статьи: «А Разуваева-еврея непременно навяжут всему еврейскому племени и будут при этом на все племя кричать: ату!»
Отослав в цензуру августовскую книжку с «Июльским веянием», Салтыков писал Белоголовому: «Трудно было отделить еврейский вопрос от вопроса о Поляковых, Заках и Варшавских, но, кажется, успел» (письмо от 11 августа 1882 г.). Действительно, внеся в еврейский вопрос критерии различия между евреями-эксплуататорами и евреями эксплуатируемыми, взглянув на него с точки зрения социального этизма демократа-просветителя — с точки зрения «справедливости, сознания братства и любви», — Салтыков «успел» во многом правильно осветить этот вопрос. Но внести полную ясность в проблему с позиций своего просветительского мировоззрения Салтыков не мог. И на вопрос, почему же, однако, «мы с такой легкостью отождествляем» еврея-хищника, представителя «концессионерских безобразий и проделок», с рядовым членом еврейской массы, с евреем трудящимся, писатель дает лишь предположительный и неясный ответ.
Но в конкретной обстановке того исторического момента важны были не столько научная четкость и полнота отдельных формулировок, направленных против антисемитского угара реакции, сколько общее направление и дух выступления писателя-демократа. Исполненное гневного обличения «еврейской травли» и глубины понимания «неистовства» трагедии, тяготеющей над «замученным еврейством» социальных низов, «Июльское веяние» явилось первым в русской литературе отпором такой общественной силы против преследования евреев. За ним, на более поздних этапах, последовали выступления Л. Толстого, Короленко, Горького и др.
«Июльское веяние» вызвало озлобленное негодование со стороны всех органов реакционно-националистической печати. Они обвиняли Салтыкова в «тенденциозном заигрывании с еврейским вопросом», в «набивании себе либеральной цены», в «кощунственном отношении к святому Евангелию», в «глумлении над собственным народом» и т. д. и т. п. (статьи в «Новом времени», «Гражданине», «Киевлянине» и др.). Напротив того, в демократических кругах статья была расценена как одно из наиболее выдающихся публицистических выступлений писателя. Находившийся в ту пору в Швейцарии Г. З. Елисеев, где он общался с тамошними русскими революционными эмигрантами, писал Салтыкову по прочтении августовской книжки «Отеч. записок»: «Перл ее составляет, конечно, «Июльское веяние», которое здесь, как и везде, производит общий восторг. «Рассвет» хотя и витиевато, но очень метко выразил значение этой статьи для России.[107] Такое резюмирующее, веское, авторитетное слово было необходимо сказать по вопросу, который мутит не только Россию и Европу и наделал столько бед. Было бы очень хорошо, если бы время от времени, оставляя эзоповский язык, Вы так прямо и авторитетно высказывались и по другим проклятым вопросам, подписываясь под статьями своим полным именем. Да, Ваше имя теперь настолько авторитетно в России, что не только имеете право, но и должны говорить, как власть имеющий».[108]
«Июльское веяние» было перепечатано (вторая половина статьи) или процитировано во многих еврейских периодических изданиях, русских и зарубежных, а также издано отдельной брошюркой.[109] На похоронах Салтыкова на его могилу был возложен «венок из терниев», с надписью: «От благодарных евреев».
Стр. 229…дернуло околоточного на Петербургской стороне две души загубить! — Убийство околоточным надзирателем Ивановым купца Низовцева и его служительницы было совершено с целью ограбления. Сообщения об этом сенсационном убийстве во множестве печатались в петербургских газетах начиная с 21 июня 1882 г.
…устроился на даче под Петербургом, — Лето 1882 г. Салтыков с семьей жил на даче в Ораниенбауме.
Катков с Аксаковым в Москву зовут, Булюбаш — в Полтаву… — Сатирические стрелы по адресу представителей великорусского и украинского национализма.
Стр. 230. Довольно поболтали. Налгали с три короба… — Одна из салтыковских оценок демагогического фразерства и лжи эры «народной политики», главным деятелем которой был министр внутренних дел гр. Н. П. Игнатьев. Подробнее см. в «Письмах к тетеньке», особенно в «Письме втором», тему которого Салтыков определил словами: «О лгунах и лганье» (ср. также в письме к Белоголовому от 19 июля 1882 г. слова об «игнатьевской болтовне»).
…мажорные тоны… сменяются минорными, а минорные — мольными… — По-видимому, ошибка: лат. слово moll (мягкий) — другое наименование минорного же лада.
…прекрасные незнакомцы — представители полицейской власти.
Стр. 232…при «правовом порядке» (псевдоним). — Здесь и ниже эзоповские иносказания основываются на приеме иронического переосмысления политических терминов в значении, противоположном их реальному содержанию. Так, «правовой порядок» означает — бесправие, «реформа» — сохранение в неприкосновенности социального статус-кво и т. п.
Ведь справляются же с литературой. Не писать о соборах, ни об Успенском, ни об Архангельском, ни об Исаакиевском — и не пишут. Вот о колокольнях (псевдоним) писать — это можно, но я и об колокольнях писать не желаю. — Отклик на цензурную политику властей, запрещавших писать о конституционном строе (собор — земский собор) и поощрявших пропаганду строя самодержавного (колокольня — столп, как опора чего-либо, в данном случае царизма).
Стр. 234…«жизнь духа»… «дух жизни»… «оздоровление корней»… — фразеологизмы славянофильской и националистической литературы, поэзии (А. Хомяков) и публицистики (И. Аксаков и др.).
И «ключей» требовала, и Босфору грозила… и на кратчайший путь в Индию указывала… — Перечисляются декларации и акты внешней политики России конца 70-х — начала 80-х годов, направленных на борьбу с английским влиянием в Турции и проливах, с одной стороны, и в Средней Азии — с другой. О «ключах» — от Храма Рождества Христова в Вифлееме и от Храма гроба господня в Иерусалиме — см. в наст. изд. т. 11, стр. 616–617 и т. 14, стр. 578. См. в т. 14 примеч. к гл. IV «За рубежом».
…помните ли Вы сказку о «Диком помещике»? — Эта «сказка» Салтыкова была напечатана в «Отеч. записках», 1869 г., № 3 (см. ее в т. 16, кн. первая).
…улетели народные политики… — Имеется в виду увольнение с поста министра внутренних дел сначала М. Т. Лорис-Меликова, а потом гр. Н. П. Игнатьева, главных деятелей эры «народной политики», и назначение на этот пост в мае 1882 г. последовательного идеолога и проводника реакции гр. Д. А. Толстого.
Стр. 236…стигматизированный. — Стигмой или стигматом называли в древней Греции клеймо, которое выжигалось на теле раба или преступника.
…называют их «татями». — то есть ворами, грабителями (церк. — слав.).
Стр. 239…Оржешко «Могучий Самсон». — Оценка в «Июльском веянии» этого рассказа польской писательницы вызвала ее на благодарственное обращение к автору. В письме из Гродно от 31 октября 1882 г. она писала Салтыкову: «…Вы изволили напечатать в уважаемом и прекрасном Вашем журнале («Отечеств, зап.») некоторые из моих повестушек в переводе на русский язык.[110] Я уже давно собиралась поблагодарить Вас за это. Теперь я прочла в Вашей статье «Июльское веяние» об одной из них несколько столь лестных для меня слов, что дальше откладывать осуществление моего намерения не могу и шлю Вам сердечное спасибо. Похвала такого писателя и мыслителя, как Вы, внушает человеку доверие к собственным силам, вместе с тем укрепляет их… Кроме того, меня несказанно обрадовало единомыслие наше во взглядах на несчастный еврейский вопрос. Хотя я почти уверена, что Вы по-польски не читаете, но тем не менее я осмеливаюсь доставить Вам мою брошюру по этому вопросу[111]… Пусть она иногда напоминает Вам искреннюю почитательницу Вашего таланта. Мы все, впрочем, Вас хорошо здесь знаем и, восторгаясь блестящими достоинствами Ваших трудов, относимся с величайшим уважением к возвышенным и глубоким мыслям, которые Вы в них высказываете».[112]
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Впервые — 03, 1884, № 2, отд. II, стр. 255–264 (вып. в свет 18 февраля). Под заглавием «Между делом» и за подписью «Dixi».
В Изд. 1884 текст перепечатан с незначительной стилистической правкой.
После первого марта 1881 года революционное движение «шло на убыль и падало».[113] За 1881–1883 гг. правительству удалось расправиться с основным ядром своих главных политических противников — народовольцев. Переломным оказался именно 1883 год, когда, благодаря крупнейшей провокации, учиненной Г. П. Судейкиным с помощью предателя Сергея Дегаева, «погибла под ударами царизма… старая «Народная воля».[114] Широкий либеральный фронт в панике отступал перед силами укрепившейся реакции.
Идейные «итоги» этого года и подводятся в настоящем очерке Салтыкова. Всей системой развитых в нем положений он перекликается с «Пошехонскими рассказами» (вечер пятый, «Пошехонское «дело»). В очерке сатирически запечатлен основной «тон общественного мнения» этой поры — «тон» отступничества, отказа от высоких революционных целей («витания в эмпиреях») и даже от скромных либеральных надежд («легкомысленных» «возгласов»).
Передовые идейные стремления, ошельмованные в качестве бесплодных «эмпирейных витаний», дворянско-монархическая реакция попыталась заменить демагогическим лозунгом «дела». У Салтыкова он иронически сформулирован так: «чтобы спастись, нужно не «чужое», не «иностранное», а «свое собственное», и притом «настоящее», дело найти». Салтыков сатирически использовал здесь систему политических эвфемизмов, которые широко применяла охранительная публицистика. Под «чужим», «иностранным» делом она подразумевала не только революционные действия, но и буржуазно-демократические, конституционные намерения русских либералов. Страницы «Моск. ведомостей» пестрели такими, например, «обобщениями»: «…под влиянием чужих доктрин померещилось, будто движение реформ ведет у нас к ограничению верховной власти, олицетворяемой монархом»,[115] «наши газетные преобразователи являются сущими иностранцами <…> они смотрят на нашу родную действительность сквозь вопросы, возбужденные западною жизнью».[116]
Но то, что адепты реакции считают «своим собственным», «настоящим» делом, есть, как доказывает Салтыков целой серией выразительных сатирических эпизодов, либо полицейское доносительство, либо обывательская суета, либо хищнический стяжательский ажиотаж. Истинная подоплека толков о «деле», — доказывает Салтыков, — реставраторские крепостнические вожделения («Вот кабы вход в крепостное право каким-нибудь чудом опять открылся…»), осуществление которых способно только обессмыслить жизнь, лишить ее исторических перспектив.
Серьезность салтыковского общественного «диагноза» была с раздражением встречена некоторыми рецензентами: «Публицисты «Отечественных записок» констатируют следующий факт: нельзя не видеть и не чувствовать, как пресекся теперь живой нерв русской публицистики, — пишет корреспондент «Новороссийского телеграфа», — общественные дела занимают ее гораздо меньше, и она видит себя лишенною прежнего значения…», но «во всяком случае, нет никаких резонов кричать: караул… Зачем же унывать и на других тоску наводить?»[117]
Стр. 240…кроме литературы, которой прошлый год принес одни утраты. — Салтыков имеет в виду репрессии против передовой журналистики (22 января 1883 г. было объявлено второе предостережение «Отеч. запискам», предопределившее участь журнала), последовавшую 22 августа (3 сент.) того же года смерть Тургенева, на которую сатирик откликнулся некрологом (ОЗ, 1883, № 9).
…недавний юбилей российской академии… — В октябре 1883 г. отмечалось столетие императорской Российской академии, которая была учреждена при Екатерине II отдельно от Академии наук для разработки русского языка и словесности (в 1841 г. присоединена к Академии наук как одно из отделений).
«Sursum corda!» — «Горе имеем сердца», то есть — возвысьте сердца (лат.), библейское выражение («Плач Иеремии», III, 41).
Стр. 241…литургию верных пропой… — Литургия верных — третья часть главнейшего богослужения христианской церкви, на которой могли присутствовать только верующие и не допускались «оглашенные» (готовящиеся к крещению).
…поездка вокруг света на сдаточных. — «Ехать на сдаточных — на переменных лошадях, не на почтовых, а с передачей от ямщика к ямщику» (В. И. Даль. Толковый словарь…, т. IV, стр. 166).
…с толком, с чувством, с расстановкой. — Цитата из монолога Фамусова («Горе от ума» Грибоедова, действ. II).
…в кереметь убежит. — Кереметь — «чувашская, черемисская или вотяцкая божница, капище» (В. И. Даль. Толковый словарь…, т. II, стр. 105). Хорошим знанием быта вотяков Салтыков обязан своей ссылке в Вятку и многолетней службе там.
…в <…> богом хранимой хижине. — Вольно процитированная строка песни Марии из юношеской мелодрамы Некрасова «Материнское благословение, или Бедность и честь» (1842).
Стр. 243…к говору трактирных завсегдатаев прислушивался (vox роpuli)—«Послушать, что говорят» о различных политических событиях «прислуга в домах, лавочники в своих подвалах, извозчики па улицах», всерьез призывали «Моск. ведомости» (1878, 6 апреля, № 89), выдавая эти толки за голос «простого народа» (vox populi — усеченный латинский афоризм — vox populi, vox Dei: глас народа — глас божий; латинские цитаты служили непременным стилистическим украшением передовиц Каткова).
…с сведущими людьми совещался… — См. примечания в т. 14, стр. 628 и в 1 кн. 15 т., стр. 370.
…на смену славянофилам, появились какие-то выморочные бонапартисты, которые могут только в трубы трубить… — Об отношении Салтыкова к славянофильской доктрине — см. в т. 5, стр. 536–539, 565. В 1880-е гг. славянофильскую фразеологию («исконные русские начала», «народный дух», «здравый народный смысл») взяла на идейное вооружение придворно-монархическая верхушка, пытавшаяся террористическими методами искоренить революционность в России («выморочные бонапартисты»).
…проекты умственного и нравственного оздоровления… — Термин «оздоровление» попал в публицистический словарь 80-х годов из последнего выпуска «Дневника писателя» Достоевского (1881 г., январь): III часть главы первой в нем называлась: «Забыть текущее ради оздоровления корней. По неуменью впадаю в нечто духовное». В расшифровке послепервомартовской реакции «оздоровление» означало совершенно иное — усиление борьбы с революционной идеологией.
…извещения пишет — политические доносы.
Стр. 245…доктор Кене, глава физиократов <…> говаривал: «дама, которая покупает шаль, подает милостыню бедняку». — Ф. Кене в «Экономической таблице» (1758), которую далее отчасти пародирует Салтыков, стремился проследить обращение продукта национального производства между различными классами общества: «класс землевладельцев», покупая у «класса бесплодных» (рабочих, фабрикантов, торговцев) промышленные товары, позволяет последнему на вырученные деньги купить продукты питания у «класса фермеров». Кене и его экономические построения (несостоятельность которых была очевидной в 1880-е гг.) Салтыков мог вспомнить по невольной аналогии: экономика России испытывала большие трудности, как это было и во Франции перед революцией 1789 г.; разоренное крестьянство было не в состоянии с полученных в 1861 г. наделов погасить выкупные платежи, росла огромная недоимка, предпринимавшиеся паллиативные экономические меры не облегчали положения.
Стр. 246…это она… ценность кредитного рубля поднимает… — Расходы в связи с русско-турецкой войной 1877–1878 гг. вызвали экстренные выпуски кредитных билетов. Широкую агитацию в пользу чрезвычайного выпуска бумажных денег тогда же развернул Катков (МВ, 1879, 2 июня, № 138), но курс кредитного рубля неуклонно падал и к концу 1882 г. составлял 62 коп. (см.: С. Н. Кривенко. По поводу внутренних вопросов. — ОЗ, 1882, № 9, стр. 144).
…когда адвокатское сословие впервые выступило на арену общественного служения, я был очень этим обрадован. — Институт адвокатуры был введен судебными уставами 20 ноября 1864 г.; кроме корпуса присяжных поверенных, включал также частных поверенных. Это означало несомненный прогресс в отечественном судоустройстве. Правительство в ходе подготовки реформ «вплоть до отмены крепостного права отрицательно относилось к идее учреждения в России адвокатуры по западноевропейскому образцу» (Б. В. Виленский. Судебная реформа и контрреформа в России, Саратов, 1969, стр. 177).
Стр. 248…в «Московских ведомостях» и тогда уже писали, что они основы потрясают… — Газета Каткова относила адвокатуру к «недостаткам, вкравшимся в административный механизм» (MB, 1878, 2 мая, № 110).
…обстоятельства такие пристигли, что не до адвокатов было… — Намек на обострившуюся с 1879 г. борьбу «Народной воли» с царским правительством (политические покушения на деятелей государственного аппарата и на самого Александра II, завершившиеся его убийством 1 марта 1881 г.).
Стр. 249…дело о травле городских обывателей в пользу общества водопроводов. — 20 марта 1884 г. в СПб. окружном суде рассматривалось дело «Общества петербургских водопроводов» с городской управой, которая дважды штрафовала общество за подачу грязной воды; поверенный общества П. А. Потехин доказывал несостоятельность претензий управы, так как в контракте отсутствовал пункт, предусматривающий мероприятия по очистке воды (СПб. вед., 1884, 21–25 марта, № 80–84).
…я об той части литературы говорю, деятели которой называются «разбойниками печати» и «мошенниками пера»… — См. тт. 12 и 14 наст. изд., стр. 604 и 718
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Впервые— ОЗ, 1884, № 3, отд. II, стр. 113–126 (вып. в свет 16–18 марта). Под заглавием «Между делом» и за подписью «Dixi».
В Изд. 1884 статья перепечатана с незначительной стилистической правкой и изъятием двух заключительных абзацев — «воззвания» о денежной помощи «бедствующему» Литературному фонду (этот вариант текста ОЗ приводится ниже в комментариях).
В статье продолжается разработка темы (одной из постоянных у Салтыкова), начатой в предыдущем фельетоне: обличение бездуховной обыденности и низменного своекорыстия «дел», лишенных общественного идеала. Демонстрируется несколько обосновывающих это обличение примеров, которые взяты из бытовой повседневности текущих дней. Но приводимый хроникальный материал образует лишь внешний «предметный» слой сатирико-публицистического повествования. Суть же его — в тех размышлениях, которыми писатель сопровождает свою демонстрацию социально-отрицательного материала. Так, сообщение о полученном по почте «объявлении», листовке-монстр, рекламирующей изуверское изобретение неким Кунцем «гигиенических кушеток» для «наилучшего сечения» школьников, вызывает Салтыкова, с одной стороны, на гневно-карающее осуждение «изобретателя» («каторги… ему… мало»), а с другой стороны, на исполненное своеобразного лиризма признание национально-патриотического характера («я все-таки очень рад, что кушетки эти изобрел Кунц, а не Иванов» и т. д.). Вместе с тем «достижение» современности в усовершенствовании применения розги в педагогике пробуждают у писателя воспоминания о годах своего школьного детства. Из-под его пера выходят страницы мемуарной прозы — источник уникальный для соответствующего периода биографии писателя. Наряду с этим обогащаются интересными мыслями и обобщениями автора и другие злободневные элементы фельетона (см. рассуждения по поводу «постов», петербургских «раутов» и «вечеринок», с модными в тот сезон «спиритическими сеансами», и заключительного эпизода с чествованием немецкого писателя Ф. Шпильгагена). В той же 3-ей книжке ОЗ за 1884 год, в которой появилась комментируемая статья Салтыкова, был напечатай очередной очерк из цикла Гл. Успенского «Волей-неволей». Делясь впечатлениями от этих двух выступлений, В. С. Серова (жена композитора и сама композитор, музыкальный критик и общественный деятель) писала М. Я. Симонович-Львовой: «Все, что есть мучительного в наше время, все это вылилось у Успенского из-под пера… Щедринская статья, под псевдонимом «Dixi», просто ужаснейшие страницы нашей жизни. Статья состоит в простом объявлении («Кушетки»). Я не в силах отделаться от впечатлений, полученных от этих двух статей».[118]
Стр. 253. Публичное воспитание я начал в Москве, в специально-дворянском заведении… — Далее, до конца подглавки, Салтыков вспоминает в своем пребывании в Московском дворянском институте, куда был зачислен «пансионером» в 1836 г. и откуда в 1838 г. переведен в Царскосельский лицей. Биографический комментарий устанавливает достоверность как общей картины, так и деталей, сохраненных памятью писателя. Директор «заведения», «старый моряк», обозначенный инициалами С. Я. У. — капитан-лейтенант флота в отставке С. Я. Унковскнй, «сменивший его добрый человек, но не самостоятельный» — И. Ф. Краузе, «изобретатель субботников» сечения — инспектор В. К. Ржевский, производители «экзекуций» над воспитанниками — урядники в отставке, Кочурин и Купцов, упомянутые под этими собственными их фамилиями, и т. д. (подробнее см.: Макашин, 1, стр. 96—118).
…«питомцы славы». — Из стихотворения И. И. Дмитриева «Москва».
Стр. 255. Кола — река в уездном городе Архангельской губ.
Судиславль — заштатный город Костромской губ.
Стр. 256. Чистый понедельник — первый день (понедельник) Великого поста.
Теперь смута устранена. — Ироническое указание на политику реакции 80-х годов.
Ты прав, Платон, ты прав! наш дух не умирает! Сам бог, живущий в нас, в сей правде уверяет! — Этими словами начинается монолог Катона в последнем акте одноименной политической трагедии Д. Аддисона «Катон».
Стр. 257. Suum quique — одно из часто употреблявшихся Салтыковым латинских выражений, восходящих к трактату Цицерона «Об обязанностях» (I, 5, 14).
«Московские куранты»… без передовой диффамации. — См. примеч. к стр. 130.
Стр. 259. Кротиков и Козелков — образы пореформенных «молодых бюрократов» в салтыковской сатире 60-х годов («Помпадуры и помпадурши» и др.).
Стр. 260. Монтеспанша, Ментенонша, Помпадурша… — Переложенные на русское просторечие имена исторических куртизанок — фаворитки Людовика XIV маркизы де Монтеспан, фаворитки (потом жены) того же короля маркизы Ментенон, фаворитки Людовика XV маркизы де Помпадур.
Стр. 262. Леонтий Васильевич — Л. В. Дубельт, руководитель политической полиции при Николае I. Его главнейший осведомитель о литературе и литераторах Булгарин во время наполеоновских войн 1805–1807 гг. служил офицером в одном из русских полков, которым командовал Дубельт («отец-командир»), а в 1810 г. перешел в польские войска, организованные французами, и участвовал в походе 1812 г. на Россию («ренегат»). В 1814 г. Булгарин был взят в плен, амнистирован и остался в России. Его имя стало синонимом продажного литератора и политического доносчика («душа Булгарина улетает… а в комнате распространяется легкий смрад»).
Бак-Нин — город в Тонкине (теперешнем Северном Вьетнаме), при устье Красной реки; приобрел известность в 1883–1884 гг. вследствие ожесточенных боев за него французских колониальных войск.
Шпильгагена чествуют, а вот про то, что в Петербурге существует Общество для пособия русским литераторам и ученым… никто знать не хочет. — Салтыков высоко ценил Фр. Шпильгагена, автора романов «Из мрака к свету» (1861–1862), «Один в поле не воин» (1866) и др., ставил его в один ряд с «Диккенсами» и «Жорж Зандами» и писал о нем в статье «Уличная философия» (1864): «мы считаем его талантливейшим из современных беллетристов, дающим роману совершенно новое содержание» (т. 9, стр. 74). Но Салтыков резко отрицательно отнесся к той помпезности, с которой либеральные литературные круги обставили приезд Шпильгагена в Петербург на премьеру своей драмы «Gerettet». В связи с этим был образован комитет для чествования (под председательством Краевского), который решил встретить немецкого писателя хлебом-солью, преподнести ему золотой венок, устроить по подписке обед петербургских литераторов и вечер от Литературного фонда. По инициативе Стасюлевича участие в чествовании Шпильгагена приняла и Петербургская Городская дума. Городской голова, капиталист-книгоиздатель и книгопродавец И. И. Глазунов и член Управы нанесли немецкому гостю визит. Все эти помпезные и дорогостоящие манифестации, выдававшиеся за оппозицию правительству, вызвали тем большее недовольство у Салтыкова, что наложились на горестное впечатление от юбилейного, по случаю 25-летия существования Литературного фонда, заседания его Комитета (2 февраля 1884 г.). На заседании говорилось о трудном и шатком материальном положении этой организации, в деятельности которой Салтыков принимал живейшее участие. Обращенное же к Шпильгагену приглашение «читать» в пользу Литературного фонда Салтыков счел недопустимым для чести русских литераторов «попрошайничеством».
В журнальной редакции реплика о чествовании Шпильгагена завершалась призывом жертвовать деньги на поддержание Литературного фонда. После абзаца на стр. 110: «Право, лучше бросить…» — следовал заключительный текст:
«Кстати, вот и адрес председателя комитета Общества нуждающимся литераторам и ученым: Виктор Павлович Гаевский, Литейная, 42. От Думы это не особенно далеко. Стало быть, стоит только, по окончании думского заседания, съездить на Литейную и внести по усердию. Кто внесет пятьсот рублей — поступит хорошо; кто внесет тысячу рублей — поступит еще лучше. А с г. Глазуновым, который кое-что об «книжке» слыхал и знает, чем она пахнет, нельзя помириться дешевле, нежели на миллионе ста тысячах рублях.
В будущем месяце я сообщу читателям о плодах этого воззвания, но уже и теперь довольно отчетливо представляю себе, какие это будут плоды!»
Но на следующей книжке «Отеч. записок» журнал был прекращен правительством, и Салтыков не мог выполнить обещания сообщить читателям «о плодах» своего обращения. Однако оно было дважды перепечатано Сувориным в «Новом времени» (18 и 19 марта) и в третий раз процитировано с сочувственными комментариями в его очередном фельетоне серии «Письма к другу» (подпись: Незнакомец). Это обстоятельство, равно как и сама позиция Салтыкова, вызвали возражения со стороны М. М. Стасюлевича и Г. З. Елисеева. См. в наст. изд. ответные письма им Салтыкова от 19 марта и 1 апреля 1884 г. и соответствующий комментарий к ним.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Впервые — ОЗ, 1884, № 4, отд. II, стр. 277–292 (вып. в свет после 5 мая). Под заглавием «Между делом» и за подписью «Dixi».
В Изд. 1884 текст перепечатан с небольшой стилистической правкой.
В утверждении послепервомартовской реакции важная роль принадлежала охранительной печати, которая порою шла впереди событий, побуждая власть к расправам с «крамольниками», указывая на «сочувствующих», разжигая обывательский страх перед революцией. Салтыков, как доказывают его письма 1881–1884 гг., весьма серьезно относился к общественной опасности, которую представляла эта подстрекательская деятельность. Н. К. Михайловский вспоминал: «Щедрин не любил <…> в особенности того фальшивого <…> течения, которое как бы захватило в свои руки монополию патриотизма. Этому ненавистному для Щедрина течению часто от него доставалось, его мощное слово не раз посрамляло его представителей».[119]
В ряду этих выступлений настоящая статья примечательна тем, что здесь писатель вышел против реакционной прессы с открытым забралом, не прибегая к иносказаниям, опираясь на свой «грозный авторитет» (С. Н. Южаков), литературный, общественный и моральный. Статья является как бы публицистическим резюме и комментарием к системе сатирических образов, посвященных охранительной печати в «Современной идиллии», «Письмах к тетеньке», «Пошехонских рассказах».
В статье явно обнаруживается ближайший объект сатирической критики — «первое перо» консервативного лагеря, издатель «Моск. ведомостей» и «Рус. вестника» М. Н. Катков. В реакционном стане он занимал особое место по силе своего влияния на правительство, громадному авторитету в высших бюрократических кругах.[120] В феврале 1884 года он сам в письме к Александру III удовлетворенно заявил: «Моя газета была не просто газетой, а <…> органом государственной деятельности. В ней не просто отражались дела, в ней многие дела делались».[121] О том, что Катков «торжествует официально», в 1881–1884 гг. Салтыков не раз писал своим многочисленным корреспондентам. Но дело было не только в этом. Катков имел также веское литературное имя в достаточно широком читательском кругу и при жизни получал такие аттестации: «Кого можно счесть по силе, по дару и влиянию на поприще политической словесности — чем-то равносильным Пушкину на поприще словесности изящной? Конечно, Каткова! Конечно, всякий, даже и ненавидящий его лично человек, должен повторить <…>: «он — личный враг мне, или я ему враг, но он первый и величайший русский публицист!»[122]
В то же время, оттолкнувшись от конкретного «прототипа», Салтыков, как всегда, ведет речь не только о нем, но имеет в виду идейные тенденции всех «консерваторов-публицистов», «проделки», свойственные «охранительной публицистике» как направлению. Развенчание ее было актуальнейшей задачей в эпоху уже начавшихся «контрреформ», когда дворянско-монархические силы стремились, насколько возможно, аннулировать буржуазно-демократические преобразования, вырванные революционным натиском 60-х годов, и повернуть страну вспять.
Писатель подверг последовательному критическому анализу созданную охранительной пропагандой реакционную утопию «исконных русских начал», согласно которой «призрак так называемой политической свободы»,[123] «ненародные стремления» к революционному переустройству действительности являются «несомненным исчадием <…> интеллигенции»,[124] внушены «нашей паршивой журналистикой», как охарактеризовал передовую печать Александр II.[125] Этой «умственной и нравственной смуте» демагогически противопоставлялся «здравый народный смысл» — формула, возводившая в апофеоз православно-монархические, консервативные черты крестьянского сознания.
В основании этой реакционной утопии лежали надежды на возрождение крепостничества («если б крепостное право опять народилось»); именно поэтому созданный ею «образ народа» оказался весьма противоречив. Привлекая материалы, опубликованные главным образом в «Моск. ведомостях» в первые месяцы 1884 года, Салтыков доказал, что с «идиллическим» обликом «благомысленного мужичка» — охранителя, врага революционных «подвохов», который рисовали катковские передовицы, находились в кричащем контрасте напечатанные здесь же рядом в виде различных «писем» и «откликов с мест» доносительского толка протесты крупных землевладельцев против деревенской «вольницы», будто бы созданной отменой крепостного права: «Проживать в деревне в настоящее время стало весьма тягостно, особенно землевладельцам. Имея в соседстве меньшую братию, которая теперь перестала считать что-либо для себя невозможным, землевладельцу каждый день приходится переносить неприятности».[126]
Другой «генеральной» темой реакционной печати были созданные судебной реформой 1864 года новые судебные учреждения. Эта реформа оказалась наиболее последовательно осуществленной. Поэтому новые формы судопроизводства: гласный и состязательный процесс с участием присяжных заседателей, независимость суда от администрации, несменяемость судей быстро вызвали «бурю, в которой первую скрипку со свойственным ему вредным талантом начал играть Катков».[127]
Салтыков сам критиковал, но с принципиально иных позиций, несовершенство этого института — буржуазного по своей природе, стоящего на страже общества собственников (см. статьи 3, 5 и примеч. к ним). Но здесь он взял под защиту «новый суд» как учреждение буржуазно-демократическое («выразитель известного уровня общественного и народного самосознания») и безусловно прогрессивное в стране, отягощенной пережитками феодализма. Олицетворяемый этим судом принцип «закона» должен был — хотя бы теоретически — ограничивать произвол самовластия, что верно уловил Катков,[128] имея союзника и единомышленника в издателе «Гражданина» князе В. П. Мещерском.
Эти попытки ограничения Катков и окрестил «расхищением власти». Главной темой передовиц (в январе — апреле 1884 г.) он сделал критику судебных учреждений, доходя в своем охранительном неистовстве до проклятий прокуратуре, адресуя упреки в неблагонадежности Сенату. Внешним поводом для этих нападок послужило дело волчанского исправника П. Х. Зографа, в феврале 1883 года осужденного харьковской судебной палатой за превышение власти, которого «Моск. ведомости» взяли под защиту. В споры вокруг этого дела включается и Салтыков. Но полемика идет не об оценке данного случая, но об «образе правления» — о принципе неограниченной власти, который защищал Катков: «Монарх в России есть не только глава администрации: он единственный над страной законодатель, и его воля выше всех законов». Салтыков же самый принцип «неограниченной власти» сатирически разоблачал (в «аллегорическом сновидении» об исправнике) как «бесплодную» и неразумную политическую форму.
Вскрывая внутренние противоречия, алогизм «лукавой мысли» ретроградов, сатирик доказывал, что временная победа реакции не отменяет неизбежной задачи — «отыскать для жизни новые, более плодотворные основания». Писатель в этом очерке выразил чувство идейного превосходства, идейной победы над людьми, «которые называют себя охранителями, а в сущности охраняют только прах» — общественный порядок, исчерпавший свое содержание.
Статья заставила критику размышлять о природе обобщений в произведениях Салтыкова и о том, что «многие еще не научились разбирать» его аллегории, что писатель «сделав из фактов действительной жизни глубокое обобщение, вслед за тем придает этому обобщению краски, взятые целиком из единичных фактов, и тем как бы приноравливает общую мысль к единичному случаю».[129]
Стр. 265. Вспомните, читатель, что вопияла охранительная публицистика года три тому назад по адресу так называемой интеллигенции, — Современная печать, наука, суд, вообще «интеллигенция» — «это нарумяненные и замаскированные холопы анархии, потрясения и злодейств», — писал Б. М. Маркевич (Иногородний обыватель. С берегов Невы. — MB, 1880, 21 февраля, № 51). К. Н. Леонтьев к слову «интеллигент» давал примечание: «Прошу благовоспитанного читателя простить «мне это хамское слово. Я его написал с кавычками» («Катков и его враги на празднике Пушкина. — «Варшавский дневник», 1880, 21 июля, № 155).
…дело Зографа, и дело Мельницкого <…> направление железных дорог, и транзит. — О деле Зографа см. вводную заметку, дело Мельницких было связано с хищениями в Московском воспитательном доме — по поводу их Катков вел атаку на новый суд; его газета поддерживала махинации железнодорожного дельца П. Г. фон Дервиза (см. ОЗ, 1875, № 4, «Внутр. обозрение»: «Реклама «Моск. ведом.» о П. Г. фон Дервизе», стр. 310–325); Катков ратовал за уничтожение закавказского транзита для иностранных товаров (см. подробно в примеч. к стр. 143).
Стр. 267…о поровёнке — об уравнении земельных владений помещиков и крестьян.
Стр. 268…они одни секретом «рассказов из народного быта» обладают… — Высшие достижения беллетристической школы «Современника» и «Отеч. записок» (В. Слепцов, Ф. Решетников, Н. Помяловский, Г. Успенский, Н. Успенский, П. Засодимский, А. Левитов, Н. Златовратский) были связаны с народной темой, раскрытием образа «мужика». «Рассказ из народного быта» — обычный подзаголовок в сочинениях названных писателей. Литераторы охранительного лагеря безуспешно пытались конкурировать с ними в этой области.
Так повествует охранитель-корреспондент из нижегородской деревни. — Салтыков сводит воедино ряд выступлений «Моск. ведомостей», в которых идет речь о положении в современной деревне (Из Ельца. — MB, 1884, 4 января, № 4; Из деревни (Нижегородской губернии). — MB, 1884, 13 февраля, № 44; Из Ельца. — MB, 1884, 19 марта, № 78; Со станции Кологривовки Тамбовско-Саратовской жел. дороги. — MB, 1884, 23 марта, № 82).
Стр. 269…купель силоамская — целительная сила, выражение, восходящее к евангельскому сказанию об исцелении недугов (Иоанн, 9, 7, 11).
Стр. 271…не успеет заправский властелин поощрить Ивана Благонамеренного, как самозванец уже тащит его на скамью подсудимых. — Об этом также сетовал Катков: «Когда люди из общества в наивном порыве спешили бывало оказать содействие властям против вражеской пропаганды, им приходилось ведаться с юстицией и видеть себя в положении преступников» (Передовая. — MB, 1884, 2 февраля, № 33).
…уфимско-оренбургское земельное расхищение? — См. примеч. «За рубежом», т. 14, стр. 561–562, и к «Современной идиллии», т. 15, кн. 1, стр. 353.
…«risum teneatis amici?»— цитата из Горация (Ars poëtica, 1–5), часто употреблявшаяся в «Моск. ведомостях».
Стр. 272. Судей так-таки <…> называют «несменяемыми» <…> для присяжных заседателей даже сугубо-уморительную кличку придумали… — Кампания против несменяемости судей вскоре увенчалась успехом: законом 20 мая 1885 г. было создано высшее дисциплинарное присутствие Сената, которое получило право смещения и перевода судей. Функции суда присяжных были ограничены еще в 1878 г., когда из его ведения были изъяты дела по политическим преступлениям; в 80-е годы происходило дальнейшее ограничение компетенции «безобразного института присяжных заседателей» (Передовая. — MB, 1884, 24 января, № 24).
…адвокат Балалайкин — персонаж произведений Салтыкова «В среде умеренности и аккуратности», «Современная идиллия» (см. тт. 12 и 15).
Стр. 273…златоуст-то наш — Катков.
В одной из газет я вычитал, что в одном из «Пошехонских рассказов» изображена «довольно темная аллегория…» — Салтыков «вычитал» приводимый им отзыв в газете «Новое время» от 22 марта / 3 апреля 1884 г. (№ 2897, стр. 2–3). Помещенный в этом номере анонимный обзор «Среди газет и журналов» начинался словами: «В последней книжке «Отеч. записок» «Пошехонские рассказы» г. Щедрина изображают довольно темную аллегорию, в которой, между прочим, действует «газетчик», отыскивающий революционеров для представления по начальству».
Стр. 274…и panis, и circenses — хлеб и зрелища (лат.), от крылатой фразы «Panem et circenses!» — крик толпы в древнем Риме, требующей бесплатной пищи и развлечений.
Стр. 275…ввиду неравномерной растяжимости правила: «audiatur et altéra pars» — «пусть будет выслушана и другая сторона» (лат.). Речь идет о крайнем стеснении демократической и либеральной печати: за 1881–1883 гг. под градом репрессий прекратили свое существование «Молва», «Новая газета», «Порядок», «Страна», «Моск. телеграф», «Голос»; министр внутренних дел Игнатьев писал Победоносцеву, что может представить «список до пятидесяти газет и изданий, мною не разрешенных. Дальше идти нельзя» («К. П. Победоносцев и его корреспонденты», т. I, полутом 1, ГИЗ, 1923, стр. 94).
…аттической соли (ныне, благодаря безакцизности, она дешева) — Аттическая соль—выражение, восходящее к сочинению Марка Тулия Цицерона «Об ораторе», обозначающее утонченное остроумие, здесь упомянуто в связи с колкой язвительностью статей «классициста» Каткова; акциз (косвенный налог) на соль был отменен с 1881 г.
Стр. 276…исправник <…> по-старинному, сказать: городничий… — Исправник осуществлял высшую полицейскую власть в уезде, административная должность городничего была упразднена в 1862 г. при реформе полиции.
Стр. 277…Отсель грозить мы будем шведу… — Строка из поэмы Пушкина «Медный всадник».
…подобно древнему Девкалиону… — Герой греческого мифа, спасшийся от всемирного потопа, возродил человеческий род, бросая через плечо камни, которые превращались в людей.
Стр. 278…sic volo, sic jubeo — так я желаю, так приказываю (лат.) — из VI сатиры Ювенала.
Насилу успевал секретарь думский приговоры о расточении сочинять… — намек на недавние массовые репрессии против участников революционного движения.
…caveant consules! — крылатая латинская фраза: «Пусть консулы будут бдительны» (в полном тексте — с завершением: «чтобы республика не понесла ущерба»).
Стр. 279…вроде древней Ниневии… — столица ассирийского царства, огромный город, прославившийся распущенностью нравов его обитателей; разрушен в результате войны в 612 г. до н. э.
…адвокатское сословие получило неожиданный реприманд… — 13 марта 1884 г. в заседании уголовного кассационного департамента Сената с заключением по делу Мельницких (см. примеч. к стр. 263) выступил обер-прокурор Н. А. Неклюдов, который высказал общие соображения о правах защиты в судебном процессе, «предлагая <…> крупные меры для обуздания речей защиты», ограничение «свободы слова» адвоката (В. Д. Спасович. Дело Мельницких. Соч., т. VII. СПб., 1894, стр. 61).
…они — распинают закон… — Неклюдов заявил: «в настоящее время на суде нередко случается видеть печальное явление <…> состоящее <…> в стремлении безнравственное выставить нравственным, преступление не преступлением, искажая при этом законы религии, нравственности и законы государственные <…> стремление <…> распять и свидетелей, и потерпевших, обвинительную власть, даже самый закон» (МВ, 1884, 28 марта, № 87).
Стр. 280. Адвокаты возражали г. Неклюдову печатно. — Протест, подписанный Д. Стасовым, К. Арсеньевым, В. Спасовичсм, А. Унковским, В. Люстихом, 24 марта 1884 г. опубликовало «Новое время» (№ 2899). Авторы утверждали: «Защита свободна. Предписывать ей план действий, внушать ей, какое должно быть ее содержание, равносильно уничтожению ее свободы, наложению на нее кандалов. Останется от нее декорация, в действительности орган будет атрофирован…»
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Впервые в кн.: «Недоконченные беседы» («Между делом»). Сочинение М. Е. Салтыкова (Щедрина). СПб., 1885, стр. 200–206 (вып. в свет после J8 октября 1884 г.).
В письме к Белоголовому от 23 июня 1884 года Салтыков сообщал: «Готовил для майской книжки статью, и нельзя ее даже утилизировать». По предположению Н. В. Яковлева, здесь имелась в виду десятая глава «Недоконченных бесед» (Изд. 1933–1941, т. 20, стр. 63, 424).
Черновая рукопись отличается от печатного текста незначительными стилистическими расхождениями и следующим продолжением:
Но возвращаюсь к прерванному рассказу. Итак, я встретил прошедший праздник одиноко; ни сам визитов не делал, ни к себе визитеров не ждал. Сидел перед пасхальным столом и оживлял торговлю. На третий день, однако ж, одиночество мое было нарушено самым приятным образом: меня посетил старинный мой приятель Глумов.
Давненько-таки мы с ним не видались, хотя ни я, ни он не выезжали из Петербурга. Такая уж особенность нынешнего времени: люди исстари ведут дружбу и хлебосольство — и вдруг, словно под каким-то наитием взглянут друг на друга, мысленно молвят: — Эге! — и разом обрежут. В последний раз я виделся с Глумовым месяца три тому назад. Он зашел ко мне, и мы, по обыкновению, дружески беседовали. Тем не менее он как будто был озабочен. Ходил по комнате, напевал и вдруг, в то время когда я только начал излагать какой-то пошехонский анекдот, он совсем неожиданно прервал меня словами:
— Однако согласись, голубчик, что так нельзя!..
— Что такое нельзя?
— Нельзя все одну сторону медали показывать! Нельзя! Не такое нынче время!
Затем еще немного походил, восклицая: нельзя так! нельзя! — сыскал шапку и, сказав: мне, брат, по делу бежать надо! — словно в воду канул.
Впрочем я не оформализовался этою выходкой. Я знал, что Глумов любит на досуге «сцены из народного быта» рассказывать, и подумал, что он вспомнил какого-нибудь бесшабашного советника и изобразил его передо мной в лицах. Однако, дня через четыре, иду я по улице, вижу — Глумов навстречу плывет. Задумался, меня не замечает.
— Здравствуй! Замышляешь что-нибудь, — пошутил я ему в упор.
— Гм… да… здравствуй, брат, здравствуй… нет, я… я вот к сапожнику… извини! — пробормотал он как-то растерянно, словно сейчас проснулся.
И, не входя в дальнейшие разъяснения, юркнул в дверь сапожного магазина.
Заключительный очерк «Недоконченных бесед» — единственный в их составе, не прошедший сначала через страницы «Отеч. записок», запрещенных на апрельском номере 1884 года. Среди всего написанного Салтыковым, пожалуй, именно этот очерк с наибольшей непосредственностью выразил чувства писателя и редактора «Отеч. записок», вызванные крушением журнала. Проникнутый «своеобразным лиризмом» (Н. К. Михайловский) и горечью, очерк передает именно то состояние Салтыкова, которое в письме Н. А. Белоголовому определено так: «Как на полфразе застала меня катастрофа, так и остановилось» (23 июня 1884 г.).
«Одиночество» и «заброшенность», «охватившие» Салтыкова, о чем прямо сказано в очерке, были результатом глубокой гражданской, политической деморализации русского общества в период реакции 80-х годов: «Прежде, бывало, живот у меня заболит — с разных сторон телеграммы шлют: живите на радость нам! а нынче вон, с божьей помощью, какой переворот! — и хоть бы одна либеральная свинья выразила сочувствие! Даже из литераторов — ни один не отозвался <…> Обидно следующее: человека со связанными руками бьют, а пошехонцы разиня рот смотрят и думают: однако, как же его и не бить! ведь он — вон какой!» — читаем в письме к П. В. Анненкову от 3 мая 1884 года. Салтыков ожидал выражения не личных сочувствий: он справедливо воспринимал себя как деятеля, «который около сорока лет делал дело по мере разумения, не колеблясь и не предательствуя», как главу «единственного журнала, имевшего физиономию журнала, насколько это в Пошехонье возможно», куда «наиболее талантливые люди шли <…> как в свой дом» (П. В. Анненкову, 26 мая). «Не ради удовлетворения пустому тщеславию я ожидал некоторых заявлений, а ради убеждения, что Пошехонье не все сплошь переполнено пошехонцами. К сожалению, это убеждение и теперь не составилось», — писал он 12 мая К. Д. Кавелину.
Но вместе с тем прощальная «беседа» Салтыкова выразила безграничную любовь к читателю, «единственной подстрекающей силе» литературной деятельности, любовь, признаниями в которой полны его письма этих месяцев: «я лишен возможности периодически беседовать с читателем, и эта боль всего сильнее <…> Только и любил одно это полуотвлеченное существо, которое зовется читателем. И вот с ним-то меня разлучили» (А. Л. Боровиковскому, 17 мая).
Звучание авторского голоса, найденное в этом очерке, подготавливает тональность повествования одного из вершинных, этапных произведений Салтыкова в последний период его творчества — цикла «Мелочи жизни».
Стр. 281…ему не подсуден, а подсуден вон тому кавалеру… — агенту тайной политической полиции.
…бесшабашные советники — иронически обозначенные в сатире Салтыкова представители высшей бюрократии царизма. См. т. 14, стр. 559–560.
…в балаганы, где смотрели пьесу «Ермак Тимофеевич, или Покорение Сибири»… — Имеется в виду пьеса Н. А. Полевого «Ермак Тимофеевич, или Волга и Сибирь. Драматическое представление» (СПб., 1845).
…под манифест бы подвели! — Приуроченные к торжественным датам царские манифесты объявляли амнистию отдельным категориям преступников.
Стр. 282. Слышали они, якобы книгопечатание прекратилось… — Принятые 27 августа 1882 г. «Временные правила о печати» должны были «усилить административное воздействие на печать».
Стр. 283. Лучшую пору моей жизни я размыкал по губернским городам… — 1848–1855 гг. Салтыков провел в вятской ссылке-службе, в дальнейшем ему пришлось служить вице-губернатором в Рязани и Твери, управляющим казенной палатой в Пензенской, Тульской и Рязанской губерниях (1858–1861 и 1865–1868).
…читается слово Златоуста… — Имеется виду «Слово» Иоанна Златоуста, читаемое в православной церкви на пасхальной заутрене. Считалось образцом ораторского искусства.
Стр. 284. Соломон или Дракон. — Салтыков иронически сблизил имена терпимого и мудрого царя, о котором повествует Библия (Третья кн. Царств), и сурового законодателя древних Афин, в 621 г. до н. э. сформулировавшего жестокие правовые нормы.
«МЕЖДУ ДЕЛОМ»
(Продолжение)
При жизни Салтыкова напечатано не было. Впервые — ЛН, т. 11–12. М., 1933, стр. 307–312 (публикация Н. В. Яковлева). Печатается по рукописи.
Очерк задуман как продолжение четвертой главы и предназначался, по предположению Н. В. Яковлева, для ноябрьской или декабрьской книжки «Отеч. записок» 1875 года. Кроме черновой рукописи первой редакции, текст которой опубликован Н. В. Яковлевым полностью, начало очерка представлено еще и рукописью второй редакции. Вторая редакция, почти не отличаясь в начальной части от первой, имеет другое продолжение. Приводим вариант рукописи второй редакции.
Стр. 289, после абзаца: «Говорят: литература уклонилась от благородного пути…» — в рукописи следует:
Очевидно, дело заключается в том, что задачи новой литературы сделались яснее и строже. Литература не забавляет, не раздражает плотских вожделений, а напоминает о совести и призывает к самосознанию. Слова эти до такой степени необычны в сферах культурного слоя, что слабым культурным умом невольно овладевают смутные подозрения. Грезится, что культурной праздности готовится какой-то удар и что этот удар придет непременно оттуда, из недр той постылой и ненавистной литературы, которая вместе с неслыханными словами вводит в жизнь и неслыханные понятия. До сих пор литература блуждала в области, в области малой безделицы, изыскивала средства к улучшению ее быта, и только в исключительных случаях брала в руки лиру и восклицала:
и вдруг из высших сфер безделицы она спустилась в какую-то темную яму, и поставила себе задачей воззвать к жизни всех гадов, кишащих на дне ее! Зачем? загадочность этого перехода возбуждает недоумение; ум, развращенный обманами литературного сквернословия, не находит в себе достаточной силы, чтобы выдержать обличения действительности. Книга, которая в былые времена, была любезна культурному человеку, ибо распаляла его чувственность <1 слово нрзб.> становится для него постылою. Оставляя в стороне вопрос об опасностях, об угрозах нашествия новых варваров, он просто не находит в ней ничего подходящего к тому нравственному и умственному уровню, который выработало в нем полуторавековое культурное наслоение. И он бежит на улицу, в рестораны, в клубы, в дома терпимости — и всюду испускает целые потоки сквернословия. Сквернословия бессодержательного, даже бесцеремонного, но имеющего свойство гулко раздаваться по всем углам лесной чащи, которой непрерывные, хотя и не всегда видимые для глаз насаждения простираются «от хладных финских скал до пламенной Колхиды».
Тем не менее как ни бессодержательно это <1 слово нрзб.>, но влияние ее на литературу бесспорно и решительно. Ради ее она утопает в недомолвках и оговорках, ради ее она сохраняет езоповские формы иносказания. Ибо где же найдет она тот противовес, который дал бы ей средство держаться в борьбе с самозванцами культуры? Где тот читатель, настолько сильный, от которого она могла бы ждать для себя защиты и спасения?