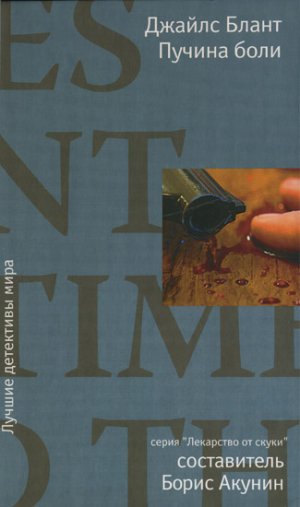
1
На Мадонна-роуд не может случиться ничего плохого. Эта дорога огибает западный берег небольшого озера у самой окраины города Алгонкин-Бей (провинция Онтарио), предоставляя пропитанное ароматом сосен прибежище обеспеченным семьям с маленькими детьми, яппи, которые влюблены в каноэ и каяки, а также хитроумному племени бурундуков, на которых вечно охотятся бегающие тяжелой рысью псы. Спокойное, тенистое и уединенное место, из тех, что сулят освобождение от трагедий и горестей.
Детектив Джон Кардинал и его жена Кэтрин жили в самом маленьком домике на Мадонна-роуд, но даже это крошечное жилище было бы им не по средствам, если бы не тот факт, что, поскольку оно располагалось не у воды, а на противоположной стороне дороги, им не принадлежало ни одного дюйма пляжа, равно как и ни единого миллиметра непосредственно прилегающих к озеру земель. По выходным Кардинал почти все время проводил в подвале, вдыхая запахи опилок, краски и лака; столярные работы позволяли ему ощутить в себе творческие силы и способность управлять процессом: ни для того ни для другого в полицейском управлении не было особенно благоприятной почвы.
Но даже когда он не столярничал, ему очень нравилось просто находиться в этом крохотном домике, погруженном в безмятежность, царящую на берегах озера. Сейчас была осень, начало октября, самое тихое время года. Моторки и «Си-Ду» уже куда-то уплыли, а снегоходы еще не начали с ревом прокладывать себе путь по льду и снегу.
Осень в Алгонкин-Бей — сезон, искупающий собой остальные три. Холмы заливает багрянцем и ржавчиной, охрой и золотом; небо становится тревожно-синим, и вы почти забываете о выжимающем пот лете, о празднике насекомых, который зовется весной, о безжалостном лезвии зимы. Форельное озеро сверхъестественно спокойно — черный оникс среди пламени. Несмотря на то что Кардинал вырос в этих местах (и в детстве воспринимал все это совершенно как должное) и теперь снова, вот уже лет двенадцать, жил в Алгонкин-Бей, его всегда заставали врасплох здешние осенние красоты. В эту пору он старался проводить каждую свободную минуту дома. Нынешним вечером он специально вырвался с работы, совершив пятнадцатиминутную поездку на машине, хотя в его распоряжении был всего час: таким образом, он мог себе позволить провести за обеденным столом ровно полчаса, а потом надо было отправляться обратно.
Кэтрин бросила в рот таблетку, запила ее несколькими глотками воды и защелкнула крышку пузырька.
— Если хочешь, еще есть пастуший пирог, — сообщила она.
— Нет, в самый раз. Очень вкусно, — похвалил Кардинал. Он пытался собрать в одну кучку последние несколько бобов, разбежавшихся по тарелке.
— Десерта нет, разве что тебе захочется печенья.
— Мне всегда хочется печенья. Другой вопрос, хочется ли мне, чтобы меня отсюда вытаскивали автопогрузчиком.
Кэтрин понесла на кухню свою тарелку и стакан.
— Во сколько ты выдвигаешься? — спросил он вдогонку.
— Прямо сейчас. Темно, луна взошла. Почему бы и нет?
Кардинал выглянул наружу. Оранжевый диск полной луны висел низко над озером; оконный переплет делил ее на четыре части.
— Снимаешь луну? Только не говори, что решила заняться выпуском календарей.
Но Кэтрин не слушала. Она уже исчезла в подвале, и он слышал, как она в своей темной фотокомнате стаскивает с полок всякие вещи. Кардинал отправил недоеденное в холодильник и загрузил свои тарелки в посудомоечную машину.
Кэтрин поднялась наверх, застегнула на молнию сумку с фотоаппаратом и оставила ее у двери, пока надевала пальто — рыжевато-коричневое, с бурой кожаной отделкой на обшлагах и воротнике. Она сняла с крючка шарф и обернула его вокруг шеи раз, другой, но потом размотала.
— Нет, — сказала она сама себе, — он будет мешать.
— Сколько продлится твоя экспедиция? — поинтересовался Кардинал, но жена его не слышала. Они были женаты уже около тридцати лет, но она по-прежнему то и дело заставляла его теряться в догадках. Иногда, собираясь идти фотографировать, она была говорливой и возбужденной, сообщала ему все подробности своего предприятия, пока у него не начинала кружиться голова от всех этих оптимальных фокусных расстояний и диафрагм. А бывало так, что он не знал о ее планах до тех пор, пока несколько дней или недель спустя она не появлялась из своей темной комнаты, сжимая в руках отпечатки, точно трофеи после своего одинокого сафари. Сегодня она была сдержанной.
— Когда ты вернешься, как ты думаешь? — спросил Кардинал.
Кэтрин завязала вокруг шеи короткий клетчатый шарф и спрятала его под пальто.
— Разве это важно? Мне казалось, ты собираешься опять поехать на работу.
— Собираюсь. Просто интересуюсь.
— Ну, я буду дома гораздо раньше тебя. — Она освободила волосы из-под шарфа и тряхнула головой. На Кардинала повеяло ее шампунем — слабый миндальный аромат. Она села на скамейку у входной двери и снова открыла фотосумку.
— Фильтр-полулинза. Так и знала — что-то забыла.
Она ненадолго спустилась вниз и потом появилась с фильтром, который и положила в сумку с фотоаппаратом. Кардинал понятия не имел, что это такое — фильтр-полулинза.
— Ты опять на пристань? — спросил он. Весной Кэтрин сделала серию снимков озера Ниписсинг, когда на нем ломался лед. Громадные белые плиты громоздились, словно геологические пласты.
— Пристань я уже отработала, — ответила Кэтрин, слегка хмурясь. Она прикрепила складной штатив к нижней части сумки. — Откуда столько вопросов?
— Одни снимают, другие задают вопросы.
— Лучше не надо. Ты же знаешь, я не люблю раньше времени все это обсуждать.
— Иногда обсуждаешь.
— Не в этот раз.
Она выпрямилась и повесила на плечо фотосумку, громоздкую и тяжелую.
— Ночь просто волшебная, — заметил Кардинал, когда они вышли наружу. Он какое-то время постоял, глядя вверх, на звезды, но большинство из них размыло сиянием луны. Он глубоко вдохнул, впуская в себя ароматы сосен и опавшей листвы. У Кэтрин это тоже было любимое время года, но сейчас ее внимание было занято другим. Она направилась прямиком к своей машине (года два назад она купила подержанный темно-бордовый «крайслер-круизер»), завела мотор и выехала с подъездной аллеи.
Кардинал последовал за ней на своей «тойоте-камри» по темному извилистому шоссе, которое вело в город. Когда они достигли светофоров на пересечении с Одиннадцатым шоссе, Кэтрин просигналила ему и перестроилась в левый ряд. Кардинал продолжал ехать прямо, миновал перекресток и двинулся по Самнер-стрит к полицейскому управлению.
Кэтрин же покатила к восточным окраинам города, и у него в голове промелькнул вопрос, куда она, собственно, направляется. Но, что ни говори, ему всегда было приятно видеть ее вовлеченной в работу, к тому же она продолжала принимать лекарства. Если она немного покапризничает — ничего страшного. Она уже год как выписалась из психиатрической больницы. В предыдущий раз она оставалась дома около двух лет, а потом после внезапного срыва ее снова пришлось госпитализировать. Но пока она принимала препараты, Кардинал не позволял себе слишком уж беспокоиться.
Был вечер вторника, и в преступном мире ничего особенного не происходило. Следующие два часа Кардинал провел за наверстыванием накопившихся бумажных дел. У них только что прошла ежегодная чистка ковровых покрытий, и воздух в помещении был наполнен цветочным духом химикатов и запахом влажных ковров. Кроме него, из детективов сейчас дежурил только Йен Маклеод, а даже Маклеод, известный своей дневной крикливостью, вечером сохранял сравнительную невозмутимость.
Кардинал надевал резинку на только что закрытую папку, когда красное лицо Маклеода показалось над звукоизолирующей перегородкой, разделявшей их столы.
— Эй, Кардинал. Должен тебя кое о чем предупредить. Насчет мэра.
— Что ему надо?
— Явился вчера вечером, когда тебя не было. Хочет сделать заявление о пропаже своей жены. Штука в том, что на самом-то деле она у него никуда не пропадала. Каждая собака в городе знает, где она, кроме нашего чертова мэра.
— У нее по-прежнему роман с Рэгом Уилкоксом?
— Ну да. Чего там, ее видели вчера вечером с нашим высокочтимым директором санитарной службы. Желаги как раз дежурил в мотеле «Бёрчез», приглядывал за братьями Порчини. Они полгода назад вышли из Кингстонской тюрьмы и, похоже, всерьез думают, что у них получится снова развернуться, и не где-нибудь, а в наших краях. Ну и вот, Желаги, в числе прочего, сообщил, что видел, как жена мэра вышла из двенадцатого номера вместе с Рэгги Уилкоксом. Мне он всегда был не особо-то по нраву, не понимаю, что женщины в нем находят.
— Он отменно выглядит.
— Да брось ты. Он выглядит, как манекенщики в «Сирсе».[1] — Передразнивая их, Маклеод развернулся в полупрофиль и растянул губы в фальшиво-радушной улыбочке.
— Некоторые считают, что это стильно, — заметил Кардинал. — Не все же разделяют твои вкусы.
— Пусть эти «некоторые» катятся… Короче, когда я вчера увидел его милость, я ему сказал так: знаете, никуда ваша жена не пропадала. Она взрослый человек. Ее видели в центре города. И если она не является домой, то таково в настоящий момент ее желание.
— И что он на это ответил?
— «Кто ее видел? Когда? Во сколько?» Такие вопросы всякий бы задал на его месте. Я ему сказал, что не имею права свободно говорить об этом. Мол, ее видели в районе Ворт — Макинтош, и пока мы не можем составить рапорт о пропаже. Сейчас она опять в «Бёрчез» с Уилкоксом. Я велел мэру Фекворту подъехать к нам, тебе же будет приятно с ним потолковать.
— Какого черта, зачем ты это сделал?
— От тебя ему будет легче это услышать. Мы с ним не очень-то ладим.
— Да ты со всеми не очень-то ладишь.
— Не вредничай.
Ожидая приезда мэра, Кардинал составил отчет о расходах за прошедший месяц и заполнил титульный лист для дела, которое только что закрыл. Он поймал себя на том, что его мысли вращаются вокруг Кэтрин. Весь год она хорошо держалась, в этом семестре вновь начала преподавать в местном колледже. Но за ужином он почувствовал в ней легкую отчужденность, какое-то нетерпение, как если бы в голове у нее был не только фотопроект. Кэтрин было под пятьдесят, у нее как раз наступила менопауза: из-за этого у нее то и дело резко менялось настроение, и приходилось постоянно варьировать режим приема лекарств. Так что если она и казалась немного рассеянной, этому можно было бы отыскать множество правдоподобных объяснений. А с другой стороны, хорошо ли мы на самом деле знаем тех, кого любим? Взять хоть нашего мэра.
Когда прибыл мэр Лэнс Фекворт, Кардинал отвел его в одну из комнат для допросов, чтобы они могли поговорить наедине.
— Я хочу добраться до самой сути, — заявил мэр. — Необходимо всестороннее расследование. — Маленький грузный Фекворт отличался пристрастием к галстукам-бабочкам; он неудобно примостился на краешке пластмассового стула, который обычно занимали подозреваемые. — Я знаю: то, что я мэр, не дает мне права на большее внимание, нежели к любому другому избирателю, однако я не ожидаю и меньшего внимания. Что, если с ней произошел какой-то несчастный случай?
Фекворт был не лучшим мэром. При нем городской совет, похоже, главным образом занимался тем, что без конца изучал проблемы и затем соглашался с тем, чтобы все шло как идет. Но обычно он отличался дружелюбием, всегда был готов отпустить шуточку или хлопнуть по спине. Кардинал видел, как он страдает, и это вызывало неуютное ощущение, как если бы здание, к которому ты привык с детства, вдруг выкрасили в кричаще-яркие цвета.
Как можно мягче Кардинал проинформировал его, что миссис Фекворт видели в городе прошлой ночью и что на этой неделе не случалось никаких чрезвычайных происшествий.
— Черт побери, почему вся моя полиция твердит мне, что ее видели где-то в городе, но не желает сообщать мне, где и кто ее видел? Каково бы вам было, если бы это была ваша собственная жена? Вы бы захотели узнать правду, а?
— Да, захотел бы.
— В таком случае я рассчитываю, что вы четко объясните мне, что происходит, детектив. Иначе мне придется обратиться напрямую к шефу полиции Кендаллу, и можете быть уверены, что я не скажу ему ничего хорошего ни о вас, ни об этом болване Маклеоде.
Вот как получилось, что Кардинал оказался в своей машине вместе с мэром Алгонкин-Бей во дворе мотеля «Бёрчез» («Березы»). Несмотря на это название, рядом не было ни единой березки. Да и вообще поблизости не росло никаких деревьев, ибо мотель располагался в самом что ни на есть деловом центре города, на Макинтош-стрит. Более того, это уже, собственно, не был мотель «Бёрчез», поскольку по меньшей мере два года назад его купила сеть «Сансет-инн», но все по-прежнему называли его «Бёрчез».
Кардинал припарковался в десятке шагов от двенадцатого номера. Желаги сидел в своей машине на другой стороне стоянки, но они не подали вида, что знакомы друг с другом. Кардинал чуть опустил окно, чтобы стекло не запотевало. Даже здесь, в центре, чувствовался запах опавших листьев, а из чьего-то камина уютно тянуло древесным дымком.
— Вы хотите сказать, что она здесь? — осведомился мэр. — Моя жена — в этом номере?
Конечно же он должен об этом знать, подумал Кардинал. Как вообще могло дойти до такого — чтобы его жена целыми днями не являлась домой и снимала номера в мотелях, а он об этом не знал?
— Не верится, — произнес Фекворт. — Слишком уж вульгарно. — Но теперь в его голосе поубавилось убежденности, как если бы лицезрение реальной двери мотельного номера пошатнуло его веру. — Синтия — человек преданный, — добавил он. — И она этим гордится.
На самом деле Синтия Фекворт вот уже как минимум четыре года спала в Алгонкин-Бей со всеми подряд, и мэр был единственным, кто этого не знал. И кто я такой, чтобы срывать с его глаз шоры, спросил себя Кардинал. Кто я такой, чтобы лишать кого бы то ни было сладкой анестезии отрицания?
— О, не может быть, чтобы она валялась с кем-то еще. Но если она… если она позволяет другому мужчине… тогда все. Я ее брошу. Вот увидите. О господи, если она делает такое… — Фекворт застонал и спрятал лицо в ладонях.
Словно в ответ на его терзания, дверь двенадцатого номера открылась, и из нее вышел мужчина. У него был идеально ухоженный вид модели из каталога: не пропустите нашу осеннюю распродажу мужских ветровок.
— Это Рэг Уилкокс, — узнал мэр. — Санитарная служба. Что тут делает Рэг?
Уилкокс неторопливо направился к своему «форду-эксплореру», он так и излучал самоуверенную небрежность везунчика. Затем задним ходом выехал со своего места на парковке и укатил.
— Во всяком случае, Синтии здесь не было. Это уже кое-что, — заметил Фекворт. — Может быть, мне имеет смысл прямо сейчас отправиться домой и надеяться на лучшее.
Дверь двенадцатого номера снова открылась, и привлекательная женщина сначала выглянула наружу, а потом вышла и закрыла за собой дверь. Было холодно, и она застегнула пальто, после чего пошла к выходу со стоянки.
Мэр выскочил из машины и ринулся ей наперерез. Кардинал поднял стекло: ему не хотелось их слушать. У него зажужжал мобильный.
— Кардинал, какого черта ты не отвечаешь по своей долбаной рации?
— Я сейчас в своей собственной машине, сержант Флауэр. Долго объяснять.
— Ну ладно, слушай. Тут нам позвонил какой-то человек, сообщает, что за домом «Гейтвэй» — труп. Знаешь это новое здание?
— «Гейтвэй»? Сразу за окружной? Даже не знал, что его достроили. А вы уверены, что сообщает не какой-то пьяница, которому все это приснилось?
— Уверены. Патруль уже на месте, дал подтверждение.
— Ладно. Я сейчас всего в нескольких кварталах оттуда.
Мэр скандалил с женой. Синтия Фекворт скрестила руки на груди, склонив голову. Ее муж стоял к ней лицом, растопырив руки в классическом жесте умоляющего супруга. В дверях мотельной конторы стоял, глазея на них, какой-то служащий гостиницы.
Мэр даже не заметил, как уехал Кардинал.
Здание «Гейтвэй» располагалось на восточной окраине города: это было одно из нескольких многоэтажных строений в районе, где что ни день открывались небольшие торговые центры, вытянутые в одну линию. Собственно, первый этаж этого здания как раз и представлял собой такой торговый центр, где размещалась химчистка, круглосуточный магазинчик всякой всячины, а также крупная фирма, занимавшаяся ремонтом компьютеров, носившая название «Компью-клиник» и переехавшая сюда с Мэйн-стрит. Располагавшиеся здесь предприятия и компании уже какое-то время работали, но многие из жилых квартир в доме так пока и оставались непроданными. Дорожные рабочие трудились над устройством развязки типа «клеверный лист», чтобы приспособиться к транспортным нуждам здешнего района, становившегося все более буржуазным, — если, конечно, это вообще можно было назвать районом. Кардиналу пришлось на своей машине, как сквозь строй, пробраться через ряды оранжевых заградительных конусов и потом сделать крюк мимо нового «Тима Хортона» и «Хоум депо».[2]
Он миновал череду новеньких таунхаусов, большинство из которых пока так и не были заселены, хотя кое-где и горел свет. Перед последним из них был припаркован «крайслер-круизер», и Кардинал на мгновение подумал, что это машина Кэтрин. Один или два раза в год у него бывало такое — внезапное беспокойство, ощущение, что Кэтрин попала в беду, что с ней творится что-то опасно-маниакальное или депрессивно-суицидальное, — и потом он испытывал облегчение, узнав, что это не так.
Он покатил по подъездной аллее «Гейтвэй» и остановился под знаком «Парковка только для жителей дома, гости паркуются на улице». Полицейский в форме стоял рядом с лентой, ограждавшей место происшествия.
— О, привет, сержант, — произнес он, когда Кардинал к нему подошел. Выглядел он лет на восемнадцать, и Кардинал в жизни не смог бы припомнить, как его зовут. — У нас мертвая женщина, вон там. Похоже, неудачно упала. Решил на всякий случай оградить периметр, пока мы не разберемся, что к чему.
Кардинал посмотрел мимо него, в пространство позади здания. Он увидел там лишь «дампстер»[3] и пару автомобилей.
— Ты что-нибудь трогал?
— Ну да. Проверил, есть ли у нее пульс. Пульса не было. И поискал в карманах, нет ли при ней документов, но не нашел. Видно, она жила в этом доме, сорвалась с какого-то из балконов.
Кардинал оглянулся вокруг. Обычно в таких случаях собирается небольшая толпа зевак.
— Никаких свидетелей? Никто ничего не слышал?
— По-моему, здание стоит почти пустое, разве что на первом этаже всякие магазины и конторы. Здесь никого вокруг не было, когда я приехал.
— Ясно. Одолжи-ка мне фонарь.
Парень передал Кардиналу фонарь и пропустил его за ограждение, а потом снова прикрепил конец ленты к столбику.
Кардинал продвигался медленно, ему не хотелось замутнять картину происшествия, с ходу приняв версию этого парня насчет падения. Он прошел мимо «дампстера», который, казалось, был набит старыми компьютерами. Зацепившись шнуром за его край, свисала клавиатура, а рядом валялись две электронные платы, словно взорвавшиеся при ударе о землю.
Тело женщины лежало сразу за мусорным контейнером, лицом вниз; на ней было рыжевато-коричневое осеннее пальто с кожаными обшлагами.
— Не вижу, чтобы наверху были открыты какие-нибудь окна или балконные двери, — заметил молодой полицейский. — Думаю, комендант здания поможет нам ее опознать.
— Ее документы в машине, — произнес Кардинал.
Юный полисмен огляделся. У стены дома были припаркованы два автомобиля.
— Не пойму что-то, — признался он. — Вы что, знаете, какая из машин — ее?
Но Кардинал, похоже, не слушал. Молодой полицейский с изумлением смотрел, как сержант Джон Кардинал, звезда отдела уголовного розыска, ветеран полиции, раскрывавший труднейшие дела в городе, славящийся своим скрупулезнейшим подходом к поведению на месте преступления, — как он опускается на колени, прямо в лужу крови, и, приподняв разбившуюся женщину, прижимает ее к груди.
2
Обычно Лиз Делорм злилась, если ей звонили в ее выходной. Так происходило постоянно, но от этого ее не меньше раздражало, что ее отвлекают от того, чем она занимается — чем бы она в этот момент ни занималась. Она была в пабе, наслаждаясь необыкновенно пикантным карри вместе со своим новым приятелем — весьма привлекательным адвокатом, который был всего одним-двумя годами ее моложе; она познакомилась с ним после того, как он неудачно защищал одного матерого бандита, которого Делорм арестовала за вымогательство. Это было их третье свидание, и, хотя ей было чрезвычайно трудно принять саму мысль о том, чтобы переспать с адвокатом, Делорм все же планировала пригласить его зайти на чашечку кофе, когда он отвезет ее домой. Звали его Шейн Косгроув.
Все было бы куда сексуальнее, если бы Шейн был адвокатом получше. На самом-то деле Делорм думала, что ее клиента-бандита должны отпустить, если учесть, что ей удалось собрать и склеить вместе лишь весьма скудное количество улик. Но все-таки адвокат неплохо выглядел и с ним было приятно проводить время, а подобные мужчины, да еще и холостые, редко попадаются в таком маленьком городке, как Алгонкин-Бей.
Когда она, поговорив по телефону, вернулась к столику, Шейн спросил, не нужно ли ей прилечь, — настолько она побледнела. Детектив-сержант Шуинар только что сообщил ей, что жертва — жена Джона Кардинала и что на месте находится сам Кардинал. Патрульная группа позвонила Шуинару домой, а уже он, в свою очередь, связался с Делорм.
— Убери его оттуда, Лиз, — велел он ей. — Что бы ни происходило сейчас у него внутри, Кардинал служит в полиции уже тридцать лет. Он знает, так же как ты и я, что, пока мы не исключим возможность убийства, он останется подозреваемым номер один.
— Детектив-сержант, — возразила Делорм, — Кардинал всегда был верен своей жене, он помог ей пережить много…
— Много было всякого дерьма. Да, я все это знаю. А еще я знаю, что, может быть, ему это наконец надоело. Последняя соломинка, которая ломает спину верблюду, и все в таком роде. Так что двигай туда и уж постарайся думать о нем похуже. Это — место убийства, до тех пор, пока мы не исключим вероятность насильственной смерти.
Так что в сердце у Делорм, пока она ехала на место события через весь город, не было никакого раздражения, была лишь скорбь. Хотя она встречалась с женой Кардинала по тем или иным общественным поводам, ей так и не удалось познакомиться с ней поближе. Разумеется, Делорм, как и всему управлению полиции, было известно, что в среднем каждые два года Кэтрин ложится в больницу после депрессивного либо маниакального приступа. И, встречаясь с Кэтрин Кардинал, она каждый раз недоумевала, как такое может быть.
Ибо Кэтрин Кардинал, во всяком случае в те периоды, когда чувствовала себя хорошо, была одной из немногих знакомых Делорм женщин, которых можно было хоть с какой-то степенью точности назвать «лучезарными». Слова «маниакальный» и «депрессивный», не говоря уж о терминах «биполярный» и «психически неуравновешенный», рождали образ безумца с ошалевшими глазами. Но Кэтрин излучала мягкость, ум и даже мудрость.
Делорм, жившая одиноко уже столько лет, что даже не давала себе труда сосчитать их количество, часто находила нудным общество семейных пар. Как правило, им недоставало того огня, что свойствен людям, еще не утратившим охотничьего азарта. Кроме того, у них была несносная манера вечно намекать, что одинокие люди в каком-то смысле неполноценны. И больше всего огорчало, что многие даже не очень-то и любили друг друга, обращаясь друг с другом так грубо и жестко, как и не подумали бы вести себя с чужими людьми. Но Кардинал и его жена, которые состояли в браке уже бог знает сколько лет, похоже, по-настоящему наслаждались обществом друг друга. Кардинал говорил о Кэтрин почти каждый день — когда она не лежала в больнице; и его молчание в эти больничные периоды всегда потрясало Делорм, оно выражало не стыд, а преданность. Он то и дело рассказывал Делорм или о фотографии, которую недавно сделала Кэтрин, или о том, как она помогла своему бывшему студенту получить работу, или о призе, которым ее наградили, или о какой-нибудь ее смешной фразе.
Но, насколько могла судить Делорм, в Кэтрин было нечто впечатляющее, нечто внушительное, и это действовало на вас, даже если вы знали о ее психических особенностях и связанных с этим деталях ее биографии. Собственно, отчасти тут, наверное, оказывали воздействие сами эти детали: некая аура человека, путешествовавшего в глубины безумия и вернувшегося, чтобы поведать об этом. Только в этот раз она не вернулась.
И может быть, Кардиналу так будет лучше, подумала Делорм. Может, это для него не самая худшая вещь на свете — освободиться от этого прекрасного ярма. Делорм видела, какую тяжесть тащит на себе Кардинал, когда его жена попадает в больницу, и в такое время она с удивлением ловила себя на том, что сердится на женщину, которая сумела так омрачить его жизнь.
Лиз Делорм, выбранила она себя, подъезжая и останавливаясь у заградительной ленты, иногда ты умеешь быть стопроцентной, непростительной, законченной сукой.
Если Шуинар надеялся, что, оперативно направив Делорм на место, он помешает тому, чтобы подозреваемый номер один запутал картину преступления, то он опоздал. Выходя из машины, она увидела, что Кардинал держит свою жену на руках, и его замшевый пиджак весь в крови.
Молодой полицейский — его фамилия была Сэндерсон — стоял на часах у ленты ограждения.
— Вы первым оказались на месте? — спросила его Делорм.
— Поступил анонимный звонок от кого-то из этого здания. Сказали, что за домом, кажется, лежит тело. Я направился сюда, удостоверился, что она мертва, и позвонил дежурному сержанту. Она связалась с отделом уголовного розыска, и первым прибыл Кардинал. Я понятия не имел, что это его жена. — В его голосе звенел панический ужас. — На теле нет никаких документов. Я никак не мог узнать.
— Ничего страшного, — заверила его Делорм. — Вы поступили правильно.
— Если бы я знал, я бы сделал так, чтобы он держался подальше от трупа. Но он сам не понял, пока не подошел поближе. У меня ведь не будет неприятностей, нет?
— Успокойтесь, Сэндерсон, никаких неприятностей у вас не будет. Эксперты и коронер с минуты на минуту будут здесь.
Делорм подошла к Кардиналу. По травмам, которые получила его жена, она могла заключить, что та упала с одного из верхних этажей. Кардинал перевернул ее и теперь поддерживал, словно спящую. По его лицу струились кровь и слезы.
Делорм присела на корточки рядом с ним. Она мягко коснулась запястья Кэтрин и потом ее шеи, установив при этом две вещи: пульса не было, но тело было еще теплое, хотя конечности уже начали холодеть. Рядом валялась фотосумка, часть ее содержимого рассыпалась по асфальту.
— Джон, — тихо позвала она.
Он не ответил, и она снова произнесла его имя, еще тише и мягче:
— Джон, послушай. Я только один раз это скажу. То, что у нас тут произошло, это разрывает мне сердце, понимаешь? Сейчас будто забилась в уголок, и плачу, и не собираюсь выходить, пока мне кто-нибудь не скажет, что все это неправда. Ты меня слышишь? У меня из-за тебя просто сердце из груди готово выскочить. Но мы с тобой оба знаем, что теперь должно начаться.
Кардинал кивнул:
— Я не узнал кто… Пока не подошел ближе.
— Я понимаю, — ответила Делорм. — Но теперь ты ее опустишь.
Кардинал плакал, и она просто ждала, позволяя ему выплакаться. К ним уже шли Арсено и Коллинвуд, эксперты из отдела. Она предупреждающе подняла руку, показывая, чтобы они не приближались.
— Джон. Опусти ее, хорошо? Нужно, чтобы ты положил ее точно так, как она лежала. Приехали эксперты. Скоро здесь будет коронер. Как бы это ни случилось, мы должны вести расследование по всем правилам.
Стоявший на коленях Кардинал оторвал от себя тело Кэтрин и с ненужной бережностью перевернул ее лицом вниз. Потом положил ее левую руку ей на голову.
— Эта рука лежала так, — сказал он. — А эта, — продолжал он, беря ее другую руку за запястье, — была вытянута вдоль тела. У нее обе руки сломаны, Лиз.
— Я знаю. — Делорм хотелось дотронуться до него, утешить, но она постаралась сохранить свое профессиональное «я». — Теперь пойдем со мной, Джон. Пусть эксперты займутся своим делом, ладно?
Кардинал, чуть покачиваясь, встал на ноги. К Сэндерсону уже успело присоединиться множество их коллег в форме, и Делорм заметила, что один-два человека смотрят на происходящее с балконов, пока она вела Кардинала за ленту ограждения и дальше, к своей машине. Под ногами хрустели кусочки компьютерных деталей. Она открыла ему пассажирскую дверь, и он залез внутрь. Потом она забралась в машину сама, уселась на водительское место и захлопнула дверцу.
— Где ты был, когда тебе позвонили? — спросила Делорм.
По его выражению лица она не могла понять, воспринимает ли он что-нибудь. Заметил ли он «скорую» с бесполезно вспыхивающей мигалкой? Видел ли коронера, направляющегося к телу со своим докторским саквояжем? Арсено и Коллинвуда в их белых комбинезонах? Маклеода, медленно обходящего периметр, уткнувшись взглядом в землю? Она не знала, видит ли он все это.
— Джон, я понимаю, сейчас ужасный момент для того, чтобы задавать вопросы…
Они всегда так говорили в подобных случаях. Она надеялась, что он поймет: ей приходится это делать, она вынуждена ощупывать рану, в которой еще торчит нож.
Когда он заговорил, его голос зазвучал на удивление ясно; в нем слышалась лишь усталость.
— Я был у мотеля «Бёрчез», в своей машине, вместе с мэром.
— С мэром Феквортом? Почему?
— Он требовал, чтобы мы по всей форме провели расследование пропажи его жены, грозился, что пойдет к шефу, к газетчикам. Кто-то должен был сообщить ему плохие новости.
— Ты долго с ним был?
— В общей сложности часа два с половиной. Сначала он пришел в управление. Маклеод может все это подтвердить. И Желаги.
— Желаги все еще дежурил у мотеля по делу Порчини?
Кардинал кивнул:
— Может быть, он еще там. Скорее всего, у него выключена рация. Ты бы тоже так сделала, если бы наблюдала за этими Порчини.
— Ты знаешь, почему Кэтрин могла оказаться в этом здании?
— Она поехала фотографировать. Не знаю, были ли у нее здесь знакомые. Наверное, были, иначе она бы не попала внутрь.
Делорм почти физически слышала, как полицейский ум Кардинала пытается вновь набрать обороты.
— Нам надо осмотреть крышу, — продолжал он. — Если она упала не оттуда, нам придется прочесать верхние этажи. То есть вам. Мне в этом участвовать нельзя.
— Подожди здесь минутку, — попросила Делорм.
Она вышла из машины и подошла к Маклеоду: тот стоял у мусорного бака.
— Везде валяется какая-то дрянь, — заявил он. — Похоже, тут кто-то долбанул компьютер.
— С той стороны — «Компью-клиник», — объяснила Делорм. — Послушай, ты сегодня вечером уже виделся с Кардиналом?
— Да, он сидел в отделе где-то до полвосьмого. Мэр явился что-нибудь в семь пятнадцать, и они вышли вместе. Видно, двинулись в «Бёрчез», где его жену ублажала санитарная служба. Хочешь, позвоню мэру?
— У тебя есть его телефон?
— А то. Этот тип у меня уже неделю стоит над душой.
Маклеод уже вытащил свой мобильник и теперь выбрал номер из списка, светившегося на лиловом экранчике в его ладони.
Делорм перешла к экспертам. Они ползали на коленях, подбирая мелкие предметы и кладя их в специальные пакеты для сбора вещественных доказательств. Луна поднялась выше и уже не была оранжевой. Она заливала место происшествия серебристым светом. Прохладный ветерок доносил запахи опавшей листвы. Почему самое жуткое всегда случается в самые прекрасные вечера, спросила себя Делорм.
— Вы завернули ей кисти рук в пакеты? — обратилась она к Арсено.
Он поднял на нее взгляд:
— Ну да. Это до тех пор, пока мы не исключим насильственную смерть.
Коллинвуд, эксперт помоложе, извлекал предметы из фотосумки, валявшейся в нескольких футах от тела. Он был юн, светловолос и почти до враждебности немногословен.
— Аппарат, — изрек он, поднимая «никон». Объектив был разбит.
— Она была фотографом, — пояснила Делорм. — Кардинал сказал, что сегодня вечером она поехала снимать. Что еще?
— Запасные катушки пленки. Батарейка. Объективы. Фильтры. Ткань для протирки линз.
— Иными словами, все, что можно ожидать.
Он не ответил.
— Нашел ключи от машины у нее в кармане пальто, — объявил Арсено, передавая их Делорм.
— Осмотрю ее машину, — ответила Делорм, протягивая за ними руку.
Коронер, занимавшийся телом, вставал, отряхивая пыль с нижней части пальто. Это был доктор Клейборн, уже лысеющий в свои тридцать с небольшим. Делорм до этого работала с ним раза два. Однажды он предложил ей встретиться в нерабочей обстановке, но она отклонила предложение, сказав, что у нее уже есть с кем встречаться, хотя в тот период это было не так. Делорм считала, что некоторые мужчины слишком уж благовоспитанны, слишком безобидны, слишком мягки. С ними чувствуешь себя, словно ты по-прежнему одна, но без настоящей уединенности.
— Что вы об этом думаете? — спросила его Делорм.
Плешивую макушку доктора Клейборна окружал венчик рыжих волос; кожа у него была бледная, почти просвечивающая. Он часто краснел, как давно заметила Делорм; она приписывала это его комплекции.
— Ну, она перенесла тяжелое падение, это очевидно. И, судя по количеству крови, она явно была еще жива, когда упала.
— Время смерти?
— Пока могу судить только по температуре тела и по неполному трупному окоченению. Я бы сказал, что она мертва около двух часов.
Делорм посмотрела на часы:
— Значит, все произошло примерно в восемь тридцать. А что измерения?
— Тут я должен поклониться вашим экспертам. Она лежит в восьми футах от края здания. А балконы выступают на пять футов. Видимо, она упала либо с балкона, либо из окна.
— А с какой высоты, как по-вашему?
— Трудно сказать. По моим прикидкам, этажа с десятого.
— В этом здании их всего девять. Вероятно, нам следует начать с крыши.
— Согласен. Я пока не вижу никаких признаков насильственной смерти.
— У меня есть ощущение, что вы их и не найдете. Я была знакома с жертвой, доктор. Вы представляете себе ее историю болезни?
— Нет.
— Позвоните в нашу психиатрическую больницу. За последние восемь лет ее госпитализировали не меньше четырех раз. В последний раз это было около года назад, она тогда пролежала там три месяца. Когда вы здесь закончите, поднимемся на крышу, хорошо?
Ей помахал Маклеод. Она отошла от Клейборна, уже набиравшего номер на своем мобильном.
— Этот фекальный Фекворт был не очень-то рад меня услышать, — заявил Маклеод. — Слышно было, как его жена орет на него где-то на заднем плане. Ну, понятное дело, я призвал на помощь весь свой дипломатический и социальный опыт.
— Могу себе представить.
— Его милость сообщил, что Кардинал был с ним в «Бёрчез» до девяти тридцати. Желаги говорит то же самое.
— Желаги вышел на связь?
— Да, на ночь он освободился от Порчини. Едет сюда.
Делорм вернулась к своей машине. Кардинал сидел там, где она его оставила, и вид у него был такой, словно ему в живот попала крупнокалиберная пуля. Делорм провела его к «скорой».
Санитаром была женщина с жесткими чертами лица и очень короткими светлыми волосами. Ее тело тесно обтягивала медицинская форма.
— Муж жертвы, — пояснила Делорм. — Позаботьтесь о нем, хорошо? — Она повернулась к Кардиналу: — Джон, сейчас я поднимусь на крышу. А ты оставайся здесь, и пусть эти люди за тобой поухаживают. Я вернусь минут через десять.
Кардинал опустился на выдвижную заднюю приступку «скорой». Делорм снова поборола в себе желание обхватить его руками — его, своего агонизирующего друга. Ей пришлось заставить себя по-прежнему целиком сосредоточиться на деле.
Маклеод и доктор Клейборн поднялись вместе с ней на лифте на последний этаж. Затем им пришлось взобраться еще на один пролет вверх, к двери с надписью «Патио». Дверь была приоткрыта, в щели лежал кирпич, чтобы она не захлопнулась. Маклеод отыскал выключатель и зажег внешний свет.
Крыша была устлана фанерой, на которой были расставлены столики для пикников с отверстиями, чтобы втыкать зонтики. Сейчас зонтики уже вынули: осенние ветра были слишком холодными, чтобы кто-нибудь захотел наслаждаться отдыхом на открытом воздухе дольше нескольких минут.
— Если она поднялась сюда фотографировать, могу ее понять, — заметила Делорм, оглядываясь вокруг. На севере цепочка огней шоссе вилась вокруг холма, уходя к аэропорту. Чуть восточнее виднелось темное плечо каменистого откоса, а на юге — огни города, шпиль собора и коммуникационная башня почтового ведомства. Из-за башенок французской церкви выкатилась луна.
Маклеод показал на ничем не украшенную бетонную стенку высотой по грудь человеку: она окружала крышу.
— Через такую штуку не очень-то перевалишь. Может, она перегнулась вниз, чтобы сделать фото. Надо бы посмотреть, что там она наснимала на свой аппарат.
— Фотоаппарат был в сумке, так что вряд ли она снимала, перед тем как упала.
— Все равно надо бы проверить.
Делорм указала в сторону луны:
— Вот откуда она свалилась.
— Может быть, сначала все проверите вы? — предложил доктор Клейборн. — А когда вы закончите, посмотрю я.
Делорм и Маклеод, осторожно выбирая, куда ступать, медленно двинулись к краю крыши. Маклеод негромко сказал ей:
— По-моему, доктор на тебя запал.
— Маклеод, хватит.
— Я серьезно. Видела, как он краснеет?
— Маклеод…
Делорм приблизилась к стенке и, наклонив голову, стала изучать пол. Этот участок был хорошо освещен луной и лампами крыши. Перед самой стенкой она помедлила, заглянула за нее, потом не спеша прошла налево, направо, в конце концов оказавшись чуть позади того места, с которого начала осмотр.
— Не вижу никаких очевидных следов борьбы, — произнесла она. — Да и вообще никаких следов.
— Тут кое-что есть. — Маклеод заметил листок бумаги, засунутый под цветочную кадку, и нагнулся, чтобы его поднять. Затем он принес его Делорм: линованная страничка, примерно четыре дюйма на шесть, вырванная из блокнота на пружинке.
Несколько фраз, написанных шариковой ручкой мелким, плотным почерком:
Дорогой Джон.
Когда ты будешь это читать, я уже совершу поступок, который ввергнет тебя в пучину боли. Моей вине нет прощенья. Не могу выразить, как она меня мучает. Верь, что я всегда тебя любила — а сейчас люблю в тысячу раз сильнее, чем когда-либо, — и если бы у меня был иной выход…
Кэтрин
3
Когда Делорм спустилась вниз, она увидела, что в вестибюль входит Желаги вместе с убитой горем женщиной в черном: черная юбка, черный блейзер, черная шляпка, черный шарф.
— Сержант Делорм, — сказал Желаги, — это Элеанор Кэткарт. Она живет на девятом этаже, и она знает Кэтрин.
— Не могу поверить, что это произошло, — произнесла женщина. Она сняла шляпку и театральным жестом откинула черные волосы со лба. Все в ней было как-то чересчур: темные брови, темная помада, кожа — белая, как фарфор, однако без намека на хрупкость. По тому, как она произносила некоторые слова, можно было догадаться о ее тесном знакомстве с Парижем. — Я впустила ее в дом, и она спрыгнула с крыши? Это слишком, слишком macabre.[4]
— Откуда вы знаете Кэтрин Кардинал? — задала ей вопрос Делорм.
— Я преподаю в местном колледже. Театральное искусство. Кэтрин там же преподает фотографию. Mon Dieu,[5] просто не верится. Я впустила ее всего часа два назад.
— Зачем вы ее впустили?
— О, я всегда просто обмирала от тех видов, которые открываются из моей квартиры. Она спросила, нельзя ли ей подняться и поснимать. В нашей части города это единственное сравнительно высокое здание. Она об этом говорила уже несколько месяцев, но вот мы наконец по-настоящему условились о rendez-vous.[6]
— Чтобы она пришла к вам в квартиру?
— Нет, ей надо было просто попасть на крышу. Там что-то вроде патио, или как там это называется. Я показала ей, где это, и показала, как подпереть дверь, иначе она захлопнется и тебя запрет, как я убедилась на собственном горьком опыте. Я там не стала задерживаться, она ведь работала, ей не хотелось ничьего общества. Для искусства требуется много уединения.
— Значит, вы достаточно уверены, что она была одна.
— Она была одна.
— Куда вы собирались уйти?
— На репетицию в Кэпитал-центр. Через две недели мы выпускаем «Кукольный дом»,[7] а между тем, уверяю вас, некоторые совершенно не готовы к премьере. Господи, да наш Торвальд до сих пор читает роль по бумажке.
— Кэтрин проявляла какие-то признаки расстройства?
— Никаких. Хотя погодите. Она очень настойчиво хотела попасть на крышу, прямо-таки рвалась туда, но я сочла, что это возбуждение связано с ее работой. И потом, уверяю вас, Кэтрин — не такая уж открытая книга, если вы понимаете, о чем я. Она регулярно впадает в депрессию, достаточно сильную для того, чтобы ее госпитализировали, но я никогда не видела, как это у нее начинается. Хотя, разумеется, я, как и большинство творческих натур, склонна концентрироваться на себе.
— Значит, вы не удивились бы, узнав, что она покончила с собой?
— О, это просто потрясение, то есть… mon Dieu… вы что, думаете, я дала ей ключ от крыши и сказала: «Давай, дорогая. Приятного тебе самоубийства, а я пока сбегаю на репетицию»? Ну что вы.
Женщина сделала паузу, откинула голову и посмотрела в потолок. Затем снова взглянула на Делорм своими темными театральными глазами.
— Поймите, — проговорила она, — я стою сейчас перед вами совершенно ошеломленная, но при этом из всех людей, которых я знаю, а я знаю многих, — так вот, из всех Кэтрин была человеком, который с наибольшей вероятностью совершил бы самоубийство. В больницу ведь не кладут просто из-за приступа хандры, вас не помещают в палату из-за легкого разочарования, и из-за предменструального синдрома вас не заставляют принимать литий. И потом, вы видели ее работы?
— Некоторые, — ответила Делорм. Она вспомнила выставку, проходившую в библиотеке года два назад: на снимках были ребенок, плачущий на ступенях собора; пустая скамья в парке; одинокий красный зонтик среди дождя. Фотографии, отражающие тоску по чему-то. Прекрасные, но печальные, — как сама Кэтрин.
— Об этом и речь, — сказала мисс Кэткарт.
Хотя внутренний суд Делорм порицал эту женщину за непростительно слабое проявление сочувствия, ее собеседница вдруг ударилась в слезы — и это были не показные театральные рыдания, а неопрятные сопливые всхлипывания, говорившие о настоящем, неотрепетированном страдании.
Делорм вместе с доктором Клейборном прошла к «скорой», где Кардинал по-прежнему сидел на задней приступке. Он заговорил еще до того, как они к нему приблизились; голос у него был невнятный и сдавленный:
— Там была записка?
Клейборн протянул ее, чтобы он мог ее прочесть:
— Вы подтверждаете, что это почерк вашей жены?
Кардинал кивнул.
— Это ее, — сказал он и отвернулся.
Делорм проводила Клейборна до его машины.
— Ну вот, вы сами видели, — заключил коронер. — Он опознал почерк жены.
— Да, — ответила Делорм, — я видела.
— Разумеется, будет вскрытие, но, насколько я могу судить, это самоубийство. Никаких признаков борьбы, плюс записка, плюс депрессии в прошлом.
— Вы связались с больницей?
— Я застал ее психиатра дома. Конечно, он подавлен, это всегда расстраивает — потеря пациента, — но он не удивлен.
— Понятно. Спасибо, доктор. Мы все же закончим прочесывать здание, так, на всякий случай. Дайте мне знать, если появится что-то еще, что мы могли бы сделать.
— Обязательно, — заверил ее Клейборн и залез в свою машину. — Очень печалят такие вещи, правда? Все эти самоубийства.
— Это еще мягко сказано, — ответила Делорм. За прошедшие несколько месяцев ей пришлось посетить еще два места, где произошло подобное.
Она огляделась в поисках Кардинала, которого уже не было рядом со «скорой», и обнаружила, что он сидит за рулем своей машины. Но, кажется, он пока не собирался уезжать.
Делорм села рядом, на пассажирское место.
— Будет вскрытие, но коронер намерен подтвердить самоубийство, — сообщила она.
— Вы не собираетесь проверить здание?
— Собираемся, конечно. Но вряд ли мы что-нибудь найдем.
Кардинал наклонил голову. Делорм не имела ни малейшего представления, о чем он сейчас думает. Когда он наконец заговорил, она услышала не то, что ожидала.
— Сижу и пытаюсь сообразить, как мне доставить ее машину домой, — произнес он. — У этой проблемы есть простое решение, но сейчас она мне кажется совершенно неподъемной.
— Я пригоню ее к тебе, — пообещала Делорм. — Когда мы здесь закончим. Кстати, я могу кому-нибудь позвонить? Кто-нибудь может приехать с тобой побыть? В такое время тебе не надо быть одному.
— Я позвоню Келли. Позвоню Келли, как только приеду домой.
— Но Келли ведь в Нью-Йорке, разве нет? А здесь у тебя никого?
Кардинал завел машину.
— Все у меня будет в порядке, — проговорил он.
Нет, судя по его голосу, не все будет в порядке.
4
— Ботинки жмут?
Келли Кардинал сидела за обеденным столом, заворачивая обрамленную фотографию матери в пузырчатую пленку. Она хотела отнести снимок в похоронный зал, чтобы поставить рядом с гробом.
Кардинал расположился в кресле напротив нее. Прошло уже несколько дней, но он по-прежнему пребывал в ошеломлении, не в силах был по-настоящему воспринимать окружающее. Слова дочери никак не складывались в единое целое, которое он мог бы расшифровать. Ему пришлось попросить, чтобы она повторила.
— Эти ботинки, которые на тебе, — сказала она. — Судя по виду, они совсем новые. Они тебе не натирают ноги?
— Немного. Я их надевал всего один раз — на папины похороны.
— Это было два года назад.
— Как мне нравится этот снимок.
Кардинал протянул руку к портрету Кэтрин. Она была снята за работой. На ней был желтый анорак, волосы спутались от дождя, и она была обременена двумя фотоаппаратами: один висел у нее на шее, другой — на плече. Выглядела она раздраженной. Кардинал помнил, как щелкнул ее маленькой «мыльницей», так и оставшейся единственным фотоаппаратом, с которым он научился управляться. Кэтрин тогда действительно была раздражена, причем из-за него: во-первых, она пыталась работать, а во-вторых, она знала, что вытворяет дождь с ее замечательными волосами, и не хотела, чтобы ее в таком виде снимали. В сухую погоду ее волосы мягкими каскадами падали ей на плечи; в дождь же они делались растрепанными и буйными, и это задевало ее тщеславие. Но Кардинал любил, когда у нее растрепанные волосы.
— Как фотограф, она, конечно, терпеть не могла, когда ее фотографируют, — заметил он.
— Может, нам не стоит эту брать. Она тут какая-то сердитая.
— Нет, нет. Пожалуйста. На ней Кэтрин занимается своим любимым делом.
Кардинал сначала сопротивлялся мысли о том, чтобы взять на похороны фотографию, — ему это казалось чем-то недостойным, мучительно не соответствующим моменту, не говоря уж о том, что вид лица Кэтрин разрывал ему сердце.
Но Кэтрин мыслила фотографиями. Стоило зайти в комнату, где она работала, — и не успевали вы рта раскрыть, как оказывалось, что она вас уже сняла. Фотоаппарат словно стал своего рода защитным механизмом, который много лет эволюционировал с единственной целью — обеспечить прикрытие застенчивым, ранимым людям вроде нее. Но она не была и фотографическим снобом. Она могла прийти в восторг и от удачного моментального снимка уличной сценки, и от серии изображений, над которыми билась несколько месяцев.
Келли убрала завернутую фотографию к себе в сумку.
— Пойди переобуйся, — посоветовала она. — Ты же не собираешься там выстаивать в ботинках, которые тебе не подходят.
— Они подходят, — заявил Кардинал. — Они просто еще неразношенные.
— Ну ладно тебе, пап.
Кардинал отправился в спальню и открыл платяной шкаф. Он старался не глядеть в ту его половину, где хранилась одежда Кэтрин, но не мог удержаться. Обычно она носила джинсы с футболками или свитерами. Она была из тех женщин, кто даже на пороге пятидесятилетия хорошо выглядит в джинсах и футболке. Но были там и маленькие черные платья, и шелковые блузки, и один-два топика, в основном серые и черные, она предпочитала эту гамму. «Мои основные цвета», — называла она их.
Кардинал вытащил черные ботинки, которые носил каждый день, и стал их чистить. Прозвенел дверной звонок, и он услышал, как Келли благодарит кого-то из соседей, явившихся с едой и соболезнованиями.
Когда она вошла в спальню, Кардинал не в состоянии был осознать, что стоит на коленях перед распахнутым шкафом, держа в руке обувную щетку, застыв, точно жертва помпейского извержения.
— Нам уже скоро выходить, — напомнила Келли. — Мы еще час можем побыть там одни, а потом начнут приходить люди.
— Угу.
— Ботинки, пап. Ботинки.
— Точно.
Келли села на край кровати позади него, и Кардинал начал начищать обувь. Ему видно было ее отражение в зеркале, вделанном в дверцу шкафа. У нее его глаза, ему всегда об этом говорили. Но рот ей достался от Кэтрин, с этими скобочками в уголках, которые вырастали, когда она улыбалась. И у нее были бы волосы как у Кэтрин, если бы она их отпускала: сейчас у нее была довольно строгая короткая стрижка, с одинокой сине-лиловой прядью. Она была более нетерпелива, чем мать: казалось, она всегда ждет от людей большего, и они вечно ее разочаровывали; но может быть, это было просто одно из проявлений молодости. Она могла быть и очень строгим судьей для себя самой, иногда доводя себя до слез, а не так давно она стала строгим судьей для собственного отца. Но она смягчилась за время последнего пребывания Кэтрин в больнице, и с тех пор они неплохо ладили.
— Плохо так говорить, — произнесла Келли, — но я правда не понимаю, как мама могла так с тобой поступить. Все эти годы ты от нее не отходил, все это время, когда она была такая сдвинутая.
— Она была далеко не только этим, Келли.
— Я знаю, но сколько тебе пришлось пережить! Сначала я — растил меня, маленькую, практически один. Плюс все, что тебе приходилось из-за нее переносить. Помню, еще когда мы жили в Торонто, ты строил какой-то жутко навороченный шкафчик, со всякими ящичками и дверцами. По-моему, ты с ним возился целый год. А однажды ты пришел домой, и оказалось, что она его раздолбала на кусочки, чтобы сжечь! Она тогда была задвинута на идее огня и «творческого разрушения», на какой-то бессмысленной психопатической ерунде, и вот она разрушила эту штуку, которую ты с таким увлечением делал. Как можно такое простить?
Кардинал помолчал. Наконец он повернулся, чтобы посмотреть на дочь.
— Кэтрин никогда не делала ничего, что я бы не простил.
— Это потому что ты такой, а не потому что она была такая. Она что, не понимала, как ей повезло? Как она могла все это взять и отбросить?
Келли заплакала. Кардинал коснулся ее плеча, и она прислонилась к нему; горячие слезы промочили ему рубашку, как уже много раз бывало со слезами ее матери.
— Ей было больно, — произнес Кардинал. — Она страдала, как никто. Вот что тебе надо помнить. Да, с ней иногда было трудно уживаться, но она страдала больше всех. И она ненавидела свою болезнь больше, чем кто бы то ни было.
И ты ошибаешься, если считаешь, что она не была благодарна за то, что ее любят, Келли. Если и была какая-то фраза, которую она говорила чаще прочих, то это было — «Как мне повезло». Она все время это повторяла. Иногда мы ужинали или еще что-нибудь делали, и вдруг она дотрагивалась до моей руки и говорила: «Как мне повезло». И о тебе она тоже это говорила. Она страшно жалела, что так много пропустила, пока ты росла. Она делала все, что могла, чтобы победить болезнь, но в конце концов та ее поборола, вот и все. У твоей матери были колоссальные запасы храбрости — и верности, — иначе она бы столько не продержалась.
— Господи, — сказала Келли. Голос у нее звучал так, словно она внезапно простудилась: нос был заложен. — Хотела бы я, чтобы во мне было хоть вполовину столько сострадания, сколько у тебя. Ну вот, сорвалась и испортила тебе рубашку.
— Я все равно не собирался ее туда надевать.
Он протянул ей коробочку салфеток «Клинекс», и она вытащила сразу несколько штук.
— Пойду умоюсь, — сообщила она. — А то у меня вид, как у Медеи.
Кардинал не был уверен, что помнит, кто такая Медея. И он совершенно не был уверен насчет тех слов, которые только что говорил дочери в утешение. О чем я вообще знаю, спросил он себя. Я даже не видел, что это приближается. Я хуже нашего мэра. Мы почти тридцать лет прожили вместе, и я не смог увидеть, что женщина, которую я люблю, стоит на грани самоубийства?
Именно под влиянием этого вопроса Кардинал ездил вчера в город, чтобы поговорить с психиатром, работавшим с Кэтрин.
Он раза два встречался с Фредериком Беллом во время последнего пребывания Кэтрин в больнице. Но для Кардинала их общение было слишком непродолжительным, чтобы он вынес о враче какое-то мнение, кроме общего впечатления разумности и компетентности. Однако Кэтрин была в свое время в восторге, что его нашла: в отличие от большинства психиатров, Билл полагался главным образом на беседы с пациентом, а не на выписывание рецептов. Кроме того, он был специалистом по депрессиям и написал на эту тему несколько книг.
Его рабочий кабинет располагался в его же доме — эдвардианском монстре из красного кирпича, громоздящемся на Рэндалл-стрит, сразу за собором. В числе предыдущих владельцев строения были член парламента и человек, позже доросший до мелкого медиабарона. Со своими башенками и кричащим декором, не говоря уж об изысканном саде и кованой ограде, здание явно доминировало над всей округой.
В дверях Кардинала встретила миссис Белл, дружелюбная женщина лет пятидесяти с лишним; она как раз уходила. Когда Кардинал представился, она сказала:
— О, детектив Кардинал. Сожалею о вашей утрате.
— Спасибо.
— Вы ведь здесь не по профессиональным делам?
— Нет-нет. Моя жена была пациенткой вашего мужа, и я…
— Конечно, конечно. У вас должны быть к нему вопросы.
Она отправилась на поиски мужа, а Кардинал стал разглядывать обстановку дома. Полированная древесина твердых пород, дубовые панели и лепные украшения, — и это всего-навсего в приемной. Он уже хотел сесть в одно из кресел, стоявших в ряд, когда распахнулась дверь и перед ним предстал доктор Белл — крупнее, чем он казался Кардиналу по воспоминаниям, значительно выше шести футов, с курчавой каштановой бородой, седоватой у подбородка, и с приятнейшим английским выговором, который у него, как уже знал Кардинал, не был ни чересчур аристократически-шикарным, ни подделывающимся под говор рабочего класса.
Он взял руку Кардинала в свои и пожал ее.
— Детектив Кардинал, позвольте мне еще раз сказать: я ужасно сожалею о Кэтрин. Выражаю вам свои самые, самые глубокие соболезнования. Входите же, входите.
Если бы не громадный письменный стол и не отсутствие телевизора, помещение, в котором они оказались, могло бы сойти за гостиную. По всем четырем стенам до потолка шли книжные полки, набитые медицинскими и психологическими текстами — книгами, журналами, папками. Пухлые кожаные кресла, потертые и совсем не подходящие друг к другу, были установлены под таким углом, чтобы удобно было беседовать. И разумеется, здесь была пресловутая кушетка — уютный, домашнего вида диванчик, а совсем не то жесткое, геометричное ложе, которое вы привыкли видеть в фильмах о психоаналитиках.
По настоянию доктора Кардинал сел на кушетку.
— Принести вам что-нибудь попить? Кофе? Чаю?
— Спасибо, все в порядке. Спасибо, что согласились со мной так скоро встретиться.
— Ну что вы. Это самое меньшее, что я мог бы сделать. — Доктор Белл поддернул свои вельветовые брюки, прежде чем сесть в одно из кожаных кресел. На нем был ирландский шерстяной свитер, и он совсем не походил на медика. Скорее он похож на профессора колледжа, подумалось Кардиналу, а может, на скрипача.
— Могу себе представить, что вы задаетесь вопросом — как могло случиться, что вы не увидели, как это приближается, — проговорил Белл, выразив в точности ту мысль, которая билась в голове у Кардинала.
— Да, — ответил Кардинал. — Если подытожить, то примерно так.
— И не вы один задаете себе такой вопрос. Вот здесь перед вами сижу я, человек, с которым Кэтрин в течение почти целого года обсуждала свою эмоциональную жизнь, и я тоже этого не предвидел.
Он откинулся на спинку кресла и покачал своей курчавой головой. Кардиналу он невольно напомнил эрдельтерьера. Помолчав, доктор негромко добавил:
— Вероятно, если бы у меня были такие подозрения, я бы ее госпитализировал.
— Но ведь это необычно? — спросил Кардинал. — Когда пациентка регулярно приходит к вам на прием, но не упоминает о том, что она планирует… Зачем ходить к врачу, если ты ему не доверяешь или не можешь доверять?
— Она мне доверяла. Кэтрин не была чужда суицидальных мыслей. Но поймите меня правильно, ничто не указывало на то, что у нее имеется конкретный план, который она намерена в ближайшее время осуществить. Но, разумеется, мы обсуждали ее отношение к самоубийству. Какая-то ее часть приходила от такой идеи в ужас, а какая-то считала эту мысль весьма притягательной, — уверен, что вы это сами знаете.
Кардинал кивнул:
— Это была одна из первых вещей, которые она мне о себе рассказала, еще до того, как мы поженились.
— Честность была одной из сильных сторон Кэтрин, — заметил Белл. — Она часто повторяла, что лучше уж умрет, чем станет переносить еще одну острую депрессию — и, спешу добавить, это не оттого, что она хотела облегчить собственные мучения. Как и большинство страдающих депрессией, она с ненавистью относилась к самому факту, что болезнь так осложняет жизнь тех, кого она любит. Я бы удивился, если бы вы мне сказали, что она не повторяла вам это на протяжении многих лет.
— Много раз, — проговорил Кардинал, и внутри у него словно что-то обрушилось. Комната стала расплываться у него перед глазами, и доктор протянул ему коробочку «Клинекса».
Спустя некоторое время доктор Белл, сдвинув брови, наклонился вперед, сидя в своем кресле.
— Знаете, вы не могли ничего предпринять. Пожалуйста, позвольте мне вас по этому поводу успокоить. Для тех, кто совершает самоубийство, это достаточно распространенное поведение — не выказывать никаких признаков своего намерения.
— Я знаю. Она не выкидывала дорогих ей вещей, ничего такого не делала.
— Да. Никаких классических симптомов. И в ее истории болезни не зафиксировано никаких попыток самоубийства, хотя суицидальная фиксация там обильно представлена. Тем не менее мы имеем дело с картиной непрекращающейся, длившейся десятилетиями битвы с клинической депрессией — одной из составляющих ее биполярного заболевания. Есть бесспорная статистика: для страдающих маниакально-депрессивным психозом вероятность суицида наиболее высока, это абсолютно точно. Она выше, чем у всех прочих групп людей. Господи, может показаться, будто я знаю, о чем говорю, верно? — Доктор Белл беспомощно развел руками. — Но такие вещи заставляют чувствовать себя непрофессионалом.
— Я уверен, что тут нет вашей вины, — ответил Кардинал. Он не понимал, что он здесь делает. Он что, пришел для того, чтобы слушать рассказ этого лохматого англичанина о статистике и вероятностях? Все-таки это же я видел ее каждый день, подумал он. Это я не обращал внимания. Был слишком глуп, эгоистичен, слеп.
— У вас возникло искушение обвинить самого себя, верно? — спросил Белл, снова прочитав его мысли.
— В моем случае это означает просто придерживаться фактов, — заметил Кардинал, уловив горечь в собственном голосе.
— Но со мной происходит то же самое, — признался врач. — В этом — дополнительный ущерб, причиняемый суицидом. Все, кто был близок с человеком, покончившим с собой, начинают чувствовать, что они слишком мало делали, что они были недостаточно чутки, что им следовало бы вмешаться. Но это вовсе не значит, что такие чувства адекватно отражают реальное положение вещей.
Доктор сказал еще что-то, но Кардинал, похоже, пропустил все это мимо ушей. Его сознание было словно выгоревшее дотла здание. Словно пустая ракушка. Как он вообще мог сейчас хоть как-то представить себе, что происходит вокруг него?
Когда он уходил, Белл сказал:
— Кэтрин повезло, что вы были ее мужем. И она это знала.
От этих слов доктора он чуть было снова не потерял самообладание. Кое-как он пробрался через приемную и вышел под золотой осенний свет.
5
Похоронный зал Десмонда располагается на углу Самнер-стрит и Эрл-стрит, точно по центру, а значит, почти каждый въезжающий в город и выезжающий из города непременно должен его миновать: таким образом, строение служит для жителей Алгонкин-Бей своего рода повседневным «memento mori».[8] Это не такое уж красивое здание — в общем-то не более чем бетонный параллелепипед, выкрашенный в кремовый цвет для смягчения его жестких углов и подсветления мрачных мыслей, которые он навевает. Когда отец Кардинала проезжал мимо, он всегда махал рукой и выкрикивал: «Пока вы меня еще не заполучили, мистер Десмонд! Пока вы меня не заполучили!»
Но конечно же в конце концов мистер Десмонд все-таки заполучил Стэна Кардинала, как перед этим он заполучил мать Джона Кардинала и как он рано или поздно получит всех обитателей Алгонкин-Бей. По крайней мере, католиков. К востоку отсюда, через несколько кварталов имелся другой похоронный зал, туда отправлялись протестанты; и было еще одно, сравнительно недавно выстроенное заведение, которое, похоже, вело весьма оживленный бизнес, занимаясь недавно преставившимися мусульманами, иудеями и «прочими».
Собственно, мистер Десмонд был не одним человеком, а многоликой сущностью, чьи печальные, но необходимые обязанности рьяно выполняли многочисленные сыновья, дочери, зятья и невестки Десмонда.
Когда Кардинал вместе с Келли вошел в вестибюль похоронного зала, эмоции тучами сгустились у него в груди. Ноги задрожали в коленях. Дэвид Десмонд, аккуратный молодой человек, воплощение педантичности, обменялся с ними рукопожатиями. На нем был элегантный серый костюм, из нагрудного кармана которого выглядывал идеальный треугольник безукоризненно накрахмаленного носового платка. Его поблескивающие черные ботинки-броуги скорее подошли бы человеку постарше.
— У вас сорок три минуты до того, как начнут прибывать люди, — сообщил он. — Хотите войти сейчас?
Кардинал кивнул.
— Хорошо. Вам в Розовый зал, вот туда, через вторую пару дубовых дверей — направо, пройдете мимо высокого комода со стоячими часами. — Указания звучали так, словно они описывали путешествие длиной в несколько миль, а не тридцать футов пути по ковру пастельных тонов. — Пожалуйста, сразу входите, — добавил он. — Если что-то понадобится, я буду здесь.
Кардинал уже бывал в этом помещении и знал, чего ожидать: стены успокаивающего пыльно-розового цвета, подходящие друг к другу диваны и кресла, изящные приставные столики с матовыми лампами, благодаря которым все здесь было окутано рассеянным, благосклонным светом. Но когда он переступил через порог, то замер. Из груди его вырвался странный всхлип.
— Что такое? — спросила у него за спиной Келли. — Что-то не так?
— Я просил закрытый гроб, — удалось произнести Кардиналу. — Не думал, что еще ее увижу.
— Ну да. Я тоже.
Они вошли внутрь и стояли не двигаясь. Комната растянулась в розовый туннель, в конце которого Кэтрин лежала в ожидании, невозможно прекрасная.
Наконец Келли сказала:
— Хочешь, я их попрошу его закрыть?
Кардинал не ответил. Он пересек зал медленными, нерешительными шагами, как будто пол под ним мог в любую секунду расступиться.
Много лет назад, когда в этом же помещении лежала мать Кардинала, фигура в гробу мало чем напоминала ее при жизни. Болезнь, поразившая ее, не оставила и следа от жизнерадостной, волевой женщины, которая любила его всю жизнь. И с отцом вышло так же: лишившись очков и своей воинственности он казался совершенно незнакомым человеком.
Но Кэтрин осталась собой: широкий лоб, пухлые губы со скобочками по бокам рта, вьющиеся каштановые волосы, живописно спадающие на плечи. Каким образом Десмонды уничтожили следы повреждений, причиненных ей падением, Кардиналу знать не хотелось. Сейчас это опять была его прежняя жена, с гладким лицом, с щеками без шрамов.
Увиденное швырнуло его в какое-то новое измерение боли. «Боль» — это было недостаточно сильное слово для того, чтобы описать эту обитель скорби.
Время сделало поворот, и вот он уже скрючился на одном из розовых диванов, измотанный, сотрясающийся от рыданий. Келли сидела рядом с ним, стискивая пропитанный влагой комок салфеток.
Кто-то заговорил с ним. Кардинал неуверенно поднялся на ноги и пожал руки мистеру и миссис Уолкотт, соседям по Мадонна-роуд. Оба были учителями на пенсии и почти все свое время проводили в перебранках друг с другом. На сегодня они, видимо, решили заключить перемирие и теперь выступали единым фронтом, выражавшим тихое официальное сочувствие.
— Мы очень сожалеем о вашей потере, — произнес мистер Уолкотт.
Миссис Уолкотт проворно шагнула вперед.
— Такая трагедия, — заявила она. — И в такое чудесное время года.
— Да, — ответил Кардинал. — Кэтрин всегда больше всего любила осень.
— Вы ведь получили запеканку?
Кардинал посмотрел на Келли; та кивнула.
— Да, спасибо. Вы очень добры.
— Надо будет только ее заново разогреть. Двадцать минут при двухстах пятидесяти градусах, этого хватит.
Стали прибывать остальные. По одному они подходили к гробу, чтобы постоять рядом; некоторые вставали на колени и крестились. Здесь были преподаватели из Северного университета и местного колледжа, где Кэтрин вела занятия. Бывшие студенты. Седовласый мистер Фиск, которому в течение нескольких десятилетий принадлежал одноименный фотомагазин, пока наконец его вместе с половиной Мэйн-стрит не вытеснил «Уол-Март» с его губительными щедротами.[9]
— Великолепный снимок Кэтрин, с этими аппаратами, — заметил мистер Фиск. — Она заходила ко мне в магазин именно в таком виде. И всегда на ней был этот анорак или рыбацкий жилет. Помните этот жилет? — Волнение проявлялось в мистере Фиске как развязность: он словно бы обсуждал с ними странности общего приятеля, который уехал из их мест.
— Много народу, — добавил он, одобрительно поглядывая по сторонам.
Студенты и студентки Кэтрин, некоторые уже средних лет, а другие — молодые и заплаканные, бормотали Кардиналу добрые слова. Они были вполне общепринятыми, но Кардинал поразился, насколько они его трогают. Кто бы мог подумать, что обычные слова способны обладать такой силой?
Стали появляться его коллеги: Маклеод в костюме, явно скроенном на человека меньших габаритов; Коллинвуд с Арсено, напоминавшие безработную комическую пару. Ларри Бёрк сотворил крестное знамение перед гробом и некоторое время стоял перед ним склонив голову. Он не очень хорошо знал Кардинала, так как сравнительно недавно пришел в розыскной отдел, но он тоже подошел и принес свои соболезнования.
Пришла Делорм, в темно-синем платье. Кардинал не мог вспомнить, когда он в последний раз видел ее в платье.
— Такой печальный день, — сказала она, обнимая его. Он ощутил, как она чуть-чуть дрожит, сдерживая слезы сочувствия, — и не смог ничего произнести. Она несколько минут стояла у гроба на коленях, а потом подошла к Кардиналу и снова обняла его, и глаза у нее были мокрые.
Пожаловал шеф полиции Р. Дж. Кендалл, в сопровождении детектив-сержанта Шуинара, Кена Желаги и всех остальных сотрудников отдела уголовного розыска, а также всевозможных патрульных констеблей.
Река дня сделала еще один поворот, и вот они уже в крематории «Хайлоун». Кардинал не помнил, как въехал на эти холмы. Кэтрин не хотела церковного отпевания, но в ее завещании, которое она в свое время составила вместе с Кардиналом, она попросила, чтобы отец Самсон Мкембе сказал несколько слов.
Когда Кардинал был алтарным служкой, все священники были или ирландского, или французского происхождения. Но в нынешние времена церкви приходилось набирать себе служителей из отдаленных мест: отец Мкембе приехал сюда из самой Сьерра-Леоне. Он стоял в переднем приделе часовни при крематории — высокий, костлявый человек с лицом словно выточенным из хорошо отполированного эбонита.
Часовня была почти полна. Кардинал увидел Мередит Мур, возглавлявшую отделение изобразительных искусств в колледже, и Салли Вестлейк, близкую подругу Кэтрин. Среди присутствующих он различил курчавую голову доктора Белла.
Отец Мкембе говорил о силе Кэтрин. Собственно, большинство ее положительных качеств он назвал верно, — безусловно, потому, что перед этим он звонил Келли и беседовал с ней о матери. Но говорил он и о том, как вера поддерживала Кэтрин во всех превратностях судьбы: традиционное лицемерие, ибо Кэтрин заходила в церковь лишь по очень важным поводам и давно перестала верить в Бога.
Раскрылись створки печи, блеснуло пламя. Гроб въехал внутрь, створки закрылись, и священник прочел заупокойную молитву. В сердце Кардинала бился роковой колокол: «Ты обманул ее».
Когда он вышел наружу, краски мира показались ему неестественно яркими. Небо было ослепительно-голубое, точно огонь газовой горелки, а ковер осенних листьев, казалось, излучал свет, а не просто отражал его: золотое, желтое, ржаво-красное. Тень прошла над Кардиналом, когда дым, который когда-то был его женой, на мгновение притушил солнечный свет.
— Мистер Кардинал, не знаю, помните ли вы меня…
Мередит Мур пожала Кардиналу руку своей маленькой сухой ладонью. Она была совсем тщедушной, словно бы обезвоженной: казалось, ее надо погрузить в жидкость, чтобы она разбухла до своего настоящего размера.
— Мы с Кэтрин были коллегами…
— Да, миссис Мур. За эти годы мы с вами несколько раз встречались.
На самом-то деле эта миссис Мур вела с Кэтрин весьма неблаговидные баталии за контроль над отделением искусств. Она не постеснялась привлечь к делу историю болезни Кэтрин в качестве фактора, препятствующего занятию такой должности, и в конце концов восторжествовала.
— Кэтрин будет мучительно не хватать, — прибавила она. — Студенты ее обожают, — заметила она тоном, показывавшим полнейшую несостоятельность такого мнения студентов.
Кардинал отошел от нее, чтобы найти Келли, которую как раз обнимала Салли Вестлейк. Салли была огромной женщиной с огромным сердцем, и она оказалась в числе тех немногих, кому Кардинал лично позвонил, чтобы сообщить о смерти Кэтрин.
— О, Джон, — сказала она, промакивая глаза. — Я буду по ней так скучать. Она была моей лучшей подругой. Моим источником вдохновения. Это не какой-то штамп: она всегда как бы бросала мне вызов, заставляла меня больше думать о моих фотографиях, больше снимать, проводить больше времени в фотокомнате. Она просто была самая лучшая. И она так гордилась тобой, — добавила она, глядя на Келли.
— Не понимаю почему, — призналась Келли.
— Потому что ты совсем как она. Талантливая и храбрая. Стараться сделать себе карьеру в искусстве — не где-нибудь, а в Нью-Йорке? Это требует большого мужества, моя милая.
— А с другой стороны, может, это совершенно напрасная трата времени.
— Не смей так говорить! — Кардиналу на мгновение показалось, что Салли сейчас ущипнет его дочь за щеку или взъерошит ей волосы.
Подошел доктор Белл, чтобы еще раз высказать соболезнования.
— Очень любезно с вашей стороны, что вы пришли, — сказал ему Кардинал. — Это моя дочь Келли. На несколько дней приехала из Нью-Йорка. Доктор Белл был психиатром Кэтрин.
Келли удрученно улыбнулась:
— Видимо, это не самый успешный случай в вашей практике.
— Келли…
— Нет-нет, ничего. Абсолютно правомерное замечание. К несчастью, специалист по депрессии в чем-то подобен онкологу: доля удач заведомо мала. Но я не хотел вас беспокоить, я просто хотел выразить сочувствие.
Когда он отошел, Келли повернулась к отцу:
— Ты говорил, что мама не выглядела такой уж погруженной в депрессию.
— Да, говорил. Но ей и раньше удавалось меня провести.
— Все так добры, — проговорила Келли, когда они вернулись домой. Войска открыток с соболезнованиями были выстроены в боевом порядке на обеденном столе, а на кухне и разделочный, и большой стол были заставлены контейнерами «таппервер»[10] с рисовыми запеканками, ризотто, рататуями, колбасным хлебом, пирогами и пирожными, даже с запеченным окороком.
— Хорошая традиция — со всей этой едой, — заметил Кардинал. — Начинаешь чувствовать себя совершенно пустым внутри, знаешь, что должен быть голоден, но мысль о том, чтобы что-нибудь приготовить, — это уже слишком. Да и вообще все мысли — какие-то лишние.
— Может, пойдешь ляжешь? — предложила Келли, снимая пальто.
— Нет, мне так будет только хуже. Пойду поставлю что-нибудь в микроволновку.
Он взял один из пластмассовых контейнеров и встал посреди кухни, рассеянно глядя в него, как если бы это было некое внеземное устройство из окрестностей Арктура.
— Еще открытки, — объявила Келли, вываливая горсть карточек на кухонный стол.
— Не хочешь их посмотреть?
Кардинал поставил контейнер в печку и уставился на ряды кнопок. Снова провал в сознании. Самые простые действия остались где-то в прошлом: Кэтрин ушла. К чему теперь есть? Или спать? Или жить? «Ты этого не переживешь, — сказал ему внутренний голос. — С тебя хватит».
— О господи, — произнесла Келли.
— Что?
Она одной рукой сжимала открытку, а другой прикрывала рот.
— Что такое? — спросил Кардинал. — Дай посмотреть.
Келли замотала головой, убирая от него открытку.
— Келли, дай мне на нее посмотреть.
Он схватил ее за запястье и вырвал карточку.
— Выброси ее, папа. Даже не смотри на нее. Сразу выброси.
Открытка была из дорогих, с натюрмортом — лилией. Внутри — стандартное типографское соболезнование, покрытое треугольничком бумаги, на котором кто-то напечатал: «Ну как тебе это, ублюдок? Кто бы знал, что так повернется, а?»
6
Планета Скорбь. В неисчислимом количестве световых лет от солнечного тепла. Когда идет дождь, он сеется каплями скорби, а когда светит солнце, оно испускает волны и частицы скорби. Откуда бы ни дул ветер — с юга, востока, севера или запада, — он влечет с собой скорбную пыль. Скорбь жжет глаза, вытягивает дыхание из легких. На этой планете нет ни кислорода, ни азота; в состав атмосферы входит лишь скорбь.
Скорбь накатывала на Кардинала не только от бесчисленного множества предметов, некогда принадлежавших Кэтрин: фотографий, дисков, книг, одежды, магнитов на холодильник, мебели, которую она выбирала, стен, которые она красила, растений, за которыми она ухаживала. Скорбь просачивалась сквозь все запоры, протискивалась под дверями, пробиралась в окна.
Спать он не мог. Слова записки снова и снова раздавались у него в голове. Он поднялся с постели, пошел на кухню и стал изучать бумажку под яркими лампами. Келли выбросила конверт, но он извлек его из мусорного ведра. Буквы явно были напечатаны на принтере, но ничего особенного в них не было — во всяком случае, ничего, что он мог бы обнаружить невооруженным глазом.
И в самой открытке тоже не нашлось ничего примечательного. Открытка со стандартным соболезнованием и конверт к ней, сделано фирмой «Холлмарк», продается по всей стране, в любом универмаге или магазине канцелярских принадлежностей.
На штемпеле была указана дата и время, — разумеется, это была дата и время обработки послания, а не его отправки, — и почтовый индекс. Кардинал знал, что индекс указывает не точное месторасположение того ящика, куда отпустили письмо, а расположение почтового узла, через который это письмо прошло. Кардинал узнал штемпель — маттавский. Он мало кого знал из жителей Маттавы, и ни у кого из этих знакомых не было видимых причин желать ему зла. Конечно, Маттава была знаменитым дачным местом, со всей провинции Онтарио сюда съезжались на выходные, чтобы отдохнуть у реки. Но сейчас уже давно наступил октябрь, и большинство уже закрыли свои коттеджи на зиму.
Конечно, если вы хотите скрыть свое истинное местонахождение, ничто не мешает вам доехать до Маттавы и опустить открытку там: всего-то и нужно добраться до Семнадцатого шоссе, а это чуть больше получаса езды от Алгонкин-Бей.
Лиз Делорм удивилась, когда его увидела. Было воскресенье, и он застал ее за мытьем окон. На ней были джинсы с огромными прорезями на коленях и заляпанная краской льняная рубашка, которой было по меньшей мере лет двадцать. В ее домике, бунгало в верхней части Рэйн-стрит, пахло уксусом и свежими газетами.
— С августа собираюсь их вымыть, — сообщила она, словно он ее об этом спросил, — и вот наконец нашла время.
Она сделала кофе.
— Для тебя — без кофеина, — объявила она. — Вряд ли ты спал.
— Это правда. Но тут есть причина. Я хочу сказать — еще одна причина.
Делорм внесла в гостиную кофе и тарелку с шоколадным печеньем.
— Может, попросишь своего врача, чтобы выписал тебе валиум? — предложила она. — Если будешь недосыпать, будет еще хуже, зачем тебе это?
— Скажи мне, что ты об этом думаешь. — Он вытащил открытку и конверт из бумажной папки и положил на столик. Теперь они лежали в прозрачной пластиковой папке — развернутая открытка и почтовый конверт, адресом вверх.
Делорм подняла бровь:
— Работа? Зачем ты мне принес работу? Я думала, ты взял отпуск на неделю или на две. Черт, да на твоем месте я бы ушла на несколько месяцев.
— Ты просто посмотри.
Делорм склонилась над столиком.
— Это тебе кто-то прислал?
— Да.
— Ох, Джон. Прости меня. Какая мерзость.
— Я хотел бы знать, кто это послал. Думаю, ты могла бы мне сказать свое первое впечатление.
Делорм посмотрела на открытку.
— Ну, во-первых, этот человек, кто бы он ни был, дал себе труд напечатать эти две строчки, вместо того чтобы вписать их от руки. А значит, видимо, он думает, что ты можешь узнать его почерк — или, по крайней мере, сумеешь сравнить его с какими-то существующими образцами.
— Приходят в голову какие-нибудь кандидаты?
— Ну конечно. Все, кого ты сажал в тюрьму.
— Все? Не уверен. Например, я месяца два назад упек Тони Капоцци за нападение с применением насилия, и он, конечно, бесится, но я не представляю, как он может сделать что-нибудь в этом роде.
— Я имею в виду — те, кто получил серьезный срок. Может быть, пять лет или больше. Таких немного.
— И среди них должен найтись достаточно изощренный человек — и достаточно настойчивый, — чтобы выяснить мой домашний адрес. Меня же нет в телефонном справочнике. Возможно, он как-то связан с бандой Рика Бушара.
Рик Бушар был одним из самых гнусных прирожденных негодяев в мире, даже по меркам наркоторговцев, — но года два назад его убили в тюрьме. В свое время Кардинал помог упрятать его туда на пятнадцать лет, и Бушар, который, в отличие от большинства преступников, обладал большим ресурсом влияния и неплохим природным умом, преследовал его до самой своей смерти.
— Не исключено, — согласилась Делорм. — Но насколько это вероятно? Притом что Бушар умер, и все такое.
— Они знают мой адрес. И потом, это в их стиле. Года два назад Кики Б. явился к самым моим дверям, принес письмо с угрозами.
— Но тогда Бушар был еще жив, а Кики с тех пор ушел на покой, ты сам мне говорил.
— По-твоему, такие типы, как Кики, когда-нибудь уходят на покой?
— Многие «плохие парни» легко могут разузнать твой адрес. В конце концов, существует Интернет. А помнишь, какой-то идиот репортер сделал интервью с тобой прямо на фоне твоего дома? Дело было очень громкое. Кто знает, сколько народу видело этот сюжет?
— Его не показывали на всю страну, я проверял. Только по местному телевидению.
— Местные каналы тоже покрывают большую территорию. Джон… — Делорм взяла его руку своими теплыми ладонями: это был один из тех редких случаев, когда она до него дотрагивалась. Лицо у нее было мягкое, и даже сквозь поволоку боли — возможно, даже благодаря своей боли, — Кардинал увидел, как же она сейчас невероятно красива. Он понял, что для работы она словно бы надевает совсем другое лицо — бронированное, чтобы легче выдерживать ежедневный фестиваль сарказма у них в отделе. Разумеется, так поступал и он, и все остальные, но ему вдруг показалось, что Делорм, единственная женщина в отделе, чем-то похожа на дельфина в бассейне, полном акул.
— С таким же успехом это может быть какой-нибудь твой сосед-пакостник, — заметила она. — Кто-нибудь из тех, кто затаил обиду на полицию. Тут не обязательно что-то личное.
Кардинал приподнял пластиковую папку:
— Судя по штемпелю — Маттава.
— Ну, тогда… Слушай, а почему бы тебе не махнуть на это рукой? Тебе ведь это не поможет. Тебе не станет легче. Если ты в это полезешь, тебе придется преодолеть уйму всяких сложностей. Я даже не уверена, что ты их сможешь преодолеть.
— Я собирался попросить об этом тебя.
— Меня. — Она посмотрела на него, и взгляд у нее уже не был таким мягким.
— Мне нельзя этим заниматься, Лиз. Я — лицо причастное.
— Я не могу это расследовать. Это не преступление — послать по почте мерзкую открытку.
— «Кто бы знал, что так повернется?» — прочел Кардинал. — Ты не считаешь это угрозой? Если учесть ситуацию.
— Я бы назвала это утверждением. Оно касается жизни в целом. Оно не содержит угрозы причинить вред в будущем.
— И ты даже не считаешь его двусмысленным?
— Нет, Джон, не считаю. Первая часть, конечно, отвратительная, но это не угроза. А вся эта штука в целом — глумление, не более того. По поводу глумления не заводят дел.
— А если Кэтрин не покончила с собой? — спросил Кардинал. — А если ее действительно убили?
— Но ее не убили. Она оставила записку. У нее было определенное прошлое. Те, кто страдает маниакально-депрессивным психозом, то и дело себя убивают.
— Я знаю…
— Ты видел записку, она написана ее собственным почерком. А потом, я обыскала ее машину. И нашла блокнот на пружинке, в котором она ее писала. Там же нашлась и ручка. Вспомни, ты сразу сказал, что это ее почерк.
— Ну да, но я же не эксперт.
— Никто не видел и не слышал ничего подозрительного.
— Но дом только-только начали заселять. Сколько человек там живет? Пять?
— Пока купили пятнадцать квартир. Десять из них уже заселены.
— Иными словами, какой-то город призраков. Какова вероятность, что кто-нибудь что-то видел или слышал?
— Джон, мы не нашли никаких следов борьбы. Ни малейших. Я сама осмотрела крышу. Ни крови, ни царапин на чем-то, ничего не сломано, не разбито. Эксперты и коронер считают, что ее положение на земле соответствует картине падения с высоты.
— Соответствует картине. Значит, ее могли толкнуть.
— Вскрытие тоже ничего такого не показало. Все указывает на самоубийство. Нет ничего, что говорило бы о другом.
— Я хочу знать, кто отправил эту записку, Лиз. Ты мне поможешь или нет?
— Я не могу. Как только мы получили отчет патологоанатома, Шуинар закрыл дело. А раз нет дела, то нет и номера дела. Что я скажу людям? Речь идет о моей работе.
— Ладно, — произнес Кардинал. — Забудь, что я тебя просил.
Он встал и взял с кресла свою куртку. Он стоял перед окном, застегивая пуговицы. Там, за стеклом, небо было по-прежнему сверхъестественно синим, и опавшие листья лежали золотисто-охряным пуховым одеялом.
— Джон, никто никогда не поверит, что человек, которого он любил, покончил с собой.
— Ты кое-что пропустила. — Кардинал показал на стекло. В окно было видно, как в листве играют две соседские девочки, кувыркаясь, словно щенки.
— Тебе ни к чему это делать. Незачем искать виновных. Ты не виноват в ее смерти.
— Я знаю, — ответил Кардинал. — Но, может быть, Кэтрин тоже в ней не виновата.
7
Все следующее утро Делорм не могла выкинуть Кардинала из головы. У нее была целая пачка отчетов, которую надо было перерыть, всевозможные обвинения в нападениях и кражах, которые следовало проверить, и один насильник, который на следующей неделе должен был предстать перед судом. Ее главный свидетель перетрусил, и все дело грозило развалиться.
А потом детектив-сержант Шуинар взвалил на нее еще одно дело.
— Тебе должны позвонить из торонтского отдела секс-преступлений, — сообщил он. — Похоже, у них для нас кое-что есть.
— Откуда у торонтского секс-отдела кое-что для Алгонкин-Бей?
— Очевидно, они завидуют нашей всемирной славе. В любом случае — не благодари меня. Тебе эта история вряд ли понравится.
Звонок раздался полчаса спустя, от сержанта Лео Дюковски, уверявшего, что помнит Делорм по конференции криминалистов в Оттаве, проходившей года два назад. Он тогда выступал с докладом по компьютерной тематике, а Делорм участвовала в дискуссии по проблемам бухгалтерии.
— Судебной бухгалтерии? — уточнила Делорм. — Значит, это было почти десять лет назад. Видимо, я тогда сделала вам что-то ужасное, раз вы до сих пор меня помните.
— Ничего подобного. Я помню вас просто как очень привлекательную французскую женщину, с очень…
— Франкоканадскую, — поправила Делорм. Она была не против того, чтобы с ней флиртовали, но всему есть границы.
Но сержант Дюковски ни на секунду не смутился.
— … с очень французским именем и без малейшего акцента.
— А что такое? Думаете, мы все живем в глухих лесах? И разговариваем, как Жан Кретьен?[11]
— Это еще одна штука, которую я про вас запомнил. Вы довольно обидчивая.
— Может быть, вы сами вызываете в людях эти чувства, сержант? Вам это не приходило в голову?
— Видите, вот по таким замечаниям мужчины вас и запоминают, — проговорил Дюковски, — а между тем мужчине предстоит довольно неприятная работенка. Хотя вам, может, даже понравится этот случай. Придется повозиться, но награда будет очень неплохой — если все получится. Мы уже давно следим за распространением детской порнографии в интернете. Одна девочка засветилась там уже несколько лет назад и с тех пор продолжает появляться. Ей было семь лет, когда мы ее впервые увидели. Мы думаем, что сейчас ей уже тринадцать или четырнадцать.
— Она появляется в разном антураже? С разными растлителями?
— Нет, все время с одним и тем же типом. И понятно, он старается, чтобы его лицо не попало в кадр. Но похоже, снимается это всего в нескольких местах. Мы пытались выделить определенные элементы на заднем плане — мебель, вид из окна и тому подобное.
— И вы считаете, что она живет в Алгонкин-Бей?
— Или живет, или приезжает. Мы не на сто процентов уверены. Материалы вам уже везет курьер. Потом сообщите нам, что вы насчет этого думаете. Если на этих фотографиях действительно Алгонкин-Бей, мы, конечно, сделаем все, чтобы вам помочь, но дело тогда, понятно, перейдет к вам. Ну как, теперь вы рады, что я вас запомнил?
Но даже такой звонок не смог надолго ее отвлечь: Джон Кардинал по-прежнему то и дело проникал в ее мысли. Его стол стоял рядом со столом Делорм, и за ним никого не было, а ведь Кардинал практически никогда не пропускал работу. Даже когда умер его отец, он взял всего один день отгула. Вероятно, это полезно для полицейского управления, размышляла она, но вообще такая неспособность хотя бы ненадолго оторваться от работы — проявление скорее слабости, чем силы.
Делорм понимала, что и она сама во многом такая же. Ей было скучно в свободные дни, и, когда в конце года подводили итоги, обычно ей выплачивали стоимость примерно двухнедельного отпуска, который она не отгуляла.
Она посмотрела на фотографию Кэтрин, стоящую у Кардинала на столе. На этом снимке ей, наверное, было около сорока пяти, но она сохранила изрядную долю сексуальности, которая проявлялась во всем — от чуть скептического взгляда до влажновато поблескивающей нижней губы. Легко понять, почему Кардинал в нее влюбился. Но что ты сделала с моим другом, хотела спросить у нее Делорм. Почему ты совершила этот непростительный поступок? Да и вообще, почему люди такое делают? Ей сразу вспомнились три недавних случая: мать троих детей, администратор службы социальной помощи, мальчик-подросток, — все они сами наложили на себя руки.
Делорм открыла блокнот, который нашла в машине у Кэтрин: обычная книжица на пружинке, на обложке напечатано: «Северный университет». Судя по содержимому, хозяйка использовала эту штуку для всех случаев жизни. Имена и телефоны были нацарапаны здесь под всевозможными углами, вперемежку с какими-нибудь рецептами грибного печенья или соуса, с напоминаниями самой себе — не забыть взять одежду из химчистки или оплатить счет, — и идеями фотопроектов: «Телефонная серия. Люди, говорящие по телефону: в телефонах-автоматах, по мобильникам, по рации, по игрушечным аппаратам и т. п.» Или: «Серия «Новые бездомные». Портреты бездомных, при этом — ухоженных, причесанных, в хороших костюмах. Задача — как можно сильнее снять с них налет «чуждости». Или иначе? Не так натянуто?» На следующей странице она вывела просто: «День рождения Джона».
В распоряжении Делорм оказалась и ручка. Она вместе с блокнотом лежала в сумке Кэтрин, которую та носила через плечо. Обычный «пейпермейт», голубая паста, очень бледная. Делорм написала на листке бумаги «личные вещи» и сравнила эти слова с записями в блокноте. Та же самая паста — во всяком случае, насколько можно было судить без лабораторного анализа.
Плюс сама записка. Почерк, кажется, был тот же, что и в блокноте. Минималистское J в слове «John», перекладинка буквы t в слове «other»[12] делает петлю над буквой h — и в блокноте, и в предсмертной записке. Послание ужасное, а между тем почерк не кажется нетвердым, нажим не сильнее, чем в других записях. Более того, это послание написано значительно аккуратнее, словно решение умереть Кэтрин приняла с незыблемым спокойствием. Но у тебя ведь был замечательный мужчина, любящий, верный супруг. Почему ты совершила этот жуткий поступок? Делорм снова захотелось задать ей этот вопрос. И неважно, насколько сильную боль ты испытывала. Как ты могла?
Она уложила все три предмета в двойной конверт и запечатала его.
Несколько часов спустя этот конверт был открыт на кухонном столе у Джона Кардинала, на Мадонна-роуд. Келли Кардинал смотрела, как отец аккуратно пролистывает блокнот на пружинке. От одного вида материнского почерка сердце в груди у Келли словно плавилось. Отец то и дело вносил какие-то пометки в собственный блокнот.
— Как тебя на это хватает — смотреть на все эти штуки, пап?
— Может быть, пойдешь в другую комнату, милая? Я этим занимаюсь, потому что должен.
— Не понимаю, как ты это можешь выносить.
— Не могу. Я просто должен это сделать, вот и все.
— Но зачем? От этого у тебя просто поедет крыша, вот и все.
— На самом деле от этого занятия мне, как ни странно, даже легче. Мне надо на чем-то сосредоточиться — на чем-то, кроме того простого факта, что Кэтрин…
Келли протянула руку и коснулась его рукава.
— Может, как раз на этом факте тебе и надо сосредоточиться, а не сидеть над ее блокнотом. Это нездорово, пап. Может, тебе надо просто лечь и поплакать. Покричать, если нужно.
Ее отец изучал блокнот под ярким светом лампы, невысоко висящей над кухонным столом. Он вертел его так и сяк, сначала исследовал чистую страницу, а потом ту, на которой было что-то написано. Его углубленность в это занятие раздражала ее.
— Посмотри-ка, — сказал он. — То есть не смотри, если не хочешь… Но это интересно.
— Ну что такое, господи? Не верится, что ты стал возиться с этой ерундой.
Келли подумала: «Я заговорила, как подросток. Видимо, под действием стресса я впала в детство».
— Насколько я могу судить, это почерк Кэтрин.
— Ну конечно. Я и сама могу это сказать, даже когда смотрю вверх ногами. Она делает такие смешные петельки, когда пишет букву t.
— И эта записка написана ее ручкой — или точно такой же, — на листке, который вырван из ее блокнота.
— И твои коллеги наверняка уже это определили, пап. А что такое? Ты думаешь, за маму эту записку написал кто-то другой?
— Нет, не думаю… во всяком случае, пока. Но посмотри. Обойди-ка стол.
Келли подумала, не пойти ли в другую комнату и не включить ли там телевизор. Ей не хотелось поощрять отца в его занятии; но, с другой стороны, она не хотела делать ничего такого, что ухудшило бы положение. Она поднялась и встала рядом с ним.
— Посмотри, любопытная штука, — произнес Кардинал. — Записка о самоубийстве — не последнее, что Кэтрин написала у себя в блокноте.
— То есть?
— Вот здесь есть вдавленности, на предыдущей странице. Бороздки почти незаметные, но их можно разглядеть, если смотреть на блокнот под нужным углом. Видишь?
— Если честно, нет.
— Потому что у тебя не тот угол. Сядь.
Кардинал выдвинул стул, стоящий рядом с ним, и Келли села. Он стал медленно наклонять блокнот то в одну сторону, то в другую.
— Погоди! — воскликнула Келли. — Теперь я вижу.
Кардинал неподвижно держал блокнот под лампой. В верхней части страницы с разными случайными заметками виднелись слабые отпечатки слов «Дорогой Джон». Кардинал чуть наклонил страницу. Ниже Келли могла разобрать лишь следы слов «другой выход» и «Кэтрин». Следы от середины текста записки были скрыты под другими заметками, в числе которых была и та, где она напоминала себе о дне рождения Кардинала.
— Мой день рождения — в июле, — подчеркнул он. — Прошло больше трех месяцев.
— Ты думаешь, она эту записку написала три месяца назад? Ну а что, очень может быть. Хотя это как-то странно — три месяца таскать с собой предсмертное письмо.
Кардинал бросил блокнот на стол и откинулся на спинку стула.
— С другой стороны, тут может быть простейшее объяснение: однажды она ее написала, потому что собиралась… Но потом раздумала — во всяком случае, на какое-то время изменила свои планы. А может быть, три месяца назад она случайно пропустила страницу в блокноте, а потом просто написала записку на первом попавшемся чистом листке в блокноте.
— Из аккуратности? Как-то странно — стараться использовать все-все страницы в блокнотике за девяносто пять центов.
— Да, странно, согласна?
— Но это ее почерк. И ее ручка. Теперь-то какая разница, на какой странице она писала?
— Не знаю, — ответил Кардинал. — Честно говоря, не знаю.
Кардинал давно уяснил себе, что сыщик живет контактами. В мире криминалистики, с его слишком большими нагрузками и слишком маленьким финансированием, даже самая слабая личная связь может подтолкнуть расследование, чтобы его скорость превысила среднее значение; а настоящая дружба вообще может творить чудеса.
Томми Ханн никогда не был его другом. Томми Ханн был сослуживцем Кардинала еще в далекие торонтские годы, когда тот только еще начинал свою профессиональную деятельность и работал в отделе по борьбе с преступлениями на почве морали. Ханн был во многих смыслах сущим кошмаром полицейского управления: избыток мускулов, склонность к вспышкам гнева, жизнерадостный расизм. При этом он был неплохим детективом — пока собственная группа не застукала его в публичном доме. Ему могли бы предъявить значительно более тяжкие обвинения, чем «неподобающее поведение», если бы Кардинал не заступился за него на слушаниях в дисциплинарной комиссии. Кардинал писал ему поручительства, а позже, когда Ханн стал подыскивать себе другую сферу деятельности, составил для него рекомендацию. Ханн вернулся в полицейскую школу и в конце концов как-то ухитрился попасть в отдел документов Центра судмедэкспертизы провинции Онтарио, где с тех пор и служил, ведя, кажется, вполне безупречную жизнь.
— Ого, да это Кардинал, добрый призрак! — провозгласил Ханн, услышав в трубке голос коллеги. — Видно, стряслось что-то особенное. Иначе ты бы обратился в нашу главную приемную, а?
— У меня для тебя пара документов, Томми. Может быть, даже три. Надеюсь, ты сможешь меня выручить.
— Хочешь вклиниться, а? Знаешь, Джон, нас тут адски поджимают сроки. Я все эти дни сижу над одной штукой, которую буквально вот-вот надо будет выставить в суде.
— Да, я понимаю.
Всякий полицейский в глубине души ожидает, что если он поможет коллеге, то когда-нибудь тот отблагодарит его услугой за услугу — может быть, десятки лет спустя. Кардиналу незачем было напоминать Ханну о прошлом.
— Рассказывай, что там у тебя, — проговорил тот. — А я погляжу, что мы можем сделать.
— У меня есть открытка с кусочком бумаги, который приклеен внутри. На этом кусочке бумаги — послание, судя по виду, его напечатали на принтере. В нем всего два предложения, но я надеюсь, что ты сможешь высказать какие-нибудь мысли насчет того, откуда оно пришло. Честно говоря, я даже не в состоянии определить, струйный это принтер или лазерный.
— В любом случае мы на этом далеко не уедем, если у нас нет другой распечатки, чтобы с ней сравнить. Это тебе не старые добрые времена, когда были в ходу пишущие машинки. Что еще у тебя есть?
— Записка самоубийцы.
— Самоубийство. Значит, ты ввязался во всю эту тягомотину, потому что расследуешь самоубийство? Эти чертовы самоубийства меня достали. По-моему, всякий, кто себя убивает, просто хлюпик.
— Конечно, — согласился Кардинал. — Отъявленные трусы. Не поспоришь.
— И эгоисты, — не унимался Ханн. — Когда человек кончает с собой, это самый эгоистичный поступок, какой вообще бывает. Приходится задействовать столько всяких ресурсов: твое время, мое время, врачи, медсестры, «скорая помощь», психотерапевты, все на свете. И все это — ради кого-то, кто и жить-то не желает. Чистый эгоизм.
— Безответственное поведение, — определил Кардинал. — Совершенно безответственное.
— И все это — если им не удается преуспеть в своем намерении. А если все-таки удается, для них-то все печали оказываются позади. У меня был друг — мой лучший друг, между прочим, — так вот, он несколько лет назад сунул себе в рот табельный пистолет. Знаешь, я потом несколько месяцев дерьмово себя чувствовал. Почему я не видел, что это вот-вот случится? Почему я не был ему другом получше? Но знаешь что? Это он — паршивая овца, а не я.
— Да, тут ты попал в точку, Томми.
— Суициды — это, знаешь ли…
— В данном случае это, возможно, не суицид.
— А! Тогда совсем другое дело. Теперь ты привлек мое внимание. — Ханн заговорил голосом Крестного отца из одноименного фильма: — «Я отдам все свои силы и весь свой опыт, дабы…»
— Мне нужно это побыстрее, Томми. Можно сказать, ко вчерашнему дню.
— Ясное дело. Как только получу результат, в ту же минуту сообщу. Но если ты захочешь использовать в суде эти материалы и вообще любые данные анализа, которые я для тебя добуду, то придется тебе обратиться в главную приемную, а наша главная приемная не станет ради тебя сбиваться с ног, кем бы ты ни был. Пусть даже сам Господь Бог явится к ним с рукописным посланием на фирменном бланке Сатаны, все равно они ему скажут: «Давай-ка в очередь, приятель».
— Я не могу обратиться в главную приемную, Томми. У меня нет номера дела.
— Ох ты…
— Но если ты мне дашь что-то реальное, я добьюсь, чтобы у этого дела появился номер. И потом я пробегу по всем ступенькам, которые нужны.
Из трубки донесся тяжкий вздох.
— Ладно, Джон. Будет много геморроя, но я это сделаю.
8
«Тошнота» — это было еще не самое сильное слово для того, чтобы описать состояние Делорм. Торонтский отдел по борьбе с преступлениями на сексуальной почве переслал ей около двадцати снимков; когда она вернулась с обеда, пакет уже ожидал ее. Она просмотрела их и теперь сожалела об этом. Фотографии вызывали какую-то физиологическую реакцию у нее внутри, как если бы ей со всей силы ударили в живот. Потом проявились и более тонкие эмоции — подавленность, переходящая едва ли не в панику, и одновременно — почти ошеломляющее чувство безнадежности при мысли о человеке как биологическом виде.
Все окружающее словно бы ушло куда-то на задний план, все, что можно было увидеть и услышать в отделе: щелчки и постукивания ксерокса, Маклеод, орущий на сержанта Флауэр, шелест клавиш и трели телефонов. Делорм ощутила, как в груди у нее рождается всхлип, но она его тут же подавила. Ей уже доводилось испытывать подобное смятение чувств, когда она читала некоторые новости: про отрубленные головы в Ираке или про гражданскую войну в Африке, когда вооруженные люди совершали налеты на деревни, насилуя женщин и отрубая кисти рук мужчинам.
Она понимала, что действия, запечатленные на снимках, нельзя сравнивать с массовыми убийствами, но влияние, которое они оказали на ее душу, оказалось таким же: она приходила в отчаяние, думая о том, до каких глубин падения может опуститься человеческая натура. Даже в таком маленьком городке, как Алгонкин-Бей, волей-неволей слышишь о таких фото, но до сегодняшнего дня Делорм никогда не видела ничего подобного. В прошлом году они вели дело об администраторе службы социальной помощи, мужчине, который явно не был обделен любовью близких и друзей — и которого обвинили в том, что он хранит у себя детскую порнографию. Но расследованием занималась не Делорм, и вещественных доказательств она не видела. Тот человек покончил с собой, когда его отпустили под залог: по-видимому, от стыда, хотя его обвинили всего лишь в обладании запрещенными материалами, а не в их изготовлении или распространении.
Изображения на ее столе, поняла Делорм, были, по сути, фотографиями с места преступления. Преступник сделал их сам в процессе совершения своего преступного деяния; в этом смысле производство детской порнографии уникально. На некоторых снимках девочке было, наверное, всего семь или восемь лет, ее щеки и шея сохраняли младенческую припухлость; на других ей было уже лет тринадцать. У нее было приятное, открытое лицо, очень светлые волосы до плеч и почти неестественно зеленые глаза: на некоторых фото их цвет казался еще более насыщенным, потому что из этих глаз текли слезы. Здесь были сцены в спальне, на диване, на яхте, в палатке, в гостиничном номере. На одной из фотографий была специально размыта одна деталь: шапочку, которая была на девочке, превратили в мутное сине-белое пятно.
Мужчина тщательно следил за тем, чтобы не показывать свое лицо, поэтому на снимках он представал в виде какого-то комплекта разрозненных деталей. Он был волосатой рукой, мохнатой грудью; он был тощими как палки ногами, прыщавым плечом, задом, который только начал обвисать. Его член, снятый крупным планом на многих фото, выглядел докрасна обожженным — не то от неправильной эксплуатации, не то от плохой съемки, точно сказать не представлялось возможным. Делорм не была ханжой и мужененавистницей, но ей показалось, что это самая уродливая вещь, какую она в жизни видела.
Ей пришло в голову, что этот мужчина — вообще не человек: что он — просто кусок ожившей плоти, монстр, вырвавшийся из лаборатории сумасшедшего ученого. Но сокрушительная истина состояла в том, что это конечно же действительно был человек. Он мог быть кем угодно, он мог быть кем-то из знакомых Делорм. И мало того что он был человеком: жертва его любила, иначе почему на многих снимках она так безмятежна, так улыбается? Видимо, он либо отец девочки, либо кто-то из очень близких ее семье людей. Девочка его любила: Делорм не сомневалась в этом, и сердце у нее ныло.
Вместе с этим материалом из Торонто прислали еще два конверта. В первом лежали точные копии снимков, но девочка и ее партнер были с них удалены путем цифровой обработки. В результате остались только ничем не примечательные виды и интерьеры: безвкусный диван, что-то вроде гостиничной кровати, внутренность палатки, двор с неопрятным игрушечным домиком из пластмассы, — обстановка, не вызывающая никакого интереса, если не знать, что в ней происходило.
В третьем конверте лежало всего одно фото — увеличенная копия того снимка, где девочка была в шапочке. Это был шерстяной «колпачок», синий с белым, изображение уже было избавлено от размытости. Делорм понятия не имела, как торонтским полицейским удалось это сделать; на мгновение у нее перехватило дыхание. Она узнала эту шапочку. Не все вышитые буквы удавалось распознать, но кое-что четко можно было разглядеть: «АЛГОН… ЗИМ… МЕХ». Алгонкинский зимний меховой карнавал.
Зазвонил телефон.
— Делорм, отдел уголовного розыска, — сказала она в трубку.
— Это сержант Дюковски. Как вы там, уже проблевались?
— Вы, сержант, может быть, и успели привыкнуть к такого рода вещам, но мне так и хочется переселиться в леса и до конца жизни питаться ягодами и корешками.
— Понимаю, о чем вы. И этот тип — еще далеко не самое худшее из того, что у нас есть. Недавно мы получили материалы с маленькими детьми, где они проделывают все эти штуки вживую.
— Вживую? Не понимаю.
— Потоковое видео. Ставит веб-камеру и задействует детей, так сказать, онлайн, а его собратья по всему миру платят за то, чтобы на это полюбоваться.
— Господи.
— К сожалению, некоторые из тех картинок, которые мы вам посылали, выставляются в том же чате, что и это живое видео, так что я не удивлюсь, если этот наш тип вдохновится новыми идеями.
— Будем надеться, мы его до этого поймаем. Расскажите мне о шапке с зимнего карнавала. Как вам удалось убрать размывание?
— У нас тут есть пара яйцеголовых умников с шестидесятичетырехбитной шифрацией мозгов, и они неплохо умеют играть со всякими приборами обработки изображения. Супер-пупер-технологии. Однажды я у них спросил, как это работает, и тут же об этом пожалел. Они начали вещать что-то насчет фильтрационной деконволюции и алгоритмов Люси — Ричардсона. По-моему, они питаются атлоновскими микрочипами.[13]
— А я-то думала, «Фотошоп» — это круто. Вот что интересно: несколько лет назад название праздника изменили, чтобы не злить борцов за права животных. Так что теперь это не меховой карнавал, а просто зимний карнавал.
— Это может оказаться важным. Хотя мы не знаем, когда и от кого она ее получила.
— В любом случае это не значит, что девочка живет здесь. На карнавал съезжаются со всего мира.
— Бросьте вы. Что, целые толпы людей пересекают весь земной шар, чтобы посетить меховой карнавал в Алгонкин-Бей?
— Не толпы. И они приезжают не на сам карнавал, а на аукцион мехов. К нам наведываются представители крупных меховых домов из Парижа, Нью-Йорка, Лондона и тому подобных мест — в качестве покупателей. Даже русские бывают — им же надо следить за конкурентами.
— Вы меня просветили, сержант Делорм. Как-то не осознавал, что Алгонкин-Бей — такой узел международной торговли. Вы посмотрели фотографию на яхте — ту, где на заднем плане видны всякие другие суда?
Делорм стала перебирать снимки, остановившись, когда нашла нужный. На фото была изображена прогулочная яхта, с богатой деревянной оснасткой и деревянными полами; здесь были уютные на вид красные сиденья с натяжной обивкой. Девочка расположилась в одном из них, на ней были синие джинсы и желтая футболка. На этом снимке ей было лет десять-одиннадцать; она улыбалась в объектив.
— Понятно, почему я ее пропустила, — заметила Делорм. — Это один из тех снимков, где он ничего с ней не делает. Ребенок выглядит счастливым.
— Посмотрите на фон.
— Там небольшой гидроплан, на понтонах. Можно разглядеть часть номера у него на хвосте. Буквы: С, G, К.
— Все верно. Это «сессна-скайлейн», а полностью номер выглядит так: CGKMC. Минут за пять мы соотнесли эти буквы со всевозможными «сесснами» и с Алгонкин-Бей. И получили на выходе одного парня по имени Фрэнк Раули. Более того, могу дать вам его адрес и телефон. Надеюсь, я произвел на вас впечатление.
— Но самолет — на заднем плане, только и всего. Нет никаких причин считать, будто есть какая-то связь между владельцем самолета и этим подонком на снимках, верно?
— Да, но это только начало. Уж будьте уверены, мы вам будем передавать все, что найдем, в ту же минуту, когда это раскопаем. Ну а пока можете применить свою франкоканадскую логику, с толком посидеть над этими картинками и сузить поле поиска.
— А что, если нам опубликовать фотографию этой девочки, как делают с пропавшими? Повесим ее снимок где-нибудь на почте и будем надеяться, что нам позвонит кто-нибудь, кто ее видел. Нам надо что-то предпринять, и побыстрее. Он разрушает жизнь этого ребенка.
— Проблема в том, что преступник, скорее всего, увидит этот снимок раньше, чем сама девочка. Обычно педофилы не склонны к насилию, но если он решит, что из-за нее он может получить серьезный срок, не исключено, что он ее убьет.
9
На следующее утро Келли вошла в кухню в своем наряде для бега: черные леггинсы, розовато-лиловый спортивный свитер с крошечным вышитым слоником, — и цапнула с разделочного стола апельсин. Эти апельсины покупала Кэтрин, подумал Кардинал. Разве станешь покупать полдюжины апельсинов, если собираешься покончить с собой?
Он налил дочери кофе.
— Овсянку хочешь?
— Может, когда вернусь. Не хочу таскать с собой лишнюю тяжесть. Господи, пап, у тебя дико усталый вид.
— Кто бы говорил, — сказал он. Глаза у Келли были красные и опухшие. — Тебе удалось хоть сколько-то поспать?
— Не особенно. По-моему, я каждые полчаса просыпалась, — ответила она, роняя кусочки апельсиновой кожуры в зеленую мусорную корзину. — Никогда не понимала, что эмоции — такая физиологическая штука. Проснулась — не могу пошевелить лодыжками, чувствую себя дико уставшей, хотя ничего такого не делала. Не верится, что ее нет. Я хочу сказать, если бы она вот сейчас вошла в парадную дверь, я бы, наверное, даже вряд ли удивилась.
— Нашел, — объявил Кардинал. Он протянул ей фотографию, которая была до этого погребена в альбоме, набитом всякими разрозненными снимками. Черно-белый портрет Кэтрин, где ей лет восемнадцать. Выглядит очень своенравной и артистичной в черном свитере под горло и больших серебряных серьгах.
Келли ударилась в слезы, что застало Кардинала врасплох. Его дочь все это время держалась относительно спокойно, — видимо, пытаясь как-то облегчить его собственное горе, — но теперь она ревела, точно девочка. Он положил ей руку на плечо, пока она исходила плачем.
— Ух ты, — произнесла она, после того как сходила умыться. — Похоже, мне надо было выплакаться.
— Такая она была, когда мы познакомились, — пояснил Кардинал. — Я решил тогда, что это самый красивый человек из всех, кого я в жизни видел. Обычно думаешь, что таких можно встретить разве что в каком-нибудь фильме.
— Она всегда была такая сосредоточенная?
— Наоборот. Она все время дурачилась.
— Может, пробежишься со мной? — вдруг предложила Келли. — И нам станет легче.
— Ну не знаю…
— Давай. Ты же еще бегаешь, правда?
— Не так часто, как когда-то…
— Ну давай, пап. Тебе полегчает. То есть нам.
Мадонна-роуд — совсем рядом с Шестьдесят девятым шоссе, так что им пришлось полкилометра бежать по обочине и только после этого свернуть налево, на Уотер-роуд, которая шла по берегу Форельного озера. День был ясный и сияющий, в воздухе стоял резкий осенний запах.
— Ух ты, чувствуешь, как пахнет листьями? — восхитилась Келли. — На этих холмах есть все оттенки, кроме синего.
По натуре Келли совсем не была жизнерадостной резвушкой; она просто пыталась подбодрить Кардинала, и его это растрогало. Он тоже воспринимал красоту дня, но, пока они бежали сквозь пригород, их шаги выбивали у него в голове дробь: «Кэт-рин мерт-ва, Кэт-рин мерт-ва». Кардинал испытывал противоречивые чувства: и опустошение, и колоссальную тяжесть, словно его сердце заменили куском свинца. Кэтрин тоже вдыхала этот морозный воздух.
— Когда тебе обратно в Нью-Йорк? — спросил он у Келли.
— Ну, я им сказала, что прихвачу две недели.
— Знаешь, тебе ведь незачем так долго тут оставаться. Тебе наверняка уже надо возвращаться.
— Все в порядке, пап. Я сама хочу остаться.
— А что сегодня? У тебя есть какие-нибудь планы?
— Хотела позвонить Ким Делани, но вот не знаю… Помнишь Ким?
Кардинал припомнил крупную блондинку, сердитую на весь белый свет и очень политизированную. В старших классах они с Келли были неразлучны.
— Мне казалось, Ким уже давно погрузилась в мерзкую пучину большого мира, — ответил он.
— Да, мне тоже так казалось.
— Как-то ты это скорбно сказала. — Кардинал ударился о мусорный бак. Рядом, за изгородью, начал прыгать джек-рассел-терьер, изрыгая затейливые собачьи угрозы.
— Ну, какое-то время мы с ней были лучшими подругами, а теперь вот даже не знаю, стоит ли мне ей звонить, — проговорила Келли. — Ким была самой умной девушкой в Алгонкин-Бей, гораздо умнее меня: глава дискуссионного клуба, делегат молодежной ООН, редактор школьного ежегодника. А теперь она, похоже, решила стать королевой предместий.
— Не все хотят переехать в Нью-Йорк.
— Знаю. Но ей всего двадцать семь, а у нее уже трое детей и два внедорожника, два!
Кардинал указал на аллею, мимо которой они как раз пробегали: один «гранд-чероки», один «вагонир».
— И она может разговаривать только о спорте, больше ни о чем. Честное слово, такое ощущение, что у Ким вся жизнь вертится вокруг керлинга, хоккея и рингетта.[14] Удивляюсь, как это она до сих пор не увлеклась боулингом.
— Когда появляются дети, приоритеты меняются.
— Тогда я не желаю никаких детей. Если это означает жить уличными сплетнями. Ким годами не читает газет. А по телевизору смотрит только «Выжившего»,[15] «Канадского идола»[16] и хоккей. Хоккей! В школе она терпеть не могла спорт. Честное слово, когда-то я думала, что мы с Ким всю жизнь будем дружить, а теперь вот думаю — может, мне ей не звонить?
— Слушай, есть идея. Как насчет небольшой поездки в Торонто?
Келли глянула на него. На верхней губе у нее была тоненькая пленочка пота, щеки разрумянились.
— Ты едешь в Торонто? С чего бы?
— В Центре судмедэкспертизы делают одну вещь. Мне надо лично в ней поучаствовать.
— Это связано с мамой?
— Да.
Несколько секунд слышно было только их дыхание, по крайней мере — дыхание Кардинала: похоже, его дочери бег давался легко. Уотер-роуд кончалась разворотом. Они замедлили движение и какое-то время бежали на месте. За рассыпанными тут и там бунгало из красного кирпича, с их аккуратными лужайками и рядами мощных мешков с хозяйственным мусором, виднелось темно-синее озеро.
— Пап, — произнесла Келли, — мама себя убила. Она себя убила, и от этого дико больно, но у нее же на самом деле была эта маниакально-депрессивная штука, она уже много лет то и дело попадала в больницу, и, в конце концов, не так уж неожиданно, что она решила от всего этого уйти. — Она дотронулась до его руки. — Ты же знаешь, ты тут ни при чем.
— Ты поедешь или нет?
— Господи, да ты не очень-то любишь отвлекаться на пустяки, когда вбил себе что-то в голову, а? — Она сделала секундную паузу. — Ладно, поеду. Но только для того, чтобы составить тебе компанию в машине.
Кардинал показал на тропинку, петлявшую среди деревьев:
— Давай вернемся более живописной дорогой.
Пока они ехали на юг по Одиннадцатому шоссе, Кардинал мог думать только о Кэтрин. Хотя «думать» — это было неподходящее слово. Он ощущал ее отсутствие в красоте окрестных холмов. Но в то же время он чувствовал, как она парит над шоссе; это была та самая дорога, по которой Кардинал всегда уезжал от Кэтрин или приезжал к ней. И сейчас ее не было, и она не могла помахать ему на прощание; и ее не будет здесь, когда он вернется.
Келли играла с ручкой настройки радио.
— Эй, назад, — попросил ее Кардинал. — Там были «Битлз»!
— Бр-р. Не выношу «Битлз».
— Как человек может ненавидеть битлов? Это как ненавидеть солнечный свет. Или мороженое.
— Их ранние вещи — вот что я терпеть не могу. Они поют, как маленькие надувные игрушки.
Кардинал глянул на нее. Ей двадцать семь. Сейчас его дочь старше, чем была Кэтрин, когда ее родила. Кардинал спросил ее про Нью-Йорк.
Какое-то время Келли излагала ему подробности своих недавних разочарований на пути к тому, чтобы стать художником. В Нью-Йорке трудно пробиться. Ей приходится делить квартиру с тремя другими женщинами, и они не всегда хорошо уживаются вместе. К тому же она вынуждена вкалывать на двух работах, чтобы свести концы с концами: она помогает художнику по имени Клаус Майер (натягивает ему холсты, ведет его бухгалтерию) и три дня в неделю работает официанткой. Из-за этого у нее остается мало времени на собственные картины.
— И при всем при том тебя никогда не тянуло к тихой пригородной жизни? Тоска по маленькому городку и все такое?
— Никогда. Хотя иногда я скучаю по Канаде. С американцами трудновато бывает подружиться.
— Почему?
— Американцы — самый дружелюбный народ на свете, но это с виду. Сначала на меня это действовало почти как отрава: они куда общительнее канадцев. И они не боятся развлекаться.
— Это верно. Канадцы более замкнутые.
Я играю роль, подумал Кардинал. Я не разговариваю, а играю человека, который разговаривает. Так это и делается: слушаешь, киваешь, задаешь вопросы. Но меня здесь нет. Я исчез с лица земли, как Всемирный торговый центр. Мое сердце — как Нулевая зона на месте башен-близнецов. Ему захотелось обсудить это с Кэтрин, но Кэтрин не было.
Он отчаянно попытался сосредоточиться.
— Когда-то давно американцы изобрели такую, знаешь, фальшивую близость, — говорила Келли. — Они уже при первом знакомстве расскажут тебе про свой развод или про то, как над ними издевались в детстве. Я не шучу. Один парень мне поведал, как отец «совершал с ним инцест» — так он выразился. И это было на нашем первом свидании. Поначалу я думала, что они все дико доверчивые, но на самом деле все совсем не так. У них просто совершенно отсутствует всякое представление о приличиях. Что ты улыбаешься?
— Забавно слышать, как ты рассуждаешь о приличиях. Девушка, презирающая общественные предрассудки.
— Если вдуматься, я живу вполне в рамках этих предрассудков. И у меня такое чувство, что это загубит во мне художника. Господи, ты только посмотри на эти деревья.
Путь до Торонто занял четыре часа. Кардинал высадил Келли у «Сэконд кап»[17] на Колледж-стрит, где она условилась встретиться с давней подругой, а сам направился на Гренвилл-стрит, в Центр судмедэкспертизы.
В качестве произведения архитектуры Центр судмедэкспертизы не представляет ни малейшего интереса. Это просто поставленная на попа глыбина, подобная множеству других правительственных зданий той эпохи, когда железобетон пришел на смену кирпичу и камню. Внутри имеется большое количество перегородок цвета замазки, потертых ковров и ехидных карикатур, вырезанных из газет и прилепленных клейкой лентой над рабочими столами.
Кардинал бывал здесь много раз, хотя и не в отделе документов, и сама знакомость этого места как-то взвинчивала его. Сейчас он испытывал сильнейшие страдания в своей жизни; все в мире должно было перемениться. А между тем охранники, гремящий лифт, скудная обстановка кабинетов, столы, таблицы, стенды, — все это оставалось в точности таким же, как прежде.
— Итак, у нас есть три вещицы, — провозгласил Томми Ханн, выкладывая их на лабораторный стол. В отличие от здания Томми изменился. Волосы у него поредели, пояс исчез под накатом жира, словно у него под рубашкой спала такса. — Записка самоубийцы — одна штука. Блокнот — одна штука. Возможно, в этом блокноте и была написана записка, возможно, и нет. И еще у нас есть неприятная открытка с соболезнованиями, одна штука. Внутри — напечатанный текст.
— Почему бы не начать с открытки? — предложил Кардинал. — Вряд ли она связана с первыми двумя предметами.
— Первым делом — открытка, — согласился Ханн. Он натянул латексные перчатки, вынул открытку из пластиковой папки и раскрыл. — «Ну как тебе это, ублюдок? — монотонно прочел он. — Кто бы знал, что так повернется, а?» Мило.
Он подошел с открыткой к окну, стал поворачивать ее под разными углами.
— Струйный принтер, сразу видно. Невооруженным глазом не замечаю никаких уникальных особенностей. Во всяком случае, мой глаз их не видит. Но давай-ка воспользуемся техникой. — Он поднес к глазу лупу и поднял открытку поближе к лицу. — Ага. Во второй строчке видны погрешности принтера. Посмотри на буквы h и t.
Он протянул лупу Кардиналу. Сначала Кардинал ничего такого не увидел, но потом, когда его глаза приноровились к оптике, разглядел бледную, как паутинка, линию, шедшую посередине букв h и через перекрестия букв t.
— Плюс — в том, что, если принтер устраивает такие штуки, это с ним происходит постоянно, — заметил Томми. — Видишь, в первой строчке погрешностей нет. Но если бы нам в руки попала еще какая-нибудь страница, которую распечатывал этот тип, на ней были бы те же погрешности печати во второй строке.
— И насколько это нам поможет? — поинтересовался Кардинал.
— Притом что у нас нет другого образца, чтобы с ним сравнить? Вообще никак не поможет. Минус — как раз в этом: когда меняют картридж, меняются и особенности печати. С нашей точки зрения, это то же самое, как если бы он себе купил новый принтер.
Кардинал указал на блокнот:
— А с этим что ты можешь сделать?
— Зависит от того, что ты хочешь узнать.
— Мне надо убедиться, что записку написали той же ручкой, что и все остальное в блокноте. И я хочу узнать, когда она была написана — раньше или позже последних записей. Если ты откроешь блокнот на странице, где упоминается «День рождения Джона»…
— «День рождения Джона». Ха! Может, она писала это про тебя? — Ханн пролистал странички, потом поднял блокнот к свету, как перед этим открытку. — Ну да. Тут есть отпечатки букв. Могу разобрать: «Дорогой Джон». Первым делом нам надо их засунуть в компаратор.
Он поднял широкую дверцу какого-то прибора с надписью «VSC-2000».
— Когда я включу, смотри вот в это окошко. Я буду светить на образцы разными типами света, а ты гляди, что будет получаться. Человеческому глазу может показаться, что писали одной и той же пастой, но, если взять разные ручки, пусть даже одной и той же марки и модели, то в инфракрасном свете они дадут разницу. Химические вещества в разных образцах пасты реагируют на инфракрасные лучи неодинаково. Уже сбился со счета, сколько подложных завещаний я разоблачил с помощью этой штуковины. «Дорогой Джон». Милое дело.
Кардинал склонился над окошком прибора. Буквы на листке засветились.
— Вот эти — идентичны, — объявил Ханн у него за спиной. — Записку о самоубийстве и о дне рождения писали одной и той же ручкой.
— А ты можешь определить, какую написали раньше?
— Конечно. Первым делом нам надо ее сунуть в увлажнитель. — Ханн положил блокнот в небольшую машинку со стеклянной передней частью, напоминавшую тостер. — Нужна всего минута или около того. Углубления на бумаге видны гораздо лучше, если бумага влажная.
Машинка пискнула, и он извлек блокнот.
— Теперь поколдуем над ней с помощью ЭСД и посмотрим, что это нам даст.
— С помощью чего?
— Э-С-Д. Электростатический детектор.
Это была громоздкая и неуклюжая машина; на верхней крышке у нее имелась вентиляционная решетка. Ханн уложил в нее блокнот так, чтобы нужный листок плоско лежал на слое твердой пористой пены. Затем он накрыл листок пластиковой пленкой.
— Под пеной — вакуум, происходит втягивание воздуха, поэтому документ и пленка плотно прижимаются друг к другу. А теперь — мое коронное устройство… Не волнуйся, штаны я расстегивать не собираюсь…
Ханн извлек прибор, похожий на жезл, и щелкнул выключателем.
— Этот малыш дает несколько тысяч вольт, — сообщил он сквозь гудение. Он несколько раз помахал жезлом над куском пластика. Кардинал не увидел никаких изменений.
— Теперь добавим немного волшебной пыли… — Ханн высыпал из маленькой канистры что-то вроде железных опилок. — На самом деле это малюсенькие стеклянные бусинки, сверху они покрыты тонером. Сейчас мы насыплем их на всю эту петрушку…
Он посыпал черным порошком пластик, покрывавший страницу из блокнота. Бусинки соскользнули, а частицы тонера остались в бороздках. Потом на мгновение вспыхнул свет.
— Теперь у нас есть снимок, — провозгласил Ханн, — и уж что увидим, то увидим. На эти листочки сыпали порошок, чтобы найти отпечатки пальцев?
— Пока нет. Зачем?
— Тонер часто берет отпечатки, хотя и похуже, чем дактилоскопическая пудра. У нас тут неплохие «пальчики», с ними можно работать. Погляди-ка.
Из щели прибора выскользнула фотография. Кардинал потянулся за ней.
Слева от слов «День рождения Джона» виднелся маленький темный отпечаток большого пальца: на снимке он был белым. Бороздки пересекала коротенькая прямая линия: несколько лет назад Кэтрин порезалась за кухонным столом. Отпечаток большого пальца Кэтрин, этим пальцем она прижимала блокнот к коленке. Она была еще жива. Она думала обо мне, строила планы на мой день рождения, представляла себе будущее. Кардинал закашлялся, чтобы скрыть плач, который грозил вот-вот вырваться из его горла. Отпечатки букв предсмертной записки теперь проявились полностью, их очертания выявил черный тонер: «когда ты будешь это читать…»
Это ее почерк. Ты знаешь, что это ее почерк. Зачем ты себя всем этим мучаешь?
— Хорошо, — произнес Кардинал. — Итак, мы знаем, что записку о самоубийстве написали на чистом листке, под которым был листок с записью о дне рождения, что объяснимо. Когда она писала про самоубийство, дальнейшие страницы блокнота должны были оставаться чистыми. Но паста на этой последней странице, то есть в записи о дне рождения, была нанесена поверх следов от букв предсмертной записки? Или она как бы под ними? Ты можешь это определить?
— Мне нравится, когда человек предполагает худшее, — одобрил Ханн. — Сунем-ка мы этот снимок под микроскоп. Если белые линии записи о дне рождения прерываются черными, значит, вдавленности от букв появились на бумаге позже, чем паста. — Ханн вперился в окуляр микроскопа, настроил фокус. — Ничего подобного. Наоборот, черное перекрывается белым. Паста поверх углублений.
— Значит, записку о самоубийстве точно написали до записи о дне рождения.
— Точно. Видимо, ты знаешь, когда имел место день рождения этого загадочного Джона?
— Да. Больше трех месяцев назад.
— М-м. Тогда это не очень-то обычное самоубийство.
— Так и есть. Можно мне забрать фотографию, которую ты сделал?
— Конечно, бери. Это позволит не слишком трепать оригинал. — Ханн вытащил этот оригинал из ЭСД и вложил обратно в папку.
— Сделаешь для меня еще одну вещь, Томми?
— Какую?
— Посыпь своим волшебным порошком и записку о самоубийстве.
— Ты и ее хочешь проверить — нет ли там следов более ранних записей? Но у тебя ведь уже есть эта история насчет дня рождения.
— И я это уже оценил. Но мои братья по оружию там, на севере, не все сходятся во мнении относительно этого дела.
Ханн посмотрел на него; бледно-голубые глаза что-то вычисляли.
— Ладно, сделаю.
Он повторил привычную процедуру — увлажнил записку, уложил ее под пластик, дал электрический разряд. Потом посыпал кусок пластика порошком.
— Похоже, тут много следов от более ранних записей, которые делали в этом блокноте. Если хочешь, можно положить под микроскоп и разобраться, какие из них делали раньше.
— Посмотри, — сказал Кардинал. Он взял фото, вылезшее из щели. Записка о самоубийстве была здесь написана белым по черному. Но в верхней части снимка, по центру, обнаружилось кое-что еще — четко отмеченное черным тонером.
— Покрупнее, чем тот, другой, — заметил Ханн. — И никакого шрама. Я не эксперт, но я бы сказал, что тут большой палец совсем другого человека.
Чуть позже Ханн проводил его до лифта; какое-то время они стояли молча, ожидая, пока придет кабина. Потом отрывисто прозвенел сигнал, возвещавший о ее прибытии. Кардинал зашел внутрь и нажал на кнопку первого этажа.
— Эй, послушай, — окликнул его Ханн голосом человека, который долго что-то обдумывал. — Вся эта петрушка никак с тобой не связана? Я имею в виду — лично? Ты — не этот Джон, про которого написано в блокноте?
— Спасибо за всю твою помощь, Томми, — сказал Кардинал; дверцы между ними закрывались. — Очень тебе признателен.
Они отправились в Алгонкин-Бей в тот же день, а значит, за сутки Кардинал с Келли должны были вместе провести в машине в общей сложности восемь часов. Обратный путь был молчаливым.
Кардинал спросил у Келли, как все прошло с ее подружкой.
— Отлично. По крайней мере, она хотя бы не превратилась в овощ, не то что Ким. Она не отошла от искусства, и у нее, кажется, есть определенное представление о том, что происходит в мире.
Келли крутила прядь своих сине-черных волос и глядела в окно. Кардинал вспомнил, как его собственные друзья менялись к этому возрасту. Многие перестали им интересоваться, когда он стал полицейским; а немало его торонтских приятелей вычеркнули его из памяти, когда он вернулся в Алгонкин-Бей.
— Никогда ничего не знаешь о людях, — говорила Кэтрин. — У каждого свой собственный сценарий жизни, и иногда он не включает нас — обычно как раз когда мы жаждем в нем оказаться. А иногда он нас включает — обычно когда мы хотим, чтобы нас в нем не было.
А сейчас-то что, Кэтрин? Как мне быть, когда ты ушла?
— Поступай как коп. — Он представил себе, как она это говорит, с этой полуулыбкой, которая у нее появлялась, когда она его дразнила. — Ты же так всегда поступаешь.
Но это не помогает, хотелось ему с плачем ответить ей. Ничего не помогает.
Они миновали «Волшебный мир», громадный парк развлечений совсем рядом с Торонто, на севере, с остроконечной искусственной горой и гигантскими «американскими горками». Келли спросила, как все прошло в Центре, но Кардинал пробормотал в ответ что-то уклончивое. Он не хотел увидеть в ее глазах жалость и разочарование.
Когда Орилья осталась позади, она спросила:
— Полагаю, это означает, что мы пообедаем в «Солнечных часах»?
— К сожалению, нет, — откликнулся Кардинал. — «Солнечные часы» закрылись.
— Боже ты мой. Прямо конец эпохи.
Им пришлось удовольствоваться маленькими безвкусными сэндвичами в «Тиме Хортоне».
Когда они приехали домой, было уже темно. Холмы и деревья погрузились в безмолвие, целительное для ушей после несмолкающего грохота Торонто. К тому же здесь было холоднее. Наполовину спрятавшаяся луна озаряла локоны облаков, неподвижно висевшие над водой; озеро черновато поблескивало, точно лакированная кожа.
Открыв входную дверь, Кардинал наступил на уголок квадратного белого конверта. Он подобрал его, не показывая Келли.
— Пойду приму душ, — объявила Келли, снимая пальто. — Никогда не чувствуешь себя такой грязнющей, как после целого дня в машине.
Кардинал отнес конверт на кухню, держа его за уголок. Включил верхний свет и вгляделся в напечатанный адрес. Он был почти уверен, что различает тонкую паутинообразную линию, идущую через буквы М и R в словах «Madonna Road».
10
Во время своего первого визита Кардинал не заметил, как продуманно все устроено в кабинете доктора Белла — с расчетом на то, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно. Большие солнечные окна с полупрозрачными занавесками, яркими, как паруса; психологические и философские труды, закрывавшие стены от пола до потолка и распространявшие умиротворяющий запах типографской краски, клея и бумаги; потертые персидские ковры, — все в этой комнате так и излучало стабильность, постоянство, мудрость, — то, чего так не хватает большинству пациентов психиатра. Это место было своего рода убежищем от жизненных бурь, коконом, так и приглашавшим посетителя к раздумьям о самом себе.
Кардинал угнездился на кушетке. Он заметил, что на другом ее конце скромно уложены коробки с «Клинексом», а на столике — не меньше «Клинекса», чем в похоронном зале Десмонда; он невольно задался вопросом, сколько раз Кэтрин сидела здесь и плакала. Может быть, она рассказывала и о том, как разочаровалась в собственном муже, который уделяет ей недостаточно много внимания, недостаточно добр к ней или недостаточно терпелив?
— «Как сильно она должна была тебя ненавидеть, — прочел доктор Белл свежую открытку. — Ты ее так подвел». — Он взглянул на Кардинала поверх маленьких очков для чтения. — Какова была ваша реакция, когда вы это прочли? Я имею в виду — первая реакция.
— Что он прав. Или она. Тот человек, который это написал. Что это правда: я ее подвел, и она, вероятно, меня за это ненавидела.
— Вы в это верите?
Мягкий взгляд доктора сосредоточился на нем: не исследование, не попытка просветить рентгеном, просто ожидание ответа; в очках у него отражались яркие квадраты окон.
— Да, я верю, что подвел ее.
Во что Кардинал не мог поверить, так это что он станет с кем-нибудь так говорить. Он никогда ни с кем так не говорил, только с Кэтрин. Что-то в докторе Белле — это его вежливое ожидание, не говоря уж о мохнатых бровях и обо всем этом вельвете, — так и вызывало на откровенность. Неудивительно, что Кэтрин он нравился, хотя…
— Что такое? — поинтересовался доктор Белл. — Вы колеблетесь.
— Просто вспомнил одну вещь, — ответил Кардинал. — То, что мне однажды сказала Кэтрин, после того как она от вас вернулась. Я понял, что она плакала, и спросил, что было не так. И как прошла беседа. И она сказала: «Я обожаю доктора Белла. Мне кажется, он потрясающий. Но иногда даже самому лучшему врачу приходится делать тебе больно».
— Вы сейчас об этом подумали, потому что мой вопрос причинил вам боль.
Кардинал кивнул.
— Психотерапевты говорят: «Сначала должно стать хуже, зато потом станет лучше».
— Да. Кэтрин мне тоже так говорила.
— Не то чтобы кто-нибудь действительно хотел, чтобы пациенту стало хуже, — заметил доктор Белл. Его руки играли какой-то латунной штучкой, стоявшей у него на столе. Она была похожа на миниатюрный паровоз. — Но все мы возводим линии обороны против определенных истин, касающихся нас самих или тех ситуаций, в которых мы находимся: в сущности, против реальности. Терапия предоставляет нам место, где мы можем безбоязненно разобрать эти укрепления. Разбирает их сам пациент, а не врач, но тем не менее процесс неизбежно должен быть болезненным.
— К счастью, я пришел к вам не как пациент. Я просто хотел спросить вас об этих открытках. Я понимаю, что вы не специалист по психологическим портретам преступников…
— Боюсь, у меня нет никакого опыта по части криминалистики.
— Ничего страшного, это не официальное расследование. Но я надеялся, что вы сумеете мне помочь — высказать мнение о том, что за человек мог написать эти открытки. Их отправили из двух разных мест, но напечатали на одном и том же принтере.
— А что именно служит сейчас предметом расследования — официального или иного?
— То, что Кэтрин ум… — На этом слове у Кардинала перехватило дыхание. Он все еще не мог применить это слово к Кэтрин, хотя прошло уже больше недели. — Кэтрин.
— Вы хотите сказать — вы не верите, что она покончила с собой?
— Коронер зафиксировал самоубийство, и мои коллеги по управлению с ним согласны. Но лично для меня принять это немного труднее, хотя вы, наверное, скажете, что это просто моя линия обороны.
— Вовсе нет, я никогда не сказал бы, что это только оборона. Я с глубоким уважением отношусь ко всякого рода оборонительным сооружениям, детектив. Именно благодаря им мы проживаем дни, не говоря уж о ночах. Кроме того, я не ставлю под сомнение вашу компетентность в области расследования убийств. Мой собственный опыт общения с Кэтрин, в свою очередь, приводит меня к мысли, что она действительно с высокой степенью вероятности могла себя убить, но если бы имелись доказательства противоположного, я бы не стал спорить и называть черное белым. Безусловно, с заключением «смерть вследствие несчастного случая» мне было бы значительно легче согласиться. Но вы ведь не думаете, что это произошло случайно, верно?
— Не думаю.
— Вы считаете, что ее убили. И что за этим убийством стоит человек, написавший эти омерзительные послания, кем бы он ни был.
— Пока можно просто сказать, что сейчас я разрабатываю несколько направлений расследования. Я готов вам заплатить — я должен был сразу же это сказать.
— Нет-нет, что вы. Я никак не могу принять плату. Это не моя область. Я с радостью изложу вам мою точку зрения, так сказать, не для протокола, однако если я приму плату, это будет означать, что я уверенно предлагаю вам коммерческие услуги в этой сфере. А это совершенно не так. — Доктор Белл улыбнулся, его глаза на мгновение утонули под пушистыми бровями. — Это весьма важное предуведомление. По-прежнему желаете, чтобы я высказался?
— Будьте любезны.
Доктор ссутулил плечи и потряс головой. Если уж у человека должны быть нервные тики, подумал Кардинал, эти еще сравнительно безобидные. Врач взял первую открытку и поправил очки. Потом чуть повернулся в кресле, поднося открытку поближе к свету. Затем он замер, точно фигура на картине.
— Хорошо, — произнес он спустя некоторое время. — Прежде всего — какова натура человека, пишущего подобное? Ведь, в сущности, автор записки глумится над вами.
— Один мой друг употребил то же слово.
— Более того, автор не просто глумится: он еще и делает это исподтишка. Он или она. Как ребенок, который обзывает кого-нибудь с безопасного расстояния. Он знает, что вы не сможете дать ему сдачи. Это — трусливая, боязливая атака.
Между тем когда вы кого-то убиваете… Когда вы убиваете, это весьма личностная вещь, она происходит лицом к лицу. Обычно так. И чтобы увязать эти открытки с возможным убийством Кэтрин, вы должны предположить, что мотив в обоих случаях — один и тот же: цель — сделать больно вам, а Кэтрин стала лишь средством для достижения этого результата. И, чтобы сделать вам больно, убийца начал с того, что каким-то образом завладел ее предсмертной запиской — если только вы не считаете, что на самом деле это не ее почерк. Вы сомневаетесь насчет почерка?
— Пока мы предполагаем, что он подлинный.
— А это значит, что кто-то мог завладеть ее запиской о самоубийстве. Кто бы это мог быть?
— Не знаю… по крайней мере, пока не знаю. Пожалуйста, продолжайте.
— Он намеревается сделать вам больно, сделав больно ей; возможно, какое-то время он следит за ней. Вероятно, весьма долгое время. Вероятно, он тайно роется в ее вещах и находит записку о самоубийстве, которую она написала в какой-нибудь особенно мрачный день. Может быть, он нашел ее уже после того, как она ее выбросила, кто знает? Так или иначе, он следует за ней в тот вечер, в те часы, когда она более или менее одна, и сталкивает ее с крыши, оставив записку, чтобы сбить всех со следа. Если в действительности все так и произошло, мне представляется, что человек, сумевший все это проделать, — слежку, ожидание и финальный насильственный акт, — совсем не та робкая душа, которая дает себе труд писать анонимные пасквили. Как по-вашему, пока я рассуждаю логично?
— Хотел бы я, чтобы в отделе поведенческой психологии Полицейского департамента Онтарио соображали так же быстро, — заметил Кардинал. — Продолжайте.
— Я бы сказал, что в случае автора открыток речь идет о человеке, который вас знает. Причем я бы подчеркнул — именно вас, а не Кэтрин. Он не жалеет усилий, чтобы скрыть свой почерк. Кроме того, вы упомянули, что он отправил свои послания из двух различных мест. — Доктор Белл снова утонул в кресле, повернув его одной ногой, упершейся в столик, и заключил: — Я бы сказал, что это человек нервный и замкнутый. Ощущает себя неудачником — или неудачницей. Почти наверняка у него — или у нее — сейчас нет работы. Самооценка — глубоко в негативной зоне. И еще, судя по первой открытке, это человек, перенесший тяжелую потерю, в которой он обвиняет вас. Полагаю, детектив, вы уже рассматривали возможность, что это кто-нибудь из тех, кого вы упрятали за решетку?
— Угу, — подтвердил Кардинал. — И таких много.
— Да, но фраза «Ну как тебе это?»… Здесь сквозит одно очень специфическое намерение, вы не находите? Кто-то наступает тебе на ногу, и ты со всей силы наступаешь в ответ. «Как тебе это?» «Как тебе это понравится?» На мой взгляд, это не просто человек, которого вы посадили в тюрьму, но и, возможно, тот, кто из-за этого тюремного заключения потерял жену
— Мы не ведем статистику, но таких, думаю, тоже немало. Тюремное заключение не способствует браку.
— Госпитализация также ему не способствует, хотя в вашем лице мы имеем замечательное исключение.
Кардинал хотел сказать: «Я делал что мог, но, очевидно, этого было недостаточно», но горе стиснуло ему горло своей костлявой рукой. Он открыл портфель и достал предсмертную записку Кэтрин — оригинал, помещенный в пластик.
Доктор Белл снова повернулся к свету, падавшему из окна. Несколько раз задумчиво поскреб голову, меж песчаных и седых кудрей, и потом опять замер.
Спустя некоторое время он произнес:
— Должно быть, это было мучительно читать.
— Как вы на это смотрите, доктор? По-вашему, это подлинная записка?
— А-а. Значит, у вас все же есть сомнения насчет почерка.
— Просто скажите мне, пожалуйста, как вы это воспринимаете.
— Кэтрин вполне могла такое написать. Женщина, погруженная в глубокую, часто безнадежную печаль, но при этом способная на очень большую любовь. Думаю, именно эта любовь помогала ей справляться с депрессиями, которые могли бы еще много лет назад окончиться летальным исходом. Больше всего, — и я много раз слышал об этом от нее самой, — ее волновало то, как это подействует на вас, и, очевидно, даже в самом конце она об этом беспокоилась.
— Если только это был конец, — проговорил Кардинал.
11
Ларри Бёрк был новичком в отделе уголовного розыска. Собственно, он снял форму[18] всего несколько месяцев назад, и ему очень хотелось произвести хорошее впечатление на коллег. Он беспокоился даже о том, что, зайдя перекусить в «Кантри стайл» в начале Алгонкин-роуд, он станет воплощением стереотипа: коп в пончиковой. Но, по правде говоря, на пончики ему было плевать, ему просто нравился кофе, который подавали в «Кантри стайл». И, если вдуматься, они там делают очень приличные сэндвичи, так почему же ему не съесть то, что он любит?
Это было его любимое занятие в свободный день — заехать в «Кантри стайл», посидеть с номером «Торонто сан» (у них самый лучший спортивный раздел), заказать гигантский кофе и сэндвич с куриным салатом — и так наслаждаться добрых полтора часа. Сегодня сквозь окна струились солнечные лучи, и Бёрку стало по-настоящему жарко, хотя стоял прохладный октябрьский день. Холмы за окнами алели и золотились.
Он слизнул с пальцев остатки куриного салата и отхлебнул кофе. Его поджидал маффин[19] с отрубями, но он не хотел, чтобы обед завершился слишком быстро. По правде говоря, его выходные малость поблекли после того, как они расстались с Брендой, — или, точнее, Бренда с ним рассталась. Бёрк бы с радостью продолжил их необязательный роман, растянув его еще на один-два тепловатых года.
Он уже подумывал позвонить ей на мобильный, просто узнать, как у нее дела, но ему не хотелось выглядеть жалким. И потом, Бренда была права: у них по большому счету не было общего будущего.
— А что я только что увидел, приятель, просто глазам не верю.
Бёрк поднял глаза от статьи о Сером кубке.[20] Парень за соседним столиком глядел в окно на что-то у Бёрка за спиной. Бёрк оглянулся, но увидел только парковку, на которой ничего такого не происходило.
— Он уже ушел, — сообщил парень. — Но я поклясться готов, у типа, который только что вылез из вон той «хонды-сивик», было ружье. Он вошел в прачечную-автомат. И вид у него был такой, словно он очень на кого-то взъелся.
— Вы уверены, что при нем было ружье?
— Приятель, я в прошлые выходные уложил шесть уток. Я знаю, как выглядит дробовик.
У Бёрка пересохло во рту. Табельного пистолета при нем не было, рации тоже. Он раскрыл телефон, нажал кнопку быстрого набора и связался с дежурным сержантом.
— Привет, Мо, это Бёрк. Да-да, знаю, ты послушай. Мне поступило сообщение о мужчине, который внес огнестрельное оружие в прачечную-автомат рядом с «Кантри стайл» в начале Алгонкин-роуд. Сам я его не видел, но через два стула от меня сидит охотник, который клянется, что у этого парня ружье.
Он услышал, как сержант включает рацию, и дал отбой. Затем он вышел на стоянку и направился к прачечной. Запах опавших листьев смешивался с духом стирального порошка, вырывавшимся из вентиляции здания. Воздух был такой холодный, что Бёрк покрылся «гусиной кожей». Во всяком случае, он решил, что это от холода.
Он не стал медлить. Опыт подсказывал Бёрку, что в таких вещах хуже всего — ожидание. Такие ситуации никогда не улучшаются со временем. Он надеялся, что у этого типа либо игрушечное ружье, либо он просто несет свое охотничье оружие в починку.
Он открыл дверь в автомат и вошел. Молодой человек, худой, даже тощий, с шеей как палка, преждевременно лысеющий в свои — сколько там? — самое большее лет двадцать пять, смотрел на сушильный барабан в дальнем конце ряда стиральных машин, как если бы в нем показывали футбол, а не вращалось белье. В передней части помещения, в стоящих рядком пластмассовых креслах, сидели три женщины: кто-то читал журнал, кто-то пялился в портативный компьютер. Никто из них не поднял на вошедшего глаза.
Притворяясь, будто хочет и себе взять журнал, Бёрк стал обходить стиральные машины и увидел, что у молодого человека действительно имеется ружье. Дуло смотрело в пол. Похоже, парень не осознавал, что в помещении есть другие люди.
Пятясь, Бёрк отступил шага на два. Он слегка постучал первую из сидевших женщин по плечу, а когда она всполошенно подняла взгляд, оторвавшись от своей «Шатлен»,[21] приложил палец к губам. Он предъявил полицейское удостоверение и указал ей на дверь. Женщина открыла было рот, но Бёрк снова поднес палец к губам. Она подняла с пола рюкзачок и вышла.
Две другие женщины уже смотрели на него. Бёрк и им сделал жест, предписывающий покинуть прачечную. Обе встали, но одна из них, вместо того чтобы выйти, направилась к сушилкам.
— О господи, — произнесла она. — У него ружье.
Бёрк поймал ее за локоть и тихо сказал:
— Выходите сейчас же. Выйдите отсюда и держитесь подальше от окон. И не пускайте сюда никого, пока не прибудет моя группа поддержки. Идите. Идите.
Женщина вышла, не оборачиваясь; за ней захлопнулась дверь.
Другие люди, в дальнем конце прачечной, ничего не слышали за бульканьем и лязгом машин, и вооруженный человек уселся между ними и Бёрком. Сейчас он смотрел на Бёрка.
— Что вам надо? — спросил он. У него был неприятный голос: это утиное кряканье больше подошло бы кому-нибудь сильно постарше.
Бёрк улыбнулся:
— Один парень по соседству перепугался, когда увидел, что вы входите сюда с ружьем. Вот и я решил зайти посмотреть, в чем дело.
— Я никому ничего плохого не собираюсь делать.
— Это хорошо. Но разве вы не понимаете, что это правонарушение — носить незачехленное огнестрельное оружие в пределах города?
— Вы кто, коп?
Бёрк кивнул, снова чуть улыбнувшись. Глянул на потолок, потом снова на этого парня. Он пытался вспомнить, как их в Эйлмерском полицейском колледже учили поддерживать визуальный контакт с беспокойными субъектами. Одни видят в таком контакте угрозу, других он успокаивает. Он не мог вспомнить, на кого он как действует, поэтому решил попеременно применять то одну, то другую тактику.
— У меня сегодня выходной, — сообщил Бёрк. — А сейчас передайте мне ваше оружие, прикладом вперед.
— Нет. Не стану я этого делать.
Люди в задней части прачечной по-прежнему пребывали в неведении относительно происходящего. Если бы Бёрку удалось их отсюда убрать, он бы мог и сам ретироваться: тогда в помещении не осталось бы никого, кроме этого типа, и можно было бы спокойно ожидать подкрепления. Кстати, где оно, черт побери?
— Послушайте, — сказал ему Бёрк. — Сейчас я попрошу всех остальных выйти. Я немного волнуюсь, как бы это ваше ружье случайно не выстрелило, а ведь мы не хотим, чтобы пострадали посторонние, верно?
— Отлично. Уберите их отсюда. И сами тоже выметайтесь.
— Извините! — Бёрку пришлось перекрикивать шум стиральных машин. — Извините… сэр… мэм… — Он поднял свое удостоверение, хотя на таком расстоянии они вряд ли могли его разглядеть. — Сэр! Мэм! Я сотрудник полиции. Вынужден просить вас покинуть помещение. Нужно, чтобы вы отсюда вышли и какое-то время были подальше от здания.
— С какой радости? — отозвался мужчина. — Мои вещи вот-вот вылезут из сушилки.
— Просто выйдите наружу, сэр. Я должен обеспечить безопасность этого здания.
Мужчина что-то пробурчал, беря рюкзак и бутылку чая со льдом. Он бурчал не переставая, пока шел к двери, через которую перед этим вышла женщина — проявив значительно меньше неподатливости.
Бёрк снова повернулся к человеку с ружьем — в сущности, это был почти мальчик.
— Я попрошу вас еще раз. Не могли бы вы передать мне ваше оружие? Прикладом вперед.
Вместо ответа молодой человек загнал в ствол патрон. Душа у Бёрка ушла в пятки.
— Ладно, смотрите. — Бёрк поднял руки, — Я не вооружен. Я же говорил, у меня сегодня выходной. Просто опустите ружье, и у нас с вами, может быть, получится диалог обо всем этом. — Диалог? Какой еще диалог? Давай-ка разговаривай по-человечески, призвал он себя.
— Выйдите отсюда, вот и все, — произнес человек своим утиным голосом. — Я никому не собираюсь причинять вред. Только себе.
— Ну, хотя бы скажите мне ваше имя. Нам же надо будет потом вас опознавать и все такое.
— Перри, — ответил он. — Перри Дорн.
— А меня зовут Ларри, — представился Бёрк. — Перри и Ларри, неплохо звучит, а? — Игра в близнецов, вот как это называется. Найди способ как-то отождествить себя с объектом. Если он закурит, ты тоже закури. Если ему захочется пиццы, попроси его поделиться. Когда играешь в близнецов, ситуация может сильно измениться: они начинают видеть в тебе человека, видеть в тебе сочувствующего. — А где ты живешь, Перри?
— Вудрафф-авеню. Вудрафф, триста сорок один.
— Ну да. Возле старого вокзала? С виду неплохое местечко.
— Отстойное.
— Вот как. Снаружи-то не поймешь.
— Ну да. Просто потрясающе, сколько всяких вещей не понимаешь, когда смотришь только снаружи.
— Точно-точно, — согласился Бёрк. — Это очень точно. Может, расскажешь, что с тобой такое творится? Мне кажется, ты парень стойкий. Из тех, что могут принять несколько ударов и все равно остаться на ногах. Что происходит, Перри? Что тебя так обломало? Работа? Подружка?
Парень покачал головой. Одна сторона его рта чуть изогнулась, словно он пробовал на вкус какую-то желчь.
— Если я вам скажу, вы уйдете и оставите меня в покое?
— Я не могу уйти, пока у тебя ружье, Перри. У меня будут большие неприятности, если я так поступлю. Да скажи мне, чего ты?
Молодой человек несколько раз мигнул. Тяжелая капля пота набухла у него на лбу, медленно потекла к глазам. Конечно, в прачечной было жарко, но не настолько же.
— У меня нет подружки и работы тоже нет. Таковы начальные условия задачи. Пусть X — это студент. Бывший студент. Я собирался делать диплом в Мак-Гилле. Но только если моя девушка поедет со мной. Пусть Y — моя девушка. Бывшая. Сначала она сказала, что тоже поедет, но потом передумала, уже после того, как меня приняли, когда у меня уже был билет и прочее. Я знал — в этом уравнении что-то не так. Знал еще до того, как она дала задний ход. Я знал, что все не может быть настолько хорошо. И я оказался прав. Я нашел правильный ответ. Хотя и не понимал, как я его нашел.
— Тяжелая история, Перри, — посочувствовал Бёрк. — Тебе много чего пришлось вынести. Знаешь, не повредит, если ты дашь себе еще какое-то время, чтобы это пережить.
Молодой человек не обратил внимания на его слова.
— Я собирался поступать в Мак-Гилл. Мне должны были полностью оплатить обучение. Мне надо было выложить деньги только за учебники и за проживание, а теперь я не могу поехать. Видите ли, это не потому, что она не хотела в Монреаль. Проблема была не в этом. Она меня бросила потому, что спала с парнем, которого я считал своим другом. Обозначим его Z. Стэнли, мой так называемый друг.
Бёрку могло бы показаться, что он добился продвижения: ведь он сделал так, чтобы парень заговорил о себе и о своих проблемах. Но тот говорил без всякого чувства. Он выкрякивал свою алгебру неудач и не хотел, чтобы его отвлекали. Весь этот математический жаргон — как будто его жизнь была просто уравнением с иксами. Из-за холодности его голоса, из-за нехватки в нем чувств сердце у Бёрка колотилось вдвое быстрее обычного.
— Черт возьми, Перри. Час от часу не легче. Что ж тут удивляться, что ты сломался. Всякий бы сломался на твоем месте. Тебе надо какое-то время отдохнуть, дружище. Чтобы как-то оправиться после всех бед, которые на тебя свалились.
— «Отдохнуть». Я должен был явиться на занятия еще несколько недель назад. Теперь я потерял место. А что касается моей девушки…
— Как ее зовут?
— Маргарет. Хотя все ее зовут Пег.
— Маргарет. Ирландское имя.
Парень не слушал.
— Она крутила хвостом, — сказал он так, словно еще об этом не упоминал. — А это вроде как вводит в уравнение новый вектор. Она была мне неверна. Уже долго, за моей спиной. Она говорит — нет, это началось совсем недавно. Я не могу это доказать, но я знаю, что она лжет. У меня такое ощущение, вот и все. Всюду обман.
К этому моменту парню полагалось бы плакать, но он по-прежнему говорил этим мертвым голосом — «все кончено», вот что слышалось в этом голосе. Все стиральные машины затихли, кроме одной сушилки, громыхавшей у задней стены. Бёрк услышал, как подъехали и остановились машины: наконец-то прибыла наша доблестная кавалерия. Вдруг у него мелькнула догадка, проблеск идеи, достойный сотрудника уголовного розыска. Он обвел рукой прачечную:
— Это здесь ты с ней познакомился, Перри? Так вышло, что вы с ней в первый раз встретились именно тут?
— Пятерка с плюсом, — ответил парень и послал ему широкую улыбку.
Есть контакт! — решил Бёрк. Наконец-то хоть какое-то продвижение. Но не успел он это подумать, как Перри Дорн мотнул ружьем, уткнул себе дуло под самый подбородок и нажал на спуск.
12
Одна из особенностей полицейской работы в маленьком городке, делающая ее и более интересной, чем в большом городе, и более разочаровывающей, состоит в том, что детективу приходится иметь дело с преступлениями всех возможных типов. Здесь нет специалистов по насильственным действиям, экспертов по убийствам или копов, занимающихся только разбором мошенничества: берешься за все, что тебе поручит детектив-сержант. Сейчас Кардинал был в отпуске по скорбным семейным обстоятельствам, у Маклеода и Бёрка был выходной, а значит, Лиз Делорм, в придачу к своей недавно начавшейся охоте на растлителя детей, вынуждена была разбирать еще одно самоубийство, на сей раз — случившееся в прачечной-автомате, где пахло хлопковым бельем, горячим металлом и мыльной водой.
Но Делорм чувствовала и запах крови. Фонтан ударил в потолок вместе с изрядным количеством мозгового вещества, а возле стиральных машин, там, где упал самоубийца, виднелись потеки, пятна и алые кляксы. Темная лужа на полу уже густела.
— Ух ты, — произнес Желаги. — И какая, по-твоему, причина смерти?
Стоять рядом с Кеном Желаги было все равно что стоять возле Эмпайр-стейт-билдинг; в нем было шесть футов четыре дюйма, и Делорм всегда чувствовала себя при нем какой-то коротышкой, хотя ею и не была. Она склонна была компенсировать это, обращаясь с ним чересчур сурово, хотя в этом не было необходимости, ибо у Желаги был самый покладистый характер в отделе.
Какое-то время они стояли поодаль, чтобы не мешать коронеру делать свою работу. Это снова был доктор Клейборн; его лысая голова отражала огни ламп искусственного света.
Делорм прошлась по содержимому бумажника, принадлежавшего мертвецу. В латексных перчатках было трудно вытаскивать отдельные карточки и документы; наконец ей удалось извлечь водительские права, хотя непреклонное, чуть асимметричное лицо на снимке в правах не имело ни малейшего сходства с карминовыми обломками на полу.
— Перри Уоллис Дорн, — прочла она. — Живет на Вудраффе, если адрес еще действителен.
— Далековато забрался, — проговорил Желаги. — Он мог бы выбрать прачечную рядом с домом. Видимо, та машина съела его четвертак.
Делорм просмотрела несколько кредитных карточек, библиотечную карточку, выданную в Алгонкин-Бей, карточку медицинского страхования, дисконтную карту книжного магазина «Чаптерс», студенческий билет Северного университета (срок действия истек).
— Кое-что есть, — объявила она. — Свидетельство о рождении.
Она перевернула документ. К сожалению, это была краткая форма, и имен родителей здесь не было. Она передала бумагу Желаги.
— Свяжись со службой регистрации актов гражданского состояния, узнай фамилии его родителей. И выясни, был ли этот Перри когда-нибудь женат.
Желаги раскрыл свой телефон, а Делорм опустила руку, чтобы взять листок бумаги, который ей протягивал доктор Клейборн.
— Лежал у него в кармане куртки, — пояснил он. Лицо у коронера было ярко-красное. Это из-за его комплекции, напомнила себе Делорм, и неважно, что там на него наговаривает Маклеод. И вообще Маклеод вечно ошибается насчет всего на свете: удивительно, как ему вообще удалось стать детективом.
Когда-то эту записку скомкали в тугой шарик, но потом развернули, расправили и сложили уже более аккуратно. Так или иначе, она вряд ли вошла бы в историю как образец величайших романтических посланий.
«Дорогая Маргарет», — было в ней написано. Эти слова были вычеркнуты и затем переписаны заново в разных местах страницы: «Дорогая Маргарет», «Дорогая Маргарет», «Дорогая…».
За содержание ты не получишь ни одного балла, Перри. Но потом Делорм подумала, что, может быть, это все, что требуется сказать, когда собираешься сойти со сцены. Нет, спасибо. С меня хватит. Продолжайте без меня, ребята. Возможно, Перри Дорн, очистив предсмертную записку от всего лишнего, довел ее до самой сути: «Дорогая…»
Можно было бы решить, что так поступают невезучие люди, думала Делорм: полнейшие неудачники или же те, у кого нет никаких перспектив. Но она уже достаточно повидала на своему веку, чтобы заключить: каждый может счесть суицид возможным выходом. Умные и глупые, уродливые и красивые: всякий может в любой момент выйти из игры. Но почему именно в это время? Почему в октябре? Знаний Делорм о самоубийствах хватало на то, чтобы понимать ошибочность распространенного мифа: на самом деле у самоубийц не бывает никакой «рождественской лихорадки» — во всяком случае, в провинции Онтарио. Хуже всего этот показатель в феврале. В чем есть свой смысл, поскольку к февралю тебе успевает настолько осточертеть снег и холод, что самоубийство кажется разумным вариантом. Вот почему с наступлением февраля практически все население Алгонкин-Бей перемещается во Флориду или в бассейн Карибского моря.
Зачем убивать себя осенью? В это время здесь так красиво, холмы набухают умопомрачительными красками. Осенью Делорм чувствовала себя счастливее всего. Именно осенью, а не под Новый год она принимала важные решения. Возможно, это было просто наследие системы образования: ведь именно осенью приходишь в класс с яркими новенькими тетрадями, и их чистые свежие страницы призывают тебя писать аккуратно и подробно. Но чем дальше движется учебный год, тем сильнее твои записи деградируют, превращаясь в какие-то малопонятные почеркушки, лишь зря терзающие память, если они вообще как-то с ней перекликаются. Но эти первые несколько дней, когда воздух уже приносит первые освежающие ноты зимы и небо пламенеет, точно газовый факел, — в такие дни просто невозможно не быть счастливым: по крайней мере, так было у Делорм. Несмотря на то что чуть ли не каждое лето приносило ей очередное романтическое разочарование, осенью ее сердце всякий раз вновь наполнялось надеждой.
Снаружи солнце сияло настолько ярко, что парковка была похожа на передержанную фотографию. А внутри все, что не окрасилось кровью, было серым, обесцвеченным, точно одежда, которую слишком много раз стирали.
Хлопнула притянутая пружинами дверь, и вошел Бёрк, зажав в кулаке блокнот.
— Осмотрел его машину. Заднее сиденье забито новыми книгами, папками и всяким барахлом.
Бёрк старался, чтобы его голос звучал грубо, но лицо у него было бледное, а рука дрожала.
— Мы нашли его студбилет, — сообщила Делорм. — Слушай, Ларри, может быть, поедешь домой и полежишь? Парень разворотил себе голову прямо у тебя на глазах, такое не переживается за пять минут.
— А ты посмотри на это.
Он протянул ей лист бумаги — дорогой бланк с красным гербом вверху. Дата — начало апреля.
— «Дорогой мистер Дорн, — прочла она. — Мы рады сообщить вам, что университет Мак-Гилл принимает вас на дипломную программу по математике. Если учесть вашу выдающуюся успеваемость в Северном университете, полагаем, можно с уверенностью предположить, что на ваше обучение будет выделен значительный грант. По получении одобрения со стороны отдела поощрения студентов ваши личные траты, по всей вероятности, сведутся к оплате аренды жилья и других расходов на проживание. Мы с нетерпением ждем вас осенью». Учебный год начался давным-давно. Если его приняли в Мак-Гилл, почему он не там, в Монреале?
— Видимо, у парня не хватает винтиков в голове, — предположил Бёрк. — Псих, — добавил он. Но способность убеждать никогда не была его сильной стороной.
— Все-таки, Ларри, поезжай домой и полежи, — посоветовала Делорм. — Ты сейчас не в форме, ты не можешь работать. Не волнуйся. Никто не станет на тебя коситься.
— У меня все в порядке. Это же обычная повседневная работа, а? Мы все время сталкиваемся с такой хренью, а?
— Нет, это не так. Я никогда не видела, как человек стреляется, и не хотела бы увидеть. Что это у тебя в руке?
— А? — Бёрк поднял руку и уставился на «палм-пилот» с таким видом, точно компьютер только что материализовался у него в ладони. — Ах да. Это было у него в машине. Подумал — вдруг тебе понадобится.
— Правильно подумал. А теперь — давай домой.
— Может, я просто пару минут посижу за дверью, — проговорил Бёрк.
Желаги со щелчком захлопнул свой телефон:
— Из службы регистрации перезвонят.
— Может быть, они нам и не понадобятся, — сказала Делорм. Она тыкала стилусом в «палм», просматривая список адресов. Не на Д (Дорн), не на Р (родители)… — Есть, — объявила она. — На букву М: мама.
13
Кардинал чувствует: все его тело наполнено ощущением странного счастья. Они сидят все втроем: Кэтрин, Кардинал и Келли, — в ресторане «Трианон», наслаждаясь самыми лучшими кушаньями, какие только может предложить Алгонкин-Бей. У них была семейная традиция — отправляться в «Трианон» по особым случаям: на дни рождения, в годовщины свадьбы, а иногда просто потому, что к ним приехала Келли. Да, она здесь, только что из Нью-Йорка, и Кэтрин в отличном настроении, а больница с ее зеленой крышей — лишь отдаленное воспоминание. Сердце Кардинала парит в груди, точно воздушный шар с гелием.
Видимо, он немного перебрал, потому что так и бурлит сентиментальностью; он даже сказал: «Все просто великолепно. Так, как и должно быть. Мы могли бы сниматься в телесериале, согревающем сердца. «Семейка Гудов»».
Келли округляет глаза: «Ну пап».
Но Кардинал настаивает: «Нет, ты только погляди на нас. Ладно, пусть это все из-за бордо, — но он все равно должен сказать: — Дочка — умница и красавица; муж — прекрасный профессионал…»
«И безумная жена», — добавляет Кэтрин, и двое остальных улыбаются.
Кардинал накрывает ее теплую руку своей. «Я так благодарен, — говорит он. — «Благодарность» — слишком слабое слово, чтобы выразить то, что я чувствую. Мне сейчас так…»
«Пап, ну что ты, в самом деле! — У Келли такой вид, словно она готова помахать, чтобы принесли счет, и помчаться на первый же самолет, который увезет ее обратно в Нью-Йорк. — Мы что, не можем нормально поговорить?»
«Это нормальный разговор, — возражает Кардинал. — Именно поэтому он такой замечательный. Мне снилось, что Кэтрин умерла, а теперь вот мы все вместе, и все совершенно нормально». Он кладет ладонь себе на сердце, чувствуя тепло, которое идет из этой печи, излучающей радость.
Серьезные карие глаза Кэтрин изучающе смотрят на него, в уголках рта у нее образуются крошечные скобки: «Тебе снилось, что я умерла?»
«И все было так правдоподобно! Просто чудовищно!»
«Бедняга, — говорит Кэтрин. В ее голосе сквозит сладость заботы. Она кладет ладонь ему на щеку, и он чувствует тепло крови, струящейся в ее пальцах. — Но теперь-то у тебя все в порядке?»
«В порядке? У меня? — Кардинал смеется. — Настолько в порядке, что это мое состояние можно разливать по бутылочкам и продавать на всех углах. Я разорю всех торговцев героином и экстази. Мне так хорошо, что я мог бы…» Голос у него срывается, и он больше не в состоянии говорить, потому что плачет. Да, он плачет, и это слезы счастья, слезы радости, и жена с дочерью подергиваются рябью, словно кто-то применил компьютерные спецэффекты.
Слезы холодят его лицо, и Кардинал просыпается. Он спал на спине, и слезы скопились у него в глазах. У него текло из носа, верхняя губа была мокрой от горячих соплей, прохладные капли стекали по его ушам и шее. Какая радость! Он вытер глаза и, опираясь на локоть, повернулся, чтобы рассказать Кэтрин.
Этот сон взвинтил его до предела. Каждое действие, которое он совершал, казалось словно бы усиленным вдесятеро. Всего-навсего ставя чашку кофе на кухонный разделочный стол, он услышал оглушительное «бум», от которого у него заболели уши. Вода, которая текла в кухонную раковину, была какой-то грубой и уродливой: казалось, она пытает столовые приборы. Даже газета, когда он переворачивал страницу, издавала какой-то свистящий стеклянный звук. И он не мог ничего читать, не в состоянии был что-либо воспринимать. Даже заголовки казались ему непонятными.
А Кэтрин была повсюду. Каждый предмет в его доме в той или иной степени нес в себе эту «кэтринность». Выше всего на этой шкале располагалось все, что она когда-то выбрала сама. Она вложила в это усилия, специально поехала, чтобы это купить, думала об этой вещи. Все, чем она пользовалась каждый день, было сильно «прокэтринено»: в шкафчике для лекарств — уйма ее препаратов, маленькие тюбики со средством для снятия теней и увлажнителем. Ее щетка, с путаницей волос. Хранить ли такие вещи? И как решиться их выбросить?
Когда-то — недели две назад? — она принесла домой тюльпаны, они давно завяли в вазе. Кардинал не мог заставить себя их выкинуть, и Келли, видимо, тоже не могла. А вот фотографии, которые Кэтрин выбрала для того, чтобы поместить в рамку: портрет Келли и тихий снимок, на котором Кэтрин была вдвоем с Кардиналом, она сделала его, включив таймер. Музыкальный шкафчик, набитый дисками, которые она тоже выбирала сама: «Гольдберг-вариации», «Хорошо темперированный клавир» Баха в исполнении Гульда и в исполнении Ландовски. Бонни Рэйт,[22] Шерил Кроу.[23] Хватит ли у меня когда-нибудь сил слушать эту музыку? Стоит ли мне все это выбросить?
В пустой кухне Кардинал насыпал себе чашку хлопьев корнфлекс. Он никогда не ел холодную кашу, и сейчас он подумал, что они достаточно безвкусные, чтобы их можно было проглотить не замечая. Он бездумно смотрел, как хлопья плавают в молоке, когда на разделочном столе зазвонил телефон.
Кардинал встал, чтобы взять трубку. Звонила какая-то женщина, голос был незнакомый.
— Алло, Кэтрин дома?
Кардинал стоял у раковины, сжимая трубку, не в силах пошевелиться.
— Алло? Я правильно звоню, это номер Кэтрин Кардинал?
— Да, — выдавил Кардинал. — Правильно.
— Простите, можно мне с ней поговорить?
— М-м… нет. Она… ее сейчас нет.
— Вы не знаете, когда она будет?
— Нет. Я хочу сказать — я не знаю точно.
— Ох. А если я оставлю свое имя и телефон, вы не могли бы попросить ее мне перезвонить, когда она появится? У вас есть ручка?
Кардинал взял ручку и стал слушать, как она диктует ему свое имя и торонтский номер. Кэтрин должна была позвонить ей по поводу проходящего по выходным мастер-класса, посвященного сложным методам цифровой фотографии. Кардинал занес ручку над блокнотиком, в который они с Кэтрин обычно заносили телефонограммы, но ничего не записал.
Он сбежал на работу. За все время нога Кэтрин переступала порог их отдела, пожалуй, не больше полудюжины раз. Если не считать портрета Кэтрин, стоящего у Кардинала на столе, здесь ничто о ней не напоминало. Это было мужское место, несмотря на присутствие Лиз Делорм, и сержантов Флауэр и Фрэнсис, и другого младшего персонала. Помещение отдела было мужской территорией; Кэтрин не могла здесь до него дотянуться.
— Ты вернулся, — проворчал Маклеод. — Как раз когда это заведение стало хоть немного обретать цивилизованный вид.
— Я не здесь, — возразил Кардинал. — Просто зашел кое-что прояснить.
— Вот как, — отозвался Маклеод. — А я просто зашел отоспаться.
Кардинал взял свой настольный календарь и отлистал его до января. Дело Рено: два брата, устроившие серию краж со взломом. Когда однажды их остановили за нарушение правил дорожного движения, выяснилось, что в кузове их фургона полно всяких вещей, точно в ломбарде. Этим все могло бы и кончиться, но во время одного из ограблений дело обернулось совершенно не так, как они планировали. К их несказанному удивлению, в одном из домов, куда они залезли, обнаружились жильцы, и в панике братья до полусмерти избили владельца дома. Кардинал допрашивал их несколько недель, и в конце концов ему удалось устроить так, чтобы один брат выдал другого. Сейчас они отбывали свои шесть лет в Кингстонской тюрьме.
— Что ты тут делаешь? — спросила Делорм. Она сразу же подошла к нему и обняла, и Кардиналу, чувствительность которого обострилась от горя, показалось, что его буквально душат эмоции. Делорм бросила испытующий взгляд на его стол, на раскрытый календарь и объявила: — Ага! Плохие парни, которых ты знал и любил. По-моему, ты хочешь выследить того, кто стоит за той открыткой.
— За открытками, — поправил он. — Я получил еще одну.
Делорм изучающе посмотрела ему в лицо:
— Тот же почтовый штемпель?
— Эта пришла из Старджена.
Старджен-Фоллз — на западе от Алгонкин-Бей, в получасе езды. Уже через секунду Делорм вслух произнесла мысль Кардинала:
— Маттава. Старджен. Если предположить, что обе открытки — от одного человека, тогда он, скорее всего, отсюда. Ведь он еще и скрывает свой почерк.
— И я почти уверен, что он воспользовался тем же принтером.
Стол Делорм стоял рядом со столом Кардинала. Она села в свое кресло и развернулась, чтобы смотреть ему в лицо.
— Ты мне покажешь? — спросила она.
— Раньше ты не хотела знать.
— Ох, Джон. Не искажай мои слова.
Назвала его на работе по имени. Кардинал удивился, насколько сильно это его тронуло. Он вынул из портфеля открытку в пластиковой папке.
«Как сильно она должна была тебя ненавидеть. Ты ее так подвел».
— Ублюдок, — отреагировала Делорм. — Если это мужчина. Женщины тоже могут вести себя довольно мерзко, уверена, что ты сам замечал. Думаешь, это братья Рено? — Она произнесла «бруатья»: ее франкоканадский акцент прорывался наружу, когда она волновалась. — Если они это сделали, я лично поеду в Кингстон и отметелю их.
— Не думаю, что это они. Во-первых, откуда им знать, что Кэтрин…
— Ты сам знаешь, в тюрьме новости распространяются быстро. И у них в нашем городе остались родственники. Кто-нибудь мог упомянуть в разговоре.
— И что потом? Они находят человека, который отправляет одну открытку из Маттавы, другую — из Старджен-Фоллз, при этом обе напечатаны на одном принтере? По-моему, тут есть натяжка.
— Ну, ты-то знаешь свои дела лучше, чем я.
У Делорм зазвонил телефон. Она взяла трубку и стала приглушенным голосом разговаривать с Ларри Бёрком о парне, который покончил с собой в прачечной-автомате. Кардинал слышал об этом в новостях, пока ехал сюда. На этой неделе в рабочем расписании Делорм это наверняка самое срочное и тяжелое дело, но она о нем и словом не обмолвилась, беседуя с Кардиналом: не хотела его расстраивать разговорами о самоубийстве. Кардинал сам не знал, нравится ли ему, когда с ним нянчатся, как с ребенком.
Он продолжал листать календарь. Каждые несколько минут кто-нибудь проходил мимо со своим вариантом восклицания: «Кардинал! Приятно, что ты вернулся!» — на что Кардинал неизменно отвечал: «Я не здесь».
Он просмотрел содержимое своего картотечного ящика, большим пальцем отлистывая выступающие ярлыки с буквами. Столько имен, столько злодеев и правонарушителей, и лишь очень немногие казались ему вероятными кандидатами на роль автора открытки, не говоря уж о том, чтобы совершить это убийство.
Если ее убили. Все остальные видели здесь суицид, несмотря на тот факт, что она никак об этом не предупредила. И хотя ее записка была, очевидно, написана несколько месяцев назад, Кардинал знал, что этого недостаточно. Этого было бы недостаточно, чтобы поколебать даже Делорм, что уж говорить о суде и о присяжных; к тому же сомнения разъедали и его собственное сердце.
Но он вытолкнул их из сознания и залез в так называемый «ящик недоделок», куда откладывал материалы, которыми ему надо было бы заняться, но на которые у него вечно не хватало времени. Среди объявлений об изменении политики полицейского управления, о предстоящих конференциях, о судебных процессах лежали бумаги из Управления исполнения наказаний, касающиеся недавних освобождений. Здесь были данные не только по делам Кардинала, но и по всем преступникам с подведомственной их полицейскому управлению территории.
Ему слышно было, как Делорм тихо увещевает по телефону:
— Ларри, это не твоя вина. Тебе надо бы с кем-нибудь это обсудить. Тебе разрешается быть живым человеком.
Голос Делорм был каким-то невозможно далеким, словно Кардинал погрузился под воду. Да, он был словно утопающий, легкие у него были полны скорби. Эти выпущенные на свободу злодеи и правонарушители были просто обломками кораблекрушения, за которые он цеплялся, ожидая спасения, но в чем могло состоять это спасение?
Чтобы Кэтрин была жива.
Но он не опускал рук и в конце концов составил список из трех кандидатур. Все они жили в Алгонкин-Бей, всех выпустили из тюрьмы в течение прошедших двенадцати месяцев, и все они отсидели по меньшей мере по пять лет стараниями Джона Кардинала.
14
В Алгонкин-Бей много церквей, иные из них довольно приятны на вид, но костел Святой Хильды не относится к их числу. Это омерзительное строение из красного кирпича, высящееся на Самнер-стрит, не украсило добавление рифленой жестяной крыши, неудачно выкрашенной под старую медь. Тем не менее одно из преимуществ постоянного сокращения численности местной паствы — в том, что автомобильные стоянки при церкви предоставляют всем желающим целые акры бесплатных парковочных мест.
Кардинал припарковался в тени Святой Хильды и пошел по Седжвик-стрит. Этот район называли «смешанным»: иными словами, в его обшарпанных бунгало и хлипких двухквартирных домиках вы можете обнаружить и учителей начальных классов, и юных полицейских, и типов вроде Коннора Пласкетта.
Коннор Пласкетт впервые проявил интерес к нюханию клея, еще когда бегал в коротких штанишках. Позже он пристрастился к марихуане и алкоголю во всех его формах, отдавая особое предпочтение дешевому портвейну, — возможно, из-за высокого содержания сахара. Но однажды, побывав под колесами автобуса, он узрел свет и вступил в общество анонимных алкоголиков.
Он стал вести трезвый образ жизни, открыл фирму, занимавшуюся веб-дизайном, женился. Его бизнес до такой степени развился, что он смог без особых забот содержать молодую жену и ребенка. Затем мировой интернет-пузырь лопнул, он быстро разорился, а алкоголь с готовностью пришел ему на помощь в качестве обезболивающего.
Пласкетт как раз выходил из двухнедельного запоя, когда ему взбрело в голову ограбить местный универмаг. И вместе со своим пистолетом он это проделал. У него хватило соображения выдрать кассету из камеры видеонаблюдения, однако он не знал, что кассета, которую он забрал с собой, — муляж, установленный специально для этой цели — чтобы «подающий надежды» грабитель не унес ценную запись.
Так что в итоге Коннор Пласкетт появился в шестичасовых новостях, требуя у подростка за кассой отдать ему всю сегодняшнюю выручку.
Это было одно из самых легких дел, какие когда-либо приходилось разбирать Кардиналу.
Как выяснилось, Пласкетту не повезло с обвинителем и судьей, а также с женой. Его упекли на пять лет, а в его отсутствие жена поняла, что на самом-то деле всю жизнь была лесбиянкой, и ушла от него (забрав с собой ребенка) к женщине, зарабатывавшей на жизнь тем, что лазила на мачты электропередачи.
Пласкетт с трудом это перенес; к тому же в тюрьме он ухитрился вновь подсесть на старые вещества и даже добавить к их списку кое-какие новые. Он вышел из тюрьмы в значительно худшем состоянии, чем в нее садился.
Вскоре после этого Пласкетт как-то вечерком столкнулся с Кардиналом у таверны «Чинук». Кардинал тогда как раз завершил арест совершенно другого человека, — он сейчас даже не помнил, кого именно, — и вдруг Пласкетт вывалился из таверны и узнал его.
— Ублюдок, — произнес он, брызжа слюной и наполняя пивными испарениями прохладный вечерний воздух. — Долбаный ублюдок. Ты мне всю жизнь испоганил.
— Нет, Коннор, — возразил Кардинал. — Думаю, здесь все заслуги принадлежат исключительно тебе самому.
— У меня была семья, пока не явился ты. Сейчас я тебя проучу.
Пласкетт, шатаясь, шагнул вперед и мощно замахнулся на Кардинала, после чего рухнул прямо посреди стоянки. Кардинал взял у него ключи от машины, затолкал его на заднее сиденье его потрепанного пикапа и захлопнул дверцу, а ключи передал бармену «Чинука».
Дом номер 164 представлял собой крошечное буро-белое бунгало, заметно наклонившееся под действием ветра, словно дом тоже частенько нюхал ядовитые вещества. Номер 164Б, как выяснилось, соответствовал двери в пристройку из бетонных блоков: эту пристройку цементом прикрепили к дому в тщетной попытке как-то его усовершенствовать.
Кардинал нажал на кнопку звонка, но внутри не раздалось ни звука. Тогда он постучал в дверь, на которой несколько лет назад кто-то нарисовал по трафарету рождественский венок.
Грубый голос, по всей видимости женский, отозвался: «Погодите!» Затем послышался грохот, словно кто-то уронил с большой высоты поднос с чайником и чашками. Последовала серия не слишком изобретательных проклятий.
«Неряха» — это слово залегало где-то в глубинных слоях словаря Кардинала, но редко приходило ему в голову. Однако именно оно возникло у него в сознании, когда дверь распахнулась.
Женщина выглядела так, словно она катилась сюда через поле, покрытое грязью и битым стеклом, и было это несколько месяцев назад, и с тех пор у нее не было возможности привести себя в порядок. Глаза у нее были красные, костяшки пальцев шелушились, волосы были немыслимым образом перекручены и, возможно, служили обиталищем всякой живности.
— Чего надо? — Даже в ее голосе дребезжало битое стекло.
— Я ищу Коннора Пласкетта.
— Славно, — отозвалась она. — И я тоже его ищу.
Она открыла дверь, и Кардинал вошел в помещение, которое некогда, очевидно, намеревались сделать кухней, но сейчас оно больше походило на лавку старьевщика.
— Уж извините за беспорядок, — проговорила она. — Нету шкафов.
В сумеречном свете, сочившемся сквозь маленькое оконце, Кардинал различил раковину у стены, плитку, водруженную на маленький холодильник, и несколько ящиков из-под яблок, служивших подобием временных буфетов и превращенных в развалины избыточной влажностью и чрезмерно активным использованием.
Кардинал проследовал за женщиной в соседнюю комнату, где было еще сумрачнее. Она уселась на неубранный диван, настолько низкий, что подбородок у нее при этом оказался не намного выше колен. Кардинал прислонился к дверному косяку. В помещении воняло застоявшимся сигаретным дымом и мокрыми коврами.
— Где Коннор? — спросил он.
— Черт его знает. Сигарету хотите?
— Нет, спасибо. Какое вы к нему имеете отношение?
— Подружка для траханья. — Заметив его взгляд, она фыркнула: — А вы думали — я кто? Его финансовый консультант?
— И вы не знаете, где он сейчас?
— Да без понятия.
— Ну, если уж вы не знаете, предполагаю, что его тюремный куратор тоже не знает, а значит, Коннор нарушил правила условного освобождения.
— Да ну? — произнесла женщина. После многих неудачных попыток она наконец заставила зажигалку работать и теперь жадно сосала «дюморье». Она выпустила струю дыма в направлении Кардинала. — Чертов неудачник. На что он вам сдался?
— В связи с недавней смертью одного человека.
— Коннору никого не убить. Он и шнурки-то еле завязывает.
Чудовищная обстановка дома вполне красноречиво это подтверждала. Хотя это было бы подходящее логово для того, кто способен выслеживать женщину и потом убить ее, здесь все-таки не мог жить человек, у которого хватило ума купить открытку, напечатать текст и потом отправить ее из Маттавы или из Старджен-Фоллз.
Но слова Пласкетта все звучали у Кардинала в ушах: «Я тебя проучу».
— Где Коннор сейчас проводит время? — спросил Кардинал. — Мне понадобятся адреса.
— Господи, да Коннор сейчас никуда не выбирается, вот что странно-то. Он днем и ночью сидит перед ящиком и смотрит футбол. Ни черта не могу заставить его сделать. Пивка хочу, вот что. А вы небось не хотите.
— Нет, спасибо.
Она прошла к холодильнику и извлекла из него банку канадского «молсона». Щелкнула кольцом на крышке и одним духом высосала почти все содержимое. Направившись к постели, чтобы снова сесть, она сделала неверное движение и сшибла прикроватный столик; на пол с грохотом свалился телефон. Скосив глаза, она некоторое время глядела на него, словно пытаясь припомнить, как называется эта штука.
— Кстати, вспомнила, — наконец произнесла она. — Вчера вечером был один прикольный разговор по телефону.
— С кем?
— Господи, да почем я знаю. Я этого парня не узнала. Сказал, что он друг Рассела Мак-Квейга, а тот — старый собутыльник Коннора, и вот, мол, Рассел упросил этого типа позвонить. Рассел с Коннором вечно таскаются в Торонто. Повидать огни большого города, все такое. Мне-то плевать на Торонто. Там слишком грязно. Ну вот, и этот тип стал мне вкручивать, что Коннор не вернется.
— Что значит — не вернется? Он уехал в Торонто и какой-то незнакомец звонит вам, чтобы сообщить, что он не вернется?
— Ну да. Думаю, так. Похоже на то. — Она потерла голову сквозь сальные волосы. — Я сейчас стала вспоминать и вспомнила, что он вроде как даже пытался мне вкрутить, что Коннор помер. Ну да.
— Кажется, вы довольно спокойно это приняли.
— Ну да, потому что я же не тысячу лет знаю этого типа. С чего мне ему верить? И потом, если бы Коннор помер, полиция и все прочие должны бы мне позвонить, а? Из больницы или еще откуда. Должны бы мне позвонить, типа известить ближайшую родню.
— «Подружку для траханья» обычно не причисляют к ближайшим родственникам, — заметил Кардинал. — Они бы прежде всего связались с кем-то из его кровной родни или даже с его бывшей женой, а потом бы уже обратились к вам. В больнице могли бы и не знать о вашем существовании.
— Ну, мало ли. — Она отвела паутину волос с лица, точно разгоняя дым. — Думаете, Коннор мертвый?
— Не знаю, — ответил Кардинал. — Но это, наверное, нетрудно будет выяснить.
— Черт, надеюсь все-таки, что он не помер, — произнесла женщина. Она запрокинула голову и влила в себя остатки пива. Потом смяла банку и попыталась сдержать отрыжку. — Я не вынесу, если придется опять переезжать.
15
Сержант Мэри Флауэр вошла в отдел и уселась на стол Делорм. Она всегда так поступала, когда хотела, чтобы вы побросали все дела и обратили на нее внимание. Раздражает, зато эффективно.
Делорм разговаривала по телефону с коронерской службой, безнадежно пытаясь установить местонахождение вещественного доказательства, которое коронер должен был представить по одному делу о бытовом убийстве, готовящемуся к слушанию в суде через две недели. Она прикрыла трубку рукой и подняла бровь на Флауэр.
— Явилась миссис Дорн, злая как черт, — сообщила та. — Хочет поговорить с тобой, уж не знаю почему.
— Выяснилось, что я знакома с ее дочерью.
— Хорошо. Дочка тоже здесь. Кстати, мне ужасно нравится твой топик, это «Гэп»?[24]
— Это «Бенеттон». Скажи им — я через минуту выйду.
Делорм застала их в приемной. Женщина лет пятидесяти с лишним стояла под стенными часами, скрестив руки на груди, в гневе притопывая ногой, точно отсчитывая каждую секунду откладываемого правосудия. Ее дочь Шелли сидела в кресле позади нее. Делорм и смешная рыжая Шелли были приятельницами по оздоровительному клубу, где они часто занимали беговые тренажеры по соседству друг с другом и болтали, чтобы скоротать время. Делорм она нравилась, но Шелли была замужем, у нее было двое детей, к тому же сейчас Делорм впервые встречалась с ней за пределами клуба. Она встала, увидев Делорм.
— Лиз, я знаю, что нам не надо было приходить без предупреждения.
— Ничего страшного, — ответила Делорм. — Мне так жаль вашего брата. Он был такой молодой.
— Да, он был молодой, — подтвердила пожилая женщина, и уже в этих первых словах Делорм почувствовала ее мучения, которые выходили наружу в виде гнева. — Он был почти мальчик. Он был еще студент, невероятно способный студент. Его приняли в Мак-Гилл, у него были все основания жить, и он не должен был умирать.
— Лиз, это моя мама, Беверли Дорн.
— Миссис Дорн, я сочувствую вашей потере.
— Но собираетесь ли вы нам в связи с этим помочь? Вот что я желаю знать. Что вы намерены предпринять, чтобы помочь нам исправить эту чудовищную ошибку? Перри был умным человеком, осмотрительным человеком, а теперь он мертв, этого не должно было произойти. Должно быть проведено изыскание, расследование. Мы заслуживаем ответа на свои вопросы.
— Мама, Лиз сделает все, что сможет. Не волнуйся.
— Почему бы вам не пройти со мной? — предложила Делорм. Она провела их в комнату, где часто размещали родственников, переживающих стресс. В отличие от других помещений для бесед здесь был ковер и даже почти удобный диван. На одной стене висела довольно небрежно намалеванная композиция, изображавшая мать и дитя, на другой была грифельная доска без мела. Все вошли, и Делорм закрыла дверь.
— Может быть, присядете? — сказала она.
— Я не расположена сидеть, — заявила миссис Дорн. — Я слишком рассержена.
— Мама, тебе не из-за чего сердиться на Лиз.
— Там, в прачечной, вместе с Перри находился другой сотрудник полиции. Как насчет него? Он находился непосредственно в том месте, когда это произошло. Он был там до того, как это произошло. Почему он его не разоружил, можете мне сказать? Почему он не предпринял хотя бы что-нибудь?
Делорм еще раз указала на диван и подождала, пока миссис Дорн не усядется рядом со своей дочерью. Глаза у миссис Дорн были красные и воспаленные — от того плача, что не приносит облегчения; ее перевозбуждение было состоянием человека, которого покинул сон.
Делорм села напротив них и мягко сказала:
— Да, в прачечной был сотрудник полиции. Он был в кофейне по соседству, он находился не при исполнении, когда один из сидящих рядом с ним посетителей увидел, как ваш сын входит с ружьем в прачечную. Вызвав подкрепление, наш сотрудник последовал за вашим сыном.
— Почему он не отнял у него ружье? Вот что я желала бы знать. Почему он не вырвал это ружье у него из рук? Так нет же, он стоял рядом и допустил, чтобы это случилось!
— Первой заботой нашего сотрудника была безопасность всех, кто в этот момент был в прачечной. Ведь там были другие люди. Он сосредоточился на том, чтобы как можно быстрее вывести их в безопасное место.
— Перри никогда не представлял ни для кого опасности, только для себя самого. Это же очевидно, достаточно было на него посмотреть. Он бы мухи не обидел. В буквальном смысле, между прочим. На какие только ухищрения он не пускался, чтобы выгнать какое-нибудь насекомое из дома, не причинив ему вреда.
— Наш сотрудник не знал вашего сына. Он видел перед собой лишь взвинченного человека, при оружии, в помещении полном людей. И прежде всего он добился того, чтобы они вышли. Необходимое действие.
— И допустил, чтобы мой явно «взвинченный» сын покончил с собой. Браво. Дайте этому человеку медаль.
— Мама. Пусть она скажет. — Шелли положила ладонь на предплечье матери, но миссис Дорн отдернула руку.
— Не надо меня опекать.
— Никто тебя не опекает. Ты задала вопрос, и Лиз стала на него отвечать. Дай ей договорить.
— Затем наш сотрудник попытался…
— «Сотрудник», «сотрудник»… У этого человека есть фамилия? Номер служебного значка?
— Есть. И мы с готовностью предоставим вам эту информацию, но она не изменит фактов. Он попытался успокоить вашего сына. Он спокойно разговаривал с ним, убеждая его опустить ружье. Ваш сын отказался.
— Он был еще мальчик! А у вас тренированный служащий полиции — и он не сумел воспрепятствовать тому, чтобы мальчик застрелился? Почему он не выхватил у него ружье?
Делорм сделала нарочитую паузу. С минуту вопрос висел в воздухе: скорее даже не вопрос, а обвинение.
— Думаю, вы сами знаете ответ, миссис Дорн.
Миссис Дорн энергично помотала головой.
— Наш сотрудник не хотел еще больше расстраивать Перри. И он не хотел сам получить пулю. Повторяю, он был безоружен.
— У полицейских такая работа — рисковать. Он должен был спокойно с ним поговорить, а в это время достаточно близко к нему подойти, чтобы взять у него ружье.
— И я уверена, что он бы так и поступил, если бы это было возможно. Он пытался уговорить его, успокоить его, как вы сами сказали. Они беседовали, и вдруг Перри повернул к себе ружье и выстрелил.
— И никто его не остановил.
— Миссис Дорн, с того момента, когда вашего сына увидели входящим в прачечную, и до того момента, когда он нажал на спусковой крючок, прошло меньше восьми минут. Три-четыре минуты ушло на то, чтобы вывести из помещения других людей. У нашего сотрудника и вашего сына оставалось не больше пяти минут на то, чтобы все урегулировать.
— Достаточно времени, чтобы спасти ему жизнь. Почему он его не остановил? О господи, почему он его не остановил, он ведь был совсем мальчик!
— Он старался как мог, миссис Дорн. Ему просто не хватило времени.
— Я хотела бы поговорить с этим полицейским. Прошу вас.
— Мама…
— Сегодня его нет на работе, — ответила Делорм. — Поскольку он в отчаянии после того, что случилось. Каждый сотрудник полиции, попадая в такую ситуацию, стремится к самому лучшему из возможных исходов. И в тот момент, поверьте мне, миссис Дорн, никто сильнее этого полицейского не хотел, чтобы ваш сын жил. Если бы ему удалось отговорить Перри, сегодня наш сотрудник был бы здесь, и он был бы бесконечно счастлив. Но его здесь нет, так как он чувствует себя несчастным.
— Возможно, потому что ощущает свою вину. Вот, наверное, почему он чувствует себя несчастным. Наверное, потому что он не выполнил свои обязанности.
— Надеюсь, когда вы немного успокоитесь, вы посмотрите на это иначе.
Миссис Дорн фыркнула. Она взглянула на картину, висящую на стене, потом перевела глаза на дочь.
— Что ж, мы определенно намерены требовать расследования.
— В нашем управлении больше нет должности уполномоченного по специальным расследованиям, но я дам вам телефон торонтского отдела внутренней безопасности. Если они сочтут, что закон позволяет провести такое расследование, они им займутся.
16
Это было большое облегчение — наконец удрать из офиса и вплотную взяться за дело о детском порно. Бедняга Бёрк не сумел спасти Перри Дорна, но Делорм была полна оптимизма, надеясь, что ей удастся найти эту таинственную девочку и уберечь ее от дальнейших издевательств.
Она доехала до Форельного озера и припарковалась на небольшой стоянке над Озерной пристанью. Она стала спускаться по деревянным ступенькам; с воды дул прохладный ветер. Уже сам воздух в это время года стоил того, чтобы совершить поездку. Чистый кислород, с первым намеком на заморозки. Благодаря ему у тебя появляются желания: делать разные вещи, браться за новые проекты, распутывать преступления.
В детстве Делорм учили здесь плавать — не у самой пристани, а совсем рядом, в нескольких сотнях ярдов, в доках министерства природных ресурсов. Инструкторы заставляли своих «жертв» нырять, прыгая с кромки этого дока, когда температура воды едва достигала десяти градусов, и вытаскивать друг друга из воды, отрабатывая разного рода спасательные захваты. Делать искусственное дыхание изо рта в рот ей пришлось на Морин Стегг, и, когда она об этом вспоминала, у нее как-то по-особому сосало под ложечкой.
В свежий воздух вторгались запахи пеньки, креозота, бензина. Большинство судов уже подняли на зимнее хранение, но две прогулочные яхты до сих пор стояли на якоре неподалеку от верфи, слегка покачиваясь на воде, по которой бежала мелкая рябь. Сердце у Делорм ёкнуло, когда она увидела «сессну», сверкающую на солнце; хвостовой номер был тот же, что и на фотографии девочки.
— Могу я вам чем-то помочь?
На мужчине были дорогие солнцезащитные очки и бейсболка Озерной пристани. Очевидно, закаленный: разгуливает в шортах, хотя погода для этого совершенно неподходящая.
— Интересно, сколько стоит арендовать тут место, — проговорила Делорм. У нее никогда не было яхты, и она сомневалась насчет терминологии. Может быть, следовало сказать «снять причал» или что-нибудь такое.
— Зависит от того, что вам нужно, — ответил он. Делорм увидела, как он скосил глаза на ее руку в поисках обручального кольца (которого там не было) и снова поднял взгляд.
— Нужно?
— Ну, если вам понадобится электроэнергия, освещение и прочее, это одно дело. И понятно, размер тоже имеет значение. Вы сами-то отсюда?
Делорм повернулась и указала на «сессну»:
— Вон там, у самолета. В самом конце пристани. Сколько стоит там встать?
— Боюсь, на тех местах не особо-то часто меняются арендаторы. Они самые востребованные и самые дорогие, их годами арендуют одни и те же люди. Даже если они переезжают — в Садбери, в Санридж, неважно, — они все равно не бросают свои места.
— Так что, например, этот самолет… он всегда стоит на якоре в одном и том же месте?
— Ну да. Самолеты меняются еще реже, чем яхты. Этот парень зависает тут с тех пор, как я здесь хозяин, а стало быть, уже десять лет.
— Вот как? А вы мне не покажете, что такого особенного в тех местах в конце пристани? В тех, которые как будто отгорожены?
Мужчина осклабился: крупные белые зубы на лице, еще хранившем летний загар. Делорм видела: он думает, что у него есть надежда. Он был довольно приятным, с этими его светлыми кудрями и широкой улыбкой, плюс мышцы как канаты, — и, вероятно, привык к тому, что девушки из числа отдыхающих оказывали ему внимание. Он явно не был тем растлителем детей: слишком молодой, волосы не того цвета и фактуры, к тому же чересчур худой.
Он открыл ворота и повел ее вдоль пристани.
— А сколько стоят эти яхты? — спросила Делорм. — Тысяч сорок?
— Промахнулись. Куда больше. Скорее уж семьдесят—восемьдесят, а то и повыше. Итак. Видите? — Он положил руку на синий ящичек, прикрепленный к фонарному столбу. — Эта штука соединяет вас со всеми домашними удобствами. Электричество, кабельное телевидение, спутник, все, что хотите.
— Разве не во всех доках такие есть?
— Вот уж нет. Только в этих двух. Есть еще парочка других таких штук, но они дают только электричество. И потом, в этих доках, как видите, особая система безопасности. Наверху прожектора, дополнительные камеры. Любого, кто сюда пролезет, сразу сцапают.
— А другие доки все нараспашку?
Мужчина, похоже, обиделся.
— Все наши доки безопасны. Я просто говорю, что если платишь больше, то больше и получаешь.
— А каков тут может быть страховой случай?
— Во всем, что касается страховки, разбираетесь сами, — ответил он. — Понятно, у нас тут собственная страховка от пожара, кражи и прочего. В широком диапазоне. Но если вашу лодку угонят или если ее испоганят вандалы, будет платить ваша страховая компания, а не наша.
— Понимаю. Я детектив Делорм, полицейское управление Алгонкин-Бей. — Она заранее вынула свое удостоверение и теперь предъявила ему. Она увидела, как его интерес к ней гаснет на глазах: так всегда бывало. Некоторых мужчин, может, и заводит мысль о женщинах-полицейских, но, как Делорм знала по опыту, их немного, и все они какого-то не того типа.
— Джефф Куигли, — представился он, без особого энтузиазма пожимая ей руку.
— Я провожу расследование двух противоправных актов, которые, возможно, были совершены в этом районе, и мне нужна ваша помощь.
— Конечно. Все, что могу.
Он имеет в виду — сделаю все, что могу, чтобы ты убралась из моих доков и с глаз долой, подумала она.
— Мне надо знать, кто арендует у вас эти места.
— Какие? Оба этих дока?
— Именно так. И не только на данный момент, но и за прошедшие десять лет.
— При всем желании… не знаю, есть у меня вся эта информация или нет.
— Вы же сами сказали, что наниматели обычно не меняются.
Мужчина сложил руки на груди. Теперь он смотрел не на Делорм, а вдаль, на озеро.
— Слушайте, по-моему, мне не стоит давать информацию о наших арендаторах. Не в моих это правилах, вот что. У людей есть право на частную жизнь.
— У вас пристань, а не больница. Это не закрытые сведения.
— Нет, вот смотрите. Ну, допустим, я выдал информацию: этот док арендует такой-то. А тут вдруг оказывается, что яхты этого такого-то нет на месте. И любой воришка может решить, что хозяин в отпуске, катается на своей яхте где-нибудь по Великим озерам. Или отправился водным путем в Нью-Йорк или еще куда-нибудь. А потом дом владельца яхты грабят. И кто я после этого?
— Невиновный человек. Мистер Куигли, я не вор, я сотрудник полиции, расследующий преступление.
— Ну так ведь тут еще одно. Что вы расследуете? Понятное дело, люди на своих яхтах выпивают, курят травку, но сейчас не то время года, чтобы все это выяснять, а вы вряд ли стали бы просить меня вторгаться в частную жизнь людей из-за каких-то мелких нарушений.
Делорм не хотела раскрывать характер преступления. Упомяни она сейчас о растлении детей, да еще в связи с конкретным местом, по всей округе пошла бы волна слухов. А она не хотела, чтобы подозреваемый почуял хотя бы намек на расследование до того, как она будет готова надеть на него наручники.
— Мне придется положиться на вашу сдержанность, — произнесла Делорм. — Вы не должны никому об этом рассказывать, даже упоминать.
— Нет, конечно, не буду.
— Я расследую насильственные действия.
— Вот оно что. — Он покачал головой. — Видать, что-то не особо крупное, а то я бы услышал.
— Я не имею права сообщать вам другие детали. Вы будете мне помогать? Я могу поехать и получить ордер, но это займет целый день, если не больше, а преступник разгуливает на свободе, и его надо срочно поймать.
Куигли провел ее в контору пристани. Это было захламленное помещение с подробной картой Форельного озера на одной стене и гигантской моделью «Блюноуза»,[25] прислоненной к другой. Повсюду были фотографии запечатленной во всех видах рыбы и увеличенные карикатуры на моряцкие темы. Он покопался в шкафчике с документами и извлек оттуда несколько папок из плотной бумаги.
— Выписки по аренде за десять лет, — объявил он. — Но имейте в виду, порядка в них никакого нету.
17
Делорм расписала фамилии по территориальному принципу; в итоге Фрэнк Раули оказался на самом верху. Она толком не знала, чего ожидала от человека с собственным самолетом: может быть, что он окажется владельцем огромного кирпичного замка на вершине холма Бофор. Или одного из старинных викторианских особняков на Мэйн-Вест. Но, как выяснилось, Фрэнк Раули проживал в простеньком небольшом домике из белого кирпича всего в двух кварталах от окружной дороги. Делорм въехала на подъездную аллею и остановилась за желтовато-коричневым «фордом-эскортом» — скромным транспортным средством, без всяких претензий; оно как-то мало ассоциировалось в ее сознании с образом человека, который летает.
Маленький клен во дворе перед домом уже сбросил все свои листья, лежавшие живописным кругом, но аккуратная линия кустов остролиста была темно-зеленой. Еще до того как она вышла из своей машины, лишенной полицейской маркировки, она услышала визгливые завывания электрогитары. Было такое ощущение, что где-то в окрестностях вырвалось из заточения привидение.
Гитара издала вопль, умолкла и потом снова взялась за свое. Зазвучали риффы из репертуара «Битлз», но Делорм не могла определить, что это за песня.
В ответ на ее стук дверь открыл совершенно лысый мужчина лет сорока; гитару он с себя не снял. Ох уж эти мне мужчины со своими игрушками, подумала Делорм.
— Мистер Раули?
— Он самый. Чем я могу вам помочь?
Она показала удостоверение.
— Не могли бы вы уделить мне несколько минут?
Судя по пропитавшему весь дом аромату, здесь явно что-то пеклось; Делорм с одобрением отметила белый след от муки на лысой голове Раули.
Она проследовала за ним в гостиную, где куклы и мягкие зверюшки были разбросаны по пестрому ковру, точно жертвы какой-то игрушечной катастрофы. Здесь же валялся самокат; на диване и креслах были раскрыты большие яркие книги. Делорм слегка запнулась ногой о край ковра.
— Извините, — сказал Раули. — Его плохо починили, вот почему у меня хватило денег его купить.
— Я вижу, у вас есть дети, — заметила Делорм. — Сколько им?
— У нас только дочка Тара. Ей семь лет. Скоро придет из школы. Садитесь, пожалуйста.
Делорм села в глубокое кресло с ножками и ручками из поленьев. У всей здешней мебели был уютный, подчеркнуто деревенский, «живой» вид, везде было много дерева, подушечек и ковриков, не говоря уж о ковре побольше, с темно-синими и черными нашивками. И вот владелец всего этого — мужчина средних лет с гитарой, ремень которой перекинут через плечо, и с головой, которая неплохо бы смотрелась на бильярдном столе. У мужчины на тех снимках волосы были почти до плеч, и потом, у Делорм в любом случае не было никаких оснований подозревать Раули, поскольку его самолет всего лишь появился на заднем плане на одной из фотографий. Да и дочка у него слишком юная. Но она все равно смотрела на него изучающе.
— Мистер Раули, у вас есть пилотские права, это так?
— Верно. Я работаю в «Нортвинде», — ответил он. Эта маленькая авиакомпания посылала небольшие самолеты из Алгонкин-Бей в северные города — например, в Тимминс или Хёрст.
— Дела сейчас идут вяло?
— Нет, я четыре дня работаю, четыре отдыхаю, вот почему сегодня я за домохозяйку.
— И вы держите небольшой самолет на Озерной пристани, так? — Делорм прочла ему хвостовой номер из своей записной книжки.
— А что такое? С ним что-то стряслось?
— Я просто хотела убедиться, что обратилась к нужному человеку.
— К тому самому. Может, вам кофе или еще чего-нибудь? Как раз собирался сварить.
— Нет-нет, не надо. Спасибо.
— И еще у меня скоро будут готовы довольно впечатляющие маффины. Тара по ним просто с ума сходит.
Раули выключил усилитель «Вокс» и прислонил гитару к стене. Это был большой черный инструмент с множеством заклепок и хромированных деталей, и Делорм подумала, что больше он подошел бы для исполнения кантри, чем для «Битлз»; впрочем, она ничего не понимала в гитарах.
— Вы много времени проводите на этой пристани, мистер Раули?
— Смотря что вы имеете в виду под «много». Я туда прихожу, только когда хочу поднять в воздух Бесси.
— Бесси?
— Бесси, «сессну». — Он улыбнулся. — Так уж ее зовут, не спрашивайте почему. Я поднимаю ее раз-два в неделю, на часок-другой. Венди — это моя жена — хотела, чтобы я от нее избавился. Говорит, слишком уж она опасная. Но я не могу от нее отказаться. Я просто люблю летать, а когда летаешь для себя, это куда приятнее, чем когда по работе.
— Могу себе представить, — отозвалась Делорм. Раули был похож на человека, который наслаждается жизнью: печет маффины и играет на гитаре в окружении разбросанных книжек и игрушек. — Вы многих знаете на этой пристани?
— Ну, знаю Джеффа Куигли, управляющего.
— А еще кого-нибудь?
Раули пожал плечами:
— В общем-то нет, я же там не зависаю надолго. Не хожу в бар после полета, не то что большинство других ребят. Ничего такого. Если вдуматься, это местечко — что-то вроде клуба. Но не такого, где я хотел бы состоять: все эти парни думают, что хорошо провести время — значит взять ящик пива и выйти на озеро, чтобы напиться вусмерть. В двадцать лет меня это не радовало, а уж в сорок, черт возьми, это меня тем более не увлекает. И потом, у меня жена и ребенок. Не знаю, откуда у этих ребят берется свободное время.
— Расскажите мне о них. Мне нужно узнать больше о тех, кто отдыхает на пристани.
— Зачем? Что вы такое расследуете?
— Насильственные действия, — ответила Делорм.
— Ух ты. Ну, знаете, когда я говорил о посиделках с пивом, я совсем не имел в виду, что кто-то из этих людей способен на насилие.
— Нет, конечно нет. Свидетели — вот кого я ищу. Вы можете мне хоть что-нибудь сказать?
— Единственный, кого я очень хорошо знаю, — это Оуэн Гленн.
Делорм занесла это имя в записную книжку. Оно уже попадалось ей, когда она просматривала документы на пристани, но он не арендовал ни одно из мест, которые ее интересовали.
— Оуэн — мой собрат-летчик. У него маленький «пайпер», он его поднимает примерно раз в месяц. Я часто сталкиваюсь с Оуэном, особенно летом. Но мы не приятели, ничего такого. Он гораздо больший консерватор, чем я. Пару раз, когда у нас заходила речь о политике, я вынужден был вежливо откланяться, понимаете, о чем я? Он из тех, кто считает, что Майк Харрис[26] недостаточно далеко зашел с урезанием бюджетных расходов, из тех, кто жаждет, чтобы наши были в Ираке.
— Значит, ему не принадлежит ни одна из этих прогулочных яхт, которые там постоянно можно увидеть?
— Нет, у него только маленький «скиф», как и у меня.
— Вы знакомы с кем-нибудь из владельцев этих яхт?
— Мы просто здороваемся.
— Вот как? Но вы же проходите как раз мимо них по пути к своему самолету, разве нет?
— «Скифы» стоят там, у северной стороны пристани. Под самым причалом. Я сразу подгребаю к самолету, так что мне как-то не с руки беседовать с моими соседями, если уж вам хочется так их называть.
— Вы знаете кого-нибудь из них по имени?
— Конечно. Есть там такой Мэтт Мортон. У него прогулочная. Мы с Мэттом знакомы со школы, хотя не сказал бы, что мы друзья. Он был такой весь из себя спортсмен, а я скорее… чудик, скажем так.
— Творческая натура, — предложила формулировку Делорм.
— Творческая натура! — усмехнулся Раули. — Точно. Это про меня. Осталось найти вид творчества, где я могу преуспеть.
— Вы очень неплохо исполняли репертуар «Битлз», насколько я могу судить. Вы профессиональный гитарист?
— Просто хобби. Играю в группе, которая перепевает битловские вещи. «Сержант Штеккер», не слыхали? Обычно мы играем на свадьбах и бар-мицвах.
— А где у мистера Мортона место на пристани? — Делорм знала ответ, но детективы рано постигают, как важно получать подтверждение фактов, особенно когда сама собой представляется такая возможность.
— Мэттова посудина швартуется в конце третьего номера, по северной стороне.
— Относительно вас это где?
— Почти максимально близко. Иногда я к нему в каюту могу заглянуть. Хотя мне этого как-то не хочется делать.
— Почему? Вы замечали там что-нибудь, что вас бы обеспокоило?
— У Мэтта на яхте? Сроду там ничего такого не видел.
— Как бы вы описали мистера Мортона?
— Мэтта? Ну не знаю. Такой середнячок во всем. В старших классах играл в футбол. Волосы каштановые, сейчас седеют — как и у всех нас. Ну, не то чтоб мне особенно было о чем горевать. — Он усмехнулся и потер ладонью лысину, удивительно ловко не попав по мучнистому следу.
— Дети у него есть?
— По-моему, мальчик и девочка. Не помню, как их зовут.
— А место напротив мистера Мортона?
— На южной стороне? Я их не знаю. Хотя у них здоровенная посудина.
Из слов Джеффа Куигли и конторских документов явствовало, что место арендует некто Андре Ферье. Арендная плата всегда поступала вовремя, но на пристани он практически никогда не появлялся.
Делорм записала информацию, потом захлопнула блокнот.
— Как я уже говорила, мистер Раули, на данном этапе я просто разыскиваю свидетелей. Вы мне очень помогли.
Она дала ему свою визитку. По пути к выходу она попыталась краем глаза заглянуть в другие комнаты, но ни стены, ни какие-то предметы, ни мебель, — ничто в них не было похоже на интерьеры, снятые на тех фотографиях.
— Если еще что-нибудь надумаю, позвоню вам, — пообещал Раули. — Но, черт возьми, я совершенно уверен, что никогда не встречал там никого, кто был бы способен на какое-то насилие.
— Может быть, вы удивитесь, — заметила Делорм, — но я постоянно поражаюсь тому, какие люди оказываются на это способны.
18
Фредерик Белл покончил со своим куском земляничного слоеного торта и подобрал вилкой последние комочки взбитых сливок.
— Ты уверена, что он низкокалорийный? — поинтересовался он у своей жены Дороти, наводившей порядок в холодильнике.
— Я его принесла из «Здорового сердца», — сообщила она. Ее голос слегка приглушала дверца холодильника. — Он не повышенной калорийности.
— Это если съешь одну порцию. А если ты вдруг поймешь, что тебе страстно хочется вторую?
— Вторую нельзя. — Дороти была уверена, что обладает неисчерпаемыми запасами здравого смысла. Эта кладовая верой и правдой служила ей все те годы, пока она работала медсестрой, и столь же исправно служила ей, когда она стала женой психиатра. — Если ты возьмешь еще одну порцию, ты просто дискредитируешь саму цель — снижение потребления калорий.
— Я посвятил жизнь упусканию главного и дискредитации целей. Не понимаю, зачем мне в данном случае делать исключение.
Белл проглотил остатки чая. Чай был холодный, но температура этого напитка была для него не принципиальна. Чай хорош во всех видах. Некоторые британские привычки очень живучи.
— Я нашла совершенно очаровательный коттеджик возле Ноттингема, — сообщила Дороти. — Положила фотографию тебе на стол. Думаю, вряд ли ты на нее посмотрел.
— Увы. Я снова тебя разочаровал.
— Фредерик, неужели так трудно просто посмотреть на фотографию?
— Не знаю. Видимо, мне претит сама идея поселиться в Англии, выйдя на пенсию.
— Мы же это обсуждали. И вроде бы согласились, что мы оба будем счастливее всего именно там. Замечательный домик, недалеко от реки Трент. Ты всегда говорил, что хочешь жить у воды, когда уйдешь на покой.
— Героические личности никогда не уходят на покой. Это не в нашей натуре.
— Но когда-нибудь тебе придется, а я не хочу, чтобы ты слонялся по дому в эти бесконечные канадские зимы.
— Англия чертовски дорогая. И курс фунта заоблачно высокий.
— Недавно он сильно снизился. Мы можем себе позволить этот домик, и он такой милый.
Насколько было известно Беллу, это был единственный вопрос, в котором здравый смысл изменял Дороти. Здесь, в Канаде, у них был огромный дом, почти особняк. Но в Англии даже скромные домишки стоят почти полмиллиона фунтов. У Дороти явно преувеличенные представления о заработках здешних психиатров. Они же не в Штатах живут. Ну ладно, ей просто нравится разглядывать всякие коттеджики и садики, ничего страшного, пусть помечтает.
Белл поставил на разделочный стол свою тарелку и чашку, после чего ущипнул супругу за мягкое место пониже спины.
Дороти повернулась и слегка шлепнула его по запястью.
— Не начинай сейчас. Середина дня.
— Я вовсе и не думал. Через пять минут ко мне явится пациент. Я должен накопить в себе побольше gravitas.[27]
— Ну разумеется. Нельзя забывать про gravitas. Что бы мы без нее делали?
Давным-давно, еще в Лондоне, на заре их совместной жизни, Белл и его жена то и дело срывали друг с друга одежду. Но с годами их сексуальная жизнь приобрела более рутинный характер, что вполне устраивало Белла. Они любили друг друга, заботились друг о друге, больше ему ничего не требовалось. Разумеется, Дороти была не его уровня: не такая уж блестящая, даже не врач, — но с ней было хорошо. И она по-прежнему неплохо выглядела, даже в пятьдесят с лишним. У нее было тонкое лицо, а такие лица хорошо переносят старость; ее стройная фигура могла бы принадлежать более молодой женщине.
Белл вымыл руки в ванной на первом этаже. Ссутулившись, он открыл дверь, отделявшую кухню от коридора-приемной и его кабинета. Молодая женщина со светлыми волосами, остро нуждавшимися в шампуне, сидела на скамье в приемной. Другие пациенты листали бы «Нью-йоркер» или забавлялись с айподом, но эта женщина просто, нахохлившись, сидела в своем пальто, сложив руки на груди. Это была Мелани, восемнадцати лет от роду, воплощенное несчастье.
— Привет, Мелани, — сказал ей Белл.
— Привет.
Даже в одном этом слове он мог уловить заторможенность, внутреннюю неповоротливость, говорившую о тех колоссальных усилиях, которые были затрачены на то, чтобы выговорить эти два слога. И сразу же в помещении возник некто третий — депрессия. Белл воображал ее — или скорее уж его — безмолвной фигурой, некой невидимой для пациента Сущностью, в маске и капюшоне. Иногда Белл видел себя кем-то вроде старого священника из «Экзорциста»,[28] обреченного вечно сражаться с неубиваемым злом.
Мелани прошла за ним в кабинет и села на кушетку, расстегивая пальто; ее сумка сползла при этом с плеча на пол. Она откинулась назад и стала смотреть в пол. Доктор Белл опустился в одно из небольших кресел напротив, положив записную книжку на колено; он не улыбался, но его лицо приобрело выражение спокойного ожидания. Важно, чтобы пациент, после обычных вступительных учтивостей, заговорил первым; эти первые слова очень многое раскрывают. Но иногда, как вот сейчас, трудно дождаться, чтобы пациент преодолел то, что ему надо преодолеть, и начал говорить. Минуты проходили в молчании.
Мелани выглядела значительно старше своих восемнадцати. У нее были маленькие косточки и маленькая грудь, и чем-то она была похожа на вытащенную из воды крысу: длинноватый приплюснутый нос разделял пряди волос, занавесом падавшие на лицо. Свитер Северного университета тоже мало ее украшал. Когда она наконец заговорила, то смотрела только на свои вытянутые ноги.
— С трудом сюда пришла, — сообщила она.
— Вам показалось, это трудным? Не могли бы вы мне рассказать почему?
— Не знаю… — Последовала долгая пауза, во время которой она сохраняла неподвижность, только одна ступня двигалась туда-сюда, словно метроном. — Я так сама себя достала. Меня достало думать о себе. Говорить о себе. Говорить-то тут не о чем. Тогда зачем сюда приходить? Зачем еще раз все это переживать?
— Вы хотите сказать — вам кажется, что о вас не стоит говорить? Или вы имеете в виду — что бы вы ни сказали, это не улучшит ваше состояние?
— Наверное, и то и другое.
Доктор Белл специально устроил несколько секунд тишины, чтобы она сама почувствовала, как преувеличивает, — или скорее как преувеличивает та фигура в капюшоне, маячащая во мраке сразу же за границей поля ее зрения. Эта Сущность всегда понуждала своих жертв говорить так: обвинять себя в никчемности, тем самым предохраняя себя от малейших попыток спастись.
— Разрешите мне задать вам вопрос, — произнес Белл. — Представьте, что к вам кто-то пришел: подруга, незнакомая девушка, неважно, — и сказала: «Не надо со мной разговаривать. Я никчемный человек. Обо мне даже думать не стоит». Что бы вы ей на это сказали?
— Что она ошибается. Что никчемных людей не бывает.
— Но вы не готовы проявить к себе самой такую же доброту, какую согласны проявить по отношению к другим.
— Не знаю… Я только знаю, что все время у меня эта боль. Мне осточертело об этом говорить. Разговоры не помогают. Я просто хочу, чтобы все кончилось. Я даже…
— Даже что?
Мелани заплакала. Выждав мгновение, Белл взял со столика коробочку «Клинекса» и дал ей. Она вытащила две салфетки, но не стала ими пользоваться. Она рыдала, прикрывая лицо рукой.
— Почему вы прячетесь? — спросил он, но она только еще сильнее зарыдала. Однако по ее плечам, по прерывистым всхлипам можно было угадать облегчение.
— Господи, — выговорила она, когда слезы отпустили ее.
— Вам это было необходимо.
— Похоже, что так. Вот это да. — В ее голосе звучала опустошенность.
— Вы сказали: «Я просто хочу, чтобы все кончилось. Я даже…»
— Да. — Мелани с хлюпаньем высморкалась, продолжая хватать ртом воздух. — Да. Я вчера заходила в книжный, в «Коулз», и там мне попалась книга про суицид. Про суицид с посторонней помощью, скорее так. Там написано, как это сделать — как себя убить — безболезненно. Принцип в том, что надо надеть на голову пластиковый пакет и завязать.
— А потом?
— Ну, я ее все равно не купила, ничего такого. Но я долго стояла в магазине и ее читала.
— Потому что вы и раньше думали о том, чтобы покончить с собой.
— Да.
— Ясно. Теперь прямой вопрос о реальных фактах, Мелани. Мне нужно это знать. Вы когда-нибудь пытались действительно покончить с собой? — Он был уверен, что ответ будет отрицательным.
— Нет. В общем-то нет.
— Что значит «в общем-то нет»?
— Ну, то есть один раз я расцарапала себе запястье бритвой, но это было жутко больно. Во всем, что касается боли, я такая трусиха. Я даже не разрезала достаточно глубоко, чтобы пошла кровь.
— Когда это было?
— Очень давно. Мне было лет двенадцать.
— Двенадцать. Вы написали записку?
— Нет. Похоже, я это делала не по-настоящему. Мне просто было паршиво.
— Хуже, чем сейчас?
— Нет-нет. Сейчас хуже. Намного хуже.
— Вы часто сейчас думаете о суициде?
— Не знаю…
— Но, вероятно, думаете, Мелани.
Невозможно было сделать голос еще мягче. Он старался насытить каждый слог теплотой и ободрением — помимо всего прочего, это было позитивное подкрепление для пациентки, не обусловленное явными внешними причинами. Вы здесь в безопасности, хотел он внушить ей, вы можете прямо посмотреть в глаза любому демону, какого только сумеете назвать.
— Я часто думаю про то, как себя убить, — произнесла она. — Наверное, каждый день. Обычно это бывает днем. Перед вечером. Тогда мне все представляется в самом черном свете. Вот еще один день почти умер, а моя жизнь по-прежнему ничего не стоит, она — ничто. Я — ничто. Я слышу, как мои соседки по пансиону смеются, болтают по телефону, идут гулять, развлекаются, и они мне кажутся… не знаю… другим биологическим видом. По-моему, я никогда не была так счастлива, как они. Четыре часа дня, пять часов вечера, еще один день утек в никуда. Еще один день, когда ты попыталась написать сочинение, которое не имеет совершенно никакого смысла. Еще один день, когда ты переживала, что о тебе думают преподаватели, что о тебе думают друзья. Вот когда это на меня находит.
— Все эти мысли о суициде… Вы когда-нибудь писали записку?
— Я много об этом думала, но никогда такого не делала.
— А если бы вы решили оставить такое послание, что бы вы в нем написали? — Она не хочет делать больно своей матери, ведь та не виновата. Девушка сидит в совершеннейшей агонии, и больше всего она будет беспокоиться о матери.
— Наверное, у меня в записке было бы сказано… Я точно не знаю. Я бы хотела, чтобы моя мать знала, что я ее не виню. Она ведь делала что могла, ну и прочее в том же роде. Ну, то есть меня растила. В основном одна.
— Мелани, я знаю, вы считаете, что в университете вас слишком нагружают, все эти письменные работы и прочее, но я бы хотел дать вам небольшое домашнее задание, не возражаете?
Мелани пожала плечами. Маленькая грудь под свитером шевельнулась.
— Я бы хотел, чтобы вы написали эту записку, продолжал доктор Белл. — Выразите свои мысли письменно. Думаю, вам это будет очень полезно. Это существенно прояснит ваши теперешние ощущения. Как вы думаете, сумеете вы это сделать?
— Наверное.
— Особенно над ней не сидите. Она не должна быть длинной. Просто напишите то, что вы сказали бы, если бы действительно собирались покончить с собой.
19
Не секрет, что определенный тип мужчин, или же мужчина в определенном настроении, склонен искать именно того человека, место или предмет, который причинит ему наибольшие страдания. Пьяница направится в бар, страстный игрок обратится к банковскому счету любимой, брошенный любовник явится на чужое свидание. На следующий день Джон Кардинал неподвижно стоял в подвале своего дома, среди сумеречного света и химических запахов фотокомнаты Кэтрин.
Фотокомната безраздельно принадлежала ей одной, и он никогда не входил сюда без приглашения.
Хотя иногда Кэтрин болтала о предстоящих проектах, она никогда не распространялась о своей работе в этой темной комнате. Она была похожа на повара, который не желает, чтобы кто-нибудь еще присутствовал на кухне, и предпочитает явить миру идеальное кушанье так, словно оно само возникло из воздуха. Она любила подняться наверх, держа в руке кучу свежих отпечатков, и рассыпать их по кухонному столу. И потом Кардинал изучал их один за другим, а она стояла в сторонке.
Если Кардинал медлил с выражением своего мнения, она высказывала из-за его плеча свое собственное. «Мне нравится эта пожарная лестница, очень эффектная диагональ». Или: «Посмотри на велосипедиста на заднем плане, он едет в противоположную сторону. Люблю такие нечаянные вещи». Кардинал чувствовал, что в половине случаев восхищается совсем не тем: какой милый ребенок, какой красивый снег. Но Кэтрин, похоже, не обращала на это внимания.
Над специальными раковинами, которые Кардинал по просьбе Кэтрин установил здесь еще много лет назад, висели в ряд несколько отпечатков одной и той же фотографии, прикрепленные к проволоке. Отпечатки были черно-белые, на них была кирпичная стена на переднем плане, а на заднем плане, не меньше чем за полквартала, — идущий в объектив человек. И человек, и стена получились одинаково резко, а Кардинал по собственному скромному опыту знал, как трудно в таких случаях добиться четкости и там, и тут. Это придавало изображению какую-то смещенность, прохожий и стена были словно бы в равной мере неодушевленными. Голова мужчины была опущена, его лицо скрывала шляпа, какие сейчас носят редко. Зловещая картинка… или, может быть, так кажется теперь, в ретроспективе.
— Что ты здесь делаешь? — Келли стояла, прислонившись к косяку двери, она выглядела непринужденно-хорошенькой в белой рубашке и синих джинсах. Как Кэтрин двадцать лет назад.
Кардинал указал на полки, занимавшие целую стену, на высокий шкаф для фотоаппаратов и линз, на широкие полки для хранения отпечатков. На корзины для рамок.
— Я все это выстроил для нее, — произнес он.
— Я знаю, — ответила Келли.
— Конечно, Кэтрин сама все спроектировала. Это же ее рабочее место.
— Здесь она была счастлива, — заметила Келли, и у Кардинала сжалось сердце.
— Я хочу попросить тебя об одной услуге, Келли. Может быть, не сейчас, а через несколько месяцев.
— Конечно. Что надо сделать?
— Я ничего не смыслю в фотографии. И если честно, мне нравились все снимки, которые делала Кэтрин, все до единого. Она видела эти вещи и считала их достойными съемки, для меня это многое значит. Но ты — художник.
— Начинающий живописец, пап. Не фотограф.
— У тебя взгляд художника. Я надеюсь, что когда-нибудь, не сейчас, ты сможешь просмотреть фотографии, которые делала Кэтрин, и отобрать лучшие. Я подумал, что мы могли бы сделать выставку ее работ в университете или в библиотеке. Например, на будущий год.
— Конечно, пап. Я с радостью. Но тебе не надо тут торчать. Пока все слишком свежо, тебе не кажется?
— Да. Так и есть.
— Пошли, — сказала она и даже взяла его за руку, выводя из фотокомнаты. Он совсем было расклеился.
Впрочем, Келли была права. Он обнаружил, что ему легче дышится наверху, на территории, которая всегда наполовину принадлежала ему. Он прошел в гостиную и стал смотреть на заглавия книг на полках. Большинство книг в доме покупала Кэтрин. В основном они были посвящены фотографии, но имелось и некоторое количество книг по йоге и буддизму, а также романы Джона Ирвинга[29] и множество работ по психологии — о депрессии и маниакально-депрессивном психозе. Он вытащил «Против самозаклания» Фредерика Белла.
На суперобложке перечислялось несколько других произведений того же автора, все — с учеными названиями, но эта вещь, по-видимому, была ориентирована на широкую аудиторию; она была написана со спокойной, умиротворяющей интонацией, и поражала откровенностью. На первых страницах описывалось, как отец Белла совершил самоубийство, когда мальчику было восемь лет, и как тот же поступок повторила его мать, десять лет спустя, когда Белл уже поступил в университет. Неудивительно, что такое прошлое привело человека к желанию работать «на ниве тоски и отчаяния» (как выражался Белл в предисловии).
Кардинал перелистал страницы. В основу книги было положено исследование нескольких реальных случаев: каждая глава начиналась с описания попытки самоубийства, которая и привела пациента на прием к Беллу. Целый раздел посвящался партнерам самоубийц, при этом особое внимание уделялось тем, у кого было несколько мужей или жен, совершивших самоубийство. «Некоторым людям с тайными, подавленными суицидальными фантазиями, — писал Белл, — необходимо находиться рядом с людьми, которые способны покончить с собой. Сами они не в состоянии переступить через смертную черту, и им нужен кто-то, кто совершит самоубийство за них».
Кардинал решил, что сейчас это для него не самое подходящее чтение.
Он прошел в кухню, где Келли устроилась с альбомом для зарисовок. Он взял с разделочного стола стопку почты, которую она туда положила. Большинство корреспонденции было для Кэтрин: фотографический журнал, сообщения о предстоящих выставках, пришедшие из Галереи искусств Онтарио и Королевского музея Онтарио, счет за пользование карточкой «Мастеркард», а также различные массовые рассылки из Северного университета. Имелась также пара квадратных конвертов, адресованных ему: очередные открытки с соболезнованиями.
Он как раз искал ножик для вскрытия писем, когда зазвонил телефон.
Это был Брайан Оверхолт, полицейский из торонтского отдела убийств, Кардинал был с ним знаком целую вечность. Больше двадцати лет назад они вместе работали по преступлениям в сфере морали, а потом по наркотикам. Вдвоем они составляли отличную команду. Оверхолт был одним из немногих его торонтских коллег, по кому он скучал. До этого Кардинал звонил ему насчет Коннора Пласкетта.
— Джон, у меня есть ответ на твой вопрос. Пласкетт и в самом деле — «бывший человек». Пару недель назад в нашем клубном районе попал под «эскаладу».[30] Какое-то время провисел в списке больных, находящихся в критическом состоянии, а неделю назад умер. В прошлую субботу.
— Он у вас там был замешан в чем-нибудь, о чем мне следует знать?
— Если и был, нам про это ничего не известно. Его дружки все исчезли, когда его переехали, так что делай выводы сам. Похоже, им неохота было тратить время на объяснения с правоохранителями.
— Водителя вы взяли?
— Нет, но это вопрос времени. Могу тебе еще чем-нибудь помочь? Алло? Ты слушаешь?
Кардинал успел вскрыть один из конвертов, адресованных ему, и теперь смотрел в открытку, которая лежала внутри.
— Да-да, Брайан. Спасибо тебе большое. Если что, обращайся, в любое время.
— Конечно. Когда мне понадобится эскимос, попрошу тебя его достать. Да, а как там Кэтрин?
— Мне пора бежать, Брайан. Кое-что наклевывается.
На этой открытке стоял штемпель Маттавы, как и на первой; это снова был полуглянцевый «холлмарк», какие можно купить в любом крупном универмаге страны, не говоря уж о магазинах канцелярских принадлежностей. Значит, отправитель приобрел по меньшей мере три. Возможно, он все их купил одновременно в одном и том же магазине. Продавец мог обратить внимание на человека, покупающего целых три открытки с соболезнованиями.
Кардинал пытался держать мозг в режиме расследования, не реагируя на сами слова, которые были в открытке.
«Должно быть, ты был чудовищным мужем, — гласила она. Тот же прием: готовый текст открытки закрыт напечатанным посланием. — Жизни с тобой она предпочла смерть. Подумай над этим. Она в буквальном смысле предпочла умереть. Это должно дать тебе понять, чего ты стоишь».
Кардинал подошел к окну и повертел открытку, чтобы свет падал на нее под разными углами. Да, он различает тоненькую линию, проходящую через заглавные буквы. Почти наверняка тот же принтер, а даже если нет, то почти наверняка тот же отправитель. Кто бы это ни был, это не может быть Коннор Пласкетт: он умер раньше, чем Кэтрин. Коннор Пласкетт, как изящно выразился Брайан Оверхолт, стал теперь «бывшим человеком».
«Жизни с тобой она предпочла смерть».
— Иди ты на хрен! — Кардинал обрушил кулак на холодильник; магниты, записки и фотографии посыпались на пол.
— Пап, все в порядке?
Келли вскочила со стула и теперь смотрела на него встревоженными темными глазами.
— Все отлично.
Она положила ладонь на сердце.
— Мне кажется, я никогда не слышала, чтобы ты так ругался.
— Возможно, тебе придется к этому привыкнуть, — проговорил он, поспешно надевая куртку.
— Ты уходишь?
Кардинал схватил ключи от машины.
— Ужинай без меня, — сказал он.
20
— Не мог бы ты мне дать адрес Нила Кодвалладера?
Кардинал ехал в город по Шестьдесят третьему шоссе. Жар собственного гнева удивил его. Он чувствовал, как гнев пульсирует в запястьях, бьется в висках.
— Нил Кодвалладер сейчас живет один, Джон. Ему в настоящее время некого избивать.
Кардинал говорил по телефону с Уэсом Битти, куратором, отвечающим за досрочно освобожденных. В голосе Уэса был какой-то невозмутимый уют; трудно было поверить, что когда-то он был копом, однако он пятнадцать лет оттрубил в Полицейском департаменте провинции Онтарио, а потом уже перешел в более мягкую ипостась — тюремного куратора. Говоря с Уэсом по телефону, Кардинал всегда представлял себе толстого кота.
— Мне надо с ним повидаться по другому поводу, — сказал Кардинал, погудев «форду-фокусу», вдруг совершившему перестроение, не подав никаких знаков. — И мне нужно встретиться с ним сейчас же.
— Ты какой-то встрепанный, Джон. Если Нил как-то нарушил условия освобождения, скажи. Мы ведь всегда делимся тайнами со своими братьями и сестрами из смежных структур, а?
— Скажу, после того как с ним поговорю. Ты вообще собираешься дать мне адрес?
— Мэйн-стрит, восток, шестьсот девяносто. Но ты его сейчас там не застанешь. Он вкалывает на двух работах.
— Сейчас угадаю: он консультант-доброволец в Кризисном центре.
— Нет, я не могу себе представить Нила утешающим избитых женщин, по крайней мере — в обозримом будущем. Он три дня в неделю работает в «Уол-Марте». А остальные четыре отдает «Запперсу».
— Там, где делают ксерокс?
— Точно. Слушай, Джон, ты же не станешь туда врываться и подвергать его риску увольнения, а? Я не больше твоего сочувствую избивателям жен, но Нил уже уплатил свой долг обществу и теперь честно пытается…
— Откуда тебе знать? Ладно, я уже у «Уол-Марта», — сообщил Кардинал и дал отбой. Он вкатился на парковку размером с несколько футбольных полей.
Кардинал редко заглядывал в «Уол-Март». Здесь всегда было так трудно что-нибудь найти, и цены отнюдь не сглаживали возникавшее раздражение. Полдня у здешних стендов и прилавков толпились тучные пары, толкающие перед собой тележки, но сейчас тут было относительно пусто. Так или иначе, он предпочитал поддерживать своими деньгами независимые магазинчики в центре: задача, которая с каждым годом представлялась все более сумасбродной.
Единственное, что нравилось Кардиналу в «Уол-Марте», — так это то, что сюда брали на работу пожилых людей. Хотя тут работало и изрядное количество подростков, наловчившихся изображать беспомощность, здесь также трудилось порядочно пенсионеров, зарабатывавших себе прибавку к пенсии, помогая озверевшим покупателям отыскать тот или иной неуловимый товар. Он спросил у маленькой старушки, выглядевшей лет на семьдесят, где найти открытки.
— Вы уже почти пришли, — ответила она. — Они на соседнем стенде, вон там.
Кардинал отыскал местонахождение зоны, где были выложены открытки с соболезнованиями. Да, здесь имелось множество «холлмарков».
— Вот она, — пробормотал он. — «Выражаю глубочайшие соболезнования…»
Он взял открытку, идентичную третьей из тех, что он получил, и потом еще одну, как две капли воды походившую на вторую из полученных им. Похожих на первую не осталось: видимо, их распродали.
— Вы нашли то, что искали? — поинтересовалась старушка, когда он проходил мимо.
— Нашел. Спасибо. Скажите, Нил Кодвалладер сегодня работает?
— Нил? Такой высокий, из отдела фото?
— Много мышц, много татуировок, — пояснил Кардинал.
— Да-да. Он был здесь сегодня. Но, по-моему, он уже ушел домой.
Она направила его в фотоотдел, несколько стендов на запад и потом один на юг. Чтобы передвигаться по этому зданию, не помешал бы мопед.
— Нил ушел час назад, — сообщил подросток в фотографическом отделе. — У него есть еще работа, где-то в другом месте.
Десять минут спустя Кардинал был на противоположном конце города; он припарковался в недозволенном месте на Лейкшор-стрит, напротив «Запперса».
«Запперс» — из тех заведений, куда идешь, если ты приезжий и тебе приспичило срочно проверить электронную почту, или если тебе требуется отправить либо принять факс, или если у тебя сомнительный бизнес, для которого нужен анонимный почтовый ящик. Обычно здесь предлагают воспользоваться устаревшим компьютерным оборудованием по минимальным ценам. Сейчас тут был всего один клиент — азиатского вида женщина, с космической скоростью набиравшая текст.
Кодвалладер был за прилавком: повернувшись спиной к помещению, он ксерокопировал громадную стопу бумаг. Когда Нил повернулся, он, похоже, не узнал Кардинала.
Его длинные волосы и моржовые усы, возможно, были в моде лет тридцать назад: они бы подошли ему, будь он тогда рок-звездой. Тюремный срок не истощил его мускулов, которые грозили разорвать швы его футболки. Руки у него были до локтя сплошь покрыты татуировками.
— Помочь? — спросил он.
— Сам решай, — ответил Кардинал.
Кодвалладер замер, не осматривая Кардинала сверху вниз, как поступил бы на его месте обычный человек, а смерив его мертвящим, холодным тюремным взглядом.
— Я вас знаю, — заявил он. — Вы тот самый коп.
— А ты — тот самый человек, который избивал жену.
— Так вы говорили. Это не значит, что так и есть.
— Больничные обследования, врачи и социальные работники, кажется, сошлись во мнении, что это так. Не говоря уж о самой Коре.
— Мне вам нечего сказать, дружище. Я даже не помню, как вас зовут.
— Кардинал. Джон Кардинал. Это я рассказал судье, как обнаружил твою жену со сломанным носом, раздробленной рукой и выдранными клочьями волос. Рассказал, что оба глаза у нее были подбиты, а вся одежда разорвана.
— Я уже говорил суду: я этой хренью не занимался.
— Так говорят настоящие садисты. Ни в чем не виноваты, никогда не ошибаются.
— Теперь у меня нет жены как раз из-за таких, как вы. Из-за тех, кто любит вмешиваться. Сейчас я делаю то, что должен делать, чтобы не помереть с голоду. На поденной оплате. Так что если вам не нужно попользоваться компьютером или еще чем-нибудь, может, уберетесь отсюда к чертям?
— На самом деле меня интересуют твои принтеры.
— Принтеры вон там. — Испещренный татуировками палец указал на три устройства, стоявшие в ряд. — Два бакса первая страница, дальше — по десять центов за страницу. Валяйте.
Кардинал открыл портфель. Достал дискету, вставил ее в один из компьютеров и выбрал письмо, которое написал своему страховому агенту. Страховую политику теперь требовалось изменить, поскольку Кэтрин была его бенефициарием.[31]
Кардинал поочередно обратился к первому, второму и третьему принтеру и распечатал три экземпляра письма. В напечатанных строчках имелись свои погрешности, но тонкой линии, проходящей через заглавные буквы, он не увидел. Разумеется, в таких местах картриджи меняют часто. Если все послания распечатали одновременно — скажем, через день-два после смерти Кэтрин, — то вряд ли на каком-то из принтеров до сих пор стоит тот же картридж. И потом, если это проделал Кодвалладер, он мог бы воспользоваться собственным картриджем.
Кардинал убрал распечатки в портфель и вынул из компьютера дискету.
— Сколько я тебе должен?
— Два семьдесят пять плюс налог. Три шестнадцать.
Кардинал расплатился.
— Скажите-ка мне, Кардинал. Вы как, женаты?
Кардинал поднял левую руку, показывая полоску золота. Внутри было выгравировано имя Кэтрин. Он всегда хотел, чтобы его похоронили с этим кольцом на пальце.
— Вы такой весь из себя правильный, — продолжал Кодвалладер. — Скажите-ка мне правду. Вам никогда не хотелось смазать своей жене по башке? Так, слегка заехать? Я не говорю, что вы так делали. Просто спрашиваю. Отвечайте честно. Вам никогда не хотелось ей малость врезать?
— Нет. Теперь вы тоже ответьте на мой вопрос. Где вы были вечером седьмого октября? В прошлый вторник.
— Во вторник? Вроде как тут и был. В будни мы работаем до десяти вечера. Слушайте, если что-то не так с Корой, то я вообще без понятия, где она теперь живет, сменила она фамилию или нет, и все такое. Так что если ее избили во вторник вечером или еще что, то я тут ни при чем.
— Так ты говоришь.
— Можете проверить, вон камеры. — Он указал на маленькую камеру видеонаблюдения над входом. — Там хранится запись за целый месяц. Спросите управляющего.
— Спрошу. Где он?
— Сейчас нету. Вернется на следующей неделе. Долбаная Кора. Я-то думал, что развязался с этой сукой.
21
Делорм дождалась шести часов, когда, по ее мнению, Мэтт Мортон уж точно должен быть дома. В шесть она поехала по окружной на Уоррен-стрит — глухое местечко на восточной окраине города. Она подумала, что за всю жизнь вряд ли попадала сюда больше двух раз.
Жилище Мортонов оказалось приземистым деревянным бунгало, которое было, пожалуй, слишком тесным даже просто для семейной пары, не говоря уж о паре с двумя детьми; к тому же оно выглядело совсем маленьким по сравнению с автомобилями на подъездной аллее. Здесь были «тойота-лендкрузер» и «крайслер-пасифика», а также «форд-таурус» — единственная машина нормального размера. У гаража стояли под навесом два ярко-красных снегохода.
И венчала все это великолепие яхта, гигантский «крис-крафт»: Делорм не сумела бы отличить «крис-крафт» от подводной лодки, но на борту имелись крупные хромированные буквы — название фирмы-производителя. Ее неопытному взгляду судно казалось чересчур неуклюжим, слишком остроконечным, недостаточно высоким, но, вероятно, главной целью конструкторов была быстроходность, а не внешняя привлекательность; к тому же неизвестно, как оно смотрится на воде. Делорм не имела представления, сколько в этой штуке лошадиных сил, но винт выглядел впечатляюще.
Если у тебя все эти громадные транспортные средства, почему ты живешь в таком крошечном домишке? Делорм часто задавалась вопросом, почему некоторые люди (а полицейскому доводится встречать их немало), похоже, тратят все свои деньги на всякие прихоти, а не на собственный дом. Ей случалось бывать в сущих лачугах, где на каждой стене был телевизор размером с классную доску.
Впрочем, дом Мортона в эту категорию не попадал: судя по всему, он был в великолепном состоянии.
Чего нельзя было сказать о Мэтте Мортоне. Если он когда-то и был футболистом, как утверждал Фрэнк Раули, то сейчас об этом мало что напоминало. Если у него и были какие-то мышцы, то они давно утонули в нескольких кубических футах сала. Основная тяжесть его тела была сосредоточена вверху, как если бы его крепко стиснули в районе лодыжек и весь жир ушел к шее и плечам. Его волосы были того же каштанового оттенка, что и у растлителя на снимках, но они были тщательно уложены в аккуратную дорогостоящую прическу.
Делорм представилась и предъявила удостоверение.
— Входите, — сказал Мортон. — У меня всего минута. Мы садимся обедать.
— Ничего. Я не отниму у вас много времени.
В гостиной, по левую руку, не обнаружилось ничего, что она видела на фотографиях. В дальнем конце коридора располагалась кухня: слишком далеко, чтобы можно было разобрать какие-то детали за несколькими деревянными шкафами. Делорм слышала, как дети кричат, а женщина их утихомиривает. Судя по голосам, там были мальчик и девочка.
— Восхищалась вашим транспортом, там, перед домом, — заметила Делорм. — Особенно яхтой.
— Она — моя гордость и отрада. Еще бы, при такой-то цене. Продолжаю за нее выплачивать.
— Мистер Мортон, я расследую серию преступлений, которые были совершены в районе Озерной пристани, и мне нужно посмотреть на вашу яхту. Вы не против?
— Что за преступления?
— Среди прочего — насильственные действия.
— Насильственные. Я тут ни при чем, сразу вам говорю.
— В данный момент мы просто ищем свидетелей.
— Знаете, я никогда не видел ничего, что было бы похоже на какое-то насилие. Да и не слышал. При чем тут моя яхта?
— Возможно, и ни при чем. Если бы мне удалось просто на нее посмотреть, мистер Мортон, это бы очень нам помогло.
— Ступайте, смотрите. Мне все равно.
— Спасибо.
Мортон натянул ветровку «Мэйпл лифс»[32] и провел ее к яхте; он шел осторожной, скользящей походкой очень тяжелого человека. Но за несколько лет мужчина может набрать немало фунтов, и Делорм не стала исключать Мэтта Мортона из числа подозреваемых.
— Вам и внутри надо посмотреть?
— Да, надо.
— На этой яхте не совершали никакого насилия. Не понимаю, зачем смотреть внутри.
— Это позволит нам исключить кое-что из рассмотрения, мистер Мортон. Можно мне залезть на палубу?
— Давайте лучше по лестнице.
Делорм помогла ему вытащить из гаража восьмифутовую алюминиевую лестницу. После двух минут физической нагрузки бывший футболист вспотел и запыхался. Однако он залез первым и перевалил через борт. Делорм последовала за ним и вскоре ступила на палубу.
— Сейчас она не смотрится как следует, — заявил Мортон. — Это как глядеть на скаковую лошадь в конюшне. Толком не понимаете, какая она в деле.
— По-моему, понимаю, — возразила Делорм. — Наверное, это огромное удовольствие — кататься по волнам на такой штуке.
— С этим ничто не сравнится, уж поверьте. Воздух, солнце. Не говоря уж о пиве. И у всех хорошее настроение. Дети веселятся, жена на седьмом небе от счастья, и я максимально отвлекаюсь от работы.
— А в какой области вы работаете, мистер Мортон?
— Ай-ти. Компьютерные сети. Когда-то это давало неплохой заработок. Теперь — нет. По крайней мере, в этом городе. Мы уже готовы были купить дом побольше, но теперь вряд ли.
— Ничего, если мы приподнимем пластиковые чехлы вот над этими сиденьями? — Делорм уже почти убедилась, что это не яхта с фотографии. Штурвал здесь был белый, а на снимке — деревянный, некрашеный. Конечно, штурвал можно заменить, но на этой яхте нигде не было видно деревянных частей оснастки, а она сомневалась, чтобы кто-нибудь стал их менять.
Мортон приподнял чехлы над двумя ближайшими к корме сиденьями. Они могли двигаться вперед-назад, имели гладкую белую обивку, а рядом крепились небольшие столики. На фотографии же были сиденья вращающегося типа, установленные спинка к спинке, с натяжной красной обивкой. Вся задняя часть яхты была совершенно другой.
— Ящик вам тоже надо посмотреть? Ну, кабину?
— Нет, спасибо, мистер Мортон. Вы мне очень помогли.
— Это не трудно. Я имею в виду — теперь-то, когда мы уже здесь.
— Тогда давайте. Краткий осмотр не повредит.
Она разрешила ему провести экскурсию по яхте. Мортон гордо показывал различные детали и приспособления, надеясь, что она их оценит. Раза два он обмолвился: «Жена меня убьет, если узнает, сколько я за это выложил».
— Думаю, это для вас как второй дом, — заметила Делорм. — По крайней мере, летом.
— Так оно и есть. — Мортон подчеркнул эту мысль движением пальца, который был размером с сосиску. — Это вы верно сказали.
Делорм никогда особенно не привлекали яхты, но аккуратность здешнего интерьера произвела на нее впечатление. Множество маленьких посудных шкафчиков и сундучков, все миниатюрное, края скруглены.
— Наверное, ваши дети все это обожают, — предположила она.
— Сын все время проводил бы на яхте, если бы мог. А вот Бритни совсем к ней равнодушна. Ей тринадцать.
Делорм очень хотелось увидеть эту девочку, но сейчас она не могла придумать для этого повод.
— Мистер Мортон, а какие у вас отношения с теми, кто держит суда на пристани? Вы этих людей часто видите?
— Не очень. Знаете, там же в основном семьи. Все так заняты собственными детьми, что нет времени толком познакомиться друг с другом. Ну вот разве что о погоде поговорим, обо всяком таком.
— Места там довольно близко друг от друга. А у вас такая дорогая вещь. Вы когда-нибудь жаловались?
— На что, на пристань?
— Или на людей, которые ставят яхты рядом с вами.
Мортон задумался, провел рукой по голове.
— Ну, есть один урод-итальяшка, он вечно слишком громко запускает музыку. Он стоит в другом конце гавани, но, когда ты на воде, звук идет по-другому. Я был бы счастлив, если бы вы его арестовали, выслали или еще что-нибудь.
— Это маловероятно. А как насчет тех, кто стоит рядом с вами?
— Ферье? Они славные. Мы с ними не очень близки, но у нас отличные отношения. Мы с Андре иногда пьем пиво, обсуждаем какой-нибудь матч. Вот и все.
— У них есть дети?
— Две девочки: Алекс и Сэди. Сэди лет восемь. Алекс — ровесница Брит, ей тринадцать, хотя можно дать и тридцать, такие уж они сейчас.
Тринадцать лет. Делорм хотелось расспросить о девочках подробнее, но сейчас она не намерена была привлекать чрезмерное внимание к этому аспекту дела. Что, если это Мортон обхаживает детей соседа? Чтобы отвлечь его, она заговорила о Фрэнке Раули.
— Ну, с Фрэнком мы еще в школе учились. На Фрэнка у меня никаких жалоб нет. — Мортон вдруг щелкнул пальцами. — Вспомнил одну вещь. Вы ведь расследуете насилие?
— Верно.
— Мужик по имени Фред Белл. Я спас его задницу, когда какой-то чокнутый ублюдок на него накинулся.
— Фредерик Белл? — Делорм никогда не встречалась с доктором Беллом лично, но знала, что он психиатр.
— Точно. Он из Англии. Но это было не совсем на пристани. Это было у входа в ресторанчик, где подают морепродукты, совсем рядом.
— А из-за чего возникла драка?
— Не знаю. Тот тип орал что-то насчет того, как Белл лечил его сына. Кажется, сын покончил с собой. В общем, он просто слетел с катушек, размахивал руками, как сумасшедший, так что я встал между ними и предложил ему убраться. Не такое уж это было насилие, если подумать. Это было год назад, может, полтора.
— А его фамилию вы знаете?
— Не помню. То ли Уайтсайд, то ли что-то такое.
— И последний вопрос, мистер Мортон. Вы видели или слышали в районе пристани что-нибудь, что вас бы обеспокоило, возможно — заставило вас думать, что это не самое подходящее место для ваших детей?
— В каком смысле? С точки зрения безопасности?
— С какой-нибудь точки зрения.
Мортон покачал головой:
— На пристани все как соседи. Обычно помогают друг другу. Всегда выручат, если тебе нужен сахар, ну и всякое такое, понимаете? Хотя мы толком не знакомы, у нас там своего рода товарищество, такое взаимное доверие редко встретишь. Уютный уголок, там всем хорошо, особенно детям.
22
Кардинал разбирал счета в столовой. Келли смотрела в гостиной очередной повтор сериала «Скорая помощь». Она сидела перед телевизором совсем как Кэтрин — поставив на колени чашку с попкорном и постоянно отпуская замечания по поводу того, что она видит на экране. «Ну здрасте, — могла сказать Кэтрин. — Никакой врач в здравом уме не стал бы так поступать».
Кардинал выписал чеки по всем кредитным картам Кэтрин и нацарапал на каждом корешке: «Скончалась, просьба отменить платеж».
Он невольно задумался о людях, которых ему пока удалось выследить: один умер еще до того, как умерла Кэтрин, а другой — не более чем вероятный подозреваемый. Ему еще предстояло проверить алиби Кодвалладера, но он нутром чуял, что оно подтвердится. Кардинал чувствовал, что упускает нечто очевидное, что он идет каким-то совершенно не тем путем. Пока он сосредоточивался на мотиве и возможности: у кого были причины ударить по нему через жену? Кого недавно выпустили из тюрьмы?
Но можно было подойти и проще: кто знал его адрес? Кто знал, что Кэтрин — его жена? Кто находился в таком положении, которое позволяло с готовностью ухватиться за эту информацию? Не пьяница вроде Коннора Пласкетта (даже если бы он был еще жив) и, по всей видимости, не погруженный в себя неудачник вроде Кодвалладера.
Адреса и телефона Кардинала не было в справочнике, и полицейское управление, разумеется, не давало их кому попало. Еще со времен работы в отделе по борьбе с наркотиками в Торонто он взял за правило обращать внимание на то, не идут ли за ним, не следят ли. Если не проявлять бдительность, кто-нибудь может выследить, где ты живешь, и потом начать угрожать твоей семье. Если бы за ним следили, он бы знал.
Он пролистал оставшиеся счета. Из Общества Одюбона,[33] из клуба «Сьерра»,[34] от «Эмнисти Интернэшнл» (на имя Кэтрин) и прочие — из Детского госпиталя, из ЮНИСЕФ и от организации «Марш медяков»[35] (на имя Кардинала). Пришли также счета от Алгонкинской ГЭС, из департамента водоснабжения, из телефонной компании и из похоронного бюро Десмонда.
Большинство из них уже были вскрыты, а то и оплачены. Кардинал изучал их один за другим, помещая под настольную лампу на гибком стебле, стоящую рядом с телефоном. Для вящей надежности он надел очки для чтения. Ни на одном из этих счетов не было такой же погрешности печати, как на этих злобных открытках соболезнования.
Ну ладно. Может, это слишком просто. Почти все эти счета, кроме посланий от мелких благотворительных обществ, направили ему через компьютер. Ни одно человеческое существо даже не увидит этих счетов, пока они не придут обратно с приложенными к ним чеками. Он развернул счет от похоронного бюро:
Дорогой мистер Кардинал!
Мы, сотрудники Похоронного бюро Десмонда, хотим, чтобы Вы знали, как мы соболезнуем Вам в это скорбное время, когда Вы переживаете утрату.
Мы также хотим поблагодарить Вас за то, что Вы предпочли обратиться именно к нам. Мы надеемся, что наши услуги принесли Вам хоть какое-то чувство комфорта и безопасности в один из самых тяжелых переходных периодов, какие бывают в жизни.
Наш счет прилагается. Пожалуйста, осуществите платеж, как только сочтете это удобным. И знайте, что мы всегда готовы прийти Вам на помощь, если существует что-нибудь, что мы могли бы для Вас сделать в это нелегкое время.
С благодарностью и искренним сочувствием.
Внизу стояла подпись — «Дэвид Десмонд». Ни на одной из заглавных букв не было видно никаких погрешностей печати.
— Она просто полоумная, — заявила Келли телевизору. — Как она вообще выбилась в медсестры?
Во время рекламы она зашла к Кардиналу по пути на кухню.
— Не хочешь пойти посмотреть, пап?
— Приду, через минутку.
— Так классно наблюдать, как люди портят себе жизнь еще сильнее, чем ты портишь свою собственную. Хотя, наверное, ты это и так все время видишь на работе, каждый день.
— Так и есть. Вижу.
— Иду за диетической кока-колой. Тебе принести?
— Конечно.
Кардинал рассматривал счет, который пришел вместе с письмом от Десмонда. Его внимание особенно привлекла одна позиция, и главным в ней была не цена, которая его как раз не удивила:
«Гроб — Орех Высшего Качества, Натуральный — $ 2500».
Через заглавные буквы явно шла тонкая линия.
И ниже: «Оплата произведена. Платеж получен — $ 3400».
Такая же линия — через О и П.
— Продолжается, — позвала Келли из гостиной. — Твоя кока-кола здесь.
Кардинал вытащил из портфеля три открытки. «Она в буквальном смысле предпочла умереть…» Такая же линия идет через заглавную О. «Как сильно она должна была тебя ненавидеть». Такая же линия — через заглавную К. Он выудил лупу и стал сличать одинаковые буквы. Идентичны.
Мог ли директор похоронного бюро устать от соболезнований всем тем страданиям, которые он наблюдает ежедневно? Можно ли утомиться от всех этих слез, молитв, пререканий насчет деталей обряда, бесконечных напоминаний, что этот дорогой покойник — нечто особенное, в отличие от обычных людей, которых вы хороните по графику? Кардинал подумал, что это действительно может надоесть, и в один прекрасный день в голове у тебя что-то щелкает, и ты начинаешь отправлять по почте открытки с несоболезнованиями.
Но в самом письме погрешностей печати не было.
Он позвонил Дэвиду Десмонду домой.
Профессионал до мозга костей, Десмонд зря не терял ни секунды.
— Да, Джон, — отозвался он. — Чем могу вам помочь?
— Я как раз изучаю счет, который от вас пришел.
— О, незачем спешить с оплатой. Половину вы уже внесли в качестве задатка, к тому же уверен, что сейчас у вас масса других забот.
— Я заинтересовался, сами ли вы их составляете.
— Видите ли, первоначальные цифры мы, конечно, пишем сами. Но потом, уже после мероприятия, мы отправляем все в нашу бухгалтерскую службу.
— Похоже, они неплохо для вас работают. В этом году мне предстоит много возни с налогами, вот я и подумал, нельзя ли узнать у вас их название и адрес.
— О, разумеется. Это «Беквис и Болн». Минутку, у меня где-то здесь их карточка.
— А к кому вы обращаетесь — к Беквису или к Болну?
— Ни к тому ни к другому. К одному парню по имени Роджер Фелт.
— Да вы шутите.
— А в чем дело? Вы знакомы с Роджером?
23
Роджер Фелт. Кардинал не вспоминал о Роджере Фелте вот уже по крайней мере пять или шесть лет. Когда-то Роджер Фелт был биржевым брокером, финансовым консультантом и одновременно инвестиционным аналитиком в алгонкинском отделении «Фрейзера-Гранта», британского агентства недвижимости. В том, что касается роста акций, он заслужил репутацию местного царя Мидаса.
Как и почти каждый финансовый консультант в городе, Фелт зарабатывал на хлеб с маслом главным образом благодаря открытым инвестиционным фондам. Он брал у людей содержимое их копилок, сберегательных счетов и прочие деньги, откладываемые на черный день, и вкладывал их в более или менее консервативные бумаги фондов высшей категории. Но подобная программа не удовлетворяла его, когда речь заходила о его собственных пенсионных накоплениях. Многолетнее чтение финансовых изданий наполнило его голову биографиями финансовых гениев, в свое время сорвавших громадный куш и ушедших на покой — с яхтами, домами в горах и виллами на юге Франции. Совсем не обязательно заканчивать жизнь, имея лишь скромное ранчо в Алгонкин-Бей да коттедж на озере Мад-лейк.
И Роджер Фелт решил осуществить амбициозный план, дабы пробиться в высшую лигу. Он переместил свой портфель акций в зону более рискованных бумаг, на рынок, где высок выброс адреналина, и затем начал играть на разнице цен. Когда же ему впервые понадобилось внести оплату наличными, он быстро расплатился собственными деньгами.
Разумеется, эти деньги предназначались также на то, чтобы оплатить пенсию его жене, а не только ему самому. Кроме того, они должны были пойти на помощь его больной теще, за которой ухаживала сиделка, и на образование для их троих детей, которые должны были один за другим поступить в университет. Ничего страшного. Когда рынок произведет разворот (а его экономическое чутье подсказывало ему, что рано или поздно это должно произойти), он настолько разбогатеет, что сможет покрыть все эти расходы из своих карманных денег.
Далее последовали новые убытки и новые требования оплаты, и в итоге Роджер Фелт обнаружил, что находится в неуютном положении человека, который растратил не только собственные сбережения, но и накопления своих самых богатых клиентов. В Алгонкин-Бей эти «богачи» были не миллионерами, а имевшими небольшие лишние средства пенсионерами с неплохими пенсиями и домами, за которые уже все было выплачено. Роджер Фелт преспокойно «одалживал» деньги с их счетов, чтобы оплачивать собственные расходы на покупку рискованных акций и размещение более крупных инвестиций — с целью, как он потом объяснял в суде, потом вернуть всем их деньги — разумеется, с прибылью.
Его мечты о роскоши Лазурного Берега начали тускнеть, постепенно съеживаясь до мечтаний о том, чтобы вернуть средства из фондов, куда он запустил руку, о том, чтобы восстановить собственную семью, о том, чтобы избежать тюрьмы.
Но этим мечтам не суждено было сбыться.
Одна из его клиенток, миссис Гертруда М. Лаури, пожелала объединить все свои средства, отдав их в управление другой компании. Устав от запирательств Фелта, она обратилась в полицию. Дело взял Кардинал, а поскольку он не был финансовым гением, вскоре к нему подключилась Делорм. Ей не хватало всего нескольких месяцев до получения степени МВА,[36] когда она поступила на службу в полицию, после чего полдюжины лет охотилась на преступников из числа «белых воротничков».
Они арестовали Фелта по обвинению в мошенничестве, незаконном присвоении средств из фондов и нарушении финансовых обязательств. Его признали виновным по всем трем пунктам. Леонард Скофилд, его адвокат, красноречиво требовал снизить наказание до минимума, но судья принял это требование прохладно. Впрочем, вряд ли он мог отнестись к этому иначе, после того как перед ним прошел целый парад свидетелей: мужчины, давно миновавшие пору расцвета и вынужденные вернуться на работу; молодые люди, чьи мечты о покупке собственного дома обратились в ничто; разгневанные пары, потерявшие свое жилище; трясущиеся старушки, которым пришлось заняться неквалифицированным трудом, чтобы свести концы с концами. Роджера Фелта на восемь лет заключили в тюрьму с режимом среднего уровня, откуда он был условно-досрочно освобожден через пять лет.
Кардинал подкатил к дому, адрес которого ему дала Делорм. Как выяснилось, объект проживал в квартире над магазином тканей на Самнер-стрит. Чтобы добраться до двери, находившейся ниже уровня тротуара, Кардиналу пришлось протискиваться через проход настолько узкий, что он вынужден был повернуться боком.
Дверь украшали работы многих поколений граффитистов; наименее изобретательным из этих произведений было земляничного цвета «Я тебя люблю» высотой в фут. Кардинал нажал на кнопку домофона и стал ждать, оглядывая подъездную аллею, полную раздавленных банок из-под газировки и заблудившихся оберток от сэндвичей; тут валялась даже размокшая теннисная туфля без шнурков. Что ни говори, Роджер Фелт сильно скатился вниз с тех пор, как Кардинал и Делорм его арестовали: тогда ему принадлежал дом на берегу озера, и, когда они за ним пришли, он раскачивался в гамаке и в руке у него был ром с кока-колой.
Донесся голос, заставивший истерзанный динамик домофона дрожать и жужжать:
— Кто там?
— Курьер.
— Подождите. Сейчас спущусь.
Внутри, на лестнице, раздались тяжелые шаги, и дверь открылась.
Тюрьма не улучшила внешность Роджера Фелта. Он и всегда был каким-то квадратноватым, но, пусть он и не отличался изяществом, дорогие костюмы в сочетании с регулярной игрой в сквош все-таки придавали ему вид человека, к которому можно обратиться «сэр». Теперь же он стал приземист и походил на тролля. Рубашка у него выглядела так, словно ее не гладили несколько десятилетий, под мышками виднелись круги пота. От него несло табачной вонью; он запыхался от ходьбы по лестнице.
— Вы из «Альмы»? — спросил он, назвав один из ресторанов на Мэйн-стрит. — Собственно, я ничего не заказывал.
Кардинал предъявил свой значок:
— Сюрприз.
Фелт снизу вверх уставился на него сквозь свои толстые линзы:
— Только не это.
Кардинал толчком открыл дверь.
— Мистер Фелт, мы считаем, что вы нарушили условия досрочного освобождения. Мне необходимо войти и осмотреть ваше жилье.
— Давайте сначала посмотрим ордер.
— Вы — осужденный преступник, которому было разрешено условно-досрочное освобождение, мистер Фелт, и у меня есть веские основания подозревать, что вы нарушили условия. Ордер не требуется.
Кардинал протиснулся мимо него и поднялся по темной лестнице. Дверь наверху вела в тесную, кривобокую кухоньку, освещенную кольцевой лампой искусственного света, какие очень любят квартирные хозяева, считающие каждый цент. В пепельнице валялась сигарета, пускавшая в воздух петли дыма. Рядом с пепельницей располагались калькулятор, стопка папок, потрепанный ноутбук и небольшой принтер.
Кардинал вынул лист бумаги из его приемного лотка.
Это был счет от «Беквиса и Болна», адресованный фирме «Наутилус» (Хранение и Ремонт Судов). Через заглавные Н и Р проходили тонкие линии. Обычно Кардинал оставался сравнительно спокойным, когда дело доходило до ареста преступников. Но сейчас, когда Роджер Фелт, пыхтя, ввалился в кухню, Кардинал испытал прилив ярости. Тут же какая-то другая часть его натуры заперла эту ярость где-то внутри. Он указал на калькулятор, на папки, на столбцы цифр на экране ноутбука.
— По условиям вашего освобождения, вы не имеете права работать в финансовом секторе. Тем не менее вы явно оказываете бухгалтерские услуги. Могу я поговорить с мистером Беквисом?
— Его сейчас нет.
— А с мистером Болном?
— Его также нет на месте.
— Болн и Беквис — вымышленные личности, верно?
— Просто название. Красиво звучит.
— Вы управляете фиктивной компанией, мистер Фелт. С целью снова одурачить население.
— Мне нужны клиенты. А название отличное. Вы же не ожидали, что я стану жить на зарплату, которую получаю в закусочной, где подают сэндвичи.
— У вас в прошлом уже было мошенничество и нарушение финансовых обязательств. Думаю, в свете этих обстоятельств судью очень заинтересуют несуществующие мистер Болн и мистер Беквис.
— Пожалуйста, не делайте этого. Я не могу обратно в тюрьму.
— Обувайтесь, мистер Фелт. Именно туда мы с вами и направляемся.
24
Роджера Фелта арестовали и, после того как ему было разрешено позвонить своему адвокату, поместили в камеру предварительного заключения. Кардинал предупредил прокурора Коронного суда[37] и тюремную кураторскую службу. Он сделал соответствующие записи, покончил с бумажной работой и отнес в комнату для заседаний коробки с материалами, которые вынес из квартиры Фелта.
Комната для заседаний была самым тихим и респектабельным с виду местом в полицейском управлении. Длинный дубовый стол и красивые кресла делали ее похожей на помещение штаб-квартиры какой-нибудь небольшой, но преуспевающей компании. Кардинал открыл первую коробку и извлек оттуда калькулятор, ноутбук, принтер. Затем раскрыл вторую коробку и достал папки с бумагами и канцелярские принадлежности.
Вошла штаб-сержант Мэри Флауэр. Мэри была из тех женщин, для которых, казалось, как раз и было придумано грубое слово «здоровенная». Ростом она была не больше пяти футов трех дюймов, но грудь и голос у нее были выдающиеся. Она готова была биться за всех своих братьев по оружию, носящих форму, но, если она выясняла, что кто-нибудь из патрульных отлынивает от своих обязанностей, она закатывала такой грандиозный скандал, что в управлении потом неделями пахло серой. Она уже много лет была тайно увлечена Кардиналом: иногда он беззастенчиво этим пользовался, чтобы добиться каких-нибудь услуг от своих коллег в форме.
— Послушай, Джон. — Они уже достаточно долго проработали вместе, чтобы быть на «ты» и обращаться друг к другу по имени, когда рядом не было никого из ее подчиненных. — Ты, конечно, скажешь, что это меня не касается, но…
— Это тебя не касается, Мэри…
— На самом деле все-таки касается. Потому что речь о том, как правильно себя вести в нашей лавочке, а ведь я готовлю молодежь, так что я тут очень даже при чем. Но я не поэтому решила с тобой поговорить, а потому что ты мой друг, и я тебя достаточно уважаю, чтобы сказать тебе прямо, когда ты, по-моему, делаешь ошибку.
— Я часто совершаю ошибки. О какой из них ты подумала?
— Прежде всего, дружок, тебе незачем было так рано сюда возвращаться. Ты все еще страдаешь, и ты еще долго будешь страдать. А полицейская контора — неподходящее место для разбитого сердца.
— Она же меня не бросила. Она… м-м… — Умерла. Он никогда не сможет выговорить это слово. Применительно к Кэтрин — никогда.
— Я это знаю, Джон. Вот и признайся себе, что ты тоже человек. Признайся себе, что у тебя иногда может отключаться способность выносить суждения, что сейчас ты склонен делать ошибки. Я не детектив, я не собираюсь подвергать сомнению твою следовательскую работу.
— Он нарушил условия освобождения. Условия либо что-то значат, либо нет. Третьего не дано.
— Послушай, ты сейчас сам на себя не похож. Обычно это не твой лозунг — «все или ничего», «черное или белое». Я прошу тебя какое-то время отдохнуть, вот и все. Потому что сейчас у тебя мотор работает не на всех цилиндрах
— У тебя все?
— Да, у мамаши Мэри все, детка.
— Хорошо. Потому что мне тут надо заняться настоящими делами.
Выяснилось, что куратор Роджера Фелта — Уэс Битти. Хотя Кардинал довольно часто общался с Уэсом по телефону, он не видел его лично вот уже больше года. С тех пор тот успел отрастить большую косматую бороду; в темном костюме и темном галстуке он выглядел непривычно официально.
— Вот это да, Уэс, — поразился Кардинал. — Ты приехал сюда в лимузине?
— Ты вытащил меня из оперы, — проворчал Битти. — Раз в год я предпринимаю попытку приобшиться к культуре, а из-за тебя мои усилия пошли прахом.
— В Алгонкин-Бей нет оперы.
— Сегодня вечером — есть. Компания «Манхэттен лайт опера» дает концерт в Кэпитал-центре, всего один вечер, а ты меня оттуда выдернул.
— Адвокат Фелта уже выехал, представителя Короны мы тоже ждем.
— Незачем так переживать, — отозвался Битти. — Я уже говорил с человеком из Коронного, и он не хочет продвигать это дело, пока за это не возьмусь я сам, а должен тебе сказать, Джон, что я совершенно не планирую этим заниматься.
— Роджер Фелт нарушил условия освобождения, Уэс. Он занимается финансовыми операциями под фальшивой вывеской. Он посылал мне угрожающие и оскорбительные письма — которые, может быть, тебе захочется увидеть, прежде чем ты передумаешь; я уж не говорю о том, что прокурор Коронного суда тоже наверняка изменит свое мнение.
Битти был из числа крупных мужчин, распространяющих вокруг себя спокойствие, которому трудно противостоять. Слушая Кардинала, он стоял перед ним, плавно покачиваясь на каблуках. Все это время он сочувственно кивал. Тюремный куратор, вечно осаждаемый судьями, преступниками, жертвами, адвокатами, не говоря уж о невероятно удрученных полицейских, должен научиться быть хорошим слушателем, иначе он сойдет с ума.
— Может быть, где-нибудь сядем и поговорим? — негромко предложил он. Его понимающие интонации заставили Кардинала внезапно почувствовать себя сущим скандалистом.
— Да, конечно.
Кардинал провел его в комнату для заседаний, где на столе были разложены бухгалтерские причиндалы Фелта.
Кардинал поднял один из бланков:
— Ты понимаешь, что «Беквис и Болн» — фиктивная организация?
— Строго говоря, Джон, это не так. Эта бухгалтерская фирма, которую возглавляет Роджер Фелт, по сути дела — домашний бизнес. «Беквис и Болн» — просто название, и неважно, что за ним не стоят какие-то реальные личности. Меррилл и Линч тоже давно умерли.[38]
— Меррилл и Линч были реальными людьми, которые основали компанию.
— Джон, тебе не удастся пришить ему финансовые махинации. Роджер действительно предоставляет те бухгалтерские услуги, которые обещает. Не больше и не меньше.
— Он ведет для своих клиентов налоговую бухгалтерию. Значит, в том числе он и дает консультации по налогам, то есть финансовые консультации, а по условиям его освобождения ему этим заниматься строго запрещено.
— Я с этим не согласен, и суд тоже не согласится, Джон. Он не занимается бухгалтерией как таковой. Он просто ведет учет и выполняет арифметические действия. У него нет доступа к чужим счетам, он не берет чужие деньги в доверительное управление. Это достойная работа, он эффективно применяет в ней свой опыт.
— Суд может отнестись к этому иначе.
— Джон, прежде чем разрешить Роджеру этим заниматься, я все обговорил с судьей. Тот не увидел в этом никаких проблем. И прокурор Коронного суда тоже не видит, вот почему он сюда не приехал.
— Ты потакал Роджеру, это переходит все границы, Уэс.
— Я же просто пытаюсь оказать тебе услугу. Уж поверь мне, тебе самому не захочется, чтобы дело дошло до суда. Роджер переродился. Из-за своего преступления он потерял все, что имел, буквально все. Не только деньги. Ты видел, где он живет. Его жена ушла от него вскоре после того, как он попал в тюрьму. Двое из его детей не хотят иметь с ним ничего общего. Он растерял всех друзей. Ну и прочее.
— И ты считаешь, что он переменился.
— Я это знаю, и комитет кураторов тоже это знает. В тюрьме он заново обрел веру, — он католик, — и, хотя обычно я ни в грош не ставлю такие признания, в случае с Роджером это, похоже, правда. Сейчас он очень активный прихожанин.
Кардинал вынул из коробки несколько чистых открыток с типографскими соболезнованиями.
— Я нашел это рядом с его ноутбуком. — Он открыл портфель и достал открытки, которые получил по почте. — А вот эти он прислал мне. Давай-ка. Посмотри на них, Уэс. Посмотри, а потом скажешь мне, как он переродился.
Бетти внимательно изучил открытки. Они были развернуты и помещены в пластик. Он несколько секунд держал каждую перед собой, потом переворачивал и ронял на стол.
— Ты думаешь, он посылал тебе эти открытки?
— Он пользовался компьютером, чтобы я не увидел его почерк, но в заглавных буквах видна погрешность принтера. Вот, возьми.
Он протянул Битти лупу. Тот посмотрел сквозь нее на одну из открыток, потом на счет, который Кардинал получил из похоронного бюро. Затем сравнил с двумя другими открытками. Потом постучал по ним пальцем:
— Джон, мне очень жаль, что ты это получил. Такие вещи очень расстраивают.
— «Расстраивают» — не то слово. Моя жена… ты сам знаешь, что случилось с моей женой. Коронер, может, и считает, что она покончила с собой, но я так не думаю. Допустим, ты убил кого-то и обставил это как самоубийство. В итоге у тебя может возникнуть мысль написать такое послание, как по-твоему?
Я делаю что-то не то, подумал Кардинал. И я это знаю. Это была ошибка — упоминать о своих подозрениях насчет убийства, но он уже не мог сдержаться.
— Шесть лет назад я арестовал Фелта за то, что он воровал чужие сбережения. Ты сам сказал: это погубило его репутацию, он потерял друзей, детей, жену. Привычная жизнь для него кончилась, и пять лет он сидел в тюрьме, копя ненависть ко мне — за то, что я его поймал. Видимо, он думал, что, если бы я его не остановил, он бы сумел совершить какое-нибудь гениальное вложение и стал бы богачом, да еще и вернул бы все, что украл, — все, что «одолжил», как он это называет.
Как он мог со мной рассчитаться? Убить меня? Нет, это был бы слишком простой и прямой путь, к тому же это и не была бы настоящая месть, поскольку я бы не страдал так, как страдал он, ведь его бросила жена. Поэтому, чтобы рассчитаться, он убивает мою жену, а потом швыряет мне в лицо эти открытки. Он подлый мерзавец, Уэс. И всегда таким был.
Даже для Кардинала все это звучало как визг раненого зверя. И теперь ему еще надо было перенести жуткое выражение сострадания, которое непременно появится на бородатом лице Уэса Битти. И Битти действительно протянул руку и сжал Кардиналу плечо.
— Джон, что ты вообще здесь делаешь? Тебе не стоило так рано выходить на работу.
— Почему ты так пытаешься выгородить этого типа, Уэс? На него и без того работает Скофилд. Ты считаешь, что он не мог написать эти послания?
— Нет, я сам вижу, что буквы в открытках — такие же, как на этом счете. И я знаю, что Фелт ведет бухгалтерию для похоронного бюро Десмонда. Я в состоянии сложить два и два. Я даже могу себе представить, как он пишет эти письма, пусть они и мерзкие. Это парень с завихрениями, чего уж там. Но в том, что касается насилия, это самое безобидное существо на свете, и все подозрения, что он может кому-то причинить физический ущерб, — совершенно мимо кассы. Джон, у тебя даже нет заключения экспертов о том, что это убийство. Отдохни. Сходи к консультанту по семейным трагедиям.
— Даже если попытаться представить это в самом лучшем свете, получается, что у нас есть отпущенный по условно-досрочному освобождению преступник, который посылает по почте угрожающие и оскорбительные письма. Этого достаточно, чтобы снова упрятать его за решетку.
— Да, письма гнусные. Очень неприятные. Подлые. Но содержат ли они «оскорбления»? Не знаю. Спорно. А «угрожающий» — понятие растяжимое. Никакой судья не купится на понятие «угрожающий». Ответь мне на один вопрос, Джон: если бы ты согласился с заключением о суициде, если бы ты не подозревал здесь убийство, ты бы вообще стал заботиться о том, чтобы найти автора этих открыток?
Шумно распахнулась дверь, и перед ними предстал Леонард Скофилд, с портфелем из телячьей кожи в одной руке и каким-то документом размером в печатный лист — в другой. Костюмы Скофилда всегда выглядели так, словно он только что посетил Сэвил-Роу,[39] а ботинки — словно их никогда до этого не надевали. Даже в половине одиннадцатого вечера он явился сюда в темном костюме в мелкую полоску в белоснежной рубашке и в темно-бордовом галстуке.
Помимо всего прочего, Скофилд обладал звучным и убедительным голосом ведущего новостей, благодаря которому даже самые слабые его аргументы звучали разумно. В свое время Кардиналу удалось отправить за решетку двух или трех клиентов Скофилда, но на значительно меньший срок, нежели они заслуживали.
И, как будто всего этого было недостаточно, Скофилд был еще и достойным человеком. Как и большинство полицейских, Кардинал питал врожденное чувство подозрительности по отношению к адвокатам, хотя у него хватало ума понять, что оно беспочвенно. Но Скофилд был человеком, который волей-неволей вызывал уважение, даже когда в суде он разрывал в клочья дело, которое ты вел. Он всегда был готов к досудебной дискуссии, всегда восприимчив к рациональным доводам и, даже когда яростно защищал своего клиента, умудрялся в полной мере сохранять чувство собственного достоинства. Кардиналу часто хотелось, чтобы он выдвинул свою кандидатуру на какой-нибудь важный судебный пост.
Короче говоря, Кардинал всегда приходил в отчаяние, видя Скофилда по другую сторону баррикад.
— Господа, — проговорил Скофилд, — просто не могу выразить, насколько неприятно, когда тебя вызывают в столь неприемлемый час.
— Если вы представляете интересы Фелта, — заметил Кардинал, — вы могли бы пожелать, чтобы вас ни в какое время суток не тревожили по его поводу.
У Скофилда были темные брови, очень выразительные и поэтому весьма полезные в суде, когда требовалось, к примеру, изобразить на лице выражение безмолвного, но красноречивого скепсиса; они умели также передавать и целую гамму иных, более тонких эмоций, в данном случае — дружеское участие.
— Детектив Кардинал, — произнес он, — позвольте мне сообщить вам, как печально мне было услышать о вашей жене.
— Спасибо. — Скофилд был либо человеком, органически не способным на вранье, либо человеком, умеющим сыграть фальшивое сочувствие на уровне лучших голливудских актеров.
— И разрешите вручить вам вот это. — Скофилд протянул ему несколько документов, а затем передал их копии Уэсу Битти. — Вот почему я задержался. Я зашел в собор и поговорил с отцом Мкембе. Он священник, и вы, возможно, не стали бы требовать, чтобы он давал показания под присягой, но тем не менее — вот они. Отец Мкембе клянется, что Роджер Фелт находился в храме, на собрании, посвященном сбору благотворительных средств, во вторник, с восьми до одиннадцати вечера. Другие показания — от дьякона и от сестры Кэтрин Уэлсли, которые также клянутся, что в этот период времени Роджер Фелт находился там в их присутствии. Насколько я понимаю, он занимался подсчетами выручки от их ежегодной ярмарки и аукциона. Прошу заметить, что эту работу он выполнял бесплатно.
Кардинал не был самодовольным человеком. Католик по рождению и воспитанию, он вступил во взрослую жизнь, будучи снабжен чрезмерным чувством вины. Он знал, что способен на поступки, которых будет стыдиться, даже на нарушение закона, так что он не был тем полицейским, который прибывает на место преступления на белом коне, в вечной готовности поразить то зло, что бродит среди нас. Более того, чем старше он становился и больше отдалялся от религии, в которой родился, тем меньше доверял людям, считающим себя во всем правыми: всегда правым бандитам, которые превращают конкурентов в кровавое месиво за то, что те сунулись на их территорию; всегда правым мужьям, которые бьют жен ногами, пыряют их ножом, а иногда и убивают, — за то, что те их «не уважают»; всегда правым полицейским, готовым всеми правдами и неправдами арестовать человека, наблюдая потом, как он просачивается сквозь жернова судебной системы. Кардинал всю жизнь пытался установить справедливость и в конце концов понял, сколько несправедливости идет рука об руку с такой вечной правильностью.
И вот он внезапно вынужден был признать себя как раз таким самодовольным копом, готовым навалиться на невиновного. Жар стыда поднялся по его шее, лоб покалывало от выступившего горячего пота.
Уэс Битти соображал туго.
— Не понимаю. Седьмое октября, вторник, и Роджер, который посылал открытки по почте, — какая тут, черт побери, связь?
— В этот вечер умерла жена детектива Кардинала, — пояснил Скофилд. — Еще раз приношу вам свои соболезнования, детектив. Я упомянул об этом лишь потому, что меня вынудили к этому обстоятельства.
Битти сгорбился в кресле, но теперь он перенес весь свой вес вперед и громадным торсом навалился на стол.
— Вы хотите сказать, что заехали туда по пути к нам и получили три свидетельства в защиту клиента, которому еще даже не предъявили обвинение? Никто ни слова не сказал о возможности убийства — во всяком случае, вам. По крайней мере, пока.
— Безусловно, мистер Битти. Но, как только вы мне позвонили, у меня сразу же возникла мысль, что у подобного неприятного стечения обстоятельств может быть лишь одна причина. Я давно знаю детектива Кардинала и много раз безуспешно пытался опровергнуть собранные им доказательства, так что я успел проникнуться к нему глубоким уважением.
И если детектив Кардинал тратит столько сил, чтобы отправить моего еще не до конца реабилитировавшегося клиента обратно в тюрьму, то у него явно имеются на это и еще какие-то более веские причины, чем не совсем разумное использование кем-то почтовой корреспонденции. На прошлой неделе я по самым разным поводам бывал в уголовном суде, и до меня дошли там весьма многозначительные слухи.
— Слухи? — откликнулся Кардинал. — О том, что я съехал с катушек? Что я спятил от горя и не могу адекватно воспринимать реальность?
— Ничего даже отдаленно напоминающего столь грубые вещи, детектив. Слухи, что коронер был молод и неопытен, что специалист — или, в данном случае, специалистка — постарше могла бы потребовать расследования.
Кардинала слегка (пусть и не очень сильно) тронул этот намек на возможную поддержку, на то, что он не один.
— А кроме того, — продолжал Скофилд, — поговаривали, что детективу Кардиналу приходится в одиночку совершать этот подвиг — разыскивать того или тех, кто, возможно, причастен к этому преступлению, если оно действительно имело место. И при данных обстоятельствах я вполне могу это понять. Вот почему мне показалось вполне вероятным, что мой клиент стал жертвой ошибочного суждения со стороны нашего детектива — объяснимого суждения, если учесть обстоятельства, но тем не менее ошибочного.
И я надеюсь, что эти показания изменят ваш взгляд на дело.
— Вы не видели то, что он мне посылал, — заметил Кардинал и толкнул к нему по столу открытки.
Скофилд осмотрел их, не дотрагиваясь, словно они были чем-то заражены.
— Это, безусловно, самый омерзительный текст, какой я когда-либо видел на бумаге, — заключил адвокат.
Вступил Битти:
— Погрешности печати принтера на открытках совпадают с погрешностями печати на счете, который Джон получил из похоронного бюро. Роджер ведет их бухгалтерию.
— Восхитительно, — отозвался Скофилд. — Мерзость и глупость здесь сочетаются, так часто бывает. В данном случае глупость доходит до того, что автор этих посланий, по всей видимости, хотел, чтобы его поймали. Между тем в свете полученных нами показаний…
Кардинал встал:
— Дайте мне с ним поговорить.
— Я не могу допустить, чтобы на данном этапе вы задавали ему вопросы. Во всяком случае, в мое отсутствие.
— У меня нет к нему вопросов. Можете посидеть снаружи и посмотреть.
Кардинал провел их обоих в маленькую кухню. Здесь стояли автоматы с кока-колой и сладостями; тут имелся также телеэкран, показывавший то, что происходит в комнате для допросов.
Затем он велел привести Фелта из камеры и усадил его за стол в допросной.
— Здесь мой адвокат, — нервно заявил Фелт. — Вы не имеете права задавать мне вопросы без моего адвоката.
Кардинал одну за другой выложил перед ним открытки в их пластиковых папках, развернутые так, чтобы можно было прочесть враждебные послания. Рядом он положил счет из похоронного бюро.
— Я получил ваши открытки, — тихо произнес он.
— О господи! — выдохнул Фелт.
Он посмотрел на открытки, потом посмотрел на счет.
— О господи, — повторил он. И, к удивлению Кардинала, разрыдался. Поначалу он пытался спрятать лицо, наклонившись вперед и накрыв глаза обеими руками. Но потом, продолжая плакать, он откинулся назад, слезы ручьями лились по его лицу, и он даже не старался их вытереть.
Он попытался заговорить, но из его рта вылетали только какие-то нечленораздельные обрывки.
Кардинал ждал.
Наконец Фелт нашел на столе коробочку «Клинекса», вытер лицо, высморкался. Он наклонился вперед, оперся лбом на руку и молча покачал головой. Дышал он по-прежнему прерывисто. Он начал было говорить, но тут его опять стали душить слезы, и Кардинал подождал еще.
В конце концов он успокоился. Кардинал дал ему воды в пластиковом стаканчике.
— Простите меня, — выговорил Фелт. — У меня даже слов нет. Простите.
— Забавно, как перспектива сесть в тюрьму побуждает человека к извинениям.
— Это правда, меня ужасает мысль о том, чтобы вернуться в тюрьму. Но я не поэтому прошу прощения. Я просто… увидел вот эти слова… Увидел их вашими глазами. Рядом со счетом за похороны вашей жены…
Его речь опять прервали рыдания, и ему пришлось умолкнуть. Еще одна салфетка. Очередной глоток воды.
— Я в таком ужасе от того, что натворил. — Он умоляющими глазами поглядел на Кардинала. — Вы когда-нибудь делали такое… что-нибудь, от чего готовы были сгореть со стыда? И не хотели, чтобы кто-нибудь об этом узнал? — Он показал на открытки. — Это… это… это отвратительно. Как человек может сделать такое с другим человеческим существом? А я это сделал, и все равно я не могу ответить на вопрос: как кто-нибудь может так поступить с другим человеком?
Он немного повсхлипывал, снова покачал головой. Перед его рубашки намок, словно он попал в грозу.
— Жена ушла от меня, после того как я год пробыл в тюрьме, — сообщил Фелт. — Забрала с собой дочерей. У всех у них я вызывал омерзение. Думаю, в конце концов я признал собственную вину. Думаю, я перестал винить всех остальных в том, что я все потерял. Но на прошлой неделе я делал бухгалтерию для Десмондов и набрел на вашу папку. Там, где было про вашу жену. И не знаю, что на меня нашло.
— Это называется «месть», — пояснил Кардинал.
— Видно, так оно и было.
Покрасневшие глаза Фелта снова уставились на него. В них уже не было ни мольбы, ни жажды понимания. Только безмерная усталость.
Кардинал и сам безмерно устал. Он хотел бы сейчас спать дома, вот и все: как можно дальше от полицейского управления. Он встал, подошел к двери, открыл ее и придержал.
— Видимо, мне назад в камеру, — предположил Фелт.
Кардинал покачал головой:
— Вы свободны, можете идти.
— Правда? — Фелт обвел глазами комнату, словно тут могли быть какие-то другие люди, наблюдающие, клюнет ли он на этот розыгрыш. — Вы хотите сказать, я могу уйти домой?
Кардинал вспомнил жуткую комнатку с плиткой и кривыми стенами, где полностью отсутствовало что-нибудь хотя бы отдаленно похожее на любовь. «Домой». Тот еще дом.
— При одном условии, — заметил Кардинал.
— Любое условие. Правда. Скажите.
— Прекратим нашу переписку.
25
Доктор Фредерик Белл считал себя спокойным, рассудительным человеком, и его беспокоило, что в последнее время он все сильнее впадает в возбуждение. Он винил в этом Кэтрин Кардинал. Все могло кончиться совершенно по-другому, и всем было бы от этого только лучше, так нет же. Поднеся руки к лицу, он заметил, как у него дрожат пальцы. Так не годится. Он не может себе позволить утратить самообладание.
Доктор Белл нажал на кнопку «Воспроизвести», и тут же дрожь пальцев чуть унялась. У него был DVD-рекордер «Аркам», шедевр британской техники с жестким диском на сто гигабайт, возможностью делать закладки и с автоматическим разархивированием. К тому же он работал почти бесшумно: немаловажное условие для сеансов психотерапии.
Но самой лучшей частью устройства была цифровая видеокамера «Кэнон» размером чуть больше мяча для гольфа, очень удачно спрятанная в бра возле книжных полок. Широкоугольный объектив (произведение Карла Цейса) мог вести одновременную съемку врача и пациента без искажений. Чудесный микрофон размером с ластик, ловящий звуки сразу со всех сторон, был запрятан в висевшей над журнальным столиком люстре, образце ремесленного искусства. Звукозаписывающая программа, в частности, позволяла устанавливать микрофон на достаточно большом расстоянии от говорящего, и качество звука доставляло доктору Беллу глубочайшее удовольствие при прослушивании.
Сейчас он смотрел начало. Делая свои первые записи, он не включал систему, пока не кончатся обычные вступительные приветствия и заминки. Но теперь он фиксировал свои сеансы целиком.
Он наблюдал, как Перри Дорн входит в кадр и садится, как свет из окна сквозит через его редеющую шевелюру. Он слушал вежливый обмен репликами, и его возбуждение нарастало. Потом в беседе наступил перерыв; пациент на экране был настолько неподвижен и молчалив, что доктор Белл подумал, уж не нажал ли он случайно на паузу.
Каждый психотерапевт должен научиться использовать перерывы, возникающие в ходе беседы. Некоторые полагают, что, если пациент находится в нерешительности, врач не должен побуждать его высказаться. Пять минут, десять, пусть потратят хоть пятьдесят, если им хочется. Ты должен продвигаться с той же скоростью, что и пациент, не быстрее.
Другие специалисты не позволяют, чтобы пауза в беседе затянулась дольше чем на минуту. Пациент может неверно истолковать ответное молчание врача как проявление враждебности, ему может показаться, что доктор как бы отпускает его на волю волн. Возможно, оптимальная реакция врача в таких случаях — мягкий вопрос, без особого углубления в какие-то проблемы; или же можно негромко резюмировать то, на чем они остановились на предыдущем сеансе. Менее опытные врачи сразу спрашивают о «домашнем задании», которое они просили выполнить.
Первым нарушает тишину юный Перри. Бедняга Перри.
— Простите меня, пожалуйста, что я вам вчера позвонил, — произносит он. — Простите, что отвлек вас.
— Ничего страшного, — отвечает Белл. — Это вы меня простите, что в тот момент я не мог оказать вам больше внимания. Это просто было невозможно.
— Ну да, я понимаю. Я не ожидаю, что люди будут бросать все свои дела каждый раз, когда у меня депрессия. У меня было неприятное чувство насчет этого звонка. Я просто… я правда думал, что собираюсь это сделать, понимаете? Я правда думал, что собираюсь…
Сколько позволить длиться тишине? Проговорить ли его мысль за него? Или пусть он слушает, как она снова и снова раздается у него в голове? В детстве доктор Белл смотрел один фильм, старый эпос типа «мечи и сандалии», в котором на одного беднягу опустили гигантский колокол. Затем его мучители принялись бить по колоколу молотами. Когда громадину вновь подняли, из ушей жертвы текла кровь. Порой, когда хранишь молчание, это производит такой же эффект, что и тот колокол. «Убить себя», «убить себя», «убить себя» — эти слова звучат внутри черепа снова и снова.
А потом наступил эндшпиль. Белл наблюдал за ним, как чемпион мира по шахматам, вновь переживающий недавнюю победу. С того момента как он начал побеждать, каждый новый шаг открывал ему больше возможностей, больше ходов. Но для пациента, который проигрывал и который вообще не знал, что идет игра, каждый ход оставлял все меньше и меньше возможностей, и наконец выбора у него не осталось вовсе.
Доктор Белл на экране позволяет расцветать тишине.
Перри наклоняет голову.
Доктор Белл допускает, чтобы молчание наполнило всю комнату, точно газ.
Перри начинает всхлипывать.
Доктор Белл скользящим движением направляет к нему по столику коробочку с «Клинексом». Конь идет на d4.
Перри вытаскивает салфетку из коробочки и сморкается.
— Извините, — говорит он.
— Вы ощущали отчаяние, — формулирует доктор Белл. — Вы хотели убить себя.
Перри кивает.
— Но вы этого не сделали.
— Нет.
— Почему же?
— Струсил. Как курица. Курица в десятой степени, вот я кто.
Перри фыркает в знак самоуничижения. В результате ему требуется еще один «Клинекс».
Поразительно, до чего человек может быть полон ненависти к себе — и при этом по-прежнему разгуливать по земле, подумал доктор Белл. По всем признакам, Перри Дорн должен был разделаться с собой еще несколько лет назад, так нет же, он прозябает день за днем, месяц за месяцем, год за годом, упиваясь своими несчастьями.
— Разумеется, дело тут не только в трусости, — заявляет доктор Белл на экране. — Чего вы боитесь — помимо всего прочего?
Пожатие плечами:
— Боли. Например, боли. А еще — что я промахнусь и просто сворочу себе лицо, но не убью себя.
— Думаю, такое может случиться, если не проявить должной тщательности. Но, вероятно, в вашем плане вам видятся еще какие-то нестыковки?
— Не понимаю, о чем вы.
— К примеру, что подумает Маргарет, если ей случится узнать, что вы покончили с собой?
— Честно?
— Честно.
Перри задумывается:
— Ну, наверное, сначала она расстроится.
— А потом? В долгосрочной перспективе?
— В долгосрочной перспективе ей, наверное, будет наплевать. Она это воспримет как еще один признак моей…
— Неполноценности?
— Точно. Моей неполноценности.
— Ей будет приятно, что она от вас избавилась.
— Точно. Так, как будто она сделала верный ход, когда меня бросила.
Суицид как месть, подумал тогда доктор Белл, но не произнес этого вслух. Если бы он высказал это наблюдение, скрытая мотивация всплыла бы на поверхность. Перри мог бы ее исследовать и, возможно, даже отвергнуть ее. Разумеется, если ваша задача — любой ценой сохранить пациенту жизнь, в данном случае правильнее будет высказаться.
— Вы хотите, чтобы она узнала, что она с вами сделала. Как она разрушила ваше счастье.
— Точно, точно. Раньше я таким не был!
У Белла с самого начала имелись сомнения на сей счет, и с тех пор они никуда не делись. В семье у Перри уже был случай самоубийства, его близкие принимали антидепрессанты. У него была вспыльчивая мать, а сестра была смышленее, чем он.
— У вас с тех пор появлялись какие-нибудь другие мысли насчет того, как изменить положение вещей? Чтобы, так сказать, усилить эффект.
— Слушайте, — говорит Перри, и на лице у него почти брезжит улыбка. Почти. Перри никогда по-настоящему не улыбался в кабинете доктора Белла. — Считается ведь, что вы должны меня от этого отговаривать?
— Безусловно, я не намерен вас ни к чему призывать. Моя работа состоит в том, чтобы помогать вам распознавать определенные устоявшиеся схемы в вашей жизни. И анализировать ваши чувства по отношению к ним. И помогать вам найти альтернативы тем схемам, которые причиняют вам столько страданий.
— Например, такая схема: меня бросают женщины, перед которыми я преклоняюсь.
— Это одна из них. Вы очень резко выразились, но это как раз одна из таких схем.
— Или взять мою привычку разрушать все хорошее, что появляется в моей жизни. Университетское будущее и тому подобное.
— Опять же — вы резко выразились.
— Знаете, я тут думал о том, что вы мне сказали еще давно. Когда я первый раз сюда пришел. Вы сказали: «Мы можем найти счастье в работе. Или же найти счастье в любви». И лишь немногим счастливцам, сказали вы тогда, удается найти счастье и в том и в другом. Наверное, всяким кинозвездам и прочим.
— Но я также заметил, что вполне возможен и даже весьма распространен вариант, когда вы обретаете счастье в одном, но не в другом. Многие довольны своей работой, но проклинают свой брак. Или наоборот. И при этом им удается вести полноценную жизнь.
— Именно! Тогда вы так и сказали. И еще вы сказали, как трудно двигаться дальше, если не нашел счастья ни в любви, ни в работе. И вчера я понял, что это как раз про меня, это меня описывает до последнего знака после запятой. Я хочу сказать, теперь это так ясно. Мне нравилось быть студентом, но я и представить себе не могу, как поеду учиться в Мак-Гилл, а Маргарет останется здесь, в Алгонкин-Бей. Моя карьера дипломника завершена.
— И вы лишились одного источника счастья.
— Точно. А потом Маргарет меня бросила.
— И вы лишились другого источника.
— Тогда зачем все это продолжать? Я хочу сказать — если рассуждать логически. Я не собираюсь плакаться, добиваться сочувствия и прочее. Я просто говорю, что, получается, в моем существовании больше нет смысла. Количество источников счастья равно нулю. Для счастья я — как черная дыра. Что толку оставаться живым? Я постоянно мучаюсь, вот и все.
— Я не могу дать ответ за вас, Перри. И никто не может. Все мы должны сами находить себе причины для существования. Я имею в виду — если бы вы действительно меня попросили, я бы мог перечислить вам всевозможные доводы: вы молоды, вы хорошо выглядите, вы умны, положение вещей может перемениться, тучи разойдутся, наводнение отступит.
— Веселенькое щебетанье, я понимаю. Но я не хочу щебетанья.
— Не хотите.
— Я хочу правды.
— Знаю, что хотите. Вот почему я сказал, что вы не показались мне «слишком трусливым» для того, чтобы что-либо предпринять. Думаю, вы сумеете завершить то, на что настроились, чем бы это ни было. Вопрос лишь в том, как узнать, когда ваше сознание действительно на это настроится. Очевидно, вчера, когда вы не нажали на спуск, оно еще не было готово. Вас что-то не удовлетворяло. Маргарет не узнала бы, что все это — из-за нее.
— Да, так и есть. — Перри еще глубже вжимается в кушетку. — Ее ничем не проймешь, что бы я ни говорил, что бы ни делал. Похоже, я никогда ничего такого и не делал. Но она меня какое-то время водила за нос. Какое-то время я действительно думал, будто что-то для нее значу. Действительно думал, что существую.
Последовало длительное молчание; Перри зажал руки между колен и почти скрючился на кушетке. Лицо у него стало пустым, и каждый выступ его костистого тела, казалось, излучал отчаяние.
Доктор Белл остановил картинку. Большинство психиатров сочли бы Перри подходящим кандидатом для госпитализации и курса антидепрессантов. История болезни, настроение, комплекс идей и личные обстоятельства — все это подходило под заголовок «основания для госпитализации». Между тем не было совершенно никакой необходимости продлевать его страдания. Парень ломился в открытую дверь.
Доктор Белл снова запустил запись беседы.
— Вы сделали домашнее задание, о котором мы с вами говорили? — спрашивает он на экране. Ответа нет, и он окликает пациента: — Перри?
Перри шевелится.
— Я пытался.
— И что же произошло?
Перри лезет в карман и извлекает оттуда бумажный комок. Одним движением, словно из последних сил, он распрямляется и толкает комок по столу; тот катится в сторону врача.
Доктор Белл разворачивает и разглаживает листок.
— «Дорогая Маргарет», — читает он вслух. — Почему вы остановились после «дорогой Маргарет»?
— А какой смысл? Она не желает ничего обо мне знать. Она не желает знать, о чем я думаю. Она не желает знать, что я ее до сих пор люблю. Она хочет, чтобы меня не было в ее жизни. Вот почему, мне кажется, я должен избавить ее от хлопот и сам устраниться из ее жизни, это будет только к лучшему.
— И тем не менее вы этого не сделали.
— Пока нет. Какая-то часть меня боится, что, если я прострелю себе голову, они со Стэнли будут этому только рады.
— Вы действительно так думаете? — спрашивает доктор Белл. — Вы в самом деле считаете, что они будут этому рады? Давайте я выражу это иначе: как вы думаете, какой будет первая реакция Маргарет, когда она услышит новость про вас? И какой будет ее реакция, когда она получит вашу записку? Какой бы эта записка ни была…
— Наверное, потрясение. Она расстроится. Прежде всего потому, что испугается, что в этом обвинят ее. Но ее обвинять не станут. Все будут ее опекать, — всегда все так заботятся о Маргарет, — и будут ей твердить, что она не виновата. «О, ты была так к нему добра». «Бедная Маргарет, ты так старалась не причинять ему страданий». И окажется, что все проблемы были связаны только со мной. Что это во мне было что-то не так. У меня были предпосылки.
— А она им поверит?
— Еще бы. Она верит всему негативному, что обо мне слышит.
Наступает молчание.
Сейчас, когда доктор Белл смотрел этот диск, он чувствовал то же, что и тогда: он знал, что план самоубийства у Перри — некорректный. В нем не было того толчка, которого хотелось молодому человеку. Вообще это было похоже на подготовку театральной постановки. Вот здесь ужмем диалог, а вот эту сцену уберем. На экране доктор Белл сделал очередной ход: ладья идет на e1, и конь прощальной записки блокирует все прочие пути к отступлению.
— Кое-чего не хватает, — произносит доктор Белл на экране, вместе с креслом отклонившись назад и созерцая потолок, словно философ, размышляющий над смыслом жизни и ищущий слабые места в собственной теории. — Нет, что-то не так…
— Что? — Перри садится прямо, он похож на кота, заслышавшего дребезжание своей миски.
— Нет-нет. Ничего особенного. Так, мелькнула мысль…
— А что такое? Ну правда. Что вы хотели сказать?
— Видите ли, я просто задумался о прачечной-автомате. Когда вы начали встречаться с Маргарет, прачечная стала для вас каким-то символом. Вы сами сказали, что словно бы начали все с чистого листа. Помню, я еще подумал, какое это мудрое замечание. Никто из вас не нес в себе бактерий (уверен, что вы употребили именно это слово) прошлых романов. Вот я и подумал, что…
— Прачечная, — произносит Перри. И швыряет истерзанную салфетку на журнальный столик. — Да, уж на прачечную-то ей придется обратить внимание.
Большой палец доктора Белла нажал на паузу.
Мат.
26
За все время, что она работала с Кардиналом, Делорм ни разу не имела ни малейшего повода усомниться в здравости его рассудка. Но когда она услышала, как он привлек Роджера Фелта по подозрению в том, что тот убил Кэтрин, — а эта новость мгновенно облетела отдел, — она задумалась: может быть, от горя он переступил через край?
Но сейчас она не могла о нем долго думать. Где-то была двенадцати-тринадцатилетняя девочка, которая подвергалась ужасному растлению и, возможно, подвергается до сих пор, и это будет продолжаться, пока Делорм с помощью торонтского отдела по расследованию преступлений на сексуальной почве не сумеет ее отыскать. Вот почему она оказалась дома у Андре Ферье в воскресенье, в свой выходной.
Делорм ни для кого бы не могла стать идеалом домашней хозяйки. Бывали дни — а честно говоря, и целые недели, — когда у нее кучами скапливалось грязное белье, не мылись тарелки, а под мебелью собирались комки пыли, напоминающие перекати-поле. Ну что ж, когда живешь одна, никого не интересует, насколько регулярно ты убираешься. Так что она была не очень-то строга к чужим особенностям ведения хозяйства.
Но что касается дома Ферье… Что и говорить, семейство Ферье возвело беспорядок на небывалый уровень. Подъемные жалюзи у них были опущены, так что общий полумрак помещения прорезали полосы света, ударявшие скорее в потолок, чем в пол. Повсюду были зеркала, фотографии, всякие художественные штуковины. Но сам по себе беспорядок не был артистическим, в нем царила случайность и неудобство.
Словно для контраста, миссис Ферье представляла собой аккуратную, ухоженную женщину, чьи темные волосы удерживала на месте бескомпромиссная заколка, не позволявшая ни единой прядке выбиться. Она эскортировала Делорм в гостиную и буквально заставила ее сесть в кресло, задыхавшееся под лавиной подушек.
— О, извините, — произнесла хозяйка и в три приема сбросила их на пол, всякий раз набирая полную охапку. Затем, произведя необходимые раскопки, она освободила для себя место в середине дивана и уселась, причем ее ноги погрузились в сплошное облако подушечек, игрушек и спящих собак: ничего из этого Делорм не видела на тех фотографиях. Рядом с батареей храпел сенбернар, очевидно глухой как пень; серый пудель поднял бровь при виде Делорм и снова погрузился в сон, а коричнево-белая шотландская овчарка, похоже, просто не существовала. В воздухе явственно пахло псиной.
Делорм никогда не замечала у себя никакой аллергии, но тут у нее начался зуд.
— Итак, что вы там хотели спросить? — осведомилась миссис Ферье. Она резко отличалась от хаоса гостиной: в своем простом бледном свитере и синих джинсах она казалась какой-то обеззараженной. Тридцать лет с лишним, но было в ней что-то от человека постарше. Бездетной Делорм всякий, у кого были дети, казался невозможно старым.
Она рассказала миссис Ферье о пристани, о насильственных действиях.
— Знаете, я просто поражена. У нас совершенно точно не было там никаких проблем. Когда это случилось?
— Мы не уверены насчет точной даты, — ответила Делорм. Она не собиралась говорить: «Возможно, два-три года назад».
Затем она задала ей те же вопросы, какие задавала другим: о соседях, о возможных жалобах, о том, не замечал ли кто-нибудь чего-то подозрительного. Ответы тоже были в основном такими же, какие она получала раньше: соседи по пристани дружелюбные, но они с ними не близки; иногда случаются небольшие разногласия, но ей никогда и в голову не пришло бы, что это место может оказаться хоть в чем-то небезопасным.
Взгляд Делорм упал на фотографии, занимавшие целую стену.
— Чем занимается ваш муж, миссис Ферье?
— Он продавец автомобилей. В дилерском центре «Ниссана». Но это — его истинная страсть, — заметила она, помахав аккуратной рукой в сторону стены со снимками. — Андре — прирожденный фотолюбитель.
Сверху донесся взрыв телевизионных шумов: стрельба из лучевых пушек, лающие команды, имеющие отношение к оружию будущего. По лестнице простучали быстрые шаги, и в комнате объявилась девочка. На вид ей было лет семь-восемь, светлые волосы были собраны сзади в хвостик, из-за чего ее глаза казались чуть раскосыми.
— Мам, можно я схожу к Роберте? Тэмми и Гейл собираются.
— Я думала, это Роберта придет к нам.
— Ну пожалуйста, мам, пожалуйста!
Миссис Ферье посмотрела на часы.
— Ну хорошо. Только вернись к обеду.
— Ура-а!
Девочка исполнила коротенький танец и выскочила за дверь.
— Какая славная, — заметила Делорм. — Уверена, она вам не дает скучать.
— Слава богу, Сэди еще маленькая. Вот из-за ее сестры мы уже начинаем переживать. Вообще-то ей уже пора быть дома. У вас есть дети? Наверное, нет, судя по тому, в какой вы форме.
— Я не замужем, — ответила Делорм и подошла к стене, чтобы получше рассмотреть фотографии. Одновременно она попыталась заглянуть в соседнюю комнату, но дверь была наполовину притворена, к тому же за ней царил полумрак.
— Неплохие снимки, — заметила она. На снимках были яхты, люди, деревья, поезда, жилые дома, другие строения. По качеству они значительно превосходили ту порнографию, которую прислали из Торонто. Впрочем, это еще ничего не значило. Даже профессионал может снизить планку, если окажется в тисках похоти.
Миссис Ферье встала и подошла к ней; от хозяйки вдруг повеяло лимонным мылом.
— Вот Сэди, — проговорила она, указывая на четырехлетнюю девочку, сидящую верхом на сенбернаре. — Снято несколько лет назад, когда мы только-только завели Людвига. Уж как она издевалась над псом. Бедняге приходилось всюду ее возить, как будто он пони. Неудивительно, что теперь он все время спит, правда, Людвиг?
— Вы сказали, у вас есть еще одна девочка?
— Алекс. Алекс терпеть не может, когда ее снимают. Она даже сорвала свои старые фотографии, которые мы делали. В тринадцать лет подростки так… страстно ко всему относятся.
— А сейчас Алекс дома?
— Нет, в эти выходные она в Торонто, у своей двоюродной сестры.
Делорм услышала, как открывают входную дверь.
— А вот и Андре, — объявила миссис Ферье. — Он сумеет вам больше рассказать о пристани.
Из прихожей донесся громкий вздох, а затем — стук скинутой обуви.
— Господи, как я вымотался. — Это тоже из прихожей.
— Мы здесь, — крикнула миссис Ферье.
— Мы? — Мистер Ферье вошел и протянул руку Делорм. — Андре Ферье, — представился он, не дав своей жене возможности их познакомить.
— Лиз Делорм.
— Мисс Делорм — детектив, — объявила миссис Ферье. — Она расследует что-то, что случилось на пристани. Какое-то насильственное преступление.
— На пристани? Господи, а против кого было насилие? Хотя вы, наверное, не имеете права мне говорить.
— Не имею. Вы будете не против, если я задам вам несколько вопросов, мистер Ферье?
— Конечно-конечно. Если я смогу вытянуть ноги. Только что сделал девять лунок в Пайнгроуве, все ноет.
— Разве сейчас не холодновато для гольфа?
— Это вы моему шефу скажите. Он просто фанатик. Дорогая, у нас есть лишняя диетическая кока-кола или еще что-нибудь для нашего детектива?
— Ничего не надо, — возразила Делорм. — Все в порядке.
Андре Ферье расположился среди диванного хаоса. Он был умеренных пропорций, широк в плечах, в лучшей форме, чем можно было бы ожидать от продавца. Недлинные каштановые волосы едва прикрывали его уши и воротник.
Возможно, решила Делорм. Не исключено, что это и есть тот тип с фотографий, только сейчас волосы у него короче. Она хотела увидеть его яхту, увидеть ее сейчас же, но она не желала, чтобы он насторожился. Она снова запустила свою серию вопросов. Она уже натренировалась задавать их так, чтобы создавалось впечатление, будто она суживает круги вокруг насильственных действий, которые могли иметь место во время какой-то разнузданной вечеринки, возможно — среди разбушевавшихся подростков.
Отвечая на вопросы, мистер Ферье лениво потягивал свое питье. Казалось, все это его совершенно не встревожило.
— Вы много времени проводите на ногах? — вдруг спросил он. — Вам часто приходится стоять при вашей работе?
— Сейчас уже нет, — ответила Делорм. — В этом главное преимущество, когда перестаешь носить форму.
— А я почти весь рабочий день топчусь в салоне, разговариваю с клиентами. Вы поразитесь, насколько это изматывает. Видимо, потому-то шеф и заставляет нас все время играть в гольф. Прирожденный садист.
— Но я вижу, что у вас есть и собственное хобби, — заметила Делорм.
— Какое? А, фотографии. Ну да, обожаю снимать. Для меня идеальное времяпрепровождение — отправиться куда-нибудь, где я никогда раньше не был, с двумя аппаратами на плече, и щелкать весь день.
— Теперь ты этого почти не делаешь, — вставила миссис Ферье. — Тебе надо бы почаще выбираться.
— С детьми это труднее, — пояснил Ферье. — Им неохота торчать рядом, пока ты ловишь кадр, подбираешь объектив и прочее. Не говоря уж о том, чтобы наблюдать, как ты много раз снимаешь одно и то же. Но действовать надо именно так. Когда видишь что-то, что тебе хочется снять, щелкай столько раз, сколько необходимо. Пленку беречь незачем.
— Вы сказали, два аппарата? Пленочные или цифровые?
— Только сейчас перехожу на цифру. Честно говоря, технологии пока еще не на высоте. Чтобы добиться результатов того уровня, какого мне хочется, надо потратить тысячи долларов на один аппарат, который года через два все равно устареет. У меня есть небольшая цифровая «мыльница», но я ношу с собой два аппарата не поэтому, а чтобы не надо было все время менять объективы. Обычно на одном у меня стоит широкоугольный, а на другом — телевик. Маленький трюк, я его узнал от своего великого учителя.
— А разве нельзя просто использовать «зум»?
Ферье поморщился:
— Тяжелый. Неуклюжий. Слишком много стекла.
— И вы сами проявляете и печатаете?
— О да. Только так можно обеспечить хоть какой-то контроль.
— Мистер Ферье, вы очень поможете расследованию, если позволите мне взглянуть на вашу яхту.
— Стоп, погодите. Вы думаете, кого-то избили у нас на яхте? Извините, но это полный бред, детектив. Никто никогда на нее не входит, кроме нас.
— Даже когда вас нет?
— Когда нас нет — тоже. Мы там приглядываем за посудинами друг друга. Если я скажу Мэтту Мортону или Фрэнку Раули, что собираюсь отъехать, они уж проследят, чтобы никто не баловался с яхтой.
— Но это же не как с домом, ваши соседи не всегда там.
— Верно. Но там есть всевозможные системы безопасности. Приходится их ставить. Несколько лет назад туда залезали, вот и завели камеры.
— Безусловно, вы имеете право подождать, пока выпишут ордер на обыск, — проговорила Делорм, вставая. — Миссис Ферье, спасибо вам за помощь.
— Мне кажется, Андре не имел в виду, что вам нельзя посмотреть яхту, правда, дорогой?
— Да в общем-то нет. Не совсем так. Я просто думаю, что это будет напрасная трата времени, вот и все.
— Даже если нам удастся всего лишь исключить вашу яхту из числа возможных мест преступления, это будет полезно, — заявила Делорм. — Сейчас нашу работу затрудняет то, что большинство яхт уже не на воде. Где вы держите свою зимой?
— Пристань Четвертой мили. У другого берега озера. Там куда больше места, а цены гораздо ниже.
— Это надо съехать с Айленд-роуд?
— Двигайте по Айленд. Сверните направо на Ройал. Проедете с полкилометра — увидите указатель. Пропустить его никак нельзя. Я их предупрежу, что вы появитесь.
Айленд-роуд — в четырех милях к северу от города, к ней ведет Шестьдесят третье шоссе. По пути Делорм пришлось миновать Мадонна-роуд. Несколько сотен ярдов эта дорога шла рядом с шоссе, следуя изгибу восточного берега Форельного озера. Виднелся дом Кардинала — темный прямоугольник под яркими облаками разноцветных листьев. Интересно, подумала она, его дочь еще здесь или уже уехала в Нью-Йорк?
В отсутствие Кардинала работа была не та. Делорм нравилось работать ногами, закрывать все дыры и своевременно представлять отчеты. Кардинал же, как только удавалось, сразу выделял главное — и почти никогда не ошибался. Затем он мог сделать шаг назад и закрыть все дырки, в точности как Делорм. «Когда вы работаете вместе, — заметил как-то Шуинар, — вы вдвоем в сумме можете составить очень приличного следователя».
Двое экспертов жили в своем собственном мире. Что касается Желаги, то он был ужасный болтун: находиться с ним рядом было все равно что сидеть при включенном приемнике. Маклеод всегда считал нужным оповестить всю вселенную о своем мнении, и его мнения всегда были невыносимы. Не реже раза в день Делорм молилась о том, чтобы то или иное его сексистское, или расистское, или человеконенавистническое высказывание оказалось всего лишь шуткой. Пока Кардинал был рядом, она не осознавала, как он сглаживал все эти противоречия в отделе.
Она свернула на Айленд-роуд, думая о том, как там справляется со своим положением Кардинал. У нее никогда не было мужа, соответственно она его и не теряла, но она помнила, как горевала после смерти матери. С тех пор прошло уже двенадцать лет. Делорм тогда училась в Оттаве, в Карлтонском университете. Но она до сих пор помнила, какая это была боль — день за днем, неделями, месяцами. Она надеялась, что скоро Кардинала хоть немного отпустит.
И ее посетило видение. Ей представилось, как она ужинает с Кардиналом в роскошном ресторане. Почему-то в Монреале. А потом они гуляют по горе Маунт-Ройал, а внизу раскинулся город. Она обнимает его, просто чтобы его утешить, а он тоже начинает ее обнимать, и в сердце у нее шевелится нечто большее, чем просто дружба.
— Бог ты мой, Делорм, — произнесла она вслух и ударила по тормозам. Оказывается, она пропустила поворот на Ройал-роуд. Она подала назад, вызвав протестующие гудки надвигающегося джипа, и вкатилась на грязную дорогу.
«Пристань Четвертой мили: продажа, обслуживание, хранение судов». Указатель появился раньше, чем она ожидала: у въезда на аллею, достаточно широкую, чтобы по ней можно было провезти и яхту, и прицеп.
Молодой человек в рабочих штанах и изящных спортивных туфлях провел ее к лодочному ангару. Строение напоминало гигантскую стойку для обуви, дверями служили раздвижные металлические створки. Оно было двухэтажное, и Делорм рада была узнать, что яхта Ферье зимует на нижнем уровне.
— Побегу обратно в контору. — сказал парень. — Кликните меня, если что понадобится.
— Обязательно. Спасибо.
Здесь было совершенно пусто. Начался легкий дождик, забарабанил по рифленой жести, усилил запахи сосен и влажной опавшей листвы. Делорм отперла висячий замок и толкнула вверх штору. Нашла выключатель и щелкнула им.
Яхта возвышалась на своем прицепе, из-за чего казалась громадной. Один корпус, похоже, был высотой футов шесть; он весь был покрыт слепяще белым стеклопластиком. Кабина наверху была увенчана антеннами, прожекторами и спутниковой тарелкой.
Делорм поднялась на прицеп, а потом ступила на маленькую хромированную лесенку, прикрепленную к носу судна. Когда ей удалось заглянуть на палубу, она помедлила. Вся палуба, за исключением деревянной оснастки планширов (если это был правильный термин), была укутана матовым пластиком, который был закреплен с помощью желтых шнуров, продетых в боковые кренгельсы.[40]
Прошло десять, пятнадцать минут, а Делорм все возилась с узлами. Наконец ей удалось ослабить натяжение покрытия и немного оттянуть его, чтобы можно было залезть на палубу яхты.
Она выпрямилась и осмотрелась, глядя на деревянный пол, на полированную деревянную оснастку. Она вскарабкалась в верхнюю кабину и осмотрела деревянный штурвал, окруженный латунными деталями. Ближе к носу имелись вращающиеся сиденья с красной натяжной обивкой, стоявшие спинка к спинке. Это была яхта с той фотографии.
Она шагнула назад на палубу, села на нижнюю ступеньку. Здесь он сидел, когда делал этот снимок. А девочка, которой тогда было не больше десяти-одиннадцати лет, сидела на заднем сиденье, обращенном лицом к носу. «Сессна» Фрэнка Раули тогда была справа, на юге. Подобно режиссеру, Делорм выстроила кадр, держа перед глазами пальцы, сложенные прямоугольником. Да, самолет вполне мог попасть в угол снимка. Несмотря на то что он очень старался сохранить анонимность, фотограф был так захвачен своим порнопроектом, что упустил опознавательную деталь — номер на хвосте у самолета.
Итак, у нее было место преступления, по крайней мере одно из них, и она подбиралась все ближе к преступнику. Но больше всего ей сейчас хотелось найти его жертву.
27
Вытирая руки, доктор Белл вышел из ванной на первом этаже. Незачем было их особенно отдраивать, он ведь не хирург, но он приобрел эту привычку много лет назад, еще когда только обучался медицине. Перед приемом он всегда мыл руки. Для этой цели он держал самый мягкий сорт мыла: «Кэсуэлл-Мэсси», глицериновое, со слабым ароматом миндаля.
Этот ритуал помогал ему не утратить самообладание, а сейчас ему это было необходимо, ибо в последнее время он был, похоже, несколько не в себе. Становилось все труднее сохранять невозмутимость, в сознание вторгались непрошеные мысли. Он даже стал замечать, что иногда стискивает руки, словно готовясь вынудить некоторых пациентов к капитуляции.
Он позвал Дороти, выкрикнул ее имя, но тут вспомнил, что она ушла на целый день, и он в жизни не вспомнит, куда именно. Старость не за горами.
Он открыл дверь в «общественную» часть дома. Мелани сидела на своем обычном месте, хотя и не в привычной подавленной позе. Она читала «Торонто лайф», который, видимо, принесла с собой. Доктор Белл взял «Нью-йоркер».
Мелани так погрузилась в статью, что даже не сразу подняла глаза. Белл заподозрил, что сейчас она в сравнительно хорошем настроении. Интерес к окружающему миру всегда служит симптомом ослабления депрессии.
— Привет, Мелани, — проговорил он.
— О, здрасте. — Она сунула журнал в рюкзак и прошла за ним в кабинет.
— Ничего, если я для разнообразия посижу вот здесь? — Она указала на кресло рядом с кушеткой.
— Конечно.
Мелани плюхнулась в кресло.
— Уже когда я вижу эту кушетку, на меня сразу нападает депрессия, вот я и подумала, почему бы мне не сесть туда, где могут сидеть люди, у которых ее нет.
— Понимаю.
— Я хочу сказать — я так от себя устала. Устала от своего нытья и вытья. Думаю, это отчасти потому, что я вижу себя каким-то жалким человеком — безнадежным пациентом, который плачется на кушетке у аналитика, — вот я и подумала: может, для разнообразия перестать это делать?
— Так сказать, посмотрели свежим взглядом.
— Точно. Именно так. Я сегодня хорошо себя чувствую. Ну, то есть лучше.
— Да, я вижу. Поэтому вы и попросили о дополнительном сеансе?
— Ага. Я должна вам сообщить одну важную вещь, но сначала я вам хочу рассказать все эти наши обычные штуки.
— Разумеется. Изложите мне ваши новости, Мелани.
Все стороны ее поведения стали как-то ярче. Великие актеры умеют инстинктивно понимать физиогномику эмоций. Белл же был в этом специалистом отчасти благодаря инстинкту, отчасти же благодаря длительным исследованиям. Юная Мелани была сейчас почти карикатурным олицетворением — нет, слово «счастье» тут не совсем подходит, — смеси облегчения и воодушевления. Это было видно по непривычному оживлению ее черт: скобки ее бровей подскакивали над очками, а не хмурились наподобие мохнатой буквы V, как это обычно бывало. Жесты стали более размашистыми: маленькие ладони так и летали вокруг ее тела во всевозможных направлениях, когда она описывала ему свою прошедшую неделю. Это было видно по свободной манере, с которой она закинула одну ногу на другую, положив лодыжку на бедро: обычно она стискивала ноги, точно защищаясь. Разговаривая, она двигала коленкой вверх-вниз. Он ощутил в себе волну разочарования и жестко подавил ее.
— Мне тут даже удалось за последние два дня прочесть целый роман, — похвасталась Мелани. — Знаете, я сильно отстала по английской литературе, но тут вдруг меня понесло. И все из-за этой вещи Э. М. Форстера,[41] я буквально не хотела, чтобы она кончалась. Мне очень понравились персонажи, понравились описания, а еще мне понравилось в кои-то веки не думать о себе.
— Вы переключили сознание с себя на другие вещи.
— Именно так. И просто потрясающе, до чего это оказалось легко.
Наклонившись вперед, она откинула свои длинные волосы на одну сторону. Волосы были только что вымыты, отметил Белл. Эту ее мордочку, как у мокрой крысы, словно бы закрасили, и теперь перед ним сияло вдохновенное лицо.
— Самое потрясающее насчет этой книги, — а я ее все откладывала и откладывала, потому что боялась, что я ее не осилю, и это меня вгонит в депрессию, — так вот, самое потрясающее: оказалось — ее легче читать, чем не читать. Понимаете, о чем я? Я была в таком ужасном состоянии из-за того, что запустила предмет, из-за того, что все откладывала эту книгу, ждала подходящего момента, чтобы за нее взяться, и чувствовала себя виноватой и подавленной. Но как только я начала читать, все покатилось так гладко.
— Приятно слышать, — отозвался доктор Белл. — У вас есть какие-нибудь мысли по поводу того, чем вызваны такие изменения?
— Это-то и забавно. Со мной случилась одна вещь, которая должна была бы меня ужасно расстроить, но этого не произошло. Ну, то есть эта штука произошла, но не так, чтобы меня расстроить. Я никому об этом не рассказывала и…
Белл выжидал.
Мелани набрала побольше воздуха, узкие плечи опали.
— Я не сказала маме. Я даже Рэчел не сказала…
Рэчел была ее соседкой по пансиону, а когда-то — и лучшей подругой. Мелани уже поведала Беллу много такого, чего она никогда не открыла бы Рэчел, да и своей матери, если уж на то пошло. Вот и сейчас она ему расскажет.
— Я видела Ублюдка, — объявила она.
— Вот как? Вы видели вашего отчима?
— Бывшего отчима. Я не могу его так называть. Я по-прежнему буду называть его Ублюдок, потому что он такой и есть.
— Называйте его, как хотите. Но мне казалось, что он переехал.
— Да, но не очень-то далеко. В Садбери.
— Где вы с ним встретились?
— В Алгонкинском торговом центре. Он как раз выходил из радиоотдела. Я выходила из аптеки, а он — из радиоотдела. Не верится, что он опять в нашем городе.
— И тем не менее вы говорите, что это сделало вас счастливее?
— Я так сказала? — Она посмотрела на него непонимающими глазами. — Наверное, сказала.
— Это человек, который над вами неоднократно издевался. Который долгие годы использовал вас в качестве секс-игрушки. Как вы можете объяснить, почему вы почувствовали себя счастливее, когда его увидели?
— Я неточно выразилась. Я не испытала счастья, когда его увидела. На самом деле поначалу это было как удар ногой в живот. Я чуть не согнулась пополам. Но потом я пошла за ним. Он на меня не смотрел. А если бы и посмотрел, то, может, даже не узнал бы. Но я отправилась за ним на стоянку. И смотрела, как он садится в машину. Больше в ней никого не было. Я записала номер.
— Почему вы это сделали?
Одна из ее рук перестала летать в воздухе.
— Не знаю. Я об этом не думала. Сделала, и все. Достала ручку и записала номер машины на руке. Ну не странно?
— Вы считаете, что это странно?
— Ну, не то чтобы странно… Но я это сделала совершенно инстинктивно. И сердце у меня все время так и колотилось. — Она побарабанила кулачком по груди. — Бум. Бум. Бум. Я его буквально слышала. А когда он выехал с парковки, я последовала за ним. Ну не дико?
— Продолжайте.
— Я ехала за ним до самого его дома. Он живет в такой кирпичной штуковине, типичный пригородный дом. Большой гараж и все такое. Я наблюдала, как он паркуется на подъездной аллее. Я остановилась на дороге, немного позади, и стала озираться — притворилась, будто ищу какой-то дом, или улицу, или еще что-нибудь. Но я видела, как он вошел в дом. Так что я знаю, где он теперь живет. Сначала я хотела позвонить маме и все ей про это рассказать, но потом передумала. Она бы слишком расстроилась. Она даже имя его слышать не в состоянии.
Так что я не стала звонить маме. Я сразу отправилась к себе в пансион и поставила новый диск «Радиохэд».[42] Сидела на краю кровати и слушала его, с начала до конца.
— А о чем вы в это время думали?
— Ни о чем. По-моему, я тогда вообще ни о чем не думала.
— Как вы себя чувствовали?
— Хорошо. Ну, то есть лучше. Как будто… ну не знаю… как будто огромное резиновое кольцо, которое меня все время сжимало и выдавливало из меня жизнь, вдруг разжалось. И я снова могу дышать. — Она изучающим взглядом посмотрела Беллу в лицо. — С чего бы это, а?
— Ну, ведь в каком-то смысле он вам нравился, помните?
— Наверное, да.
— Он был очень притягательным. Он добился того, чтобы вам понравиться, чтобы вы ему доверяли. Он возил вас по всяким замечательным местам.
— Это правда. Он меня возил в «Волшебный мир».
— И посмотреть на Музыкальный парад,[43] вы мне сами рассказывали. Такие вещи не могут не понравиться девочке.
— Но мне совсем не поэтому стало хорошо, после того как я его встретила.
— А почему же? Вы можете мне сказать?
Разумеется, он сам знал почему. Мелани увидела своего отчима, и в результате с ней, скорее всего, произошли две вещи. Во-первых, его масштаб сократился до нормального: в ее воображении он перестал быть гигантским монстром. Он стал обычным человеческим существом, мужчиной, который покупает батарейки в радиоотделе, который садится в машину на стоянке, подобно всем остальным. Это было хорошо, Белл мог с этим работать. Это не был тот рецидив, которого он опасался. Но было и еще что-то: сейчас она как раз пыталась это выразить.
— А ваш отчим вас видел? — поинтересовался он. — Вы сказали, что последовали за ним на стоянку. Он видел вас?
— Нет. — Сказано с подчеркнутой уверенностью. Без малейших признаков сомнения.
— Вы видели его, но он вас не видел. Что вы в связи с этим почувствовали?
— Что у меня есть перед ним какое-то преимущество.
Белл кивнул.
— Я как будто наблюдала за птицей или еще за кем-то таким. Но при этом я чувствовала страх. Сердце у меня стучало, я говорила. Но какая-то часть меня совсем ничего не боялась. И вообще часть меня чувствовала себя очень неплохо.
— Как будто бы он был птицей, — проговорил Белл, — а вы были как…
— Кошка, — закончила она.
— Охотник, — произнес Белл.
— Именно так. В кои-то веки не за мной охотились, а я охотилась.
Она откинулась в кресле, довольная собой, расслабленная, с раскрытыми ладонями. Пусть насладится триумфом. Понятно и то, что у нее, возможно, даже созрел план атаки. Совершенно не в ее характере. Впрочем, это не изменит конечного результата. Искусство психотерапии — в том, чтобы помочь пациенту увидеть возможности, которые перед ним открываются, и позволить ему выбрать правильную.
Белл мог бы мягко привести ее на грань пропасти, чтобы она сама увидела: о да, еще один шаг — и все страдания прекратятся. Чтобы этого добиться, он должен сохранять спокойствие, хотя биохимия гнева снова заставила его сердце биться учащенно, а его дыхание стало быстрым и неглубоким. Перед ним возникло яркое видение: как он шлепает Мелани по лицу, как на ее щеке алеет след от его ладони; но он сделал глубокий вдох-выдох и взял себя в руки.
— Вы сейчас думаете о том, чтобы начать каким-то образом охотиться на вашего отчима?
— Вот мы сейчас тут с вами сидим, и я начинаю на него чудовищно злиться. Мне не помешало бы услышать от него извинения. Чтобы он как-то признал, что сделал мне больно.
Довольно скромные притязания, если учесть, что Мелани уже рассказала ему такие вещи, за которые ее отчима можно было бы на годы посадить в тюрьму. Если она решила стать охотницей, она может и добиться извинений, и неплохо отомстить. Но в итоге уменьшится ее собственное чувство вины, депрессия ослабнет, так не годится. Она станет всего лишь вечным нытиком, обузой для окружающих. Пока он позволит ей поболтать о письмах, которые она может написать, о звонках, которые она может сделать, но им стоит более детально обсудить события ее детства.
— Наше время на сегодня почти истекло, — заметил Белл, когда поток ее красноречия наконец стал иссякать.
— Я знаю. Мне всегда делается паршиво, когда наш час заканчивается.
— Я хотел бы, чтобы к следующей нашей встрече вы обдумали две вещи. Во-первых, вы не принесли мне обещанную записку.
— Про самоубийство? Я о ней забыла. Ну, то есть когда я увидела отчима, я совсем перестала про нее думать.
— И стали думать о том, что вы могли бы ему сказать.
— До сих пор думаю.
— Мы можем об этом поговорить. Но прежде всего я хочу, чтобы вы написали эту записку. Если вы хотите преодолеть депрессию, очень важно выразить ее словесно. Нужно, так сказать, назвать чудовище по имени.
— Я это сделаю. Обещаю.
— И второе. Сейчас вам кажется, что вы получили перевес над своим отчимом, что вам, возможно, удастся вырвать у него извинение. Пожалуй, это было бы даже хороню. Я мог бы принести вам десяток учебников, где говорится именно это. Но давайте не будем торопиться.
— А почему? Или вы думаете, что он не должен попросить прощения за то, что он сделал? Посмотрите на меня. Мне восемнадцать лет, и по утрам я едва могу встать, почти всегда. Половину времени я думаю, что лучше бы я умерла.
— Если бы я был хирургом, вы бы хотели, чтобы я чересчур спешил с операцией?
— Нет.
— Если бы у вас была раковая опухоль, разве вы просили бы меня сократить сроки химиотерапии? Даже если бы опухоль вызывала у вас тошноту?
— Нет, но я не уверена, что тут то же самое…
— Что ж, оставим это на ваше усмотрение, Мелани. Хирург здесь вы, а не я. Я лишь даю вам совет: будет лучше, если мы подробно рассмотрим то, что с вами совершил ваш отчим. В деталях.
— Чтобы я рассказала вам все детали? Господи. Теперь меня и правда тошнит.
— До тех пор пока вы не выразите их словесно, они будут иметь над вами власть. И потом, вы можете испытывать известную неуверенность по поводу того, за что именно он должен перед вами извиниться, в чем он, собственно, виноват. Я бы хотел, чтобы вы полностью прояснили для себя эти вопросы.
— Я понимаю, что вы правы. Это звучит очень разумно, только вот…
— Только вот?
— Мне было так хорошо, когда я сюда пришла. А сейчас мне так паршиво.
— Самопознание редко приносит хорошие вести. Но вы — сильная молодая женщина.
— Это вряд ли. Сейчас я себя чувствую просто ужасно.
— Итак. — Белл встал. — В следующий раз нам будет о чем поговорить. Во-первых, ваша записка, а во-вторых, подробный рассказ о том, чем вы занимались со своим отчимом. Если хотите, можете записать и его. Возможно, так будет легче, чем проговаривать все это в личной беседе, хотя, безусловно, нам придется обсудить и это.
— Не думаю, что я смогу сказать вслух хоть о чем-нибудь, что он со мной делал.
— Нет совершенно никакой необходимости спешить, — заверил ее Белл. — Мы будем продвигаться с вашей скоростью, не быстрее.
Мелани подобрала свой рюкзак и встала на ноги. Энергия из нее ушла; она снова выглядела, как вытащенная из воды крыса.
— Ладно, — произнесла она. — Тогда, наверное, до следующего раза.
— Пока, Мелани.
28
Доктор Белл просто старался ей помочь, Мелани это понимала. Он чудесный врач, несмотря на эти его смешные тики, когда он сутулится и начинает дергать головой. Она то и дело ждала, что он загавкает, точно большой пес. И у него стоял на столе такой прикольный старинный паровозик. Однажды он даже показал ей, как эта штука работает. Когда он называл все части и двигал рычагами, он был похож на самого лучшего в мире отца — такого, какого у нее никогда не было.
В общем, он честно пытался помочь, но Мелани хотелось бы, чтобы он не давал ей такое трудное домашнее задание. Как писать предсмертную записку, если ты в общем-то не собираешься кончать с собой? Недели три-четыре назад она бы ее без проблем накатала. Три-четыре недели назад ей помешало убить себя только то, что в ней совсем не было энергии.
Из коридора донесся смех ее соседок — Рэчел и Ларисы. Когда Мелани и Рэчел были помладше, они были неразлучными подружками, но за последние несколько лет Рэчел к ней как-то поостыла — конечно, из-за того, что Мелани вечно ходила такая удрученная. Рэчел и Лариса очень от нее отличались: душа нараспашку, вечно бегут на какое-то мероприятие или еще куда-нибудь.
Мелани начала изучать английскую литературу только на этом курсе, и теперь она решила отнестись к своей записке самоубийцы скорее как к литературному упражнению, чем как к психотерапевтическому. Когда она была близка к тому, чтобы вычеркнуть себя из мира, она сочинила несколько таких записок — у себя в голове. Иногда они адресовались матери, иногда — отчиму, иногда — ее настоящему отцу, которого она никогда не видела, а иногда — всему миру. Но она никогда не заносила их на бумагу.
Такой жанр ведь не изучают в университете, ему нельзя научиться у мастеров. Она прочла цикл стихов Сильвии Плат[44] под названием «Ариэль»: насколько она могла судить, эти стихи представляли собой одну большую предсмертную записку, письмо от некой леди Лазарус, решившей как можно скорее сделать шаг на ту сторону. Самоубийство, которое совершаешь в порыве необузданной ярости.
Была еще Диана Арбус.[45] В свое время Мелани поражали ее снимки, изображавшие уродцев: циркового карлика, трансвестита, великана-еврея. Фотограф явно сам чувствовал себя уродцем. В целом Мелани ощущала себя скорее как Арбус, чем как Плат; ей казалось, что с Арбус она могла бы подружиться.
Все равно я не поэт, подумала Мелани. Даже если бы я захотела писать как Плат, я ведь все равно понятия не имею, как это делать. А все, что написала Арбус перед тем как принять повышенную дозу снотворного и вскрыть вены, был «Последний ужин…». Она словно бы не хотела никому доставлять лишние заботы своей запиской. Последний ужин.
Ну ладно, Мелани только что съела сэндвич с арахисовым маслом и джемом и совершенно не собиралась писать «Последний ланч» и нести это доктору Беллу. У нее было такое чувство, что он считает ее немного темной, и она хотела произвести на него впечатление.
«Продолжать слишком мучительно, вот и все…» — вывела она. Это будет обращение ко всему миру, решила она: как будто миру есть до этого дело. Это едва ли не самая неинтересная вещь из всех, какие ты можешь сказать, хоть и самая правдивая. Просто констатация положения вещей, так зачем же зря тратить на нее слова? Наверное, вот почему столько творческих людей совершили самоубийство. Помимо всего прочего, это самое красноречивое и в то же время самое лаконичное заявление. Возможно, слова тут — лишнее.
Дорогая мама!
Ты будешь очень из-за этого страдать, так что я хочу, чтобы ты знала, чтобы ты была совершенно уверена: ЭТО НЕ ТВОЯ ВИНА. Кто бы ни был мой отец, он дурно поступил, бросив тебя одну с ребенком, и мне кажется, что ты сделала великое дело, если учесть обстоятельства. Ты сделала все гораздо лучше, чем могла бы сделать я. Ты допустила лишь одну ошибку, выйдя замуж за Ублюдка, как мы его называем, но я тебя понимаю: одинокая мать, с маленьким ребенком, страх, скука, никаких радостей в жизни, и тут появляется он, предлагая любовь и защиту. Некоторые со смехом говорили, что ты влюбилась в него с невиданной страстью. Он чудовищно мучил тебя, и я никогда ему этого не прощу…
Незачем сообщать матери, какие страдания ей принес Ублюдок. В предсмертной записке — ни к чему.
Прости меня, что я отплатила за всю заботу, уют и радость, которые ты мне дала, таким ужасным способом. Но мне кажется, что у меня тоска в конечной стадии — как бывает конечная стадия рака. Моя жизнь утратила качественность. Я не могу получать удовольствие от еды или солнечного света, я даже больше не могу спать. Каждое утро я просыпаюсь, чувствуя только настороженность и ужас. И хотя я хожу на прием к замечательному психиатру, сейчас я понимаю, что надежды на выздоровление нет.
Почти стемнело. В здании было тихо: Рэчел с Ларисой или ушли, или сели заниматься. Мелани медлила в сгущающихся сумерках, ручка потрепетала в воздухе и упала на чистую часть листа. Иногда она так делала: сидела совершенно неподвижно, уставившись в пространство, и ее сознание было как белый туман, в котором ничего нет. Иногда так мог пройти час, иногда два. На этот раз прошло всего полчаса.
Она встала, направилась по коридору в ванную. Раковину усеивали коричневые, черные и синие точки, похожие на разноцветную сыпь. Видимо, Лариса опять экспериментировала тут с косметикой. Она вечно рассматривала свое лицо, эта Лариса: Мелани тоже могла бы так делать, если бы она была в состоянии хоть какое-то время смотреть на себя в зеркало.
Вернувшись в свою комнату, она вытащила мобильник.
— Мам?
— Привет, Мел. Не хочешь заехать поужинать? У меня в духовке пирог с ягненком.
— Да нет, не надо. Я хотела спросить — можно мне ненадолго одолжить машину?
— Конечно. Сегодня вечером она мне не нужна. Но верни ее до утра. Утром я на ней поеду на работу.
— Да мне совсем на чуть-чуть. Хотела с подружками прокатиться в «Чинук», а автобуса не дождешься.
— Ты же знаешь, детка, если бы ты жила дома, у тебя было бы куда больше свободы.
— Мам, мне слишком много лет, чтобы жить дома.
Она надела куртку и прошла несколько кварталов, отделявших ее от дома, как она по-прежнему его называла. Пансион она никогда не сможет назвать домом, как бы ни была добра миссис Кемпер. Как только она пришла, мать засыпала ее вопросами о занятиях и соседках, и прошла целая вечность, прежде чем ей удалось уйти.
И вот она была на месте, припарковалась чуть в стороне от жилища Ублюдка и ждала… она сама толком не знала, чего ждет. Его машина стояла на подъездной аллее, в доме горел свет. В таком домище не станет жить одинокий человек: слишком уж огромный, и вид у него как у загородной виллы.
Если он выйдет, она с ним заговорит. Только вылези, ублюдок, и я тебе все выскажу, все, что про тебя думаю. Дай мне высказать, во что мне это обошлось, все, что ты со мной проделал. Как я всю жизнь чувствовала в себе эту мерзость, и стыд, и вину. Если он выйдет, она ему скажет, что не в состоянии даже поцеловать парня, не вспомнив об Ублюдке, не увидев прямо перед собой его лицо, его член, его ручищи. Руки, которые хватали, ощупывали, сгибали. Руки, которые держали фотоаппарат.
Она расскажет ему, как, заходя в интернет, всякий раз задает себе вопрос: а вдруг где-то выложены ее фотографии? Иначе зачем он все это снимал? Она скажет ему, как готова была сгореть от стыда, думая о них. Даже сейчас стыд карабкался вверх по ее спине, по плечам, по шее, точно крапивница, и уши у нее горели.
Она решила, что ее тошнит, но волна рвоты превратилась в волну тоски, прокатившуюся сквозь грудь, вверх, в глаза, которые тут же защипало от слез. Она не будет плакать; она запретила себе плакать. Она смотрела на этот кирпичный дом с его большим двором и большим гаражом и думала: ах ты ублюдок, если у тебя там, в доме, новая жена, я ей все выложу. Я во всех подробностях расскажу ей, что ты со мной делал, и она бросит тебя и, может быть, даже пожалуется на тебя в полицию, я должна была сделать это еще много лет назад.
Да, надеюсь, у тебя есть жена. И я надеюсь, что она молодая и красивая, и я надеюсь, что ты ее обожаешь, потому что я хочу, чтобы, когда я договорю, она тебя бросила — так быстро, что ты почувствуешь, как у тебя ломаются ребра.
— Выгни спинку, детка. Ну же, Мел. Выгни спинку. Отлично. О, ты сейчас такая красавица!
Фотоаппарат щелкает, щелкает, щелкает, а он подходит все ближе, ближе, иногда он в каких-то дюймах от нее. Новые указания:
— Так, теперь ложись на животик и притворись, как будто спишь.
Запах крахмала от гостиничных простыней, они такие жесткие и хрустящие, не то что уютные домашние. В окно пробивается солнце и веселая музыка с аттракционов: каллиопы,[46] электроорганы, металлофоны, рок-музыка. Вопли детей, съезжающих с водяной горки, крики молодых матерей, катающихся на карусели, Рогатке, Диком мышонке.
— Папа, а можно мы покатаемся на Диком мышонке?
— Скоро покатаемся, лапуля. А пока закрой глазки.
Щелк, щелк, щелк.
С закрытыми глазами:
— Пап, а теперь можно покататься на Диком мышонке, ну пожалуйста?
— Скоро пойдем, Мел. Так, эту простынку надо бы чуть пониже.
Щелк, щелк, щелк.
— Папа, ты обещал.
— Я помню, милая. О, ты такая красавица, прямо съел бы тебя!
Щелк, щелк, щелк.
И потом он начинает резвиться, мокро целует ее в шею, щекочет ей ребра, пока она не начинает задыхаться. Такое удовольствие! И потом он оставляет ее — запыхавшейся и в полном восторге.
Она спрыгивает с кровати, ищет свои шорты и остальную одежду.
— Что ты делаешь, Мел?
— Одеваюсь. Хочу на Дикого мышонка.
— Золотце, мы обязательно пойдем покататься на Диком мышонке, я же обещал. Но сейчас тебе надо лечь обратно в кроватку.
Он подхватывает ее под мышки и опускает спиной туда, куда ему хочется. На нем уже нет никакой одежды, и она знает, что сейчас случится. Она все время это знала, просто не хотела об этом думать. Ей так хотелось сюда поехать. «Волшебный мир»!
— Я не хочу в кроватку. Я хочу на аттракционы. Ты обещал.
— Давай с тобой договоримся, Мел. Да, мы пойдем на аттракционы. Но на какие — это будет зависеть только от тебя. Каждый аттракцион ты сможешь сейчас заработать, если сделаешь какую-то вещь для папочки. Сделаешь одну вещь — получишь за это карусель. Сделаешь другую — получишь Рогатку. А если ты сделаешь для папочки одну очень-очень суперскую штуку, получишь Дикого мышонка. Но сначала давай-ка прижмемся друг к другу потеснее.
Он крепко сжимает ее, обвивая грудь, точно удав.
— Помнишь, что я про это говорил, лапочка? Про то, что это будет наш с тобой секрет?
— Да.
— Нельзя рассказывать маме. И никому нельзя. Помнишь?
— Помню.
— Никогда-никогда, правда?
— Никогда-никогда.
— А если расскажешь — что будет?
— Приедет полиция, заберет меня и посадит в дом для плохих девочек.
— Точно. А мы же не хотим, чтобы так было, правда? Ну вот, а теперь мы с тобой будем очень-очень дружить.
С тех пор прошло больше десяти лет, и вот Мелани сидит в маминой машине, наблюдает за домом Ублюдка и надеется, что он оттуда выйдет. Она роется в рюкзаке, пытаясь найти «Клинекс», и выуживает старую смятую пачку. Вытирает глаза, сморкается. Тогда, давно, когда он проделывал с ней все эти вещи, она никогда не плакала. Ну, может, раз или два, когда он делал ей по-настоящему больно, ведь его взрослое тело было слишком большим для ее еще неразвившегося.
Но обычно он не причинял ей мучений — физических. «Волшебный мир». Как она мечтала туда попасть. Все ее подружки уже там побывали и взахлеб об этом рассказывали. И вот он ее туда взял, это был сюрприз к ее дню рождения, ей тогда исполнилось восемь. Он как-то сумел устроить так, чтобы ее мать с ними не поехала. Мелани была в таком восторге, она ни о чем не беспокоилась. Это было как ожидание Рождества.
Но как только они поставили сумки на пол гостиничного номера, в животе у нее словно разлилось что-то кислое, и она почувствовала, что вся дрожит. Тогда у нее не было для этого слов — чтобы описать это топкое ощущение в желудке. Этот Страх, химически усиленный возбуждением. Сердце у нее пребывало в полнейшем смятении, потому что, проделывая с ней все эти штуки, он был такой милый. Внимательный. Добрый. Смешной. Он делал все, что ей хотелось: играл с ее куклами, пил чай с воображаемыми гостями, — до тех пор, пока она делала то, что он хочет.
А потом они еще ездили на рыбалку, несколько раз. Он вывозил ее на маленькие озера на плоскодонке. Он так здорово показывал ей, как прикреплять крючок и приманку. Терпеливо учил ее, как забрасывать маленькую удочку, которую он для нее купил. Объяснял, как чистить рыбу, которую они поймали, и как ее жарить, чтобы она была вкусная-вкусная.
Разумеется, все это было не бесплатно. По ночам, в палатке, ей приходилось отрабатывать все это внимание, все эти наставления, все эти радости. В палатке от нее ожидали, что она будет позировать и давать представления. В палатке ее работа состояла в том, чтобы доставлять ему удовольствие. И он постоянно находил новые способы, какими она может доставить ему удовольствие.
Однажды, много лет спустя, ее подруга Рэчел ошеломила ее, открыв несколько картинок, которые обнаружила в компьютере: она делила его со старшим братом. Рэчел с расширенными глазами переключалась с одной картинки на другую, она хихикала, она была и шокирована, и восхищена. Тогда им обеим было по двенадцать лет.
— Мерзость какая! — кричала Рэчел.
— Мерзость какая! — повторяла Мелани, стараясь воспроизвести ее интонации. Но она точно знала, что смотрит на эти картинки иначе, чем Рэчел. По шоку и изумлению Рэчел было видно, что она, в отличие от Мелани, невинна.
— И что, люди правда это делают? — кричала Рэчел. — Ну и пакость!
— Странно, — соглашалась Мелани.
— Это самое большое извращение, какое я в жизни видела! По-моему, меня сейчас стошнит!
Нет, Рэчел никогда раньше не видела таких штук. А Мелани не только видела, но и делала. Она делала их с семи лет.
Иногда по занавескам в венецианском окне, как рябь на воде, проходила тень. Тень мужчины.
— Выходи, — твердила Мелани в машине. — Выходи, Ублюдок, и я тебе скажу, что я о тебе думаю.
Тот день, когда они смотрели на картинки в компьютере, разделил Мелани и ее лучшую подругу. Глядя на снимки, Рэчел выражала такое отвращение, что Мелани невольно спросила себя: что она обо мне подумает, если узнает? Она ужаснется, с отвращением оттолкнет меня. Она больше никогда не захочет иметь дело с Мелани.
В ее сердце проникли новые опасения. Вот же они, все эти картинки на компьютере: фотографии обычных людей, некоторые — подростки. Впервые Мелани забеспокоилась, что где-то в интернете могут лежать сотни ее изображений в ожидании, пока на них набредет кто-нибудь из ее друзей. С тех пор она жила в постоянном страхе разоблачения.
Все эти снимки, бесчисленные снимки. Потому что это происходило не только во время каких-то специальных поездок. Даже дома, когда мать выходила часа на два, Ублюдок приходил за Мелани. Когда объятий и внимания стало недостаточно, он начал задействовать деньги. Как насчет того, чтобы подбросить тебе немного наличных на новый диск? Может, в будущем тебя ждут джинсы «Гесс», а? Посмотрим, как у нас пойдут дела. Через несколько дней мать спросила ее про эти брюки:
— Они такие дорогие. Откуда ты взяла на них деньги?
— Мел мне помогла прибраться в подвале, — объяснил Ублюдок, — вот я и подкинул ей деньжат.
А потом они проводили время на яхте, на прекрасном прогулочном судне, которое Ублюдок у кого-то одолжил. Несколько дней они катались по Форельному озеру, втроем в одной каюте. Мама и Ублюдок спали на одной стороне, Мелани — на другой. Ей тогда было лет одиннадцать. Среди ночи она вдруг проснулась. Он сидел на краю ее койки, сунув руки ей под пижаму, а ее мать лежала меньше чем в трех футах. Наверное, он подмешал ей в вино снотворное. В ту ночь Мелани заработала новенькую пару кроссовок «Найк».
И вот теперь этот поганый ублюдок наконец вышел из своего дома. Прошедшие пять лет мало сказались на его внешности. Куртка была другая, светло-голубая нейлоновая ветровка, а на голове у него была бейсболка. Раньше он никогда не носил бейсболки. Он прошел несколько шагов по подъездной аллее, откинув голову назад: вдыхал прохладный вечерний воздух. Остановился, держа руки в карманах, подождал, потом ступил на газон, словно чтобы рассмотреть какой-то дефект или еще что-нибудь.
Как поступил бы всякий нормальный человек, подумала Мелани. Ведешь себя так, словно ты — как все.
Она положила руку на дверцу машины и поглубже вдохнула. Она ему расскажет, бог ты мой, неужели она ему расскажет. Но тут она замерла.
Из боковой двери дома вышла женщина и присоединилась к ее бывшему отчиму. Миловидная, на вид лет сорок; вьющиеся каштановые волосы спадают на плечи. На ней хорошо сидят джинсовая куртка и защитного цвета штаны. Даже в таком возрасте у нее фигурка что надо. Она лучше выглядит, чем мама, подумала Мелани и загрустила.
Я расскажу его новой жене все, абсолютно все. Даже если он станет отпираться, даже если он назовет меня сумасшедшей, она все равно поймет, что это правда. Ее хорошенькое личико сморщится от потрясения. И этот счастливый блеск в ее глазах сменится подозрением, гневом, омерзением.
Мелани открыла дверцу машины. На дороге не было движения, других пешеходов тоже не было. Счастливая парочка повернулась к дому, их позы выражали ожидание. Ну что ж, кое-чего они не ожидают.
Мелани была в двадцати ярдах от них и теперь шла к ним по дороге, по длинной диагонали переходя на другую сторону. Она приказала сердцу успокоиться. Ей не хотелось выглядеть помешанной: важно, чтобы женщина ей поверила, важно, чтобы она говорила убедительно. Она шагала быстро и твердо, как молодая бизнес-леди, спешащая на деловую встречу.
Боковая дверь дома открылась, и появилась девочка; в руках у нее был мяч и лопатка.
— Куда мы идем? — пропищала она.
— Просто погуляем, — ответила женщина. — Вечер чудесный. Но в такой темноте ты не разглядишь мячик.
— Нет, разгляжу.
— Ну хорошо, детка, только не забудь закрыть дверь.
Девочка остановилась и обернулась, чтобы посмотреть на дом.
— Давай, сделай это, милая.
Девочка неуверенно двинулась обратно к дому.
— Я закрою, — произнес Ублюдок и направился к девочке.
Мощный автомобильный гудок заставил Мелани подпрыгнуть от неожиданности. На мгновение ее ноги действительно оторвались от земли. Она обернулась, когда машина затормозила меньше чем в ярде от ее колен.
— Простите, — выговорила она и побрела обратно к своей машине. — Простите, простите…
Мужчина в автомобиле покачал головой и поехал дальше.
Мелани, дрожа, забралась обратно в мамину машину. Ключ никак не попадал в замок зажигания. Все три члена этого жалкого семейства смотрели в ее сторону. Наконец ей удалось завести машину, и она проехала мимо них, отвернувшись, делая вид, что занята радиоприемником.
Кровь стучала у нее в ушах, и она пропустила поворот обратно на Алгонкин-роуд. Она въехала на парковку при «Мак-Милке» и теперь сидела с включенным мотором, пытаясь перевести дух. У Ублюдка теперь новая дочка, ей семь лет или около того. Ублюдок обзавелся новой маленькой девочкой.
29
Келли положила отпечатки на место и задвинула ящик.
— По-моему, это последняя серия, — объявила она, — по крайней мере, из тех, которые здесь. У нее наверняка есть сотни отпечатков там, в колледже. Да и негативы, я уверена.
— Ну да, — подтвердил Кардинал. — У нее там стоит пара шкафчиков.
Он сидел на сундучке в углу фотокомнаты, наблюдая, хотя Келли просила его уйти и заняться чем-нибудь другим. Но он не мог удержаться: он хотел быть рядом с дочерью, особенно когда она делала что-то для своей матери.
— Может, тебе связаться с ее колледжем? — предложила она. — Там наверняка найдется кто-нибудь, кто в курсе того, что она делала. Может быть, они лучше понимают ее работы, чем я.
— Ничего подобного, Келли. Ты художник, ты ее дочь. Кто лучше тебя в этом разберется?
— Кто-нибудь из ее собратьев-фотографов. Кто все время с ней работал. Я просто подумала — вдруг ты попробуешь сначала обратиться к ним. А если окажется, что я все-таки самый подходящий человек, чтобы организовать выставку, тогда, конечно, я с радостью этим займусь. Да я буду просто счастлива это устроить.
— Она всегда работала одна. Она не любила, чтобы рядом был кто-то еще, когда она фотографирует. Или когда она в фотокомнате.
— Пожалуйста, убедись, пап. Мы же хотим сделать как можно лучше.
— Хорошо. Я тебе тогда сообщу.
— Меня это как-то даже удивило, — проговорила Келли, касаясь белого комода, который только что закрыла, — оказывается, мама была очень организованным человеком.
— О да. Она любила точно знать, где что лежит. И делать все вовремя. У нее были свои проблемы, но рассеянной она не была.
— У нее здесь лежат все листы для контактной печати, в папках и с датами, и к ним приложены негативы. А на обороте отпечатков указаны номера негативов.
— Да, она очень расстраивалась, если не находила тот снимок, который ей нужен. И она всегда призывала своих студентов к самодисциплине. Терпеть не могла расхлябанности.
Келли коснулась шкафчика указательным пальцем, даже этим мелким жестом напоминая мать.
— Даже более недавние вещи. Цифровые. Вместе с отпечатками у нее лежат диски, а в куртке — списки номеров файлов. Хотела бы я быть такой же организованной.
— Забавно. А она часто признавалась, что хотела бы быть художницей, как ты. «Иногда мне хочется спуститься в хаос, — так она говорила. — Фотография порой напоминает клинику. Все это проклятое оборудование…»
Келли открыла высокий шкаф, стоящий в углу. В аккуратных рядах объективов и фильтров зияли провалы: отсюда она взяла принадлежности для своего последнего — последнего в жизни — проекта.
В этот же вечер Келли докатила свой чемоданчик до машины, и Кардинал отвез ее в аэропорт. Она была с ним во время всех похоронных церемоний и в первые две недели его одинокой жизни, разве он мог просить ее о большем? Он пытался завязать разговор, но ее мысли уже неслись впереди нее — туда, в Нью-Йорк. Нью-Йорк. Географически — не так далеко, но психологически — то же самое, как если бы она уехала в Шанхай.
Он оставался с ней в зале ожидания, пока ей не пришло время проходить через контроль. Она стиснула его в объятиях и пообещала:
— Скоро позвоню, пап.
— Смотри там, береги себя,
— Обязательно.
Кардинал поехал обратно, спускаясь с холма Эйрпорт-хилл, — медленно, однако недостаточно медленно. Ему не хотелось домой, не хотелось оказаться лицом к лицу с этой тишиной. Вместо того чтобы свернуть налево, на Одиннадцатое шоссе, он продолжал ехать прямо, в сторону города.
Он выехал на Мэйн-стрит, потом двинулся вдоль берега. Под луной, чьи очертания были искажены облаками, по берегу трусили разрозненные бегуны; собачники стояли небольшими кучками, каждую из которых окружали нюхающие и подпрыгивающие четвероногие. Кардинал отправился назад, на западную окраину города, и стал колесить взад-вперед по тамошним переулкам. Довольно жалкая картинка, подумалось ему, боюсь вернуться домой.
Он обнаружил, что проезжает мимо дома Лиз Делорм, небольшого бунгало на углу тихого перекрестка близ Рэйн-стрит. Окна у нее горели, и он задумался, что она сейчас делает. Им овладело сильное желание остановиться на ее подъездной аллее, постучать к ней в дверь, но что он ей скажет? Ему не хотелось выглядеть жалким перед Делорм.
Интересно, что она делает? Читает? Смотрит телевизор? В каких-то отношениях он знал Делорм очень хорошо, вместе они расследовали столько дел. Они отлично ладили, много смеялись. Но если вдуматься, он ведь понятия не имел, как она проводит свободное время, не знал даже, есть у нее сейчас мужчина, хотя он и видел, как она болтает с Шейном Косгроувом чуть более дружелюбно, чем необходимо.
Но в ее обществе ему было бы сейчас хорошо. В этот вечерний час, который казался даже не каким-то определенным часом в каком-то определенном месте, а скорее пустым пространством между часами, междуцарствием, разделяющим две жизни: его жизнь с Кэтрин — и то, что ему теперь осталось, чем бы это ни было.
Он затормозил перед светофором на углу.
— Жалкий человек, — сказал он вслух. — Даже пять минут не можешь пробыть один.
Какое-то время он посидел так, пока не сообразил, что уже зажегся зеленый свет.
В его доме царило безмолвие — такое, какого он никогда не знал. Отсутствие звуков было настолько глубоким, что казалось, оно не только окружало его, но и было в нем самом, проникало сквозь него. Весь мир словно бы исчез, остался лишь тот кусок пространства, который занимал он сам.
Из других комнат не доносилось никакого шума. Ни шарканья шлепанцев, ни топота босых ног, ни цоканья шпилек, ни стука тяжелых подошв зимних сапог. Ни дребезжания лотков с проявляемыми фотографиями, ни тонкого жужжания фена. Никаких внезапных призывов: «Джон, поди сюда, ты только посмотри!»
Кардинал пытался читать, но обнаружил, что не в состоянии. Он включил телевизор. Следственная бригада из «Места преступления»[47] занималась уничтожением улик. Какое-то время он безучастно глядел в экран, ничего не понимая.
— Пытайся вести себя как обычно, — пробормотал он себе под нос. Но ничто не было обычным.
Он взял фотографию Кэтрин из шкафа, куда ее поставила Келли. Тот самый снимок, где она была в анораке, с двумя фотоаппаратами через плечо.
Ты себя убила?
Все эти случаи, когда она злилась на него за то, что он отправляет ее в больницу, проклинала его за то, что он мешает ее болезни, сердилась, что он вечно следит за тем, как она принимает лекарства… Все эти крики и слезы в течение десятилетий: неужели все это было всерьез? Неужели это и была настоящая Кэтрин? Он не мог заставить себя поверить, что женщина, которую он так долго любил, могла швырнуть эту любовь ему в лицо, могла сказать: нет, твоей любви недостаточно, тебя недостаточно, я скорее умру, чем проведу еще минуту в твоем обществе. Вот что написал Роджер Фелт в тех открытках. Нет, не верится.
Но тем не менее у него не было и никаких доказательств противоположного. Роджер Фелт, его подозреваемый номер один, оказался не более чем мстительным неудачником. А управляющий Кодвалладера подтвердил, что тот, как и говорил, был на работе. Записи с камер видеонаблюдения тоже это покажут.
Ты написала ту записку. Но могла ли ты действительно себя убить?
Были ли у Кэтрин враги? На своем веку Кардинал расследовал немало смертей, чтобы понять: на сей счет люди порой преподносят сюрпризы. Мелкий наркодилер, оказывается, слыл среди соседей добрейшим человеком, а погиб не от руки конкурентов, а из-за собственной ошибки при расчете дозы препарата.
Или, допустим, сущая святая, женщина, которая не покладая рук занимается благотворительностью, которая всегда первой убеждает друзей и коллег «подписаться за Ширли»,[48] организует коллективные посещения больниц, добывает деньги на летний лагерь. И вдруг выясняется, что эта воплощенная добродетель спит с мужем неподходящей женщины, а в итоге — растраченные средства, вынужденный обман, освобожденные страсти, — и вот она уже оказывается жертвой или исполнителем убийства.
Но Кэтрин? Ну хорошо, в колледже у нее были свои войны за территорию, она сражалась с коллегами-преподавателями. Впрочем, все эти сражения она проиграла. Бог ее знает, она иногда бывала очень несдержанна, когда сердилась, и можно себе представить, что какая-нибудь ее соперница по отделению искусств пришла в ярость из-за какого-то ее необдуманного замечания. И потом, она получала премии за свои фотографии: несколько раз — на уровне провинции, один раз — федеральную, и ее работы много раз здесь выставлялись, а в среднем каждые два года их показывали в Торонто. Когда человек получает приз, кто-то может почувствовать себя ограбленным.
Кардинал прошел на кухню и сделал себе питье. Позвякиванье льда, бульканье виски звучали в тишине как-то нелепо громко. Он включил радио, мгновение послушал кантри и вырубил его. Это все от безысходности: он никогда не слушал радио по ночам.
Он уселся за кухонный стол. Ночью, когда не спалось, он иногда приходил сюда, чтобы пожевать печенья, хлебнуть молока. Но тогда кухня не казалась такой бесприютной: в соседней комнате спала жена. Он открыл папку дела, которое завел на Кэтрин. Это была самая тонкая в его жизни папка следственного дела. Если ты ведешь дело, то у тебя по определению должны быть какие-то заметки, какие-то нити, какое-то направление расследования. Но в этой папке не было почти ничего.
В ней лежали открытки-лжесоболезнования, теперь бесполезные. Его заметки насчет Кодвалладера и Фелта: как выяснилось, и то и другое — путь в тупик. Листок, вырванный из блокнота Кэтрин. Бледно-голубые буквы, написанные ее любимым «пейпер-мейтом». Ее почерк — лаконичные j, петли на t.
«Когда ты будешь это читать…»
В папке лежали два варианта записки — оригинал, написанный голубой пастой, и копия, которую снял Томми Ханн в Центре судмедэкспертизы: белые буквы на угольно-черном фоне; тонер сделал видимыми отпечатки пальцев, неразличимые на оригинале. На краешке — отпечаток большого пальца Кэтрин, с коротенькой белой черточкой, соответствующей порезу многолетней давности. И другие отпечатки на краях, поменьше: видимо, они тоже принадлежат Кэтрин, это нетрудно проверить.
Но внизу на записке виднелся отпечаток большого пальца, слишком крупный для того, чтобы принадлежать Кэтрин. К тому же Кэтрин правша. Чтобы вырвать листок из блокнота, она возьмется за страницу правой рукой, сбоку, как ей удобно, и дернет. Но отпечаток чьего большого пальца виден в нижней части листка, не сбоку, а посередине? Если это не палец коронера, или Делорм, или еще кого-нибудь, кто был тогда на месте происшествия, тогда кто же держал предсмертную записку Кэтрин в своей руке?
30
«Мертвая мать и дитя». Работа Эдварда Мунка[49] была любимой картиной Фредерика Белла, и он точно знал почему. Застывшая фигура матери, бледная, почти прозрачная, лежит на кровати, вокруг собрались домочадцы, не обращая никакого внимания на девочку на переднем плане, вскинувшую руки к голове, точно стараясь прикрыть глаза, а может быть, уши, — заслониться от реальности материнской смерти. Белл знал, что мать Мунка умерла от чахотки, когда тот был еще ребенком, и это событие наложило отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Оно сделало его несчастным, и оно же сделало его художником.
Чахотка. За прошедшее столетие медицина проделала немалый путь. Благодаря антибиотикам чахотка, она же туберкулез, практически уничтожена на нашей планете. Но зато депрессия, разумеется, цветет пышным цветом.
Мунк побывал у смертного одра один раз. Белл — дважды.
Первое смертное ложе принадлежало его отцу: Беллу было тогда восемь лет. Каждый день ему приходилось по часу сидеть с отцом — сразу после уроков, до возвращения матери с работы: она была медсестрой.
Отец был человеком черным: густые усы, сплошная линия бровей над глазами, курчавые темные волосы. Черный ирландец, называла его мать, и юный Белл задавал себе вопрос, не означает ли это, что отец участвовал некогда в волнениях в Северной Ирландии. Позже он понял, что нога отца вообще никогда не ступала на ирландскую землю. Позже он вообще многое узнал.
Но тогда, на смертном одре номер один, сумрачность отца казалась еще более героической благодаря белым бинтам, укутывавшим его голову, закрывая один глаз. Он походил на солдата, только что вернувшегося с войны, защищавшего своих братьев и получившего ранения, онемевшего от ужасов, которые ему пришлось лицезреть.
Несчастный случай, объяснила мать. Ужасный случай: это произошло, когда он чистил свой пистолет — «люгер», который он в свое время вынул из мертвой руки немецкого солдата в 1945 году.
Дверь в отцовский кабинет была распахнута, раньше такого никогда не бывало. Кабинет отца всегда был местом, куда нельзя проникать без приглашения. Юному Фредерику доводилось бывать внутри лишь несколько раз: однажды — чтобы принять поздравления по поводу того, что он стал первым учеником в классе; во всех остальных случаях — чтобы принять наказание.
Он очень боялся отца, его приступов дурного настроения и вспышек раздражения, но между тем отец умел быть и добрым. Однажды летом он взял Фредерика с собой в поле — ловить и классифицировать бабочек; этот день стал одним из самых счастливых его воспоминаний. Отец преподавал науки в средних классах ближайшей школы, и казалось, для него это действительно самое большое счастье в жизни — когда он кого-то чему-то обучает.
В те вечера, когда ему приходило в голову побыть наставником сына, Белл-старший становился другим человеком: терпеливым, доброжелательным, знатоком всевозможных предметов (истории авиации, принципов действия двигателя внутреннего сгорания, особенностей деления клеток, диатонической шкалы). Он мог два часа сидеть рядом с мальчиком, объясняя, представляя общую панораму, анализируя, даже предлагая Фредерику записать или нарисовать что-нибудь, что поможет ему лучше запомнить материал. При этом он то и дело клал ладонь мальчику на плечо и говорил: «Не сутулься так, сынок, а то у тебя появится привычка».
У Белла сохранилась модель паровоза, которую подарил ему отец, а тому, в свою очередь, паровозик достался от собственного отца. Простая и изящная игрушка: миниатюрный латунный бойлер на латунных же кронштейнах, и все это — на дубовой подставке. Отвинчиваешь плотно прилегающую латунную крышечку, заливаешь из мерного стаканчика воду в крошечное отверстие. Единственный поршень-шатун, ведущий вал, маховик — вот и все. Под бойлер помещаешь маленькую лампу, наполненную метанолом. Когда вода закипит, она давит на поршень, поршень двигает вал, а тот вращает маховик. Но самая лучшая деталь — это миниатюрный клапан на одном конце бойлера, его можно открыть с помощью рычажка, и тогда раздастся неожиданно звучный свисток.
Эти педагогические часы, днем и вечером, случались нечасто. Мистер Белл был подвержен депрессиям, и под конец они загоняли его в кабинет на целые дни. Когда он пребывал в таком состоянии, не хотелось его беспокоить. Даже если тебе одиноко и скучно, и все твои друзья куда-то убежали, — даже тогда ты не решишься постучаться в эту дверь. Иногда Фредерик сидел на стуле в коридоре, совсем рядом с кабинетом, ничего не делая, лишь болтая ногами, и ожидал, когда появится отец.
Иногда до него доносились всхлипы, треск разрываемой бумаги, стук бросаемой книги, хотя в кабинете никого не было, кроме отца. Эти всхлипывания словно впивались во Фредерика, пугая его. Иногда мать негромко стучала в дверь. Рыдания прекращались, и она входила, а потом Фредерик слышал ее голос, вопросительный, успокаивающий, увещевающий, и лаконичные неразборчивые ответы отца.
Тогда никто это никак не называл, во всяком случае — в семейном кругу. У людей бывает дурное настроение, у некоторых — очень дурное, вот и все. Это была Англия, они пережили войну, не могло быть ничего хуже. Ты должен ходить с высоко поднятой головой, верхняя губа не должна дрожать, ты не должен жаловаться и ни при каких обстоятельствах не должен подавать вида, что тобой владеют какие-то противоречивые чувства. Никто никогда не произносил слова «депрессия».
Поэтому, когда мать сказала Фредерику, что у отца произошел несчастный случай с пистолетом, Фредерик не стал задавать вопросы. Тем не менее он удивился. В один из своих наставнических дней мистер Белл пригласил сына в кабинет, чтобы показать, как чистить пистолет и ухаживать за ним. Атмосфера в кабинете была мужская, пахло оружейной смазкой и металлом. Отец объяснял, что ни в коем случае нельзя хранить пистолет заряженным, а патроны ни в коем случае нельзя держать в том же месте, что и пистолет. Он предупреждал мальчика, чтобы тот никогда ни на кого не направлял дуло, в том числе и на самого себя, даже в виде шутки, даже самым нечаянным и мимолетным жестом. Нет, ствол всегда должен смотреть в пол или в угол, пока ты разбираешь оружие, вынимая из него разные хитрые детали и выкладывая их на кусок материи.
Много позже, уже став врачом, Белл понял, что пуля, скорее всего, попала в заднюю часть носоглотки, раздробила нёбо и, видимо, глазницу, после чего вылетела через переднюю часть черепа. В те годы у отделений скорой помощи еще не было такого опыта в обращении с огнестрельными ранениями, как сейчас. В наши дни, получив такую рану, человек в конце концов отправляется домой с поражениями речевого аппарата и зрения. В пятидесятые годы причиненных повреждений было достаточно, чтобы убить, но убить не мгновенно.
Отец не спешил умирать. Больничную койку установили в гостиной. Через день приходила медсестра, чтобы узнать, в каком он состоянии, и сменить бинты. Фредерика всегда отсылали из комнаты, когда она это делала. Иногда отец бормотал что-то — несвязные слова, обрывки фраз. Например, «драконова нога». Или «на проводе».
Мать Фредерика была сломлена горем и мало чем могла помочь сыну. Наоборот, это он пытался ее утешить, приносил ей чай и сэндвичи, которые делали его многочисленные тетушки. Она вымученно улыбалась ему, и глаза у нее переполнялись слезами. В то время Фредерик чувствовал, что он словно бы невидим. Тетушки разговаривали между собой так, точно его не было рядом, и он не раз слышал, как одна из них — это была тетя Мэй — шептала в телефон: «стрелял в себя», да так, что становилось понятно: он сделал это… в общем, он это сделал не случайно.
Мальчик-невидимка сидел в полумраке на верхней ступеньке лестницы, прислушиваясь. Когда кто-нибудь поднимался в ванную, он кидался обратно к себе в спальню и притворялся, будто читает. Так он услышал и другие фразы, в том числе и причитания матери:
— Почему он это сделал? Ну почему?
— Видимо, он испытывал ужасные мучения, — отвечала тетя Мэй.
— Он просто помешался, — заявляла тетя Джозефина.
И в конце концов юный Фредерик, испытывая тошнотворное чувство внутри, догадался, что отец стрелял в себя нарочно. С этой информацией он ничего сделать не мог. Рядом не было священников или монахинь, чтобы с ними посоветоваться, да и вряд ли это принесло бы пользу: в его воспитании религия не участвовала. Не мог он пойти и к матери, ибо она по-прежнему настаивала, что это был несчастный случай. Он был как та девочка на картине Мунка: одинокая и сбитая с толку, не знающая, к кому кинуться.
Тошнотворное чувство у него в животе словно бы отвердело, превратившись во что-то другое. Ему стало казаться, что учитель на уроке вещает откуда-то издалека — точно с края колодца, куда Фредерик свалился. И у него не было особого желания оттуда выбираться. Одноклассники, с их глупостями и играми, больше не интересовали его. На переменах он сидел под деревом, пересчитывая камешки или стекляшки либо читая биографию какого-нибудь ученого.
Отец все глубже погружался в беспамятство. По словам медсестры, дело шло к могиле. Явился доктор (тогда еще были семейные врачи), потом другой. Оба сказали, что ничего не могут сделать, что отец Фредерика либо очнется, либо нет.
Ничего нельзя сделать.
Доктор Белл часто думал, что если бы Мунк нарисовал самого себя — мальчика, сидящего у этого смертного одра, — то он так бы и назвал картину: «Ничего нельзя сделать». Сделать ничего нельзя, можно лишь скорбеть и давать себя пожирать тем чувствам, которые неприлично было упоминать в британском семействе пятидесятых годов. Как психиатр Белл понимал, что он тогда должен был испытывать невероятную ярость из-за того, что отец так подло бросил его и так мучил мать. Но он ничего такого не чувствовал — ни тогда, ни сейчас.
Пятничным вечером, в марте 1952 года, отец Фредерика Белла умер. В тот момент мальчика не было в его комнате, как не было и матери. Дежурила тогда тетя Мэй. По ее словам (мальчик, по своему обыкновению, подслушивал — и услышал, как она sotto voce[50] рассказывает об этом кому-то по телефону), это было ужаснейшее зрелище. Мистер Белл, который практически не двигался вот уже три недели, вдруг сел в постели, уставившись прямо перед собой тем глазом, который не закрывала повязка. Тетя Мэй так перепугалась, что не смогла пошевельнуться. Ее брат сидел, прямой как палка, и смотрел в пространство — недолго, вряд ли больше минуты.
— А потом он заговорил, — рассказывала она. — Было так, словно кто-то ему только что сообщил дурные вести. «О господи», — сказал он. Нет, в этом совершенно не было ничего религиозного. Мне не верится, что на него вдруг снизошло подобное озарение. Таким тоном говоришь, когда приятели сообщают тебе, что сгорела школа: в его голосе слышался и ужас, и любопытство. «О господи», — сказал он и улегся обратно. Я подошла и попыталась с ним заговорить, но он больше ничего не сказал, он просто глотнул воздух ртом — и это было все. Для Джейн, конечно, это было чудовищно тяжело.
Джейн — так звали его мать; после этого они остались вдвоем. В конце концов она вернула отцовскому кабинету его первоначальное предназначение, обратив его в маленькую гостиную, но ни он, ни она больше туда не заходили. Вскоре финансовые затруднения вынудили их переселиться в значительно более скромное жилище — темную, холодную квартиру, где они и провели следующие десять лет. Однажды Фредерик вернулся домой (он на полставки работал помощником местного аптекаря) и нашел на двери записку, написанную почерком матери:
Фредерик, не входи. Пожалуйста, сходи к тете Мэри, пусть она вызовет врача.
Так он оказался у смертного одра номер два. На сей раз все было сравнительно скоротечно. Мать приняла смертельную дозу снотворного, но ее вырвало. В результате она умирала три дня вместо часа или двух, как, несомненно, планировала. В конце концов снижение мозговой активности привело к тому, что у нее отказали другие органы.
Фредерику пришлось съехать с квартиры и поселиться в подвальной комнате в доме у тети Джозефины. Разбирая бумаги матери, он нашел старый конверт, на котором почерком отца было нацарапано всего одно слово: «Джейн». Открыв его, он прочел:
Дорогая Джейн.
Я намерен покончить с собой и положить конец этому фарсу. Прости, что оставлю после себя беспорядок. Похоже, я просто не в состоянии совладать с собой.
Ни подписи, ни выражения любви, ни единого упоминания об их сыне. Фредерик Белл, восемнадцати лет от роду, сидел в материнской спальне в окружении переполненных сумок и коробок и смотрел на строчки, написанные рукой отца, смотрел долго-долго.
К счастью, он был разумным юношей, и он решил добиться успеха. Ему удалось закончить университет исключительно благодаря стипендиям и подработкам. Благодаря тете Джозефине его расходы на проживание, пока он учился в Университете Сассекса, были минимальны.
С виду он казался спокойным и жизнерадостным, но внутри у него созрело решение в одиночку осуществить одно смелое предприятие. Как он сам для себя сформулировал, он жаждал исцелить слепоту — слепоту медицины по отношению к проблеме суицида. Он потерял обоих родителей, между тем обоих осматривали семейные врачи — и ни отцу, ни матери не поставили диагноз «депрессия», не говоря уж о диагнозе «суицидальные наклонности».
И он решил сам довести лечение этого недуга до совершенства. Его воодушевляли и перспективы медикаментозной терапии, и всевозможные разновидности психотерапевтических бесед. У него не было иных интересов, кроме разве что редких прогулок по близлежащей реке на маленькой лодке. По сути, он просто вошел в один из сентябрьских дней в университетскую библиотеку, а вышел оттуда через несколько лет уже доктором медицины. Еще четыре года в Лондонском университете — и он уже официально аттестованный психиатр, до зубов вооруженный, чтобы выйти на битву с Той Сущностью.
Он практиковал в самых разных местах, и его кураторы всегда отмечали особую склонность молодого врача к пациентам, страдающим депрессией; его диагнозы неизменно были превосходны. Наконец он перешел в Кенсингтонскую клинику, и через полгода ему предложили там постоянную должность. Он отличался целеустремленностью, благоразумием, всегда был в курсе всех новейших фармакологических достижений. Результаты его работы говорили сами за себя.
Его первый год в клинике весь состоял из трудов и успехов. Иногда он находил время мимоходом поухаживать за Дороти Миллер, больничной медсестрой. Она отнеслась к нему как к нежному и забавному букету нервных тиков (время от времени он сутулился и подергивал головой) — и пришла в восхищение. Он же, со своей стороны, находил Дороти привлекательной, и ему нравилось, что она время от времени заставляет его выбраться в кино или куда-нибудь поужинать, настаивая, чтобы он начал наконец жить по-человечески.
А во время второго года своей психиатрической практики он начал испытывать некоторые затруднения. Даже по прошествии тридцати лет он помнил, когда эти перемены впервые по-настоящему на нем сказались. В течение нескольких недель ему становилось все труднее и труднее выслушивать пациентов. Он вдруг вскидывался, обнаружив, что ему задают вопрос, начала которого он не слышал. Или что ему только что рассказали что-то важное, а он никак не отреагировал. Пациент мог сидеть, выжидательно глядя на него, а он понятия не имел, чего тот ждет.
И вот однажды мужчина среднего возраста, состоящий в браке двенадцать лет, отец троих детей, стал рассказывать, какая у него смертельная депрессия, как он каждое утро просыпается со стонами и проклятиями, потому что не в состоянии посмотреть в лицо очередному дню. И Белл ощутил, как в животе у него поднимается волна гнева. Он не мог дать этому объяснение; это казалось каким-то аномальным явлением. Жизнь у него шла хорошо, он получал удовольствие от работы, и его пациент не сказал ничего особенно раздражающего, а между тем он чувствовал, как гнев поднимается откуда-то из живота, заполняя грудь, так что на мгновение ему даже представилось, будто он, доктор Белл, пересекает комнату, хватает пациента за ворот и трясет. Трясет что есть силы.
Тогда это чувство прошло быстро, но затем такие волны гнева стали учащаться. Их провоцировал не только данный пациент, но и все остальные — по крайней мере, те, кто страдал депрессией. Положение ухудшалось, вызывая у него тревогу и грозя лишить его возможности работать; он опасался даже обсуждать это с кем-то из коллег.
Он испытывал все больший дискомфорт, даже просто видя пациентов. Он не в состоянии был слушать, как они себя ненавидят. Не мог слушать, как они с глубочайшим отвращением подводят итоги своей жизни. Не мог слышать о том, что будущее им ничего хорошего не сулит, что им все надоело, что они сами себе надоели. Особенно сами себе. Это было мучительно.
И однажды это случилось, гнев вырвался наружу.
Эдгару Вейлу было тридцать шесть, он был художником-рекламщиком и поступил в клинику после того, как попытался утопиться, но обнаружил, что плавает лучше, чем ему казалось. В его семейном прошлом имелся случай суицида; в его личном настоящем было чувство отчужденности и изоляции. Дополнительный вклад внесли такие факторы, как недавний развод и череда профессиональных неудач. Иными словами, здесь было о чем печалиться.
Ему хотелось писать что-то серьезное. Собственно, он и писал серьезные картины, только никак не мог найти галерею, которая взяла бы его работы, или же добиться того, чтобы хоть единая живая душа за пределами круга его ближайших друзей купила хоть одно его произведение. Он все рассказывал и рассказывал об этом, уставившись в пол и качая головой, и мямлил, что он, мол, не знает, зачем вообще стараться рисовать, что ему, мол, надо выкинуть все свои кисти и полностью от всего этого отказаться. К тому же все это отличнейшим образом отражает его романтическую сторону жизни, продолжал он, вся эта борьба, которая оканчивается ничем.
— Почему бы вам просто не покончить с собой? — взорвался Белл. — Почему бы вам не убить себя? Только на сей раз уж отнеситесь к этому не так халатно!
Вейл внимательно посмотрел на него. Потрясение в его глазах, где обычно читалась лишь легкая боязнь, испугало Белла.
Он попытался поправиться, добавив:
— Ну, разумеется, я не хотел, чтобы это прозвучало столь резко. Я просто хотел сказать: вот представьте, вы сидите дома, и у вас есть под рукой полный пузырек секонала, и тем не менее вы прыгаете в воду, отлично зная, что умеете плавать. На мой взгляд, вы могли бы положить конец всем своим страданиям, этим ужасным страданиям, которые вы испытываете, просто приняв несколько таблеток, и тем не менее вы предпочли этого не делать. Почему бы нам не сосредоточиться на том, что стояло за этим вашим выбором?
Потрясение в глазах у Вейла померкло.
— Мне показалось, что вы на меня вот-вот наброситесь.
— Господи помилуй, разумеется, нет. Ни за что на свете не стал бы этого делать. Пожалуйста, продолжайте.
Кажется, его уверения возымели действие. Вейл откинулся на кушетке в приятнейшем убеждении, что его психотерапевт пытается ему помочь.
В течение следующих нескольких месяцев Белл поставил себе задачу научиться скрывать гнев. Непосредственно перед назначенным сеансом он старался вспоминать о всякого рода радостных событиях. Но это не помогало: он попросту забывал о них, сталкиваясь с невзгодами пациента. Он пробовал заниматься физическими упражнениями, вновь взялся за греблю. Но мышцы у него стали так сильно ныть, что его характер даже ухудшился: теперь его раздражали все люди, а не только пациенты.
Однако в конце концов он обуздал свой гнев, научившись даже не ощущать его. Для этого надо было просто вести себя как все другие психиатры. Озарение явилось ему как-то днем, когда он собирался поплавать на лодке. Он остановился, сжимая весла в руке, и тяжело опустился на скамейку у воды.
Перед ним посверкивала Темза: серебро, сплавленное с огнем в предвечерних солнечных лучах. Он слышал плеск воды, шелест ветерка в ветвях и мириады автомобильных звуков. Порой ему казалось, что до него доносится разговор, который идет где-то в нескольких кварталах отсюда. Кто-нибудь мог бы счесть это проявлением неприятного смятения чувств, но для Белла это был момент абсолютной, бритвенно-острой ясности.
Как раз в это мгновение он и понял, что средства терапии можно использовать совершенно по-новому — подобно скальпелю хирурга. Можно задавать все те же вопросы, все так же поднимать брови, выказывать глубочайшее сочувствие, давать «положительное подкрепление» и прочее. И при этом можно иногда чуть-чуть принажать, изменить угол всего на несколько градусов — и ты сумеешь направить пациента в иную сторону.
В следующий раз, когда Эдгар Вейл вышел из его кабинета, унося с собой рецепты на еще большее количество успокоительных, Белл громко провозгласил, обращаясь к своим стенам, уставленным полками с книгами:
— Убей себя и разделайся со всем этим, ты, жалкий человек, который только зря занимает пространство.
Эти слова, казалось, эхом отдались в пустой комнате, и Белл почувствовал легкое головокружение. Он засмеялся. Это же так просто; почему он не видел этого раньше? Он смеялся от удивления, от потрясения, от внезапного понимания, но еще и от чистой радости облегчения.
Поразительно, до чего это было легко. Выбираешь безнадежно несчастного пациента, за несколько сеансов добиваешься от него доверия и симпатии, затем прописываешь месячный курс снотворного. В ту пору в ходу были барбитураты. При правильном применении — стопроцентный летальный исход.
В некоторых случаях, как с Эдгаром Вейлом, когда пациента разъедала ненависть к самому себе, но все жизненные функции полностью сохранялись, следовало убедиться, что больной отмерит нужную дозу. Если принять слишком много (Белл знал это по опыту собственной матери), тебя вырвет, и ты, возможно, выживешь. А если слишком мало — просто проснешься с ощущением тяжкого похмелья.
В иных случаях, когда пациента терзала неясная тоска (так было с его отцом, которого она поглотила заживо), Беллу приходилось быть чуть более изобретательным. Он поступал так: назначал больному прием на понедельник или вторник и отправлял домой, выписав какой-нибудь из трицикликов — что-нибудь быстродействующее. К выходным пациент набирался энергии, чтобы поднять ружье, спрыгнуть с крыши, затянуть на шее петлю. Это было как запалить фитиль. Из первых двадцати самоубийств, проходивших под его присмотром, примерно половина осуществилась именно таким путем. Еще двадцать пять процентов больных (в том числе и Эдгар Вейл) предпочли успокаивающие. Остальных же заносило так далеко, что они в любом случае должны были рано или поздно свести счеты с жизнью. За них Белл не отвечал.
Но с фармацевтическим методом были свои сложности. Начать хотя бы с того очевидного факта, что метод был слишком прост. В общем-то всю работу выполняли лекарства; таким методом мог бы с успехом воспользоваться любой психиатр. Но это было и рискованно. Рекомендации принимать большие дозы седативных препаратов не очень-то хорошо смотрятся в истории болезни пациента, склонного к суициду, притом что эффект трицикликов («проснись и умри») широко известен. В Суиндоне у него были в связи с этим некоторые неприятности. И позже, в Манчестере, поползли слухи о возможном расследовании, но это относилось к уровню смертности среди его больных, а не собственно к тому, что он прописывал большие дозы препаратов. Так или иначе, Белл решил, что разумнее будет перебраться в Канаду. Он уже давно практически перестал обращаться к помощи химических средств: теперь он полагался исключительно на свой опыт психотерапевта.
31
Мелани Грин оставалось жить всего несколько недель: такова была профессиональная оценка доктора Белла. На сей раз она сделала домашнее задание, принеся три — надо же, целых три! — предсмертные записки. Не то чтобы они ему были так уж нужны. Если уж он не сумеет убедить несчастную девицу расстаться с жизнью, тогда ему пора снимать докторскую табличку с двери. Ошибок на сей раз быть не должно.
Она рассказала ему, как ездила к дому отчима, как планировала рассказать его новой жене о его сексуальных пристрастиях и как отказалась от этого, увидев девочку. У нее сдали нервы, что было типично для Мелани: не исключено, что это послужит для нее небольшим препятствием на пути к тому, чтобы достойно уйти. Но лишь небольшим.
— Что вас остановило? — поинтересовался Белл. — Вы собирались поведать об этом его новой жене, так почему было не рассказать его новой дочери о том, что он совершил?
— Ну, во-первых, ей всего лет шесть. Может, семь.
— И вы считаете, что шестилетнему ребенку не следует слышать о таких вещах?
— Да, конечно.
— О вещах, которые с вами делали почти в том же возрасте? Когда вам было семь?
— Я считаю, что маленькие дети не должны даже знать об этом, а уж тем более это делать. А вы думаете, что с шестилетними детьми надо говорить об оральном сексе?
— Сейчас важнее всего то, что чувствуете вы, Мелани.
— В общем, я ни за что не стану говорить об этих штуках с ребенком. Но я остановилась просто от потрясения. Ну, то есть мало того что Ублюдок опять женился и, видно, собирается опять превратить жизнь женщины в ад. Но то, что у него снова маленькая девочка… Это меня просто ошеломило. Меня чуть машина там не задавила. Ей предстоит пережить то же, что и мне, со всеми этими рыбалками, яхтой, «Волшебным миром».
Доктор Белл почувствовал, что утрачивает контроль над собой. В его ладонях вдруг стал нарастать жар, и он поймал себя на том, что представляет себе, как душит ее, трясет ее, кричит ей в лицо: «Ты что, не видишь? Тебе здесь не место. Окажи нам всем любезность и убей себя раз и навсегда». Он с трудом унял бешеный стук сердца в груди. Он решил увести Мелани от ее настоящего — назад, к ее травмам.
— Что было хуже всего в этом? Тогда, когда вы были девочкой. Что было самым-самым ужасным? Физическая боль?
Мелани покачала головой.
Еще минута, и она начнет жевать костяшки пальцев, подумал Белл.
Словно повинуясь его желанию, она поднесла левую руку ко рту и стала грызть одну из косточек.
— Обычно не было никакой физической боли. Только раз или два, когда он, когда он… ну, вы понимаете. О господи. Когда он сзади…
— Анальный секс?
— Ну да.
— У вас были кровотечения?
Она покачала головой, глядя в пол. Белл видел, как она начинает дрожать: в комнату вползла Сущность. Сумрачная фигура в плаще с капюшоном, состоящая изо льда и смерти, заключила молодую женщину в свои объятия.
— Обычно он при этом делал все очень осторожно, — проговорила Мелани. — Чаще всего это было орально. У меня даже губы немели. Иногда у меня саднило между ног. А несколько раз, когда я не могла уснуть, мама спрашивала, что со мной, и мне хотелось ей рассказать. О, как мне хотелось ей рассказать.
— Но вы этого не сделали.
— Нет.
— Потому что…
— Потому что я очень боялась. Он говорил, что если кто-нибудь узнает, то приедет «Помощь детям», и меня заберут. А он сядет в тюрьму.
— Значит, хуже всего была не физическая боль. Получается, хуже всего был страх?
Мелани кивнула, обхватив себя руками, словно в комнате стоял лютый мороз, хотя солнце, бившее в окна, раскаляло воздух в кабинете.
— Я все время боялась. Мне было страшно — вдруг это раскроется.
— Из-за тех последствий, о которых вы только что упомянули?
— Да. А еще… это уже позже, когда мне было лет тринадцать… я боялась, что мама узнает. Потому что я знала, что ей будет от этого больно. И потому что я знала — я беру то, что ей принадлежит. Что я делаю плохо своей собственной матери.
— Что вы спите с ее мужем.
Это должно открыть затычку, подумал Белл, заметив по ее горлу, как она делает глотательное движение.
— Как будто я — другая женщина. Как будто…
Слезы невозможно было сдержать. Они хлынули из нее вместе с жалобными криками, и она, казалось, вся затряслась.
Доктор Белл дал ей коробочку «Клинекса» и стал ждать. Он восхищался чудесной мощью чувства вины. Если им нужным образом управлять, оно куда действеннее любого лекарства.
Когда всхлипы Мелани немного утихли, он произнес:
— Итак, вам приходилось иметь дело со страхом. С чувством вины из-за того, что вы похищаете у матери ее мужчину. Для девочки это очень большое бремя, с этим очень трудно справиться. Но давайте вернемся к «Волшебному миру». Из того, что вы рассказывали мне раньше, можно заключить, что «Волшебный мир» был, пожалуй, самым тяжелым вашим переживанием, но пока мы не дошли до подробностей.
Мелани кивнула. Глаза у нее покраснели от слез, косметика потекла. Та Сущность обратила ее в тряпичную куклу.
Обычно на психотерапевтических сеансах пациенту позволяют двигаться с его собственной скоростью. Как правило, подталкивать его — контрпродуктивно, и риск тут двоякий: с одной стороны, материала может оказаться слишком много для пациента, и он не успеет его усвоить, что приведет к тому, что он выстроит еще более толстую броню отрицания; с другой стороны, такое подталкивание может породить бурный поток эмоций, к которому сам пациент не очень готов. В зависимости от характера существующего невроза это может привести к поведенческим выплескам самого разного рода: пациент может убежать, впасть в ярость или же, само собой разумеется, совершить суицид.
Поэтому доктор Белл побудил пациентку к тому, чтобы она рассказала все в деталях. Мелани молодая, страстная, в ней сильна тяга избавиться от страданий. Доктор Белл знал, что на это он может положиться.
— Для начала позвольте мне убедиться, что я вас правильно понимаю. Вам безумно хотелось попасть на все аттракционы «Волшебного мира», и он обещал вам именно это. И вот вы с ним приезжаете туда, оказываетесь с ним в гостиничном номере, и он вас не отпускает, пока вы его не удовлетворите. За то, чтобы попасть на аттракционы, вы должны дать ему секс.
— Верно.
— Пожалуй, вы намекнули на это, когда сказали, что он заранее попросил вас перечислить ваши любимые аттракционы. Что-то вроде списка подарков, которые вы хотите получить на Рождество. Вы упомянули карусель.
— Точно. Если я хочу попасть на карусель, он… м-м…
— Не торопитесь, Мелани.
Она применила весь арсенал уловок для оттягивания времени: смотрела в пол, изучала ногти, испускала глубокие вздохи, глядела в окно, на стенные часы. Наконец, когда у нее не осталось других возможностей, кроме как впасть в ступор, она произнесла — таким тихим голосочком, что Белл вынужден был наклониться вперед, чтобы расслышать:
— Если я хочу попасть на Карусель, я должна заняться с ним оральным сексом.
Ее правая ладонь поднялась, как веер, чтобы прикрыть лицо.
— Итак, вы заключили с ним что-то вроде контракта. У вас шли своего рода деловые переговоры.
Она покачала головой:
— Никаких переговоров не было. Понимаете, он просто объяснил мне положение вещей. Господи, да мне же было всего семь лет. Я его ни о чем не спрашивала. Он был мой отец. Ну, то есть для меня он был как отец. К тому времени он уже года два с нами жил.
— И он получил то, что хотел?
— Да.
— А вы получили свою карусель.
— Да.
Белл позволил ей еще похныкать; он наблюдал, как ее лицо морщится и из носа сочатся сопли, он слушал ее некрасивые всхлипы. Он не мог позволить, чтобы это тянулось слишком долго, иначе растратится первоначальный импульс.
— Кроме того, была водяная горка, — произнес он. — Кажется, вы указали ее в своем списке.
Мелани кивнула.
— Меня немного мутит. Как по-вашему, может, мне…
— Не хотите лечь? Иногда это вызывает ошеломление — когда вновь переживаешь давнюю боль.
— М-м, может, и лягу. — Мелани неуверенно встала. — Это как на карикатурах, знаете… когда пациент лежит на кушетке у психиатра… вечно над этим шутят. Но у меня правда голова кружится.
— Тогда ложитесь. Шутить не стану, обещаю.
Она осторожно прилегла, деликатно свесив ступни. Взяла одну из подушек и хотела было спустить ее на пол, но потом передумала и подложила ее под генитальную область. Иногда пациенты, сами того не зная, бывают так красноречивы. Ее волосы золотились в луче солнца.
— Вы говорили о водяной горке.
— Да. Мне очень хотелось на горку. По-моему, это вообще самое большое удовольствие, которое у меня было в детстве, — лететь с этой горки. И страх, и восторг, но при этом чувствуешь себя в полной безопасности.
— Что он вам предложил сделать в обмен на это?
— Он ничего не предлагал. Тут не было никаких «может быть». Он сам устанавливал законы, вот и все.
— Но разве вы не объясняли, что он говорил вам так: если хочешь пойти на этот аттракцион, тебе придется сделать то-то? А если хочешь на другой — придется сделать то-то? Получается, он предоставлял вам некий выбор, некое меню?
— Наверное, да.
— И вы выбрали водяную горку?
— Точно.
— Вы ее выбрали. Вас же не заставляли на нее идти, верно?
— Похоже, что нет. О господи.
— И во что вам это обошлось? Какова была входная плата, чтобы прокатиться по водяной горке в тот летний день?
— Я должна была позволить ему… ну, наверное, это называется «половой акт».
— Полный акт. Вагинальный половой акт.
— Да.
— И вы это сделали?
Ему пришлось долго ждать, пока она отплачется.
— И был еще Дикий мышонок, — продолжал Белл. — Ваш самый-самый любимый, как вы сказали. Вам не терпелось на него попасть.
— Анальный секс, — произнесла она мертвым голосом, как что-то обыденное, — Если я хочу на Дикого мышонка, он должен получить анальный секс.
— И он его получил?
— Да. Он сделал из меня маленькую шлюшку. Мне только исполнилось семь, а я уже была проститутка.
— Имейте в виду, Мелани, возраст сексуального согласия в этой стране — четырнадцать лет. Это почти вдвое больше, чем вам было тогда.
Беллу нелегко дались эти слова; и Мелани приняла их, точно бальзам. Он тотчас же увидел эффект: нижняя губа у нее начала подрагивать. Да, это нелегко ему далось, но менее мягкое высказывание могло бы своей бессердечностью спровоцировать гнев и сопротивление, которое ему пришлось бы опять ломать. Ну да ничего: пусть немного доброты и понимания оттянут эндшпиль на неделю-другую, такова уж плата за профессионализм.
— И это в Канаде, — продолжал он, — притом что многие в этой стране полагают, что возраст согласия на сексуальные отношения следует значительно поднять. В большинстве стран он выше. В Великобритании считается, что гражданин младше шестнадцати лет не способен давать обдуманное согласие. Вам тогда было семь, Мелани. Совсем недавно исполнилось семь.
— Не то чтобы я не знала, что он делает. К тому времени, как он повез меня в «Волшебный мир», он уже успел меня посвятить во все подробности.
— И тем не менее, Мелани, речь идет об изнасиловании.
— Ладно.
Иногда ему трудно было выступать в роли утешителя: это было как гладить против шерсти, он чувствовал, что идет против себя. Но это было необходимо. Им нужно ощущать, что ты на их стороне, что ты спасаешь их от самих себя.
— Вернемся назад, Мелани. Итак, что для вас было хуже всего, как бы вы это определили? Он заставил вас почувствовать себя «другой женщиной». И он заставил вас почувствовать себя шлюхой. Он словно бы превратил «Волшебный мир» в «Царство ужаса».
Она вдруг села на кушетке, вцепилась в ее края.
— «Волшебный мир» — это было еще не самое худшее, — заявила она. — Несмотря на все, что там случилось, «Волшебный мир» — это было совсем-совсем не самое худшее.
— Тогда, значит, я вас неправильно понял. Вы хотите сказать, что были другие случаи, другие места, где отчим проделывал с вами еще более ужасные вещи?
— Нет. Не те вещи, которые он делал. В «Волшебном мире» было, конечно, довольно плохо — физически. Но он делал со мной то же самое и в других местах. Даже дома, если уж вы хотите знать правду. Иногда даже в постели моей матери. Представляете, какая сволочь? В постели моей матери. Но даже это было еще не самое худшее. — Она снова легла, ее грудная клетка вздымалась и опускалась, дышала она с трудом. — Хуже всего было, когда мы плавали.
— Это поездки на рыбалку, о которых вы говорили? Походы и прочее?
Мелани покачала головой:
— Нет. Это была не лодка, а яхта. Очень красивая, прогулочная. Думаю, он ее, наверное, одолжил у кого-нибудь, а может, присматривал за ней, пока хозяин был в отъезде. Это было буквально пару раз, мне тогда было лет одиннадцать. Один раз с нами была мама. Но был еще один раз, когда мы с ним там были вдвоем. Это было уже ближе к концу всей этой истории. Он делал много фотографий.
— Эротические позы, как и раньше?
— Некоторые были обычные. Видимо, чтобы он мог показать их маме. Ну, вы представляете: «Вот это мы еще у пристани. А вот мы уже на острове». Но многие из них были явно порнографические. Я надеюсь, что он их не выложил в интернет, просто Богу молюсь. Осталось только, чтобы кто-нибудь из моих знакомых на них набрел.
— Думаете, это возможно?
— Не знаю. Он много времени проводил за компьютером. Ну, известно же о таких штуках.
— Расскажите мне побольше про яхту. Что вам ярче всего вспоминается, когда вы думаете о том времени?
— Как я лежала в постели по ночам. Мы были на Форельном озере, а на нем, знаете, почти всегда мертвое спокойствие. И вот однажды все стихло, и вокруг была полная темнота. Яхта так мягко покачивалась, словно ты висишь в какой-то теплой, нежной штуковине, где с тобой не может случиться ничего плохого. И все-таки…
Доктор Белл позволил ей помедлить. Импульс, ведущий ее к прозрению, можно было буквально пощупать руками.
— И все-таки… — повторила она. — Меня от одного воспоминания тошнит…
— Здесь вы в безопасности. По-настоящему в безопасности. Не как на яхте.
Она посмотрела на него снизу вверх:
— Вы ведь знаете, что я думаю насчет всех этих штук, правда? Ну, то есть вы знаете, что я знаю, что это было неправильно. Что это было мерзко, что это было извращение, что это было незаконно и все такое прочее.
— Да, я знаю, что вы так думаете. Но то, что вам явилась такая мысль, не означает, что это так и есть.
Это замечание прошло мимо нее: он знал, что так и будет. Сейчас она настолько вся обращена внутрь себя, что он может хоть причислить ее к лику святых — она все равно этого не услышит.
— Ну так вот. Замечательно было лежать вот так в темноте. Слушать, как волны бьются о корпус, ну, сами представляете. Как ветерок треплет флажки на корме. Это должно было быть самое умиротворяющее, самое спокойное ощущение на свете. Но я, конечно, не могла спать. Он лежал в своей постели на одной стороне каюты, я в своей постели — на другой. Было жарко, так что на мне были только пижамные штаны, а он никогда ничего не надевал в постель, у него всегда все было наружу. Было так тихо, но я не могла сомкнуть глаз. Я была вся напряжена, мне совершенно не спалось.
Ты не могла уснуть не потому, что боялась: доктор Белл почувствовал искушение произнести это вслух. Не потому что боялась того, что он станет делать, и не потому что хотела, чтобы здесь была твоя мать. Ты не могла заснуть не поэтому. Одиннадцать, двенадцать лет, не важно. И не потому, что ты злилась. Я точно знаю, почему тебе не спалось. Вопрос лишь в том, хватит ли у тебя сил открыть это мне. Открыть самое худшее в себе и принять это, а не судить: вот краеугольный камень психотерапии. Без этих моментов нет терапии, нет продвижения, нет исцеления, есть лишь болтовня. Долгие часы болтовни.
Голос Белла стал тихим-тихим, на пределе слышимости; мягчайшее вопрошание:
— Вы можете сказать мне почему, Мелани? Вы можете сказать, почему вам не спалось? Какие чувства заставляли вас бодрствовать?
— Ну, м-м… Я знала, что это должно случиться. Ну, то есть так всегда случалось, когда мы с ним были одни. Особенно по ночам…
— Вы были ребенком, Мелани.
— Мне было одиннадцать лет! Может, даже двенадцать! К тому времени я должна была сама все понимать!
— Почему? Как вы могли понять? Разве кто-нибудь распространяет руководства под названием «Как рассказать маме, что отчим тебя насилует»? Разве вы когда-нибудь наблюдали, как себя ведут двенадцатилетние девочки? На улице, в фильмах? Где бы то ни было?
— Ну да…
— И на что они похожи?
— У большинства ветер в голове. Такие дурехи.
— Иными словами — дети.
— Дети. Правда.
— Итак, вам одиннадцать, может быть — двенадцать, и вы лежите в темноте в этом совершенно безопасном и потаенном месте, и рядом лежит мужчина, который заявляет, что любит вас. Возможно, по-своему он действительно вас любил. Поблизости никого. Что чувствует девочка?
— Меня сейчас стошнит.
— Чувствуете, что вас сейчас вырвет?
Напряженный кивок. Она побледнела и дрожит, пальцы вцепились в край кушетки.
— Слова — вот что вам нужно из себя извергнуть, Мелани. Тайны. Расскажите мне всего лишь одну вещь, и это ощущение пройдет, обещаю.
— Нет, меня правда сейчас стошнит.
— Вы лежите в темноте. Вам одиннадцать или двенадцать. Рядом с вами — взрослый, большой мужчина. Вы знаете, что он собирается подойти к вашей кровати. Вы знаете о том, что он собирается с вами сделать. Что вы чувствуете? Скажите мне только это, Мелани, и ваша тошнота пройдет. Вы знаете, что он собирается к вам подойти. Что вы чувствовали, перед тем как он пересек это темное пространство и подошел к вашей кровати?
— Он этого не сделал! В том-то и дело, как вы не понимаете? Он не подошел ко мне!
— И что после этого случилось, Мелани? Расскажите мне.
— Не могу! Не могу! Не хочу!
— Нет, хотите. Иначе вы бы не были здесь.
— Ну пожалуйста. Я не могу, вот и все.
— Вы сказали, что он не подошел к вам. Он не подошел к вам… и тогда?
— Я не могу…
— Он к вам не подошел…
— О господи…
— Он не подошел к вам, и…
— Я подошла к нему!
Слезы, которые у нее после этого хлынули, могли бы поглотить в себе все те слезы, которые она проливала здесь раньше. За долгие годы, что он работал психиатром, доктор Белл не видел, чтобы кто-нибудь рыдал сильнее.
— Я хотела этого! Я такая мерзкая! Я такая мерзкая! Я хотела, чтобы он это сделал! Я хотела, чтобы он это сделал! Я сама с ним это сделала! В тот раз я сама это с ним сделала, понимаете? О господи, я заслуживаю того, чтобы умереть. Я просто долбаная шлюха!
Белл наблюдал, как она все плачет и плачет, пока не иссякли слезы.
— Я такая мерзкая, — слабым голосом произнесла она. — Честное слово, не понимаю, как меня еще земля носит.
Теперь она, казалось, стала меньше, словно чувство вины захватило какое-то пространство в ее небольшом теле.
— Боюсь, это все, на что у нас сегодня есть время.
— О господи.
— Если хотите, останьтесь еще на одну-две минуты.
— Нет-нет. Ничего страшного. Все в порядке.
Мелани пригладила волосы и встала, чуть покачиваясь. Собрала свои вещи, все еще шмыгая носом, и двинулась к двери. Открыла ее, остановилась.
— Боже. Не знаю, как дотяну до следующей недели.
— О, кстати, вспомнил. Извините, Мелани, я должен был сказать вам еще в начале часа.
— Сказать мне что?
— На следующей неделе я буду занят и не смогу вас принять.
32
После обеда Кардинал повез записку с отпечатком большого пальца в полицейское управление, чтобы потолковать с Полом Арсено. Пока он не был готов к тому, чтобы официально признать: он выходит на работу. Если бы он это сделал, ему бы пришлось возиться с кучей всяких заданий, а неполицейскими делами ему сейчас было бы заниматься трудно, а может быть, и невозможно.
Арсено отхлебнул кофе из кружки, на которой его фамилию осенял флаг Новой Шотландии.
— Хочешь, чтобы я ее тебе пробил по базе?
— Ты же знаешь, это не классическое расследование, — напомнил Кардинал. — Официально дело не заведено.
— Ты прав, Джон. Не заведено.
Он назвал его по имени: дурной знак. То ли проявление жалости, то ли даже чего-нибудь похуже. Арсено мог слышать о том, как он арестовал Роджера Фелта. Поставив свою именную кружку, он встал из-за стола и закрыл дверь, отделявшую комнату экспертов от хранилища вещественных доказательств и остальной части управления.
— Послушай, Джон. Ты пришел ко мне вот с этим, с предсмертной запиской твоей жены, и ты просишь меня прогнать «пальчики» по базе, и я сам хочу тебе помочь. Ясное дело, хочу. И я это сделаю, если ты действительно хочешь, чтобы я это сделал. Но этим делом уже занимался коронер. И Делорм занималась. И патологоанатом. Все мы этим занимались. И нет никаких, ну никаких причин думать, будто тут замешан кто-то еще.
— Ну и ладно, побалуй меня. Сделай, что я тебя прошу, хотя бы из сострадания, мне все равно, главное, чтобы это было сделано. Я хочу знать, кто дотрагивался до этой записки, кроме Кэтрин.
— Но это же не подделка, Джон, ты сам говорил.
— Тогда тем более на ней не должно быть никаких отпечатков, кроме отпечатков Кэтрин.
— А представь, что придут результаты, и окажется, что это след большого пальца коронера? Как мы все тогда будем выглядеть?
— Если коронер или кто-нибудь из полицейских в форме допустил ошибку — ничего страшного. Люди время от времени совершают ошибки, на ошибки мне наплевать.
Арсено помедлил, разглядывая остатки своего кофе.
— Ты правда думаешь, что ее убили, Джон?
— Я думаю, что эту записку читал кто-то еще. И я хочу знать кто.
— Отлично, ребята. Все молодцы!
Элеанор Кэткарт сошла со сцены, вытирая со лба воображаемый пот, и уселась в первом ряду зала Кэпитал-центра. В детстве Кардинал много раз тут бывал: тогда это был самый большой кинотеатр в городе.
— О господи, у нас завтра вечером премьера, а у Торвальда до сих пор более тесное взаимодействие с суфлером, чем со мной. Что привело вас сюда? Кстати, я очень сожалею насчет Кэтрин. Этой женщины будет очень не хватать.
— Просто хотел с вами поговорить, — ответил Кардинал. — Вы последний человек, кто видел Кэтрин живой.
Из тех, о ком нам известно.
— Да, и в каком-то смысле я чувствую себя ответственной. Если бы я так не восторгалась своими великолепными видами! Если бы я ее тогда не впустила! Если бы я осталась дома!
— Для вас это, наверное, очень тяжело.
— Знаете, конечно, я выдержала и продолжаю существовать, но такие вещи действительно оказывают разрушительное действие на твое joie de vivre.[51] Как говорится, «в последнее время, уж не знаю почему, я утратил всю свою веселость»,[52] хотя я, разумеется, отлично знаю почему. Кэтрин ушла, она не вернется. Впрочем, я, разумеется, уже все рассказала вашей коллеге.
— Это личное. Я просто пытаюсь прояснить некоторые вещи у себя в голове.
— Ну разумеется. Бедный вы, бедный. — Она благожелательно положила ладонь ему на запястье. — Я отлично представляю себе, что вы чувствуете.
Кардинал задал ей вопросы, которые — он это знал — уже задавала ей Делорм. Кэтрин заинтересовалась видом из ее многоквартирного дома и захотела этот вид сфотографировать; они условились о встрече, мисс Кэткарт впустила ее, а сама отправилась на репетицию к «Алгонкинским артистам».
— Вы часто виделись с Кэтрин? Я имею в виду — в колледже.
— Не очень. Так, иногда сталкивалась с ней, привет-привет, все в таком роде. Мы с ней не были подружками. Просто теплые отношения. Я восхищалась ею на расстоянии, думаю, это можно выразить так. Кэтрин была какая-то восхитительно самодостаточная.
Это была правда, и Кардинал это знал. Когда она хорошо себя чувствовала.
— Значит, вы, наверное, не знаете о ее отношениях с другими коллегами?
— Нет. У меня свое маленькое царство в отделении театрального искусства. Оно не особенно пересекается с фотографией.
— Вы когда-нибудь видели ее с кем-то незнакомым? Или просто с кем-нибудь, кому, казалось, не место в колледже?
— Нет. Когда я ее встречала, она обычно была либо одна, либо со своими студентами.
— Вы никогда не видели, чтобы она на кого-то сердилась? Или чтобы кто-нибудь сердился на нее?
— Никогда. Наоборот, ее опекали, вы об этом, должно быть, знаете. Ну и иногда другим преподавателям приходилось замещать ее. Но я уверена, что они понимали: это не из-за какого-то ее каприза. — Мисс Кэткарт коснулась лба изящными кончиками пальцев. — Ну, разумеется, у нее все же были определенные contretemps[53] с Мередит Мур.
— Расскажите мне об этом, — попросил Кардинал. От Кэтрин он много раз слышал ее собственную версию этой истории.
— О, это были просто обычные трения, которые касались политики колледжа. Когда освобождается вакансия руководителя отделения, тут-то все и показывают зубы. Семейство Борджиа — сущие дети по сравнению с нашими преподавателями. Когда Софи Клейн ушла от нас в Йоркский университет, и Кэтрин, и Мередит пожелали возглавить отделение изобразительных искусств. Пожалуй, по квалификации они были равны друг другу: Кэтрин больше ценили за ее творческую работу, а у Мередит был более богатый административный опыт. Глупо, что Мередит приняла это как личный вызов — то, что Кэтрин вообще решилась выдвинуть свою кандидатуру. Видимо, она считала, что корона должна сама собой лечь на ее миропомазанную главу, бог знает почему.
К тому же Мередит опустилась до того, что указала на… м-м… странности Кэтрин как на негативный фактор, который может помешать ей занять эту должность. Даже ходили слухи, будто декану анонимно прислали копию истории болезни Кэтрин, но это больше похоже на легенду, во всяком случае, так мне кажется. Ну а результат вы знаете.
— Должность заняла Мередит.
— И я всегда восхищалась тем, как приняла это Кэтрин. Она не сказала ни одного дурного слова о Мередит, ничем не выразила свою обиду. Но Мередит…
— Но Мередит — что?
Мисс Кэткарт сверкнула тонким клинком улыбки:
— Знаете, как говорят: люди ни за что не простят вам то плохое, что они вам сделали. Я убеждена, что Мередит была бы счастлива, если бы Кэтрин заменили кем-то еще. После этого случая она с трудом могла находиться с ней в одном помещении и постоянно говорила о ней всякие гадости за ее спиной. Старая кочерга.
Тем не менее, когда он ее посетил, Мередит Мур выглядела воплощением благородства. Она сжала руку Кардинала своими маленькими ладошками, твердыми, как дерево, посмотрела ему в глаза и заявила:
— Как жаль, что с Кэтрин это случилось. Такая трагедия.
— Вы нашли кого-то, кто будет читать курс вместо нее?
— В середине семестра? Это нелегко сделать. Да, мы нашли временную замену, но это не идет ни в какое сравнение с тем, когда человек ведет курс, который сам специально подготовил.
— Я слышал, что вы были не особенно довольны Кэтрин. Что вы, кажется, планировали кем-то заменить ее.
Мередит Мур выглядела, мягко говоря, болезненно-хрупким существом: ее волосы, казалось, вот-вот переломятся, а лицо было как из тонкой гофрированной бумаги. Кардинал почти готов был услышать треск, когда ее губы вытянулись в тонкую линию.
— От кого бы вы это ни слышали, — произнесла она, — эти люди понятия не имеют, о чем говорят. Все оценивали Кэтрин самым превосходным образом, и ее фотографии ставились очень высоко.
— Значит, вы не стремились найти ей замену.
— Не стремилась.
— Как бы вы охарактеризовали ваши отношения с Кэтрин? Как вы с ней ладили?
— Отлично. Мы не были с ней близкими друзьями, но я бы сказала, что у нас были хорошие коллегиальные отношения. Должна заметить вот что: я знаю, что вы сотрудник полиции и что определенная манера невольно проявляется в вас, хотите вы того или нет, но наша беседа, на мой взгляд, очень напоминает допрос.
— Вы сказали, что студенты оценивали Кэтрин самым превосходным образом. Не знаете ли вы, может быть, кто-нибудь из студентов доставлял ей неприятности? Может быть, кого-нибудь обидела низкая оценка?
— Ничего о таком не знаю. И очень сомневаюсь, что такое было. Она была хорошим преподавателем и при этом была щедра на высокие оценки. Некоторые слишком строги, некоторые чересчур снисходительны. Лично я стараюсь держаться середины. Кэтрин же относилась к снисходительным преподавателям: думаю, в этом она бы сама со мной согласилась.
И Кардинал знал, что это правда. Кэтрин терпеть не могла ставить плохие отметки тому, кто прикладывал хоть малейшие усилия к учебе, и очень расстраивалась, когда у нее не оставалось иного выбора.
— К вам когда-нибудь приходили расстроенные студенты, прося исправить низкую оценку, которую им поставила Кэтрин?
— Нет. Имейте в виду, сейчас только середина семестра, студентам еще рано беспокоиться об успеваемости.
— А еще Кэтрин тоже хотела возглавить отделение.
— Безусловно, хотела. Она очень убедительно представила свою кандидатуру.
— Насколько я понимаю, это внесло напряжение в ваши «коллегиальные» отношения. Верно?
— Вам так говорила Кэтрин?
— Я спрашиваю вас.
— Можно с уверенностью сказать, что мы обе в результате оказались несколько взвинчены. Это вполне можно понять, вам не кажется? Вряд ли в управлении полиции не существует духа соперничества.
— Ну, с крыши пока еще никто не срывался.
Рот миссис Мур открылся с хорошо слышным причмоком.
— Вы думаете, она покончила с собой из-за того, что не получила руководящую должность?
— Нет, не думаю.
— Хорошо. Потому что она не выражала никакой негативной реакции на это — по крайней мере, мне об этом ничего не известно. И потом, у Кэтрин была… как бы это сказать… чувствительная душа, не так ли?
— Да. Вы виделись с ней в день ее смерти?
— Я видела ее у нас в холле, примерно в обеденное время. Она шла на свои дневные занятия.
— А как насчет вечера?
— Во вторник вечером у нее нет занятий.
— Я спрашивал не об этом.
Миссис Мур начала краснеть, но по выражению ее рта было видно, что это жар гнева, а не румянец смущения.
— Ответ — нет.
— Вы тогда были в колледже?
— Я была дома, смотрела «Гонки старинных автомобилей». Видите ли, не знаю, как бы вам это сказать… Мне очень жаль, что с Кэтрин это случилось, действительно жаль. Но мое сочувствие к ней не простирается до такой степени, чтобы принимать как должное, когда меня допрашивают, словно преступника.
— Вполне понимаю, — ответил Кардинал и направился к выходу. — Преступникам тоже это не нравится.
33
Дороти Белл складывала газеты в стопки, чтобы сдать их в макулатуру, когда ее внимание привлекла одна статья. Она расправила газетный лист на кухонном столе и стала близоруко вглядываться. В статье говорилось, что на похороны Перри Дорна явилось свыше двухсот скорбящих. У Перри Дорна, недавнего выпускника Северного университета, было множество друзей, он пользовался большим уважением преподавателей. В издании приводились высказывания нескольких людей, знавших покойного.
«Перри был очень щедрый парень, — говорил один. — Он всегда мог с тобой поделиться всем, что у него есть. Даже когда был совсем на мели».
«Всегда заботился о других», — утверждал второй.
«Весьма острый интеллект, — отзывался о нем профессор математики. — Чтобы сравняться с Перри, вам следовало трудиться не покладая рук».
Причиной, по которой «Алгонкин лоуд» уделила так много внимания этим похоронам, явилось, без сомнения, то, что Перри Дорн поразил местную общественность, вышибив себе мозги в прачечной-автомате.
Газета сообщала, что он долгое время страдал от депрессии.
«Но недавно ему, похоже, полегчало, — отметил его однокурсник. — Он рвался в Монреаль, делать диплом. С восторгом говорил про Мак-Гилл».
Один из подзаголовков гласил: «Романтические разочарования». Бывший сосед по общежитию утверждал, что Перри Дорн склонен был увлекаться недостижимыми для себя женщинами. «Обидно то, что у него могла быть масса подружек. Многие девушки с радостью согласились бы с ним встречаться, он был такой умный, с мягким характером. Но он вечно западал на тех, кто им не интересовался. И в итоге впадал в депрессию, сутками не ел, не спал, даже не разговаривал. Иной раз это выглядело страшновато».
Шелли Лануа, сестра молодого человека, сказала лишь: «Мы слишком подавлены, чтобы давать комментарии».
Имя Перри Дорн ничего не говорило Дороти Белл, но она быстрее бы узнала его лицо на снимке, если бы не академическая шапочка, скрывшая его преждевременно редеющие волосы. Впрочем, она не могла скрыть его тощую цыплячью шею, громадное адамово яблоко, глубоко посаженные скорбные глаза: да, несколько раз она видела этого юношу в приемной возле кабинета мужа.
В тот момент, когда она его узнала, сердце у нее учащенно забилось. Молодой человек, которому предстоит делать диплом, вместо этого решает свести счеты с жизнью, да еще и таким впечатляющим способом. Молодой человек, у которого столько причин быть счастливым, быть оптимистом. Молодой человек, который был пациентом ее мужа.
Когда Дороти впервые встретила Фредерика, — а с тех пор прошло уже больше тридцати лет, — на нее произвел глубокое впечатление его ум. Она и сама была не дурочка, получала отличные отметки у себя в медучилище, но он обладал блеском интеллекта, какой она никогда не сумела бы обрести. Он был темноволосый, симпатичный, без бороды, без очков, с очаровательным комплектом нервных тиков. Даже в свои двадцать с небольшим он уже был звездой в той лондонской больнице, где они тогда работали.
Когда однажды он предложил ей поужинать вместе, ей трудно было найти слова, чтобы ему ответить. Она обернулась: нет ли за ее спиной в коридоре других молодых врачей, которые участвуют в этом розыгрыше? Но никого не было.
В то время ни у него, ни у нее не было денег. Он повел ее в выдержанное в американском стиле заведение на Кингс-роуд, где в каждом кабинетике стоял музыкальный автомат и бутылочка кетчупа «Хайнц». В те дни гамбургеры считались в Лондоне экзотическим лакомством. Прошло уже много времени после того, как они поженились, когда Белл ей признался, что заведение оказалось гораздо дороже, чем он предполагал. У него едва хватило на то, чтобы заплатить за еду, на чаевые уже не осталось.
— Больше никогда не решался туда заходить, — любил говорить Белл, пересказывая друзьям эту историю. — От смущения.
Поначалу Дороти получала удовольствие от его ума и чувства юмора. А ему нравилась ее чуткость и то, как она сумела превратить мрачную квартиру в настоящий дом. Они были так довольны друг другом, что не видели смысла нарушать этот приятный ход жизни, заводя детей. Во всяком случае, так выражался Фредерик. Дороти не прочь была бы попробовать, но по его высказываниям она чувствовала, что он не из тех мужчин, кого порадовало бы отцовство.
Она до сих пор с тоской вспоминала об их первых годах. Они развлекались тем, что на выходные ездили осматривать сумрачные английские деревушки, а иногда выходили прогуляться.
Постепенно — она не могла бы точно сказать, когда это началось, — их первоначальное счастье стала подтачивать какая-то нестабильность в профессиональной жизни Фредерика. Когда-то он был в полном восторге от того, что ему дали постоянную должность в Кенсингтонской клинике: у нее была великолепная репутация, и вот ему посчастливилось туда попасть. Но всего через полтора года он вдруг объявил, что они переезжают в Суиндон: ему захотелось перейти в Суиндонскую больницу общего типа. Это было довольно приятное место; Дороти нравились коллеги-медсестры, и тем не менее она считала, что муж сделал серьезный шаг вниз по карьерной лестнице. Впрочем, вслух своего мнения она не выражала.
Как раз в Суиндоне Фредерик и попал под расследование: его заподозрили в том, что он выписывает слишком большие дозы лекарств. Как он ей объяснил, он всего лишь прописал страдающему депрессией трициклик: не особенно экзотическая стратегия лечения. Однако пациент практически сразу же проглотил целый пузырек снотворного, которое ему также выписал доктор Белл. Убитая горем семья покойного заявила, что Белл игнорировал очевидные призывы о помощи, что мальчика следовало госпитализировать. Больничное следствие признало его виновным в недостаточном присмотре за больным и всего лишь объявило ему выговор. Но он все равно пришел в ярость.
— Идиоты! — кричал он. — Тупицы. Что они понимают? Те, у кого депрессия, то и дело себя убивают. Между прочим, этот парень мог бы уже несколько месяцев быть мертв, если бы не я. Суицид для страдающих депрессией — в порядке вещей. И скрывать свои намерения для них тоже в порядке вещей. Им это отлично удается, у них большой опыт по этой части. Если меня обвиняют в том, что я не сумел прочесть его мысли, что ж, я готов признать себя виновным.
Уже тогда Дороти подумала: читать мысли — в этом и состоит работа психиатра. Но Фредерик был ее мужем, и она приняла его сторону, разделила его гнев. Молодой доктор был ей за это очень признателен, и неприятность, случившаяся еще на заре их совместной жизни, лишь укрепила семейные узы.
Несмотря на этот эпизод, Фредерик вскоре нашел для себя работу получше, на сей раз — в графстве Ланкашир, в Манчестерском психиатрическом центре. Эта работа устраивала его куда больше. Они стали вести оживленную общественную жизнь, обзавелись многочисленными друзьями, устраивали вечеринки, которым многие завидовали. Дороти уже думала, что они наконец-то хорошо устроились, наконец-то в безопасности, но тут из Центра сообщили, что намечается новое расследование по поводу медицинской практики Фредерика. В больнице начали проявлять беспокойство насчет количества случаев суицида среди его пациентов.
Но расследование было кратким, и большинство обвинений были с него сняты. В рецептах, которые он выписывал, не нашли ничего аномального. Если уж на то пошло, он применял даже меньше медикаментов, чем его коллеги.
— На мой взгляд, мы прописываем слишком много препаратов, — заявил он комиссии. — Я считаю, что оптимальный путь лечения депрессии должен сочетать в себе психотерапию и медикаментозные методы. По отдельности ни то ни другое не является эффективным, особенно в острых случаях. Однако если вы всецело полагаетесь на лекарства, риск слишком высок: в таком случае лечение протекает со скоростью, определяемой самим препаратом, а не естественной способностью пациента к исцелению.
В этом он опередил свое время. Тогда он уже был одним из ведущих британских специалистов по лечению депрессии и выяснению ее причин. Он взвалил на себя геркулесову ношу, принимая огромное количество пациентов и сосредоточившись почти исключительно на депрессии. Комиссия заключила, что это как раз и должно было неизбежно привести к высокому уровню самоубийств среди его подопечных.
Однако Фредерика очень обидела вся эта шумиха. «Оскорбительная неблагодарность, — снова и снова твердил он. — Невероятная тупость. Они собирают целую комиссию, затевают расследование, чтобы убедиться в очевидном: тоскующие люди убивают себя».
Вскоре пара эмигрировала. Несмотря на то что больница сняла подозрения с ее мужа, Дороти почувствовала, что ее вера в его способности пошатнулась. Она достаточно знала о больничной политике, чтобы понимать: администрация в общем-то могла бы замять скандал. А когда они уже собирали вещи, она обнаружила письмо из Государственной службы здравоохранения, извещавшее, что готовится еще одно расследование, на этот раз — относящееся ко всему периоду его практики, от Суиндона до Манчестера. Она была совершенно поражена.
На письме стояла дата — как раз после манчестерской истории. Но Фредерик ничего ей о нем не сказал.
Она не могла заставить себя обсудить это с ним. Она не хотела, чтобы он обзывал ее идиоткой, тупицей, дурой. Но с того момента, как они прибыли в Торонто, Дороти Белл решила: она не станет шпионить за ним, но все же будет пристальнее следить за судьбой пациентов мужа. Разумеется, врачебная тайна мешала ей узнавать имена большинства его больных. Однако иногда ей удавалось подслушать, как он говорит по телефону. А пару раз, когда кто-нибудь умирал, муж говорил ей: «Мой пациент. Вот бедняга».
Она заметила, что он собирает эти некрологи, вырезая их из газет.
Фредерик не прижился в Торонто, и после недолгой работы в Психиатрическом центре на Куин-стрит он принял предложение занять должность в больнице Онтарио в городе Алгонкин-Бей. Жене он сказал, что устал от больших городов, что он хочет пожить в маленьком городке, — и у нее не было оснований ему не верить.
Это было два года назад. Но с тех пор Дороти узнала о трех самоубийствах среди подопечных ее мужа: Леонард Кесвик, администратор службы социальной помощи; Кэтрин Кардинал, преподаватель и фотограф; и вот теперь — этот Перри Дорн. Обо всех трех случаях писали в газетах: о первом — потому что самоубийцу обвиняли в преступлении, о втором — потому что женщину нашли мертвой возле только что построенного здания, а о третьем — потому что парень покончил с собой так громко и публично. Трудно было это признать, но Дороти чувствовала: наверняка есть и другие.
Да, этот юноша, этот Перри Дорн. Почему Фредерик и словом не обмолвился, что он тоже был его пациентом? Это было во всех новостях, да еще и в местной газете. Он мог бы признаться, как он потрясен, как ужасно расстроен, это было бы естественно. Но он ничего не сказал, ни единого слова.
Дороти отложила статью в сторону и закончила увязывать остальные газеты. Пора было идти за продуктами, пока не наступила предвечерняя толчея. По пути к выходу она остановилась у закрытой двери кабинета Фредерика. Сквозь дубовую панель мало что можно было услышать, но она различила его голос и более тихие реплики пациента. Сейчас он не вел прием; следующий пациент должен был прийти не раньше чем через полчаса. Нет-нет, он просто смотрит запись сеанса. Он часто это делал.
Однажды она спросила: почему он так часто пересматривает свои сеансы?
— Самоусовершенствование, — ответил он в своей ироничной манере. — Учиться никогда не поздно. Когда я пересматриваю сеанс, я замечаю мелкие штрихи, которые упустил, какие-то небольшие жесты пациента, на которые не обратил внимания. И конечно, это помогает мне лучше все запоминать.
Но это уже больше чем просто обучение, подумалось ей, когда она вышла и закрыла за собой дверь. Теперь Фредерик каждую свободную минуту смотрел свои записи, удаляясь в кабинет даже поздно вечером, когда прочие люди читают, или смотрят телевизор, или готовятся ко сну.
Было в этом что-то нездоровое.
34
Шеф полиции Р. Дж. Кендалл в общем-то не был жестким человеком. Кардиналу доводилось видеть, как он дает подчиненным второй, третий, даже четвертый шанс, хотя сам Кардинал на его месте давно отобрал бы у них служебный значок и табельное оружие. Но при этом Кендалл отличался непоследовательностью — до такой степени, что вы невольно задавались вопросом, не является ли эта непоследовательность продуманной стратегией, позволяющей постоянно держать сотрудников в узде. Если его к этому подталкивали, он мог начать выкрикивать оскорбления — достаточно громкие, чтобы их слышало все управление. А неделю спустя он мог как ни в чем не бывало похвалить бывшего нарушителя за хорошую работу.
Сейчас Кендалл восседал в своем большом кожаном кресле, и свет из окна превращал его редеющую серебристую шевелюру в тусклый нимб. Он не предложил Кардиналу сесть.
— Не то чтобы я вам не сочувствовал, — проговорил он. — Если бы моя жена, не дай бог, скончалась при таких же обстоятельствах, у меня, вероятно, возникло бы искушение поступить точно так же.
— Шеф, я видел ее всего за три часа до этого. Она была в отличном настроении. Ей не терпелось начать работать над новым проектом. Такого не ждешь от человека, который вот-вот себя прикончит.
— У нас есть заключение коронера — суицид.
— Молодой врач. Небольшой опыт коронерской работы.
— Вы сами прочли ее записку. Вы идентифицировали почерк. Думаю, нам незачем углубляться в ее историю болезни, верно?
— Она отлично себя чувствовала, шеф. Она не испытывала никакой подавленности.
— Делорм, Маклеод, Желаги — все они были там вместе с коронером. И никто из них не обнаружил никаких фактов, которые бы не соответствовали версии о самоубийстве. Патологоанатом также ничего не обнаружил. Здесь нечего расследовать. У нас нет дела.
— Ее предсмертная записка написана несколько месяцев назад. Мне это подтвердил один человек из отдела документов.
— Вам не следовало туда обращаться, — заметил шеф. Нижнюю часть его лица стал заливать предупреждающий румянец. — Это называется неправомерным использованием ресурсов полиции. У нас нет дела.
— Чтобы поверить в самоубийство, вам придется поверить, что она написала предсмертную записку три месяца назад. А потом спокойно жила, ничем не выдавая своего намерения. А потом, однажды вечером, в разгар работы над фотопроектом, она берет с собой эту записку, чтобы оставить ее на месте происшествия, перед тем как спрыгнуть с крыши.
— У нас НЕТ ДЕЛА. — Кендалл уже вскочил, его поблескивающее лицо было апоплексически-багровым. Он был невысок, но с лихвой компенсировал децибелами то, что не добирал сантиметрами. — Вы не смеете являться сюда и внушать мне, что все управление полиции ошибается, а вы правы. И извольте воздержаться от допросов главы отделения колледжа, оставляющих впечатление, будто вы считаете ее членом мафии! Я понятно выражаюсь?
— Шеф, есть веские основания, чтобы…
— Вы даже были не на работе, Кардинал, вы были в отпуске. И вы допрашивали эту женщину так, словно она проходит по делу об убийстве. Но ТАКОГО ДЕЛА НЕТ. Ваше поведение было бы недопустимым, даже если бы она была проституткой или наркоторговцем. Но Мередит Мур возглавляет отделение колледжа, и вы не имеете права допрашивать подобных людей, когда у вас нет ордера, нет полномочий и НЕТ ДЕЛА!
Кардинал попытался заговорить, но шеф поднял руку, точно регулировщик, останавливающий движение.
— И я не желаю, чтобы вы отсюда вышли в убеждении, будто это тот случай, когда я дам вам второй, третий или четвертый шанс. Это не так.
Если вы хотите вернуться на работу — отлично, возвращайтесь. Но вы здесь для того, чтобы заниматься теми делами, которые одобрю я и ваш детектив-сержант. Все прочее будет незаконным использованием ресурсов полиции, и я этого не потерплю. Вы меня поняли?
— Да.
— Хорошо. Надеюсь, эта тема теперь закрыта.
— У меня только один вопрос.
— Какой?
— Что заставило бы вас завести дело по Кэтрин?
— Нечто большее, чем у вас есть.
Вернувшись за свой стол, Кардинал обнаружил, что его ждет свежее электронное письмо.
Кому: П. Арсено, Л. Бёрку, Р. Коллинвуду, Л. Делорм, Й. Маклеоду, К. Желаги
От: Р. Дж. К.
Я знаю, что все вы глубоко опечалены трагической потерей, которая произошла в жизни Джона Кардинала, и я разделяю с вами эту печаль. Тем не менее должен напомнить вам, что по данному случаю было вынесено заключение «суицид» и в результате полицией не было заведено дело. Следовательно, никакого расследования не проводится. Повторяю: никакого расследования. Всякий, кто станет использовать ресурсы полиции, для того чтобы попытаться прийти к иному заключению по данному случаю, тем самым нарушит Закон о полицейской службе и понесет соответствующее наказание.
Р. Дж. Кендалл, начальник полиции
Сразу бросалось в глаза, что имя Кардинала списке адресатов отсутствует; письмо переслал ему Арсено. Сейчас Арсено махал ему, вызывая в коридор, соединявший отдел уголовного розыска с комнатой экспертов.
— Хотел с тобой обсудить кражу в «Целлерсе», — во всеуслышание объявил Арсено.
Кардинал отправился за ним в экспертизу. Коллинвуда не было, и в помещении они оказались вдвоем.
— Я проверил отпечаток по базе, — сообщил Арсено.
— Видимо, сейчас мы не можем об этом говорить.
— Почему? Что, воздух принадлежит полицейской службе?
— Ей принадлежит время.
— Ничего. Кендалл покинул здание. — Он ткнул большим пальцем в окно, в сторону парковки. — Только что видел, как он отбыл в лимузине.
— Спасибо, что переслал мне это письмо. Я не хочу, чтобы из-за меня у кого-то были неприятности.
— Забудь. Кендалл — лапочка. В общем, я просто хотел тебе сообщить, что по этому отпечатку результат отрицательный.
— Вообще ничего?
— Ни на местном уровне, ни на федеральном. Полный ноль.
— Ладно. Все равно нужно было попытаться.
— У меня есть еще несколько линий, по которым я мог бы пройтись. Хочешь, чтобы я продолжал?
— Только постарайся, чтобы Кендалл не узнал.
Кардинал посмотрел, что пришло на его имя по почте и по телефону, и уселся за свой стол. С фотографии в латунной рамке на него, улыбаясь, смотрела Кэтрин — с той же улыбкой, которая заставила его сердце перевернуться, когда они впервые встретились. Кардинал выдвинул средний ящик стола, убрал туда снимок и задвинул ящик.
Он стал приводить в порядок входящую корреспонденцию: вызовы в суд, офисные циркуляры, сообщения о слушаниях в комиссии по условно-досрочному освобождению, выписки по его пенсионному счету, сведения из бухгалтерии и многочисленные неклассифицируемые материалы, которые отправились непосредственно в корзину для бумаг.
Он потянул на себя средний ящик, вынул фотографию и снова утвердил ее в углу стола.
— На этот раз ты действительно здесь?
Делорм бросила портфель на свой стол. Она выглядела усталой и недовольной, губы были чуть надуты, но для Делорм ничего необычного в этом не было.
— Я вернулся, — ответил Кардинал. — По крайней мере, физически.
Делорм села и подкатилась на своем кресле поближе к нему.
— Можно я тебе расскажу об одном деле, вдруг оно тебя немного отвлечет?
— Ну-ка?
Она стала вытаскивать папки из портфеля.
— У меня есть место преступления, но нет свидетелей, нет жертвы и нет исполнителя. Ты хорошо разбираешься в детском порно?
— У меня было не очень-то много таких дел. Кесвик, помнишь его?
— Кесвик — это еще ерунда. Приготовься, у меня есть для тебя кое-что сногсшибательное.
35
Леонард Кесвик, сидя на кушетке, наклоняется вперед, стискивая и вертя изорванную салфетку. Он имеет более или менее шарообразную форму и выглядит ослабевшим и упавшим духом, словно частично сдувшийся футбольный мяч. Глаза у него большие и влажные, чуть навыкате, как у собаки-ищейки. Он скорбно глядит в невидимую камеру.
— Не знаю, что мне делать, — говорит он. — Не знаю, куда обратиться с этой проблемой.
— Что ж, вы обратились сюда, — отвечает доктор Белл на экране. — Начало положено, не так ли?
— Да, но что-то я никак с этим не справлюсь. Прошло уже несколько месяцев, а мне не стало лучше.
Пересматривая эту сцену год спустя, доктор Белл кивнул в знак согласия. «Потому что ты и не хочешь улучшения, — негромко произнес он — не на экране, а вживую. — Ты просто не готов это признать».
В кабинете зазвонил телефон, и доктор Белл нажал на паузу. Он настроил автоответчик так, чтобы тот включался после первого гудка, так что он мог отслеживать сообщения. Он знал, кто это. Она уже звонила дважды, и второе послание было значительно более отчаянным, чем первое.
— Доктор Белл? Это Мелани. О господи, вы, наверное, в больнице или заняты с другим пациентом. Пожалуйста, перезвоните мне, как только это получите. Мне очень, очень плохо…
— Разумеется, тебе плохо, — произнес доктор Белл в пространство. — Тебе вечно плохо.
— Я боюсь, что на этот раз действительно могу это сделать. Я не могу перестать об этом думать.
Белл сцепил руки за головой и заявил, обращаясь к потолку:
— По-моему, имеет место реальное продвижение.
— Пожалуйста, перезвоните, как только вы это получите. Пожалуйста. Простите. Мне просто нужно… мне просто… Пожалуйста.
— «Пожалуйста-мне-просто, пожалуйста-мне-просто, пожалуйста-мне-просто…» — передразнил ее доктор Белл. — Дай-мне-дай-мне-дай-мне. Мне-мне-мне.
— Я опять увидела отчима, и в этом было что-то такое, из-за чего я словно перешагнула через край. Все стало такое черное. Абсолютно черное, я с трудом дышу. Пожалуйста, перезвоните, когда вы это получите.
Робкий щелчок: она положила трубку.
Белл откинулся на спинку кресла и нажал «Воспроизвести».
— С чем я не могу справиться, — говорит Кесвик, — так это с тем, какой я становлюсь беспомощный, когда дело доходит до этого. И все накатило так неожиданно. Понятно, в детстве я смотрел порножурналы, как и все. Смотрел их, пока учился в колледже, и немного после колледжа. Но журналы — это другое. В журналах все, в общем, нормально: взрослые женщины, взрослые мужики. Я же не кидался тогда искать то, на что смотрю теперь!
— Я вам верю, — откликается доктор Белл. — Есть люди, страдающие патологическим пристрастием к «И-Бэй»,[54] к онлайновым магазинам, к виртуальным азартным играм, — люди, у которых не было проблем в этой сфере, пока в их жизнь не вошел интернет.
— Да, потому что раньше вам пришлось бы пуститься на всякие ухищрения, чтобы сделать что-нибудь такое. Посмотрим правде в глаза: раньше в Алгонкин-Бей трудно было стать покупателем, помешанным на шопинге. Что вы могли — скупить всю коллекцию лыжных брюк? То же и с азартными играми. У нас тут нет ни одного казино. Максимальный ущерб, какой вы могли бы себе причинить, — разориться на лотерее. Но это… Эта штука — непосредственно у меня дома. Как если бы шкафы у меня в спальне и в кабинете стали неисчерпаемым источником картинок.
— Это только картинки? — задает вопрос доктор Белл на экране.
— Что? — Кесвик смотрит на него ошалело, как будто доктор почему-то обратился к нему на языке фарси. — Ну да, я пальцем не трону ни одного ребенка. Раньше я вообще никогда не думал о детях в сексуальном плане. И я по-прежнему… ну, о тех детях, которых я встречаю на улице, я так не думаю. И я знаю, какой вред могут принести половые извращения. Я никогда не сделаю это с ребенком. Никогда.
— Что ж, давайте обсудим то, что вы действительно делаете.
— Смотрю на картинки. Вот и все. Добываю их на сайтах-файлообменниках.
— Вы когда-нибудь сами размещали какие-нибудь картинки?
— О господи, нет.
— Вы платите за картинки, на которые смотрите?
— Нет. И никогда не стану. Иначе это будет финансовая поддержка всего этого бизнеса.
— Хорошо. Тогда скажите, что же ужасного вы совершаете? Вы не растлевали детей. Вы не фотографировали детей. Вы не платили за то, чтобы кто-нибудь делал для вас такие фотографии. Вы никому их не посылали.
— Нет! Я всего лишь на них смотрел! Но это мерзко! Это мерзко! Я не должен на них смотреть! О господи, как мне стыдно. Как стыдно.
Кесвик рыдает, слезы струятся у него по щекам. Он снимает очки и пытается положить их на стол, но роняет на пол. Он даже не пытается нагнуться, чтобы их подобрать, продолжая сидеть и плакать: мокрый, рыхлый ком.
Наконец у него хватает сил снова заговорить:
— У меня ведь есть свои дети, вот что паршивее всего. Дженни и Роб. Им три года и пять, они младше, чем те, на картинках, но все равно меня тошнит. Не могу себе представить, что бы я сделал, если бы узнал, что кто-нибудь фотографирует моих детей. Думаю, в этой ситуации я бы даже смог кого-нибудь убить.
— Сколько это уже у вас продолжается? Год? Полтора?
— Около полутора лет. Началось так внезапно. В ту секунду, когда я зашел на этот сайт, у меня внутри словно щелкнул замок. Как будто какие-то рычажки встали на место, и я вдруг из более или менее нормального человеческого существа превратился в сексуального маньяка. В извращенца.
Он снова плачет, а доктор Белл молча за ним наблюдает.
— Я попробовал использовать двенадцатиступенчатую программу,[55] как вы советовали. Я нашел специальный сайт. Наверное, это лучше, чем ничего, но у них это проводится всего раз в неделю, и иногда на этой сайт почти никто не заходит. А здесь у нас я не знаю ни о каких группах взаимной поддержки для людей, страдающих от сексуальной зависимости. Даже если бы они и были, я бы никогда не решился рассказать им, на что смотрю.
— Вы рассказали мне. Почему вы не сможете рассказать им?
— Тут другое дело. Вы врач. Наши разговоры конфиденциальны. А на этих встречах могут оказаться мои знакомые. Я умру, если это когда-нибудь всплывет. В буквальном смысле умру. Покончу с собой.
— Что ж, вероятно, нам надо постараться как-то ослабить то чувство стыда, от которого вы страдаете.
— Но это же действительно стыдно. То, чем я занимаюсь, действительно стыдно.
— Дайте мне закончить. Мне представляется, что во всех зависимостях имеет место своего рода цикл стыда. Возьмем, к примеру, героин. Наркоман решил прекратить принимать это вещество, но он чувствует себя слегка нервным, слегка взвинченным. В конце концов он идет, покупает дозу и вкалывает ее себе. Чудо — тревожного состояния как не бывало. Мощная вещь. Но, разумеется, эффект проходит, и наркоман остается один на один с чувством стыда, вызванным тем, что он снова употреблял наркотик. И ему нужно что-нибудь, чтобы противодействовать стыду. Что ему первым делом приходит в голову?
— Новая доза.
— Новая доза. Именно так. Вот одна из причин, почему двенадцатиступенчатые программы дают некоторый результат. Когда вы находитесь в комнате, полной людей, которые принимают вас вместе с вашей дурной привычкой и которые даже разделяют ее с вами, — это весьма действенный метод, помогающий умерить чувство стыда. И вы правильно сказали: конечно, жаль, что у нас в городе нет такой группы. А если мы, допустим, проведем пару сеансов с участием вашей жены…
— Ни за что. Даже не думайте. Она даже не знает, что я к вам хожу.
— Но вы много раз говорили, что у вас очень теплые и любовные отношения с вашей женой. Неужели эта любовь не выдержит того разочарования, которое, возможно, испытает ваша супруга, узнав, что у вас есть одна нехорошая привычка?
— Она возненавидит меня. Она меня бросит. Она заберет детей, и мне их больше никогда не удастся увидеть.
— Вы уверены?
— Еще бы. Я слышал, как она об этом говорит. Ну, когда не то в газетах, не то по телевизору была история про одного учителя, или священника, или еще кого-то. Она всегда выражает такое омерзение. Говорит что-нибудь вроде: «О, сварить бы этого типа в кипящем масле». Или: «Этого мужика надо бы кастрировать».
Доктор Белл, глас разума и спокойствия:
— Но священники, учителя — это люди, которые несут ответственность за большое количество детей. Такова их профессия — им должны доверять.
— А я работаю в «Ком-Соце». Социальная защита. Меня окружают социальные работники. Думаете, они потерпят в своей среде человека, который подсел на детское порно? Меня в пять секунд оттуда вышвырнут.
— Мы говорили о вашей жене, а не о ваших коллегах. Вы просто поделились бы определенной информацией со своей женой. Вы не допускаете, что ее реакция на случаи, о которых вы упомянули, была несколько преувеличенной? Человек нередко может выкрикнуть: «Да его повесить надо!» Но это не значит, что он действительно имеет это в виду.
— Может, она и преувеличивала. Мэг не из тех, кто скрывает свои чувства. Насчет наказаний она могла преувеличить: насчет кастрации и тому подобного, — но свое омерзение она не преувеличивала. Я в каждом ее слове слышал отвращение. Если она когда-нибудь почувствует ко мне такое же отвращение, я этого просто не переживу. Я скорее умру, клянусь. Скорее умру.
Белл остановил изображение, наслаждаясь испуганным взглядом пациента, его абсолютной беспомощностью, и потом нажал на кнопку «Выкл». Кесвик был как ягненок перед закланием. Пожалуй, чересчур легкий случай, для полного удовлетворения в нем чего-то не хватает. Однако здесь есть известная аккуратность, неотвратимость, почти как в древнегреческой трагедии: этим он и ценен.
Телефон снова зазвонил.
— Привет, Мелани, — произнес Белл, не снимая трубки. — Мы немного расстроены, а? И склоняемся к решительным действиям?
— Доктор Белл, это опять Мелани. Я помню, вы говорили, что на этой неделе не сможете провести сеанс, но я подумала — вдруг вы проверяете сообщения. Это очень серьезно…
Он услышал всхлип, громкий и влажный. Он встал, вынул диск из проигрывателя и положил его в футляр, снабженный номером.
— Пожалуйста, перезвоните мне, доктор Белл. У меня все мысли какие-то искаженные. Думаю, может, мне надо лечь в больницу. Если бы вы только положили меня в больницу. У меня ведь есть эти таблетки. Они у меня здесь, в моей комнате, и мне кажется — это самое лучшее, что можно сделать, но я не знаю…
Доктор Белл выбрал диск с гайдновскими «Семью последними словами Христа». «Отче, отче, почему ты меня оставил?» Агония веревок и гвоздей, агония покинутого.
— О господи. Я больше не могу это выносить. Я не знаю, почему я еще жива, честно, не знаю.
Шумный обрыв связи: ей трудно было повесить трубку.
Белл нажал на воспроизведение и улегся на диван.
36
Когда на следующий день Кардинал проснулся, у него занялось дыхание, оттого что Кэтрин не было, словно спальня блуждала в космосе и кто-то открыл шлюз.
С неохотой совершая ежеутренние ритуалы — тост, кофе, «Глоб энд мейл», — он заставлял себя направить мысли на работу, на дело Делорм о детском порнографе, на серию краж со взломом, которую расследовал Арсено.
В какое-то мгновение он поднял взгляд от газеты и уставился в пустое пространство по ту сторону стола.
— Я не хочу о тебе думать, — произнес он. — Я не хочу о тебе думать.
Он вернулся к «Глоб», но не смог сосредоточиться; глаза у него чесались, потому что ночью он спал лишь урывками. Чем раньше он попадет на работу, тем лучше. Он поставил тарелку в посудомоечную машину и отправил остатки кофе в кухонную раковину. Наскоро принял душ, быстро влез в одежду и вылетел из дома.
Утра стали жестче. Веяло близкой зимой, хотя озеро пока не покрылось льдом и не замерзнет еще месяц-другой. Он дрожал в своей спортивной куртке. Скоро пора будет надевать теплое пальто. Небо было ослепительно-голубое, и он подумал, как бы оно понравилось Кэтрин. Ее пустой «крайслер-круизер» стоял на подъездной аллее.
— Я не хочу о тебе думать, — снова проговорил он и забрался в свою «камри».
Он уже задом выезжал с аллеи, когда подкатил автомобиль, перекрыв ему путь. Пол Арсено опустил стекло и помахал ему облаченной в перчатку рукой:
— Утро доброе!
Кардинал знал, что он наверняка привез что-то ценное. Арсено ни за что не стал бы заезжать к нему по пути на работу, если бы у него не было в запасе чего-нибудь вкусненького, чем он хотел бы поделиться. Кардинал вылез и подошел к окну машины Арсено.
— Решил вот подъехать, чтобы мы не тратили зря бесценное время полицейской службы.
— Есть что-нибудь интересное?
— Ну, и да и нет. Не знаю, как ты это примешь.
— Выкладывай, Пол.
— В конце концов мне удалось выцарапать это в базе данных иммиграционной службы, — нет-нет, я тебе не скажу, как я это добыл. Итак, британский подданный, перебрался сюда года два назад. — Он протянул в окно распечатку.
На листе были два отпечатка большого пальца. Фотография над ними была как-то добрее, чем обычные портреты на таких документах. В курчавых волосах, в бороде цвета соли с перцем читалось прямо-таки собачье дружелюбие. Фредерик Дэвид Белл, доктор медицины.
Приехав на работу, Кардинал позвонил Беллу и договорился встретиться с ним в психиатрической больнице во время его обеденного перерыва.
Он проехал по Одиннадцатому шоссе и свернул на слишком знакомую дорогу, ведущую к больнице Онтарио. Кардинал бывал здесь несчетное число раз — и по профессиональным надобностям, так как сюда часто помещали преступников, и по личным — из-за Кэтрин. Обычно ее клали сюда в мертвом сером месяце феврале.
Здание из красного кирпича почти терялось среди великолепия осенней листвы. Вершину холма обдувал свежий ветер, и тополя с березами наклоняли головы, точно танцоры. Все визиты Кардинала в это место слились в одну размытую полосу боли: всякий раз Кэтрин клали сюда из-за того, что у нее наступал маниакальный период, и она начинала лелеять какую-то безумную идею, которая казалась ей исполненной смысла, — или же из-за того, что она впадала в такую депрессию, что вот-вот могла вонзить бритву себе в запястье.
Он поднялся на лифте на третий этаж. Дверь к доктору Беллу была открыта. Доктор сидел в кресле, созерцая парковку и холмы за ней. Он был настолько неподвижен, что Кардинал невольно сравнил его с псом, сидящим у окна в ожидании хозяина.
Он постучал — громко, с намерением застать врасплох, — и был вознагражден эффектом. Плечо у Белла дернулось, и он повернулся. Он встал, когда увидел Кардинала.
— Детектив. Пожалуйста, входите. Присаживайтесь.
Кардинал поставил портфель на пол и сел.
— Вы были правы насчет открыток, — сообщил он. — Их прислал не убийца.
— Да, я так и думал.
— Они были от одного типа, которого я несколько лет назад посадил в тюрьму за мошенничество.
— Что ж, это вполне объяснимо. Мошенничество — занятие подлое и гнусное. Вполне согласуется со стилем этого анонимщика. Потерял ли он жену в результате ваших усилий?
— Да. Насчет этого вы тоже оказались правы.
— Хотя, вероятно, она не покончила с собой.
— Нет. Но как вы догадались?
— Потому что, — по крайней мере, если рассуждать поверхностно, — чувство стыда в таких случаях целиком сосредоточено на преступнике, оно не распространяется на его родных. Совсем другая история, к примеру, с длинной серией сексуальных преступлений или насилия на расовой почве: о таком супруга могла бы знать или хотя бы подозревать. У вас есть для меня что-нибудь еще? Вы именно поэтому предприняли это неожиданное путешествие сюда? Я как раз перед вашим приходом думал, что для вас, возможно, мучительно сюда являться. Все эти воспоминания о Кэтрин.
— В этом смысле мне все равно, где я нахожусь.
Кардинал открыл портфель и достал предсмертную записку Кэтрин. На сей раз он протянул врачу тот вариант, что вышел из недр электростатического детектора. Он был заключен в пластик: призрачно-белые письмена на угольно-черном фоне, маленькие отпечатки пальцев Кэтрин, усеивающие один край листа, а внизу — жирное пятно от большого пальца.
Доктор Белл надел маленькие очки для чтения и взглянул на листок.
— М-м, вы мне это уже показывали. Вижу, ее успели каким-то образом обработать.
— И тут вы тоже правы, доктор. А в нижней части — отпечаток вашего большого пальца.
Кардинал наблюдал за лицом доктора Белла в ожидании реакции, но никакой реакции не последовало. Ну разумеется, он же психиатр, он научился скрывать свои эмоции в тех ситуациях, когда другие стали бы хныкать и стонать.
Белл вернул ему листок:
— Да. Кэтрин показывала мне подобную записку несколько месяцев назад.
— Забавно, вы не упомянули об этом, когда на прошлой неделе я вам ее принес.
Доктор Белл поморщился и, сняв очки, начал массировать переносицу. Без толстых линз он выглядел странно уязвимым: демон, которого вытащили на свет.
— Я скрылся, оставив на ней свой след, не так ли? Простите меня, детектив. Готов признать, я не особенно стремился известить вас о том, что я это видел. Я опасался, что вы сочтете, будто я в каком-то смысле был слишком небрежен. Что вы подумаете, будто Кэтрин написала ее в приступе агонии, а я преспокойно проигнорировал это.
— Зачем бы мне так думать? — спросил Кардинал. — В конце концов, это всего лишь предсмертная записка. Много лет она страдала от тяжелой депрессии, только и всего.
— Ну разумеется, теперь вы сердитесь…
— Она даже показывает эту записку вам, отчаянно надеется, что каким-то образом вы поможете ей справиться с этими жуткими побуждениями. Вы с ней мило болтаете, а в конце часа отдаете записку обратно.
— Задним числом легко представить это в дурном свете.
— А в течение следующих трех месяцев эти мысли о самоубийстве, видимо, все накапливаются и накапливаются, и Кэтрин приходит к вам на прием по два-три раза в месяц, но вы ни разу не сочли, что ее надо положить в больницу. Вы даже не сочли нужным вызвать меня для консультации. Ну да, я же всего лишь ее муж, я всего лишь жил вместе с ней несколько десятков лет, зачем бы вам трудиться ставить меня в известность? И по мнению всего остального мира, у Кэтрин все просто отлично. Между тем вы-то знаете, что она планирует себя убить, но вы решаете ничего по этому поводу не предпринимать.
— Детектив, сейчас вы делаете именно те предположения, каких я боялся. Я работаю на ниве тоски и отчаяния — с людьми, страдающими невыносимой депрессией. К сожалению, они часто хотят сами оборвать свою жизнь, и иногда им это удается. Здесь нет ничьей вины. Опечаленные родные спешат вынести суждение. Я уверен, что вы в вашей работе тоже с этим сталкивались. Я читал в газете, что близкие Дорна чрезвычайно расстроены тем, как полиция отнеслась к самоубийству этого молодого человека.
— Разница в том, что наш сотрудник сделал все, что мог, чтобы остановить этого парня.
— А я сделал все, что было в моих силах, чтобы помочь вашей жене.
— Позволив ей три месяца таскать с собой записку о самоубийстве? Чтобы однажды вечером, посреди интересного фотопроекта, она вдруг, поддавшись импульсу, достала ее и прыгнула вниз.
— Детектив, я имею дело с депрессиями уже больше тридцати лет, и поверьте, меня уже ничто не может удивить. Сталкиваясь с этим заболеванием, можно быть уверенным лишь в одном: что оно непременно вас удивит.
— Вот как? Лично я всегда считал его омерзительно предсказуемым.
— Извините, детектив, но это определенно не так. Вы не видели, как это приближается, точно так же, как этого не предвидел я. Что касается того, как она воспользовалась запиской, которую написала ранее, то это, по всей видимости, пример вдумчивости Кэтрин. Ей захотелось воспользоваться словами, которые она написала, не находясь в состоянии перевозбуждения: воспользоваться запиской, которая выразила бы ее чувства не так грубо, как строчки, нацарапанные второпях, под влиянием минутного порыва. Возможно, вы знаете, что большинство предсмертных записок самоубийц не бывают так проникнуты заботой об остающихся на этом свете.
— Вы что, даже не подумали о том, чтобы мне позвонить, после того как она написала эту записку?
— Нет. Кэтрин не была расстроена, когда она ее мне принесла. Мы обсуждали ее, как обсуждали бы сон или фантазию. Она подчеркивала, что в ближайшее время она не намерена причинять себе вред.
— Я ей верю. Я бы увидел, что это приближается.
— Вы по-прежнему предполагаете, что существует какое-то иное объяснение ее смерти? Первоначально вы предположили, что она убита, из-за того что получили по почте омерзительные открытки. Вы подумали, что на такое способен лишь человек, убивший вашу жену. Но затем вы выследили того, кто их написал, и оказалось, что он никого не убивал. Разве это не так? Или я что-то упустил?
Я проиграл свою партию, подумал Кардинал. Лекарь припер меня к стенке: у меня нет неопровержимых улик. Ничего нет.
— Она не была расстроена в день своей смерти. — Вот все, что он сумел выдать. — Она ничем не показывала, что думает о самоубийстве.
— Но долгие годы она это показывала, всеми возможными способами. Я читал ее историю болезни, детектив. Кэтрин лежала в этой больнице более полудюжины раз: однажды — из-за маниакального эпизода, но все остальные случаи госпитализация была связана с неуправляемой депрессией. И во всех этих случаях она чувствовала, что хочет умереть, что суицид для нее — единственный выход. Для меня представляется очевидным, что она решила совершить это деяние в относительно светлом состоянии сознания, когда она сумеет, если можно так выразиться, в известной степени проконтролировать его, продумать все заранее.
— Я бы увидел, что это приближается, — снова повторил Кардинал, понимая, как беспомощно это звучит. Кэтрин, что ты натворила? Что ты со мной сделала?
— Безусловно, в вашей работе, детектив, вам встречались случаи, когда люди не замечали очевидного в отношении тех, с кем жили вместе?
Кардинал вспомнил мэра и его жену-потаскуху. Неужели я настолько слеп? Неужели все знают правду, кроме меня?
— Может ли быть так, детектив, что вы, в вашем горе, упускаете то, что очевидно всем остальным? Отчего бы не дать себе возможность ошибиться? Вы потеряли жену, ваше мышление волей-неволей должно быть, мягко говоря, замутнено, да и кто на вашем месте не подвергся бы этому паллиативному воздействию отрицания? Мерзкие открытки вам послал обиженный человек, бывший заключенный; нет никаких оснований полагать, будто кто-то убил вашу жену. Я знал Кэтрин два последних года, и я не могу себе представить, чтобы у нее были какие-то серьезные враги. Вы знали ее несколько десятилетий: смогли вы найти хоть кого-нибудь, у кого был бы мотив?
— Нет, — признал Кардинал. — Но мотивы не всегда бывают личными.
— Вы имеете в виду психопатов. Но нет оснований предполагать, что это дело рук серийного убийцы. Тем более такого, кто мог бы легко заполучить ее записку и затем подбросить ее на место преступления.
Если вы считаете, что Кэтрин убили, тогда само по себе знание того, что за три месяца до этого она написала записку о самоубийстве, не предотвратило бы этого преступления. Если же вы считаете, что она совершила самоубийство, тогда вам нечего расследовать, если только вы не намерены привлечь меня за неадекватное лечение. Как я говорил, — и вы говорите то же самое, — она ничем не показывала, что намерена совершить такое деяние. Решительно ничем. Именно поэтому я отнесся к этой записке без всякой задней мысли. Записка была не более чем ответом на вопрос, который я перед ней поставил.
— Что это был за вопрос?
— Мы говорили с ней о причинах, по которым она не покончила с собой, несмотря на годы эмоциональных страданий. Главной причиной для нее было то, как это подействовало бы на вас — на вас и на вашу дочь. Мой вопрос был таков: «Что бы вы сказали вашему мужу, если бы действительно совершили самоубийство? Что бы вы сказали в своей записке?» Я хотел, чтобы она там же и тогда же словесно выразила свои ощущения, но Кэтрин мне не ответила. Она сказала, что ей надо подумать. И потом, к моему удивлению, на следующий сеанс она принесла эту записку. Как видите, в ней ясно выражена ее любовь к вам.
Кардинал почувствовал, что ему намертво стиснуло горло. А потом, к собственному ужасу, он обнаружил, что рыдает.
— Возможно, вам следовало бы подумать о том, чтобы продлить свой отпуск, — мягко произнес доктор Белл. — Вам явно не хватило времени на то, чтобы погоревать как следует. Поразмыслите: может быть, в этом вам стоило бы проявить к себе доброту.
37
Обычно Делорм обожала утренние совещания. Все шесть детективов отдела уголовного розыска собирались в зале заседаний со своим кофе и маффинами и обсуждали текущее состояние дел, которые они ведут. Вместе с экспертами, двумя специалистами по уличной преступности, сотрудником разведки, армейским офицером и координатором организации «Остановить криминал»[56] в комнате иногда набиралось до шестнадцати человек, хотя сегодня сюда придут всего семеро.
Цель этих совещаний состояла в том, чтобы выработать тактику на предстоящий день и дать задания конкретным сотрудникам. Слушать, как другие детективы справляются со своими расследованиями, всегда было интересно (а подробности иной раз бывали ужасающими); обычно на таких совещаниях много шутили. Если в течение дня в управлении и должны были прозвучать какие-то смешки, то, как правило, они звучали именно здесь. Маклеод мог впасть в один из своих фирменных полномасштабных приступов ярости, или Желаги мог выдать свое очередное глубокомысленное наблюдение, после которого все падали от хохота. Кардинал тоже мог быть забавным, хотя его юмор скорее был менее ярким и даже самоуничижительным.
Сегодня присутствие Кардинала словно набросило на всех тень. Пока они ждали Шуинара, каждый сидел, замкнувшись в себе, притворяясь, будто просматривает свои заметки или читает документы. Маклеод изучал спортивные страницы «Торонто сан», а сам Кардинал просто тихо сидел, и перед ним на столе белел блокнот, открытый на чистой странице. Он наверняка понимал, какое воздействие оказывает на собравшихся, и сердце Делорм разрывалось от жалости.
Влетел Шуинар, держа в одной руке гигантскую кружку из «Тима Хортона», а в другой — тощую папку. Маклеод говаривал: если бы овсянка стала человеком, это был бы Даниэль Шуинар. Детектив-сержант был нудным, но надежным, заурядным, но благоразумным, скучным, но твердым.
— Не вставайте, — предупредил он. Он всегда так говорил, потому что, разумеется, никто никогда и не думал вставать.
— Теперь понимаете, почему я мечтаю когда-нибудь дослужиться до детектив-сержанта? — проворчал Маклеод, выхватывая тоненькую папку у Шуинара и поднимая ее на всеобщее обозрение. — Мы все таскаем пятидесятифунтовые портфели, а он ходит с меню для завтрака.
— Таков естественный порядок вещей, — заявил Шуинар. — Разве ты не изучал богоданные права королей?
— Видать, тот урок я пропустил.
— Ну ладно. — Шуинар отхлебнул порядочную порцию кофе из кружки и нашел, что это хорошо. Пролистал свою папку до одинокой странички с печатным текстом, которую всегда приносил на совещания. — Дамы — первыми. Сержант Делорм, почему бы вам не просветить собравшихся по поводу того, как дела у вашей девочки с яхты?
— Я обнаружила прогулочную яхту, на которой было совершено по меньшей мере одно сексуальное преступление. В настоящий момент она находится на зимней стоянке на пристани Четвертой мили. С разрешения владельцев, супругов Ферье, я обыскала ее, но пока я не сообщила им о том, что нашла. Те немногие черты исполнителя, которые мы видим на фотографиях, не позволяют с абсолютной уверенностью исключить мистера Ферье из числа подозреваемых. Кроме того, у него есть дочь, она блондинка, и ей тринадцать лет, но пока мне не удалось с ней побеседовать. Возможно, она и есть жертва: не исключено, что преступник — друг семьи или кто-то из их знакомых.
— Итак, у нас есть место преступления. Вы не предприняли никаких усилий, чтобы сохранить его в неприкосновенности?
— Со времени преступления прошел не один год: девочке на фото примерно одиннадцать лет; неизвестно, какое воздействие за это время оказали на судно ветер, вода и условия хранения. Не думаю, что нам удастся получить что-нибудь с этой яхты. Тем не менее я бы хотела, чтобы у зимней стоянки на пристани поставили охрану: надо убедиться, что там никто не шалит.
— Это нетрудно сделать. Мы сейчас же этим займемся.
Делорм открыла конверт из плотной бумаги, где лежали еще две фотографии, присланные из Торонто. Здесь был еще один снимок яхты. На нем девочка была одета, она улыбалась, а на заднем плане высился холм: теперь они знали, что это один из холмов на берегу Форельного озера. Был виден участок Шестьдесят третьего шоссе, змеей уходящий в череду деревьев. На другом фото девочка была значительно младше, на сей раз она была обнажена; хихикая в объектив, она лежала на ковре. На заднем плане виднелась часть голубого дивана.
— Насколько мы понимаем, это ее дом, — пояснила Делорм. — Голубой диван появляется на многих снимках.
— А на заднем плане здесь Шестьдесят третье шоссе? — спросил Шуинар.
— Именно так. В Торонто считают, что это снято года два назад: на некоторых других снимках она в том же возрасте. Итак, мы разыскиваем тринадцатилетнюю девочку, светлые волосы, зеленые глаза.
— В Торонто считают, что этой фотографии два года?
Все посмотрели на Кардинала. Делорм буквально почувствовала, как по комнате прокатилась волна облегчения, когда он заговорил. Заговорил о деле, о чем-то повседневном.
— Я точно не знаю, на чем они основывают такой вывод, — заметила Делорм. — Разве что на том, что у нас нет фотографий, где она старше тринадцати.
— Ищите не тринадцатилетнюю, — проговорил Кардинал. — Сейчас ей должно быть восемнадцать или около того.
— Почему ты так думаешь?
— Посмотрите на фонари на шоссе. Это старые, натриевые. Вы не помните, когда их заменили на новые, белые?
— Ты — единственный среди нас, кто живет в тех краях, — заметил Шуинар. — Может быть, напомнишь нам?
— Могу сказать совершенно точно, потому что я тогда как раз купил свою машину, а это модель девяносто девятого года. В тот же день, когда я впервые в нее сел, я поехал домой, и какой-то зеленый патрульный из Полицейского департамента провинции Онтарио остановил меня за то, что я превысил допустимую в данных условиях скорость. Ни один фонарь не горел. Он прочел мне нотацию насчет того, что я должен быть внимательнее, что у меня новенький автомобиль, и все такое прочее. Я готов был его убить.
— И он взаправду выписал тебе штраф? — поинтересовался Маклеод.
— Выписал.
— В том-то и беда с ПДПО, — пробурчал Маклеод. — Их с самого начала готовят неправильно. Они видят только правила, они не видят реальности, не видят ситуацию. Только пустите меня на две недели в Орилью,[57] ребята, и уж я поставлю их с ног на голову.
— Скорее вверх тормашками, — вставил Шуинар.
— Итак, если ей было одиннадцать или двенадцать в девяносто девятом, — заключил Кардинал, — то сейчас ей должно быть семнадцать или восемнадцать.
Делорм все еще пыталась осмыслить то, что ей сообщил Кардинал. Ей словно вправили вывих: нужно было время, чтобы привыкнуть. Ей больше не надо искать тринадцатилетнюю. Теперь она будет искать восемнадцатилетнюю.
— Я запросила Торонто, чтобы они прислали мне еще фотографии, — добавила Делорм. — Они пообещали, что сегодня я эти снимки получу. Кажется, они только что изъяли сотню дисков у какого-то извращенца, и наша девочка появляется там на многих картинках. Надеюсь, фон на этих новых снимках может оказаться нам полезен.
— Хорошо, — изрек Шуинар. — Кардинал, будешь работать с Делорм по этому делу. Я очень хочу поймать этого мерзавца, но я не уверен, что нам имеет смысл подключать к этому весь департамент полиции. Едва ли мы имеем здесь дело с крупной порносетью. Насколько нам известно, тут действует единственный тип, который растлевает единственную девочку. Это само по себе плохо, но я бы не хотел зря расходовать ресурсы. Делорм, пожалуйста, обращайся с этими снимками очень осторожно. Показывай их лишь тем, кому необходимо их увидеть, и только требуемые фрагменты, ясно?
— Конечно.
— Как насчет тех, кто пользуется пристанью? Никто не вспомнил ничего подозрительного?
— Никто. Это довольно мирное место. Я всем говорила просто, что расследую некие насильственные действия, так что они не думали о растлении малолетних. Единственный случай насилия, который был упомянут, произошел даже не на самой пристани. Какой-то тип пытался избить Фредерика Белла у входа в близлежащий ресторан.
Кардинал поднял глаза.
— Психиатра? — уточнил Шуинар.
— Именно так. Это было чуть больше года назад. Убитый горем отец. Белл лечил его сына, который затем совершил самоубийство.
Делорм не могла заставить себя посмотреть на Кардинала, когда произносила это слово, но она чувствовала его взгляд, обращенный на нее.
— Знаю я, как это бывает, — обиженно пробубнил Бёрк и только еще больше усугубил неловкость, добавив: — Некоторые люди просто не хотят жить.
— Ты сделал все, что мог. Я сказала это миссис Дорн, — ответила Делорм. И потом, моля Бога, чтобы они, ради всего святого, съехали с темы самоубийств, она обратилась к Шуинару: — Детектив-сержант, я знакома со старшей сестрой Перри Дорна. Думаю, мне стоило бы с ней еще раз поговорить.
Тот покачал головой:
— Это не открытое дело, к тому же семья погибшего угрожает подать на нас в суд.
— Я могла бы пообщаться с ней неофициально. Мы с ней достаточно близко знакомы. Кстати, психотерапевтом у ее брата тоже был доктор Белл.
— Отлично. Только не обсуждайте это на территории, принадлежащей полиции, или по полицейскому телефону. Кто следующий?
Делорм пришлось высидеть весь список подозреваемых в ограблении «Целлерса», который представил Арсено. А у Маклеода была серия нападений с применением насилия, и ни один из свидетелей не желал говорить. Естественно, это послужило для Маклеода поводом к пространным ламентациям насчет «многоцветной стены молчания».
Кардинал заговорил с ней, как только они вернулись за свои рабочие столы.
— Тот тип, который напал на доктора Белла, — негромко произнес он, — как его зовут?
— Бернсайд, — ответила Делорм. — Уильям Бернсайд. А сына звали Джонатан.
— Я помню это дело. Ты знаешь, что Белл был и психиатром Кэтрин?
— Это было в коронерском отчете.
Кардинал смотрел на нее так пристально, что она заволновалась. Обычно у него было ровное настроение: может быть, иногда мрачноватое, но, как правило, спокойное и доброжелательное.
— Джонатан Бернсайд, Перри Дорн и Кэтрин. Тебе не кажется, что тут многовато суицидов на одного врача? Какова вероятность, что за такой промежуток времени произойдут три самоубийства?
— Четыре, — поправила Делорм. — Вчера я пересматривала наши давние дела о детском порно.
— Ну конечно, — вспомнил Кардинал. — Кесвик.
— Леонард Кесвик. Застрелился, когда его выпустили под залог. Что было довольно неожиданно, потому что обвинение было сравнительно легкое: несколько картинок у него в компьютере, в основном подростки, и ведь он не сам делал эти снимки, он просто смотрел на них.
— Я помню. Видимо, он не вынес стыда.
— Когда в такой ситуации теряешь работу, это мало помогает.
— Напомни мне, — попросил Кардинал, — а как мы вышли на Кесвика? Если он не продавал детское порно, не обменивался им с другими и даже не покупал его, как мы вообще о нем узнали?
— Поступил анонимный сигнал. Кто-то позвонил и сообщил. Возможно, один из поборников компьютерной нравственности, о которых ты, наверное, слышал.
— Да, — отозвался Кардинал. — Возможно.
38
Все утро и весь день Кардинал помогал Делорм с ее делом о детском порно, однако мысли о докторе Белле продолжали звучать у него в мозгу, точно неумолкающие радиопозывные. Несколько раз ему приходилось просить Делорм повторить то, что она только что сказала. Но при всем том следовательская работа все-таки принесла ему некоторое облегчение — достаточное для того, чтобы у него хватило смелости отправиться домой.
Кардиналу казалось, что его дом теперь словно состоит из ножей: куда бы он ни ткнулся, все причиняло ему боль. Вечером он лег в постель, но о том, чтобы спать, не могло быть и речи. Спустя какое-то время он встал, притащил в спальню телевизор и водрузил его на комод. Угол зрения был неудачный, к тому же ему не особенно нравилась сама идея ставить телевизор в спальне, но у него была слабая надежда посмотреть какое-нибудь старое кино и под него уснуть.
Он пролистал все сорок каналов и в конце концов махнул рукой. Отправился на кухню, налил себе стакан молока; и вот он стоял в халате и шлепанцах, созерцая компьютер Кэтрин, тонкий серебристый ноутбук на небольшом столике рядом с телефоном. Она была куда большим приверженцем компьютеров, чем Кардинал, и использовала свой «Мак» для всего на свете — от оплаты счетов до приготовлений к поездкам и покупки фотопринадлежностей.
Но компьютер даже называется персональным, и Кардинал никогда не прикасался к ноутбуку Кэтрин. Да и вообще он не любил пользоваться компьютером дома. Если ему нужно было посмотреть электронную почту в выходные, он подключался к интернету по телефонной линии через старый раздолбанный комп, стоявший в подвале.
Однако сейчас он сел и раскрыл ее ноутбук; сразу же появилась экранная заставка Кэтрин — спящая черепаха. Он щелкнул по иконке браузера, и открылась стартовая страница, которую выбрала Кэтрин: сайт для фотографов, с кнопкой «сегодняшние горячие снимки». Кардинал проигнорировал ее и открыл список закладок. Все сайты у нее были аккуратно рассортированы по папкам. Он открыл папку «Здоровье». Он знал, что здесь должна быть ссылка на ее любимую онлайновую группу поддержки — для людей, страдающих маниакально-депрессивным психозом.
Он нашел что-то под названием bipolar.org и ткнул туда мышкой. Появилось окно, предлагающее ввести логин и пароль. Поле «Логин» само заполнилось псевдонимом «IceFire», но поле «Пароль» осталось пустым. Он знал, что для каких-то сервисов Кэтрин использовала в качестве пароля слово «Nikon», но когда он его набрал, сайт красными буквами известил его, что он ошибся. Он попытался вспомнить марку ее цифрового фотоаппарата. Набрал «Cannon» и опять промахнулся. Набрал снова, маленькими буквами, пропустив одно n.
Экран мигнул и вывел его на «Список тем». Здесь обсуждали лекарства («Почему я люблю или ненавижу литий», «Суицидальные реакции на препараты группы SSRI»), исцеление («Простимся по-доброму: скажи «да» здравому рассудку»); была, наконец, еще одна тема, выглядевшая более многообещающе: «О психиатрах. Разговоры по душам».
Он открыл эту тему и стал просматривать сообщения, ища те, где стоит ник Кэтрин. Первым, что он нашел, был ответ на чей-то пост.
— Прости, милая, — прошептал Кардинал и открыл ее сообщение.
Если вы чувствуете себя неуютно с вашим психотерапевтом после приблизительно шести сеансов, я бы на вашем месте поискала другого, — писала она. — Не стоит отказываться от него слишком быстро, потому что на установление контакта требуется время. С другой стороны, если ваши взаимоотношения после шести сеансов все еще остаются непродуктивными, есть большая вероятность, что они такими и останутся.
Вот она, Кэтрин: спокойная, методичная, решительная во всем, что касается по-настоящему важных вещей. Она написала это всего за три дня до смерти.
Кардинал прочел еще несколько ее постов. О докторе Белле нигде не говорилось. Обычно это были ответы на чьи-то вопросы, подсказки, куда обратиться, или же она рекомендовала кому-то книги, которые сама сочла полезными.
Он нажал на кнопку «Новое сообщение» и написал:
Срочно: мне нужен человек, у которого был опыт общения с доктором Фредериком Беллом, сейчас практикующим в Алгонкин-Бей, Онтарио, ранее практиковавшим в Торонто, а до этого — в Англии. Любые комментарии, положительные или отрицательные, будут приняты с благодарностью.
Он перечитал свое послание, нажал «Enter» и закрыл ноутбук.
Проснувшись утром, он сразу же устремился на кухню и зашел на сайт. Система проинформировала его, что ему пришло три отклика.
IceFire, я шесть месяцев посещал доктора Белла в Торонто, перед тем как переехал в Новую Шотландию. Я считаю его чутким и умным, и мне было очень жаль с ним расстаться. В тот период я выходил из маниакальной стадии, так что во время наших встреч мы главным образом обсуждали медикаменты, которые должны были помочь мне сохранить уравновешенность. Не могу сказать, как он общается с пациентами, чьи проблемы больше связаны с депрессией. Надеюсь, это вам поможет.
Второе сообщение начиналось так: «Приветик, вы что же, влюбились в своего лекаря? С чего бы?»
Третье послание пришло из Англии.
IceFire, если вы размышляете над тем, обращаться ли вам к доктору Беллу по поводу маниакально-депрессивного психоза или депрессии, я бы вам это КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендовала. Никто не отрицает, что человек он умный, и его очень уважают как специалиста в определенной области, и он может удержать вас от того, чтобы скатиться совсем на край мании, но я ходила к нему почти три года после того, как пыталась покончить с собой при помощи пузырька со снотворным (ПЛОХАЯ ИДЕЯ!). И я бы сказала, что за эти три года мне не то что не стало лучше — мне постепенно и неуклонно, хотя и не очень заметно, становилось ХУЖЕ. Не могу поручиться, но я начала чувствовать: он не хочет, чтобы мне стало лучше. Подумайте над этим. Он не хотел, чтобы мне стало лучше. Если что, имейте в виду: паранойя не входит в число моих заболеваний. Наоборот, обычно я слишком доверчива, и в жизни у меня из-за этого много раз случались неприятности. Но я барахталась в волнах суицида все то время, что посещала Белла, и, откровенно говоря, его интерес ко мне казался каким-то зловещим. Один-два раза у меня даже возникало ощущение, будто он подталкивает меня к тому, чтобы я признала самоубийство разумным выходом. Вот один пример: я начинающая писательница, в основном я пишу стихи, и однажды он принес на сеанс Сильвию Плат. Он, пусть и ненавязчиво, склонял меня к мысли, что самоубийство сделало ее знаменитой. Вы можете сказать, что это мелочь, но если ты психиатр, который лечит начинающего писателя от суицидальных наклонностей, зачем ТЫ приносишь Сильвию Плат?
Было еще множество таких эпизодов: сами по себе они, возможно, ничего не значат, но в совокупности они оказали на меня колоссальное негативное воздействие. Сейчас я посещаю психолога для собственно терапии и психиатра, который выписывает мне рецепты, и по сравнению с Беллом это как ночь и день. Мой психолог действительно раскрывает мне глаза на мои негативные мыслительные построения, но при этом я вижу их такими, какие они есть, — ГИБЕЛЬНЫМИ! И в результате мои мысли теперь уже гораздо меньше направлены в ту сторону. Я не фея оптимизма, но суицидальные мысли определенно ушли, и я сейчас работаю гораздо более плодотворно, чем когда-либо. Возможно, у других есть позитивный опыт общения с Беллом, но я, откровенно говоря, в этом сомневаюсь.
Кстати. Хотите узнать, что меня подтолкнуло к тому, чтобы уйти от Белла? В один очень-очень мрачный период, — мне отказали в гранте, у меня умерла собака, а мой муж завел интрижку на стороне (БР-Р-Р-Р-Р!), — он предложил мне написать предсмертную записку. Да-да, в буквальном смысле написать ее. Прелестно, а? С таким же успехом он мог бы дать мне пистолет сорок пятого калибра, вам не кажется?
Кардинал закрыл ноутбук и потянулся к телефону. На холодильнике висел список часто набираемых номеров, где все еще значился номер доктора Карла Джонаса из Института Кларка.[58] Здесь было несколько телефонов доктора Джонаса, в том числе и мобильный: такой уж он был врач. Было восемь тридцать утра. Кардинал набрал номер его мобильного, не особенно надеясь, что его удастся поймать.
— Алло! Джонас! — прокричал доктор. Так он всегда отвечал по телефону. Прожив сорок лет в Канаде, он, судя по голосу, остался стопроцентным венгром — сущий венгерский гуляш.
— Доктор Джонас, это Джон Кардинал.
— Джон Кардинал. Минутку, меня тут чуть не растерзала одна леди, которая паркует свое противное спортивное авто. Я мог бы въехать в самую середину этой машины, и у меня еще осталось бы место, чтобы развернуться. О! Она сдалась. Видимо, ей нужна взлетная полоса, чтобы припарковаться. Такие чудища, эти машины, просто невероятно. Чем я могу вам помочь? Как Кэтрин, у нее все в порядке?
Когда он привыкнет к этому вопросу? Даже когда знаешь, что он последует, это не помогает защититься.
— Нет, — сумел выдавить он.
— Нет? Что значит — нет? Что творится с Кэтрин?
— Она умерла, доктор. Кэтрин умерла.
Повисла долгая пауза.
— Доктор, вы меня слышите?
— Да, я слышу. Я просто настолько… Если вы мне звоните, значит, видимо, она умерла не от несчастного случая.
— Спрыгнула с девятиэтажного здания. Оставила предсмертную записку.
— Ох, мне так жаль. Какая печальная, печальная история. Не знаю, что и сказать, детектив. Такая смелая, творческая женщина. Очень грустно. Я ее очень любил.
— Вы много для нее значили, надеюсь, вы это понимаете. Она не уставала вас хвалить. Собственно, она буквально вчера посоветовала одному человеку к вам обратиться. Вы покраснели бы, если бы прочли то, что она про вас написала.
— У меня просто сердце кровью обливается, — негромко проговорил доктор. — Скажите мне, детектив, если не секрет, Кэтрин госпитализировали?
— Нет. Уже год как нет.
— Но она ведь посещала этого англичанина, не так ли? Доктора Белла?
— Да, и, честно говоря, казалось, что она им вполне довольна.
— И вы, конечно, считаете, что он ее подвел. Видимо, вы и обо мне думаете то же самое.
— Вовсе нет. Вы давно ее не видели.
— У нее был кризисный период, перед тем как она умерла?
— Нет. Мне казалось, она в хорошем состоянии. Понимаете, она была вся в делах, работала над новым проектом.
— К сожалению, так нередко случается. Вдруг человек передумал и — бац! — оставляет нас плакать. Хотя, должен сказать, я никогда не ожидал этого от Кэтрин. Я всегда считал, что она слишком любит этим заниматься. Вот почему, несмотря на всю серьезность ее проблем, ей всегда удавалось вовремя лечь в больницу. Она хотела выжить, а главное, она не хотела причинить боль вам и вашей дочери. Ах, как это грустно. Я могу для вас что-то сделать, Джон?
— У меня всего один вопрос. А поскольку вы лечили Кэтрин много лет, я надеюсь, что вы сможете дать на него ясный и твердый ответ.
— Постараюсь. Хотя, вы сами знаете, вещи редко бывают черно-белыми. Какой у вас вопрос?
— Вы бы когда-нибудь могли попросить страдающего маниакально-депрессивным психозом написать предсмертную записку? Или если человек просто страдает какой-то формой депрессии?
— Нет, никогда. Безусловно, нет.
— Даже как часть терапии? Чтобы, скажем, выразить в письменной форме мысли о самоубийстве?
— Никогда. Первый вопрос к пациенту, страдающему депрессией: вы когда-нибудь думали о самоубийстве? И если ответ — да, то следуют еще два вопроса: насколько часто думали? Предпринимали ли вы какие-то конкретные шаги? И если окажется, что пациент их предпринимал, вы можете таким образом оценить серьезность его суицидальной озабоченности. Но когда ты просишь написать записку, ты делаешь реальным то, что до этого было лишь фантазией. Записка как раз и становится конкретным шагом.
— Объясните, пожалуйста. Это ваша личная точка зрения или такова общепринятая практика?
— Нет-нет, это самые-самые-самые основы. Любой квалифицированный психотерапевт скажет вам то же самое. Суицидент страдает от определенных мыслей и хочет, чтобы ему помогли. А когда ты просишь его написать предсмертную записку, тем самым ты даешь ему понять, что писать записки о самоубийстве — нормальное, здоровое занятие. А это не так. Предсмертные записки либо сопровождают самоуничтожение пациента, либо являются криком о помощи. Поскольку мы, во-первых, не желаем, чтобы пациент себя уничтожал, а во-вторых, он и без того взывает о помощи, такая записка не послужила бы ни одной из этих целей.
Возьмите пациента, у которого рак в финальной стадии, он испытывает ужасные мучения, качество жизни полностью утрачено, ему осталось жить несколько недель, и — что делать, — если вы хотите положить конец своим страданиям, то это будет законный выбор, может быть, даже позитивный выбор, так что составьте несколько записок, выразите то, что хотите сказать. Но в качестве антисуицидальной терапии? Я вас умоляю. Это как предлагать педофилу: «Почему бы вам не зарисовать для меня несколько своих фантазий?» Или серийному убийце: «Может быть, составите подробное описание идеальной жертвы и мы это обсудим?» Простите, я сделал страдающих депрессией похожими на каких-то преступников, но я не это имел в виду: вы меня, думаю, понимаете. Пожалуй, это больше смахивает на то, как если бы вы сказали женщине, которая убивает себя анорексией: «Принесите-ка мне фотографии моделей и актрис, на которых вы больше всего хотите походить». Она и без того страдает от крайне негативной оценки собственной внешности, от колоссальной дисморфии тела, и вы собираетесь помочь ей таким манером? Нет, нет, это немыслимо.
— Ну хорошо, это понятно. Но возможно ли, чтобы какой-то психотерапевт использовал этот прием, чтобы прояснить негативные эмоции пациента?
— Искренне надеюсь, что невозможно. Это было бы совершенно безответственно. Вы хотите сказать, что Белл просил об этом Кэтрин?
— На ее предсмертной записке есть отпечаток его большого пальца. Он признался, что видел эту записку до того, как она умерла, но он говорит, что она принесла ее сама. Что это была ее идея.
— Ну, это в корне меняет дело. Очевидно…
— Дело в том, что я сам не знаю, верить ему или нет. Другая пациентка сообщила мне, что он попросил ее принести предсмертную записку. Она тогда была в глубокой депрессии, а он попросил ее написать записку — для лечения — и принести ему. Из-за этого она перестала к нему ходить.
— Знаете, я тут сижу в полном ошеломлении, детектив. Охранники парковки подозрительно на меня косятся, а я сижу здесь и не знаю, что мне со всем этим делать. Если честно, это меня поразило как пример невероятно плохой терапии. Просто не верится. В любом случае, если он и не просил Кэтрин написать записку, он должен был госпитализировать ее, после того как она ее написала. Это не обсуждалось?
— Со мной — нет.
— Не верится. Ладно, вопрос в том, что теперь делать. Если он все-таки сам предлагал ей написать записку, с этим уже можно обратиться в суд, но в этих вопросах я вам не советчик. Он пренебрег обязанностями врача? Занимался опасной практикой? Это вопросы для юристов и комиссий по этике. Вы планируете двигаться таким путем?
— Комиссии по этике? — повторил Кардинал. — Нет, я придумал кое-что другое.
39
Утром Дороти Белл сходила в парикмахерскую, а днем провела безмятежный час, сгребая опавшие листья и укладывая их в мусорные мешки. Она снова вернулась в дом и поливала цветы, когда услышала, как уходит пациент, а потом открылась дверь, разделявшая две половины дома, и появился Фредерик.
— Какой приятный сюрприз, — произнес он и поцеловал ее в макушку. — А я думал, ты поехала в центр.
— Я там была. Уже вернулась.
— Бог ты мой, всего четыре часа, а я зверски хочу есть. Эти больничные сэндвичи такие тощие. Человек там может умереть с голоду, и никто никогда не узнает.
Он стал рыться в буфете.
— Что ты ищешь?
— Печенье, дорогая! Печенье! Полцарства за печенье!
— Оно в другом буфете. В красной банке.
— Опять ты его прячешь, — жизнерадостно заявил он. — Бережешь его от меня.
— Этот мальчик, Дорн, — проговорила она. — Тот, который застрелился в прачечной. Он же был один из твоих пациентов, правда?
— Да, правда. Бедняга.
— Я удивилась, что ты тогда как-то не очень расстроился.
— Я расстроился.
— Но ты об этом не говорил.
— Не хотел тебя волновать, вот и все.
— Почему это должно было меня взволновать?
— Не знаю. Вот сейчас ты волнуешься, так мне кажется.
— Мне просто интересно, почему ты про это не сказал. Все-таки это довольно впечатляюще, когда так теряешь пациента. И про это писали в газетах.
— Как ни странно, Дороти, я полагаю, что это моя работа — беспокоиться о моих пациентах, а не твоя. Бывает, что молодые люди хотят себя убить, такова правда жизни. Многие из них приходят ко мне либо когда уже поздно что-то предпринимать, либо когда на самом деле они не хотят меняться. Иными словами, когда они действительно, действительно хотят покончить с собой. И делают это.
— И тебя это вполне устраивает?
— Дорогая, да что с тобой?
— Мне просто кажется, что это ужасно — когда твой пациент идет в публичное место и выстрелом сносит себе голову, а ты ни слова об этом не говоришь.
— Я целый день разговариваю с людьми, я целый день выслушиваю людей. Иногда дома я просто не расположен разговаривать. Разумеется, есть врачи, которые притаскивают домой все истории болезней своих пациентов и днем и ночью мучают ими домочадцев. Но я не из таких. Точка. — Он поставил молоко обратно в холодильник, взял стакан и тарелку. — У меня не будет пациентов до пяти. До этого времени буду писать кое-какие заметки.
Он закрыл за собой двери, и Дороти услышала его удаляющиеся шаги.
Доктор Белл поставил молоко и сладости на столик и вставил диск в проигрыватель. Он должен был сразу же уйти из кухни. Его почти ошеломило собственное внезапное желание ударить жену: он никогда в жизни такого не делал, даже в мыслях не держал. Ее обвинения взбудоражили его. Отбытие Дорна, теперь это стало очевидно, было слишком уж ярким, чтобы считать это стопроцентно оптимальным результатом.
Когда-то Белл отличался безграничным терпением; он мог позволить своей пастве продвигаться с ее собственной скоростью. Но в последнее время он стал утрачивать это качество, и это его раздражало. Он повидал достаточно людей, страдающих маниакальной зависимостью, чтобы понимать: их состояние редко остается стабильным, обычно им делается все хуже и хуже, а потом жизнь вырывается у них из-под контроля, и в конце концов они оказываются в больнице, где их до полного отупения накачивают лекарствами. Он страстно желал вернуться к себе прежнему — до того, как все начнет ускользать у него из рук.
— Леонард Кесвик, — громко провозгласил он, чтобы прояснить сознание. — Дальнейшие приключения.
Кесвик его подбодрит. Белл перемотал запись к кульминационной сцене и нажал на воспроизведение.
— Это для меня самый жуткий кошмар, — заявлял Кесвик на экране. Его голос был замутнен слезами, приглушен стыдом. — Знаете, что сделала моя жена, когда ей стало известно?
— Уверен, что ты нам расскажешь, — проговорил Белл, глядя сейчас на эти кадры, и откусил кусочек печенья. Арахисовое масло. Не самое его любимое.
— Она в меня плюнула, — сообщает Кесвик. — В буквальном смысле плюнула. Мне в лицо. Моя собственная жена.
Доктор Белл на экране — воплощение докторского всепонимания и терпения. Доктор Белл, сидящий сейчас у себя в кабинете, совершает в воздухе мастурбационные движения.
— Ну как полиция пронюхала? — ноет Кесвик. — Как они могли узнать?
— Разве они вам не сказали? Они ведь должны были дать вам какое-то представление об уликах?
— Об уликах? Улики были у меня в компьютере! Он был набит картинками с тринадцатилетними девочками!
— И с мальчиками, — добавил сейчас Белл, набив рот печеньем. — Не будем забывать про мальчиков, старый ты кобель.
— Они сказали только, что «действуют на основании поступившей информации».
— А что, вы полагаете, они под этим подразумевали? — спрашивает доктор Белл на экране.
— Не знаю. Может, это имеет отношение к интернет-порталу, или к провайдеру, не знаю, как это называется. Неважно. Я вот-вот потеряю работу, и я, похоже, вот-вот потеряю семью. По правде говоря, доктор, я как в аду. Как будто я уже умер и попал в ад. Не знаю, что мне делать.
Доктор Белл допил молоко и смахнул с колен крошки от печенья.
— Думаю, ты знаешь, что тебе делать, Ленни. Думаю, ты отлично знаешь, что тебе делать.
Зазвонил телефон; затем раздался голос Джиллиана Мак-Ре: он работал в больничной регистратуре.
— Доктор, это Джиллиан. Вы не связались с Мелани Грин? Сегодня днем она два раза звонила. Судя по голосу, она просто в отчаянии. Думаю, вам надо поговорить с ней сразу же, как только у вас будет возможность.
— Безусловно, Джиллиан, — проговорил Белл, не беря трубку. — Немедленно приступаю.
40
Делорм толкнула по столу папку к Кардиналу. Ее глаза, эти серьезные карие глаза, ничем не выдавали ее чувств.
Кардинал раскрыл папку. Его первой реакцией были три слова:
— Только не это.
— Дальше еще хуже, — сообщила Делорм.
Если детектив-сержант Шуинар пытался отвлечь Кардинала от его утраты, поручив ему помочь Делорм, он не мог бы выбрать более подходящее расследование. За десятилетия работы в полиции Кардиналу довелось повидать довольно неприятные вещи — омерзительные, черные вещи, — но он никогда не видел ничего, что потрясло бы его так, как те фотографии, на которые он сейчас смотрел.
Он потряс головой, словно пытаясь физически вытряхнуть заразу из своего мозга.
— На некоторых ей не больше семи лет.
— Знаю, — отозвалась Делорм, изучая ноготь своего большого пальца с таким видом, точно она каждый день сталкивалась с мужскими пороками подобного рода. — И это длилось годами. По крайней мере, до тех пор, пока ей не исполнилось тринадцать.
На более поздних снимках слез уже не было. На большинстве из них у девочки было безучастное выражение — как у овцы, которую стригут. Возможно, она старалась думать о чем-нибудь другом: мысленно решала арифметические примеры, вспоминала названия рек, — делала все, чтобы отвлечься от того, что этот человек (ее отец или опекун) у нее отнимает. От того, что она никогда не получит обратно.
— Не знаю, как у тебя, — проговорила Делорм, — но для меня одним из самых сладких моментов в жизни был первый поцелуй. Донни Леруа. Мы были такие юные — даже еще не подростки. Мне, наверное, было двенадцать, может быть — одиннадцать, а он был, кажется, мой ровесник. Мы были у него в домике для гостей. Его семья жила на Форельном озере, на Уотер-роуд, и у них был гостевой домик у самой воды. Просто хижина, с двумя двухъярусными койками.
Я пошла туда со своей подружкой Мишель Годен, а кто был другой парень, я не помню. Кто-то вытащил бутылку и раскрутил ее. Я раньше слышала про игру в бутылочку, но сама никогда не играла. И знаешь, так смешно: до этого я даже толком не думала о том, чтобы меня кто-нибудь поцеловал. Это не было чем-то таким, чего мне страстно хотелось или чем я интересовалась. Да, видимо, мне было всего одиннадцать, я помню, как потом об этом думала.
Ну и вот, в конце концов Донни меня поцеловал. Ну, ты понимаешь, с закрытым ртом, и все длилось какую-то долю секунды, но я никогда этого не забуду. Вот прошло уже двадцать пять лет, ну, около того, а я до сих пор это помню, помню тот сладкий ужас и восторг. По всему моему телу прошла дрожь, с головы до кончиков пальцев, как будто в меня воткнули тоненькие электрические проводки. Меня как будто щекотали, только не снаружи, а изнутри, как-то так.
— Очень похоже на любовь, — заметил Кардинал.
— Ну нет. Я потом об этом все думала и думала, но я не хотела от него ничего большего. Вряд ли я тогда хорошо представляла себе, что такое свидание, но не помню, чтобы после этого я особенно хотела узнать его получше или проводить с ним много времени. Это как когда в первый раз видишь северное сияние. Ты его запоминаешь, ты никогда его не забудешь, но ты же не строишь вокруг него всю свою дальнейшую жизнь.
— Возможно, мальчику показалось иначе.
Делорм пожала плечами:
— Кто знает, может, для него это был не первый раз? В общем, я хотела сказать, что нашей таинственной девочке уже никогда такого не испытать. Этот мужчина с фотографий ее этого лишил, ограбил ее. Когда она поцелует своего ровесника, она испытает нечто совершенно другое.
Это еще в лучшем случае, подумал Кардинал, просматривая остальные снимки.
— В Торонто нашли очень ценную штуку. — Она показала на одну из фотографий: видимо, гостиничный номер, судя по примитивной симметрии кровати и двух ночных столиков. — Они выяснили, что это мотель «Трэвеллерз рест» у северной окраины Торонто.
— Я его не знаю, — заметил Кардинал.
— Я тоже не знала. Но его, скорее всего, знают все, у кого есть маленькие дети. Из недорогих мотелей этот ближе всего к «Волшебному миру».
— Мило, — отозвался Кардинал. — Повез ее в путешествие и там проделывал с ней все эти штуки. А как они проследили их до Алгонкин-Бей? По самолету?
— Да. Я говорила с владельцем, его зовут Фрэнк Раули. Он не похож на нашего преступника. Начнем с того, что волос на голове у него нет. В придачу к самолету у него есть жена, ребенок и любимая гитара. Он дал мне много материала о своих соседях по пристани, но он ни разу не видел ничего, что ему показалось бы подозрительным.
Дверь отдела открылась, и вошла Мэри Флауэр, неся еще один двухслойный конверт.
— Вы хотели, чтобы я дала вам знать, как только оно придет? — произнесла она. — Ну так вот, оно только что пришло.
— Новый материал из Торонто, — объявила Делорм. — Эти ребята пашут как лошади. Им не терпится увидеть, как мы сцапаем их голубчика.
Делорм вскрыла конверт и вытащила очередные фотографии.
— На этот раз — не в мотеле. И не на яхте.
— Кажется, все тот же дом, — предположил Кардинал. — У нас уже есть гостиная, кухня, спальня…
— Знаю. К сожалению, все это ничем не напоминает те дома, где я побывала. Я, когда могла, пыталась заглянуть в другие комнаты, но ни одна из них не похожа на эти. Например, ни в одной кухне нет голубого кафеля.
— А как насчет вот таких занавесок? — Кардинал вытащил снимок, сделанный в гостиной. Маленькая девочка на диване. Позади нее — краешек занавески, видимо — голубой, с узором из золотых медальончиков.
— На более ранних картинках этого не видно. Но я почти уверена, что ни в одном из тех домов, куда я заходила, таких нет. Хотя, конечно, люди все время меняют занавески.
Кардинал перебрал остальные фотографии. Эти изображения покрыли сплошным слоем печали его собственное горе. Бедная девочка. Он почти не сомневался, что мужчина на снимках — ее отец или отчим: на тех картинках, где не было ничего сексуального, ее лицо слишком уж излучало восторг и доверие. А потом, когда это доверие выхватывают у тебя и рвут на куски, — как тут снова научиться доверять людям?
— Давай разложим их все по ее возрасту, — предложила Делорм. — Ты займись этими, а я сейчас принесу остальные.
Кардинал одну за другой выложил фотографии на стол. С каждой новой картинкой на сердце у него становилось все тяжелее. Даже оставляя в стороне вопрос, как мужчина мог воспылать похотью к девочке, только-только вышедшей из младенческого возраста, Кардинал не в состоянии был понять, как можно было смотреть на это славное личико и предавать душу, которая росла внутри у этого живого существа. Как можно брать эту маленькую ручку, получать невинные поцелуи от этого ротика, изгибом напоминающего Купидонов лук, и потом растлевать ее? Он не мог проникнуть в сознание человека, способного совершить такое вероломство по отношению к ребенку.
Судя по тому, что увидел Кардинал, это был мужчина лет тридцати с чем-то, с длинными темными волосами почти до плеч. На снимках были показаны почти все его анатомические детали, но ни на одной из фотографий не было видно его лицо целиком. Где-то — бровь, где-то — ухо, где-то — кусочек носа. По таким фрагментам нельзя сказать наверняка, но он, похоже, вполне привлекательный мужчина, способный вести нормальную половую жизнь. Зачем же тогда губить детство девочки, вверенной твоему попечению?
Делорм принесла фотографии, которые ей присылали раньше, и добавила их к пасьянсу на столе.
— Ну вот, нигде она не старше, чем на той, самой последней, на яхте, — заключила Делорм. — Если ту фотографию сделали пять лет назад, это может означать несколько вещей. Возможно, ребенку осточертело быть его секс-игрушкой, и она сказала ему отстать. А может быть, даже рассказала кому-то еще.
— Сомневаюсь, — возразил Кардинал. — Толком не знаю почему: может быть, из-за того, что она явно смотрит на этого типа с любовью на некоторых снимках, где нет порнографии, — но я не представляю себе, чтобы она на него донесла. Во всяком случае, в то время.
— А я думаю, что это возможно. Тогда этот тип, он может уже сидеть в тюрьме.
— В лучшем случае… — произнес Кардинал.
— Что? Ты как будто думаешь о чем-то другом.
— Я просто пытаюсь понять, что это значит — то, что этим снимкам пять лет. Я где-то читал, что среднестатистическая современная семья переезжает каждые пять лет.
— А значит, вряд ли какой-нибудь из домов, где я побывала, является местом преступления. — Она показала на фотографии и поправилась: — Не местом, а местами. Более того, семья могла распасться. Что вполне вероятно, учитывая проблемы, которые есть у этого типа.
— И его мотивы, — добавил Кардинал, качая головой. — Такой тип может разрушить не одну семью, прежде чем для него все кончится.
Они стояли, сложив руки на груди, наклонив головы, точно стратеги, глядящие на фотографии разбомбленных городов, дымящихся развалин. Теперь у них было достаточно снимков, чтобы устлать ими почти весь стол в комнате для заседаний.
— Когда люди переезжают, они берут с собой мебель, — заметила Делорм. — Я все надеюсь, что мне удастся опознать кресло, стол, книги, что-нибудь.
— Он внимательно относился к тому, чтобы в кадр не попали идентифицирующие детали.
— Да. Он до тошноты обожает крупные планы.
— А как насчет дивана вот здесь? — Кардинал поднял фото, где спящая девочка лежала на диванчике. У него были сиденья из красного плюша и необычная деревянная отделка.
— Нет. Такую мебель я бы запомнила.
— А вот это? — Кардинал показал картинку, на которой видна была ножка и угол журнального столика, выдержанного в стиле шведского модерна. — Довольно запоминающийся предмет.
Делорм какое-то время смотрела на него, потом покачала головой.
— У Ферье — побольше, и дерево куда темнее. А у Раули — в сельском стиле, как бы из расколотых поленьев. Этот наш голубчик просто какой-то всеядный.
— А здесь камин, — проговорил Кардинал, беря еще один снимок.
Делорм пожала плечами:
— Никаких каминов ни у кого не видела. И потом, ты же сам сказал, за пять лет они вполне могли переехать, так что камин тут, может быть, уже ни при чем.
— А каминные принадлежности? Латунная кочерга и лопатка.
— Ни у кого ничего подобного не видела.
— Хотел бы я пройтись с тобой по этим домам. Одна голова хорошо, а две лучше, к тому же мы могли бы разделить обязанности: один берет на себя ванную комнату, другой заглядывает на кухню.
Делорм не ответила. Она стояла, опустив голову, поджав подбородок кулаком и сосредоточенно глядя на стол. Взяла одну из фотографий, но потом положила ее назад. Снова протянула к ней руку. Кардинал с Делорм не были следователями-партнерами: в полиции Алгонкин-Бей вообще не бывает постоянных партнеров по расследованиям, сотрудников подключают к делам по мере необходимости, — но он работал с Делорм достаточно долго, чтобы понимать, когда в этих серьезных карих глазах брезжит новая мысль. Она в таких случаях замирала, словно прислушиваясь к своей внутренней радиостанции.
Она выбрала еще одну фотографию и теперь держала оба снимка перед собой.
— Смотри-ка, — произнесла она. Кардинал положил картинку с яхтой, на которую смотрел, подошел к ней и встал рядом.
— У Фрэнка Раули есть такой ковер, — сообщила она. — В стиле «навахо».[59]
— Ну, я не специалист по коврам. Не могу определить, насколько это дорогая вещь и стал бы за нее так уж держаться владелец.
— По-моему, он дорогой. Когда я была у него в доме, я заметила — очень сочные краски. Черное с синим. Все в этом доме было из дерева и очень выигрышно смотрелось рядом с этим ярким ковром. Но я не думаю, что это тот же самый.
— Почему? Только потому, что тебе пришелся по душе этот мужик?
— Нет, его ковер был чиненый. Я даже об него споткнулась. По нему шла прерывистая линия — что-то вроде шрама, который пересекал узор.
Кардинал уже изучал другие фотографии на столе, ища какой-нибудь снимок, где был бы виден ковер. И он нашел один. Вряд ли стоит ожидать, что вы сразу же заметите угол ковра на фоне сцены растления ребенка. Он поднял фото.
— Ты имеешь в виду вот такую пунктирную линию?
41
Венди Мерритт загрузила последние тарелки в посудомоечную машину, налила в маленькое отделение моющее средство и захлопнула дверцу. Таймер был выставлен на полночь. Шумно, зато электричество используется тогда, когда оно самое дешевое. Она тщательно следила за расходом энергии, особенно с тех пор, как они с Фрэнком начали жить вместе.
Это было грандиозное решение — и ведь прошло всего полтора года после смерти мужа. Он умер от сердечного приступа после того, как пробежал марафон в Торонто, и от потрясения она впала в ступор и прорыдала целых два месяца. Потом остался лишь ступор. Без Тары она бы почти наверняка обрекла себя на постепенное угасание законченного алкоголика, но она заставила себя собраться, ведь надо было заботиться о девочке; в конце концов она даже стала ценить светлые моменты своей новой жизни в качестве одинокой матери.
Но Венди не хотела быть одинокой вечно. Она начала проглядывать объявления о знакомствах и посещать церковные собрания, где ей могли встретиться одинокие мужчины. Иногда она даже ходила в пабы со своей подругой Пэт — чтобы оценить «местные таланты», как Пэт называла мужчин, околачивавшихся в таверне «Чинук» и в «Пяти колоколах».
Увы, старая истина оказалась верной: лучшие мужики действительно либо уже женаты, либо геи. По правде говоря, холостяки в нашем городке — просто жалкие создания, любили повторять они с Пэт. Они брали свои два пива, болтали со всеми, кто с ними заговаривал, и потом расходились по домам, слегка подавленные всеми этими приключениями.
Многие из мужчин, которые к ним обращались, казались явными психами. Не то чтобы у них были какие-нибудь нелепые хобби или они вели себя как-то угрожающе, хотя иные из них и правда были малость медвежеваты. Нет, обычно все дело было именно в том, что эти мужики были «свободны» — точно заброшенные дома. Чувствуешь, что когда-то давно здесь могли бы жить, но что-то случилось, и внутри так никто и не появился. А есть просто мужик, который приносит тебе выпить и, ничего не говоря, только созерцает бутылки, стоящие за стойкой бара. А потом, уже когда пора уходить, он кладет руку тебе на бедро, точно у вас только что состоялась самая интимная и волнующая беседа в твоей жизни. Большинство из них десятилетиями не читали книг, в газетах смотрели только спортивные страницы и не имели мнения ни по каким важным вопросам — потому что за их пустыми глазами не обитало никакое существо, которое могло бы чем-нибудь заинтересоваться. Даже если бы Венди вознамерилась переспать или подружиться с кем-нибудь из них (а у нее не было такого намерения), среди них все равно не нашлось бы одинокого мужчины, которого она сочла бы возможным познакомить со своей шестилетней дочерью.
Тара перенесла смерть отца хорошо — насколько этого можно было ожидать. Поначалу Венди думала, что слезы у девочки никогда не иссякнут. Но постепенно Тара привыкла к новой жизни и в конце концов перестала спрашивать об отце. В каком-то смысле это еще больше опечалило Венди.
Итак, она полтора года пробыла одинокой матерью. Любовь к Таре стала для нее золотым мостом над черной пропастью: только он помогал ей жить. И хотя она и подумать не могла, что такое возможно, ее любовь к дочери, похоже, становилась все глубже. Иногда ее беспокоило, что дочь становится для нее слишком важна, словно бы служа заменой умершему мужу. Это была одна из причин, почему ей так хотелось найти мужчину и почему ее приводили в такую растерянность «местные таланты» — пока она не встретила Фрэнка Раули.
Венди любила повторять, что Фрэнк влетел в ее жизнь, как киногерой — белоснежный рыцарь, спускающийся с небес, чтобы спасти ее и Тару; но в действительности все произошло куда менее захватывающе. Они с Тарой стояли перед ним в очереди к кассе в «Ноу фриллз».[60] Он обронил какое-то случайное замечание, и она ничего особенного не подумала, кроме того что для лысого мужика он довольно симпатичный. (Сейчас она думала, что он суперсимпатичный, а его лысая голова — чуть ли не самое сексуальное в нем.)
Потом они с Тарой уже были на парковке и хотели уезжать, когда Тара сказала:
— Мам, смотри, тот дядя.
— Какой дядя?
— Тот дядя из магазина. Он бежит.
Венди обернулась посмотреть, он помахал ей и подбежал, отдуваясь. Улыбка. Опускают окно машины, передают забытый пакет, благодарят. Все это заняло меньше минуты, и она больше никогда бы об этом не вспомнила, если бы не их следующая встреча.
На сей раз он действительно предстал в виде белоснежного рыцаря.
Они с Тарой катались на лодке по Форельному озеру. Она приходила на пристань и брала напрокат небольшую моторку — всего пятнадцать лошадиных сил, мотор стоит сзади. Они отлично проводили время, под «тук-тук» мотора объезжая небольшие островки возле залива Четвертой мили. Венди вытащила лодку на песчаную косу, и они полностью отдались игре в индейцев. В общем-то это была простая игра в прятки, но она затянулась, и Венди не заметила, как собрались грозовые тучи.
Они были всего в нескольких сотнях ярдов от острова, когда мотор заглох. Венди снова и снова пыталась его завести; у нее чуть не отвалилась рука, но потом она нашла большую дыру в трубке подачи топлива и поняла, что они никуда не уплывут, разве что если станут грести.
Но весла оказались тяжелыми и неуклюжими, и от них у нее заболели ладони. Она попросту не могла заставить лодку двигаться хоть с какой-то скоростью. Воздух сгустился и потемнел, за холмами начали вспыхивать молнии. Налегая на весла изо всех сил, Венди потеряла равновесие и упала навзничь на дно лодки. Оба весла вырвались из уключин и улетели в воду. Они с Тарой стали подгребать к ним руками. Усилия Тары были скорее вредны, чем полезны, и Венди не на шутку перепугалась. В считанные минуты ветер отнес их на порядочное расстояние от берега, видно было лишь несколько домиков, и на всем озере больше не было ни единой живой души. Видимо, у всех остальных хватило ума заранее убраться.
Сначала она это услышала, а потом уже увидела. Раздался приглушенный рев, он становился все громче и громче. Она подняла голову — вверху была лишь серо-лиловая мешанина туч. Потом совсем рядом с ними пронесся самолет, чуть не оглушив их. Он исчез в северной стороне между двумя другими островами, и у Венди шевельнулась слабая надежда, что он сообщит об их терпящем бедствие «судне» кому-нибудь на пристани, кто сможет подплыть и спасти их. К тому времени, как она вытащила дрейфующие весла из воды и всунула их в уключины, начали падать капли дождя — тяжелые, размером аж с виноградину.
— Ух ты, — снова и снова повторяла Тара. — Я не боюсь, мамочка. Слышишь, мамочка, я совсем не боюсь.
— Это хорошо, детка, — отвечала Венди, хотя считала, что в такой момент разумнее испытывать страх: обе они промокли до нитки, молнии шагали по холмам в их сторону, и их алюминиевая лодка была самой высокой точкой на обширном плоском пространстве.
Она уже натерла себе жгучие волдыри на ладонях, когда они снова услышали звук мотора: на этот раз он был гораздо тише.
Они обогнули мыс, который отделял их от залива, когда увидели самолет, движущийся к ним по воде; его понтоны выбрасывали вверх белые завитки, их было хорошо видно на фоне черной воды. Он прошел в двадцати ярдах от них, его винты ревели. Казалось, он балансировал на одном понтоне, когда в его боку открылась маленькая дверца и оттуда свесился человек.
— Вот-вот будет шторм, не из приятных. Лучше бы мне взять вас на буксир, а?
Мгновенно он кинул им буксирный канат, который Венди привязала к металлическому кольцу на носу моторки. Когда она это делала, ее отделяло от самолета не больше двадцати футов, и она буквально чувствовала, что Фрэнк на них смотрит.
— Мы знакомы? — спросил он. — Мы с вами где-то встречались?
— Может быть. У нас ведь не такой уж большой город.
Он щелкнул пальцами:
— В «Ноу фриллз». Вы стояли передо мной на кассу. Забыли один из пакетов.
— Я вас помню, — заявила Тара. — Вы принесли наш пакет.
— Точно, — подтвердил Фрэнк. — Я тоже тебя помню. Как, готова пойти за мной на буксире?
— Готова! — ответила Тара. — А вы что, повезете нас за собой по воздуху, да?
— Нет. Я просто поплыву через залив на понтонах.
— А-а. — Тара разочарованно опустилась на алюминиевое сиденье. Из-за дождя волосы облепили ее совершенно круглую голову.
— Мы готовы, — сообщила Венди.
Фрэнк закрыл дверцу, винты снова взревели, и вскоре они устремились за ним — внутри пенного следа, который он оставлял за собой и который был похож на букву V. Ветер от его винтов соперничал с ветром бури, швыряя им в лицо мокрые пряди их волос. Было темно, почти как ночью. Вдоль берега автоматически зажглись фонари, снабженные фотоэлементами.
— А я хотела, чтобы он взлетел в воздух, — сказала Тара. — Вот было бы здорово.
— Не думаю, что самолет такой сильный, чтобы это сделать, милая.
— Мы бы тогда пролетели в этой лодке над холмами и прилетели бы в ней домой.
Кажется, они пересекли залив меньше чем за пятнадцать минут: на веслах они преодолели бы это расстояние за час. Фрэнк прикрепил самолет к своему бую у пристани и потом подтянул ближе их хрупкую лодку.
— Сумеете отсюда сами добраться до доков? — Ему приходилось перекрикивать рев шторма. — Мне придется забрать у вас свой фалинь, а то я потом не смогу добраться до самолета.
— Думаю, мы сумеем, — отозвалась Венди. — Спасибо вам большое!
Свертывая канат в бухту, он подтянул их поближе к самолету. Венди отвязала конец; мужчина дотянулся до ее руки и пожал ее.
— Фрэнк Раули, — представился он.
— Венди Мерритт. А это Тара.
Вот как Фрэнк Раули влетел в их жизнь.
Венди начала отдраивать чайник — он был слишком большой для посудомоечной машины. Вошел Фрэнк в своем парике. На этой неделе в «Чинуке» выступала их команда, играющая музыку шестидесятых, а он любил носить на сцене парик: тогда он походил прической на Джона Леннона. Так выглядели его волосы до того, как он почти все их потерял всего-навсего в тридцатилетнем возрасте: он показывал ей фотографии.
— Едешь на свое шоу? — спросила Венди.
— Через минуту. Вещи уже в машине. Хотел тебе кое-что показать. — Он вытащил из заднего кармана две бумажки. — Боб Тибо дал мне два бесплатных билета в «Волшебный мир» на ближайший уик-энд: если точнее, на пятницу и на субботу.
— Как жалко, — огорчилась Венди. — В уик-энд я не смогу, у меня конференция.
Венди предстояла традиционная осенняя конференция учителей. В пятницу все школы закроют по случаю дня повышения квалификации педагогов.
— Я знаю, детка. Но я хотел с тобой кое-что обсудить. Я тут подумал — мы вместе уже восемь месяцев, и, по-моему, мы с Тарой неплохо ладим друг с другом.
— Более чем неплохо, милый. Она от тебя просто без ума.
— Ты так думаешь? — отозвался Фрэнк; видно было, что он польщен.
— Она вечно хочет знать, где ты. Все время спрашивает, когда ты придешь домой. По-моему, она до сих пор не очень верит, что ты настоящий. Наверное, она думает, что, может быть, ты исчезнешь, как другой ее папа.
— Я вот как раз и подумал… Нам с Тарой как-то не выпадал случай заняться чем-нибудь, что нас по-настоящему свяжет: чтобы мы с ней были вдвоем, понимаешь?
— Но ты ее катал на самолете, и раза два вы ходили в поход. И еще этот круиз на «Принцессе Чиппеве».
— Верно. Но это все было — так, на пару часов. Думаю, будет славно, если мы проведем с ней вместе пару дней. Думаю, это может нас сплотить как следует, понимаешь? Настоящие папа и дочка.
Венди прислонилась к разделочному столу, сложив руки на груди. Мысль о том, что Тара уедет на два дня в другой город, обеспокоила ее. Ее дочь бывала в однодневных походах. Иногда ночевала у подружек. Но она никогда не уезжала из города без Венди. А до «Волшебного мира» двести миль, это уже почти Торонто. Все это она высказала Фрэнку.
— Ну ладно, — разочарованно произнес он. — Если ты чувствуешь, что она не готова… Я просто думал, что это отличная возможность, чтобы… Ну и ладно, я их выкину, ничего страшного.
— Нет-нет, не делай этого.
— Ну, раз мы не собираемся их использовать.
Из-за чего я волнуюсь? — укорила себя Венди. Фрэнк — самый ответственный мужик из всех, кого я знаю.
— Я просто глупая, — признала она. — Конечно, ей можно поехать. Думаю, вы замечательно проведете время вдвоем. Только вот… вы что, собираетесь два дня пробыть в парке развлечений?
— Честно говоря, для меня все эти парки — не самое приятное развлечение на свете. Но, по-моему, это отличная возможность для того, чтобы мы с Тарой по-настоящему узнали друг друга.
В гостиной выключили телевизор. Вошла Тара, сжимая в руках игрушечного льва. Увидев Фрэнка, она засмеялась:
— Ты надел свои волосы!
Фрэнк приосанился:
— Ну, на кого я похож? На Оззи Осборна?
— Ой, как здорово, — заявила Тара, повисая на них.
— Оп! Осторожней, детка. А то они упадут мне на лицо, и я не увижу, куда еду.
— Мамочка, а можно у меня будет мобильник? Я хочу мобильник с Гарри Поттером.
— Нет, не хочешь. Ты просто посмотрела рекламу.
— Хочу! Хочу! Тогда я смогу звонить Кортенэ и Бриджет.
— Ты и так им можешь позвонить.
— Это совсем другое. Мамочка, ну пожалуйста!
— На самом деле Фрэнк приготовил для тебя кое-что получше. Хочешь ей рассказать, Фрэнк?
Фрэнк присел, чтобы быть одного роста с Тарой: он всегда так делал, когда с ней разговаривал.
— Как ты смотришь на то, чтобы в ближайший уик-энд отправиться в «Волшебный мир»? Вдвоем. Только ты и я.
— «Волшебный мир»? Правда? Это будет супер-пупер-потрясающе!
— Но ты подумай серьезно, — вставила Венди. — Ничего, если с тобой поедет только Фрэнк? Мамочка не сможет, у мамочки работа.
— Хочу поехать! Хочу поехать! Когда? Завтра?
— В пятницу, — ответил Фрэнк. — Мы будем вдвоем всю пятницу и всю субботу. Классно, а? Может быть, я даже надену ради тебя свои волосы.
42
Пациенты умирали один за другим, а Фредерика это, казалось, совершенно не заботило. Опять повторяется манчестерская история, подумала Дороти Белл, и ее мысли переключились на то время, когда они жили в Англии. В Англии Фредерик не проявлял никакого беспокойства, когда однажды три его пациента покончили с собой практически в течение одной недели. Он не беспокоился, когда мать одного молодого самоубийцы встала у входа в больницу с плакатом: «Доктор Белл убил моего сына». И он не беспокоился, когда коллеги указывали на высокий уровень смертности среди его пациентов.
Он выработал для себя несколько стандартных ответов. Пытаешься помочь людям — и вот их благодарность, говорил он с тяжелым вздохом и пожатием плеч, выражавшим мировую скорбь. Никто не понимает, какой это жестокий убийца — депрессия, говорил он. Большинство докторов просто отказываются это признать. Он изображал из себя безрассудно смелого хирурга, проникающего со своим скальпелем на враждебные территории, куда не решаются заглянуть другие.
И тем не менее он ни о чем не беспокоился даже в Суиндоне, когда девочка-подросток, ходившая к нему на прием, взорвала весь свой дом, отравившись газом. Не беспокоился, когда мужчина под шестьдесят, который должен был вот-вот стать дедушкой, прострелил себе голову на заднем дворе у своей дочери. Не беспокоился, когда медсестры в Манчестерском центре, где работала и Дороти, стали называть его «доктор Смерть». Она ему об этом рассказывала, а он лишь пожимал плечами, выражая скорбь о мире, и отвечал: «Против глупости даже Господь бессилен».
Пожалуй, Фредерик обеспокоился один-единственный раз — когда манчестерские коллеги потребовали, чтобы Государственная служба здравоохранения провела расследование с целью выяснить, почему он прописывает пациентам в семь раз больше снотворных, чем другие врачи со схожей практикой. «Нет врачей, у которых схожая практика, — кипятился он, даже когда они уже собирали вещи, чтобы ехать в Канаду. — Депрессия вызывает недосып. Что мне прикажете делать? Пусть они сходят с ума от бессонницы?»
Примерно в то же время предстал перед судом доктор Гарольд Шипмен — за то, что убил более двухсот пятидесяти пациентов, давая им смертельные дозы героина. Шипмена все знали как хорошего, доброжелательного семейного доктора. Но многие его пациенты действительно умирали даже во время его посещений или же вскоре после них. Его приземистая жена самоотверженно поддерживала его, ходила на этот долгий процесс, не пропуская ни дня, и за все время не сказала журналистам ни слова.
И вот теперь — история Фредерика с этим мальчиком, который покончил с собой позапрошлым летом, и с этим мистером Кесвиком, и с этой женой полицейского, и с этим Дорном, бедным парнем, который застрелился в прачечной-автомате. Как ее муж может настолько невозмутимо на все это смотреть? Конечно, он не Гарольд Шипмен, он не рыщет по улицам, убивая людей, но, получается, он делает что-то не то, раз такое количество его пациентов совершает самоубийство.
Она вспомнила: когда осудили Шипмена, она сказала себе, что, в отличие от миссис Шипмен, она обо всем бы знала, она что-нибудь предприняла бы.
И вот я что-то предпринимаю, сказала она себе, проскальзывая в кабинет Фредерика. Она толком не знала, что именно предпринимает, но она не может — более того, она не будет — опять сидеть сложа руки, наблюдая, как растет гора трупов. Она не станет второй миссис Шипмен.
Она отперла шкаф, где Фредерик хранил записи своих сеансов. Он их смотрел, точно какой-то маньяк. Много лет назад, когда он еще пользовался видеокассетами, она боялась, что это порнофильмы, но несколько подслушиваний у двери его кабинета устранили эти — но только эти — опасения. Ни рычания, ни стонов, ни криков не слишком достоверного экстаза. Из-за его тяжелой двери просачивались сквозь щели только шепот исповеди, голос ободрения, плач отчаяния.
Диски были обозначены по номерам папок, а не по именам; легко будет сопоставить их с папками в его шкафах.
Фредерик вернется с больничного обхода лишь через несколько часов. Она вынула первый диск из футляра и вставила в проигрыватель. Потом прошла к кушетке, на которой рыдало и исповедовалось так много пациентов ее мужа, и села, чтобы посмотреть запись.
43
Хотя служебная нагрузка у Кардинала сейчас была меньше, чем всегда, он по-прежнему вынужден был уделять внимание мелким преступлениям — обычному явлению в маленьких городках. Кражи со взломом, ограбления, насилие — все это требовало расследования и составления целых гор документов для суда.
Утром он помог выследить бывшую миссис Раули, но сейчас Делорм в нем не нуждалась, так что он потихоньку исследовал прошлое доктора Белла. Поиск в интернете выдал ему аннотации статей, которые доктор написал, списки научных советов, в которые он входит, ученые степени и звания, которые он имеет, а также все его служебные связи, былые и нынешние. Он сосредоточился на самом первом из тех мест работы доктора, которые выдала поисковая система: Кенсингтонская клиника, Лондон, Англия. К сожалению, оба врача, которые работали там в одно время с Беллом, заявили Кардиналу, что они слишком заняты, чтобы обсуждать бывшего коллегу.
Ему больше повезло с доктором Ирвом Кантором из Суиндонской больницы общей практики. В голосе доктора Кантора слышались сочувственные нотки бывшего друга:
— Я считал Фредерика хорошим психиатром. Трудолюбивый, плодотворно работающий, заботливый. Никто лучше, чем он, не разбирался в депрессиях. Ни один человек.
— Но вы как-то с сомнением это говорите, — заметил Кардинал.
— Видите ли, потом начались все эти неприятности.
— Какого рода неприятности?
— Фредерик работал здесь в качестве прикомандированного ординатора, но ему вынесли предупреждение за то, что он прописывает слишком большие дозы, а значит, он уже не мог надеяться, что его зачислят в штат.
— Слишком большие дозы чего?
— Снотворного. Мне кажется, в дисциплинарной комиссии сочли, что он сам, должно быть, подвержен зависимости, судя по тем количествам препаратов, которые он выписывает, но это было не так. Он просто давал их громадному количеству пациентов. И некоторые из них совершили самоубийство как раз с помощью тех таблеток, которые он им прописал.
— Его обвиняли в нарушении правил врачебной практики?
— Родные одного больного хотели возбудить такое дело, но им не удалось найти психиатра, который засвидетельствовал бы, что это роковая ошибка — прописывать снотворное тому, кто не может заснуть, даже если человек находится в депрессии. Самое большее, что кто-нибудь из нас мог сказать, — что мы бы на его месте не стали назначать так много таблеток. Возможно, имела место неверная диагностика, но опасной практики не было.
— Тогда я удивляюсь, почему вы мне об этом рассказываете.
— Я не стал бы, если бы дело ограничилось только этим. Но мы живем в постшипменовском мире: вам известно о терапевте, который уморил сотни пациентов?
— Да, я читал. Насколько я помню, его довольно долго подозревали, но больницы не делились друг с другом информацией, так?
— Да, это так. Никто никому не рассказывал. Так или иначе, Фредерик на этом не остановился. Он уехал из Суиндона вскоре после того, как комиссия представила свой отчет. Он нам всем нравился, но при этом все мы вздохнули с облегчением, когда он нас покинул. Он перешел в Манчестерский психиатрический центр, это самая крупная психиатрическая больница на севере Англии. Года через два после того, как он туда перебрался, у них резко выросла смертность от суицида: она стала примерно вчетверо выше, чем в других больницах того же профиля. Об этом писали в газетах, были требования, чтобы служба здравоохранения провела расследование, но по какой-то причине этого не случилось. Фредерик уехал, и, видимо, этот вопрос бросили на полпути.
— Куда он переехал?
— Не знаю. С тех пор как он отсюда ушел, наши пути никогда не пересекались.
Кардинал стал звонить в Манчестерский центр. В управлении кадров ему смогли только назвать годы, когда Белл работал в центре; председатель комиссии по врачебной практике и стандартам отказался ему что-либо сообщать без британского ордера, а главный психиатр не стал ему перезванивать.
Кардинал знал, что между теми, кто ставит больным диагноз, и теми, кто за ними действительно ухаживает, часто бывают напряженные, если не открыто враждебные отношения. Поэтому следующий его звонок был адресован главе службы медсестер.
Сотрудникам полиции Онтарио, как правило, не разрешается собирать информацию, откровенно прибегая к разного рода уловкам, но Кардинал был до такой степени взвинчен, что подумал об этом лишь мимолетно, хотя обычно он куда строже придерживался установленных правил.
Службу медсестер в Манчестерском центре возглавляла женщина по имени Клэр Уайтстоун; у нее был мужеподобный голос, и она всем своим тоном показывала, что у нее есть пятнадцать других дел, которые она предпочла бы беседе с каким-то Джорджем Бекером, заместителем начальника службы медсестер психиатрической больницы Алгонкин-Бей.
— Алгонкин-Бей, — проговорила сестра Уайтстоун. — Похоже на какое-то место, где то и дело натыкаешься на всякие иглу и полярных медведей.
— Медведи и индейцы, — уточнил Кардинал. — Иглу у нас тут нет.
— Чем я могу вам помочь?
— У нас тут возникла одна серьезная проблема, и мне требуется помощь ваших сотрудников. Нужна некая информация. А ваши администраторы, ваши врачи… Это как разговаривать с кирпичной стеной.
— Сочувствия вы от меня не дождетесь, дружище. Я сама каждый божий день бьюсь головой в эти самые стены. Это просто проклятие всей моей несчастной жизни. В чем ваша проблема?
— Мне нужны данные о психиатре, который когда-то с вами работал. У него были разногласия с предыдущим работодателем по поводу выписывания чрезмерного количества лекарств.
— Я уже знаю, о ком вы говорите. Если вам нужны грязные сплетни насчет доктора Белла, я вам их пересказать не смогу. Знаете ли, несмотря на всю шумиху вокруг Шипмена, никуда не делись всевозможные правила по поводу распространения дисциплинарных записей. Это может быть сделано, но не быстро и не через меня. Вам надо обратиться в…
— …в Государственную службу здравоохранения. Я понимаю.
— Они не станут вам ничего сообщать по телефону, как и я не стану. Полагаю, у вас в стране существуют законы о диффамации и клевете?
— Да, конечно.
— Тогда вы поймете, почему я не могу сообщить вам никаких негативных сведений об этом замечательном, замечательном человеке, об этом вдохновенном психиатре, об этом светоче, который сияет нам всем.
У Кардинала возникло четкое ощущение, что она была бы не против сообщить такие сведения. У него был заранее приготовлен ответ.
— Мы собираемся затребовать все записи о нем, какие существуют в этом мире, — проговорил он. — Но, как вы и сказали, это дело долгое. А между тем у нас здесь умирают люди, и вы могли бы помочь нам сэкономить много времени и энергии, в буквальном смысле спасти жизни.
— Да перестаньте, мистер Бекер. У нас тут не хватает рук, сегодня был просто безумный день, а у меня ведь скоро еще одна смена.
— Выражусь предельно просто. У нас создалась следующая ситуация: уровень суицидов подозрительно повысился. И всех этих больных лечил один и тот же психиатр.
— Вам поступают жалобы от пациентов? От их родственников?
— Один из таких родственников хотел избить нашего доктора: я бы счел это жалобой. А одна бывшая пациентка заявляет, что он побуждал ее написать предсмертную записку.
Через спутник до Кардинала донеслось фырканье и его легкое эхо.
— Итак, позвольте мне сформулировать это так: если бы нам удалось получить из вашей службы здравоохранения данные по этому врачу, есть ли вероятность, что они покажут сходную картину? Заметьте, я не называл фамилии никакого врача.
— Замечено и оценено, мистер Бекер. Если здравоохранение когда-нибудь оторвет от стула свою несчастную коллективную задницу и проведет детальное расследование, то оно действительно выявит сходные случаи, которые имели место здесь, у нас.
— Кто-нибудь подозревал преступный умысел?
— Что-то большее, чем просто пренебрежение врачебными обязанностями? Официально — не подозревали. Но, знаете ли, на мой взгляд, когда кто-то прыгает с крыши здания…
— Кто-нибудь прыгал?
— Я не какой-нибудь там несчастный эксперт-криминалист, но я всегда считала, что тот случай — какой-то подозрительный. Имейте в виду, это всего лишь мое мнение. Там действительно была и записка, и все такое, но вы говорили, что он просил писать записки, этот ваш доктор.
— Да. По меньшей мере в двух случаях.
— Мне это не кажется хорошим методом лечения. А вам?
— Мне кажется, это заслуживает дальнейшего расследования.
— Откровенно говоря, мистер Бекер, вы как-то не похожи на медбрата. Собственно, кто вы?
— Я муж. — Слово «вдовец» он произнести не мог. Более того, оно пришло ему в голову уже после того, как он сказал «муж». — Однажды моя жена пошла фотографировать. И в итоге спрыгнула с крыши и разбилась насмерть. Оставила записку.
Возникла кратчайшая пауза.
— Мне печально это слышать, мистер Бекер. У меня нет времени на долгие разговоры. На ваш простой вопрос я могу дать вам простой ответ. Выявило бы расследование определенные сходства между историями болезни наших пациентов и пациентов психиатрической больницы Алгонкин-Бей? Ответ на ваш чисто гипотетический вопрос — абсолютно не гипотетическое «да».
Когда он вернулся в управление, Мэри Флауэр вручила ему пухлый двухслойный конверт, пришедший на его имя.
— Похоже, Джон, для тебя в этом году раньше времени наступило Рождество, — заметила она и тут же покраснела. — Прости. Сморозила глупость, — пробормотала она и отвернулась.
Обратного адреса на конверте не было. Кардинал отнес его на свое рабочее место, открыл, наклонил, и содержимое выскользнуло на стол. Шесть сияющих DVD-дисков.
44
Диски были в простых белых футлярах с прозрачными пластиковыми оконцами; никаких наклеек, кроме белой полоски на задней стороне, где синей ручкой выведен номер. Цифра 7 была написана по-европейски, наклонный стебель семерки пересекала горизонтальная черточка. Кардинал затолкал диски обратно в конверт, прошел в комнату для заседаний и закрыл за собой дверь.
Здесь имелась тележка с большим телевизором, под которым стоял комбинированный проигрыватель для видеокассет и дисков. На нем просматривали допросы подозреваемых, мероприятия, проведенные на месте преступления, и тому подобное. Кардинал вытащил из конверта один диск и вставил его в устройство.
На экране — кабинет доктора Белла: книги, ковры, дубовая мебель, уютные кресла, так и призывающие сесть, расслабиться, открыть то, что терзает сердце. Все здесь такое мягкое и приветливое. Посреди кушетки сидит молодой человек с редеющими песочными волосами, одна лодыжка лежит на колене, одна рука стискивает это колено. На первый взгляд кажется, что его поза выражает комфорт и непринужденность, но подергивание ступни выдает некоторую нервозность, а резкие движения головой показывают, что посетителю неуютно в этом кабинете, в мире, а возможно — и в своем собственном теле: Перри Дорн, убивший себя в прачечной-автомате. Кардинал узнал его по фотографиям из теленовостей. Сбоку сидит доктор Белл, на колене у него раскрытая записная книжка, прижатая рукой.
Юноша извергает свою мучительную тоску: рассказывает, как он обожал математику, как отказался от предложения учиться в университете Мак-Гилл, чтобы остаться рядом с женщиной, по которой сходил с ума, и как она его бросила. Крик отчаяния чувствуется в каждой хрипловатой ноте его голоса, в обреченной сгорбленности плеч. Едкая кислота ненависти к себе так и брызжет из всех его слов, даже из тех, которые он произносит с принужденной бодростью. Но добрый доктор не предлагает положить его в больницу. Напротив, он выспрашивает подробности насчет того, как Маргарет, возлюбленная молодого человека, так сокрушила его.
А потом они обсуждают его неуверенность в том, что Маргарет вообще обратит внимание на его самоубийство: она так занята своим новым поклонником.
— Видите ли, я просто задумался о прачечной-автомате, — говорит доктор Белл. — Когда вы начали встречаться с Маргарет, прачечная стала для вас каким-то символом. Вы сами сказали, что словно бы начали все с чистого листа. Помню, я еще подумал, какое это мудрое замечание. Никто из вас не нес в себе бактерий (уверен, что вы употребили именно это слово) прошлых романов. Вот я и подумал, что…
— Прачечная, — говорит Перри и швыряет салфетку на журнальный столик. — Да, уж на прачечную-то ей придется обратить внимание.
Кардинал заменил диск другим. Леонард Кесвик, сотрудник социальной службы, покончивший с собой после того, как в его компьютере была обнаружена детская порнография. Кесвик работал старшим администратором службы социальной помощи, и Кардинал время от времени встречался с ним на разного рода общественных собраниях, а кроме того, часто видел его в вечерних новостях.
Он нажал на ускоренное воспроизведение и пропустил вводную часть.
— Знаете, что сделала моя жена, когда ей стало известно? — спрашивает Кесвик. — Она в меня плюнула. В буквальном смысле плюнула. Мне в лицо. Моя собственная
Он ударяется в слезы. Доктор Белл терпеливо ждет в своем кресле, пока рыдающий вой сменится всхлипами, всхлипы — хлюпаньем.
— Ну как полиция пронюхала? — стонет Кесвик, его голос приглушает салфетка. — Как они могли узнать?
— Разве они вам не сказали? — с неподдельным участием спрашивает доктор Белл. — Они ведь должны были дать вам какое-то представление об уликах?
— Об уликах? Улики были у меня в компьютере! Он был набит картинками с тринадцатилетними девочками! Не знаю я, как им стало известно! Они сказали только, что «действуют на основании поступившей информации».
— А что, вы полагаете, они под этим подразумевали? — спрашивает доктор Белл. Он ерзает в кресле, сутулится, так и сяк дергает головой: все ярче проявляются его «собачьи» тики.
— Не знаю. Может, это имеет отношение к интернет-порталу, или к провайдеру, не знаю, как это называется. Неважно. Я вот-вот потеряю работу, и я, похоже, вот-вот потеряю семью. По правде говоря, доктор, я как в аду. Как будто я уже умер и попал в ад. Не знаю, что мне делать.
Кесвик всегда казался таким самоуверенным, всегда держащим себя в руках человеком, а тут, на кушетке у психиатра, он вдруг раскрылся.
Кардинал начал понимать, как пациенты Белла клюют на его внешнюю теплоту. Вся его манера так и говорила о распростертых объятиях, согревающем очаге, «безусловном позитивном подкреплении». Кардинал и сам растаял под действием этой манеры, когда впервые пришел к Беллу; он даже спросил у Белла совета. Все эти пациенты (и Кэтрин тоже) являлись к этому врачу лишь с одним желанием — чтобы им помогли, чтобы чья-то крепкая, надежная рука вытащила их из мрачной бездны отчаяния. Кто заподозрит, что человек, протянувший им эту руку, станет толкать их обратно вниз? Кардиналу вспомнилось классическое определение обольщения: теплые манеры, но низкие намерения.
Дата в углу кадра показывала, что эта беседа с Кесвиком происходила около года назад, в тот самый месяц, когда он покончил с собой.
Кардинал перешел немного назад и нажал «Воспроизвести».
— Они сказали только, что «действуют на основании поступившей информации», — жалким голосом говорит Кесвик.
Психиатр:
— А что, вы полагаете, они под этим подразумевали?
— Как будто вы сами не знаете, доктор. — Кардинал нажал на кнопку «Стоп». «Как будто вы сами не знаете».
Он вытащил из конверта еще один диск. На нем была желтая наклейка, а на ней было аккуратно выведено: «Сожалею о вашей утрате».
Секунду спустя на экране появилась Кэтрин, и у Кардинала перехватило дыхание. Его рука сама потянулась к ней.
Кэтрин сидит в центре кушетки, сгорбившись, подавшись вперед, зажав руки между колен: это была обычная для нее поза, когда она обсуждала что-нибудь чрезвычайно интересное. Поза прилежной студентки.
Белл расслаблен, задумчив, сидит положив ногу на ногу, а на колене, как всегда, записная книжка.
— В последнее время мне стало гораздо лучше, — говорит Кэтрин. — Помните, в прошлый раз я волновалась, что у меня вот-вот начнется приступ депрессии?
— Да.
— Ну а сейчас я уже этого не чувствую. Это я просто немного переживала по поводу своего проекта. Я собираюсь сделать цикл фотографий, которые будут сняты в разное время дня. Начну с вечерних. Но это должно быть строго определенное время: девять утра, шесть вечера и девять вечера.
— Насколько я помню, вы говорили мне, что это будет что-то вроде съемки с воздуха?
— Не с воздуха, а просто с высоты. Я хотела снять первую серию со шпиля нашего собора, но мне не дали разрешения. Так или иначе, вечерние снимки я начинаю делать сегодня. Знаете это новое здание «Гейтвэй», сразу за окружной дорогой?
— Ах да. Я не думал, что его уже достроили.
— Почти достроили. У меня там живет подруга, так что сегодня я туда отправляюсь со своими аппаратами. Она меня выведет на крышу — она у них плоская, — и я буду снимать город с высоты. А если сегодня еще и появится луна, это будет довольно впечатляюще.
Кардинал слышал энтузиазм в ее голосе. Доктор тоже не мог оставить это без внимания.
— А ваша подруга будет там вместе с вами? — спрашивает Белл. — Мне казалось, вы всегда работаете в одиночестве.
— Она просто проведет меня на крышу и сразу же убежит на репетицию. Так что крыша будет полностью в моем распоряжении.
— Итак, что же изменилось с прошлой недели? В прошлый раз вы воспринимали вашу работу так безнадежно. — Белл отлистал свою записную книжку назад. — «Не знаю, зачем мне вообще брать на себя труд этим заниматься, — так вы сказали. — Я ни разу в жизни не сделала ничего стоящего. Всем наплевать на мои фотографии, и так, скорее всего, будет и дальше».
Ее собственные слова тяжело ударяются в нее. Ее лицо резко меняется, кожа у уголков глаз вдруг обвисает, рот приоткрывается.
Она тебе доверяет, подумал Кардинал. Она с тобой совершенно откровенна. Обычно Кэтрин куда более замкнута, особенно если речь идет о ее работах. А с тобой она сразу раскрывается. Она хочет твоей помощи. Она хочет, чтобы ты помог подавить ее собственные темные порывы. И как ты отплатил ей за доверие?
— Это было… — говорит она и как-то обмякает. — Это было…
— Вы думали о том, чтобы навсегда бросить фотографию. Вы думали, что дальше заниматься ею бессмысленно. Не хочу быть грубым, но мы ведь сейчас должны извлечь на поверхность самые глубинные ваши чувства.
— Нет, нет, я понимаю, — отвечает Кэтрин. — Я и забыла, как мне было плохо на той неделе.
— Угу
— Но я думаю, что это была просто предпроектная хандра. Мы это уже обсуждали. Когда я начинаю новый проект, я всегда переживаю, всегда выдумываю себе всевозможные причины, чтобы за него не браться. А как только я начинаю так думать, жизнь сразу кажется мне чередой неудач, отсюда и тоска.
— «Из всего, что я сделала, ничто не представляет ценности», так вы сказали…
Сволочь, подумал Кардинал.
— В этом есть нечто большее, чем просто легкая тоска, — продолжает Белл. — Из всего, что вы сделали, ничто не представляет ценности?
— Это просто было… я хочу сказать, что… я думала… я думала… Понимаете, так всегда бывает, когда я нервничаю насчет проекта: начинаю изыскивать всевозможные причины, чтобы им не заниматься. И главная причина здесь — мысль: кому до этого есть дело? Не то чтобы за мной тянулся такой уж длинный шлейф успехов. Например, в моем возрасте Карш[61] уже прославился благодаря своим портретам, Андре Кертеш[62] уже сделал и самые прекрасные из своих уличных зарисовок, и свои безумные экспериментальные работы, а Диана Арбус уже выставилась в Музее современного искусства. Зачем мне-то стараться?
Так я всегда думаю. Но потом все эти мысли отступают, и я начинаю думать только о работе — о технических трудностях, о том, как интересно будет варьировать экспозицию, — и забываю обо всем остальном.
— Любопытно, что вы вспомнили Диану Арбус.
— Она была потрясающая. Всего-навсего девочка из Верхнего Вестсайда, — и, представьте, она забиралась в самые страшные углы Нью-Йорка, снимала там трансвеститов, карликов и бог знает кого еще. Она была просто фантастическая.
— Возможно, самый знаменитый фотограф прошлого века.
— Насчет этого не знаю. Но среди женщин-фотографов — да. Это так.
— Во всяком случае, так было после того, как она покончила с собой.
— Это было так печально, — говорит Кэтрин, словно она потеряла подругу. — Я все о ней прочла. У них с мужем была такая крепкая любовь. После того как они расстались, она уже никогда не стала прежней. Она так и не смогла это пережить. Не думаю, чтобы работа или признание, в любых количествах, могли бы для нее это как-то сгладить. И ведь она его не обвиняла, она его по-прежнему любила. И он тоже продолжал ее любить.
Она говорит о ней, точно они были лично знакомы долгие годы, словно они каждый день болтали и вместе работали, подумал Кардинал. Как я мог это упустить? Может быть, я просто не вслушивался?
— Но факт остается фактом, — негромко замечает доктор Белл. — Она покончила с собой, и, даже если в итоге она не стала самым знаменитым фотографом, она, безусловно, стала одной из самых знаменитых самоубийц, и это повлияло на восприятие ее работ. Вы наверняка много о ней размышляли.
— Я ее обожаю. Ее работы так много для меня значат. И вы правы: то, как она умерла, действительно повлияло на то, как воспринимается теперь ее творчество. На каждой фотографии словно бы стоит громадный красный восклицательный знак. Она словно бы подчеркнута кровью.
— И это увеличило ее славу.
— Да. Хотя все равно печально.
— Таким образом, — не поймите меня превратно, — я невольно задаюсь вопросом: возможно, в вашем сознании появлялись какие-нибудь мысли подобного рода, когда вы думали о том, чтобы убить себя? Как вы считаете, это могло стать одним из факторов, из-за которых вас влекло самоубийство?
— О господи, — начинает Кэтрин. Потом наступает долгая пауза: она смотрит куда-то в сторону. — Неужели я могла быть такой легкомысленной? Убить себя, чтобы прославиться?
— Но это ведь не совершенно нереально, верно? Были прецеденты.
Сволочь, опять подумал Кардинал.
— Я не думаю, что это один из факторов. Я хочу сказать, может быть, так оно и есть, но если и так, то это подсознательно. Нет, когда я думаю о самоубийстве, то это потому, что мне очень больно и я хочу, чтобы боль прекратилась. Я хочу, чтобы она кончилась. Совсем. А еще я думаю о том, какой обузой я, наверное, стала для Джона, как он, должно быть, ненавидит сам мой вид, и тогда я просто думаю: почему бы не снять эту тяжесть с его шеи.
— Детка, нет, — вслух сказал Кардинал. — Нет…
— Но потом я думаю, как это его ранит, как он опечалится, и я не могу этого сделать. — Кэтрин трясет головой, разгоняя мрачные мысли. — И знаете что? Я никогда не стану себя убивать. Много раз я была к этому близка, но… не знаю… видимо, у меня есть какой-то внутренний стержень, и где-то в глубине души я точно знаю, что никогда этого не сделаю.
— Понимаю. — Доктор Белл откидывается на спинку кресла, так что его лицо оказывается в тени. — И вы не считаете, что это лишь из-за того, что сегодня вы в хорошем настроении?
— Нет. Это — настоящая я. То, какая я есть. На этой неделе у меня просто было предпроектное волнение. А сейчас я уже погрузилась в проект, я готова работать, и я… ну да, я нервничаю, я всегда в таких случаях переживаю, — но я хочу взяться за работу. Хочу увидеть, что из этого выйдет.
С этими последними словами, которые жгли ему сердце, Кардинал поехал в здание Коронного суда на Слейтер-стрит.
Проигрыватель для DVD перетащили в комнату для совещаний, и потом они вместе с прокурором Коронного суда Уолтером Пирсом молча сидели и смотрели на то, как перед ними разворачивалась история работы доктора Белла, — под портретом британской королевы, какой она была тридцать лет назад. Кардинал показал ему последние сеансы с тремя пациентами.
Пирс был крупный мужчина, грудь колесом; у него была бледная кожа и очень маленькие глазки, часто моргавшие от какой-то нервной болезни. Это придавало ему какой-то мягкий, кротовий вид, в свое время обманувший немало преступников, самоуверенно считавших, что они смогут выдержать перекрестный допрос с участием этого безобидного с виду создания. Главнейшим преимуществом Пирса на суде был его голос — бархатный шепот, благодаря которому даже взятые с потолка доводы казались разумными идеями, которые пришли в голову вам — и присяжным — после самых трезвых размышлений.
— Как я понимаю, эта женщина — ваша жена, — произнес он, когда Кардинал вынул последний диск из проигрывателя.
— Верно.
— Сочувствую вашей потере, детектив. Удивлен, что вы так скоро вернулись на работу. Должно быть, для вас невыносимо на это смотреть.
— Кто-то должен остановить Белла, чтобы он больше не убивал своих пациентов. — Кардинал сам слышал раскаты гнева в своем голосе. Он добавил уже потише: — Его необходимо изолировать.
Пирс наклонился к Кардиналу. За все время он не сделал ни единой пометки в большом желтом блокноте, который лежал перед ним.
— Послушайте, — прошелестел он. — Вместе мы представляли в суде много сложных дел, вы и я, — и большинство процессов мы выиграли. В значительной степени потому, что вы очень хорошо умеете подать материал и найти улики для подкрепления других улик.
— У меня есть отпечаток большого пальца Белла на…
— Дайте мне договорить. Я не могу даже в страшном сне представить себе, что вы нашли в этих записях такого, что могло бы привести к уголовному обвинению. Если бы вы были новичком в службе охраны порядка, я бы тут же снял трубку вот с этого телефона, позвонил шефу полиции Кендаллу и спросил, откуда, черт побери, он вас выкопал. Потому что здесь у вас нет даже самого отдаленного подобия дела.
— У меня есть отпечаток его большого пальца на предсмертной записке моей жены. У меня есть эксперты, которые доказали, что она написана несколько месяцев назад, еще в июле, а он не предложил госпитализацию и никому не рассказал об этой записке. — Осторожней, призвал он себя, будь спокоен и рационален.
— Даже если принять все сказанное вами всерьез, из этого может получиться дело о нарушении правил врачебной практики, гражданский иск, но никто не станет отправлять это дело в суд всего лишь на основании отпечатка пальца на записке. Во всяком случае, в моей службе — никто.
— Мы говорим не об одном случае. Вы видели его с Перри Дорном. Парень на грани самоубийства, а он все равно снова и снова поворачивает разговор на самые мучительные темы: она от тебя ушла, она тебя отвергла, ты сам разрушил свое будущее. Он просто возит его лицом по всему этому.
— Согласен с вами. Некоторые его реплики кажутся почти зловещими.
— И он все время проявляет эту фальшивую теплоту. Такой добрый, такой обеспокоенный. А потом он их зарежет.
— Едва ли, детектив.
— Эти люди чрезвычайно уязвимы. А даже когда это не так… Вот посмотрите на Кэтрин. — Кардинал набрал побольше воздуха, но не смог унять бешеный стук сердца в груди. — Она приходит на прием, она в хорошем настроении, она воодушевлена новым проектом, и что он делает? Он говорит: на прошлой неделе вы ненавидели себя и все, что вы сделали. Как по-вашему, это правильное лечение?
— Это удивляет, готов признать. Но сеанс психотерапии — это не какая-то необязательная болтовня. Врач сидит здесь не для того, чтобы беседовать о фотографии, его цель — помочь пациенту, страдающему депрессией. Возможно, он считает, что лучший способ для этого — вернуть больного к самым мучительным темам.
— Посмотрите на Кесвика. Вы помните Кесвика.
— Я помню Леонарда Кесвика.
— Какой срок ему светил? Максимум.
— Ну, по закону предельный срок в таком случае — пять лет, но в реальности ему грозило полтора года условно.
— Полтора года условно, и в итоге он мертв.
— Когда вас обвинят в хранении детской порнографии, это вряд ли положительно скажется на вашей самооценке. Он потерял семью. И вероятнее всего, должен был потерять работу.
— Именно. И как все это случилось? Загляните в его дело. У него было, может быть, около дюжины картинок в компьютере, на них подростки занимались сексом. Как его вообще обвинили? Мы ведь его не разыскивали. Был анонимный звонок.
— Вы хотите сказать, что звонок совершил Белл?
— Думаю, да.
— Вы можете это доказать? У вас имеется запись этого звонка?
— Нет. В деле просто говорится о двух анонимных звонках. Оба поступили от мужчины средних лет. Во втором случае звонивший утверждал, что лично видел фотографии в компьютере Кесвика. Иначе мы бы не стали ничего предпринимать на основании этих звонков. Кто еще это мог быть? Компьютер стоял у Кесвика дома, а не на работе.
Пирс снял очки и потер переносицу. Без оптики его лицо еще больше стало походить на подергивающуюся острую мордочку доброго зверька из книг Беатрисы Поттер.[63]
— На данном этапе у вас ничего нет, — заявил он. — И если бы вы размышляли трезво, вы бы поняли, что у вас ничего нет. Я могу объяснить это лишь вашим горем.
— Это убийство на расстоянии, — произнес Кардинал. — Убийство, совершаемое чужими руками. Он отлично знает самую уязвимую точку каждого пациента и действует непосредственно на нее. Возьмите Перри Дорна. Белл даже предложил антураж — прачечную-автомат. Что вам еще нужно? Мы не можем просто сидеть и ничего не делать. Этот гад разве что билеты на свое шоу не продавал.
— Теперь вы гневаетесь. — Пирс поднялся. — Детектив, моя жена погибла два года назад. Не при таких обстоятельствах, как ваша. Дорожная авария, водитель грузовика заснул за рулем. Это было как гром среди ясного неба, это была не ее вина, и я был совершенно раздавлен. Месяц я воздерживался от работы. Было совершенно немыслимо, чтобы в тот период я смог выполнять свои обязанности. Мы склонны забывать, какую большую роль играют эмоции в нашем мышлении. Обвинений в «убийстве на расстоянии» не бывает, и я уверен, что вам это известно.
— Это преступная небрежность. Самое меньшее — преступная небрежность. Он просит их писать предсмертные записки. Вы не считаете, что это безответственное невнимание?
— Человеческая ошибка или неверное суждение не есть преступная небрежность. Скорее вам нужно было бы, чтобы он прописал кому-то неразумную дозу лекарства, что-нибудь по этой линии. Заметьте, я даже не касаюсь вопроса о том, каким образом вам в руки попали эти диски.
— Их прислали анонимно. Видимо, миссис Белл.
— Не имеет значения. На них все равно нет ничего, что позволило бы предъявить человеку обвинение в убийстве, которое не рассыплется в суде.
— Только не говорите мне, что прокуроры Коронного суда ничего не собираются делать. Вы что, действительно будете сидеть сложа руки и наблюдать, как этот тип подталкивает своих пациентов к самоубийству? У нас здесь умирают люди.
— Видите ли, — негромко произнес Пирс, — если вы и в самом деле хотите его прижать, вы могли бы показать все это медицинской комиссии. Они почти наверняка проведут с ним нелицеприятную беседу.
45
Поблескивающее латунное колесико вертелось, а крошечный паровой мотор пыхтел, как настоящий маленький локомотив. Доктор Белл маникюрными ножницами обрезал фитиль у миниатюрной горелки под бойлером и залил в нее метанол. Цилиндрический бойлер был настолько мал, что в него помещалось меньше чем полчашки воды. Все латунные детали сверкали в свете, падавшем из окна, и маховик крутился.
Этот настольный паровозик был единственным сувениром, который он сохранил после отца — точнее, единственным, который он держал в поле зрения. Он все время стоял у него на столе, и иногда доктор заводил его — когда чувствовал, что на него нашла задумчивость.
Сейчас он пребывал как раз в таком настроении. Он размышлял о Мелани Грин. Белл был почти уверен, что уже столкнул эту молодую женщину с края. Ничто так не способствует низкой самооценке и депрессии, как сексуальное насилие в прошлом. Это не более чем азы психотерапии — суметь сделать так, чтобы она об этом рассказала, призналась в своих давних двусмысленных чувствах по этому поводу. А коронным его ударом стал, конечно, выбор времени для отказа в приеме. Он видел в этих зеленых глазах доверие, жажду понимания. И он был почти уверен, что сейчас она уже настолько сильно зажата в тисках отчаяния, что больше не станет тянуться за помощью. Сегодня был первый день со времени их последнего сеанса, когда она не позвонила. Но он нервничал из-за того, что не был уверен на сто процентов. Он не мог начать смаковать победу до тех пор, пока победа не была несомненной.
Игра с паровозиком обычно успокаивала его. Она вызывала к жизни лучшие воспоминания детства, те часы, когда отец объяснял ему свои излюбленные научные факты. Паровая машина предоставляла возможность поговорить о законе Бойля, о механическом импульсе и о паровой энергии в целом. В такие моменты отец казался мальчику вторым Александером Грейамом Беллом: у него даже были такие же темные волосы и борода.
Иногда, занимаясь этой паровой машинкой, Белл-младший совершенно менял представления о своей негативной терапии. Он, как в начале своей карьеры, принимал решение помогать людям выздороветь: надо отвести их подальше от края пропасти, а не подталкивать к краю. Но такое происходило редко, лишь на двух-трех сеансах, самых первых после этого решения, а потом он вновь съезжал к прежней точке зрения.
— Я ненавижу их, — пробормотал он. Нажал на крошечный латунный рычажок, и паровоз испустил радостный свист. — Я просто их ненавижу.
Он опустил рычаг и держал его, пока свисток не превратился в шипение и маховик не остановился. Паровоз его сегодня не успокаивал, и никаких решений он, конечно, принимать не станет. Он погасил голубой язычок пламени и поставил игрушку на шкаф, рядом с портретом матери: на этой фотографии она улыбалась где-то на заднем дворе, в одной из своих английских блузок с длинным рукавом, и волосы у нее были зачесаны на одну сторону по уже ушедшей тогда моде сороковых. Этот снимок сделала его тетя всего за неделю до того, как мать наглоталась таблеток, которые ее убили, и предоставила своему восемнадцатилетнему сыну пробиваться в жизни самостоятельно.
Нет, нет, даже экскурсы в раннее детство его сегодня не успокаивали, по крайней мере сейчас, пока он ждал, чтобы удостовериться: он избавил мир от очередного никчемного нытика. Это была важная работа, он был кем-то вроде санитара общества, но настоящее удовлетворение он получал лишь тогда, когда они проделывали это сами. Он был в достаточной степени психиатром, чтобы понимать, почему это так, но знание о себе самом ничего не меняло. Да, в этом и состоит маленький грязный секрет психиатрии: ты можешь со всей определенностью разобраться в генезисе того или иного своего невроза, зависимости или фетиша, но это не приблизит тебя к избавлению от него.
Нет, подлинное удовлетворение — это когда ты добиваешься того, чтобы эти плаксы сами стерли себя с лица земли. Миру будет лучше, а сам он не совершит при этом никакого преступления. В этом отношении история с Кэтрин Кардинал не принесла ему совершенно никакого удовлетворения. Ему пришлось приложить героические усилия, и с тех пор он уже не был таким, как прежде. Это был первый раз, когда он действительно кого-то убил, а на этом пути, и он это знал, лежат сумасшествие, заточение, смерть.
Он не считал себя человеком склонным к насилию, но Кэтрин Кардинал довела его до этого. Как она настаивала на том, что любовь и творчество — сущее спасение для ее жизни. Какой жизни? Каждый год на несколько месяцев ложиться в больницу? Не обходиться без лития? Как она могла не видеть, что единственное исцеление для нее — смерть? Это разрушит всю игру, если теперь у него перестанет хватать терпения на то, чтобы давать им убить себя самостоятельно. Если он опустится до личного вмешательства подобного рода, силы закона неминуемо должны будут его наказать. Ему просто повезло, что первой его непосредственной жертвой стала жена детектива.
Он тогда тщательно проследил за тем, чтобы его не увидели. Он двигался, как тень среди теней: через почти пустую парковку, через незанятые демонстрационные залы будущих магазинов. На грузовом лифте — вверх, на крышу, и ни одна живая душа его не заметила. И потом он это сделал, и оставил записку на этом месте, и уничтожил все улики.
Он направился к шкафу, где хранил записи своих сеансов. Ему хотелось снова посмотреть Дорна. Ну хорошо, уход этого парня был слишком уж зрелищным, но он был неизбежен. Из этого молодого человека, из этого Дорна и не могло выйти ничего хорошего: прирожденный неудачник и нытик, вечно пылавший страстью к женщинам, которым он был совершенно безразличен. Без лечения он мог бы дойти до того, что стал бы преследовать женщин нежелательным обожанием, а друзей — рассказами о своих несчастьях. Обрубить его под корень, тут не могло быть ошибки.
Открыв шкаф, он сразу же обнаружил, что некоторых дисков не хватает: по меньшей мере полудюжины. Первой мыслью было: кто-то из пациентов каким-то образом пронюхал про камеру и решил украсть несколько записей. Но потом он осознал, что все больные, записи по которым пропали, мертвы: Перри Дорн, Леонард Кесвик, Кэтрин Кардинал. По каждому не хватало двух дисков.
— Дороти! — Он вышел в коридор, зовя ее. — Дороти, где ты?
Кровь стучала у него в висках. Казалось, коридор сузился в темный туннель. Какой-то частью своего сознания Белл разглядел в себе ярость. Я в ярости, подумал он отстраненно: туннельное зрение, учащенный пульс, дрожание ног — все эти явления говорят о ярости. Сейчас он не смог бы ее подавить, даже если бы захотел. Порог был перейден, и высвобождение эмоций отзывалось в нем ужасом и восторгом.
Он распахнул дверь на кухню. Рука Дороти лежала на задней двери: она собиралась выходить. Она обернулась, и глаза у нее были как две черные дырочки, полные страха. Глаза как на картине Мунка. «Мертвая мать и дитя».
— По-моему, у тебя кое-какие мои вещи, — произнес Белл. Слова пульсировали, точно в них жило собственное сердцебиение.
Дороти схватилась за ручку двери.
— Ты поступаешь неправильно, — ровным голосом сказала она. — В Манчестере, когда люди стали умирать, я была на твоей стороне. Я говорила себе: наверное, он прав, наверное, у него просто тяжелые пациенты, он пытается помочь тем, кому уже не поможешь, а получается такая плохая картина.
— Что ты сделала с моими дисками? — спросил Белл.
46
Выйдя из здания Коронного суда, Кардинал сразу поехал к дому Белла. Он остановился на противоположной стороне улицы и теперь сидел в машине, глядя на темные остроконечные крыши на фоне розовато-лилового вечернего неба. Судя по серебристому «БМВ», припаркованному на подъездной аллее, доктор, видимо, был дома, но у Кардинала сейчас не было возможности убедиться, так ли это.
Хотя он мог применить насилие, когда этого требовала ситуация, Кардинал по природе своей не был к нему склонен. Как бы он ни злился на бандитов и злодеев, которых он обязан был арестовывать, ему всегда удавалось найти у себя в сознании некую контролирующую рациональную зону, обуздывающую его чувства. Теперь же, когда он сидел и смотрел на дом Белла, он собрал в себе все самообладание, чтобы не ворваться внутрь и не избить Белла, оставив его медленно умирать на вентиляторе. Наконец он включил сцепление и поехал сквозь сутолоку вечернего часа пик в то место, куда, как он раньше думал, его нога больше ни разу в жизни не ступит.
Когда он туда добрался, «Компью-клиник» как раз закрывалась. Из химчистки вышла женщина с охапкой завернутой в пластик одежды, села в свою машину. Кардинал припарковался и двинулся в обход здания. Он знал, что ему не стоит тут находиться, что он не готов: ему говорило об этом дрожание рук и то, что горло у него вдруг стало словно бы разбухать изнутри.
Кровь Кэтрин смыли. Ленту, огораживавшую место происшествия, убрали, обломки компьютерных плат вымели. Никогда не догадаешься, что здесь оборвалась чья-то жизнь. Он обходил дом, ища пути внутрь. Как и у большинства незавершенных зданий, охрана здесь была далеко не такая строгая, какой она может стать, когда строительство закончится. Здесь имелись два пожарных выхода, оба сейчас были закрыты, но каждый мог бы оставить незапертым рассеянный рабочий или беспечный курильщик: на стройках почти никогда не включают сигнализацию. Пустые витрины магазинов были заколочены, но некоторые доски еле держались. Всего десять секунд, и лаз был проделан.
Чтобы ориентироваться внутри, хватало света, падавшего сквозь стеклянную заднюю дверь. Грубо говоря, помещение представляло собой бетонную коробку с толстыми проводами, торчавшими из стен и потолка. У одной из стен аккуратным штабелем были сложены деревянные брусья; здесь все пропахло бетоном и необработанной древесиной.
Отсюда открывалась дверь в голый коридор, где ярко сияли лампы дневного света. В конце его имелась дверь с табличкой «На лестничную клетку»; за ней обнаружился подвал и грузовой лифт, пустой, с открытыми дверцами. Кардинал натянул кожаные перчатки, прежде чем войти внутрь и нажать верхнюю кнопку, чтобы подняться на крышу.
Менее чем за две минуты он добрался до крыши, и никто его не увидел: точно так же мог поступить убийца. Дверь, ведущая в патио на крыше, сейчас была заперта, но рядом с ней валялся кирпич, который, возможно, закладывали в щель, чтобы дверь не захлопнулась. Может быть, это один из последних предметов, каких касалась Кэтрин в этой жизни.
Он спустился на пассажирском лифте и вышел через парадный вестибюль. И вот он снова стоял на парковке, глядя на то место, где когда-то была Кэтрин. Останется ли с ним до конца жизни эта картина — то, как она здесь лежала? Ее рыжевато-коричневое пальто, ее залитое кровью лицо, ее разбитый фотоаппарат?
Всю дорогу домой он пытался заместить эту картину другой. Конечно, он мог вспомнить тысячу других эпизодов с Кэтрин, но ни один из них он не мог удержать перед мысленным взором достаточно долго, чтобы изгнать из сознания тот ужас, что наводила на него эта стоянка. Был только один образ, который он мог удержать дольше чем на мгновение: та ее фотография, где она выглядит слегка раздраженной и где через левое и правое плечо у нее перекинуты ремешки двух фотоаппаратов.
Два аппарата.
Если бы не это воспоминание, не эта фотография, Кардинал, скорее всего, еще несколько месяцев не решился бы снова спуститься в фотокомнату Кэтрин. Ему не хотелось скользить среди ее раковин, кювет и полос пленки — так, словно это он призрак. Пока он даже еще не рассматривал возможность убраться в этом помещении. Фотокомната Кэтрин должна была пребывать в точности такой же, какой она ее оставила. Иначе она бы расстроилась. Она бы не смогла работать. Несмотря на то что он сам держал на руках ее мертвое тело, несмотря на несколько недель ее отсутствия, где-то в нем — повсюду в нем, так ему казалось, — жило ожидание, что Кэтрин вернется.
Фрагмент сеанса с Беллом заново прокручивался у него в голове; на этот раз он воспринимал его как детектив, а не как муж.
— Знаете это новое здание «Гейтвэй», сразу за окружной дорогой? — В ее голосе слышится нарастающий энтузиазм. — Сегодня я туда отправляюсь со своими аппаратами.
Аппаратами. Множественное число.
Он открыл узкий белый шкаф, где она хранила свое снаряжение. Аппаратов нет. На полках лежали несколько длинных черных объективов для ее видавшего виды «Никона». С собой она, видимо, взяла объективы поменьше. «Кэнона» не было на месте.
«Аппараты», во множественном числе.
Он прошел в другую часть подвала: на свой рабочий стол он в свое время выложил вещи Кэтрин. Ее последние вещи. Пластиковый пакет из больницы, внутри — то, что на ней было: часы, браслет, свитер, джинсы, нижнее белье. Фотоаппарата нет.
Снова выйдя наружу, он осмотрел машину Кэтрин: пол, багажник, бардачок. Фотоаппарата не было.
Уже сев в собственную машину и поехав в город, он позвонил своим экспертам. Коллинвуд придерживался расписания настолько строго, насколько это позволяла служба в полиции: закончив смену, он сразу же уходил — как механическая фигурка в старинных часах. А вот Арсено как будто взяли на эту работу исключительно для контраста: невозможно было угадать, когда застанешь его на месте. Он нередко засиживался допоздна, так что в отделе частенько вслух размышляли о его личной жизни, точнее — об отсутствии таковой.
Арсено взял трубку на первом же гудке.
Кардинал не стал утруждать себя предисловиями.
— Мне нужно проверить вещи с места происшествия по Кэтрин, — проговорил он, обгоняя пикап, захвативший сразу две полосы. — Мне нужно знать, есть ли среди них фотоаппарат.
— Я сразу могу тебе сказать. Да, там был фотоаппарат. «Никон». Объектив разбит к чертям.
— Только один аппарат?
— Да, Джон. Там был только один. — Арсено явно был удивлен.
— В хранилище вещдоков еще кто-нибудь есть? Ты не можешь выписать для меня эти коробки? Я уже еду.
— Незачем выписывать. Они здесь, в нашей комнате, в экспертизе. Дело-то закрыто, забыл? Но я решил, что ты их рано или поздно захочешь забрать.
— Я буду через десять минут.
Кардинал, вильнув, обошел «хонду-сивик» и рванул по Уотер-роуд. К счастью, почти весь поток машин двигался в противоположную сторону.
В управлении было тихо. Он слышал, как кто-то, видимо Желаги, набирает какой-то текст, сидя у себя в ячейке, но остальной отдел уголовного розыска словно вымер. Он сразу прошел в комнату экспертов. Арсено сидел за своим столом, стуча по клавишам. Над столом Коллинвуда свет не горел.
— Привет, Джон, — сказал Арсено, не поднимая головы. — Вещи на большом столе.
Две раскрытые коробки, большая и маленькая, стояли на столе, который шел вдоль одной из стен. Кардинал нажал на выключатель, и весь стол залило ярким искусственным светом.
Он заглянул в маленькую коробку. «Никон» Кэтрин, с разбитым объективом, лежал здесь среди других предметов, которые явно принадлежали ей; тут была фотосумка и все, что из нее, видимо, высыпалось: блокнот, плоские диски фильтров и еще два объектива. Один из них был серебристый, и на нем виднелась надпись «Кэнон».
В большой коробке фотоаппарата не было. Кардинал стоял неподвижно и размышлял. Единственным звуком в помещении было пощелкивание клавиш Арсено. Если предположить, что Кэтрин осталась верна своей привычке и снимала обоими аппаратами, значит, кто-то забрал ее «Кэнон»: либо тот, кто оказался на месте происшествия позже, либо тот, кто на нее напал.
Вряд ли это сделал какой-нибудь случайный воришка. Много ли таких, кто, набредя на труп, стащит фотоаппарат погибшего, тем более когда этот фотоаппарат почти наверняка разбился вдребезги? И потом, раз уж ты берешь один аппарат, почему не взять второй? Если же его забрал нападавший, тогда это может означать две вещи: либо на Кэтрин набросились из-за ее аппарата, красивого, новенького, сверкающего «Кэнона», и, схватив добычу, грабитель столкнул Кэтрин с крыши; либо нападавший унес его с места преступления уже потом. Кардинал мог придумать для этого лишь одну вескую причину.
В большой коробке лежали предметы, которые были найдены рядом с телом, но не обязательно имели к нему отношение: сигаретная пачка, несколько окурков, обертка от шоколадки «О, Генри!», бумажный стаканчик из расположенного неподалеку «Харви». Здесь лежали также многочисленные электронные обломки — мусор из центра по ремонту компьютеров, размещавшегося на первом этаже здания. Подъездная дорожка возле «дампстера» была тогда усеяна электронными платами, жесткими дисками и микрочипами. Коллинвуд с Арсено скрупулезно собрали их и снабдили ярлыками.
Каждый предмет лежал в отдельном пластиковом пакетике для вещественных доказательств, на котором стоял номер и была указана дата, инициалы эксперта, нашедшего этот предмет, расположение предмета относительно трупа и расстояние от предмета до трупа. Кардинал осмотрел некоторые находки, не вынимая их из пакетов. Он не был компьютерным гением, но он мог по виду определить, что перед ним карта памяти, а не что-нибудь другое. Те карты, на которые он сейчас смотрел, выглядели довольно старомодными: возможно, они были из компьютеров, которые оказалась не в состоянии воскресить даже фирма «Компью-клиник инкорпорейтед».
Он вынул из коробки еще несколько предметов: CD-привод, наушники, еще один пакетик, заключавший в себе микрочип. Он перевернул эту вещицу. Это был чип размером с почтовую марку, зеленый, обрамленный крошечными зубчиками. Его обратную сторону закрывал ярлык, наклеенный на пакет. Он открыл пакетик, наклонил, и чип выскользнул на стол. Бледно-серые буквы на зеленой поверхности чипа складывались в слово «Кэнон».
— Слушай, Арсено, — окликнул Кардинал, — у вас тут есть фотоаппараты, куда ставят такие чипы?
Арсено поднял взгляд и покачал головой:
— У наших флешки. Другой формы. А что?
— По-моему, это карта памяти из фотоаппарата Кэтрин. Я хочу посмотреть, что на нем.
— Этот «Никон» — не цифровой.
— У нее был с собой другой аппарат. «Кэнон».
— Вот как? — Арсено поднял голову от клавиатуры. — В таком случае наш принтер покажет тебе, что на этом чипе.
— А разве не надо подключить чип к фотоаппарату?
— Незачем. В принтере есть гнездо, куда можно вставить такую карту.
Арсено отвернулся вместе с креслом от своего стола и подкатился к принтеру. Нажал на кнопку, и наружу выехала маленькая коробочка с несколькими углублениями.
— Роняй сюда, — сказал он, указывая на самую маленькую впадинку, которая была квадратной. Кардинал поместил карту памяти в гнездо, и Арсено задвинул ящичек обратно.
— Если там что-нибудь есть, мы это увидим на экране предварительного просмотра. — Он постучал пальцем по светящемуся на принтере прямоугольному оконцу размером с игральную карту.
Прямоугольник почернел, и на нем появился логотип «Кэнона», а затем — первая фотография. Это был снимок города с большой высоты, огни были как яркие булавочные точки. Кардинал различил вдали две башенки французской церкви. Последнее, что видела Кэтрин.
— Можешь пройтись по картинкам, — сказал Арсено. — Просто нажимай на кнопку «Следующая».
Кардинал нажал, и изображение слегка изменилось: тот же вид, но чуть ближе. Следующий снимок был сделан под другим углом. Справа, на коммуникационной башне почтовой службы, горели предупреждающие красные огни. После нескольких фотографий того же самого снова появилась французская церковь, и Кардинал понял, почему она хотела снимать именно в тот вечер. Оранжевая полная луна только-только начала вплывать в кадр за башенками храма.
— Славно, — негромко произнес Арсено.
На следующем снимке была видна только половинка луны. Затем она начала вплывать в пространство между башенками. Еще один момент: луна, точно тыква, зажата между двумя башенками. Но на следующей фотографии было нечто совершенно другое.
Снимок выглядел случайным, как если бы ее толкнули под локоть или она вздрогнула от неожиданности: чуть размытая стена, струйка света откуда-то сверху, а в правом углу кадра — чья-то рука. Мужская рука. Видны только плечо, рука, перчатка и боковая часть мужского пальто.
Кардинал нажал «Следующая» и услышал, как Арсено за его спиной с шумом втянул в себя воздух.
Оба воззрились на изображение, которое оказалось перед ними.
— Она его взяла, — тихо сказал Кардинал. — Взяла с поличным.
Рука мужчины была поднята в приветственном жесте. Над дверью, ведущей на крышу, пробивался свет, и на поверхность крыши падала резкая тень от его руки, поднятой, точно в знак предупреждения. Несмотря на тени, его отлично можно было узнать: эта широкая улыбка, это открытое лицо. Он напоминал крупного дружелюбного пса. Такого человека всякий захочет иметь своим другом или учителем — или даже врачом.
47
Таблетки лежали у нее на столе, милые маленькие штучки, синие, как успокаивающее индиго позднего вечера. Их было около тридцати: чуть меньше месячного запаса; доктор Белл любезно выписал их ей, когда она только начала к нему ходить. Настоящее спасение, когда сон тебя покидает. Когда над головой распростерлась ночь и твоя голова словно вся залита изнутри светом прожекторов, эти штучки разглаживают морщины на твоем лбу, точно теплое прикосновение матери.
Высокий стакан с водой стоял на столе рядом с ними, на стенках бусинками высыпали капельки конденсированной влаги. Мелани приподняла его и подложила под него одну из тетрадей, которые она вела на занятиях в Северном университете.
На то, чтобы сказать «до свидания», ушло больше времени, чем она ожидала. Сначала она планировала написать коротенькое прощальное послание и исчезнуть. Но она обнаружила, что не может так поступить со своей матерью. И с доктором Беллом, который так старался ей помочь.
Она разложила таблетки в ряд на своем столе: крошечные синие подушечки. Двадцать пять штук. Взяв линейку, она разбила их в группы по пять. Она не спеша занималась этим несколько минут, выстраивая таблетки звездообразными кучками. Потом принялась писать:
Не упрекай себя, ты ни в чем не виновата. Ты всегда была мне хорошей матерью, ты всегда давала мне все, что нужно. Любая другая на моем месте превратилась бы в счастливую женщину, хорошо приспособленную к жизни.
Она смела в ладонь пять таблеток и забросила их себе в рот. Два глотка воды — и они ушли вниз.
Я тебя очень люблю.
Приписав эти слова, она какое-то время просто смотрела — не на бумагу, а сквозь нее. Затем — еще пять таблеток. Теперь надо побыстрее, а то она просто уснет, и потом проснется, а ей будет хуже, чем когда-нибудь. Она не хотела просыпаться.
Доктор Белл, я не виню вас в том, что вы от меня отвернулись. Некоторые из тех вещей, которые я вам рассказала, были довольно отвратительными, и это так понятно, что они у вас вызвали тошноту.
Она закинула в рот еще пять таблеток и подняла стакан воды. Вспомнив, о чем она рассказала доктору Беллу в их последнюю встречу, она чуть не задохнулась. Таблетки она проглотила, но приступ неприятного кашля вынудил ее выпить почти всю воду, чтобы унять его. Глаза у нее щипало от слез. Но я не буду плакать, сказала она себе. С плачем покончено. Навсегда.
Вы хороший врач, и вы, наверное, увидели, что помочь мне уже нельзя, хотя вы так старались мне помочь и при этом не могли себя заставить признаться мне, что у меня уже конечная стадия.
Еще пять таблеток.
Простите меня.
Еще пять таблеток.
Простите меня за все.
48
Несмотря на свое недавнее недопустимое поведение, которое он сам признавал таковым, Кардинал свято верил в официальные процедуры. А следовать процедуре в эту студеную ночь (снега еще не было, но температура уже стремилась к точке замерзания) означало связаться с детектив-сержантом и сообщить ему о появившейся улике. Если Шуинар согласится, что улика предполагает немедленный арест, тогда детектив-сержант выделит других детективов для содействия. Если же нет, можно устроить дискуссию с Коронным судом, чтобы понять, что еще необходимо.
Минуя собор и направляясь к Рэндалл-стрит, Кардинал отлично осознавал, что нарушает установленную процедуру тем, что не звонит своему детектив-сержанту. Впрочем, он нарушал процедуру уже тем, что вообще занимался этим делом. Он нарушил процедуру и тем, что не вызвал подкрепление. Он буквально видел, как на замерзшем ветровом стекле появляется лицо детектив-сержанта Шуинара. Он слышал его гневные слова в реве радиатора своей «камри».
Но его ничто не остановило.
«Камри» проскочила на красный, на крыше работала вишневая мигалка. Без сирены. Он не хотел, чтобы доктор слышал, как он приближается.
Через три минуты он остановился у обочины дороги за несколько домов от жилища Белла. В задней части дома и наверху горел свет. Он обошел дом, пройдя мимо кухонных окон; никакого движения теней внутри, выдающего чье-то присутствие. «БМВ» по-прежнему стоял на подъездной аллее.
Кардинал молча поднялся на заднее крыльцо. Верхняя часть двери была из стекла, почти целиком закрытого с внутренней стороны пестрыми льняными занавесочками. Он посмотрел в узкий просвет между ними и увидел дальнюю стену, с холодильником и календарем, и часы с кукушкой над дальней дверью, которая была закрыта. И, чуть сменив угол зрения, он увидел неподвижное тело миссис Белл, скрючившейся на полу в темной луже крови.
Кардинал локтем разбил стекло и просунул руку внутрь, чтобы отпереть замок.
В дверях он секунду помедлил, прислушиваясь. Дом огромный, а дверь из кухни в коридор закрыта. Если Белл дома, возможно, он не слышал звона стекла.
Кардинал на цыпочках обошел кровь и притронулся к шее миссис Белл сбоку. Миссис Белл была еще теплая, но пульса не было, и, судя по размеру темной лужи под ней, уже никогда больше не будет. На ее руках от кисти до локтя видны были порезы — свидетельство того, что она пыталась защищаться, — а горло пересекала чудовищная рана.
Не лучшее из твоих произведений, подумал Кардинал. Раньше ты устраивал так, чтобы люди совершали самоубийство за тебя. Она взяла твои диски, похитила твои драгоценные трофеи, и ты впал в ярость. Остается вопрос: что ты сделал потом? Что сделает человек, помешанный на суициде и виновный по меньшей мере в двух убийствах?
Кардинал повернул ручку кухонной двери и молча вошел в передний коридор, служивший приемной. Он был освещен маленькой изящной люстрой, но слева, в кабинете доктора, было темно, как и справа, в гостиной. Он подергал ручку двери кабинета. Заперто. Лестница была старая, хоть ее и застилал ковер. Он стал подниматься по самому краю, чтобы свести к минимуму скрип; в руке он держал свою «беретту».
Наверху свет сочился лишь из гостиной. В четыре шага Кардинал оказался там, пистолет наизготовку, предохранитель снят, левая рука обнимает кисть правой. Комната была обширная, но забитая мебелью: два гардероба, два кресла, старинный туалетный столик и гигантская кровать, покрытая красным лоскутным одеялом, на котором лежал распахнутый чемодан, наполовину заполненный мужской одеждой. Быстрая проверка показала, что никого нет ни за дверью, ни под кроватью, что никто не присел за гардеробами.
Кардинал поспешно проверил остальные комнаты. Спальня, превращенная в швейную мастерскую. Гостевая комната, пропитанная пряным запахом сухих духов. И две другие комнаты, выдержанные в утонченных цветовых гаммах: одна — телевизионная, а другая — уютная с виду библиотека с маленьким бильярдным столом и камином.
В коридоре были еще две двери. Первая из них оказалась дверцей шкафа.
Скрип. Половая доска над головой? На третьем этаже кто-то есть? Может быть, ничего особенного, всего лишь звук, какие часто издают старые дома, — но Кардинал замер, прислушиваясь.
49
Чтобы отыскать предыдущую жену Фрэнка Раули, не понадобилось слишком уж тонкой полицейской работы. Несколько телефонных звонков, обращение к бракоразводным архивам, — и вот Делорм оказалась дома у мисс Пенелопы Грин. В Алгонкин-Бей нашлось бы немного домиков, которые были бы меньше размером, чем бунгало Делорм, но жилищу мисс Грин это удалось. Это был крошечный кирпичный коттеджик, жавшийся между двумя значительно более крупными строениями, точно карапуз между двух родителей.
Дверь открыла миловидная женщина за сорок; ее волосы боролись за то, чтобы остаться скорее светлыми, чем седыми. Лицо у нее было настороженное, зеленые глаза прищурены, но вряд ли это была обычная особенность ее черт: скорее просто реакция на появление сотрудницы полиции у нее на пороге.
— Миссис Раули? — осведомилась Делорм.
— Теперь уже нет. Я несколько лет назад вернула себе девичью фамилию.
— Я сержант Делорм.
— С Мелани ничего не случилось, нет?
— Нет, ваша дочь не совершила ничего плохого, но мне нужно поговорить с вами о том, что почти наверняка касается и ее.
Мисс Грин провела ее в миниатюрную гостиную. Кукольных размеров диванчик и два компактных кресла, казалось, сражаются друг с другом за глоток воздуха, однако помещение обладало своеобразным очарованием какого-то потертого уюта. Делорм села на диванчик — настолько низкий, что мать Мелани предстала перед ней в рамке ее, Делорм, собственных колен. Сев, Делорм поняла, что это диванчик с одной из фотографий: затейливые деревянные детали вокруг красных плюшевых подушек. А в дверной проем позади мисс Грин частично виднелась кухня с характерным голубым кафелем, появлявшаяся на некоторых фотографиях. Да, Делорм пришла в нужное место, но ее это не обрадовало.
— Мисс Грин, сколько лет вашей дочери?
— Мелани восемнадцать. В декабре будет девятнадцать.
— И у нее светлые волосы, как и у вас? — В этом вопросе, похоже, не было необходимости. У мисс Грин были такие же зеленые глаза, как у девочки на фотографиях, те же идеальной формы брови, тот же вздернутый нос.
— Ну, у нее они куда светлее, чем у меня. Они такие, как у меня были когда-то. А зачем вам понадобилось об этом узнавать? Не было никакого несчастного случая, нет? Скажите мне сейчас же. У нее все в порядке, правда?
— Никаких несчастных случаев. Насколько нам известно, у нее все в порядке. Ее отец — Фрэнк Раули, верно?
— Отчим. Он вошел в нашу жизнь, когда Мелани только начала ходить в школу. Но лет пять назад он от нас ушел. Оказалось, что жизнь в браке не по нему: во всяком случае, он так сказал. Он переехал в Садбери, и с тех пор от него не было ни слуху ни духу. Ему надо было бы поддерживать отношения хотя бы с Мелани, но он не стал. Сейчас он снова живет у нас в городе. Я его пару раз видела, но переходила на другую сторону улицы, чтобы с ним не встретиться. У него новая жена и приемная дочь, которой на вид лет шесть. Я даже не сказала Мелани, что он вернулся. Хотя надо бы. Она расстроится, если неожиданно с ним столкнется.
Делорм вынула папку с фотографиями и выбрала один снимок — увеличенный фрагмент, на котором было видно лишь улыбающееся лицо девочки; здесь ей было лет шесть-семь.
— Это ваша дочь?
— Да, это Мелани. Где вы это нашли? У меня целые тонны фотографий, но не помню, чтобы я эту видела.
Делорм выбрала другой увеличенный фрагмент. Голова и плечи тринадцатилетней девочки; у нее такой же настороженный взгляд, как у матери.
— Да, и это Мелани. Ей тут лет тринадцать. Сержант Делорм, вы меня пугаете. Откуда у вас фотографии моей дочери, старые фотографии, — которые я никогда не видела?
Делорм достала два других снимка, тщательно обрезанные так, чтобы показать лишь исполнителя деяния, а не то, что он делает и с кем. Длинные волосы, обнаженный торс, почти отвернутый от камеры.
— Мисс Грин, вы узнаете этого человека?
Она взяла фотографии из рук Делорм с величайшей осторожностью, точно это были культуры бактерий.
— Это… это Фрэнк. Мой муж Фрэнк. Бывший муж.
— Вы уверены? На этих снимках мало что видно.
— Ну, я знаю, что это он, вот и все. Так бывает, когда проживешь с человеком годы: наклон головы, линия подбородка, даже то, как он стоит: эта легкая сутулость в плечах. И потом, у него три родинки на плече. — Она постучала пальцем по фотографии. — На левом. Как пояс Ориона — неправильный треугольник. Это все не к добру, да?
— Да, боюсь, что так, мисс Грин. Не могли бы вы сказать, где мне найти Мелани?
— Сейчас она живет отдельно. Это просто пансион, но она решила жить самостоятельно, как только поступила в колледж. Я вам дам ее адрес. Но не раньше, чем вы мне скажете, что происходит.
Мисс Грин встала и начала стискивать и разжимать кулаки, точно готовясь к ужасной драке.
— Может быть, вам лучше сесть, — проговорила Делорм. — То, что я вынуждена сказать, вас огорчит.
— Пожалуйста, просто скажите мне, детектив.
— Мне очень жаль, что приходится вам это сообщать, но у нас есть и другие фотографии Фрэнка с вашей дочерью. Фотографии, на которых он занимается с ней сексом. Они были обнаружены в интернете.
Правая ладонь мисс Грин поднялась к груди.
— Что?
— Таких фотографий по меньшей мере сто. Куда он выложил их изначально, мы не имеем представления. Люди, собирающие порнографию, часто обмениваются ею друг с другом. В результате, когда полиция Торонто арестовывает кого-нибудь за хранение детского порно, она нередко обнаруживает на компьютерах подозреваемых фотографии вашей дочери — в числе других.
Мисс Грин так и не сдвинулась с места, ее рука неуверенно шевелилась у сердца, словно безнадежно пытаясь защитить его.
— Нам необходимо поговорить с вашей дочерью, чтобы выяснить, будет ли она давать показания против мистера Раули. Мы здесь имеем дело с серьезными преступлениями, и, как нам кажется, есть еще одна девочка, о которой стоит побеспокоиться.
Но мисс Грин почти ее не слышала. Делорм видела, как первоначальный шок порождает печаль, жалость, скорбь, раскаяние и тысячу других чувств, о которых можно только догадываться. Она словно наблюдала замедленные кадры, показывающие, как рушится здание: обе руки женщины поднялись, чтобы прикрыть лицо, послышался приглушенный плач, ноги у нее подкосились, и она рухнула обратно в кресло, навалившись на собственные колени.
Делорм прошла на кухню, крохотную и аккуратную, точно корабельный камбуз, и заварила чай. К тому времени, как он был готов, рыдания мисс Грин утихли, превратившись во всхлипывания, а когда она стала деликатно прихлебывать чай, мучения уступили место гневу.
— Я его убью, — заявила она посреди разговора. — Я его убью, совершенно точно.
— Вы не можете этого сделать, — мягко возразила Делорм, — но вы можете помочь добиться того, чтобы он больше никогда этого не совершал.
Затем гнев сменился угрызениями совести.
— Я должна была знать. Почему я не заметила? Бедная моя девочка. О господи. Все время, когда я оставляла их вдвоем. Я разрешала ему брать ее в походы! Плавать на лодке! Разрешала ему увозить ее из города! Мне никогда и в голову не приходило, что он может сделать что-то такое.
— Он предпринимал все усилия, чтобы вы ничего не заподозрили.
— Но я все равно должна была догадаться. Теперь, когда вы мне обо всем рассказали и показали фотографии, я легко в это верю. Я знаю: то, что вы сказали, — правда. Так почему же я сама не сообразила? Он столько раз хотел повезти ее куда-нибудь один… Какая я идиотка! Ох, бедная Мелани.
Еще слезы, еще чай, и наконец слезы перестали литься, мисс Грин потянулась за телефоном и набрала номер.
— Не отвечает, — сообщила она и набрала опять. Она позвонила три раза, прежде чем Делорм предложила, чтобы они просто поехали к Мелани в пансион.
— Не знаю, почему она не берет трубку, — в пятый раз сказала мисс Грин по пути к Мелани. Как и большинство людей, на которых обрушиваются дурные вести, она проявляла то раздражение, то надежду. — Я уверена, что с ней все нормально, — тут же произнесла она.
Делорм свернула с Самнер-стрит на Макферсон-стрит.
— А на что я надеюсь, — проговорила она, — так это на то, что Мелани даст показания против мистера Раули.
— Но, конечно, фотографий достаточно, чтобы его обвинить? Этого ублюдка. Его надо кастрировать, вот что ему нужно.
— С фотографиями будет много возни, — ответила Делорм. — А свидетельство Мелани уничтожит у присяжных всякие сомнения. А если она не станет давать показания, они зададутся вопросом, почему она этого не сделала. Это может быть истолковано в его пользу.
— Но для нее это будет так ужасно. А я-то все эти годы удивлялась, почему она такая несчастная, а оказывается, ее мучил человек, которого она обожала. Он ее использовал, как, как… ох, не могу даже сказать как… а потом полностью исключил ее из своей жизни. Если она будет выступать в суде, опять всплывут все эти воспоминания.
— Мисс Грин, я уже около десяти лет работаю с жертвами изнасилований. Почти во всех случаях, — не могу сказать, что во всех, но почти в каждом случае — они обнаруживают, что это действует на них благотворно — дать показания против человека, который их обижал. Да, это их смущает. Да, это мучительно. Но далеко не так мучительно, как продолжать хранить молчание. И если они работают с хорошим психотерапевтом, это в конечном счете может оказаться очень полезно.
— Она сейчас ходит к терапевту. По-моему, к доктору Беллу. Судя по всему, он очень хороший.
Делорм свернула на Редпас, и один-два квартала они проехали молча. Потом мисс Грин указала на квадратный дом из красного кирпича; рядом светился в куче опавших листьев электрический садовый гном.
— Вот он. Мелани здесь нравится, потому что отсюда всего полквартала до Алгонкин-роуд, а автобусная остановка — на углу. Она за десять минут доезжает до Северного университета, и это удобно, потому что у нее раза два в неделю занятия начинаются в восемь. В восемь утра, представляете? Надеюсь, она дома. Уверена, что так оно и есть. Это просто пансион, — продолжала она, когда они шли по дорожке к дому, — но миссис Кемпер, дама, которая им заведует, кажется, очень милая. Она присматривает за ребятами, — по-моему, у нее снимают комнаты одни студенты, — но она их никогда не шпыняет.
Мелани живет на втором этаже, слева. О, у нее горит свет: наверное, она вернулась домой, как раз когда мы подъезжали.
Они втиснулись в вестибюль размером со шкаф, и мисс Грин нажала на кнопку домофона.
— Вот это ее сапоги, с меховой оторочкой. Миссис Кемпер заставляет их снимать обувь у входа.
Они подождали одну-две минуты, и она снова надавила на кнопку.
Послышались шаги: кто-то спускался по лестнице. Мисс Грин уже приготовилась выдать даже, пожалуй, слишком широкую улыбку, но, когда открылась внутренняя дверь, эта улыбка сжалась в простую гримасу вежливого приветствия.
Дверь открыла молодая женщина в свитере с капюшоном (на свитере была надпись «Северный университет») и с тремя сережками в левой ноздре. Она издала негромкий удивленный возглас.
— Привет, — произнесла мисс Грин, хватаясь за дверь и удерживая ее открытой. — Вы Эшли, да? По-моему, мы знакомы. Я мама Мелани, помните?
— А, да. Здрасте.
— Мне кажется, Мелани только что пришла. Мы как раз к ней приехали.
— По-моему, Мелани весь вечер никуда не уходила, — ответила девушка. И, бросив через плечо «Ну, пока», она вышла.
Делорм поднялась по лестнице вслед за мисс Грин. Этот дом был значительно круче тех мест, где ей случалось проживать в свои студенческие годы: ковры на лестницах, красивые обои, но главное — везде чистота. Делорм вспомнилась подвальная комнатушка в Оттаве, песок на ступеньках и повсюду — запах плесени.
Мисс Грин постучала в белую дверь без стекла, с латунным номером 4.
Внутри доиграла старая рок-песня, а потом, как определила Делорм, зазвучала реклама «И-Зэд-Рока», местного дилера «Тойоты».
— Она должна быть дома, — заметила мисс Грин. — Сапоги ее внизу. И это на нее не похоже — уйти, оставив свет и радио.
Делорм громко забарабанила в дверь.
— Может быть, она принимает душ.
— Душ здесь. — Мисс Грин показала на открытую дверь. — Общая ванная. Да где же она?
— Мелани! — Делорм обрушила на дверь удар ладони. В коридоре открылась одна из дверей, юное лицо ударило в них лучами ненависти и скрылось.
Мисс Грин прислонилась к двери и заговорила в нее:
— Мелани, если ты здесь, пожалуйста, ответь. Нам не обязательно входить, если ты не хочешь. Если ты хочешь уединения — пожалуйста. Только дай нам знать, что у тебя все в порядке.
— Спуститесь и возьмите ключ, — попросила Делорм.
Взгляд, полный паники.
— Быстрее.
Делорм продолжала кричать через дверь. Сквозь потолок донесся женский вопль: «Заткнитесь на хрен!»
Через мгновение мисс Грин уже снова поднималась по лестнице, спотыкаясь в спешке. Она пыталась вставить ключ в замок, но у нее ничего не получалось, и Делорм пришлось отобрать у нее ключ и сделать это самой. Когда они вошли внутрь, мисс Грин вскрикнула.
Мелани лежала на полу, рядом со своим столом.
Делорм сразу увидела пустой пузырек из-под таблеток, стакан с водой, записку. Она опустилась на колени рядом с девушкой и пощупала пульс.
— Она жива. Берите за ноги, отнесем ее на кровать.
Мисс Грин оцепенело повиновалась, глаза у нее были пустые от ужаса.
Делорм перевернула девушку на живот и засунула палец ей в рот. Внезапный спазм — и поблескивающая рвота брызнула ей на руку. Она проделала это снова. Еще один спазм — но ничего не вышло.
Неуклюже, левой рукой, она вытащила мобильник и вызвала «скорую». Пансион был не больше чем в полудюжине кварталов от больницы.
50
Фрэнк Раули поднял свой футляр с гитарой и плашмя уложил его в багажник. Затем он отправил туда же миниатюрный розовый чемоданчик, украшенный изображениями диснеевских персонажей: это для Тары. Сейчас она стояла на подъездной аллее в своей розовой лыжной курточке, и ветер швырял ее светлые волосы ей в лицо. Наконец ему удалось втиснуть собственный чемодан рядом с гитарой. Он упаковывал его очень тщательно, поместив ноутбук между двумя парами джинсов и спрятав веб-камеру в пару скатанных носков. Скоро они с Тарой будут в дороге, совсем одни; сердце у Раули учащенно билось в предвкушении.
— Какой большой чемодан для двух дней, — заметила Венди. Она даже не потрудилась надеть пальто. Она стояла позади Тары, обнимая дочкиного игрушечного медведя-переростка, чтобы согреться.
— Ты ж меня знаешь. Вечно беру что-то про запас.
— Такой ветер, — проговорила она. — Может, вам не выезжать сегодня вечером?
— Ерунда, — отозвался Раули. — Самое лучшее время, чтобы выдвигаться. Пробок нет, и мы туда приедем сильно загодя, так что успеем хорошенько выспаться. А утром первым делом пойдем стучаться в ворота «Волшебного мира», чтобы нас впустили. Точно, Тара?
— Да! Да! — закричала Тара. — Дикий мышонок!
— Все должно получиться просто отлично, — проговорил Фрэнк, обращаясь к Венди. — На «Волшебный мир» у нас вся пятница и утро субботы, а в субботу днем отыграю на свадьбе. С девочкой будет полный порядок. Нас пригласили всего на два часа, за ней приглядит Терри.
Терри, жена басиста, настаивала, чтобы ее брали на все выступления группы: ее муж был классным музыкантом, но легкомысленным супругом.
— Ветер тебе весь парик растреплет, — предупредила Венди.
— Знаю, знаю. — Раули поднял руку и поправил прядь.
— Смотрится просто супер! — заявила Тара.
— Не знаю, зачем ты его надел. Ты же нигде не играешь до субботы.
— Потому что Таре он нравится, и я ей обещал. Правда, Тара?
— Да, ты обещал.
— Ну давай, лапуля. Запрыгивай.
— Я хочу первым посадить мишку.
Венди открыла заднюю дверцу, и мишку с серьезным видом усадили и закрепили. Затем она пристегнула свою дочку к переднему пассажирскому сиденью.
— Ну, веди себя хорошо, слышишь?
— Конечно.
Венди обняла ее и поцеловала в голову.
— Буду по тебе скучать, золотко.
— Мамочка, мы же всего на два дня!
Фрэнк улыбнулся, глядя на Венди: улыбка принадлежала к разновидности «ну дети, ну что тут поделаешь».
— Не волнуйся, — проговорил он. — Я о ней позабочусь.
На подъездную аллею вылетела машина, за ней несся черно-белый патрульный автомобиль. Раули закрылся рукой от слепящих фар. Бесшумность их появления, решительность остановки, — все подсказывало ему: полиция приехала сюда не по ошибке. Он знал и то, что они могли появиться здесь лишь по одной причине, и ощутил кожей первый укол страха; между лопатками у него начал сочиться пот.
— Мы можем вам чем-то помочь? — спросил он, но тут узнал женщину, которая направлялась к нему. — О, привет. Я вас помню. Вы тот детектив с пристани.
— Верно, — ответила детектив Делорм. Но тут же повернулась к Венди и представилась, предъявив свое удостоверение. — Мэм, это ваша дочь там, в машине?
— Да. А что такое?
— Заведите ее в дом, будьте добры.
— Зачем? Что здесь происходит?
— Пожалуйста, уведите ее в дом. Я здесь для того, чтобы арестовать мистера Раули, и я не хочу делать это на глазах у вашей дочери.
— Арестовать его! Вы не можете его арестовать. Он ничего такого не сделал.
— Давай, отведи ее в дом, — сказал Раули. — Я со всем этим разберусь в полиции.
— Но что происходит?
— Милая, отведи ее в дом.
Раули наблюдал, как Венди подхватывает Тару с переднего кресла. Протестующие вопли раздались, уже когда мать и дочь были на полпути к дому.
— Фрэнк Раули, вы арестованы по обвинению в производстве и распространении детской порнографии. Мы конфискуем все компьютеры, камеры, жесткие диски, дискеты и другие носители информации, которые вам принадлежат. Обвинения в растлении малолетних и сексуальном насилии вам предъявят в Коронном суде.
— Не понимаю, о чем вы говорите, — заявил Раули. — Я пальцем не тронул эту девочку.
— Мы сейчас говорим не об этой девочке, — ответила Делорм и защелкнула на нем наручники.
51
Кардинал выжидал, прислушиваясь. Старые дома часто скрипят; ничего особенного. Белл мог уже сбежать, взял такси и покатил в аэропорт.
Кто-то явно опустил ногу на пол.
В три безмолвных шага он пересек коридор и открыл последнюю оставшуюся дверь. Лестничный полупролет выводил на площадку. Снова ступая на края ступенек, он двинулся на третий этаж. За площадкой ничего не было видно. Добравшись до нее, он сделал глубокий вдох и повернул на следующий лестничный марш, подняв «беретту» вверх.
— Я так и думал, что это вы, — произнес Белл.
Доктор сидел на верхней ступеньке, в руке у него был автоматический пистолет — «люгер», если Кардинал не ошибся, — и пистолет этот был наставлен прямо в грудь Кардиналу.
Несколькими неделями раньше вид «люгера» доктора Белла, направленного ему в грудь, привел бы его в трепет, он это знал. Но сейчас, стоя на лестнице пониже доктора, он понял, что ему наплевать.
— Есть одна вещь, которую вам надо бы знать, — сказал он. — У меня сейчас значительное преимущество перед вами.
— Почему? Потому что вам все равно, умереть или жить?
Доктор снова безукоризненно точно прочел его мысли.
— Уверяю вас, — продолжал врач, — я в точно таком же положении. Я тоже потерял жену.
— «Потеряли» — не совсем подходящее слово, а? Я знаю, почему вы убили свою жену. Она взяла ваши трофеи. Вы собирали их годами. Сувениры на память о ваших триумфах. О ваших победах.
— Если вы имеете в виду мои диски, то более умный человек понял бы, что это обучающий материал.
— У вас нет студентов.
— Обучающий материал для меня самого. Некоторые из нас и в самом деле пытаются непрерывно обучаться, пересматривая сеансы с особенно трудными пациентами.
— И тут есть чему позлорадствовать. Когда вы смотрите, как поощряли пациентов покончить с собой, но при этом притворялись, будто помогаете им.
— Я проясняю, вот чем я занимаюсь. Проецируя на пациентов их подлинные чувства, я даю им силу, чтобы они могли противодействовать этим чувствам. Могут открыться новые возможности выбора. Кто-то может найти новые пути облегчения своих страданий, если уж ему не суждено найти рай на земле. А кто-то может выбрать самоубийство, и это всецело их право и их выбор.
— На этих дисках ясно видно, что вы тщательно выбирали, какие именно чувства проецировать. Только негативные. Их самые темные мысли. И вы поощряли их. «Напишите мне предсмертную записку. Давайте с вами представим, что все это — на самом деле. Давайте облечем это в слова. Давайте сделаем реальный шаг к тому, чтобы сделать это по-настоящему. Подумайте, сколько хорошего может в результате получиться. Во-первых, отпустит боль. Во-вторых, с плеч ваших родных упадет тяжесть».
— Верно, во многих ситуациях это так. Вполне закономерное беспокойство.
— И вы следите, чтобы у них было под рукой большое количество таблеток, на случай, если они боятся крови или…
— Или чего? Изуродовать себя? Да, когда они прыгают вниз, лицевые кости ужасно повреждаются, не так ли?
Палец Кардинала теснее прижался к спусковому крючку «беретты».
— Или вы сажаете их на антидепрессант. А потом внезапно меняете его или прекращаете его выписывать. Превосходный способ довести человека до самого края.
— Детектив, если бы я возбуждал во всех своих пациентах суицидальные чувства, я бы лишился практики. Если бы я действительно делал так, чтобы больным становилось хуже, ко мне бы никто не возвращался.
— Они к вам и не возвращаются. Они умирают.
— Замечательно. Шерлок Холмс наконец раскрыл правду о депрессии. Страдающие депрессией убивают себя.
— Ваши — да. Им приходится, верно?
Белл поднял «люгер», и теперь дуло смотрело Кардиналу в лицо.
Кардинал, дернув стволом «беретты» вверх, установил ее в огневую позицию.
— Я бы мог сейчас вас убить, — сказал он, — и это было бы оправданное убийство. Мне бы даже не пришлось насчет него лгать.
— Ну так давайте, — проговорил Белл. Его рука с пистолетом подрагивала.
Кардинал, словно с большого расстояния, наблюдал, как в нем бушует ярость: это было как следить за лесным пожаром с вертолета.
— Я знаю, что вы хотите меня убить, — произнес Белл.
— И вы тоже хотите, чтобы я это сделал. Это называется «самоубийство с помощью полицейского». Поэтому вы все и затеяли, верно? Я читал в вашей книге, как ваши родители покончили с собой: наверное, это была неплохая причина начать изучать, как лечат от депрессии. А с другой стороны, это могло стать неплохой причиной для того, чтобы ненавидеть тех, у кого депрессия. И это может стать неплохой причиной для того, чтобы хотеть покончить с собой.
— Вы и это прочли у меня в книге. Так называемый «ген суицида».
— Вы долго хотели себя убить, но, в отличие от столь многих ваших пациентов, вы не могли этого сделать. Вы же как раз об этом писали в книге: некоторым людям необходимо быть рядом с теми, кто способен себя убить. Вам нужно, чтобы они делали это за вас. Вы начиняете их смертоносными личинками, двигаете ими, манипулируете ими, все время прикидываясь, будто им помогаете. Но на самом деле вы пытаетесь помочь самому себе. Вы пытаетесь осуществить то единственное самоубийство, которое всегда хотели совершить, да только у вас не хватало храбрости довести его до конца. Интересно, знали ли вы это еще тогда, когда только стали психиатром?
— Что у вас за плечами, детектив? Десять классов образования? И вы всерьез воображаете, будто вы в состоянии меня анализировать?
— Мне это и не надо. Вы можете сделать это сами. Иначе зачем было посвящать жизнь людям, которых вы явно ненавидите? Должен был в вас быть какой-то стержень, который позволял вам все эти годы оставаться заботливым и внимательным.
— Вы ничего не знаете о людях, которых я лечу. Это слизняки. Нытики. Они совершенно никчемны. Предельно эгоистичны. За всю свою жалкую жизнь они никогда ничего не сделали ни для кого, кроме себя. Человеческие отбросы.
— И что вы чувствуете по этому поводу, доктор? Это ваш любимый вопрос, правда? Что вы чувствуете, когда они наконец себя убивают? Эти нытики, эти человеческие отбросы. Должно быть, вам…
— Мне замечательно, — ответил Белл. — Ничто с этим не сравнится. Не могу вам это описать. Лучше, чем секс. Лучше, чем героин. Обожаю. Так что — почему бы вам меня не убить?
— А когда они не убивают себя сами, — продолжал Кардинал, — когда они оказываются слишком сильными, как Кэтрин…
— Я не виноват, что она не поняла. Она отчаянно жаждала себя убить, но она ни за что бы этого не признала. Сколько еще раз ее пришлось бы класть в больницу, прежде чем у нее наконец бы все сработало?
— Должно быть, это вас очень… расстраивает. Должно быть, это вас чрезвычайно… какое слово будет правильным?.. разочаровывает?
Лицо Белла являло собой воплощение презрения.
— Разъяряет?
Белл энергично покачал головой:
— Вы ничего обо мне не знаете. И никто не знает.
— В Манчестере знают. Или узнают, когда наконец начнут расследование.
— Вы так думаете?
— Я это знаю. А еще я знаю, что вы убили Кэтрин. Потому что, как вы сказали, она просто «этого не поняла». Не поняла, что ее психотерапевт хочет, чтобы она совершила самоубийство, и что, если она не поддастся, если она не станет сама отнимать у себя жизнь, вы не сможете с этим смириться, и вам придется убить ее самому.
— Вам нравится так думать, верно? Потому что, если она покончила с собой, кем тогда становитесь вы, а? Великий сыщик. Рыцарь в сияющих доспехах. Кем он станет, если не сумеет спасти собственную жену? Если она больше не может выносить жизнь с ним? Если она так бешено его ненавидит, что скорее зачеркнет остаток своей жизни, чем согласится провести его вместе с ним? Это невыносимо, не правда ли, детектив? Неудивительно, что вам приходится верить, будто это я ее убил.
— Я не говорил, что я в это верю, — заметил Кардинал. — Я сказал, что я это знаю.
Он поднял крошечный пакетик.
— Что бы это такое могло быть?
— Это карта памяти, доктор. Из фотоаппарата Кэтрин.
— И какое мне может быть до нее дело?
— Она сфотографировала вас, когда вы вышли на крышу. Она всегда так делала — снимала всех, кто окажется рядом, когда она фотографирует. Она снимала всех. Она в общем-то была человек застенчивый. Камера была для нее своего рода защитой. Вы знали, что она вас сфотографировала, вот почему вы забрали ее фотоаппарат с собой, когда ушли. Вы спустились к тому месту, куда она упала, и взяли его. Как я понимаю, в тот момент вы были в таком возбуждении, что не осознали: аппарат разбился, и карта памяти из него вылетела. Наверное, вы были ужасно разочарованы, когда пришли домой и обнаружили, что фотоаппарат пуст. Я бы с наслаждением посмотрел на вас в этот момент. Лучше всякого героина, бесспорно. Что ж, я увидел, что на этой карте памяти, а ваша жизнь в общем-то закончилась.
— У нее был маниакально-депрессивный психоз, детектив. Уже не одно десятилетие. Сколько у нее было госпитализаций, в общей сложности? Дюжина? Двадцать?
— Я не считал.
— Она бы все равно рано или поздно себя убила.
— Значит, вот что вы себе твердите? Вот как вы помогаете себе уснуть ночью?
— Ну и давайте. Застрелите меня.
— Вы этого хотите?
— Давайте. Я не боюсь.
— Извините, доктор. Больше никто не будет делать это за вас. Сейчас вам придется сделать это самому.
Кардинал опустил пистолет; теперь дуло смотрело в пол.
Рука Белла, державшая оружие, затряслась сильнее.
— Я убью вас, — произнес он. — Вы знаете, что я могу это сделать.
— Я не из тех, кого вам хочется убить, доктор. Я не из числа ваших пациентов. Не из ваших нытиков, как вы их столь сострадательно называете. Если вы меня убьете, это не прекратит ваши страдания.
Дернув локтем с какой-то марионеточной внезапностью, Белл косо направил «люгер» в собственный висок.
— Все эти годы, — проговорил Кардинал, — вы по-настоящему хотели именно этого, верно?
Бисерины пота выступили у Белла на лбу. Он зажмурился. Одинокая слеза покатилась по его щеке и затерялась в бороде.
— Давайте. Вы же не хотите провести остаток жизни в тюрьме, правда?
Пистолет и державшая его рука дрожали. Все тело Белла сотрясалось. Пот градом катился по его багровеющему лицу.
— Вы не можете этого сделать, а?
Белл застонал, из его кустистой бороды донесся всхлип. «Люгер» свалился на пол и запрыгал вниз по лестнице. Кардинал подобрал его.
— Думаю, мы сегодня неплохо потрудились, доктор. Я бы сказал, что мы добрались до самых истоков вашей проблемы. Теперь вас ждет пара десятков лет в Кингстоне, и вы сможете хорошенько над ней поработать.
52
Проходят дни, и поздняя осень незаметно превращается в зиму. Сейчас середина ноября, и с деревьев уже опали все листья до единого. Каждый ствол закупорен, каждая ветвь, видимая на фоне туч, черна и гола. Опавшие листья собрались по обочинам дорог и в кюветах, на ступеньках перед домами и вокруг ворот гаражей. На плоских крышах, на машинах и карнизах. Прошли дожди, и теперь газоны больше не покрыты рыхлыми многоцветными слоями. Теперь листья распластаны плоскими мозаичными коллажами — на тротуарах, на подъездных аллеях и даже в колеях, оставляемых наземными транспортными средствами города Алгонкин-Бей.
На улице похолодало, и Джон Кардинал надел свое тяжелое кожаное пальто, то самое, у которого что-то вроде меха в качестве подкладки. После красот октября ноябрь кажется мрачным — славная девушка обращается в зануду. Еще неделя-другая, и из кожаного пальто придется перелезать в длинную парку — в «большой нанук», как называла эту штуку Кэтрин.
Кардинал возвращается с утренней прогулки по туристской тропе, которая вьется вверх по холму, что возвышается позади его дома; по этому маршруту он бессчетное число раз гулял с женой. Перед этим звонила Делорм, опять казнила себя за то, что в свое время слишком поспешно сделала выводы насчет Кэтрин. Потом она рассказала, что Мелани Грин выписалась из больницы и живет дома, вместе с матерью. Ее новый психотерапевт настроен оптимистично.
По другой стороне дороги идут мистер и миссис Уолкотт, они выгуливают своего чудовищного пса. Завидев Кардинала, они прекращают пререкаться в знак уважения к его утрате.
— Должен бы снег пойти, — говорит миссис Уолкотт.
Кардинал соглашается, помахав рукой, и поднимается вверх по склону к своему дому. Ароматы древесного дыма и бекона смешиваются с запахом снега. Снег собирается пойти вот уже по крайней мере целую неделю. В этом году он что-то припозднился.
Он входит в дом, вешает пальто. Пытается развязать мокрые шнурки, стаскивает один ботинок, но потом в кухне звонит телефон, и он, хромая, с неснятым ботинком и болтающимися шнурками, идет взять трубку.
Сейчас ему хочется услышать только одного человека.
— Келли, как ты там? Почему так рано встала?
— Получила твое послание вчера вечером, но уже было поздно звонить.
Кардиналу удается скинуть с ноги ботинок, и он переносит телефон в гостиную. Связь не очень хорошая, линия забита загадочными пощелкиваниями и треском, но он усаживается в свое любимое кресло и рассказывает дочери, что уровень залога за Фредерика Белла был настолько высоким, что он не сможет на время выйти из тюрьмы и оттянуть начало процесса, где его обвинят в убийстве первой степени.
Секунду спустя он слышит, как дочь начинает плакать; ее всхлипы эхом отдаются по телефонной линии, соединяющей его с Нью-Йорком; качество связи становится все хуже и хуже. Келли так и не смогла перестроиться, привыкнуть к факту, что ее мать убита не своей собственной, а чужой рукой. Так ли, иначе ли, это все равно горько, и Кардиналу хочется, чтобы Келли сейчас была рядом: тогда он мог бы обнять ее и сказать ей, что все в порядке, что все будет хорошо, хотя на самом деле не все в порядке и не все будет хорошо.
— Келли?
Рыдания смолкли, но утих и треск электростатических помех.
— Келли?
Связь разорвалась.
Кардинал нажимает на кнопку быстрого набора и вызывает ее, но в ответ слышит лишь короткие гудки: занято.
Снаружи пошел снег, маленькие снежинки, похожие на капли дождя, быстро падают на склон холма. Если бы Кэтрин была здесь, сейчас она снаряжала бы фотоаппарат, натягивала бы сапоги. Первый снег всегда заставлял ее выйти пофотографировать, даже если снимки, по ее мнению, выходили слишком «календарными», чтобы она могла считать их более или менее приличными. Кардинал слышит, как кто-то скребется на крыше. Прихватив телефон с собой, он идет к задней двери и открывает ее, чем очень удивляет белку, занятую глоданием изоляции провода, ведущего к кондиционеру.
— Брысь, — командует Кардинал, но белка лишь глядит на него поблескивающим черным глазом. Снежинки тают на ее ушах и хвосте.
Кардинал, подняв руку, подносит к белке телефон, и она уносится прочь — черный завиток среди листьев; потом наступает тишина. Или почти тишина. Легкий ветерок пробирается сквозь березы, снег едва слышно постукивает об опавшие листья.
В его руке звонит телефон. Кардинал отвечает на звонок; связь с Нью-Йорком установлена вновь.