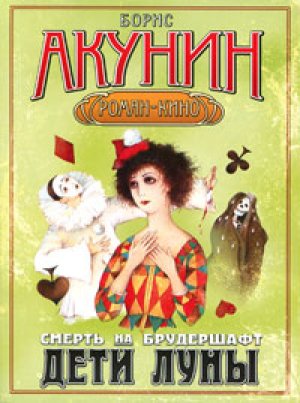
Петроградский август
Белые бессолнечные дни. Черные безлунные ночи. Серые мокрые сумерки, как зыбкая граница между явью и сном. Но нет ни полного забытья, ни настоящего пробуждения. Столица больна. Столица наполовину пуста. По прямым каменным улицам бродят растерянные женщины. Мужчин гораздо меньше, зато они деловиты, они спешат. Большинство одеты в военное, но в самом городе ничего воинственного нет. Фронт очень далеко. Только на большом отдалении от выстрелов так густо гнездятся генералы и популяция бравых полковников так решительно превышает количество зеленых прапорщиков.
Один из представителей этого во всех смыслах незначительного меньшинства, о котором еще говорят «курица не птица, прапорщик не офицер» (вполне, впрочем, молодцеватый юноша в превосходно сидящем кителе), соскочил с извозчика у здания Отдельного жандармского корпуса на Фурштатской, поправил портупею, снял и снова надел фуражку, взбежал по ступенькам.
Пока дежурный искал в журнале имя («прп. А. Романов к его првсх. ком-ру ОЖК»), молодой офицер привычным жестом потрогал, словно бы вдавливая в грудь, солдатский георгиевский крест.
Ишь, важничает, подумал дежурный, выписывая пропуск на этаж, где помещалось высшее начальство.
Но Романов не важничал. Он теребил орден всякий раз, когда начинал зудеть рубец от пули. Не будешь же на людях чесаться по-обезьяньи, а на обратной стороне оранжево-черной колодки булавка. Потрешь ею, и легче.
Синьор Сольдо, хирург Луганского госпиталя, говорил: «Мальчик, у тебя кошачья везучесть и собачья живучесть. Нужно очень постараться, чтобы пустить в себя пулю так виртуозно: в сантиметре от сердца, не задев ни одной крупной артерии!» Доктор был человек опытный, умный и верящий в приметы. По его предсказанию, Романову на своем веку предстояло быть множество раз раненным, но не смертельно и даже без тяжелых последствий.
Действительно, от пули, которая насквозь прошила несостоявшегося самоубийцу, только и осталось, что легкий зуд правее соска. Раздробленная на фронте рука, которой врачи сулили постепенное иссыхание, тоже зажила, как-то сама собой. Благодаря усердным упражнениям, которыми ее мучил Алексей, она, пожалуй, стала еще сильней, чем до ранения.
В начале весны прапорщик истребовал медицинского переосвидетельствования, которое прошел безо всяких трудностей, и был переаттестован в разряд полной строевой годности, чего с комиссованными вчистую почти никогда не бывает.
Несмотря на весну и отменно восстановившееся здоровье, жизнь Романову была не мила, опять же отечество пребывало в опасности. И личные, и общественные резоны звали вернуться на фронт, где – об этом писали все газеты – катастрофически не хватало именно младших офицеров, но князь Козловский провел со своим молодым товарищем долгую, обстоятельную беседу и переубедил, переспорил, перекричал. Перекричать Алешу было нетрудно, после трагических событий минувшей зимы он утратил прежнюю пылкость. Да и аргументы князя, что ни говори, звучали логично, а логике бывший студент-математик привык доверять. Собственно, логика – единственное, чему на свете вообще можно верить. В этом он убедился на собственной шкуре, дорогой ценой.
Ротмистр втолковывал молодому человеку:
– Пойми, упрямая башка! Не о своих сантиментах ты должен думать. Думать нужно, где ты причинишь больше вреда врагу и соответственно принесешь больше пользы отчизне. Взводом на фронте могут командовать многие, и получше тебя. А вот толково служить в контрразведке способны единицы. Опасностей у нас не меньше, чем на фронте, это ты сам знаешь. Награды, правда, выдают скупее, чем в окопах. Но это для тебя тоже не новость…
С наградой за успешную швейцарскую операцию вышло одно расстройство. Генерал Жуковский вернувшихся героев расцеловал и представил к ордену святого Георгия 4-й степени, согласно 71-й статье Статута, которая предусматривает это высокое отличие для тех, «кто, подвергая свою жизнь явной опасности, неустанными наблюдениями в бою соберет такие важные сведения о противнике, коими будут выяснены планы и намерения последнего, что даст возможность высшему начальнику одержать решительную победу». Однако Георгиевская кавалерская дума представление с возмущением отвергла, отказавшись приравнивать «альпийский вояж» к боевым действиям. Возможно, вердикт вышел бы иным, имей контрразведка возможность изложить дело во всех подробностях, но, учитывая деликатность «вояжа» и его несоответствие установлениям международного права, это было совершенно немыслимо.
Тогда начальник подал другую реляцию, испрашивая для своих эмиссаров хотя бы «владимира» с мечами и бантом, но и тут получил отказ, даром что командир жандармского корпуса и генерал свиты его величества. То есть дать-то ордена дали, но без мечей, с одними лишь бантами, словно не за военный подвиг, а за мелкую служебную заслугу в глубоком тылу. К этому сомнительному отличию Жуковский прибавил от себя наградные, и на том чествование триумфаторов закончилось.
Полученные деньги, пятьсот рублей, Алексей потратил на офицерское обмундирование – заказал полный комплект у самого Норденштрема, на Невском.
Первый раз надел всю амуницию, встал перед зеркалом – сам на себя засмотрелся, до того был хорош.
Плечист, высок, подтянут. Рука, хоть и абсолютно исцеленная, для эффектности в черной перчатке, висит на перевязи. На груди блестит одинокий, скромный солдатский «георгий» (мирный «владимир» с бантиком Романов, вопреки уставу, решил не носить).
С одного взгляда читается вся жизнь: молодой герой из добровольцев, офицерское звание выслужил храбростью, а что не на фронте – так это из-за ранения.
Но любовался отражением Алексей недолго. Вдруг вспомнил Грушницкого из «Героя нашего времени». Тот тоже красовался солдатским крестом и сшил себе умопомрачительный прапорщицкий мундир. Только ранение у жалкого фанфарона было не в руку, а в ногу. Вот и вся разница.
Разозлился на себя. Сорвал перевязь. Лайковую перчатку стянул с руки, отшвырнул в угол комнаты.
Глупости это были. Последний щенячий писк былого Алеши Романова, романтичного мальчика, обожавшего эффектность.
Вспоминать противно. Тот дурак верил в любовь и думал, что жизнь создана для счастья. А у жизни цель совсем другая – смерть, и это неопровержимо, как теорема Пифагора. Под вопросом только два обстоятельства: когда и ради чего. Всё остальное второстепенности.
Большинство людей очень боятся самого перехода через смертный рубеж, и этот физический страх заставляет их всеми силами цепляться за жизнь. Но Алексей на том рубеже уже побывал, ничего особенно пугающего не обнаружил.
Человек, преодолевший главный из страхов, начинает чувствовать себя неуязвимым. Ему хочется драться и побеждать. Очень хорошо, что войне не видно конца. Пусть бы она продолжалась вечно.
Однако Романов провоевал достаточно, чтобы понимать: одного бесстрашия для победы мало, потребно умение. Войне надо учиться. Контрразведка такая же дисциплина, как алгебра или тригонометрия, – здесь тоже свои формулы, уравнения, правила. Не будешь их знать назубок, завалишься на первом же экзамене.
Алексей хотел стать настоящим профессионалом, был готов учиться. А тут, на счастье, по инициативе генерала Жуковского открылось невиданное учебное заведение – специальные курсы для офицеров-контрразведчиков, которых так не хватало и на фронте, и в тылу.
Пришлось пройти еще одну медицинскую комиссию, главным в которой был врач-невропатолог. От сотрудников контрразведки требовались особенные качества: подвижность ума, устойчивость психики и крепкие нервы.
В недозастрелившегося прапорщика врач вцепился, как лис в цыпленка. Драл зубами, рвал когтями, щипал – и отступился ни с чем. В заключении написал, что психика у А. Романова аномальная, однако укреплять ему нервы незачем, скорее их не мешало бы размягчить. Стреляться А. Романов больше не будет – разве что из-за нежелания сдаваться врагу живьем. Начальство рассудило, что для контрразведчика такая «аномалия» в самый раз, и прапорщик был немедленно зачислен в школу. Там его учили немецкому языку, шифровке и дешифровке, принципам работы с агентами, психологии допроса, рукопашному бою по французской, китайской и японской методикам, стрельбе из всевозможных видов оружия и другим полезнейшим вещам.
Прошла весна, миновала большая часть лета, учеба близилась к окончанию. Алексею не терпелось применить новообретенные знания на практике. На некоторых курсантов уже пришел вызов – кому с германского фронта, кому с австрийского, кому с турецкого, некоторым из военно-морского флота.
Сегодня вызвали и прапорщика Романова. Телефонограммой. Не куда-нибудь, а к самому Жуковскому.
Большие надежды
Трехэтажное здание с кокетливой лепниной. То ли средней руки гостиница, то ли доходный дом. Но у входа часовой, вдоль тротуара – ряд автомобилей и пролеток. И умеренно строгая, черно-золотая вывеска: «Штабъ Отдельнаго Жандармскаго Корпуса».
Внутри треск пишущих машин, жужжание телеграфных аппаратов, перестук каблуков. Однако никакой суеты, спешки, тем более нервозности. Каков поп, таков и приход.
С «попами» российским «приходам» везет редко. Жандармский корпус являлся счастливым исключением. Назначенный перед самой войной генерал-майор Жуковский политическим сыском заниматься не стал, справедливо рассудив, что жители воюющей державы перед лицом общей опасности на время забудут о своих разногласиях. Главной задачей новый командир считал, во-первых, противодействие германско-австрийскому шпионажу, сеть которого густо пронизала все тело беспечной Российской империи, а во-вторых, организацию собственной агентурной разведки.
Пришлось начинать почти с нуля, но энергия цепкого Владимира Федоровича своротила горы. Еще минувшей осенью командиру Жандармского корпуса вверили контроль над военно-разведочным управлением Генерального штаба, так что теперь все специальные службы империи находились под единым руководством.
В тылу борьбой со шпионажем занимались губернские жандармские управления. На театре военных действий дело было устроено иначе. При генерал-квартирмейстере каждого фронта появилось разведочно-контрразведочное отделение, которым руководил подполковник генерального штаба при двух помощниках – генштабисте, ведавшем разведкой, и жандарме-контрразведчике. Такие же органы существовали в каждой из армий.
Счет выловленных шпионов в тылу шел на сотни, во фронтовой полосе – на тысячи. А лучшим комплиментом разведывательной агентуре Жуковского стало примечательное событие: немецкому Генштабу пришлось учредить специальное отделение по борьбе с русскими шпионами.
Борьба спецслужб шла еще не на равных – у германцев было больше опыта и ресурсов, но все-таки это уже не напоминало драку слепого со зрячим, как в первые недели войны.
Поднимаясь по лестнице в бельэтаж и посекундно козыряя встречным военным (все они были старше чином), Алеша гадал, какое назначение сейчас получит и почему генерал решил удостоить какого-то прапорщика личной аудиенцией. Это было лестно. Знать, не забыл Владимир Федорович про швейцарскую эпопею. Вероятно, хочет отправить на какой-нибудь ответственный участок фронта, да еще с особенным заданием или, чем черт не шутит, с чрезвычайными полномочиями. А что такого? Звание хоть и маленькое, но в разведке и контрразведке людей ценят не по звездочкам – по заслугам. Заслуги же у Романова имелись.
Он примерно догадывался, куда его могут послать.
Судьба войны и всего российского государства сейчас решалась на Юго-Западном фронте, который уже четвертый месяц пятился под напором германцев, неся гигантские потери. Пали Перемышль, Львов, Варшава. Ключевой пункт обороны, Новогеоргиевская крепость, в блокаде. Россия потеряла почти треть промышленности, тыловые коммуникации запружены беженцами – на восток хлынуло десять миллионов человек.
В армию непрерывно идут эшелоны с пополнениями, но компенсировать чудовищную убыль штыков невозможно. Любая другая держава рассыпалась бы в прах, разом лишившись двух с лишним миллионов солдат убитыми, ранеными и пленными. А Россия трепетала, стонала, но пока держалась. Лишь откатывалась, откатывалась все дальше на восток под ударами германского стального кулака. Ходили слухи, что великого князя Николая Николаевича вот-вот снимут с должности и что обязанности верховного главнокомандующего примет сам государь. Если уж монарх считает своим долгом в этот тяжкий для родины час быть на фронте, то боевому офицеру и Бог велел.
А вдруг назначат прямо в Ставку? Заниматься не тактической, а оперативной разведкой? Хотя и тактическая, на уровне армии или корпуса, тоже интересно!
Адъютант просунул голову за кожаную дверь:
– Ваше превосходительство, прапорщик Романов.
Густой бас нетерпеливо потребовал:
– Сюда его! Живо!
Вот как? Даже «живо»?
В начальственном кабинете
Обширный кабинет, по которому сразу видно, что он обустроен не для парадности, а для работы. На огромном столе аккуратные стопки папок и бумаг, разложенные по какому-то неочевидному, но строго соблюдающемуся принципу. Телефонные аппараты. Истыканные флажками карты, причем не только фронтов, но всех частей империи – будто и там тоже идут бои. Фотографический портрет императора – маленький, но зато с собственноручной надписью. Встроенный в стену сейф. Из личных вещей, по которым можно было бы судить о пристрастиях обитателя, только теннисная ракетка. Про командира известно: иногда играет с адъютантом в эту английскую игру – не для разрядки, а для концентрации мысли. И будто бы некоторые самые блестящие идеи приходят в голову его превосходительству именно в момент звонкого удара ракетки по мячу. Возможно, впрочем, что и выдумки.
Хозяин кабинета по-свойски помахал молодому человеку рукой: без церемоний, входите-садитесь.
Перед начальственным столом в креслах сидели двое военных. Одного из них, немолодого подполковника, Алексей видел впервые. Вторым был Лавр Козловский, который в последнее время состоял при командире Жандармского корпуса офицером-координатором от военной контрразведки. Ротмистр улыбнулся, шевельнув по-тараканьи торчащими усами, сказал бестактность:
– А вот и наш декадент.
Кинув на приятеля сердитый взгляд (шутки по поводу самоубийства давно обрыдли, а уж поминать прошлое при высоком начальстве – вообще свинство), Романов доложил о прибытии и скромно сел возле длинного стола для совещаний. Фуражку положил на зеленое сукно, руки сложил по-гимназически, перед собой. Только предварительно тронул крест на груди, чтобы покачался. Это означало: приказывайте, ваше превосходительство, всё исполню, но не забывайте, что перед вами боевой офицер, место которого на фронте.
Всех этих тонкостей Жуковский, похоже, не заметил.
– Как учеба, юноша? – спросил он по-домашнему. – Грызите гранит, грызите. Потом дадите нам, неучам, форы.
Он рассматривал прапорщика с улыбкой и вообще выглядел ужасно довольным.
На реплику об учебе отвечать не требовалось – по тону было ясно, что это не вопрос, а так, приветствие. Романов тоже вежливо улыбнулся и попытался применить знания, почерпнутые на лекциях по практической психологии. Генерал и ротмистр веселые, оживленные, а незнакомый офицер сидит хмурый, с почерневшим от горя лицом. Что это может означать?
Алексей окинул подполковника быстрым профессиональным взглядом.
Артиллерист. Значок Академии генштаба. Невысок и некрупен, но ладно скроен. Маленькие красивые руки нервно трутся одна о другую. Черты правильные, даже красивые. Острая бородка с легкой проседью, породистый нос, на лбу резкая вертикальная морщина – признак воли и характера. Но почему блестят глаза? Будто с них только что смахнули слезу.
Очень странно. Уж не арестованный ли это?
Но следующая фраза генерала разрушила эту интересную версию.
– Подполковник, вот офицер, которому мы поручим наше деликатное дело. Прапорщик Романов. Кандидатура просто идеальная. Артистичен, находчив, бывал в переделках. И возраст именно такой, как надо.
Трагические глаза артиллериста так и впились в лицо Алексея – в этом взгляде читались мучительное сомнение и надежда. Сказано, однако, ничего не было – подполковник ограничился кивком.
– Знакомьтесь, – обратился Жуковский теперь уже к Романову. – Это подполковник Шахов из Главного артиллерийского управления. Тут вот какое дело… Козловский, давайте вы.
– Слушаюсь. – Козловский повернулся к товарищу, и Алеша увидел, что физиономия у ротмистра не очень-то веселая, а скорее возбужденная. Глаза блестят, ноздри раздуваются – прямо рысак перед призовой скачкой. – Я, ваше превосходительство, коротко.
– Не надо коротко. Рассказывайте подробно. Послушаю еще раз.
– Как прикажете…
Но говорить долго князь в любом случае не умел, да еще в присутствии высшего начальства. Он откашлялся.
– Некоторое время назад к нам поступили агентурные сведения, что немецкий Генштаб имеет доступ к секретным сведениям из Артуправления. Мы провели тайную проверку. Выяснилось, что некоторые старшие офицеры завели привычку брать секретную документацию домой…
Шахов воскликнул:
– А что прикажете делать? Очень много работы. Приходится заканчивать дома, по вечерам. Конечно, это нарушение…
Как странно: человек с тремя большими звездами на погонах оправдывается перед прапорщиком, подумал Алексей.
Генерал Жуковский обладал слишком живым характером, чтобы долго довольствоваться ролью пассивного слушателя. Он махнул князю: ладно, не мучайтесь, я сам – и с удовольствием продолжил рассказ. Получилось совсем удивительно, будто перед чахлой звездочкой отчитывается целое созвездие Большой Медведицы.
– Проще всего было бы запретить эту опасную практику, и дело с концом, но я распорядился иначе. – Владимир Федорович вкусно улыбнулся. Считалось, что он похож на бульдога (его за глаза так и называли), но сейчас генерал напоминал большого круглоголового кота, который приволок дохлую мышь и очень собою горд. – Нужно ведь не только пресечь утечку, но и установить источник. Это самое главное. Наши химики предложили тайно покрыть документы неким составом, который реагирует на фотоблиц – как известно, без вспышки документ качественно не снимешь. Результата долго ждать не пришлось. Негласная проверка показала, что чертеж новой 76-миллиметровой пушки, с которым работает подполковник Шахов, подвергся фотографированию. Ну а дальше продолжит подполковник – сведения всегда лучше получать из первоисточника.
– Слушаюсь, ваше превосходительство… Позавчера я вернулся домой в девятом часу. Работал с чертежом до полуночи. Прислуге в это время входить в кабинет запрещается. Закончив работу, запер чертеж в сейф. У меня дома сейф. Как у всех сотрудников управления, кому дозволено брать работу домой.
Рассказ давался артиллеристу тяжело, и чем дальше, тем труднее. Шахов все больше бледнел, смотрел вниз, но голосом не дрожал и не сбивался – твердости этому человеку было не занимать.
– …Вот, собственно, всё, что случилось позавчера… Поэтому, когда вчера меня вызвали на допрос, это было как гром среди ясного неба… Я не мог объяснить, кто и когда мог сфотографировать чертеж. А когда выяснилось, что… – Он издал странный квохчущий звук. – Прошу извинить, господа. Сейчас продолжу. В горле что-то… Вы позволите, ваше превосходительство?
Жуковский сам налил ему из графина и продолжил за артиллериста:
– В общем, наши агенты провели обыск у господина Шахова в кабинете. Установили, что сейф открывали только ключом, никаких следов взлома или вскрытия. Тогда с помощью подполковника реконструировали детальный хронометраж событий позавчерашнего вечера. Установили, что единственным посторонним лицом, входившим в кабинет, когда чертеж еще не был помещен в сейф, была дочь подполковника, девица двадцати двух лет.
Командир взглянул на Шахова, словно проверяя, справился ли тот с нервами и может ли дальше рассказывать сам. Теперь Алеша начинал понимать состояние этого немолодого и, очевидно, заслуженного офицера.
– Да, Алина принесла мне чаю… Должен сказать, что она нечасто балует меня такими знаками внимания, и я всякий раз бываю очень рад… Дочь вообще по вечерам редко дома… А тут была приветлива, даже мила. Мы славно поговорили – она задержалась в кабинете, даже, представьте, отпивала из моего стакана, – сказал Шахов и сам смутился. – Вам трудно понять, как много для меня это значит… Ладно, неважно. Важно, что Алина оставалась в кабинете, когда я отлучался, пардон, в уборную… Конечно, чертеж при этом в сейф не запирал, в голову не пришло… Но мог ли я вообразить? – Подполковник скрипнул зубами, сердито потер кулаком глаза. – Ради бога простите. Расклеился, как баба.
Никакого сочувствия к отцовскому горю генерал не проявил. Он сделал рукой хватательное движение, словно поймал в воздухе комара или муху.
– Отлучка подполковника в ватер-клозет – единственный момент, когда документы могли быть сфотографированы. Никаких сомнений: это сделала мадемуазель Шахова. Расскажите-ка про фотоаппарат.
– Я подарил дочери портативный «кодак» по случаю окончания гимназии, тому три года. Одно время Алина очень увлекалась фотографией, и у нее недурно получалось. Потом утратила интерес… Она утратила интерес ко всему…
– Вот редкий случай, когда картина преступления может быть восстановлена полностью, – подытожил Жуковский. – Девица Шахова от кого-то (предположительно от резидента) знала, что в этот день отец принесет важный документ, и потому осталась дома. Спрятать портативную фотокамеру и блиц под одеждой нетрудно. Произвести снимок – дело одной минуты. После реконструкции событий я распорядился произвести тщательный обыск в комнате у барышни, благо она отсутствовала.
– Да, это тоже необычно, – хмуро сказал подполковник. – Алина всегда у себя часов до пяти-шести пополудни, а вчера – горничная рассказала – ушла вскоре после меня.
– Вот именно. В шифоньере, под нижним бельем, мы нашли фотопластину, на которой запечатлен чертеж орудия – снимок превосходного качества. Вот, Романов, каковы исходные условия задачи. Ну-с, господин курсант, как бы вы стали действовать дальше?
Генерал с веселым любопытством воззрился на прапорщика.
– Есть два способа, ваше превосходительство. Можно оставить фотопластину на месте и проследить за девушкой, чтобы установить ее контакты. Но я бы поступил еще проще: взял бы Алину Шахову и допросил. С такими доказательствами она не отвертится. Интеллигентная барышня – очень легкий материал для хорошо подготовленного следователя, – сказал Алексей с высоты обретенных на курсах знаний. – Здесь должен быть какой-то излом личности. Тут ведь не просто шпионаж, а предательство родного отца. Если нащупать эту психическую трещину, объект расколется на половинки, как грецкий орех.
Командир корпуса переглянулся с Козловским, который ободряюще подмигнул молодому человеку. Очевидно, той же логикой руководствовалось и премудрое начальство.
– Допрашивать ее смысла нет, – сказал генерал. – Этот путь в данном случае малоперспективен. Мадемуазель Шахова может быть слепым орудием немцев. Делает то, что ей велят, а знать ничего не знает.
– Уж что-то она наверняка знает. Есть же у нее глаза, уши, голова на плечах, – позволил себе возразить Романов. Его учили, что на аналитическом совещании субординацию соблюдать не обязательно. Если младшему по званию приходит на ум дельная мысль или контраргумент – высказывай, не молчи.
Жуковский покачал головой:
– У людей этого склада наблюдательность понижена, любопытство отсутствует, а умственная энергия направлена лишь в одну сторону. Им лишь бы получить то, что им потребно, всё остальное не имеет значения.
Этого Алексей не понял и поглядел на генерала вопросительно. Но ответил Шахов:
– Алина наркоманка. Морфинистка. Это продолжается уже второй год. Врачи ничего не могут поделать… – Подполковник глядел вниз, на пол. – …Понимаете, на нашу семью прошлой весной обрушились несчастья, одно за другим. Сначала лопнул банк, в котором хранились все наши средства. Вскоре после этого скончалась жена… Я бесконечно виноват перед Алиной. Бывает, что общее горе сближает, а бывает, что и разделяет… Если каждый пробует справиться с ним в одиночку. Я пытался забыться делами службы, благо объявленная мобилизация, а затем и война давали такую возможность. Сутками просиживал в управлении, да поездки на фронт, да командировки на заводы… Алина оказалась предоставлена сама себе. Я ее бросил в беде одну… А она тоже обнаружила свой способ забыться. Связалась с декадентской компанией. Пристрастилась к кокаину, потом к морфию. Было две попытки самоубийства…
Подполковник сделал над собой усилие, поднял голову. Да ему нет и пятидесяти, подумал Алеша. Морщины на лбу, глубокие тени в подглазьях, преждевременная седина и убитый вид состарят кого угодно. При таких обстоятельствах неудивительно.
– Она прошла несколько курсов лечения в клинике Штейна. Это здесь рядом, у Таврического сада, – пояснил Шахов, словно местонахождение клиники имело какое-то значение. – Я знал, что дела плохи, врачи меня не обнадеживали… Но разве я мог подумать…
Тут он вдруг с силой ударил себя кулаком по лбу.
– Что я несу? Будто напрашиваюсь на жалость и снисхождение! Меня нужно гнать со службы. С позором, с судом. Я нынче же сам подам рапорт!
– И оборвете нить, которая ведет к немецкой шпионской сети, – сурово сказал Жуковский. – Мы это уже обсуждали, не будем повторяться. К делу, господа! Ротмистр, излагайте план.
План был логичен и прост: использовать Алину Шахову как наживку на крупного зверя.
– Фотопластину мы, конечно, оставили в шифоньере, – рассказывал Козловский. – Вернее, положили на ее место другую, сделанную со специально искаженного чертежа. Установили наружное наблюдение. Горничную заменили на нашу агентку. Так что барышня находится под постоянным присмотром, что дома, что на улице.
Романов поднял руку, как на занятии:
– Можно? Два вопроса. Не покажется ли Шаховой подозрительным смена прислуги?
– Не уверен, что она это заметит, – горько ответил подполковник. – Иногда мне кажется, что она вообще на нас, домашних, не смотрит. К тому же я часто меняю горничных. Они долго не выдерживают… атмосферы, – не сразу подобрал он слово.
– Тогда, с вашего позволения, второй вопрос. Почему Шахова вчера оставила пластину дома? Если она встречалась с резидентом, то должна была захватить добычу с собой.
Генерал покивал:
– Правильный вопрос, Романов. Мы это обсуждали и нашли объяснение. Разведка часто использует в агентурных целях наркоманов, но этот элемент крайне ненадежен. Обыкновенно их держат на положении экстернов.
– Простите, кого? – вздрогнул Шахов.
– Не ординарных агентов, состоящих на постоянном жалованье, а экстернов, которых используют от случая к случаю. Причем чаще всего втемную. Платят сдельно: есть добыча – есть оплата. Иначе у наркомана нет стимула проявлять активность. Размер гонорара каждый раз определяется особо, в зависимости от ценности улова. Вчера Шахова встречалась со своим заказчиком, чтобы описать трофей и сторговаться о вознаграждении. Передача же, судя по всему, произойдет сегодня.
– Тогда уж и третий вопрос, ваше превосходительство…
– За каким чертом нам понадобился прапорщик Романов? – не дал ему договорить генерал, рассмеявшись. – Это князя благодарите. Его идея.
Козловский снова подмигнул, словно давая понять, что его и в самом деле не грех отблагодарить.
– Понимаешь, Лёша, за девицей следят дома и на улице. Но этого мало. Нужно проникнуть в ее компанию, выявить все связи. По счастью, она мало где бывает. Ходит в одно и то же место. В клуб-кабаре «Дети Луны». Там собирается особая публика, затесаться в которую не так-то просто. Обычному агенту задача не по плечу.
– Что за публика? – настороженно спросил Романов. От Лавра Козловского можно было ожидать каких угодно сюрпризов.
Опасения немедленно подтвердились.
– Отчаянные декаденты вроде тебя. Любители выть на Луну, стреляться, вешаться и все такое.
– Господин ротмистр! – Романов вспылил, даже приподнялся со стула. – Сколько можно?!. Простите, ваше превосходительство.
И сел обратно, под хихиканье князя и пофыркиванье генерала. Лишь Шахов не присоединился к веселью.
– Ваше превосходительство, – тихо, но с нажимом сказал он. – Позволю себе напомнить: вы обещали обеспечить Алине надежную защиту.
Жуковский посерьезнел.
– Прапорщик, тут еще вот что. Если немцы узнают, что Алина Шахова раскрыта… Ну, вы понимаете. Возможно, захотят обрубить концы. Во всяком случае, это было бы логично. Ваша задача не только обнаружить контакт, но и обеспечить безопасность девушки.
Подполковник поднялся, подошел к Алексею и заглянул ему в лицо. В глазах Шахова (теперь Романов отчетливо это разглядел) горело безумие.
– Молодой человек, я умоляю вас! Алиночка государственная преступница, но… это моя девочка! Сберегите ее! Она несчастна, она больна! Если с ней что-нибудь…
И не договорил, отвернулся. Подполковника бил кашель.
Вечер того же дня. Наблюдательный пункт
Пасмурный августовский вечер. Белесые тени за окном пустой квартиры в конце Большого проспекта на Васильевском острове. Из обстановки только стул да несколько ящиков. В углу большой ворох разноцветной одежды, будто украденной из театральной гримерки: балахоны, широченные блузы, широкополые шляпы, шутовские колпаки, маскарадные личины. Струйка голубого дыма из переполненной пепельницы.
– …Без тебя знаю, что эгофутуристы и декаденты не одно и то же, – огрызнулся князь, взбивая Алексею короткие волосы проволочной щеткой. – Не нужно считать меня солдафоном. Но шушера, которая собирается в этом кабаре, вроде как сама по себе. Не вполне декаденты и враждуют с футуристами. Они называют себя «эпатисты». Только не спрашивай меня, что это такое и в чем суть. Эпатировать буржуазную публику, наверно, хотят. Кабак действительно оригинальный. Сам увидишь. Разодеты все – парад мертвецов, бунт в сумасшедшем доме.
– Поэтому ты и нарядил меня пугалом?
Из кучи тряпья ротмистр, собственноручно готовивший Романова к внедрению, выбрал хламиду ядовитого желтого цвета, штаны в красно-зеленую полоску и мушкетерскую шляпу с облезлым пером. Оставалось лишь удивляться, откуда в реквизитной Жандармского корпуса взялась подобная дрянь.
– Боюсь, недостаточно. – Козловский смотрел на дело своих рук с сомнением. – Знаешь, что такое дресс-код и фас-контроль?
– Это когда в дорогом ресторане или клубе встречают по одежке. Кто неприлично выглядит – от ворот поворот.
– Вот-вот. Только у «Детей Луны» всё шиворот-навыворот… Нет, чего-то не хватает… Саранцев! – крикнул ротмистр в сторону кухни, где сидели филеры. – Сколько у нас времени? Где объект? Донесения были?
Из коридора выглянул старший филерской группы Саранцев, самый опытный из сотрудников Козловского.
– Только что Зайкин звонил, ваше благородие. С Николаевской набережной. Там близко 4-е почтово-телеграфное отделение, так он догадался с платного телефона позвонить. Говорит, девица сидит, на воду смотрит. Сорок минут уже.
– Никто к ней не подходил?
– Пока нет.
Романов с отвращением потрогал торчащие дыбом волосы.
– Может, зря ты меня уродуешь? Скорее всего у Шаховой встреча с резидентом там, на набережной, и назначена.
– Хорошо бы, конечно. Там его ребята и взяли бы. Только вряд ли. – Козловский вздохнул. – Это у девчонки привычка такая. Вчера тоже, прежде чем в клуб прийти, битый час сидела, на реку смотрела. Да и не дураки немцы устраивать рандеву на открытом месте. Встреча будет в кабаре, это точно… Что бы на тебя еще такое нацепить?
Он прохромал к реквизиту, стал раскладывать одежду на полу, больше было негде.
Квартиру для проведения операции сняли сегодня и никак не оборудовали, только телефон протянули. Ни мебели, ни черта – хоть в кегли на полу играй. Зато из окна видно клуб «Дети Луны», унылое здание складского типа. На красном кирпиче фасада большими буквами по-русски и по-немецки начертано:
«Т-во БЕКЕРЪС.-Петербургъ – БерлинъРояли, пианино, пианолы»
Алеша уже знал, что раньше, до немецких погромов, там действительно находился склад музыкальных инструментов. В столице многие заведения, раньше принадлежавшие германским и австрийским фирмам, теперь сдаются за бесценок.
– Арендный договор заключен полгода назад, на имя владельца кабаре. Про него я тебе еще не рассказывал…
Времени на подготовку к операции было мало, поэтому экипировку приходилось совмещать с инструктажем и введением в курс дела.
– Это субъект из породы людей, кому сейчас раздолье. Сам знаешь, сколько на Руси-матушке развелось любителей половить стерлядку в мутной воде. Откуда их столько повылазило! Владелец этого вертепа в мирной жизни был антрепренером и импресарио всяких-разных затей легкого жанра. Оперетки, буффонадки, антрепризки и прочее подобное. Подвизался все больше в глубинке, где публика попроще. Теперь же заделался иностранцем. Уругвайско-подданный. Или парагвайско? Я читал сводку, да запамятовал. В общем, что-то знойное, южноамериканское.
– Правда? – заинтересовался Романов, никогда не видавший живых уругвайцев и тем более парагвайцев. – У них там какой язык – испанский?
– Наверно. Но этот господин вряд ли знает по-испански хоть слово. Он такой же парагваец, как мы с тобой. За месяц, прошедший между выстрелом в Сараеве и объявлением всеобщей мобилизации, кое-кто из жителей Российской империи сообразил поменять подданство. Консулы некоторых нейтральных стран сделали на этом неплохую коммерцию.
– Этот тип стал южноамериканцем, чтобы не идти в армию?
– Разумеется. Одни в окопах гибнут, другие жиреют. Как солдаты говорят: кому война, а кому мать родна.
– А как его зовут?
– Смотря где. Черт! – Козловский решил украсить наряд «эпатиста», стал пришивать к рукаву золотую бумажную звезду, но с иголкой управлялся неважно и уколол себе палец. – …В «Детях Луны» его зовут Каином. Там почти у всех какие-нибудь дурацкие прозвища, одно инфернальней другого. Одевается господин Каин соответственно: черный фрак с красной подкладкой, черная полумаска. Но «Дети Луны» не единственное его предприятие. У него есть кабаре «Ше-суа» – совсем в другом роде: безо всякой декадентщины, развеселое, для неизысканной, но денежной публики. Там он обычно носит розовый смокинг с искрой и зовется «дон Хулио». А еще прохиндею принадлежит ресторан – то есть, пардон, трапезная «Русь святая». Это заведение для патриотической публики, близ Таврического дворца. Туда ходят депутаты из крайне правых, много офицеров, военных чиновников. В «Руси святой» владельца называют «Ульян Фомич» (между прочим, это его настоящее имя-отчество), и носит он френч военного покроя.
– Зачем ему все это?
– Ну как же? Декадентствующие детишки при деньгах, среди них много золотой молодежи, которая бесится со скуки. Кабаре «Ше-суа» – предприятие тем более выгодное. А патриотическая трапезная обеспечивает нашему дону Хулио хорошую защиту. Полиция пыталась привлечь его к ответу за шалости по части сухого закона. Как бы не так, за парагвайского Ульяна Фомича заступились влиятельные покровители.
Князь щелкнул пальцами:
– Идея! Я знаю, чего тебе не хватает, чтобы стать настоящим эпатистом!
Он проковылял к реквизиту, взял небольшой ящичек, в котором лежали тюбики и кисточки.
– Ты что, Лавр? Решил живописью заняться?
– Почему «решил»? – Ротмистр ловко давил на палитру краски. – Три года отзанимался. Я, Лешенька, ходячее кладбище разнообразных художественных талантов. Матушка мечтала вырастить меня тонкой артистической натурой. Как я играю на рояле, ты слышал.
– Довольно паршиво.
– Это ты еще не видел меня танцующим. Учителя рыдали и отказывались от двойной оплаты. На полковых балах дамы бледнели, когда я их приглашал на вальс или мазурку. Но спасибо хромой ноге, с танцами покончено. – Козловский рассматривал прапорщика с видом Микеланджело Буонаротти, готовящегося отсечь от глыбы мрамора всё лишнее. – В живописи я преуспел больше, чем в музыкальных искусствах. Особенно мне удавались сеансы с натурщицами. Я тебе как-нибудь нарисую ню – пальчики оближешь. В училище и в полку это умение снискало мне большую популярность среди товарищей.
Влажная кисточка запорхала по Алешиному лбу.
– Щекотно!
– Не дергайся!..Вот теперь то, что надо, – удовлетворенно объявил князь. – Хоть на салоне выставляй. Эй, Саранцев!
Притопал старший филер.
– Как тебе?
Саранцев почмокал губами.
– Подходяще. Талант у вас, ваше благородие.
– Где тут зеркало? – нервно спросил Романов, поднимаясь.
Но зеркала в пустой квартире не было.
А тут и телефон зазвонил.
– Ваше благородие, снова Зайкин. Девица идет по Девятнадцатой линии в сторону Большого проспекта! Наши ее ведут!
– Спускаемся в подъезд!
Последние инструкции ротмистр давал уже на лестнице.
– …Ну а если что, просто пали в потолок. Услышим выстрел – через минуту будем. И помни: главное для тебя не Шахова, а ридикюль. Глаз с него не спускай!
Фас-контроль
Подъезд небогатого дома, где квартируют мелкие чиновники, приказчики, портовые служащие. Чисто, но обшарпанно, и ничего лишнего: ни лепнины, ни медных блях на перилах, на потолке не люстра – обычная лампочка, да и ту филеры вывернули, чтоб нельзя было заглянуть с улицы. В подъезде сумрак, торопливый разговор вполголоса.
– …Врач из больницы Штейна, где лечат нервнобольных, алкоголиков и наркоманов, про Алину Шахову рассказал следующее… Сейчас, я в книжке записывал… Не видно ни черта! Подвинься, Лёша, свет загораживаешь. «Извращенно-акцентуированная личность. Типичный продукт нынешней моды на имморализм. Неизлечима и не желает излечиваться». В общем, девица не подарок. Писхиатр сказал, что рано или поздно она себя обязательно угробит. Снова вскроет вены или снотворного наглотается. Если до того не окочурится от слишком большой дозы морфия.
Козловский говорил и посматривал в стекло. Шахова должна была появиться слева и пройти аккурат мимо двери подъезда. Чтобы не вызывать лишнего любопытства соседей, князь оделся бедненько-скромненько, в паршивую тройку с бумажной манишкой, засаленный котелок, стоптанные штиблеты.
– Идет!
Он отпрянул в тень.
Мимо – Алеша едва успел рассмотреть – процокала каблучками барышня, похожая на экзотическую птицу. Что-то очень тонкое и ломкое, в черных перьях и крылообразной пелерине. Глаза резануло нечто ярко-оранжевое – кажется, боа.
– Видал? Ридикюль она держит под мышкой, – прошипел ротмистр. – Фотопластина спрятана за подкладкой. Горничная обнаружила. Ты понял, что ридикюль – главное? Das Fisch[1] клюнет на него.
– Понял, понял. Ну, я пошел.
Выскользнув из двери, Алексей декадентской, то есть вялой и разболтанной походкой двинулся по направлению к бывшему складу роялей.
Прохожие от него шарахались.
– Мама, гляди, клоун! – радостно пропищал мальчуган. Мамаша дернула его за руку.
Бабка в платке перекрестилась:
– Оссподи, страсть какая!
Романов оглянулся на подъезд, где в окошке торчала усатая физиономия князя. Тот показал большой палец: не робей, всё отлично.
Ну, поглядим.
Под скорбными готическими буквами покойной фирмы «Бекер» висела другая вывеска, украшенная разноцветными лампочками.
«ДЬТИ ЛУНЫ»КЛУБЪ-КАБАРЕ
Под названием – изображение воющих на луну волков, каких-то могилок с крестами. Ниже вкривь и вкось выведено: «Оставь надежду всякъ сюда входящiй!» И, будто этого мало для отпугивания посетителей, перед входом еще торчал огромный рогатый-хвостатый черт в черном трико со страшными, налитыми кровью глазами. Он, видно, и решал, кого пускать в клуб, а кого нет.
Девица Шахова не устрашилась адского создания, прошелестела мимо него своими размашистыми юбками, не задержавшись, а черт приветственно помахал ей ручищей.
Следом к дверям приблизились еще двое. Молодой человек в сутане до пят и остроконечной шляпе, над которой реял воздушный шарик, вел за руку девицу в платье из рыболовной сети, увешанной не то настоящими, не то марлевыми водорослями. На распущенных волосах русалки белел венок из кувшинок. Ни в одно мало-мальски приличное заведение такую парочку не пустили бы, а черт сказал им (Романов был уже недалеко и услышал):
– Здравствуй, брат. Здравствуй, сестра. Заходите.
Но когда двое совершенно презентабельных господ в хороших визитках и котелках, заинтригованные вывеской, попробовали войти, поперек дверного проема косо лег трезубец.
– Шли бы вы отсюда, – мрачно сказал черт. – Нечего вам тут делать.
– Это почему еще? – захорохорился один из мужчин, но посмотрел снизу вверх на нехорошие глаза привратника и попятился.
– Плюнь, Мишель! – тянул его второй. – Это какой-то шалман. Охота тебе сидеть с хамьем? Тут за углом есть кафешка – прелесть.
Ушли.
Алексей приблизился к суровому стражу не без трепета. Вдруг не пропустит? Что же тогда, вся операция к черту?
Но двухметровый громила, окинув Романова взглядом, дружелюбно прогудел:
– Добро пожаловать, брат.
В зеркальном стекле двери прапорщик наконец увидел свое отражение и вздрогнул.
Под мушкетерской шляпой, прямо посередине лба, очень натурально был нарисован широко раскрытый глаз.
Операция начинается
Прямоугольное помещение с некрашеными стенами. Они задрапированы тканью, но голый кирпич высовывается из-под нее то здесь, то там. Бывший склад превращен в кабаре с минимальной затратой времени и средств: в одном конце соорудили небольшую сцену; поставили столики; всюду, где только возможно, понавесили портьер и кривых зеркал.
Занавеси колышутся и шуршат, зеркала бликуют огоньками и искажают представление о пространстве. Шорох, сумрак, фальшь, тихий смех и громкий шепот.
Прапорщик Романов постоял у входа, укрывшись в тени бархатной шторы цвета венозной крови. Оглядел район предстоящих боевых действий.
Народу в зале было довольно много. Выглядели все – кошмар и ужас. В нарядах преобладала могильная и потусторонняя тематика. Неподалеку в зловещем одиночестве сидел субъект, наряженный палачом: красный обтягивающий костюм, остроконечный колпак с дырками для глаз, кожаные перчатки с раструбами. Еще эффектнее выглядела компания, изображающая собою не то скелетов, не то рентгеновские снимки. У каждого на черной рубахе нарисованы кости грудной клетки, вместо лиц – маска Адамовой головы. Впрочем, у некоторых посетителей рожи были такие, что и без маски смотреть жутко. Бледные, с ввалившимися щеками, кривыми ртами, погасшими взглядами. Должно быть, тоже пациенты клиники Штейна, предположил Алексей, высматривая девицу Шахову.
Вон она где, красавица. Сидит одна за столом, расположенным в самом центре. На скатерти табличка «Заказанъ».
Наверху – очень кстати – люстра в виде огромного паука. Наконец можно изучить шпионку как следует, а то фотографии, предоставленные подполковником, были все старые, гимназической поры: свеженькая мордашка с наивно раскрытыми глазами, никакого намека на будущую скверную судьбу.
С тех пор мадемуазель сильно подурнела. Пухлость сменилась болезненной худобой, свежесть – синеватой бледностью. Тонкий, с горбинкой, нос кажется высеченным из прозрачного льда. Губы фиолетовые (ну и помада!). В костлявых пальцах дымится длинная пахитоска. Подглазья темны. Взгляд влажный, черный, мерцающий – будто из другого мира. Шляпу барышня швырнула на стол. На длинных черных волосах переливается муаровая лента. М-да, характерная особа.
Долго торчать у входа, однако, было нельзя. Алеша увидел, что один из столиков, находящийся в удобной близости от Шаховой, свободен, и направился туда.
На сцене колыхалась долговязая певица с выбеленным лицом, по-гамлетовски держала перед собой лакированный черный череп и ныла под аккомпанемент фортепиано пряную поэзу Игоря Северянина.
Что должен был символизировать сверкающий череп, Алексей не понял. Вероятно, блеск и преходящесть моторных лимузинов и коррэктных кавалэров. Огни рампы радужно множились в большом кривом зеркале, тощая певица преломлялась в нем гигантской восьмеркой.
Всё в этом выморочном месте было не таким, как на самом деле. Не было – мерещилось.
Подошел официант, наряженный вампиром, улыбнулся размалеванным красным ртом – вроде как в брызгах крови. Протянул карту с напитками.
– Не желаешь ли чего-нибудь, брат?
– А что у вас подают?
Романов поглядел вокруг. Здесь никто ничего не ел, только пили.
– Могу предложить «Цианид», «Мышьяк», «Цикуту». Рекомендую новинку – «Крысиный яд». Клиенты хвалят.
– Давай «Цикуту», – выбрал Алексей самое дешевое (рубль семьдесят пять, дороже бокала хорошего шампанского).
Он осторожно поглядывал на шпионку, прикидывая, как бы подобраться еще ближе. Шахова сидела беспокойно. Нервно затягивалась, шарила по сторонам ищущим взглядом. Она явно кого-то или чего-то ждала. Ридикюль висел на спинке стула.
Нравы у «детей Луны» были самые непринужденные. Это прапорщик понял очень скоро.
К столику слева, где скучал манерный молодой человек в шелковом цилиндре, подсела совсем молоденькая девушка (на щеках нарисованы черные слезы) – очевидно, хорошая знакомая.
– Как поживаешь, кровосмеситель?
Романова подобное приветствие ошарашило, но франт весело ответил:
– Привет, беспутная.
Поцеловались, сели плечо к плечу, о чем-то вполголоса заворковали.
У столика справа разыгралась сценка еще удивительней. Там, наоборот, сидела одинокая девица, краше в гроб кладут, и меланхолично потягивала какую-то отраву. Подошел такой же потусторонний юноша, без приглашения сел. Алеша подумал: наверное, приятель. И ошибся.
– Мне нравится твое лицо, – сказал юноша замогильным голосом. – В нем так мало жизни. Как тебя зовут, сестра?
– Экстаза.
– А я Мальдорор.
По бледному лицу живой покойницы скользнула улыбка:
– Чудесное имя.
Тогда кавалер взял прелестницу за руку и смело впился поцелуем в восковое запястье. Протестов не последовало.
В общем и целом здешний кодекс поведения был ясен. Простота этикета, пожалуй, облегчала задачу.
Вампир принес чашу, где в янтарной жидкости плавала черная ромашка. Прапорщик недоверчиво пригубил, из чистого любопытства – и удивился. Вкусно!
– Еще одну «Цикуту» вон на тот стол, – велел Романов, поднимаясь.
Без лишних церемоний он подсел к Алине Шаховой и напористо объявил:
– Здравствуй, сестра. У тебя восхитительно злое лицо. Хочу узнать тебя лучше. Я Армагеддон, – назвался он, вспомнив имя персонажа из какой-то декадентской книжки.
Девица повернула к нему свою действительно злую, но, на Алешин вкус, ничуть не восхитительную физиономию. Выдула струйку дыма, смерила «Армагеддона» неприязненно-презрительным взглядом – будто ледяной водой брызнула.
– Привет, Арик, – сказала лениво. – Ты из Костромы?
Он сбился с развязного тона:
– Почему из Костромы?
– Ну, из Кременчуга. Из Царевококшайска. Откуда-нибудь оттуда… – Она неопределенно помахала пальцами – длинные хищные ногти блеснули сине-перламутровым лаком. – …Из провинции. Желтая блуза, дурацкая звезда на рукаве, глаз во лбу. Фи! – Наморщила нос. – Ну ничего, не переживай. Обтешешься.
И отвернулась. Ухажер не пришелся ей по вкусу. Или же (подсказало прапорщику самолюбие) ей сейчас вообще было не до ухажеров – мадемуазель ждала заказчика, чтобы передать фотопластину.
Но отступать было поздно, да и досадно. Все равно он уже, выражаясь фотографически, засветился. Через два столика Мальдорор гладил свою Экстазу по щеке, и та терлась о его руку, как кошечка. Очевидно, здесь нужно действовать понаглее.
Романов взял Алину за почти бесплотную, птичью лапку. Наклонился.
– Как тебя зовут, беспутная? Так и сорвал бы с тебя одежды…
Она выдернула руку.
– Идиот! Сиди молча или катись. Видишь на столе кнопку? Нажму – прибежит Мефистофель.
– Кто?
– Вышибала. Возьмет за шиворот и выкинет на улицу, как нашкодившего щенка. Рядом со мной сидеть нельзя. Передвинься!
Всё это Шахова проговорила, глядя в сторону – на сцену, с которой наконец ушла тоскливая певица.
Мефистофель – это, наверно, двухметровый черт, что стоит у входа, сообразил Алексей и против воли разозлился. Ну и стерва эта Алина!
– Никто не смеет так разговаривать с Армагеддоном… – угрожающе начал он, но худой палец Шаховой потянулся к кнопке, и Романов поспешно пересел на соседний стул.
Сцена с участием вышибалы ему была совершенно ни к чему.
– Ладно. Пускай между нами зияет пустота, – примирительно сказал прапорщик, довольный, что придумал такую отличную декадентскую фразу.
Но Алина вдруг приподнялась и громко захлопала в ладоши.
Хлопали всюду. Пронзительные женские голоса экзальтированно выкрикивали:
– Селен! Селен! Просим!
Электрический свет померк. Заиграла тягучая, сонная музыка. Через весь зал, рассекая сумрак, прочертился луч, от стены до стены. К концу он расширился и заполнил светом белый прямоугольник – кто-то закрыл кривое зеркало позади сцены киноэкраном.
Танец смерти
Выплеснувшийся из земли фонтан земли, черные комья во все стороны. Человечки с разинутыми ртами, с винтовками наперевес. Тонущий в море миноносец. Длинный ряд деревянных гробов, священник с кадилом. Травянистое поле, сплошь покрытое трупами. Пулеметное гнездо: ствол «максима» сотрясается, пулеметчик бешено разевает рот – что-то кричит. Но не слышно ни криков, ни пальбы, ни разрывов. Лишь журчит меланхоличное фортепьяно да сладко подвывает скрипка.
Кинохроника войны заставила Алексея на несколько мгновений забыть о задании, о клубе-кабаре, о колоритных соседях. Он побывал там, где убивают и умирают, видел всё это собственными глазами. Он лежал на таком поле, из его простреленного тела горячими толчками била кровь.
Передернувшись, Романов поглядел по сторонам. Публика заинтересованно смотрела на сцену, словно ей показывали какой-то забавный, оригинальный аттракцион.
«Эх, господа белобилетники, папенькины сыночки, уругвайские, мать вашу, подданные, – мысленно обратился прапорщик к детям полунощного светила, – взять бы вас всех, да в маршевую роту, да на фронт! А барышень – в госпиталь, за ранеными ухаживать». Но представил себе этакого Мальдорора в обмотках, со скаткой через плечо, Экстазу в переднике с красным крестом и сам фыркнул. Как-нибудь обойдется медведица-Россия, лесная царица, без таких защитничков. У всякого крупного зверя в шкуре водятся блохи и прочие мелкие паразиты. Лишь бы не энцефалитные клещи.
Он перевел взгляд на Шахову. Та по-прежнему аплодировала, слабо и беззвучно сдвигая узкие ладони. Ее губы были растянуты в вяло-выжидательной улыбке.
Оказывается, хроника была всего лишь заставкой к номеру. Из-под рампы начал сочиться голубоватый холодный свет. Экран побледнел, картинки войны не исчезли, но превратились в призрачный фон, в задник.
На сцену под аплодисменты и крики («Селен! Селен!») плавной походкой вышел человек с неестественно длинным брезгливым лицом. Одет он был настоящим денди – черный смокинг с атласными отворотами, белая накрахмаленная рубашка. Только вместо галстука на шее толстая и грубая веревка висельника.
Человек изящно отбросил со лба длинные волосы, властно взмахнул рукой в белой перчатке, и шум в зале смолк.
Фортепьяно заиграло живее, вкрадчивей. К скрипке присоединился фагот. Но музыкантов было не видно. По бокам с обеих сторон стояли белые, разрисованные хризантемами ширмы, прикрывая вход за кулисы.
Будет петь, подумал Романов. Но висельник не запел, а протяжно, подвывая и растягивая звуки, продекламировал:
Из-за ширмы, подбоченясь, выплыла павушкой дева в русском сарафане. Лицо у нее было закрыто белой маской: скалящийся скелет. Девочка Смерть покружилась в танце, потянула себя за длинную-предлинную золотистую косу – и выдернула. Коса была прямая – очевидно, с металлическим стержнем. Танцовщица согнула ее на манер буквы Г и стала размашисто косить воображаемую траву.
Ага, это мелодекламация с пантомимой, понял Алексей. Модный жанр.
С другой стороны сцены появился некто в облегающем костюме из серебристой чешуи. Распластался по полу, заизвивался: то скрутится кольцом, то зазмеится ручейком, то выгнется дугой, то подкатится Смерти под ноги, то метнется прочь. Казалось, что в теле искусного мима нет костей, а если и есть, то резиновые.
Голос чтеца был рассеян и монотонен, сонные движения дисгармонировали с грациозным танцем Смерти и виртуозными извивами человека-змеи, но зрители смотрели только на поэта. Очевидно, он был главной здешней знаменитостью. Алексей Романов в последние месяцы был слишком занят учебой и совсем перестал следить за литературно-художественными событиями столичной жизни, однако теперь припомнил, что имя «Селен» ему где-то уже попадалось – не то в газетах, не то на уличных афишах.
Селен всплеснул рукой – за кулисами потусторонним, мертвым зовом засолировала труба. Человек-змея изогнулся на животе, взял себя руками за носки и укатился прочь. Девочка Смерть тоже выкинула трюк: с ловкостью акробатки прошлась по сцене колесом. Из-под сарафана мелькнули стройные, крепкие ноги.
Номер окончился. Дети Луны хлопали стоя, барышни даже взвизгивали.
– Божественно! Браво, Селен! – тонко крикнула Шахова, рупором приложив руки ко рту.
А на вкус Романова, номер был оригинальный, но не более того. Честно говоря, больше всего Алексею понравились ноги танцовщицы – по крайней мере, нечто живое, земное, посюстороннее. Впрочем, как уже было сказано, прапорщик отстал от новейших веяний в искусстве и вообще огрубел чувствами за год военной жизни.
Небрежно покивав публике, поэт спустился в зал и направился к центральному столу. Подставил Алине щеку для поцелуя, устало опустился на стул. Помахал поклоннице, славшей ему издалека воздушные безешки, кивнул другой, отвернулся от третьей.
Алексей рассматривал любимца дев прищуренными глазами. Раз господин Селен близок с Шаховой, значит, он заслуживает сугубого внимания. Выходит, стол резервирован не для Алины, а для поэта?
– Я в изнеможении, – пожаловался певец смерти, подставляя лоб, чтобы Шахова вытерла пот. – Как я выступал?
– Божественно, – повторила она, но уже без восторга, а словно машинально. – Как всегда.
Странно, но ее взгляд по-прежнему кого-то высматривал, всё шарил по залу. Быть может, она ждала так нетерпеливо вовсе не Селена?
– Ненавижу слово «всегда». От него веет безысходностью. – Поэт оттолкнул ее руку и воззрился на Романова, словно на муху или таракана. – Господи, это еще кто? Ты ведь знаешь, я не выношу чужих!
Барышня поставила перед ним «Цикуту», незадолго перед тем принесенную официантом.
– На, выпей. – Ее рука рассеянно легла длиннолицему на плечо. – Подсел какой-то, из Костромы. Пускай. Он дурачок, но забавный.
Сочтя, что взаимное представление состоялось, Алексей недоверчиво спросил:
– Скажи, брат, ты правда считаешь человечество сорным полем, которое нужно выкосить?
Селен пригубил, поморщился – вынул и бросил на скатерть черную ромашку.
– А что с ним еще делать? Слишком много пошлых, не-чувствующих, не-живущих. Раз все равно не живут, пускай подохнут. Пусть их испепелит молния мировой катастрофы. После грозы легче дышать.
– Да ты не эпатист. Ты Максим Горький. «Пусть сильнее грянет буря», – сказал Романов, кажется, выйдя из роли декадентствующего юнца.
Шахова усмехнулась:
– Браво, Кострома. Что, Селен, съел?
К столу шли еще двое – те самые, что выступали с декламатором. Человек-змея накинул поверх своего блестящего костюма куртку. Танцовщица осталась в сарафане, но сняла маску. Лицо у Девочки Смерти оказалось славное – курносое, улыбчивое.
– Садитесь, садитесь, – поманила артистов Алина, видя, что они вопросительно смотрят на незнакомца. – Это Арик, дурачок из Костромы. То есть был дурачком, но умнеет на глазах.
– Люба, – назвалась милая девушка, первой протянув руку. Она смотрела в глаза, приветливо. Пальцы сжала крепко, не по-девичьи. – А это Аспид. Он у нас молчун.
Прежде чем подать руку, мим провел ею по плоскому, застывшему лицу – и словно сдернул с него кожу. Физиономия расплылась широченной глумливой улыбкой.
– Армагеддон.
Романов хотел пожать шутнику руку, но дернулся и отскочил, опрокинув стул. У Аспида из рукава куртки высунулась маленькая змеиная головка, а за ней и гибкое туловище в красно-черную полоску.
Все засмеялись.
– Не пугайтесь, – сказала Люба, поднимая упавший стул. Пододвинула Алексею, сама села рядом. – Она не укусит. Это у них традиция такая. Не знаю, откуда повелась. Держать в заведении живую змею – на счастье.
– У кого – у них?
Романов опасливо косился на Аспида, который сел слева.
– У декадентов. Я одно время, до войны еще, служила в балаганчике одном, назывался «В Последний Путь». – Люба оперлась подбородком о руку, на собеседника смотрела доброжелательно. – У них там тоже змея была, только злющая.
Танцовщица повернулась к официанту.
– Дракулик, мне, пожалуйста, «Стрихнину» с клубничным сиропом, а Жалейке как обычно.
Сняла с головы кокошник, положила на стол. Голова у Любы была стрижена под мальчика, ёжиком. На румяных щеках две ямочки.
– Что это вас «Люба» зовут? – тихо спросил он. – А не какая-нибудь «Люцифера»?
Она прыснула:
– Ужасы какие! Хорошее имя – Любовь. Вам не нравится?
Арику из Костромы такое имя вряд ли бы понравилось, поэтому прапорщик промолчал. На простодушную Любу смотреть было приятно. Не кобенится, не интересничает, разговаривает с малознакомым человеком на «вы» – в общем, ведет себя как нормальный человек. Оказывается, это очень симпатично. В голову пришла вот какая мысль: «Мы двое здесь инородцы, только я прикидываюсь, а она нет».
Однако смотреть тут надо было не на Любу, и Алексей не без сожаления перевел взгляд на кривляку Алину. Та прижалась к Селену, положила голову ему на плечо и перебирала длинные надушенные волосы поэта, но при этом не переставала скользить беспокойным взором по залу.
Аспид молча курил, его бесцветное лицо вновь утратило всякое выражение и одеревенело. Лишь маленькие светлые глаза быстро перемещались с человека на человека, с предмета на предмет. Рядом с локтем мима стояло блюдечко молока, к которому приникла змея, так до конца и не вылезшая из рукава.
Ридикюль висел на прежнем месте – уж его-то Романов из виду старался не выпускать.
К Селену подошла барышня-утопленница, поцеловала руку, лежавшую на плече Алины. Поэт обернулся, притянул жертву вод к себе и стал жадно целовать в рот. Шахова отнеслась к измене с полным равнодушием.
Как-то всё это было странно.
Алексей шепнул, пригнувшись к Любе, которая единственная тут выглядела человеком, способным ответить попросту, без выкрутасов:
– Что-то я не пойму. Он вообще с кем, Селен? С Алиной или с этой?
– Со многими. Такой интересный мужчина! Всякая была бы рада, – ответила та с простодушным восхищением.
– А вы? – спросил Романов, решив не деликатничать. Уж эпатист так эпатист.
– Я для него, как трава на обочине. И вообще, я не такая, как они. Я за деньги здесь служу.
Он посмотрел на нее с удивлением, и Люба объяснила:
– У меня в здешнем кабаре ангажемент. Я ведь из цирковой семьи. Сызмальства на арене. В каких только номерах не выступала! И пилой меня пилили, и ножи кидали, и сама метать научилась. У нас с папашей отличный номер был: «Вильгельм Телль и сын». Он у меня с головы из пистолета яблоко сшибал. А потом, когда он сильно пить начал, мы переделали в «Дочь Вильгельма Телля». Я сама историю придумала. Будто бы у героя швейцарского родная дочка с головы пулей сбивает яблоко. Я вся такая тоненькая, маленького росточка, меня еще нарочно в корсет затягивали. Публике ужасно нравилось… Выросла – в горящую воду с вышки прыгала. Тоже успех имела, но, думаю, больше из-за костюма. Там коротенькое такое трико, руки-ноги голые. Ушла оттуда. Выступала в музыкальной эксцентрике на пианино. Приличная публика, всё культурно, но платили очень мало. И вот уже два года по декадансу работаю. Дело легкое, неопасное, люди интересные, и жалованье ничего себе.
Слушая рассказ бывшей циркачки, Романов бдительно следил за Алиной. Лишь благодаря этому и не пропустил ключевой момент.
Мадемуазель Шахова вдруг высвободилась из-под руки своего султана и поднялась. Это произошло внезапно, очень быстро – а все же Романов успел заметить: из-за правой кулисы высунулась алая перчатка и сделала манящий жест указательным пальцем.
– Я сейчас…
Покачивая узкими бедрами, Алина прошествовала через зал, взбежала на помост, но не скрылась за ширмой, а осталась стоять в «кармане» сцены, наполовину закрытая собранным занавесом.
Там, очевидно, и находился человек, который ее подозвал. Его, однако, Алексею было не видно.
Вот оно! Началось…
Сцена пуста. Киноэкран поднят, вновь обнажилось кривое зеркало задника. В нем движутся сполохи, разноцветные пятна – размытое отражение размытого мира. Под потолком медленно вращается оклеенный блестками шар, на него направлен луч света. По залу бегают серебристые лунные зайчики. Один озарил руку Алины, высунувшуюся из-за бархатных складок занавеса. Белые пальцы трепещут, как крылышки испуганной бабочки.
Вот оно! Началось… Или нет?
Судя по движениям руки, Шахова с кем-то разговаривает. Но ее ридикюль остался висеть на спинке стула, Алина к нему не прикасалась. А что если…
Алексей толкнул коробок спичек, лежавший на краю стола. Подтолкнул носком ботинка.
– Я подниму, мне ближе, – сказала Люба.
Он удержал ее за плечо – упругое, теплое.
– Ну что вы, я сам.
Коробок был отфутболен точно под опустевший стул Алины. Присев на корточки, Романов незаметно ощупал сумочку. Фотопластина была на месте.
Что же делать? Последовать за Шаховой и выяснить, с кем это она так эмоционально объясняется, или остаться возле наживки? Инструкция ротмистра предписывала второе. Логика тоже. Если бы Алину подозвал немецкий агент, она захватила бы ридикюль с собой. Скорее всего, разговор за портьерой не имеет отношения к шпионажу. И всё же лучше выяснить, кого так нетерпеливо ждала похитительница военных секретов.
Черт подери, как быть? Тет-а-тет девицы с незнакомцем (или незнакомкой?) мог в любую секунду закончиться.
Вдруг взгляд прапорщика упал на фортепьяно, посверкивавшее черным глянцевым боком в глубине сцены.
Вот отличная точка, с которой наверняка будет видно и стол, и кулисы!
– Скучно у вас, дети Луны, – громко сказал Алексей, поднимаясь. – Как ночью в пустыне. Нужно устроить звездопад.
Он уверенно пересек зал, прыжком вскочил на сцену. Откинул крышку рояля, пробежал пальцами по клавиатуре – ничего, сойдет. Надо сыграть что-нибудь поживее, взбаламутить это безжизненное болото. Даже не сыграть, а забацать, урезать.
И прапорщик забацал-урезал «Ананасный рэг» Скотта Джоплина, американский рэгтайм, способный расшевелить даже утопленниц с вампирами.
Руки порхали и трепетали, рассыпая звонкую дробь аккордов, но глаза пианиста за клавишами не следили. Голова Романова быстро двигалась: вправо, влево, вправо, влево – словно бы в такт залихватской музыке, на самом же деле взгляд перемещался с сумочки на спину Шаховой; снова на сумочку, снова на шпионку.
Ридикюль висел как висел. С ним всё было в порядке. Но разглядеть человека, с которым разговаривала Шахова, не удавалось и отсюда, со сцены, – его поглощала густая тень. Что-то там в темноте белело. Один раз высунулась рука в алой перчатке, взяла Алину за подбородок и тряхнула – несильно, но грубо. С «Ариком из Костромы» девица вела себя куда как бойко, а тут и не подумала возмутиться. Качнулась, будто кукла на ниточках, умоляюще дотронулась до алой перчатки.
Это был мужчина, никаких сомнений. Романов отчетливо разглядел белый манжет, на котором сверкнула большая золотая запонка.
Проклятье! Как быть?
Кинуться туда, якобы на защиту дамы? А вдруг это всего лишь любовник? Мало ли что Шахова ластилась к Селену. Непринужденность декадентских нравов известна. А ридикюль останется без надзора.
Алексей снова взглянул в зал – и шепотом выругался.
«Ананасный рэг» расшевелил эпатистов сильнее, чем он предполагал. Задорная негритянская музыка подействовала на засидевшуюся публику, словно волшебная дудочка из сказки: все пустились в пляс, никто не смог усидеть на месте! Сколько бы «дети Луны» ни изображали пресыщенность, как бы ни поклонялись мертвенности и тоске, но ведь все молодые, всем хочется темпа, движения.
Призраки и вурдалаки, томные Пьеро и развратные Коломбины, утопленники и скелеты, русалки и ведьмы – танцевали все. Вертлявый Аспид конвульсивно дергался, словно гальванизированная лягушка. Мальдорор поставил свою Экстазу на стул, и она по-цыгански трясла плечами. Мелькнула красная маска палача, из коридора появился верзила Мефистофель и тоже начал приплясывать.
Всё это было бы мило, если б не одно обстоятельство: разбушевавшийся паноптикум заслонил и центральный столик, и стул, на котором остался ридикюль!
Алеше стало не до Шаховой и ее запутанных отношений с мужчинами.
Он привстал, по-прежнему барабаня по клавишам, выгнул шею.
Нет, не видно!
А перестал играть – из зала закричали:
– Еще, еще! Играй, Трехглазый! Лупи!
Отказать было невозможно – это вызвало бы взрыв негодования. Поди, силком усадили бы обратно. Вот идиот, сам себя загнал в ловушку!
Алексей заиграл с удвоенной скоростью, отчаянно пытаясь разглядеть сумочку между хаотично мечущимися фигурами. Кажется, она всё еще висела на спинке.
Вдруг его лихорадочный взгляд упал на круглое лицо Любы, которая танцевала с официантом-Дракулой, но смотрела на пианиста. Кажется, девушка что-то почувствовала – в ее глазах читался вопрос: что с вами?
Она высвободилась. Приплясывая, поднялась на сцену.
– Вы больше не хотите? – шепнула она.
Встала рядом, тоже ударила по клавишам, и с полминуты они играли в четыре руки. Потом Романов поднялся со стула, благодарно сжал Любе локоть и спрыгнул вниз. Никто из танцующих не обратил на это внимания, ведь музыка не прервалась.
Слава тебе, Господи! Сумочка никуда не делась.
Он с облегчением опустился на стул, где прежде сидела Алина. Оглядевшись (никто на него не смотрел), потрогал ридиюкль.
И вздрогнул.
Пластины за подкладкой не было!
Позабыв об осторожности, Романов стал шарить в сумочке, прощупал каждый дюйм.
Снимок пропал…
Опешив, прапорщик стал озираться по сторонам.
Да что толку? Фотопластину мог взять любой из этой беснующейся нечисти!
Он вскочил на ноги. Со сцены спускалась Шахова. Вид у нее был довольный, даже блаженный. Она с веселым удивлением разглядывала зал, как если бы лишь теперь услышала музыку и заметила, что начались танцы. Махнула кому-то рукой, грациозно закачалась в рваном ритме рэгтайма.
Надо хотя бы не упустить человека в алых перчатках!
Расталкивая эпатистов, Алексей протиснулся к сцене, где Люба уже по второму заходу отбарабанивала электрическую мелодию.
Проскользнул за кулисы.
Увидел складское помещение с высоченным потолком, все заставленное огромными дощатыми ящиками, в которых, вероятно, хранились так и не проданные фирмой «Бекер» музыкальные инструменты. Театрального реквизита тут было немного: пара гипсовых колонн, несколько ширм, пианино с горящими в канделябрах свечами, на стульях – скрипка, труба, фагот.
И ни души.
Таинственный собеседник Шаховой мог удалиться в любом направлении: выйти направо, в коридор, или нырнуть в один из проходов между ящиками, которые образовывали нечто вроде обширного лабиринта…
Катастрофа, сказал себе убитый Романов.
SOS!
Что делать?
Полуосвещенная раздевалка клуба. По летнему времени отделение с вешалками закрыто длинной занавеской. За деревянной перегородкой нет гардеробщика. В углу на столике телефонный аппарат-таксометр. Видны двери туалетных комнат. Запах сигарного дыма.
Два коридора: один ведет к выходу, оттуда тянет сквозняком; по другому коридору можно пройти в зал. Там играет фортепьяно – уже не рэгтайм, а модный танец «ванстеп». Шорох ног, голоса, смех.
Романов бросил в прорезь пятиалтынный, назвал телефонной барышне номер. Соединили почти сразу.
– Лавр, это я. Дело плохо. Я виноват, провалил дело. Погнался за двумя зайцами.
Он говорил короткими фразами, все время оглядываясь, не идет ли кто-нибудь.
– Громче и яснее, – потребовал ротмистр. – Я тебя почти не слышу.
– Не могу громче.
– Что пластина?
– Похищена.
– Кем?
– Не видел… Там сидели трое: поэт Селен, мим Аспид и танцовщица Люба. Не обязательно они, но им сделать это было проще.
– Как они выглядят?
Алексей в нескольких словах описал соседей по столу. Как раз заканчивал про декламатора («неестественно длинное лицо, темные волосы до плеч…»), когда из зала вышел сам Селен.
– Черт знает что! – пожаловался он. – Единственное приличное место в городе, и то превратили в какой-то дансинг! Не вернусь, пока не прекратится этот обезьяний шабаш. Спички есть?
Получив коробок, вышел на улицу.
– …Не устроить ли облаву, пока публика не разбрелась? – спросил Романов, проводив декадента взглядом. – Всех взять, обыскать…
– Нет, не годится. Перепрятать пластину – дело одной минуты.
Да Алексей и сам знал, что идея не ахти – предложил с отчаяния.
– Что же делать, Лавр?
Князь похмыкал в трубку, помычал:
– М-м-м… Ну вот что. Не убивайся, всякое бывает. Я приму меры. Авось, поправим дело. А ты паси свою фифу и больше ни на что не отвлекайся. Доведи ее до дома, сдай горничной и дуй к нам сюда.
– Ясно…
Деревянная перегородка упиралась в стену, на которой висело зеркало. Разговаривая с ротмистром, Алеша несколько раз механически посматривал в ту сторону. И вдруг, удивившись, сообразил, что не отражается в мерцающей поверхности. В привидение он превратился, что ли? Поневоле покосился на пол – да нет, тень вроде отбрасывается. Еще раз поднял глаза на зеркало и только теперь рассмотрел, что оно кривое, как и все остальные в этом кривом королевстве. К тому же волнистая поверхность немного скошена и отражает не перегородку и телефонный столик, а неосвещенное пространство за шторой.
Что-то там, в темноте, шевельнулось. Что-то черное с белым.
Оказывается, у вешалок всё это время находился кто-то из посетителей или служителей! И разумеется, слышал каждое слово! В том числе про облаву… Неудивительно, что затих и затаился. Понял: телефонирует секретный агент.
Этого еще не хватало! Мало того, что опозорился, упустив пластину, так теперь еще и разоблачен? Случайный свидетель непременно разболтает всем, что в кабаре затесался ряженый филер!
Скрипнув зубами, прапорщик хотел перепрыгнуть через барьер, чтобы взять черно-белого за шиворот и под страхом ареста, тюрьмы, мордобоя – чего угодно – заставить его проглотить язык, да вдруг сообразил: зеркало-то кривое. Если сам он видит лишь расплывчатое пятно, так и человек, находящийся по ту сторону, может разглядеть только нечто бесформенно-желтое. Занавеска сплошная, ткань плотная – подглядеть невозможно.
Скорее, пока не поздно, прапорщик шмыгнул по коридору в зал и затерялся среди танцующих.
Козловский неспроста выбрал для помощника именно желтую блузу. Многие из эпатистов отдавали предпочтение цвету лунного диска. Не так-то просто будет неизвестному определить, кто именно из «желтых» разговаривал по телефону.
Алексей сел рядом с Алиной, закинул ногу на ногу.
– Какой-то обезьяний шабаш. – Он кивнул на танцующих. – «Ванстеп» – фи! Не думал, что вашим нравится вульгарная музыка.
– Они не мои. Я сама по себе, – ответила Алина, но не колюче, а вполне миролюбиво. – Помолчим, ладно?
Ночь. Улица. Фонарь
Летняя петроградская ночь. Стемнело ненадолго и как будто понарошку. Над городом мокрый туман. В воздухе клубится серая взвесь мелких капель. То, что близко, кажется далеким, далекое – близким. Блестит черная булыжная мостовая, отражая слабый свет фонарей. Очертания домов смутны, улица похожа на театральную декорацию. Каждый шаг гулок.
– Что ты всё оглядываешься? – Алина поежилась, завернула поплотнее свое оранжевое боа из перьев. В мокнущем, зябком тумане она стала еще больше похожа на птицу – нахохленную, больную. – Смешной какой. В провожатые навязался. Сумочку отобрал. Откуда ты только взялся?
– Сама же сказала. Из Костромы.
Они шли вдвоем по пустому проспекту. Романов действительно оглядывался через каждые несколько шагов. На то имелась причина.
Перед выходом из клуба Шахова зашла в дамскую комнату. Воспользовавшись паузой и тем, что в раздевалке никого не было, Алексей перескочил через перегородку и заглянул за штору – туда, где прятался неизвестный.
Возле вешалок обнаружился уголок для курения: стол, удобные кресла. На углу стеклянной пепельницы лежала едва начатая, невыкуренная сигара. Большой коробок спичек. И две перчатки.
Картину восстановить было нетрудно.
Когда Романов начал телефонировать ротмистру, здесь сидел человек, собирался покурить. Снял перчатки, стал раскуривать сигару. Потом, услышав, какие речи доносятся из-за шторы, сигару притушил и отложил, чтобы не выдавать своего присутствия. Продолжение разговора произвело на черно-белого человека такое впечатление, что он забыл и про курение, и про перчатки.
А перчатки были необычные – ярко-алого цвета…
– Зачем ты туда ходишь? – спросил Романов. – Говоришь, что они не твои. Значит, ты там чужая. А ходишь…
Вернувшись из своего таинственного похода за кулисы, Шахова стала не то чтобы разговорчивей – нет, но как-то мягче. Во всяком случае, спокойней, даже веселее. Вдруг удастся завязать с ней разговор о кабаре и выяснить что-нибудь существенное?
– Я везде чужая. А в клуб хожу, потому что название понравилось. Мы все – дети Луны. Прячемся от солнца, оживаем от лунного света.
– Да Луны-то никакой нет, посмотри на небо! Туман один.
– Есть. Это тебе ее не видно… А я ее вижу всегда. Даже днем.
Дискутировать про Луну в намерения прапорщика не входило. Он попробовал зайти с другой стороны. Выражаясь по-военному, открыть стрельбу с прямой наводки.
– У тебя там много друзей, да? Селен этот, танцоры. И потом, я видел, ты за кулисы к кому-то ходила… Ты что, знакома со всеми артистами?
Алина словно не расслышала вопроса.
– Воздух, как стеклянный, – сказала она. – Весь переливается… Возвращайся в клуб. Я привыкла одна. Ничего со мной не случится. Я невидимка. Меня, может, и вовсе нет.
– Тебе одной ходить опасно, тем более ночью. Ты, как райская птица, все на тебя пялятся.
Она рассмеялась.
– Так-таки райская?
– Нет, правда. Сейчас развелось столько хулиганов, налетчиков. Война, озверели все. Ограбить могут, и не только…
– Зарезать, что ли? – спросила она с любопытством. – Пускай режут, не боюсь.
– Могут сделать с одинокой женщиной что-нибудь и похуже.
Эти слова вызвали у Алины приступ веселья.
– «Похуже»? – повторила она сквозь хохот. – Это у вас в Костроме так говорят?
Откуда-то сзади, издалека, донесся заливистый свист.
– А вот и Соловей-разбойник. – Барышня взяла Романова под руку. – Ладно, Илья-Муромец, веди меня через заколдованный лес. Извозчиков не видно, придется пешком. Я неблизко живу, на Тучковой набережной.
Где она живет, Алексею было очень хорошо известно.
По дороге он еще несколько раз пытался завести разговор о кабаре, но Алина опять отвечала невпопад. Может быть, и не слышала его вопросов, а просто откликалась на звук голоса. Глаза ее были полузакрыты, по лицу бродила мечтательная улыбка. Девушка держалась за Алексея, словно слепец за посох. Если бы ее повели не к дому, а совсем в другом направлении, она, верно, и не заметила бы.
Ну и мерзавец же германский резидент, что использует эту бледную немочь, думал прапорщик. Травит ее наркотиками, да еще, поди, запугивает. Что за гнусное ремесло шпионаж! На Шахову, государственную преступницу и похитительницу военных секретов, он уже не держал зла. Что с такой возьмешь? То ли живет, то ли видит сон – сама толком не знает.
Перед большим каменным домом с барельефами Алина вдруг очнулась. Удивленно поглядела на фонари набережной, на черно-серую полосу Малой Невы.
– Мы пришли? Я и не заметила… Я что, объяснила тебе, где я живу?
– Да.
Ничего она ему не объясняла. Но Алексей знал, что эта сомнамбула ничего не помнит.
– Холодно…
Она сняла перчатки и подула на пальцы.
– Разве?
Ночь вовсе не была холодной, скорее душной.
– Мне всегда холодно… Спасибо, что проводил, – сказала она учтиво, как, должно быть, разговаривала когда-то с приличными юношами, провожавшими ее до дома с какого-нибудь журфикса.
Казалось, она опять забылась. Так или иначе, входить в подъезд не спешила. Смотрела она куда-то в сторону. О чем думала и думала ли о чем-то вообще – бог весть.
– Красивый дом.
– Красивый. Мы раньше были богаты. Дача на заливе, поместье. А потом разорились. Одна квартира осталась. – Она показала на окно второго этажа. – Вон моя комната, одинокая гробница.
В устах любой другой девушки эти слова прозвучали бы манерно и глупо. Но Шахова произнесла их безо всякой аффектации, и стало жутко.
Романов представил себе эту жизнь, похожую на антисуществование вампира. Днем – сон за плотно задвинутыми шторами, чтобы, не дай бог, не проникли лучи солнца. Пробуждение в темноте, мучительный голод, тянущий в ночь, в лунный свет. Короткое, жадное, преступное насыщение, недолгое блаженство – и снова назад, в свой склеп…
Но прапорщик сделал вид, что не понял.
– Так ты живешь одна?
– Нет, с отцом. И еще какая-то женщина, в белом переднике. А может быть, она мне мерещится. У нее то одно лицо, то другое. Не знаю. Я там только сплю…
– С отцом – это хорошо, – продолжал изображать наивность Алеша. Он был рад, что Алина разговорилась, и боялся, не спрячется ли она снова в свой кокон. – Я вот сирота. А кто у тебя отец?
– Или нет отца? – спросила девушка, с сомнением глядя на окна. – Раньше-то был, давно. А теперь… Что-то такое сверкнет серебряным плечом, дохнет табаком, иногда царапнет колючим по щеке… Нет, наверное, есть. Впрочем, не знаю…
Для нее всё химера, всё ненастоящее, понял Романов. Фотографирует какие-то чертежи, проявляет чудеса скрытности и ловкости, но делает это, словно бы во сне. Известно, на какое хитроумие способны наркоманы, когда им нужно получить очередную дозу дурмана.
– Но Селен-то тебе не мерещится, – усмехнулся Алексей. – Вон как вы с ним миловались. Страсть галлюцинацией не бывает.
Она непонимающе уставилась на него, да вдруг прыснула – совсем не по-декадентски, а попросту, по-девичьи.
– Ты о роковом разбивателе сердец? О кумире дурочек? Брось, он не мужчина. Он сгусток тумана.
– То есть?
– Это из его стихотворения: «Я грежусь каждой Грезе, сгущаюсь из тумана. Я крик твоей болезни, угар самообмана». Селен очень удобный. Если считается, что ты – его, то другие ухажеры не лезут. Не осмеливаются. Разве кто-то может соперничать с таким павлином? Это не я одна хитрая, многие пользуются. Там ведь, в клубе, много совсем юных девочек, которым только хочется казаться инфернальными, а сами, может, не целовались ни разу. Слыть любовницей великого Селена почетно. И его устраивает. Ему ведь только и нужно, что впечатлять и казаться.
Получалось, что она очень неглупа, Алина Шахова. Вначале она представлялась Алексею отвратительной фигляркой, какой-то карикатурой, и вот на тебе.
– Другим девушкам хочется казаться инфернальными. А тебе? – спросил он уже не для дела, а потому что действительно захотелось понять.
– А мне не хочется. Я на самом деле инфернальная. Потому что у меня здесь inferno, – показала она себе на грудь. И опять без позерства, просто констатировала непреложный факт.
Романов подумал: обреченная – вот самое правильное слово. Совсем одна, ни на что не надеющаяся, падающая в бездну.
Он смотрел на тонкое личико больной барышни, на ее вызывающий наряд и чувствовал острую жалость. Вспомнил старую фотографию Алины: комнатный цветок, доверчивая девочка, не ожидающая от жизни никакого коварства. Но несколько ударов судьбы, пришедшихся на самый ломкий, незащищенный возраст – и цветок сломан. Врач говорит: неизлечима. Взгляд говорит: обречена.
Неужели нет никакой надежды?
– Я пойду… – Она поежилась. – Холодно.
– Постойте! Ваш ридикюль!
Обращение на «вы» у него выскочило само собой – вероятно, оттого что внутренне он перестал быть Армагеддоном и снова превратился в Алексея Романова, который ни за что не позволил бы себе фамильярничать с едва знакомой барышней.
Их пальцы соприкоснулись. Ее рука была ледяной, и Алеша, не удержавшись, сжал ее своей горячей – чтобы хоть немного согреть, ни для чего иного.
Алина ответила слабым пожатием – будто больная синичка вцепилась лапкой. И высвободиться не пыталась. Свободной рукой она сняла свою нелепую шляпу, тряхнула головой, рассыпав по плечам волосы. В них сверкнули мелкие капельки ночной росы, в неестественном свете фонаря лицо барышни казалось белым, несоразмерно большие черные глаза сияли, и вся она вдруг предстала перед прапорщиком не жалкой синицей, а прекрасной и экзотической Жар-Птицей, по случайности залетевшей из сказки в мир людей, и держался Алеша ни за какую не за лапку, а за пылающее перо…
До чего заразителен морок! Какие фокусы выделывает с воображением туманная петроградская ночь!
– Благодарю вас, – церемонно произнесла Алина. И лукаво улыбнулась. – Удивительно. Вот уж не думала, что переход с «ты» на «вы» так сближает.
– Честно говоря, я не привык на «ты». Фальшиво как-то звучит, когда толком не знаешь человека… Меня вообще-то не Армагеддон зовут. Алексей.
Она опять улыбнулась, ласково.
– Значит, Алеша. Вы такой ясный, светлый. Даже глазам больно. Знаете, я давно никому не верю. А вам бы поверила. – И приподнялась на цыпочки, коснулась холодными губами его щеки. Отступила. – До свидания, Алеша.
Качнулся край пелерины, зашуршало платье. Гибко развернувшись, девушка взбежала по ступеням и скрылась в подъезде.
Романов коснулся своей горящей щеки. Горела она не от поцелуя – от стыда.
«Ясный, светлый». Черт!
Ощущал он себя просто отвратительно, как если бы совершил ужасную подлость. А между тем он всего лишь выполнял свой долг.
Нужно было встряхнуться, взять себя в руки.
Эта девица – пускай несчастная, пускай не отвечающая за свои поступки – наносит огромный вред отчизне, сказал себе прапорщик. Да, она нездорова, но относится к разряду тех больных, кто смертельно опасен для окружающих. Если Шахова только что держалась просто и мило, это вовсе не означает, что она такова на самом деле. Внезапная разговорчивость и размягченность – не более чем признаки эйфорического состояния после дозы наркотика. Можно не сомневаться, что от человека в алых перчатках она получила морфий – в обмен на фотопластину. Тогда же и сделала инъекцию. Или, возможно, чуть позднее, когда заходила в дамскую комнату. Вот и весь секрет ее шарма.
Отличная штука рациональность. Сразу всё встало на свои места. Во всяком случае, в голове.
В сердце все равно засела маленькая колючая льдинка. И не таяла.
Получасом ранее
Ночной проспект. Поздно, далеко за полночь. Огни в домах давно погасли, лишь помигивают в тумане фонари – не электрические, как в центре, а допотопные, газовые, да ярко сияет лампионами вывеска эпатистского клуба. Кабаре вот-вот закроется. Музыки изнутри уже не слышно, но голоса еще доносятся, публика разошлась далеко не вся.
Из дверей вышли трое: поэт-декламатор и его ассистенты. Селен вдохнул сырой воздух и брезгливо скривился. Перебросил через плечо длинное кашне, раскурил сигару. Пока он проделывал всё это с монументальной неспешностью, как и подобает кумиру, Аспид звонко отбил по тротуару чечетку. Ожидание давалось человеку-змее с трудом, гибкое тело требовало движения. Мим снял свой чешуйчатый костюм и, невысокий, жилистый, в куртке с поднятым воротником и нахлобученной на глаза кепке, был похож на уличного подростка. Люба тоже переоделась – в скромное коричневое платье; голова по спартанской моде военного времени была покрыта платком с узлом на затылке.
Рядом с преувеличенно элегантным Селеном (сверкающий цилиндр, трость, белый шарф до колен) танцовщики смотрелись челядью, сопровождающей большого барина.
Так оно, в сущности, и было. Перед рассветом в конце Большого проспекта найти экипаж непросто, и Селен требовал, чтобы помощники находились при нем до тех пор, пока не остановят извозчика или, если очень повезет, быстрый таксомотор.
За это поэт позволял спутникам развлекать себя разговором. Мим, правда, больше помалкивал, зато Люба стрекотала почти без остановки. Селен любил, когда рассказывали, какое впечатление произвело на публику его выступление. С интересом выслушивал и клубные сплетни.
– Нет, нет и нет, – сказал он, дав Любе поговорить с минуту. – Клуб портится на глазах. Я посылаю в зал грозовые разряды, но не чувствую рэзонанса. Молнии уходят в землю, как через громоотвод! К нам стало ходить слишком много всякого планктона. Чего стоят сегодняшние мещанские пляски? Я велю Мефистофелю больше не пускать этого пошлого тапера из Костромы!
– Он только в начале поиграл немного, а потом всё я, – заступилась за новенького честная Люба. – Смотрю, всем нравится… Я когда по музыкальной эксцентрике служила, много всяких мелодий разучила. Но если вам не нравится, я больше не буду. И Арику скажу.
– Желтоблузник пошел провожать Алину, или мне это показалось? – высокомерно спросил поэт. – Что ты вообще знаешь об этом субъекте? Наверняка ведь что-нибудь разузнала.
Хотела ему Люба ответить, но тут из ближнего переулка раздался лихой разбойничий свист. Из-за угла высунулась голова в низко сдвинутой шапке. Спряталась обратно.
Мим быстро огляделся, будто зверь, уловивший запах опасности. Вокруг не было ни души. Нимб газа трепетал вокруг столба.
– Ну что ты встал? – капризно сказал Селен. – У меня отсырели воротнички! Найдут мне, наконец, экипаж или нет?…Неприятный тип этот Армагеддон. Глазами так и стреляет. Чем он мог заинтересовать Алину? Я всегда полагал, что у нее есть вкус.
– У него улыбка хорошая. А еще я заметила…
Что именно заметила Люба в новичке, так и осталось неизвестным.
Из зыбкого воздуха, из мутной темноты выкатилась приземистая, неестественно широкая, почти квадратная, фигура. Свет от фонаря упал на жуткую харю, сверкнувшую железным зубом в ощеренной пасти.
– Честная публика, сердешно извиняемся, гоп-стоп. Котлы, лопатнички пожалуйте. И одёжку скидавайте. Ночка теплая, летняя. Не змерзнете…
Квадратный был в картузе, русской рубахе под засаленным пиджаком, над голенищами сапог пузырились вислые штаны.
Он сделал рукой широкий, издевательский жест, как бы приглашая дорогих гостей. Повернул кисть, из нее с пружинным лязгом выскочило страшное заостренное лезвие.
Сзади раздался шорох.
Откуда ни возьмись явились еще два молодца: усатый да небритый. Эти не улыбались, но свое бандитское дело знали. Первый со спины обхватил Селена за горло. Второй точно таким же манером взял в зажим Аспида.
– Тихо, дамочка. Закричишь – нос отчикаю, – предупредил железнозубый Любу. – В сумочке у тебя чего? Дай сюда.
Но сумки танцовщица не отдала и ужасной угрозы не испугалась.
Отпрыгнула с тротуара на мостовую – хоть и с места, без разбега, но на добрую сажень. Повернулась и с удивительной скоростью побежала назад, в сторону клуба, громко крича:
– Караул! На помощь!
Грабителей было не трое, а больше. Поодаль в темноте прятались по меньшей мере еще двое. Они растопырили руки, пытаясь схватить беглянку, но Люба увернулась и от одного, и от другого.
Бежала она не так, как обыкновенно бегают женщины – неловко вихляя бедрами и отбрасывая ноги. Бывшая циркачка задрала подол выше колен и отстукивала по булыжнику каблуками со сноровкой спортсмена, рвущегося к финишу.
– Помогите! Сюда-а-а!
Не по зубам разбойникам оказался и человек-змея. Он изогнулся, обхватил усатого налетчика за голову и с резким выдохом швырнул через себя. Тот смачно приложился о камни и в дальнейших событиях не участвовал.
А события разворачивались стремительно.
Аспид ударил квадратного человека носком ботинка по руке, выбив нож.
– Держи его! – крикнул железнозубый.
Из черного зева подворотни выскочили еще двое в кепках, молча кинулись на мима. Бежать ему теперь было вроде бы некуда: трое спереди, трое сзади. Но Аспид убегать не стал. Он вскочил на водосток. Быстро перебирая руками, начал карабкаться вверх по стене двухэтажного дома. Моментально оказался наверху, перевалился через край крыши и исчез.
– Вот зараза! – плюнул квадратный, подбирая нож. – Сёма и ты, Штурм, через чердак на крышу!
Остальные бандиты молча, сноровисто рвали с оцепеневшего Селена одежду.
Не прошло и пяти минут, как по проспекту со стороны клуба прибыла спасательная экспедиция.
Впереди, показывая путь, бежала Люба. За ней семимильными шагами громыхал огромный Мефистофель, на его правом кулачище сверкал шипами стальной кастет. Далее с воинственными криками поспешала целая толпа мертвецов, привидений, исчадий ада. Всякий нормальный налетчик, узрев этакую страсть, закрестился бы и навсегда отрекся от своего грешного ремесла.
Но бандитов на месте преступления уже не было, они растаяли в том же ночном тумане, что их породил.
Под фонарем, стуча зубами не столько от холода, сколько от нервов, стоял раздетый донага Селен. Из туалета на нем осталась лишь висельная веревка вокруг шеи.
– По. Мо. Ги. Те, – раздельно, в четыре слова сказал поэт и заплакал.
В подворотне
Темная подворотня. В ней совсем ничего нельзя было бы разглядеть, если б из двора не просачивался слабый электрический свет – там над подъездом горит лампочка.
Запах кошек. И еще дорогого табака. Это бедно одетый человек, нетерпеливо прохаживающийся взад-вперед, курит папиросы «Люкс». Достал из кармана часы с фосфоресцирующими стрелками. Вздохнул.
На улице послышался звук торопливых шагов, в подворотню вошла целая группа людей очень подозрительной наружности. Мирный обыватель, столкнувшись с такой компанией в темной подворотне, напугался бы, но курильщик, наоборот, обрадовался.
– Ну что, братья-разбойники? Докладывай, Саранцев. Можешь закурить и докладывай.
– Благодарствуйте, ваше благородие. – Невысокий, плотный Саранцев зажег папиросу. Блеснул железный зуб. – Похвастать нечем. Виноват. Вели от выхода троих, согласно описанию. Я обрадовался: все вместе, удобно потрошить. Только рано радовался. Актерка удрала, это б еще полбеды. Плохо, что вертлявый по стене, как таракан, ушел, не догнали. Здорово дерется, сволочь. Взяли только патлатого. С него сняли всё, даже подштанники. – Старший филер обернулся. – Давай барахло!
Разложили добычу прямо на камнях, стали осматривать и ощупывать, светя в три фонарика. Ротмистр Козловский заглядывал сверху.
– Нет пластины?! – Он коротко, звучно выругался – подворотня подхватила бранное слово и обрадованно перекатила его под сводом. – Значит, мим. Актерка вряд ли – Романов ее не подозревает. То-то этот Аспид от вас удрал! Давайте, ребята, время дорого. Добудьте настоящее имя, адрес и прочее. Живее, живее, мать вашу!
Из подворотни бегом высыпались люди. На улице, где только что было пусто, откуда-то взялись сразу два автомобиля. Они стояли с потушенными фарами, но при этом урчали моторами.
Одна машина с ревом погнала в сторону Невы, другая, развернувшись, поехала к Большому проспекту.
На окраине
Дальний конец Васильевского острова, близ Галерной гавани. Затрапезная улица, на которой нет даже газовых фонарей. Но уже светает, в сизой мокрой дымке блестят железные крыши двух-трехэтажных домов с обшарпанными стенами. Окна с задвинутыми занавесками похожи на закрытые глаза. Всё здесь спит глухим предрассветным сном и просыпаться не хочет.
Прыгая по ухабам разъезженной мостовой, к дому номер 8 подкатило черное авто. Оно еще не остановилось, а с подножки уже соскочил молодой человек в нелепой желтой блузе и шляпе с пером. Дверь подъезда сама распахнулась ему навстречу.
– Наконец-то, – сердито проворчал Козловский. – Утро скоро… А ты, Мельников, езжай, не торчи тут. Встань вон за углом.
Это было сказано шоферу, высунувшемуся из окошка. Тот козырнул, отъехал.
Проводив Алину Шахову до дома и дождавшись, пока горничная из окна подаст условленный знак «объект прибыл», прапорщик, как было велено, вернулся на съемную квартиру, выполнявшую роль наблюдательного пункта и штаба. Там его ждала телефонограмма.
«Прапорщику Романову. Немедленно прибыть в Галерную гавань. Адрес у шофера. Ни в коем случае не переодеваться. Ротмистр Козловский».
Алексей не потратил попусту ни одной минуты и никакого «наконец-то» не заслужил, но по князю было видно: человек на взводе, обижаться на такого нельзя.
Возбуждение немедленно передалось и Романову.
– Что тут? – жадно спросил он. – Мельников мне ничего не объяснил.
– А он, кроме адреса, ничего и не знает. Мне из отдела только что последние сведения доставили. Объясняю диспозицию и ставлю боевую задачу. Слушай.
Князь коротко рассказал о провале затеи с ограблением. Замысел был простой: инсценировать бандитское нападение, чтобы найти похищенную фотопластину. Если ее не обнаружится, значит, эту троицу из числа подозреваемых можно исключить. Поведение мима во время гоп-стопа наводит на мысль, что человек по прозвищу «Аспид» – агент высокого класса, с отменной реакцией и профессиональной подготовкой.
– Ребята сработали быстро, – торопливо досказывал ротмистр. – Установили и место жительства, и настоящее имя. Сергей Вольф, из балтийских немцев. Перед войной служил в цирке дрессировщиком. Мутный тип. Нигде подолгу не задерживается. Когда мы сюда прибыли, полчаса назад, свет в его окнах еще горел. Минут десять как потух… Без тебя вламываться не рискнули. Надо, чтоб он сам дверь открыл. А то улизнет через окно или еще как-нибудь. От этих ловкачей всего можно ждать. Видали, знаем. Я, правда, повсюду людей расставил, но лучше все-таки его культурно взять, без акробатики.
– Что это ты?
Прапорщик показал вниз. Во время рассказа князь как-то странно переступал с ноги на ногу. Алексей думал, от нетерпения или, может, хромая нога болит. Но взглянул – удивился. Козловский был в одних чулках.
– Мы все разулись. Чтоб каблуками по ступеням не греметь. Тихо ведь. Каждый звук слышно. Вольф этот вряд ли спит, после такой ночи. Нервы комком, ушки на макушке. Пускай слышит, что поднимается один человек. Всё, Лёша. Давай, мы за тобой.
Они двинулись гуськом в третий этаж. Алексей нарочно топал погромче, сзади шуршали остальные. В правой руке у Козловского был зажат револьвер, в левой штиблеты.
Саранцев встал слева от двери, еще один филер (фамилия у него была боевая – Штурм) встал справа. Князь остался за спиной у прапорщика.
– Стучи!
В ответ на резкий, отрывистый звук в квартире что-то звякнуло – будто там от неожиданности уронили металлический предмет.
– Аспид, открой! Это я!
– Кто «я»? – не меньше чем через полминуты отозвался напряженный голос.
– Я, Армагеддон.
– Кто-кто?
– Ну Арик, из Костромы. За столом вместе сидели. Меня Люба прислала. У нас ужас что такое! Селена бандиты зарезали, насмерть!
Брякнула щеколда, дверь рывком открылась.
– Насмерть?!
Аспид был в черной китайской пижаме, на волосах сеточка. Вытаращенные глаза переместились с Алешиного лица на дуло, целившее человеку-змее в живот.
– Пуля летит быстрей, чем ты бегаешь, – предупредил Романов и посторонился, чтобы пропустить филеров.
Саранцев ухватистой пятерней взял мима за горло, цыкнул железным зубом. Аспид попятился в узкий коридор. Оба были примерно одного роста, но агент раза в два шире.
– Ты тут один, морковкин хвост? – спросил старший филер. – Федя, подержи его. Посмотрю, нет ли еще кого.
Козловский кряхтел, надевая штиблеты. С крючка свисала куртка, в которой Аспид был в клубе. На всякий случай Романов ощупал карманы и подкладку.
За его спиной Штурм надевал на задержанного наручники.
– Вперед и вместе, – сказал он, очевидно, имея в виду руки. – А-а-а-а!!!
Вопль был судорожный, полный ужаса. Обернувшись, Алексей увидел, что мим держит перед собой сведенные запястья, перед самым носом у филера, а из рукава пижамы высовывается черно-красная змея. Бедный Штурм (надо было его предупредить!) шарахнулся назад, стукнувшись спиной о стену. Воспользовавшись этим, Аспид ударил служивого кулаком в лоб, перепрыгнул через сидящего на корточках ротмистра – и оказался на лестнице.
– Какого?! – взревел князь. Его усатая физиономия перекосилась.
– Виноват, сызмальства змей боюсь! – задушенно выдохнул филер.
А прапорщика в коридоре уже не было – бросился в погоню.
– Лёша, не упусти! – орал вслед ротмистр, скача в одном ботинке и от этого хромая вдвое против обычного. – Поймай его, поймай!
Легкий, как кузнечик, Аспид взлетел вверх по лестнице, толкнул дверь чердака и, пригнувшись, скрылся в пыльной тьме, пахнущей мышами и голубиным пометом.
Поди такого поймай
Небо свинцового цвета. Кирпичные трубы, матовая жесть выстроившихся вдоль улицы крыш – не сплошная, а разделенная черными расщелинами. Волглый ветер с залива.
Пароходный гудок. Треск вышибленного с мясом чердачного оконца. Оглушительный грохот металлических листов под ногами.
Это Аспид верно рассудил – что вниз по лестнице бежать не стоит. И около подъезда, и вокруг дома Козловский поставил людей, мимо них даже человеку-змее было бы не проскользнуть.
– Стой! Ногу прострелю! – крикнул Романов, вылезая за циркачом на крышу.
На самом деле палить он не рискнул бы. Инструктор по дисциплине «Силовой захват» поручик фон Редерер учил курсантов: «Никогда не стреляйте бегущему по ногам, если нет полной уверенности, что попадете ниже колена. Иначе имеете шанс арестовать покойника. Пуля разорвет бедренную артерию – и готово».
Уверенности у Алексея не было. Проклятый Аспид несся огромными прыжками, высоко подскакивая. Целиться – лишь время терять. Промажешь – плохо. Попадешь не туда, куда нужно, – вообще беда.
А главное, некуда ему особенно деться. Крыша кончается, а до следующей сажени две, если не три.
Но беглеца это не испугало. Не снижая скорости – наоборот, разогнавшись еще пуще, он оттолкнулся ногой и перемахнул на соседнюю крышу. Приземлился шумно, но ловко, на корточки. Выпрямился, загрохотал дальше.
– Уходит! Через соседний дом уходит! – что было мочи завопил Романов.
Из оконца к нему лезли Саранцев и Козловский. Проштрафившийся Штурм, очевидно, был оставлен в квартире.
– Прыгать надо. – Ротмистр прикинул на взгляд расстояние и топнул с досады. – Проклятая нога! Саранцев, давай ты!
Старший филер почесал затылок:
– Ваше благородие, у меня ноги короткие. Детей четверо…
У прапорщика Романова ноги были длинные, детьми обзавестись он не успел, но и ему прыгать через черную расщелину ужасно не хотелось. Был бы высокий этаж, куда ни шло. Расшибешься в лепешку, и со святыми упокой. А с третьего упасть, поди, еще намучаешься перед смертью. Или останешься навечно калекой.
– Крикните вниз, пусть не упустят, если что, – сказал Алексей.
И, согласно науке о психологическом трейнинге (английское слово, означает «предуготовление»), настроил нервно-импульсную систему на подходящий ситуации лад: вообразил себя легкокрылой птицей или взлетающим аэропланом.
Разбежался, скакнул, мысленно толкая тело вперед, вперед, вперед.
И сработало!
Правда, бухнулся на жесть коленями и грудью, больно, но это были пустяки.
– Молодец, Лешка, герой! – донеслось сзади. – За ним!
А куда «за ним»? Аспида впереди видно не было.
Больше всего Романов боялся, что гнусный трюкач так и пойдет сигать с дома на дом. Но на дальнем краю крыши гибкого силуэта видно не было. Значит, шмыгнул вон в то окошко, хочет спуститься через чердак.
Повеселев, прапорщик бросился вдогонку. По земле бегать – это вам не по небу летать.
Лестница, на которую Романов попал с крыши, была еще грязней, чем в соседнем доме. Видно, здесь проживала совсем незамысловатая публика. Пахло бедностью: вечными щами, стиркой, плесенью. На ступеньках валялись окурки и картофельные очистки. Освещение отсутствовало вовсе, и если б не чахлые потуги пробивавшегося рассвета, бежать было бы невозможно. И так-то приходилось держаться за перила, чтоб не поскользнуться на какой-нибудь дряни.
А вот человек-змея, кажется, видел в темноте не хуже филина. Он несся, прыгая через три ступеньки. Прапорщик еще не одолел первый пролет, а мим уже достиг двери.
Он выскочил из подъезда с треском и пружинным визгом, как чертик из шкатулки – маленький, стремительный, почти невидимый в своей черной пижаме.
Но один из саранцевских ребят подоспел вовремя. Свое дело агент знал на ять: не торчал на тротуаре, а спрятался за афишной тумбой. Раньше времени себя не обнаружил, не стал орать попусту «Стой!» (ясно было, что неугомонный циркач все равно не остановится) – просто, когда Аспид пробегал мимо, подставил ему ножку.
И живчик грохнулся наземь с хорошего разбега, растянулся во весь свой небольшой рост. А филер упал ему на спину, прижал к булыжникам и торжествующе прорычал в самое ухо:
– Побегал, будя!
Вопреки всем законам анатомии и физиологии Аспид развернул голову чуть не на 180 градусов, будто держалась она не на позвонках, а на шарнирах, и с хрустом вцепился агенту зубами в нос. От неожиданности и боли филер ослабил хватку и в следующее мгновение был сброшен.
Перекатившись по мостовой, человек-змея оказался на корточках. Изготовился взять новый разбег, но тут налетел запыхавшийся Романов и приложил упрямца рукояткой револьвера по затылку. Удар получился знатный: точный, экономичный, не слишком сильный. Инструктор фон Редерер остался бы доволен.
Когда, полминуты спустя, подбежали остальные, Аспид уже начинал приходить в себя, помаргивал ресницами. Он лежал на животе. Правым коленом Романов жал арестованному на спину, левой рукой выкручивал запястье, дуло вдавил в висок – рисунок из методического пособия, да и только. Рядом шмыгал прокушенным носом грустный филер. Переживал, что упустил хорошую возможность отличиться.
Последним прихромал Козловский. Он был полностью обут, помахивал стеком. Шел солидно, не спеша, как и подобает начальнику. Официально поздравил:
– Молодцом, прапорщик. Задание исполнили отлично. Мотайте на ус, пентюхи. Вот что значит наука.
Остановился над поверженным врагом.
– Где, говорите, у него рептилия спрятана?
– В правом рукаве, ваше благородие, – ответил сконфуженный агент Штурм.
Князь ударил лежащего тросточкой по руке. Из пижамы, обиженно шипя, выструилась черно-красная ленточка.
С размаху Козловский ударил, не попал. Замахнулся снова.
– Не убивайте! Что она вам сделала? – попросил Аспид. – Она не ядовитая. Ужик это, девочка. Я ее кисточкой раскрашиваю.
Неожиданная находка
Голая, неуютная комната, в которой всё перевернуто вверх дном. Единственное украшение, цирковые афиши, и те сняты со стен. Аляповатые тигры, щерящие пасть, кони на задних копытах, танцующий медведь в юбке и платочке валяются на полу. В комнате заканчивается обыск. За окном уже наступило белесое пасмурное утро.
Проворного арестанта на всякий случай приковали к кровати. Он сидел беспокойно, всё ерзал на месте. Помилованная Жалейка мирно спала у хозяина за пазухой, высунув свою размалеванную головку.
Осмотрено было уже всё, кроме книг, которые занимали несколько вместительных полок. Преобладали два вида чтения: книги про животных и дешевые приключенческие библиотеки – про Шерлока Холмса, Ната Пинкертона, Ника Картера.
Саранцев педантично, том за томом, перелистывал Брэма. Алексей проглядывал детективы в цветастых обложках. Двое рядовых филеров стояли над Аспидом, не сводя с него глаз. Один Козловский сидел на стуле нога на ногу и курил папиросу за папиросой.
Он попробовал побудить арестованного к чистосердечному признанию и сотрудничеству, не преуспел и теперь ждал результатов обыска.
Время от времени говорил миму: «Найдем пластину сами – пеняйте на себя», тот в очередной раз отвечал, что не понимает, о какой пластине речь, и на том разговор прерывался.
– Ваше благородие, кажись, что-то есть!
Саранцев держал в руках предпоследний том «Жизни животных». Раскрыл, показал: вся середка аккуратно вырезана, в выемке – прямоугольный сверток.
Циркач уныло вздохнул, повесил голову.
– Я вас предупреждал, Вольф. Теперь отвертеться от виселицы будет трудненько. Придется очень-очень поусердствовать.
Князь отшвырнул папиросу (неряшливей в комнате от этого не стало), поднялся.
– Доставай! Что там у него? Для одной фотопластины что-то многовато.
Старший филер развернул бумагу. В ней оказался плотно утрамбованный белый порошок.
– Никак кокаин. Порядочно, с полфунта.
– Ну и что ты мне его суешь? – разозлился Козловский. – Нюхать прикажешь? Пластину ищите!
– Так нет ее… Порошок один.
Непроверенным оставался всего один том. Саранцев потряс его – ничего.
Взъярившись, князь схватил арестованного за ворот.
– Где фотопластина? Скажешь ты, или душу вытрясти?!
– Что вы ко мне привязались?! – закричал Аспид. – Нашли коку – радуйтесь! Валяйте, конфискуйте! Отбирайте у бедного человека последнее! Пластину какую-то придумали! Ворвались, избили, перевернули всё! Подумаешь, преступление – кокаин! Еще виселицей грозит, нашел идиота! Стоило из-за ерунды целое войско полиции насылать!
Что-то здесь было не так. Тронув за локоть матерящегося начальника, Романов сказал:
– Мы не полиция. Мы военная контрразведка. Господин Вольф, вы подозреваетесь в шпионаже.
У Аспида отвисла челюсть. Понадобилось еще несколько минут, чтобы он уразумел, насколько серьезно обстоит дело. А потом циркача прорвало. Он клялся, крестился слева направо и справа налево, божился, что в глаза не видывал никакой фотопластины, всей душой предан матушке России и воевать с проклятыми тевтонами не пошел только по причине нервной болезни, по всей форме засвидетельствованной медицинской комиссией.
Слушая эти заверения, ротмистр поскучнел лицом.
– Если вы не шпион, зачем по трубе удирали, а потом по крышам скакали? По трубе-то еще ладно. Предположим, бандитов испугались. Но если вы приняли нас за полицию, как можно было распускать руки? И шею запросто могли себе свернуть. Чего ради? Сами же сказали, обладание кокаином – не преступление. А вот сопротивление властям – это верная тюрьма. Не врите мне, Вольф! Говорите правду!
Помолчав, Аспид неохотно сказал:
– Я думал, вас он прислал…
– Кто «он»?
– Каин. Этот ведь оттуда. – Арестант кивнул на Романова.
– Владелец кабаре? Но зачем ему устраивать на вас нападение?
Ответ был едва слышен:
– Коку-то я у Каина потянул. По-тихому… Хотел скинуть. Подумал, Каин меня расколол и своих костоломов подослал. Наденут наручники, станут мордовать. Для острастки другим могут вчистую кончить… Вот и решил не даваться…
Князь взял прапорщика за руку, вывел за собой в коридор.
– Хреново, Лёша. Боюсь, попрыгун говорит правду. Обсдались мы с тобой. Только время потеряли да шуму наделали… – Он задумался. – Хотя шум – дело поправимое. Эй, Саранцев! Этого в камеру, пусть посидит денек-другой.
– За что?! – возмутился Аспид. – Нет такого закона! Подумаешь, кокаин. Не самогонка же!
С юридической точки зрения он был прав. Сопротивление представителям власти инкриминировать ему было нельзя – ведь набросились на него безо всякого предупреждения, не говоря уж об ордере. А факт владения наркотиком, даже с намерением продажи, уголовно наказуемым деянием не является. Незадолго перед войной в Гааге состоялась Международная антиопиумная конференция, на которой было принято решение бороться с наркотической напастью запретительными мерами, но соответствующих законов в России разработать еще не успели. Максимум того, что можно было сделать, – изъять кокаин как добытый сомнительным путем, поскольку владение таким большим количеством наркотика требует соответствующей документации. Конечно, если бы владелец кабаре обвинил Вольфа в краже – другое дело, но рассчитывать на это не приходилось. Вряд ли «южноамериканец» сможет предъявить достаточное количество рецептов, чтобы доказать законность происхождения полуфунта порошка, который в аптеках обыкновенно продают дозами по четверти грамма.
– Паршивые дела, – подвел итог Козловский.
– Что же мы будем делать?
Князь постучал себя пальцем по голове.
– Что-что. Думать.
Придумали
Тот же генеральский кабинет, в котором почти ничего не изменилось. Только на карте германского фронта линия флажков сдвинулась еще дальше к востоку – Великое Отступление продолжается, ему не видно конца. За два минувших дня русская армия откатилась еще на полсотни верст.
Близится вечер, но стемнеет еще не скоро. Прозрачный свет, просеивающийся через сплошные облака, как сквозь пыльное стекло, безрадостен и ряб. Солнца не было уже много дней.
Присутствовали все те же: хозяин кабинета, несчастный отец и двое исполнителей. Совещание только что началось.
– Ну что, подполковник, всё сделали, как должно? – спросил Жуковский.
– Приказ исполнен в точности. Утром говорил по телефону из коридора, возле дверей ее спальни. Громко. Сказал, что нездоров, попросил доставить схему ко мне домой. Специально повторил: «Да-да, вот именно. Схему артиллерийских позиций Новогеоргиевской цитадели».
– Уверены, что она вас слышала?
Сегодня Шахов держался лучше, чем в прошлый раз. Эмоций старался не проявлять, был очень сдержан, деловит, даже сух.
– Разумеется. Сон у Алины чуткий. Сразу после этого она вышла. Сказала, что сама будет за мной ухаживать. Сварит-де полоскание по рецепту покойной матери, приготовит завтрак. Была очень мила. Горничную попросила отпустить… – Подполковник выставил вперед седоватую бородку. Его лицо казалось вырезанным из камня. – Я сделал вид, что тронут. Горничную отправил. Когда доставили бумаги, сел с ними в кабинете…
– Дальше, дальше, – поторопил генерал.
– Слушаюсь, ваше превосходительство. Регистрировал время, как вы приказали. Схему привезли в 10.15. В 10.43 ко мне постучалась Алина. Принесла завтрак. Сообщила, что полоскание приготовлено и что его лучше сделать до еды. Я вышел в ванную. Отсутствовал семь минут. Когда вернулся, дочь сказала, что сходит в аптеку за эвкалиптовой микстурой.
– Это было во сколько?
– Сейчас… Она вышла в 11.10 и вернулась через двадцать одну минуту, с пустыми руками. Микстуры в аптеке не оказалось.
Козловский поднял палец, прося разрешения вставить слово.
– По сводке наружного наблюдения видно, что из подъезда она не выходила.
Подполковник болезненно улыбнулся:
– Конечно, не выходила. И не собиралась. Ей нужно было сделать звонок. Из дома телефонировать она не могла, но внизу, в швейцарской, стоит аппарат. Улучить момент для звонка нетрудно. Швейцар часто отлучается проводить кого-нибудь из жильцов до экипажа.
– Так точно. – Князь смотрел в записи. – В 11.16 ливрейный сажал в ландо даму с багажом. И потом, в 11.23, выходил принять чемодан у господина в вицмундире Министерства путей сообщения.
– Это статский советник Сельдереев, с третьего этажа. – Шахов опустил голову. – И последнее, что я должен вам сообщить… Час назад, когда я выходил из дома, я прощупал ридикюль. За подкладкой лежит что-то квадратное…
Его превосходительство переглянулся с помощниками.
– Ну-с, господа, наживка снова насажена. Схема благополучно сфотографирована, германский резидент извещен. На этот раз шпионка явно торопится, хочет передать снимок сегодня же.
Как подполковник ни крепился, но слова «шпионка» не выдержал.
– Не называйте ее так! Алина не шпионка! Ее чем-то запугали, ее запутали!
– Скорее, посадили на наркотический крючок, – сказал ротмистр со всей мягкостью, на какую был способен.
А генералу было не до отцовских переживаний. Начальник контрразведки неделикатно щелкнул пальцами.
– Что ж, исполним нашу репризу на бис. Надеюсь, с большим успехом, чем в прошлый раз. Как наш солист, готов?
Он шутливо воззрился на прапорщика, который скромно сидел в сторонке и помалкивал.
– Готов, ваше превосходительство! – вытянулся Романов. – Осталось только глаз на лбу пририсовать.
Он был в полной экипировке, только сменил желтую блузу на такую же небесно-голубого цвета.
Глядя на эпатиста, Жуковский расхохотался.
– Как это вас в штаб Жандармского корпуса пропустили?
– С трудом, ваше превосходительство…
– Пришлось мне за ним спускаться, – тоже смеясь, объяснил ротмистр.
Скрипнув ремнями, из кресла поднялся Шахов.
– Господин генерал, прошу извинить, что порчу общее веселье, но я все-таки скажу… – Его лицо подергивалось, но голос был тверд. – Это невыносимо… Подло, наконец. Вы понуждаете меня участвовать в сговоре против собственной дочери! Рисковать ее жизнью!
Веселые морщинки на лице генерала разгладились, вместо них прорисовались другие – жесткие.
– Нет, подполковник. Я даю вам возможность спасти вашей дочери жизнь. Вам известны законы военного времени. Тут пахнет не тюрьмой, а виселицей, без снисхождения к возрасту и полу.
Для наглядности он еще и чиркнул пальцем по горлу.
Алексей представил себе картину. Стоит Алина со связанными за спиной руками. На нее натягивают саван. Накидывают веревку, стягивают на тонкой шее. Раскрывается люк в полу эшафота, хрустят сломанные позвонки.
Он содрогнулся.
Смертельно побледнел и Шахов. Осел в кресло, закрыл лицо руками.
– Боже, боже… – послышалось его глухое бормотание. – Сижу в шпионском ведомстве и докладываю, как шпионил за собственной дочерью-шпионкой…
Брови Жуковского сдвинулись еще суровей.
– Что-что?! В каком ведомстве?
– Ваше превосходительство, позвольте? – поспешно произнес Романов, чтобы отвести грозу от несчастного подполковника.
– Говорите, прапорщик.
– Владимир Федорович, я познакомился с Алиной Шаховой. Немного узнал ее. Она… она в сущности неплохая девушка. Даже, можно сказать, хорошая… Она не понимает, что творит. Она больна. Совсем больна. Ее нужно не судить, а лечить.
– Это будет решать медицинская экспертиза, – ответил Жуковский, но уже чуть менее сердито.
Скотина Козловский негромко, но явственно протянул:
– Певец-то наш опять втрескался.
Не удостоив глупую реплику ответа, Алексей продолжил:
– Я что думаю, ваше превосходительство. А может быть, господин подполковник поговорит с дочерью начистоту, по-отцовски? Мне кажется, если с ней правильно поговорить, она всё расскажет. Это ей зачтется как признание. Выйдет проще и надежней, чем расставлять сети непонятно на кого.
Он вопросительно посмотрел на Шахова.
Тот горько покачал головой:
– Увы, молодой человек. Я бы очень этого желал, но ничего не получится. Мы с Алиной слишком отдалились друг от друга. Я для нее – неодушевленный предмет. Средство для добывания наркотика. Если ваше превосходительство позволит, я расскажу один недавний случай… Простите, что отниму время, но это поможет вам понять… – Он сделал неопределенный жест. Хрустнул пальцами. – В прошлом месяце у Алины был день рождения. Моя покойная жена была воспитана в лютеранстве, и у нас в семье отмечали не именины, по-русски, а дни рождения. Вдруг вспоминаю: семнадцатого у Алиночки день рождения. В прошлом году, каюсь, я про это забыл – было не до того. Даже не поздравил. Думаю, нужно искупить вину. Купил ей подарок – дорогой, за два года сразу. Вручаю, поздравляю. А она в тот день была особенно нехороша. Смотрит на сверток без интереса, на меня – будто впервые видит. Кривит губы. Спрашивает: «А вы имеете какое-то отношение к факту моего рождения?» На «вы» она меня уже давно называет, я привык. Но здесь, конечно, был уязвлен. Более всего тем, что она даже не пыталась меня оскорбить, а казалась искренне удивленной. Я попробовал перевести в шутку: «Никаких сомнений. Ты родилась ровно через девять месяцев после свадьбы». Она очень серьезно выслушала, кивнула и вдруг говорит: «Если я появилась на свет благодаря вам, то будьте прокляты». Вот такие у нас отношения. Сердечность дочь проявляет, лишь когда ей нужно проникнуть ко мне в кабинет с известной целью.
Подполковник криво улыбнулся, а Романов вспомнил, как Алина говорила про отца: «что-то такое сверкнет серебряным плечом, дохнет табаком». Пожалуй, идея закончить дело по-семейному действительно не годится.
– Не забывай, Алеша. Она морфинистка, – серьезно, без подтрунивания сказал князь. – У этой публики нет своей воли, они живут от дозы до дозы. Все прочее для них – дым, мираж.
Конец обсуждению положил Жуковский:
– Ротмистр абсолютно прав. Наркоманы непредсказуемы и ненадежны, но при этом очень хитры и изобретательны. Шахова может наврать отцу, наплести небылиц, а сама предупредит резидента, и дело будет провалено. Нет, господа, продолжаем лов на живца. Только уж вы, Романов, не оплошайте. От ридикюля не отходить ни на шаг, что бы ни случилось. Это приказ, ясно?
«Даже если Шаховой будет угрожать опасность?» – хотел спросить Алексей, но покосился на отца Алины и промолчал. Приказ был сформулирован яснее некуда.
Спустилась ночь, зажглись огни
Зал кабаре наполовину пуст. Еще рано, завсегдатаи только собираются. За кулисами настраивают пианино. То и дело мигает свет – что-то не в порядке с электричеством, но это мерцание как нельзя лучше соответствует гротескному интерьеру клуба. То сгустятся, то исчезнут тени. Бесчисленные кривые зеркала вспыхивают огнями, темнеют, снова оживают.
Сегодня Романов пришел задолго до Шаховой. Никуда она не денется, доведут от дома в наилучшем виде. А у прапорщика была своя задача – попробовать найти черно-белого человека в алых перчатках. Тот, вероятно, тоже будет высматривать желтую блузу, но «Армагеддон» сегодня в голубой. Правда, интересный незнакомец тоже мог переодеться…
Волновался Алексей гораздо сильнее, чем вчера. Второй раз опозориться перед князем, перед Жуковским будет немыслимо. Лучше пулю в лоб! Нет, даже этого нельзя, а то скажут: у бедняги всегда были суицидальные наклонности. Если уж умирать, то не от своей руки, а от немецкой. Но для этого ее, немецкую руку (предположительно в алой перчатке), еще предстояло отыскать.
Мефистофель приветствовал Романова у входа как старого знакомца. Поздоровались и некоторые из вчерашних.
«Кровосмеситель» крикнул:
– Привет, Трехглазый. Сбацаешь нам на фортепьяно?
«Палач» блеснул глазами через маску и кивнул.
«Беспутная» подошла и поцеловала.
Эпатисты приняли новичка в свою компанию. Это-то хорошо, но, сколько Романов ни приглядывался, алых перчаток ни на ком не увидел. У «Палача» были красные, но иного покроя – кожаные, с раструбами. Зато мужчин, одетых в черное и белое, Алексей насчитал с полдюжины. Это еще без вчерашней команды «рентгенов», у любого из которых, как знать, могли иметься алые перчатки. Никого из них в кабаре пока не было.
Больше всего народу стояло вокруг центрального стола, где Селен рассказывал об ужасных событиях минувшей ночи. Его слушали с ахами и охами, барышни хватались за сердце.
Поэт был интригующе бледен. Даже фиолетовый синяк под глазом не портил его импозантного вида – наоборот, смотрелся очень живописно.
– …Одного из головорезов я поверг наземь приемом бокса, второму свернул челюсть, – услышал Романов, приблизившись. – Но что я мог один против восьмерых? Аспид струсил, убежал. Все меня бросили! – Укоризненный взгляд на сидевшую рядом Любу, которая безропотно приняла упрек. – Страшный удар обрушился на меня. Я лишился чувств и дальше ничего не помню… Мерзавцы раздели меня донага.
– Всё так и было, – подтвердила Люба. – Хорошо, не зарезали, фармазонщики. Ужас что творится! На улицу не выйдешь.
Она улыбнулась Алексею как доброму приятелю и притянула от соседнего стола пустой стул – настоящая барышня никогда бы этого не сделала.
– Привет! Садись!
Удивительная все-таки вещь естественность. Даже когда вокруг одни ломаки, жеманники с жеманницами, в которых всё фальшь и претензия, так что через какое-то время начинает казаться, будто именно это и есть единственно возможный стиль поведения, – вдруг появится простой, естественный человек, и сразу видно: кто настоящий, а кто сделан из картона.
Прапорщику пришла в голову мысль переговорить с танцовщицей, которая наверняка хорошо знает и публику, и персонал клуба. Можно как-нибудь ненароком навести разговор на алые перчатки…
Он сел и для начала спросил:
– Почему ты сегодня в таком наряде?
Она была в черном костюме с широкими белыми зигзагами на груди, на голове шапочка, лицо густо напудрено, глаза подведены, на лбу сажей нарисованы изломанные брови.
– Я нынче Черный Арлекин из «Бала безразличных». Мелодекламации сегодня не будет. Селен в расстроенных чувствах, и Аспид не придет. Квартирная хозяйка позвонила, он ногу подвернул. Наверно, когда от бандитов драпал.
– Да ты что? – изобразил он удивление и вдруг сообразил: вчера они были на «вы», а сегодня сразу, даже не заметив, перешли на «ты».
С Алиной произошло наоборот. Как странно. Отношения между людьми выстраиваются сами собой, словно текущая по земле вода, которая безошибочно находит свою траекторию.
Электричество в очередной раз мигнуло и погасло совсем.
– Опять на станции что-то, – сказала из темноты Люба. – В последнее время все чаще. Война…
В разных углах зала появились неяркие огни – это официанты начали расставлять по столам керосиновые лампы.
– Сюда не надо, – сказал Селен, прервав рассказ, обраставший все новыми драматическими подробностями. – Тьма, изгоняющая свет, – это прекрасно.
Чтоб тебя черт побрал, декадент хренов, с тревогой подумал Романов. Придет Шахова – ридикюля не разглядишь.
Он огляделся. Зал весь состоял из островков слабого света, окруженных мраком. Романтично, но для дела очень нехорошо.
По счастью, через минуту электричество вспыхнуло вновь.
– Алину высматриваешь? – спросила Люба.
Он вздрогнул.
– С чего ты взяла?
– Влюбился, – грустно констатировала она.
Это обыкновенное слово прозвучало в эпатистской компании как-то очень наивно, по-детски. Здесь никто ни в кого не влюблялся. Здесь отравлялись ядом чувств, пылали любовным экстазом, самое меньшее – сгорали от страсти.
Романов покосился на соседей – не слышат ли. Кажется, услышали…
– Пьеро влюблен, Пьеро влюбился! – продекламировал Мальдорор.
– Что за чушь! – шепотом обругал Любу прапорщик.
– Не чушь. Такие, как ты, всегда влюбляются в таких, как она, – все так же печально, но уже тише сказала танцовщица.
– «Такие, как я»? Провинциалы в стильных столичных барышень?
– Нет. Сильные в слабых. Вам мерещится, что вы их спасете. А им, может, спасаться и не хочется. Это во-первых.
– А во-вторых?
Из-под насмешливо изогнутых бровей Арлекина на него смотрели совсем невеселые, полные сострадания глаза.
– А во-вторых, вас самих спасать надо. Но женщину, которая может это сделать, вы ни за что не полюбите…
Ужасно милая, подумал Алексей. Однако следовало держать марку. Мальдорор с любопытством вслушивался в тихий разговор и всё язвительней ухмылялся.
– Тебе не в кабаре выступать, а лекции читать в университете. По психологии, – засмеялся Романов.
Но она не обиделась, а тоже улыбнулась. И встала.
– Мне пора. Надо еще намалевать рот до ушей.
Едва Люба ушла, снаружи донеслась заливистая трель свистка. Это был условный сигнал.
Никому не показалось странным, что после ночного инцидента перед клубом учрежден полицейский пост. Усатый городовой при кобуре и с «селедкой» на боку важно прохаживался по тротуару, пуча глаза на диковинных посетителей ночного заведения. Служивый заметно прихрамывал, но и это было неудивительно: в полицейских частях недавно прошла мобилизация на фронт, не тронули лишь пожилых и ограниченно годных. Очень уж Козловскому хотелось быть поближе к месту событий, а то со своей негнущейся ногой он вечно поспевал лишь к шапочному разбору…
План был таков.
Как только появится Шахова, негласно сопровождаемая филерами из службы наружного наблюдения, двое парней Саранцева, что дежурят на той стороне улицы, затевают ссору. Городовой, естественно, свистит, призывая скандалистов к порядку. Это знак для Романова: встречай гостью. Нужно проследить, не встретится ли с кем-нибудь Шахова в вестибюле или коридоре…
– Вы? – обрадованно сказал Алексей, подгадав оказаться у дверей, как раз когда Алина здоровалась с Мефистофелем. – Хотел подышать воздухом, но теперь, пожалуй, останусь.
Барышня выглядела гораздо хуже, чем вчера ночью. Болезненно бледна, под глазами круги, да еще эти губы, выкрашенные в цвет сирени… Нет, не выкрашенные, понял Алексей, приблизившись.
– Не смотрите, – попросила она. – Я знаю, что похожа на труп.
– Как вы можете это говорить!
– Слава богу! – воскликнула она, потому что вновь погас свет. – Не правда ли, я сразу похорошела? Дайте руку.
Он повел ее в зал, на красноватый свет настольных ламп.
Поцеловавшись с Селеном и кивнув остальным, Шахова села на место Любы. Сумочку повесила.
Прапорщик устроился рядом. На правах кавалера положил руку на спинку соседнего стула, совместив приятное с необходимым. Ладонь слегка касалась острых лопаток хрупкой барышни, а локоть надежно прижимал ремешок ридикюля.
Алина сидела беспокойно, разглагольствования Селена не слушала. По ее телу временами проходила дрожь.
Взялась за сумочку, и прапорщик сразу насторожился – но Шахова просто достала пахитоску.
– У меня нет огня… – Она беспомощно огляделась. У их стола никто не курил. – Зажгите, пожалуйста, Алеша… Ничего, мне будет только приятно.
И сама сунула пахитоску ему в рот.
Польщенный этим знаком близости, он отошел к соседнему столу, за которым тоже никто не курил, но, по крайней мере, там горела лампа.
– Одолжи адского огня, служитель Смерти, – легко сказал Романов сидевшему там Палачу.
Тот важно кивнул своей зачехленной башкой.
Снова зажглось капризное электричество. Наклонившись, прапорщик прикурил. Когда выпрямился и обернулся, чуть не выронил горящую пахитоску.
Стул Алины был пуст! Барышня исчезла. Неужели она отослала его нарочно?
Но ридикюль был на месте. В следующую секунду Романов увидел и Шахову – она, как вчера, поднималась на сцену. Должно быть, ее опять поманила рука в алой перчатке.
Первым делом Алексей присел и, опершись о спинку пустого стула, ощупал сумочку. Фотопластина была на месте.
Инструкция предписывала оставаться здесь, что бы ни происходило. Но упускать таинственного собеседника Шаховой прапорщик был не намерен. Он придумал заранее, как поступит в этом случае.
– Вот рассеянная, – громко сказал Романов. – Сумочку забыла!
Снял ридикюль и быстро пошел к сцене – сегодня Алина не остановилась у края кулис, а скрылась за ними.
Мальдорор шутовским голосом продекламировал ему вслед песню влюбленного Пьеро из блоковского «Балаганчика»:
Уже на сцене Алексей, заколебавшись, остановился. Что если никто Шахову не звал, а она отправилась за кулисы сама? И рядом с нею никого нет?
Догонит он ее, вручит ридикюль, она скажет «мерси» – и что потом? Плестись назад без сумочки? Если Алина отправилась на поиски человека в алых перчатках, она наверняка захочет отделаться от лишнего свидетеля…
В кармане сцены сегодня было темно, зато портьера, отгораживавшая засценное пространство, багровела светом. Идти туда или вернуться за стол?
Вдруг из-за портьеры раздался сдавленный женский вскрик.
Скользнув в закулисье, Романов на цыпочках сделал несколько шагов и осторожно отодвинул тяжелую ткань.
Драма за кулисами
Освещенная лампой площадка. Пианино с горящими в канделябрах свечами. На нем недавно играли – крышка поднята. Сверху на инструменте стоит черный лакированный череп, с которым вчера выступала исполнительница поэзы. За пианино белеет ширма. Чуть в стороне возвышаются две античные колонны – должно быть, часть декорации для какого-нибудь номера. Остальная часть складского помещения, заставленная огромными ящиками, тонет во мраке.
Весь этот антураж прапорщик вчера уже видел, да и не было у него сейчас времени озираться по сторонам. За кулисами творилось нечто совершенно возмутительное.
Плотный господин с холеной бородкой, в черном фраке и белой рубашке, держал Алину за горло рукой в алой перчатке. На манжете сверкала золотая запонка. Верхняя часть лица у невежи была прикрыта бархатной полумаской. В оскаленных зубах зажата сигара.
Это был он, вне всякого сомнения! Тот, кто вчера шептался с Алиной и потом курил в гардеробе.
– Каин, не надо! – пискнула Алина.
Вот, значит, кто это. Владелец кабаре, кокаиновый король, уругвайско-парагвайский подданный – дон Хулио Фомич собственной персоной.
Рядом, сложив на груди могучие руки, стоял Мефистофель и с ухмылкой наблюдал за происходящим.
Бедняжка Алина лишь беспомощно взмахивала своими тонкими ручками, даже не пытаясь высвободиться.
– Я тебя по-хорошему предупреждал, сучка… – цедил человек в маске. Сигара покачивалась у него во рту.
От ярости у Романова потемнело в глазах. Единственное, на что у него хватило рассудка (очень уж крепко засел в голове приказ генерала), – это сунуть ридикюль за пазуху.
С криком «Скотина!» прапорщик выбежал из своего укрытия. Отодрал хама от барышни и от всей души, с размаху, влепил ему великолепную плюху – черно-белый отлетел к пианино и ударился об него спиной. Благородный инструмент приветствовал акт возмездия торжествующим утробным гулом.
Ушибленный господин сполз на пол, причем пола фрака у него завернулась, и стало видно, что подкладка такого же алого цвета, что перчатки.
– Мефисто! – взвыл он, выплевывая сигарные крошки и осколки зубов.
Алексей повернулся к вышибале, и очень правильно сделал.
Детина натягивал на пальцы шипастый кастет. Ухмылка не исчезла с его грубой физиономии – наоборот, стала еще шире. Этот нисколько не испугался, а, кажется, даже обрадовался возможности отличиться перед хозяином. Он был на полголовы выше прапорщика, раза в полтора тяжелее и, должно быть, не сомневался, что легко справится с несерьезным противником.
Инструктор по рукопашному бою подпоручик Гржембский учил своих питомцев: «Сила всегда проиграет скорости. А сила грубая, негибкая обращается против самой себя».
Могучий удар рассек воздух над головой быстро пригнувшегося Романова. Мефистофеля развернуло боком, что дало Алексею возможность влепить верзиле отменный хук в солнечное сплетение. Ощущение было такое, словно кулак ударился о гранитную плиту.
Первая стычка закончилась, можно сказать, с нулевым счетом.
Сверкающий сталью кулачище с удвоенной силой замахал перед лицом прапорщика, но и тот в ответ удвоил скорость движений: уходил в сторону, нырял, отскакивал, при каждой возможности нанося ответные удары. Каждый достигал цели, каждый был точен – носком ботинка в пах, каблуком в коленную чашечку, но Мефистофель только крякал и еще напористей лез вперед, словно броненосная новинка «танк», говорят, совершенно неуязвимая для пехоты.
И так непростую задачу осложняла мадемуазель Шахова. Она не убежала, даже не отступила в сторону – осталась стоять на том же месте, лишь прижала руки к груди и зажмурилась. Вероятно, ей опять казалось, что всё это не явь, а ужасный сон, который когда-нибудь сам по себе развеется.
Приходилось пятиться, широким кругом обходя девицу, чтоб ее случайно не задели.
«Дон Хулио» в сражении не участвовал. Он прижимался к пианино, тер платком окровавленные губы и подгонял своего клеврета кровожадными возгласами:
– Проломи ему башку! Это вчерашний филер! Просто сегодня он в голубом!
– Мы искали друг друга и нашли, – съязвил Романов.
Делать этого не следовало. Подпоручик Гржембский сколько раз говорил: «Главное в схватке – ничего не упускать и ни на что не дистрагироваться. Малейшая деконцентрация внимания может стоить жизни».
Всего на долю секунды повернул Алексей лицо к господину Каину – и чуть не угодил под кастет, от соприкосновения с которым голова разлетелась бы, как глиняный горшок. Верхняя часть тела качнулась назад слишком быстро, ноги за ней не поспели. Прапорщик взмахнул руками, не удержался, упал.
– Живей, Мефисто. Что ты тянешь? – Каин хищно наклонился вперед. – Добей его!
От своей оплошности, от постыдного падения (хорошо еще, что у Алины закрыты глаза) Романов, во-первых, обозлился, а во-вторых, перестал ребячиться. Что за идиотизм – устраивать корриду с бешеным быком, когда в кармане есть револьвер.
– Я тебе покажу «добей»! – обиделся отличник контрразведывательных курсов. – А ну-ка руки, сволочи!
Он бы еще и не так их обозвал, если б не барышня.
«И ни в коем случае не впадать в ярость, не терять sang-froid,[2] – учил инструктор. – Чаще всего ошибки происходят именно из-за этого».
Ошибка заключалась в том, что Романов взял на мушку не главного фигуранта, а второстепенного. Мефистофель, увидев черную дырку ствола, допустим, замер и даже приподнял кверху свои ручищи. Зато парагваец с неожиданным проворством юркнул за пианино и пропал.
– Стой! Убью!
Алексей переполошился – то есть совершил еще одну серьезную ошибку.
Сверху на него падало что-то белое, громоздкое, ребристое. Это Мефистофель, воспользовавшийся тем, что враг отвернулся, толкнул на него античную колонну.
Она ударила прапорщика по голове, но не проломила ее, а произвела сухой легкомысленный стук – вообще оказалась удивительно легкой. Обхватив колонну руками, Алексей понял, что она бутафорская, из папье-маше.
Однако пока он обнимался с архитектурным изделием, пропал и второй неприятель – из-за ширмы донесся удаляющийся топот.
– Куда? Назад! – заорал Романов, бросаясь вдогонку.
Чертов свет, исправно горевший во время закулисной баталии, выбрал именно этот миг, чтобы опять погаснуть. Алеша успел заметить, как «дон Хулио» ныряет в один зазор между дощатыми ящиками. Мефистофель во всю прыть несся к другому, расположенному правее.
Погоня в кромешной тьме, среди запакованных роялей, – занятие малоприятное. Началось с того, что прапорщик неверно рассчитал направление и не сразу нашел проход. Потерял несколько бесценных мгновений, шаря рукой по шершавой поверхности.
Электричество мигнуло, и он увидел, что находится в узкой, не шире метра, щели, которая упирается в здоровенный короб с клеймом «ДОСМОТРЕНО ТАМОЖНЕЙ. 28 iюля 1914» – напоминание о невозвратной эпохе, когда Германия посылала на восток эшелоны с товарами, а не с войсками. От короба можно было свернуть направо или налево. Убегающие враги находились где-то очень близко, но их было не видно – ни одного, ни другого.
Не успел Алексей сделать и двух шагов, как свет потух. Теперь он, будто играясь, вспыхивал и гас с интервалом в секунду: довольно, чтобы окончательно не запутаться в зигзагах щелей и проходов, но недостаточно, чтобы избежать ударов о жесткие ребра ящиков.
Хуже всего, что прапорщик метался среди германских фортепианных бастионов вслепую, а владелец клуба и его подручный явно знали, куда держат путь.
Сообразив, что громогласно угрожать смертоубийством – лишь выдавать свое местоположение, Романов умолк и постарался передвигаться как можно тише. По крайней мере теперь стало возможно ориентироваться по звуку шагов стремительно улепетывающих противников. Оба, каждый своим путем, двигались к дальней стене склада. Вероятно, там имелся запасной выход.
Алексей попробовал приспособиться к пульсирующей смене тьмы и света. Как только воцарялся мрак, он зажмуривался и выставлял вперед левую руку, чтоб не налететь на препятствие. Когда же сквозь сомкнутые веки видел, что светло, снова открывал глаза.
Лязгнул металл. Заскрипели дверные петли. Снова лязг.
Алексей побежал быстрее.
Поворот, еще поворот – и лабиринт кончился. Впереди была кирпичная стена, посередине которой зеленела облупленной краской железная дверь с отодвинутым засовом – он-то, очевидно, и лязгнул несколько секунд назад.
Ну, теперь далеко не убежите!
Он подбежал к двери, рванул за ручку, потом толкнул от себя – створка не подалась.
Тут Романов вспомнил, что металл лязгнул дважды. Проклятье! Значит, снаружи есть еще один засов, и беглецы успели его задвинуть…
Замычав от бессильной ярости, молодой человек приложился лбом к холодному металлу.
Упустил… Ушли…
– Алеша! – послышался издалека слабый голос. – Алеша, вы где? Что с вами?
Он обернулся.
Еще не все потеряно. Самое время потолковать с мадемуазель Шаховой начистоту.
Разговор начистоту
Пианино с открытой крышкой. Свет погас и больше не зажигается, но горят свечи в канделябрах. Их пламя колышется, по огромной белой ширме бегут тени, на лакированной поверхности черепа поблескивают искры.
Приглушенный шум зала. Гулкие шаги, приближающиеся из темного чрева склада. Прерывистое дыхание девушки.
– Не бойтесь, Алина, это я! – громко сказал Романов, понимая, как ей сейчас страшно. – Они сбежали. Здесь больше никого нет.
Когда он вышел из-за ширмы и на него упал отсвет свечного пламени, Алина, стоявшая на том же самом месте, бросилась навстречу и прижалась к его груди. Ее сотрясала нервная дрожь, зубы дробно постукивали.
Осторожно обняв худенькие плечи, Алексей прошептал:
– Ну всё, всё. Я прогнал их. Они не вернутся.
Если он думал ее успокоить, то ошибся. Шахова затрепетала пуще прежнего.
– Что вы натворили?! – жалобно воскликнула она. – Кто вас просил? Зачем вы вообще сюда явились?
– Я принес вашу сумочку. Вы забыли ее на стуле, – произнес он со значением.
– Скажите, какая галантность. – Она отодвинулась от него, повесила ридикюль на плечо и уныло обронила: – Всё, конец… Теперь мне только в петлю. Он мне больше ничего не даст…
– Кто, Каин? Не даст морфия, вы хотите сказать?
Она безжизненно кивнула, всё сильнее дрожа.
– Мне плохо… Если б вы знали, как мне плохо…
– Почему он на вас накинулся?
– Я ему. Должна деньги. Много. Вчера обещала. Вернуть… Вам этого. Не понять. Я дитя Луны. А вы – Солнца…
Шахова роняла слова, делая паузы между ними не по смыслу, а как придется. Дыхание у нее было коротким и прерывистым.
– Да чего тут понимать? Привили вам зависимость от наркотика, а теперь заставляют… – Слово «шпионить» он вслух не произнес. Очень уж она сейчас была несчастной. – Ничего, мы этот клубок распутаем. А вас вылечим. Я сумею вас защитить. Честное слово. Только прошу: расскажите мне всю правду.
Она подняла на него ввалившиеся, воспаленно блестевшие глаза и неожиданно улыбнулась. Пробормотала:
– И правда ведь защитит. Вон и пистолет у него. Где вы только раньше были, Ланселот Озерный?
У него запершило в горле. Смотреть на нее смотрел, а говорить не решался.
– Не смотри на меня так, Трехглазка, – тихо сказала она. Подняла руку, закрыла ему один глаз, потом второй. – Спи глазок, спи другой. А про третий-то и забыла…
Погладила по нарисованному оку. Отвела со лба прядь волос – мушкетерская шляпа слетела с Алешиной головы во время драки.
Пальцы у нее сегодня были до того горячие, что их прикосновения казались ему обжигающими.
Они стояли лицом друг к другу перед раскрытым пианино. Рядом не было ни души, лишь черный череп пялился на Романова своими пустыми глазницами.
Ужасная усталость накатила на прапорщика. Больше не было сил притворяться, ходить вокруг да около. Наступило время для настоящего, искреннего разговора.
Он пробежал рукой по клавишам. Пальцы сами, словно задавая беседе тон, рассыпали в тишине несколько хрустальных нот.
Эти нежные, неуверенные, чистые звуки сделали всякую ложь окончательно невозможной.
– Вы давеча сказали, что я светлый и ясный… Так вот, я не светлый. И не ясный…
Алина тоже тронула клавишу – вышло нечто ласковое и немного лукавое.
– Ну да, вы же Армагеддон, отъявленный эпатист.
– Я не эпатист. Я сотрудник контрразведки.
Она отдернула руку, задев клавиатуру уже ненарочно. Звук получился смазанным, нервным.
– Что?!
– Я всё про вас знаю. Дайте сумочку.
Он вынул из-за подкладки завернутый в бумагу квадратик и помахал им у девушки перед носом.
– Не нужно запираться. Лучше рассказать правду.
Ее лицо изменилось – как будто окуталось туманом.
– …Сон… Всё сон… – прошептала она.
– Никакой не сон, а обыкновенный шпионаж! Этот ваш Каин – агент германской разведки. Вы фотографируете документы, а они потом оказываются у немцев! Проснитесь, Алина! Придите в себя! Это не шутки, это государственная измена!
Ему очень хотелось взять ее за плечи и как следует потрясти, чтобы вывести из сомнамбулической отрешенности, но нельзя было распускать руки, уподобляться гнусному Каину.
За ширмой
Посмотреть издали – ширма как ширма. Японская, из рисовой бумаги. Белый фон, на нем серебряные хризантемы. Но вблизи видно, что ширма не настоящая, а бутафорская, вроде валяющейся на полу коринфской колонны. Во-первых, эта трехстворчатая перегородка слишком велика, гораздо шире и выше пианино. Во-вторых, цветы намалеваны без восточного изящества, смотреть на них нужно из зала.
Со стороны открытой площадки, освещенной свечами, ширма кажется непроницаемым светлым задником, за которым – густая тьма. Если же расположиться по ту сторону хризантем, вид получается совсем иной. На белом экране разворачивается театр теней: черный прямоугольник пианино окружен теплым, слегка покачивающимся сиянием; над верхней кромкой контур двух голов – одна в шляпке с ниспадающими на плечи волосами, вторая коротко стрижена.
Именно оттуда, из темноты, затаившись между большими ящиками, к разговору прислушивался человек. Лиц собеседников он не видел – лишь чуть размытые силуэты, но не пропускал ни единого слова.
Когда мужской голос сказал про «обыкновенный шпионаж», неизвестный поднял правую руку, для лучшего прицела подхватил пистолет левой и навел мушку на тот кружок, что покруглее – без головного убора. Расстояние до мишени было плевое, шагов десять. Но стрелять подслушивающий не спешил.
– Что вы мне суете? – вяло спросила девушка. – Зачем?
– Действительно, незачем. Вы и так отлично знаете, что там. Чертеж артиллерийских позиций Новогеоргиевской цитадели.
Кажется, стрелок решился. Он снял оружие с предохранителя, приготовился нажать на спуск, но электричество, которое весь вечер вело себя совершенно непредсказуемо, вдруг снова включилось. На складе стало светло, но тени на ширме исчезли.
Так и не успев выстрелить, человек судорожно втянул воздух.
Нервный разговор между тем продолжался.
– Чертеж чего?
– Вы даже не поинтересовались, что вам было поручено сфотографировать? Для вас это просто набор бессмысленных линий, кружков, стрелок и квадратиков. А ведь каждый из них – это люди, тысячи людей. Попади такой документ к врагу, и последствия будут ужасными!
Девушка пролепетала:
– Вы говорите, а я ничего не понимаю… Алеша, мне плохо. Совсем плохо… Позовите Каина. Ну пожалуйста! Скажите ему, я всё отдам! Завтра! Ах, вы не можете, вы его ударили… Что же мне делать? Я гибну!
Свет погас, и театр теней вновь зашевелился. Вернее, двигалась лишь голова в шляпке. Она качнулась к мужской, но та сохранила суровую неподвижность. Тогда барышня отступила на несколько шагов и вышла из-за пианино. Теперь она была на виду вся, тонкая и поникшая.
Рука с пистолетом примерилась. Чуть дернула стволом, наведенным на маленькую мишень – торчащую над пианино голову; стремительно перевела дуло на женский силуэт; вернулась к исходной позиции.
– Смотрите на меня, Алина! Слушайте меня! Каин – германский шпион. Документы, которые вы тайно фотографировали, попадали прямиком к немцам.
– Кто шпион? Каин? Да что вы, Алеша. Он просто дает мне ампулы и берет за это…
Палец плавно нажал на крючок. Одновременно с грохотом выстрела пистолет дернулся вправо и выбросил злой язычок пламени еще раз.
На белом экране появились две дырки.
Кошмарный сон
Всё это напоминает тягостный, вязкий сон. Слабый свет, вокруг чернота. Зыбкие слова, падающие в никуда. Ускользающий взгляд. Блеск черного лака, в котором отражаются огоньки. Бессмысленный белый фон с нелепыми, грубо намалеванными цветами.
Болезненное состояние Шаховой было заразно. Прапорщик чувствовал себя как в дурном сне. Бежишь по тяжелому песку, а с места не движешься. Разговор глухого со слепым! И это чертово освещение! А еще иррациональное чувство, будто кто-то пялится на тебя из пустоты.
Он механически покосился вправо и скривился.
Это лакированный череп, стоящий на пианино, таращился на прапорщика своими черными дырьями да скалил зубы, словно издевался.
А дальше случилось то, что может произойти только в кошмаре.
С оглушительным, ужасающим треском череп вдруг полетел – нет, ринулся на Романова. Ударил обомлевшего прапорщика крутым лбом в переносицу. Это было больно и очень страшно. Не устояв на ногах, Алексей рухнул на пол – аккурат на лежащую колонну, то есть туда, куда уже имел неудовольствие падать несколько минут назад.
Грохнуло еще раз. Или, возможно, это было эхо.
В ушах у Романова звенело, из носа текла кровь, ресницы сами собой ошеломленно хлопали.
Что за фантасмагория?
В кабаре кричали и визжали. Верхняя часть ширмы за пианино почему-то покачивалась. Резко пахло порохом.
Первая мысль у Алексея была дикая: декадентствующая девица уволокла-таки ряженого эпатиста в свой кривозеркальный мир, где возможны любые химеры.
Череп, боднувший молодого человека в голову, валялся здесь же, на полу, щерил свои белые зубы. Агрессивности больше не проявлял. Романов схватил зловещую штуковину в руки, повертел. Увидел, что на затылке лак растрескан, там зияет дырка.
И туман в мозгу, следствие контузии и потрясения, рассеялся.
Кто-то выстрелил в череп с той стороны ширмы. Деревянный кругляш, сбитый пулей, угодил Алеше в голову. Отсюда и грохот, и запах пороха.
Но зачем кому-то понадобилось палить в череп?
И потом, выстрелов, кажется, было два?
Прапорщик окончательно пришел в себя. Встряхнулся, как вылезшая из воды собака. Огляделся.
Алина Шахова лежала на полу, выпростав из задравшегося рукава болезненно худую руку. Лицо закрывала шляпа.
Не поднимаясь, прямо на четвереньках, Романов подполз и боязливо сдернул ее.
На него смотрели открытые неподвижные глаза. Лиловые губы были раздвинуты в полуулыбке. На виске вздулся и лопнул багряный пузырь.
– А-а-а-а! – то ли всхлипнул, то ли задохнулся Романов.
Рванул из кармана револьвер и перекатился по полу подальше из освещенного круга, к кулисной портьере.
Невидимый стрелок среагировал на шум – темнота возле ящиков озарилась двумя короткими вспышками. Первая пуля выщербила царапину в полу. Вторая отрикошетила от кирпичной стены в полуметре над прапорщиком.
Даже во мраке, на звук, убийца стрелял превосходно.
Можно было выстрелить в ответ, причем с неплохими шансами на результат – враг обозначил вспышками свое местоположение. Романов и пальнул, тоже дважды, но целил нарочно выше нужного.
Невидимку требовалось взять живым. Иначе всё зря.
Всё в любом случае зря, мелькнуло в голове у Алексея. Если иметь в виду погибшую Алину. Нет такой цены, которой можно было бы оправдать…
Пзззз! Стена над самой головой, противно взвизгнув, брызнула кирпичной крошкой. Теперь стреляли из другого места. Кажется, враг переместился в крайний правый проход между ящиками.
Обежав стороной освещенную ширму, Романов спрятался за здоровенным кубом. В таком должен был таиться как минимум огромный концертный рояль.
Еще выстрел – и басистый, благородный рокот перебитых струн подтвердил это предположение. Пуля прошила и ящик, и инструмент навылет.
На курсах обучали распознавать модель огнестрельного оружия по звуку. Судя по сухому, лающему тембру, убийца был вооружен 9-миллиметровым «маузером К-06/08». Серьезная штука.
Шуршащий звук шагов.
Кто-то бежал вдоль стены, удаляясь. В лабиринт между ящиками противник нырять не стал. Торопится поскорей унести ноги. И правильно.
Выстрелы наверняка слышны и в клубе, и на улице. Странно, что Козловский и остальные еще не здесь.
Хотя что ж странного? Должно быть, это только Алеше показалось, будто череп полетел в него целую вечность назад, на самом же деле не прошло и минуты…
Он перебрался к крайнему ящику, высунул руку и наугад послал еще две пули.
Тьма огрызнулась один раз и поперхнулась.
Естественно. В магазине «К-06/08» шесть патронов.
Романов выскочил из укрытия, переложил револьвер в левую руку, правой дотронулся до стены и быстро пошел вперед.
Он напряженно прислушивался – не раздастся ли щелчок, с которым встает на место запасная обойма. В этом случае придется упасть на пол и начинать отсчет выстрелов сызнова. А там, глядишь, прибудет подкрепление.
Мрак безмолвствовал. Ни щелчков, ни даже шагов. Противник затаился.
Что он задумал?
Рассчитывает отсидеться? Маловероятно. Скорее, собирается наброситься из засады.
Рисковать было глупо. Тем более что время сейчас работало на Алексея.
Козловский, несомненно, уже в кабаре и выясняет, откуда прогремели выстрелы. Какой бы переполох ни царил в зале, кто-нибудь непременно укажет в сторону кулис. А тем временем подоспеют филеры. Еще минута, и окажутся на складе.
– Выходите! – крикнул Романов, останавливаясь. – У вас кончились патроны, а запасного магазина нет. Иначе вы бы его вставили!
То, что ответа не последовало, неожиданностью не было. Другое дело – внезапно очнувшееся электричество.
Под высоким потолком зажглись лампы. Они светили не так уж ярко, но после абсолютной темноты стало больно глазам.
И все же прапорщик разглядел самое важное. В выемке стены, за пожарным щитом, кто-то прятался – в каком-нибудь десятке шагов.
– Руки вверх, два шага вперед! – торжествующе выкрикнул Романов.
И подлое электричество, будто насмехаясь, опять погасло.
Кто-то легкий, проворный бежал к запасному выходу. Алексей шел сзади неспешно, теперь уже уверенный в успехе.
Загрохотала, заскрипела дверь.
Давай, давай, потыкайся в нее, мысленно подзадорил Романов угодившего в ловушку шпиона.
Спасибо дону Хулио и его верному слуге. Иногда встретишь какого-нибудь отъявленного мерзавца и поражаешься, зачем только живет этакая гнусь? А гнусь, может, появилась на свет и коптила небо ради одного-единственного благого деяния: чтоб в нужном месте и в нужный момент запереть некий засов, тем самым отрезав путь к бегству гадине во сто крат более опасной.
Лампы снова загорелись, но это было уже и не нужно. Мышь так или иначе попала в мышеловку. Однако все равно мерси.
Алексей стоял перед запертым выходом и держал на мушке человека в красном облегающем костюме и глухом капюшоне, закрывающем лицо.
Палач, вот кто это был. Тот самый, что вчера и сегодня постоянно крутился неподалеку от стола, за которым сидел прапорщик…
Ряженый прижимался спиной к закрытой двери. Глаза в прорезях матерчатого колпака горели яростью, как у затравленного волка.
– Ни с места! – тряхнул револьвером прапорщик, видя, что Палач делает шаг вперед. – Застрелю!
– Не застрелишь, – прошептал тот. – Живьем взять захочешь.
Что правда, то правда.
Подняв руку, Алексей высадил остаток барабана в потолок – чтоб Козловский понял, куда бежать. Потом бросил разряженное оружие на пол, слегка присел и выставил вперед руки, заняв оборонительную позицию джиуджитсу.
Противник задержался подле наполовину распакованного ящика, в котором поблескивала крышка пианолы. Отодрал рейку с торчащими гвоздями и кинулся на Алексея.
Удар был не силен и не размашист, с расчетом не оглушить, не сбить с ног, а разодрать лицо. Этот враг был вдвое меньше Мефистофеля, но вдвое опасней. Подобной быстроты прапорщик не ожидал и сплоховал – не успел уклониться. Пришлось закрываться рукой.
Предплечье пронзила боль. Палач с вывертом рванул рейку на себя, отпрыгнул и, не теряя темпа, нанес еще один удар, боковой. Теперь Романов был наготове, но все равно еле увернулся. По разодранной руке струилась кровь.
Неугомонный молчаливый противник все налетал и налетал, нанося короткие, кошачьи удары своим нелепым, но опасным оружием.
И Алексей совершил еще одну грубую ошибку, от которой неоднократно предостерегал своих учеников инструктор Гржембский, любитель иностранных слов. Он говорил: «Не центрируйте внимание на чем-то одном. Оно должно работать автономно, само по себе. Кто центрирует внимание, ослабляет периферию».
А Романов, испугавшись ржавых гвоздей, слишком уж следил за когтистой деревяшкой. Потому и пропустил неожиданный маневр Палача – тот внезапно обернулся вокруг собственной оси и подсек прапорщика ногой под коленку. Алексей потерял равновесие и третий раз подряд оказался повержен на пол. Только теперь настырный враг не дал ему подняться, а прыгнул сверху, перехватил рейку обеими руками с концов и попытался пробить упавшему горло гвоздями. Романов едва-едва успел вцепиться в палку, тоже в две руки. Ее отделяло от подбородка всего несколько дюймов.
– Алеша! Ты здесь? – раздался издалека крик Козловского. Загремели шаги сразу нескольких людей. – Отзовись!
Но отозваться было невозможно. Все силы хрипящего от натуги прапорщика уходили на то, чтобы удерживать палку с гвоздями на безопасном расстоянии.
Изобретательный враг физически был несколько слабее Алексея, но зато использовал всю тяжесть своего тела, давя сверху вниз. Дистанция между горлом и хищно поблескивающими гвоздями (их было шесть, теперь прапорщик явственно это видел) неуклонно сокращалась. Глаза убийцы торжествующе горели в отверстиях маски. Пальцы потянули рейку чуть влево, должно быть, метя одним из гвоздей в артерию.
Романов понял: ему не продержаться. Еще секунда-другая, и всё кончится.
А коли так, нечего и упорствовать. К черту инстинкт самосохранения.
Авось не в артерию!
На всякий случай он вывернул голову и выпустил палку.
Два гвоздя из шести вонзились ему в шею, деревяшка с хрустом надавила на кадык. Но зато руки были свободны. Мыча от боли, прапорщик исполнил жестокий, но эффективный прием под названием «Двойной рожок»: одновременно воткнул большие пальцы Палачу в оба уха. Даже при небольшом замахе болевой шок временно парализует противника.
Так и произошло.
– Ы-ы!
И давление на горло ослабело. Глаза в прорезях маски зажмурились.
Дальше было просто.
Снова вцепившись в деревяшку, Алексей выдрал ее из тела. Поднатужившись, опрокинул Палача на пол и сам уселся сверху.
Из проколотой шеи в двух местах текла кровь, но, слава богу, не толчками, а умеренно. Значит, артерия не задета.
– Я здесь! – прохрипел Романов. Голос застревал в полураздавленном горле. – Лавр, я взял его!
Топот ног стал приближаться.
– Кто это? Каин, да? Каин? – нетерпеливо кричал князь, очевидно, опять отставший от филеров.
– Сейчас погляжу…
Прапорщик рванул с лица Палача маску. Затрещала ткань.
– Вы?! – пролепетал Алексей.
Лицо убийцы было искажено гримасой боли, глаза закатились, так что виднелись одни белки, но остроконечная седоватая бородка, высокий лоб, нос с породистой горбинкой!
Под Романовым, прижатый к полу и оглушенный, лежал благородный отец, несчастный король Лир, жертва родительской любви – подполковник Шахов.
Сон. Кошмарный сон…
Увы, то был не сон
Допросная в здании Жандармского корпуса. Совершенно безжизненная комната с зарешеченным окном. Большой стол для следователя, маленький стол для секретаря, посередине одинокий стул для допрашиваемого, еще ряд стульев у стены. С потолка свисает мощная лампа без абажура.
Всё время, пока шла формальная часть допроса (имя, звание, вероисповедание и прочее), Романов не отрываясь смотрел на арестованного.
Значит, и такие существа водятся на свете?
Подполковник сидел вольно, дымил папиросой. На спокойном лице ни страха, ни раскаяния. Лишь иногда вдруг дернется голова, словно от нервного тика, глаза быстро обшарят помещение – и снова нарочитая невозмутимость.
Шахов мучительно напоминал Алексею кого-то из далекого прошлого.
Вспомнил!
Однажды, еще в детстве, он видел, как стая собак загнала в угол двора бродячую огненно-рыжую кошку. Бежать ей было некуда, псы распаляли себя лаем, готовясь наброситься на жертву и разорвать ее в клочки. Но кошка не пищала, не металась. Вздыбив шерсть, она внимательно наблюдала за врагами и как будто чего-то ждала. Алеша решил выручить обреченную тварь – хоть и побаивался, но всё же шагнул вперед и закричал: «Брысь! Брысь!» Псы, конечно, и не подумали разбегаться, а лишь оглянулись на мальчишку. Но рыжей хватило и этого. Воспользовавшись тем, что стая на секунду отвлеклась, кошка порскнула вбок, молнией взлетела на мусорный бак, оттуда, уже спокойнее, перепрыгнула на верх кирпичной стенки, шикнула сверху на собак и была такова.
Вот и Шахов смотрел на ведущего допрос Козловского, на сидящего у стены Жуковского, на прапорщика Романова взглядом загнанной дворовой кошки, которая выискивает лазейку, чтобы стрекануть от верной гибели. Сходство с рыжей ловкачкой из Алешиного детства усугублялось запыленным красным костюмом Палача.
По правде говоря, все, кто находился в допросной, выглядели чудновато, будто в Жандармском корпусе открылся филиал декадентского кабаре, где каждый изображает из себя то, чем не является.
Начать хотя бы со стенографической записи. Вместо положенного по штатному расписанию жандармского вахмистра за столиком, старательно скрипя пером, сидела барышня в блузочке и очочках, вчерашняя гимназистка. Еще недавно это было бы немыслимо: допускать к наисекретнейшей работе женщину, но ничего не поделаешь – война.
Ротмистр Козловский, восседавший на следовательском месте, остался в форме городового. Породистая, несколько лошадиная физиономия князя и вся его гвардейская манера держаться плохо сочетались с болтающимся на шнуре свистком и медной бляхой на груди.
Про Романова и говорить нечего. Единственное, что он успел, – побывать в медицинском пункте. Переодеться времени не было, так и сидел трехглазым эпатистским чучелом. Даже хуже: шея обмотана бинтом, рукав задран до локтя – видно предплечье, залепленное бурым от йода пластырем.
Даже его превосходительство, скромно расположившийся на стуле рядом с прапорщиком, сегодня смотрелся не совсем обычно, невзирая на мундир и аксельбанты. Жуковский, подобно Романову, сверлил взглядом поразительного подполковника и, дабы лучше видеть, нацепил пенсне, что делал крайне редко, ибо стеснялся своей близорукости. Профессорские стеклышки на его лобастом боксерском лице гляделись совершенно инородным предметом, будто генерал надел их ради шутки.
Вводная часть допроса закончилась. Ротмистр задал положенные вопросы, Шахов неторопливо, даже с ленцой, на них ответил. Поведение этого… индивида (даже мысленно называть его «человеком» не хотелось) Алексею казалось непостижимым. Вообразить, что творится в душе… ну, пускай в голове у подполковника, молодой человек был не в состоянии.
Козловский искоса посмотрел на генерала, тот кивнул. Очевидно, между ними существовала договоренность, что князь начнет разговор с нейтральных вопросов, а Жуковский пока приглядится к арестованному и выработает стратегию.
Начальник сдернул с носа пенсне и поднялся. Все сразу же обернулись к нему.
Ротмистр и прапорщик тоже вскочили. Барышне вставать не полагалось, но она быстро положила под руку еще несколько заточенных карандашей. Понимала: сейчас начнется настоящий допрос.
А Шахов остался сидеть как ни в чем не бывало. Еще и позволил себе сдерзить.
– Посижу, – обронил он да закинул ногу на ногу. – Я теперь не офицер, не слуга отечества. Тянуться перед генералом не обязан.
Предателю Жуковский ничего не ответил. Своим показал жестом, чтоб садились. Поскрипывая сапогами, прошелся по кабинету и заговорил размеренным, задумчивым голосом.
Генерал стал восстанавливать хронологию событий – и для самого себя, и для протокола. Это называлось у него «реконструкцией»: когда все прежние загадки раскрываются, несостыковки сходятся, белые пятна закрашиваются и всё дело складывается в стройную логичную картину. Любил его превосходительство порисоваться своими дедуктивными талантами (действительно, незаурядными) – имел такую извинительную слабость.
Жуковский говорил с четверть часа, делая маленькие паузы, чтобы неопытная стенографистка не отставала. А закончил свою речь вот чем:
– …Когда же эксперты обнаружили, что находившийся у вас чертеж 76-миллиметрового орудия был переснят, вы поняли: это конец. Ваша работа на немцев раскрыта, ареста не избежать. И тут вы, Шахов, проявили себя мастером изобретательности, хоть и самого циничного свойства: моментально соорудили правдоподобную версию о том, что документы фотографирует ваша дочь. В моей практике не бывало случая, чтобы отец подводил под виселицу родную дочь. Неудивительно, что мы все вам поверили… Не буду кривить душой, поверили с большой охотой. – Генерал покосился на протоколистку, но все-таки договорил: – Предательство старшего офицера генерального штаба – чудовищный скандал, который никому не нужен. Другое дело – член семьи. Преступная халатность, не более того… На этих сантиментах вы безошибочно и сыграли. Это вы подсовывали фотопластины за подкладку ридикюля. Мадемуазель Шахова о них и не подозревала. Вечером, переодевшись, вы отправлялись в кабаре и вели наблюдение за прапорщиком Романовым, благо наш агент был вам известен. Первую пластину вам удалось изъять незаметно. Не знаю, на что вы рассчитывали. Может быть, тянули время. Или же хотели навести нас на ложный след – владелец кабаре отлично подходил на роль вражеского агента. Однако во второй вечер вы поняли, что существует только один надежный выход: убить дочь, свалив преступление на неведомых германских шпионов. Тогда Алина останется навсегда виновной, а концы уйдут в воду. Истинный триумф логики. – Генерал остановился над Шаховым, сжав кулаки. – Знаете, на этой службе я всяких мерзавцев повидал. Но такого беспросветного выродка встречаю впервые!
Не сдержавшись, пересевший к Алексею князь Козловский крякнул – выразил полное согласие. А Романов всё не мог оторвать взгляд от лица детоубийцы.
Оно нисколько не переменилось и после эмоционального взрыва его превосходительства. Предатель вроде бы слушал, и внимательно, но слышал ли и улавливал ли смысл слов – бог весть.
Алексею подумалось: может быть, у выродков все устроено иначе, чем у нормальных людей, – и слух, и зрение, и остальные органы чувств? Выродки видят и слышат не то, что все мы, а нечто свое. Как та же кошка, различающая много оттенков серого, но неспособная воспринимать яркие цвета. Или летучая мышь, для которой важнее всего не звуки и образы, а эхолокация.
– Имеете что-нибудь сказать? – спросил Жуковский, не дождавшись ответа.
Оказалось, что Шахов всё отлично услышал и понял.
– Имею. Во-первых, катитесь вы с вашими моральными сентенциями. – У ротмистра встопорщились усы, генерал побагровел. – Классик сказал: раз Бога нет, всё дозволено. А Бога именно что нет. Вы это отлично знаете, иначе не служили бы жандармом. Господин Достоевский тысячу раз прав. Я когда это понял, еще юнкером, так легко стало на свете жить, вы не представляете!
По тону и ухмылке Шахова было ясно, что он нарочно выводит генерала из себя. Понимает – терять нечего.
– А во-вторых, – продолжил подполковник, – рассудите сами. Вы же умный человек. Я привык жить на определенном уровне. А когда лопнул банк и сгорели все деньги, пришлось перебиваться на одно жалованье, на жалкие шесть тысяч со всеми обмундировочными-командировочными. При этом под рукой имелся товар, за который кое-кто был готов платить очень хорошие деньги. Ну и в-третьих. – Лицо Шахова перекосилось, из чего следовало, что он все же задет «выродком» за живое. – Про отцов и детей мне проповедовать не нужно! Лучше никакой дочери, чем законченная морфинистка. А так – мне спасение, ей избавление. Dixi.[3]
Он зажег новую папиросу и с наслаждением затянулся.
– У, скотина… – жарко прошептал Алексею на ухо князь. И мечтательно прибавил: – Чем хамить, лучше бы кинулся он на генерала… Ух я б тогда! Тебе-то хорошо, ты хоть немножко душу отвел, когда его брал.
– Мало, – так же тихо, но с большим чувством ответил Романов, думая: вот есть гуманные люди, противники смертной казни, те же Достоевский с Толстым. Теоретически и нравственно они, наверное, правы. Но предъявить бы Федору Михайловичу со Львом Николаевичем господина подполковника да посмотреть, не сделают ли для него великие гуманисты исключение.
Его превосходительство метнул на шепчущихся взгляд, двинул бровями. Офицеры сделали одинаковые каменные лица.
– Ладно, про отцовские чувства не буду. – Жуковский расстегнул крючок на воротнике кителя, словно ему стало трудно дышать. – Давайте поговорим про виселицу, которая вас ждет не дождется.
Рука Шахова тоже схватилась за горло. Выходит, не такие уж стальные были нервы у изменника.
– Вы как, не поможете нам выйти на германского резидента? – небрежно, словно о каком-нибудь пустяке, спросил Жуковский.
Князь толкнул Романова коленкой: слушай, учись – начинается.
Тем же светским тоном арестованный осведомился:
– А что? Это избавило бы меня от виселицы?
– Безусловно. В обмен на резидента вы получите пистолет с одним патроном. Даю слово офицера.
Шахов разочарованно наморщил нос.
– Хоть бы что-нибудь новое придумали! На черта мне такие одолжения. Тем более что в этом случае одолжение вам сделаю я. Избавлю от неприятного судебного процесса. Скандал в прессе, нагоняи от начальства. А так застрелился раб Божий, и всё шито-крыто. Нет уж, батенька, мне пожалуйте суд, да по всей форме: с прокурором, с адвокатом. Немцы вон как наступают, уже Варшаву цапнули. Пока суд да дело, апелляция-конфирмация, они, глядишь, и Москву с Петроградом возьмут.
– Ну, повесить-то мы вас в любом случае успеем. Это я вам гарантирую. – Поразительно то, что Жуковский на негодяя вроде бы уже и не гневался, а разговаривал с ним спокойно, чуть ли не с удовольствием. – Но раз вы такой… практичный господин, у меня будет к вам другое предложение. Оно вам понравится. Только сначала вопрос, из чистого любопытства. Что ж вы дочку сами-то, собственными руками? Ведь неприятно, наверное. Даже вам. Попросили бы своих немецких друзей, они бы не отказали.
Глаза подполковника вспыхнули желтыми огоньками – кошка почуяла шанс. Сконфуженно разведя руками, Шахов признался:
– Совестно было просить. Дело-то семейное.
– Ну да, – понимающе кивнул генерал. – Вам ведь с немцами потом жить. Когда они Москву с Питером возьмут. Будут вами брезговать, руки не подадут… Вы от них эту историю вообще утаили бы, правда? Понимаю.
Он надел пенсне и наклонился к изменнику, смотря ему в глаза.
– Ну а теперь мое предложение. Вы выдаете нам резидента. Мы его не трогаем. Вас тоже не трогаем. Служите себе и дальше.
– Хотите, чтобы я сплавлял немцам чепуху, которой вы меня будете снабжать?
– Почему же чепуху? Это будут в высшей степени солидные, абсолютно достоверные сведения. Знаете, что мы еще сделаем? Мы переведем вас на другую должность, более интересную для немцев. Например, офицером особых поручений к генерал-квартирмейстеру. А то и в Ставку. Подумаем.
Прапорщик в панике оглянулся на Козловского. Неужели такое возможно?! Князь восторженно подмигнул: ай да Владимир Федорович, ай да голова!
– Хм, предложение заманчивое, – протянул Шахов. – Может быть, немцы и не возьмут Москву… Что-то наступление у них замедляется… Скажите, генерал, а буду ли я плюс к своему жалованью получать доплату от вашего ведомства?
Челюсть Жуковского брезгливо дрогнула.
– Будете. Сдельно.
Тогда Шахов погасил папиросу, вскочил со стула и вытянулся по стойке «смирно».
– Ну, раз я снова подполковник… Осмелюсь доложить, ваше превосходительство, немцы платят мне помесячно плюс премиальные за каждый документ. Иногда выходит до восьми тысяч в месяц. Довольно странно, что вы предлагаете мне сдельную оплату.
– Так немцы будут и дальше вам платить, еще больше прежнего. Для вас двойная выгода. А мы с вами станем рассчитываться в зависимости от конкретного результата. Про виселицу опять же не забывайте, она тоже чего-то стоит, – сварливо ответил генерал.
– Ваше превосходительство, – громко сказал Романов, поднимаясь. – Позвольте выйти.
Жуковский рассеянно махнул: идите куда хотите, только не мешайте.
Быстрым шагом, чуть ли не бегом, прапорщик вышел за дверь.
Тошно!
Пустой коридор. Горит электричество. Стены отливают казенной маслянистой охрой. Глубокая ночь. За окнами черное небо с серой полосой на востоке – скоро рассвет, но день опять будет пасмурным.
Алексею было скверно. Во всех смыслах – и физически, и нравственно. Раскалывалась голова, ныло израненное тело, изнутри накатывала тошнота. Он отодрал оконную раму, которую, вероятно, не открывали с прошлого столетия. Вдохнул сырой воздух, но легче не стало. Прапорщика трясло. От усталости, от ярости, от гадливости.
Перестань, приказал он себе. Не бабься. Владимир Федорович только что блестяще провел классическую операцию по перевербовке вражеского шпиона. Теперь это двойной агент, причем за все ниточки его держим мы. Это большая удача, которая стоит выигранного сражения. Дальше события будут происходить так: немецкий Генштаб через Шахова станет получать очень ценные, абсолютно правдивые сведения, которые повысят котировку источника до наивысшей степени. А потом, в стратегически важный момент – скажем, накануне крупной фронтовой операции – по этому каналу вбросят дезинформацию. Немцы ее заглотят, и это может решить судьбу целой кампании или даже, чем черт не шутит, всей войны. Что по сравнению с такой грандиозной целью жизнь, подаренная мерзавцу, или жизнь, отнятая у больной обреченной девочки? Ерунда, мелочь.
И это действительно так.
Но отчего же на душе тошно? Просто невыносимо!
Рыжая кошка нашла-таки мусорный бак, на который запрыгнула и спаслась от верной гибели. Этот «мусорный бак» – контрразведывательная служба Российского государства. Организация, к которой имеет честь принадлежать и он, Алексей Романов.
Ничего отвратительного в профессии мусорщика нет, сказал прапорщик своему отражению в темном стекле. Без мусорщиков всё вокруг утонуло бы в грязи. А без разведки и контрразведки победить в современной войне нельзя. Кто-то должен этим заниматься. И чистюля, боящийся запачкаться, всегда проиграет противнику, который не останавливается ни перед чем.
– И всё же. Неужто нельзя как-нибудь по-другому? – спросил прапорщик Романов у своего призрачного двойника, сквозь которого просвечивал ночной город.
Отражение молчало, потерянно мигая двумя глазами. Третье око, нарисованное, таращилось бестрепетно. Сомнения ему были неведомы.
Хроника
Здание Жандармского корпуса на Фурштатской
Главное артиллерийское управление на Литейном
Жизнь тылового Петрограда
Тяжелые бои и бесконечное отступление
Падение Перемышля и Варшавы
Два миллиона убитых, раненых и пленных…
Портативные аппараты «Кодак»
Шпионская техника времен Первой мировой
Мода на инфернальность
Пьеро, Коломбины и Арлекины
Роковые поэты и роковые женщины
Большой проспект
Василеостровские линии
Тучкова набережная
Глухой район
Конец немецкого шпиона