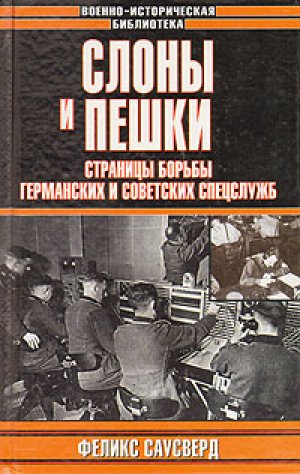
Предисловие
Итак, почему шахматно-условное: «слоны» и «пешки?» «Слоны» — понятие в данной истории разноплановое. Это и шахматный слон, вульгарно — «офицер», что значит господин, повелитель, начальник или в этом роде кто-то еще. В этой книге, мы попытались рассказать об истории движения Сопротивления на оккупированной территории, о деятельности группы патриотов рижского подполья через подходы, восприятие, оценки и действия вражеских «слонов». Ну и не обойдены, конечно, «слоны» наши, домашние, отечественные.
Пешка же и есть пешка. Как известно, она расположена впереди благородных фигур: короля, ферзя, слонов, коней, ладей. Она, пешка, идет в бой по приказу свыше, ее чаще всего приносят в жертву, и только она, больше никто, может набрать такую силу при движении в атаку, что иногда превращается в самую решающую фигуру — в ферзя, и тем предопределяет выигрыш кампании. И еще пешка не может идти назад, не имеет права отступать. Только вперед! Хоть на одну клеточку, на один шаг, на один бросок, но вперед! Это все на доске.
А в жизни? О войне написано много и будет написано еще больше, ибо столько судеб человеческих превращено в прах и пепел, что мы — простые люди — своими рассказами, устными или на бумаге, постоянно пытаемся определить вину «слонов» за судьбу «пешек». Это давно перестало быть древней игрой и превратилось в такое проклятие, которое все мы желаем предотвратить и уничтожить в зародыше. Война была внезапной, нападение вероломным? Да уж бросьте, увольте! «Слоны» в лице Гитлера и всего руководства его национал-социалистского стада: Кейтель, Гиммлер, Канарис, Розенберг, Шелленберг — подготовили поход на Восток настолько заблаговременно, что успели даже навести лоск на заклепках ворот лагерей для наших военнопленных, побив тем самым рекорд готовности к войне номер один по шкале зашнурованного немецкого ботинка.
Помните начало романа «Война и мир», милую болтовню в салоне графини Анны Павловны Шерер о продвижении страшного корсиканца: общество гудело в тот вечер, как растревоженный пчелиный улей. К чему это я? Да к тому, что в 1941 году разговоры подобного рода объявлялись паническими, пасквилем на нашу дружбу с Германией со всеми вытекающими отсюда последствиями. С чем еще ассоциируется вечер у Шерер? Да с тем, что собиравшиеся, скажем в Кремле или на даче у Сталина, тоже были прекрасно осведомлены о движении урожденного австрийца Шикльгрубера к нашим рубежам, для чего в поверженной Польше накопили к началу восточной кампании восемь армий вермахта. Тем не менее ни один из сталинских приближенных «слоников» не обратился с открытым письмом, как Ф. Ф. Раскольников, не принес в жертву лучшую жизнь ради спасения «пешек», побоялся, что сразу перенесется от открытого послания в закрытый гроб.
Заметьте, что офицеры начальствующего состава, занявшие места Раскольникова и Я. К. Берзина и обладавшие разведывательной информацией о готовящемся вторжении Гитлера, не осмелились доложить ее в фактологическом виде, а подогнали свои порочные выводы под тот гнилой политический гарнир, которым питался вождь и которым он потчевал страну накануне нападения фашистской Германии.
«Слоны» не думали о «пешках». Даже если Сталину, скажем так, снился сон о начале войны только весной 1942 года (а теперь некоторые историки утверждают, и небезосновательно, что он сам готовился напасть на Гитлера в сорок втором), то о судьбе «пешек» отец народов не задумывался: пушечного мяса так много, что должно хватить! И для полной победы нас хватило. А почему, собственно говоря, мы должны были заплатить такую огромную цену, больше чем десять солдат за одного немецкого? Почему миллионы самых разных людей: партийных и беспартийных, всех возрастов и наций, будущих Пушкиных, Вавиловых, Ландау должны были лечь в братские могилы и просто во рвы, овраги, яры? Да потому, что о людях думали как о пешках. Жертва — «пешки»? Пожалуйста. У нас их много. Еще отыграемся и победим.
«Слонов» и «пешек» врага у нас изображают в различных ракурсах и диапазонах, в последние годы все более правдиво. Но начинали мы с ловцов кур в немецкой форме на тех же белорусских подворьях и с непременных требований «млека» в первых военных фильмах. Затем все чаще стали появляться живописные, подчас пиратско-опереточные группы затянутых в черные мундиры эсэсовских офицеров, среди которых один почти всегда оказывался асом советской разведки… Вообще, если заняться подсчетами, сколько «наших» было (по литературным произведениям и фильмам) в «их» рядах, то получится цифра явно нескромная и, безусловно, в нашу пользу.
Но дело выглядело совсем не так. Оккупировали-то они нас, и стало быть, танец «слонов», вытаптывающих все живое четыре года, исполняли на нашей земле фашисты. Фактически неправильно изображать дело так, что мы в этих условиях одерживали над противниками из карательных служб Германии одну победу за другой. Я понимаю, как некоторым хочется романтики борьбы и удач при битье эсэсовцев, но, к сожалению и по правде, нас тоже колотили.
По роду осуществлявшейся почти в течение тридцати лет службы; автору приходилось распутывать истории, связанные с предательскими делами наших граждан, и надо сказать, что таковые совершались далеко не случайными «заблудшими овцами». После войны, кажется в 1948 году, для служебного пользования был издан указатель по розыску агентов немецких карательных органов. Любопытная деталь: в этом толстенном гроссбухе не было нумерации: фамилия каждого выделялась жирным шрифтом и шла на странице с новой строки, а дальше перечислялись другие имевшиеся у него (нее) фамилии, клички и назывались приметы. Удобства в работе это не создавало, так как каждый раз надо было в письмах по розыску переписывать целый абзац, в то время как ссылка на номер снимала бы ненужную писанину. И вот однажды мы прикинули, сколько же лиц перечисляется в этом фолианте? Оказалось, что порядка десяти тысяч. Так что даже от своего служивого люда пытались спрятать концы на тему количества предательств.
Нужна ли в этом вопросе гласность? Да, нужна. Во-первых, на вещи такого рода надо было смотреть трезво и не обольщаться лозунгами и фразами предвоенных песен. Идеология гитлеризма, лагеря, плен, тюрьмы, негативы коллективизации, довоенная депортация людей из Прибалтики, посулы, деньги, нравственные и физические мучения — все это способствовало перерождению людей, вплоть до предательства по отношению к своему отечеству. Во-вторых, не без вины виноватых у нас тоже хватало, не надо приравнивать их к жертвам репрессий. Речь идет исключительно об установленных агентах карательных органов Германии. И это просто факт, что в результате репрессий перед войной было выбито около двадцати тысяч чекистов. Да, правда, среди последних находилось тоже немало перерожденцев, но убивали их не за это, их создала и уничтожила за ненужность система.
Вот мы и подошли к драме противоборства наших идейно крепких, но неподготовленных, во многом жертвенных патриотов и отбалансированной до винтика полицейской машины — людей Канариса, Мюллера, Панцингера и пр. Да, мы выиграли войну, наши солдаты водрузили Знамя Победы над рейхстагом! Но сколько жизней мы потеряли из-за собственной безмозглости!
Судьбы главных героев этой невыдуманной истории мы попытались увидеть холодными глазами врага, показать их через практическую деятельность абвера и гестапо, проводивших хитроумные комбинации, в которые, и здесь ни убавить ни прибавить, «мы» попадались. Под словом «мы» я имею в виду и самих погибших патриотов, и их начальство. Не надо все спихивать на экстремальные условия войны, на то, что война есть война и другие расхожие понятия, допустимость которых никто не отрицает.
У меня на всю жизнь осталась в памяти гибель Николая Ивановича Кузнецова, которого на протяжении всей его карьеры в качестве офицера вермахта Пауля Зиберта использовали шаблонно. Раз за разом он в одном и том же обличье убивал, похищал германских «слонов» в больших чинах, выполнял задания безропотно. И враг его изучил досконально, не мог не изучить, — столько накопилось одних и тех же приемов. Нужна была такая деятельность Кузнецова? Да, и ему говорили: «Вперед, Коля», и он шел, и за своей смертью тоже. А его надо было вывезти на Большую землю, спасти, или придержать при отряде, сменить амплуа и тоже спасти. И никто не оправдает его гибель экстремальными условиями войны. А смерть Рихарда Зорге, сидевшего в японской тюрьме в ожидании виселицы? Никто не пожелал обменять его на японских генералов, бывших в плену у нас. Какими военными обстоятельствами это может быть оправдано? Писатель Юлиан Семенов обнародовал факт, что жену Зорге и их сынишку, после казни отца японцами, расстреляли… наши «слоны». Вы понимаете, что сказать «наши» и язык-то не поворачивается.
И в качестве резюме предисловия ставится одна задача, такая же, как перед руководителями на войне. Имели ли они право при ставших известными им неблагоприятных обстоятельствах или при подозрительных условиях (сходных с активной деятельностью врага, похожей на расстановку ловушек), посылать наших патриотов-подпольщиков, разведчиков на верную смерть? Оправдано ли утешение, что мы не знали, не предвидели? Мне хочется верить, что эти вопросы заставят задуматься читателей о существовании трагедийных потенциальных ситуаций. Ведь речь идет не только о военных событиях.
Итак, шекспировско-гамлетовский вопрос «быть или не быть» принцу самим собой либо пешкой в руках придворных по-прежнему актуален: судьба каждого может быть сломана чужой недоброй волей. Об этом часто забывают. Главным образом — «слоны».
Разговор
Беседа была долгой и нудной. Ее темп временами возрастал, но ненадолго, ибо противная сторона все время гасила его своими неопределенными ответами, ссылками на давность событий и прорехи личной памяти. Предмет разговора был обширным, делился на множество частей, и Конрад попросту боялся своей категоричности, когда можно было одним неверным утверждением продемонстрировать перед господином бухгалтером собственную неосведомленность. Шла как бы переброска теннисного мяча, и обе стороны не стремились сильно бить по нему. Было еще рано это делать: Конраду потому, что прямых доказательств у него против господина бухгалтера пока что не было, а тому следовало убедиться в серьезности позиций этого молодого фанатика, как он обозвал его про себя на третьем часу разговора.
Заре отлично понимал, что эта беседа была лишь увертюрой, что никто не станет выбалтывать улики просто так, за здорово живешь. В жизни ему достаточно часто приходилось сталкиваться со всякого рода ловушками, да и сам он, выполняя функции ревизора, умел их расставлять и сейчас чувствовал, что собеседник, расспрашивая о его поездках по Латвии тридцатилетней давности, старается из разрозненных мозаичных кусочков сложить что-то единое во времени и в пространстве. Боялся ли он этих вопросов? Да, они были неприятны. Но с другой стороны, он знал, что со всеми, с кем ему доводилось сталкиваться в те годы, у него сохранились хорошие отношения и ни в чем предосудительном он замечен не был, иначе это как-нибудь, но проявилось. События он излагал толково, в конце концов, фанатик интересовался годами и месяцами, а не днями и часами, в течение которых и случалось разное.
…Конрад работал всего второй год, и это было его первое самостоятельное дело. Ему предоставили полную свободу действий просто потому, что дело было дохлым. Да и что могло выйти из десятка коротеньких справок, отпечатанных на пишущей машинке, как правило на страничке — полутора, прямо скажем, о событиях второстепенной важности, происходивших в богом забытых углах Латгалии. Речь шла о печатании коммунистических прокламаций к первомайскому празднику, перевозке шрифта для карликовой типографии, правда в другой конец Латвии, каких-то встречах на глухом побережье Балтики…
Его непосредственный начальник Федор Петрович, человек быстрых движений и темпераментной речи, протягивая пакет с фотокопиями из архива, сказал:
— Обратите внимание, что эти бумажки видел сам шеф. Будьте готовы, что он за них может спросить, тем более, что Линде мог выйти на шефа напрямую. Старики знают друг друга давно.
Как подтвердили коллеги, информация Феди была исчерпывающей. Больше он при всем желании ничего не мог сказать. Федя не любил таких, как он называл, заумных ситуаций, где процент удачи скрывался за нулем с запятой. Он предпочитал дела броские, шумные, в связи с которыми все начальство было на виду у шефа и тот мог оценить энтузиазм Феди визуально, так сказать. А здесь?..
Перебирая все это в голове, Конрад шел к трамвайной остановке. Моросило. В воздухе носились весенние запахи, влажность окутывала так, словно шагал он без пальто. Шел и думал: вот в такую же дождливую пору какие-то парни перетаскивали типографские шрифты, готовились к первому мая, их схватили. Теперь тебе больше лет, чем им тогда, целых двадцать восемь, так будь любезен, ответь, кто же их предал… Только и всего. Это же проще, чем таскать мешок с литерами. Проще? «Но что это дает?» — говаривал Федя, оценивая вносимые ему предложения. Даст много, если узнаем, и ничего, если не узнаем, думал Конрад. Не так-то просто раскрыть преступление многолетней давности. И пока из ничего нельзя было дать что-то. Те парни и девушки верили в высокие идеалы, рисковали и проиграли. Ты действуешь, можно сказать, в академической обстановке: логикой, рассуждениями, так постарайся что ли отбиться за них. Отбиться, так ли это верно? А почему нет? Они попались в засаду, их выследили, арестовали, часть выпустили, жизни покалечили. Найди эту засаду, накрой ее. Трудно? Им было трудней. Так что бери след и вперед. А где он, след? Давай лучше в трамвай и езжай в архив за следами.
Линде был так же хмур, как день вокруг. Он был высок, но все равно терялся на фоне бесконечных огромных стеллажей, где в картонных коробках чахли все эти таинства дней минувших. Несмотря на внешнюю неприветливость, Линде показался Конраду симпатичным стариком. Он не поучал, не упомянул даже, что в годы войны был начальником контрразведки латышской дивизии, полковником, держался просто, лазил по лесенке к своим, как он выразился, подчиненным — единицам хранения, проходящим службу в домахчкоробках, только в картонных.
— Так, значит, заинтересовали вас мои листочки? — спросил он, узнав о цели визита.
— А разве могло быть иначе? — вопросом на вопрос ответил Конрад.
— Бывает. И весьма часто. Отправляю вам что-то, ведь архивы до сих пор разбираются, а реакции никакой. Как в братскую могилу. Когда нашел эти листочки, то позвонил шефу вашему, предупредил, что посылаю. Он ответил — давай, присылай, найду, говорит, тут сыщика, пока неиспорченного, пусть умом пошевелит, а то мои выдающиеся мастера сыска заняты более важными делами. Для них, говорит, твои открытия, что семечки, только они их нераскусанными выплевывают и докладывают, что там ничего нет, это фантазии старого Линде.
— Вы меня хотите заставить краснеть, — засветился Конрад.
— Если можешь — красней, это значит совесть у тебя точно на месте, — улыбнулся Линде. — Только шеф ваш в людях разбирается, и раз доверил вам это дело, то я помогу, доверил бы другому — помог бы и ему. Итак, с чего начнем?
— Нам неизвестно, кто снабжал политохранку всей этой информацией, — сказал Конрад, — но можем ли мы определить офицера, который составлял эти справки?
— Маловероятно. Справки анонимные, подписей нет. И потом, он мог лишь диктовать, а печатал кто-то другой, — возразил Линде.
— Вряд ли. Ведь информация важная, вон как ее камуфлировали. События в разных концах Латвии, а машинка одна. Следовательно, и человек один, тот, кто печатал. Может, поищем документы, исполненные на этой машинке? Найдем с подписью, — предложил Конрад.
— А если не найдем? А вы сравнивать шрифты умеете? — спросил старик.
— Я? Не очень, — честно признался Конрад. — Но у нас есть специалисты. Давайте отберем похожие, а в следующий раз я позову эксперта.
— Вы думаете это просто? Отберем, отберем… Вы знаете, что я думаю?
— Что?
— Вы неправы, что это важная информация. Это рядовая информация. А вот то, что ее камуфлировали, — это да. Значит…
— Значит, человек этот, в смысле гад этот, был очень уж ценным, — досказал Конрад.
— Не то, не то, — морщил лоб Линде, — если он ценен, следовательно…
— Он снабжал их чем-то сверхважным, чего в архиве нет, — воскликнул Конрад и добавил. — В письменном виде это даже не отражалось.
— Не спешите, не спешите. Чуть медленнее. В архиве есть много чего, но нельзя же все наши сенсации пристегивать к вашему иксу. А вообще вы правы. Хвалю. Надо искать похожий шрифт, сотрудника. Возможно, ваша гипотеза и не лишена смысла. Как ваше имя?
— Франц. Это так важно?
— Да нет, просто раз сотрудничать будем, то и познакомиться не мешает. Меня зовут Альберт Карлович, — ответил Линде. — Так какие высоты вы думаете сейчас брать, Франц?
— Я думаю, пока вы будете искать бумаги с шрифтом этой машинки и с подписью, я поговорю со всеми живыми, кто упомянут в ваших листиках.
— Имейте в виду, что там могут быть и призраки.
— Умершие?
— Нет, нет. Охранка имела обыкновение упоминать в таких бумажках лиц, не бывших при событии. Это сбивает со следа.
— Хорошо, скажем, упомянуто всего там двадцать семь человек при пяти эпизодах. Если пять из них, как вы, Альберт Карлович, говорите, тени, призраки, то остальные…
— Только не увлекайтесь арифметикой. Поверьте мне…
— Господи, да я только и делаю, что впитываю в себя советы бывалого, как теперь говорят.
На этом тогда и расстались. Прошло три недели. И вот сегодняшний разговор. Что же… одну высоту взяли. Круг постепенно сужался. И вот этот Зарс. Он? Поди докажи. Докажи, докажи…
— Ладно, Зарс, дайте пропуск, отмечу, придете через два дня.
— Во сколько?
— В одиннадцать…
Одиннадцать и было тогда арестовано. Одиннадцать из двенадцати. Семь были для путаницы выдуманы и приплюсованы. Да? Ошибиться нельзя. Если же в этой семерке кто-то… Да нет, они отпали. Но из семи трое потом на фронте погибли. Их нет. Среди них? Не надо арифметики?
Зазвонил телефон.
— Да, Конрад слушает. Да, узнал… Конечно знаю, ее фамилия Ласе… Что? Господи… Вот это да, Альберт Карлович! Это нокаут. Кому? Ему. Я завтра у вас буду, да, с утра, в десять.
Конрад пошел к Федору, но кабинет был закрыт.
«Ладно, поделимся новостью завтра. Путь теперь Федя скажет «что это нам дает», — подумал Конрад и, оставив записку под дверью кабинета начальника, что завтра явится на службу к одиннадцати, оживленный в предвкушении, как ему казалось, успеха, побежал домой.
Шеф
И вот опять вечер. Конрад сидел в приемной шефа, в самом отдаленном ее уголке, держа на коленях папку с бумагами. Его визиту предшествовали оживленные переговоры Феди с несколькими ответственными товарищами рангом выше Феди, но пониже шефа. Сосед Конрада по кабинету — Казимир, которого все, кроме Франца, называли ласково Казик, изобразил в лицах сцены мотания Феди по кабинетам начальства с целью заинтересовать их важность содержимого папки и прорыва с нею к шефу для поднятия своих пошатнувшихся акций. По версии Казика, начальство недовольно хмыкало, ибо дело было сырым, путаным, никто его толком не знал, однако было ясно, что не исключены встречи с очень ответственными в республике людьми, поэтому встревать в него Феде не позволили, а было сказано Конраду явиться для доклада шефу к шести часам. Казик с его опытом определил, что, во-первых, на первоначальных архивных документах была резолюция шефа «Доложить» с известной всем почти разборчивой подписью, означавшей, что он разбирался с содержанием внимательно (в иных случаях он ставил просто загогулину, свидетельствующую об ознакомлении со сто первой, рядовой задень бумагой). Во-вторых, Феде пояснили, — что, дескать, пошли этого молодого в качестве проявителя ситуации, а потом посмотрим. В-третьих, шефу нравится встречаться с начинающими сотрудниками, Конрад попадет к нему в качестве новенького, он не тупица, и шеф может благодушно отнестись к Феде за его воспитательную работу по выращиванию ранних талантов, и тем самым Федины акции вновь подскочат на два пункта. Так раскладывал ситуацию по полочкам Казик, который знал если не все, то почти все.
Так или иначе, но Конрад очутился в приемной, что означало согласие шефа с данными ему предложениями. Франц сидел и смотрел на происходящее перед глазами с интересом, ибо был здесь всего второй раз. Первый — не считался: его тогда быстро провел через приемную кадровик и представил шефу как принятого на работу. Последний говорил с ним коротко, поинтересовался, кем бы Конрад хотел работать, и на ответ, что следователем, поморщился и произнес: «Туда вы всегда успеете. Будете работать в таком-то оперативном отделе».
Своих мыслей он не расшифровал! Казик при знакомстве прокомментировал это безапелляционно: «Шеф при назначениях не ошибается. Он в прошлом следователь». О решении шефа Конрад не жалел, работа была интересной, и вскоре он убедился, что из хорошего оперативника следователь получается, однако случаев обратного порядка пока что ему видеть не приходилось.
Приемная была полна, время аудиенции затягивалось, ибо шеф всегда изучал или просматривал первичные материалы, не надеясь на свое восприятие на слух, как он объяснял при этом, а также на обобщенные справки, в которых иногда в следствие неповторимого стиля их составителей исчезали не вписывающиеся в них моменты.
Приемы у шефа ценили, хотя их и побаивались. Все сходились во мнении, что он человек мудрый и разбор возникающих ситуаций точен и беспристрастен. Сотрудникам, особенно молодым, импонировало, что он всегда брал ответственность на себя, если другие руководители перестраховывались. С провинившихся спрашивал не то чтобы жестко, но ядовито их высмеивал: и с глазу на глаз, и на собраниях. Злопамятным не был, хотя обладал феноменальной памятью и охотно демонстрировал ее, когда кто-нибудь совершал ошибки и промахи одного и того же ряда. Когда шеф вспоминал, что такой-то пять лет назад провалился там-то, на что ему указывалось, а теперь сделал опять такой же прокол, — пощады не ждали.
Обычно он знал, что у него в приемной дежурный постоянно дополнял экземпляр списка визитеров, и, бывало, вытаскивал оттуда того, кто ему требовался в данную минуту. Ему нравилось, что люди толпятся неподалеку от него, не скрывал этого и не признавал пустой приемной, истолковывая это как показатель ненужности хозяина кабинета. Он не понимал, как может быть стол совершенно, по его выражению, голым, лишенным своих функций подспорья для документов, определяя это как признак не вникания в дело. Наконец, он почти никогда не отправлял подчиненных с документами со словами «что-то не нравится, идите, подумайте», считая подобное барством, и дорабатывал все на месте, причем вычеркивал, формулировал, исправлял необходимое быстро и четко. Позже преемник старика, в ту пору его заместитель, назвал все это анахронизмом: в приемной зависла кладбищенская тишина, стол стал сверкать полированной поверхностью, дела и бумаги теперь читались вслух, а новый владелец кабинета замечал, что так не звучит, — переиначьте. Единственное, что осталось у него общего с предшественником — это зеленые чернила, в которых преемник усматривал причину авторитета шефа. Но это было позже.
Наконец дежурный позвал Конрада. Он вошел, поздоровался, шеф кивнул, предложив сесть, и бросил:
— Сейчас я допишу, как раз с вашим документом знакомился.
Поскольку документы от Конрада, которые бы годились для доклада шефу, исчислялись единицами, то он сразу понял, о чем идет речь. Где-то месяца три тому назад Федя прослышал, что в окрестностях Парижа проживает полковник американской армии, начальник какой-то базы, вроде бы авиационной, а его дамой сердца является красавица из семьи латышских эмигрантов. Федя загорелся идеей проникновения через дамочку к секретам полковника, а затем и дальше, вплоть до ЦРУ. Он поручил Конраду разыскать кого-либо из соучениц мадам и… Казик предложил самопожертвование: он с найденной Конрадом подругой выезжает в Париж, а затем… Проекты были один ошеломительнее другого. Подругу нашли, и Франц составил обширный план действий, правда без участия Казика, так как начальство юмор понимало.
…Шеф, улыбаясь, закончил писать и протянул документ Конраду.
— Возьмите, можете ознакомиться с резолюцией. Конрад прочитал и вопросительно посмотрел на шефа. Тот, по-прежнему улыбаясь кончиками губ и смотря на Конрада поверх очков, спросил:
— Доходит? Вы согласны со мною?
— Не понимаю, товарищ генерал, вроде бы выгодная ситуация. Все-таки американский полковник, командует базой, и у нас такие возможности, — цитируя Федю и веря в значимость фразы, сказал он.
— Не отрицаю. Да, любовница полковника и эта, ваша, как ее там, соученица, действительно дружат, хотя прошло пятнадцать лет как они расстались.
— Вы полагаете, они стали чужими?
— Дело не в них.
— Извините, товарищ генерал, а в чем?
— В полковнике. Американцу пятьдесят шесть. Вы посмотрите на фотографию еще раз. Он моего возраста, чуть моложе. Я почти развалина, но он полная развалина. А она? Потрясающая женщина! Ей тридцать? Она восхитительна!
— Ей тридцать два.
— Не имеет значения. Она его бросит. Будьте уверены.
— Но пока таких признаков нет, — возразил Конрад.
— Где нет? У вас с Федором нет? Так Федор никогда не разбирался в женщинах и в отношениях между полами, — заявил шеф глубокомысленно, а затем рассмеялся. — Этих признаков вам с Федором отсюда не увидеть. Поймите, с природой не спорят, ей подчиняются. Плюс Париж… Так я в нем и не побывал, — вздохнул комично шеф, — а для всяких там эмигрантов — пожалуйста, все открыто. Да-да. Кроме родины, конечно. Мне рассказывали, что русские эмигранты во Франции, — перескочил он на другую тему, — участвовали в Сопротивлении, и когда немцы их ловили и допрашивали, то на вопрос о занимаемом положении многие гордо отвечали, что они русские офицеры, хотя таковыми являлись всего лет шесть или чуть больше в мировую и гражданскую, а двадцать лет затем работали таксистами и в ресторанах Парижа. Вы читали о Париже? — спросил он и пояснил: — Мне мало приходилось, разве что Гюго.
— Много читал. И братьев Гонкуров, и Хемингуэя, и Эренбурга…
— И вы думаете, она не найдет там себе более подходящего кавалера? Вас, мой дорогой товарищ Конрад, прельщают полковничьи звезды, не так ли? — резвился шеф. — Сколько вам, тридцать?
— Двадцать восемь.
— Вот-вот. Поставьте себя на ее место. Прикиньте, кто ей нужен. Доходит?
— Да, но… — промямлил Конрад.
— Задвиньте это дело подальше, не увлекайтесь мишурой, а через годик расскажете мне о судьбах этого американского ворона и нашей голубки. Идет? С этим все! Займемся серьезными делами. Покажите мне все, что наработали за это время, — закончил он первую часть беседы.
Конрад передал ему принесенную папку, а сам принялся изучать полученную резолюцию. Шеф адресовал ее Федору и ему, Конраду, с советом впредь не заниматься авантюрными делами, а если невмоготу, то читать Дюма-сына. Конрад представил себе, как взовьется Федор и будет изображать все это Казик, и чуть не рассмеялся вслух. Кстати, забегая вперед, скажем, что через полгода голубка сбежала-таки от полковника с испанским танцором в Аргентину. Узнав об этом, шеф долго смеялся.
Закончив читать, шеф промолвил:
— Так. Хорошо. И каковы же личные впечатления?
— Изо всех возможных вариантов — это Зарс. Фигура непонятная. Вначале о нем упоминалось в этих листках архива, затем пропал почти, стал незаметным.
— Так, вижу, продолжайте.
— С ним беседую уже третий раз. Пока успехов мало. Замолкает. По получасу молчит, потом мычит. Арестовывать его надо, товарищ генерал, — неожиданно бухнул Конрад.
— Арестовывать, говорите? Да? Это на каких же основаниях? На основании догадок? Назад к беззаконию? Только что отошли от культа, три года прошло, разоблачили репрессии, восстановили законность — и на тебе. Арестовывать! Я на таких, как вы, людей думающих, университеты, институты окончивших, ставку делаю. Не то, не то вы говорите.
Шеф встал из-за стола и начал ходить.
— К вечеру ноги затекают, надо расходиться. Поймите, вы с трудом вычислили возможного, повторяю, вероятного виновника этих бед. Но вероятность надо превращать в доказательность. Стадию арифметики мы прошли, началась алгебра, сложности, хочу сказать. Мычит — молчит, говорите? А что ему делать? Он защищается. То, что замолкает — это неплохо, думает, значит, что сказать, а что — нет. Следовательно, имеет, что сказать, а говорить не хочется, вот и мычит. Все логично, — ободрил он и сел. Вытянув ноги, спросил: — В каком направлении вы ведете поиск доказательств? То, что вы с Линде предположили, не повторяйте, я прочитал. Итак?
— Я все время ищу привязки по месту и по времени: был ли он в районах активности подпольных групп, разгрома типографий, встречался ли с этими людьми в Риге, и все сходится. Но его никто не подозревал, ни одного плохого слова..
— Ну, знаете, много захотели. Хорошо работал значит. Он для подпольщиков авторитет, из столицы приезжал, к нему они ездили.
— И вот здесь появился важный пункт. Вчера Линде позвонил, и я сегодня у него был… В общем, он нашел нечто очень важное: с матерью, ее фамилия Ласе, имя — Аустра, он не проживает года с тридцать девятого. Зарс носит фамилию отца. Так вот, Линде нашел, что мать Зарса являлась не только членом партии, это мы знали, но в ее домике был явочный пункт товарищей, прибывающих из Москвы по линии Коминтерна на подпольную работу. Имеются и справки наблюдения за этим домом; образцы шрифта машинок, на которых отпечатаны эти справки, похожи на те, что уже были. И подпись офицера политохранки есть — Пуриньш. Фотокопии я завтра получу, — разговорился Конрад.
— Сведения об арестах людей Коминтерна у нас есть. Я раньше это где-то видел. Так, так… — начал рассуждать шеф. — Где этот дом?
— Чей? — не понял Конрад.
— Старушки — матери бухгалтера.
— Она тогда старушкой не была, ей всего тогда сорок было.
— Да неважно, дом в каком районе? Помнишь? Не хочу в бумагах копаться.
— На улице Робежу, в Задвинье, — сказал Конрад.
Шеф встал, подошел к висящему на стене огромному плану Риги, выпущенному еще в буржуазное время, и стал искать улицу.
— Вот, смотри, — нашел он и ткнул пальцем. Затем, хмыкнув, передернул плечами. — Не верю, чтобы здесь они могли наблюдать. Голое место. Я хорошо знаю этот район. Улицу только забыл. Не продержаться им здесь. Все видно. Верно, твой гусь сообщал им, тем более, что шрифт в справках тот же. Тот же? — переспросил шеф.
— На первый взгляд да, завтра фотокопии… — начал Конрад.
— Ладно, слышал. Отдашь их на экспертизу. А Федору передай просьбу, чтобы срочно упросил экспертов сделать. А то в ЦРУ в поход собрался. Через Париж. Тоже мне Мальбрук, — неожиданно закончил он.
— Эксперты напишут «по всей вероятности», — сказал Конрад.
— А вы что хотите? Их надо понимать. Они не имеют права уверять нас в том, в чем сами колеблются. Да и то это по почеркам. Машинку они определят с ходу. Ладно, это дело второе. А ты справки наблюдения за этим домом видел? Они длинные?
— Нет, короткие, за два года их всего-то четыре штуки, по полстранички каждая. Написано: появился незнакомый господин, приметы, пришел — ушел, время. И так записи за два-три дня, один раз за женщиной.
— Скорей всего, он прохиндей. Улика против него крепкая, но косвенная. Да, в лузу шарик прямо не идет, — заметил шеф.
— У Линде список арестованных коминтерновцев имеется, — сказал Конрад. — Я сравнил, по времени эти четверо укладываются, но арестованы они, если это они, через два-три месяца после пребывания в Робежу, и машинка, на которой справки об их задержании отпечатаны, другая.
— Все равно. Брали их другие. Не Пуриньш. Кстати, ты его ищи, ищи. Здесь задерживать нельзя было — квартиру провалят. Значит, подальше надо, в другом городе. Мол, сам там наследил и провалился. Вот сукины дети, работали с выдержкой. Учись. А то арестовывать надо! Вот что, кем работал этот твой друг ситный в тридцатые годы? — бросил шеф.
— Последовательно: шофером, счетоводом, кассиром, бухгалтером, в компартии не состоял…
Шеф задумался. Взяв в кулак штук пять карандашей, он стал постукивать ими о поверхность стола, время от времени расслабляя пальцы и отпуская карандаши на стол.
— Вы университет закончили? — демонстрируя память, спросил он. — Кажется, юрист?
— Да.
— Троек много было?
— У меня четверок — штук пять.
— Значит, диплом с отличием? — Да.
— Смотрите! А они мне лесника, да еще в начальники. Ну да ладно. Так на чем мы остановились?
— На профессии Зарса.
— Вот-вот, меня на специальности потянуло. Итак, шофер, счетовод. Да? — стукнул карандашами о стол, бросил их в стаканчик и сказал: — Ищи со всей тщательностью, не было ли у него в те времена растрат казенных денег, аварий автомобиля, словом, каких-то проколов, на чем его могла затащить к себе криминальная полиция. Понял?
— Но почему надо ограничиваться уголовным делом?
— Ничего не исключается. Отнюдь. Но ведь данных о его притеснениях со стороны политуправления нет, а он сын партийки, за домом которой наблюдали. И в результате он чистый? Здесь они переусердствовали. Это подозрительно — знать о квартире и не ведать о ее обитателях? Понял?
— Не до конца, — признался Конрад.
— Хорошо, что ты еще не испорчен. Другой бы радостно сообщил: «Так точно», хотя сам ни бум-бум. Понимаешь, в чем дело? Парень вырос у хорошей матери и вряд ли побежал к ним докладывать о ее гостях. А она перед ним не таилась. Зачем? Все у него на глазах. Скорее всего, его зацепили на чем-то. На чем?
— Дошло, — согласился Конрад. — Мать они могли подозревать, а его специально на чем-то подловили, может, аварию подстроили, да?
— Вот-вот, или бумагам помогли исчезнуть. И схватили его, и заставили рассказать о матери, о типографиях, о всем на свете, а иначе — тюрьма. Короче, ищи. Начальный пункт обнаружишь — появится у нас существенное доказательство. Прямое. И Пуриньша не забудь. Обо всем этом надо мне в ЦК посоветоваться, все не так просто. С матерью говорить не вздумайте. Она ни при чем. Из людей Коминтерна я определю, с кем говорить, и побеседую сам. Сколько их, бедных, осталось в живых? Зарс, он что, выпивает? Уж больно на фотографии он потрепанный, — бросив взгляд на снимок в папке, сказал шеф.
— Да, он пьет. Живет один, отдельно от матери, — ответил Конрад.
— Совесть в вине топит. Такие люди обычно сильными не бывают. Будут у нас прямые улики — поплывет. И имей в виду такую вещь: не въезжай своими расспросами в годы оккупации. Всякое бывает. Такие типы всем служили. Не спугни. Или, как говорил наш зубной врач Вейсман, не заедь бором в десну, — улыбнулся шеф. — Все. Иди, привет Федору.
Конрад попрощался, вышел. В приемной было пусто. Только дежурный говорил по двум телефонам. Он укоризненно успел покачать головой, как понял Конрад, это означало: «Совесть у вас есть, столько старого человека мучить?!» Поднялся к себе, из-под двери выбивался свет, вошел.
— Живой? — поинтересовался Казик. — А Федор тебя уже отпевать начал. Только что ушел. Не дождался. Как прошла беседа, надеюсь, в духе сотрудничества и взаимопонимания? — Казик поднялся из-за стола. Конрад молча вытянул вперед руку с поднятым большим пальцем и вдруг начал смеяться. Казик опешил, затем изумился еще больше, услышав от хохочущего Конрада какие-то бессвязные слова: «Федя… Мальбрук… Париж… ЦРУ». Казик налил полстакана воды и протянул Францу.
— На, успокойся, расскажи толком, как вы там поладили.
Конрад выпил воду и стал рассказывать. Казик был в восторге, глаза его светились предвкушением мысли о том, как завтра он изложит сослуживцам коварный план по проникновению в ЦРУ с комментариями шефа. Он окрестил замысел как «план Ф-2», по начальным буквам имен и числу его создателей — Феди и Франца, и сейчас на ходу облекал его в форму устного рассказа., Казик присочинил концовку, что американцы узнали об этом плане из-за потери бдительности в отделе, о чем в свою очередь стало известно шефу, и тот велел примерно наказать виновных.
— И как тебе шеф? — спросил Казик, когда оба они отсмеялись, и Франц коротко посвятил его в рассуждения шефа на розыскные темы по поводу темной лошадки в лице господина бухгалтера.
— Если честно, то за два года работы здесь я впервые пообщался с талантливым человеком, — ответил Конрад.
— Ты о нем, как об актере. Смотри, до шефа дойдет — не поймет.
— Не обидится. Талант — это прежде всего ум, интеллект. И способность видеть в темноте! — сказал Конрад с подъемом.
— Вот подожди, возьмется за тебя — перестанешь комплименты говорить — и радоваться встречам с прекрасным!
— Не исключено, но не обижусь. Ты знаешь, я до сих пор себя не на месте чувствовал. Думал, что юридической практики так и не заимел, хотя и пристал к детективному жанру, но все больше канцелярщиной занимаюсь. Папки перекладываю. Прошлое перетаскиваю в настоящее. И наоборот. Да. А сегодня прозревать начал. То, что шеф выводит простые вроде суждения, так он в уме переворачивает пережитое. Согласен? — остановился Конрад.
— Учись, пока старик у руля. На нем здесь вся стратегия и тактика держится. Уйдет шеф — кукольный театр будет: за веревочки дергать начнут и на месте топтаться. А он учит думать. После войны английских и американских боссов так нагревал, что те только слезы бессилия проливали по потерянной агентуре. Понял? Зачем он с тобой полтора часа пронянчился? Увидел, что из тебя что-то может выйти. Он ничего так не Ценит, как ясную голову. Знаешь, какое у него образование? Четыре класса! Вот так-то. Ты видел таких?
— Во-первых, шеф на месте и по энергии ума у него тут конкурентов нет. Во-вторых, незаменимых нет, а работать дальше придется. Видел ли я таких, как он? Видел.
— Ладно, не напрягайся, не трать нервы впустую, тебе еще работать на страх врагам. Пойдем лучше домой, коньячку по дороге выпьем. У тебя деньги есть? Я в цейтноте, зарплату в отделе только завтра дадут, — подытожил Казик.
— Наскребем на кофе с коньяком, пошли, — воодушевился Конрад. И друзья отправились в кафе.
Шеф (продолжение)
Шеф сидел, удобно откинувшись на спинку старого доброго кресла…
Он вспомнил, как в пятьдесят седьмом, на каком-то активе встретил старика Конрада, поздоровались.
— Седины, морщин и отличий, — кивнув на орденские планки, сказал шеф, — у тебя прибавилось.
— У тебя тоже, — улыбнулся тот.
— Послушай, — продолжил шеф, — я слышал, что твой наследник окончил университет. Если он не хромой и не косит, то я бы его взял к себе, — затем, перейдя на серьезный тон, пояснил: — Ты ведь знаешь, у нас идет крупная перестройка кадров, избавляемся от всяких невежд, застывших в развитии. Он у тебя член партии?
— Да, — кивнул Конрад, — двадцать один ему было, когда вступил, как раз в год и даже месяц смерти Сталина. Три года, как трудится, так что проработай, как говорят, вопрос. Возможно, он тебе и пригодится, но поговори с ним сам.
Это была их последняя встреча. Несколько месяцев тому назад старик умер. Хотя почему старик? Он всего на девять лет был старше.
Сейчас шеф сидел и, думая о судьбах, к которым прикасался сам, удивлялся механизму бесконечных поворотов человеческой памяти, связывающему одно давнее событие с другим. Толчком же этой ленты с бегущими кадрами воспоминаний послужил день вчерашний, когда он имел неординарный разговор с секретарем ЦК. Не то чтобы тяжелый, но вызвавший сомнения в собственной правоте. Тот, выслушав его доклад о событиях, связанных с бухгалтером, и просьбу о разрешении побеседовать с несколькими руководящими работниками, попавшими в свое время в западню политохранки, подумав сказал:
— Знаешь, старик, согласие я тебе дам, у меня нет весомых доводов обратного. Но зачем все это нужно? К чему бередить старые раны? Да для меня важнее просто здоровье и душевное спокойствие наших с тобой соратников, нежели кара, которая ждет этого подлеца, если это он подглядывал, в чем ты сам не уверен до конца. И меня освободил из тюрьмы июнь сорокового, и меня выследили с помощью таких же типов. Что, я сам по-твоему пришел сдаваться, что ли? И я не хочу, чтобы нас, малочисленных подпольщиков, сейчас твои детективы фиксировали сидящими на одной скамейке, извини, с дерьмом, которое, да, водилось. И мне, знаешь, больно и тошно, что ладно еще ты, но кто-то еще из твоей конторы начнет сегодня разглядывать, кто к кому ходил, о чем говорили, почему общались, понимаешь? Получается, что тогда мы бдительность потеряли, а вы теперь находите. — Затем, сделав паузу, он сказал: — Ладно, поговори, но только сам, прошу тебя, с Ванагом, раз уж очень нужно. Никому не перепоручай… Не заслали бы Ванага и меня в те годы в Латвию, останься мы в Москве, что было бы с нами?.. Не увидел бы ты нас… — вздохнул секретарь.
В принципе шефа трудно было смутить чем-то, но от этих слов собеседника его передернуло, ибо в них отразилась вся низость его службы. «К черту! Пора уходить. Таким, как я, не пережить гадости тех лет и сегодняшний день».
…В сопровождении дежурного, встретившего важного посетителя у подъезда, вошел Ванаг. Шеф поспешил навстречу, поздоровались.
— Грустные воспоминания навевает на меня это здание, — заметил гость. — И сейчас, хотя и знаю, что к своим пришел, все равно что-то неприятное возникает в груди.
— Мне же, наоборот, приятно тебя встретить именно здесь, — сказал шеф и пояснил: — Из посторонних во все послевоенные годы встречался здесь в основном со шпионами, как будто лучших посетителей не заслужил.
— Это твой приход, твоя паства, твой удел, — улыбнулся Ванаг.
— Вот именно, наш удел, — подтвердил шеф. — Последние четыре года тоже невеселые: столько трагедий пришлось повидать, страшно становилось, разгребаем завалы, которые сами нагородили.
Оба замолчали, наступила пауза.
— Ты помнишь, как наших военных лидеров угробили? Сейчас везде пишут, что немцы состряпали фальшивку о сотрудничестве Тухачевского и других с генералами рейхсвера, затем подбросили ее Бенешу, а тот передал Сталину, так сказать, из лучших побуждений. Этого было достаточно. Спешная расправа под видом суда, и приговор приведен в исполнение. Но имеются, ты знаешь, пара-тройка соображений.
— Твоих или официальных? — поинтересовался Ванаг.
Шеф пропустил этот вопрос мимо и продолжал мысль:
— Во-первых, мне мои корифеи кое-что перевели с немецкого и английского, в зарубежной литературе появились утверждения, будто сама идея изготовить и подбросить фальшивку о связи Тухачевского, Якира и других была подсунута немцам английской разведкой. Создали саму фальшивку то ли в недрах Главного управления имперской безопасности, у Гейдриха и Шелленберга, мемуары которого изданы, вон, на полке стоят, — кивнул шеф, — то ли у Канариса, в абвере. Я склоняюсь к версии об абвере, документально этого никто не знает. Во всяком случае Канарис во всех хитросплетениях военных кругов Германии и Союза разбирался лучше, чем кто-либо. Но ни Гейдрих, ни Шелленберг, ни даже Канарис, не говоря уже о более мелких фигурах, не тянули по общему интеллекту на разведывательные операции такого стратегического масштаба. Как не крути, но все гитлеровское окружение — это публика без образования. Цель Интеллидженс Сервис при этом? Отвести удар от Англии. Канарис долгие годы поддерживал традиционные близкие связи с влиятельными английскими кругами, он выступал против войны Германии с Англией, но был в курсе заговора против Гитлера в 1944 году, и тот приказал его в конце концов повесить. Причем за месяц до конца войны. Достаточно хорошо зная Гитлера, англичане перепасовали мяч: в русских военных кругах зреет «заговор» военных руководителей страны, которые действительно имели в двадцатые годы деловые контакты с генералами тогдашней германской армии. Материализуйте эту информацию, создайте документ, сказали они, к примеру Канарису, продвиньте его Сталину, он обезглавит Красную Армию; и Гитлер, убедившись в выигрышности ситуации, отступит от Англии, пойдет на Восток, а Англия будет спасена. И действительно, все так и произошло: англичане вели с Гитлером бесконечные невмешательские переговоры. Гитлер вырывал у них и французов уступку за уступкой, крупно придавил их в Мюнхене, но не он объявил им войну. И второе соображение — Бенеш. Он всегда ориентировался на Англию и Францию. Это закономерно при германских угрозах. Каким образом фальшивка о том, что русские военные хотят захватить власть, попала к Бенешу неважно. Она попала. Версии разные, но вот, она у него на столе. Что он делает? Сразу сообщает Сталину? Вряд ли. Почему бы ему не посоветоваться с англичанами? Ведь они для него ближе Сталина. Я не исключаю такого поворота событий, тем более, что французам, в лице тогдашнего премьера Блюма, он о заговоре советских военачальников вкупе с немецкими генералами сообщил. Об этом Блюм в последствии говорил. Черчилль в мемуарах тоже об этой провокации вспоминает. Я думаю, что Бенеш не мог не посоветоваться с англичанами, и они ему сказали: конечно, конечно, срочно сообщите Сталину. Они руководствовались своими шкурными интересами. Может быть, именно так все и было. Это моя гипотеза.
— Можешь гордиться — я перенимаю твои верования на ходу. Убедил. Но я не думаю, что Сталин уж совсем ничего не понял: ум изощренный, мстительный, коварный не простаивал у него без дела. Он должен был спохватиться, прийти в движение, но загадка — почему он застыл…
— Ты знаешь, — задумчиво заметил Ванаг, — известная логика событий в том, что ты рассказал — налицо. Но какая разница, кто автор фальшивки? Урон нанесли нам. У Сталина не появилось никаких сомнений в ложности документа. Наоборот, это стало предлогом для начала кампании по уничтожению кадров армии. Знаешь, о чем я думаю?
— О чем?
— Для тебя, как для профессионала, эта история видится в плане искусной провокации, которую сотворили наши классовые враги и которая сыграла на руку Сталину, но в ущерб стране. Для меня все это видится в несколько иной плоскости. Уничтожив тысячи революционеров, Сталин практически лишил нас значительной части второго поколения Октября, их преемников. Я имею в виду детей репрессированных. Их тоже тысячи, но они в основном остались живы в те годы. Но каковы их чувства к родной стране, их судьбы? Детские дома, отчаяние, страх, боль за судьбу отцов и матерей. Что их гложет? Равнодушие, тоска по разоренным гнездам? Сумеют ли они преодолеть его и победить сами себя? Как не задавай эти вопросы, но ясно одно, что их вышвырнуло из нормальной жизни, в которой они могли стать значительными людьми и быть полезными Родине, переняв эстафету от живых отцов. Атак? Серость, безысходность…
— Тоже правильно, — покивал головой шеф в знак согласия. — Ты говоришь, что я это дело рассматриваю как профессионал? Да, наверное и так. Согласен. Но то, что все равно, как ты утверждаешь, чья была идея: то ли немцев, то ли еще чья-то — не согласен. Не все равно. По роли своей мы, чекисты, в идеале должны восстанавливать истину по любому делу. Абсолютную истину, как положено. Всегда объективную. Хуже, если истина восстанавливается в относительном измерении: какие-то детали утеряны, картина полностью не вырисовывается, хоть убейся, и так далее. Это уже не истина в абсолютном измерении. Но что делать? Жизнь есть жизнь. Человек должен отвечать за то, что доказано. Государство тоже: за агрессию, так за нее, за разбой, так за разбой. Но совсем плохо, если из искомой истины мы сами, в угоду себе, чтобы облегчить свои обязанности, начинаем вырывать и выкидывать составные части, которые нам мешают, не вписываются в нашу гипотезу. Получается при таком подходе, что из абсолютной истины мы выбрасываем нечто, но истину продолжаем считать абсолютной…
— Так мы о чем? — спросил шеф, нащупывая ускользающую нить разговора. — Об установлении момента истины в деле, где тебя схватили.
— Ну ты и хитер, — рассмеялся Ванаг. — Вел, вел и привел, убедив по дороге, что идем за истиной. Так?
— Не без этого, — улыбнулся шеф. — Кстати, знаешь, кому я поручил вести это дело?
— Не имею понятия, я вообще никого, исключая твоих замов, не знаю.
— Конраду.
— Сыну Конрада, что-ли? — воскликнул Ванаг. — Я его помню совсем мальчишкой. Как время летит!
— Так вот. Я хочу показать тебе фотографию злодея, которого мы подозреваем в том, что он выдал тебя и других коминтерновцев политохранке.
— Ага, показывай, но ведь это мало что дает: от того, что я узнаю кого-то, в чем я сильно сомневаюсь, ведь прошло больше двадцати пяти лет, ничего не изменится — а вдруг меня выдал совсем другой человек?
— Да, но вопрос в том, где ты его видел, где его видели другие, твои товарищи по несчастью, и кто он. Если все вы его видели в одном месте, значит, и он вас видел в этом же месте, а это что-то уже доказывает. Не так ли? Но ты первый такой свидетель, — ответил шеф и протянул Ванагу лист с тремя фотографиями. — Сейчас ты должен узнать, кого из этих трех молодцов ты знаешь, а затем расскажешь все, что тебе известно о нем, и мы запротоколируем. Я имею в виду Конрада младшего. Согласен?
Ванаг взял лист.
— Я думал, ты хоть одну фотографию дашь, а здесь три, — пробурчал он. — Да, я встречал в Риге в 1935 году, когда приехал из Москвы, вот этого молодого человека, — и ткнул пальцем в крайнее справа фото.
…Тот свой приезд он помнил отчетливо, ибо событий произошло тогда всего ничего, и они выпукло отложились в памяти. Все было ясно вплоть до задержания в Вентспилсе, где он провалился, как считал всегда, — по собственной вине. Он выехал на вполне законных основаниях из Литвы, сошел в Даугавпилсе, остановился у старого приятеля, которому не обязан был говорить, откуда приехал и которого уверил, что ездит в поисках работы. Документы на новую свою фамилию ему не показывал, тот обходился вполне старым именем. Потолкался Ванаг там дней пять-шесть. Да, не больше, и никаких признаков слежки! Затем отправился в Ригу. Адресов у него было три: один основной, два — запасных. С хозяйкой квартиры он встретился, как и было условлено, у доски объявлений по сдаче жилья. Все четко: они знали друг друга еще по восемнадцатому году. Разговор что ни на есть деловой. Да, я ищу комнату с пансионом. Ах, адрес такой-то?! Далековато, но тихое место вы говорите?! Позвольте запишу. Да, вечером я зайду посмотреть… Разговор самый обыденный, неотличимый от других, которые вела хозяйка по вторникам у этой доски. Если бы квартира была завалена, она дала бы понять условным знаком или вообще не пришла. Таковы были условия встречи. Риск сводился к минимуму: ему не надо было крутиться в районе квартиры, высматривая знак провала, или нарываться на засаду, а также выслушивать предложения соседей — поселитесь у нас. Подполье имеет свои законы, в нем гораздо больше предварительных договоренностей, чем в нормальной жизни. Вообще нелегальная жизнь сплошь состоит из условностей. Целый день он активно ездил, шагал по городу. Все чисто. Вечером — в адрес, с чемоданом. Кто же открыл дверь: хозяйка или ее сын? Открыл сын, визитер спросил о сдаче комнаты в наем, согласно объявлению. Да, так. Сын позвал мать. Все было разыграно между ним и хозяйкой как по нотам. Для непосвященных, а сын не был в курсе их дела — совершенно безобидный визит по объявлению. На вопрос, сколько он думает здесь пожить, ответил: минимум месяц. Не мог же он сказать, что дней пять-шесть — несолидно получилось бы, ибо в таком случае хозяйке он был бы невыгоден. А так все по-житейски. Через неделю появятся изменения: встреча с другом, выгодное предложение. Мало ли что. А пока, чтобы не показываться лишний раз на улице и не мозолить глаза соседям, он заболевает, чувствует недомогание и находится дома. Хозяйка уходит по утрам, она уборщица, и к полудню уже возвращается, парень работает полный рабочий день, приходит домой к вечеру. Постой, а кем же он работал? Бухгалтером или кассиром в магазине? Да, скорее последнее, для бухгалтера он был еще зелен. Узнал ли он его? Мгновенно! По утиному носу и бровям на разных уровнях. С годами лицо этого кассира смазалось, растаяло в памяти, а увидел — и его образ восстановился. И еще шаркающая походка, но это вне фотографии, память выдала как дополнение. Парень как парень. Конторщик, бесцветная личность. По отзывам матери, его начинали привлекать к выполнению отдельных поручений по линии МОПРа, но Ванаг как квартирант разговоров на политические темы избегал. Болтал с ним о пустяках: скачках, лотереях, в чем парень разбирался хорошо. В один прекрасный день Ванаг продемонстрировал полученное им якобы из Лиепаи, на почте до востребования, письмо от старого друга с предложением хорошей работы и с условием, что он тотчас должен приехать. На самом деле письмо кое-как состряпал он сам, пока в доме никого не было. Хозяйка для вида поохала: как же так! В случае необходимости она могла сказать, что ей заплатили за месяц вперед, в накладе она не осталась. На другой день он уехал, только не в Лиепаю, а в Вентспилс. Там работа партийного функционера закрутила его: череда встреч, новые лица. С одной стороны, подбирай людей осторожно, будь конспиративен, с другой — не отрывайся от масс, не стань сектантом. Вообще, соображай. Так прошло три месяца — и арест на улице. Обыкновенная сценка. Подошли двое, запихнули в машину, щелкнули наручники. Кто мог выдать? Задумывался не один раз, но категорического ответа и сегодня не имеется. Был один подозрительный момент: за наделю до ареста на улице встретил случайно старинного знакомого, с которым воевал в одном полку в гражданскую войну и который вернулся в Латвию из России в начале двадцатых годов. Ванаг, естественно, не разубеждал его в том, что вернулся тем же порядком, что и собеседник, но разве он мог знать правду о Ванаге, что тот работал и учился в Москве? Конечно, мог… …Все эти мысли Ванаг изложил шефу, а вызванная в кабинет стенографистка — записала. Шеф не перебивал рассказчика. В конце он лишь сказал:
— Давай, отпустим нашу барышню, она отпечатает протокол. Сколько вам нужно времени? — обратился он к сотруднице.
— Минут пятнадцать-двадцать, товарищ генерал.
— Хорошо, идите. Знаешь, — обратился он к Ванагу, — позовем Конрада, увидишь его в новом качестве, он оформит протокол, — и нажал кнопку вызова. Вошел дежурный. Шеф велел позвать Конрада, спросил, кто ожидает в приемной и, услышав в ответ, что народ разошелся, не дождавшись приема, улыбнулся: — Ничего, до утра осталось меньше двенадцати часов, выдержат. Было бы что-то срочное — прорвались бы, — кивком отпустил дежурного и продолжил, обращаясь к Ванагу: — Эпизод встречи на улице с человеком, которого ты не видел десяток лет, за неделю до ареста мог быть фокусом политохранки. С такими «мизансценами» мне приходилось встречаться. Да, именно для того, чтобы ты подумал о нем, как о причине провала и отвода подозрений от действительного виновника ареста. Но здесь, как говорится, палка о двух концах. С одной стороны, если этот тип на улице узнал тебя, поболтал и побежал сообщить, то нелогично брать тебя через неделю, ведь надо за тобой поработать, удостовериться, что ты за птица, с кем встречаешься, где живешь. Масса вопросов возникает. Если же брать тебя через месяц-два, то это рискованно: вдруг ты увидишь слежку и смоешься из города. Где тебя искать? Опять же — теория вероятности: почему ты встретил этого дядю за неделю до ареста, прожив в городе три месяца, то есть двенадцать недель? Почему? Скажешь — бывает! Кстати, как его фамилия?
— Скажу — всякое случается, — поморщился Ванаг. — Возможно, ты и прав, а может и нет. Фамилия? Вайвод. Имя? Имя Георг. Да, Георг…
В этот момент дверь приоткрылась и вошел Конрад с тонкой папкой в руке. Увидев Ванага, он смутился, поздоровался с ним и с шефом.
— Так ты теперь моими делами прошлыми заинтересовался? — шутливо спросил Ванаг.
— Что вы, что вы, дядя Карл, — покраснел Конрад. — Вот протокол беседы, стенографистка передала, товарищ генерал.
— Не вводи сотрудника в краску, — вмешался шеф.
— Не бросайся защищать, — засмеялся Ванаг. — Францу я сдамся сразу. Ты прочитал эту запись, — указал он на бумаги, переданные им шефу. — Вопросы имеются?
— Только просмотрел, пока машинистка допечатывала последнюю страницу, — ответил Конрад.
— Возьми, читай внимательно, — сказал шеф, — обрати внимание на фамилию Вайвод Георг, потом проверишь. Заполни протокол опознания. Да-да, сейчас же. Будем закругляться. Ты знаешь, — обратился он к Ванагу, — наш господин бухгалтер, если мы его арестуем, долго не просидит, — и, отвечая на вопросительный взгляд Конрада, пояснил: — Готовится новый кодекс, в его проекте статьи о сотрудничестве с охранкой, царской или буржуазной, не имеется, так что, вот такое дело. Но разоблачить его надо.
— Товарищ генерал, — обратился Конрад, — мы получили новые материалы о том, что…
— Потом, завтра, не забивай мне голову на ночь, дай подписать бумаги, и мы пойдем, я провожу гостя. Я довезу тебя, — сказал он Ванагу.
Запихав папки с бумагами в сейф, шеф поднялся из-за стола, и оба старика, коренастые, грузные, попрощавшись с Конрадом и кивнув дежурному, прошествовали к лифту.
Допрос
Федин вечный вопрос «что это дает», помимо утилитарного подхода — делать или лучше не делать, имел и положительную сторону: все подвергалось сомнению, даже вещи весьма безобидные и однозначные. Шуточки шефа по поводу парижского варианта, как окрестили смелый план, до Феди дошли, Казик постарался, и теперь Федор Петрович стал более внимательным, чтобы, как он выражался, «по милости Конрада не влезть в новые истории». Франц тоже переживал по поводу этого плана, в душе надеясь, что шеф пересмотрит свой подход к нему, но заботы по сбору улик в отношении Зарса потребовали от него и Казика полной отдачи. О шуточках вспоминали только стоя в очереди в тесном буфетике учреждения, для расширения которого в здании места не находилось, так как начальство в нем не обедало.
Самым простым оказалась экспертиза документов о результатах наблюдения за домиком матери Зарса и получаемой политохранкой информации о подпольной деятельности прокоммунистических групп: шрифт был идентичным. Эксперты утверждали об этом с категоричностью, которую Конрад и Казик приветствовали, а Федор сказал, что это дает кое-что, но Зарса на этом совпадении не припереть. И он был прав, к шрифтам господин бухгалтер лично отношения не имел.
Надо было искать Пуриньша, требовалось найти что-то, на чем подловили Зарса в юные годы, если гипотеза шефа была верной. Неплохо было встретиться и с Вайводом, если он был еще жив.
Конрад искал долго и упорно любые данные, касающиеся мест работы Зарса. Их к началу тридцатых годов было не много: шофер, спичечная фабрика «Везувс», магазин готовой одежды, пивной завод «Алдарис». Зарс занимал небольшие должности, но шли они по восходящей линии, правда, с одной осечкой. На фабрику он поступил помощником бухгалтера, а попросту говоря, счетоводом, в магазине работал кассиром, затем был уволен и возник снова на пивном заводе младшим бухгалтером. Разглядывая этот послужной список, Конрад сравнивал его с известной детской игрой «Цирк», где надо было бросать кубик, на гранях которого были точки — от одной до шести, и фишки, в зависимости от выпадения очков, двигались то вперед на одно, два поля, ускоряя свой бег, если встречалась ведущая вверх лестница, поднимаясь на ряд-два выше, то съезжали вниз по веревке, на которой спускался незадачливый клоун. Конраду казалось, что увольнение из магазина было схожим со скольжением вниз, а должностной подъем на заводе означал чью-то мощную поддержку. Тем более, что по существующим правилам, при поступлении на должность кассира кандидат вносит значительный денежный залог.
Покрутился он вокруг этого вопроса изрядно: просмотрел в архиве имевшиеся документы по фабрике, магазину и заводу, проштудировал уголовную хронику в газетах за время, когда там работал этот клоун, извините, господин бухгалтер. Ничего полезного не обнаружилось. Хотя нет, не совсем точно. Оставался зримый туман, неясность вокруг ничтожного в мире события — увольнения из магазина в безработицу.
Надо было беседовать, но с кем? Особого выбора не было, годы и война разметали людей. Нужны были не просто там работавшие, а те, кто трудился рядом с Зарсом. Идя по цепочке, от одного сотрудника завода к другому, Конрад расспрашивал их о бывших владельцах до тех пор, пока один из собеседников с-недоумением не спросил его самого, мол почему бы ему не поговорить с главным бухгалтером Лидумсом, который знал всех, начиная от владельцев и кончая последним служащим. Эта находка ошеломила Конрада, удивила Казимира и заставила Федора бросить свою сакраментальную фразу: «Посмотрим, что это нам даст, — строго спросив при этом: — Ты что, сразу не мог обнаружить этого главбуха?»
Конрад развел руками и ответил: — Не мог додуматься, что Либрехт и Лидумс одно и то же лицо. В тридцатые годы, вплоть до тридцать девятого, главбухом числился Либрехт, и он в Риге не проживает. Я проверил. В 1939 году главбух изменил свою немецкую фамилию на латышскую — Лидумс, а я думал, что появился новый главбух и его не искал среди живущих, так как он не будет знать, что происходило в начале тридцатых. Не додумался, одним словом.
— Надо думать, — строго сказал Федя.
— Надо, — согласился Конрад и пошел в гости к Лидумсу.
Лидумс жил в районе улицы Артиллерийской, занимал небольшую трехкомнатную квартиру. Встретил Конрада настороженно, выслушал о цели визита — поговорить о бывших сослуживцах — и сказал: «Давайте поговорим, но не здесь, а в кафе, рядом с моим домом. Вы ждите меня, я оденусь и через пятнадцать минут буду там. Днем в кафе народа мало, мы спокойно все обсудим».
Конрад согласился. В кафе, так в кафе.
Через пятнадцать минут туда вошел изящно одетый Лидумс: в выутюженном костюме, с галстуком бабочкой, с платочком в кармашке пиджака.
— Видите ли, моя жена парализована и уже девятнадцать лет находится в кресле, разъезжает понемногу по квартире, но в основном сидит у окна, при ней говорить неудобно, особенно людям вашей профессии, — улыбнулся он грустно.
Конрад рассматривал его с интересом, тем более, что шанс выведать правду, скрывавшуюся в тумане лет и разного рода наслоений, был не очень-то крепким, скорее, он равнялся возможности выигрыша по облигации, функционирование которых к тому же заморозили до лучших времен. Он внимательно посмотрел на Либрехта-Лидумса. Тот слегка выжидающе улыбался. Он выглядел на свои шестьдесят пять. Взгляд был умным и ироничным, в глазах таилась озабоченность. «Жизнь складывалась у него не блестяще», — подумалось Конраду, и он повел беседу неторопливо. Вначале обсудили дела завода вообще, затем перешли к кадровой политике его владельцев. Конрад ожидал, что Лидумс «выплеснет» что-нибудь сам о своем бывшем подчиненном.
— Видите ли, — говорил Лидумс, — служащих было мало, все работали на одном и том же месте по многу лет. Хозяева их подбирали сами. Тогда на отделы кадров не тратились, как сейчас. Хозяин сам звонил на предыдущую работу новенького, выспрашивал все о личности, привычках. Вы хотите узнать, как принимали людей, занимавшихся политикой? — он задумался. — Плохо принимали. Вовсе не брали. Бойкотировали, говорите вы? Да, что-то в этом роде. Хозяева предприятий писали запросы в политуправление о том или ином человеке. Оттуда или вообще не отвечали, что значило — можете делать с ним все, что хотите, или лаконично, в одну строчку: такого-то брать на работу не советуем. И все. Конечно, это прежде всего касалось левых, — подтвердил он мысль Конрада.
— Скажите, вы помните Зарса? — двинулся вперед Конрад.
— Еще бы не помнить! — воскликнул Лидумс. — Он у меня вот здесь сидел, — и он постучал себе по шее.
— Причина?
— Вы понимаете мало-мальски в бухгалтерских делах? — вопросом ответил Лидумс.
— Думаю, что да.
— Представьте себе бухгалтерию, состоящую из трех человек: главный, его помощник и кассир. Что здесь основное? Доверие. Полное и безраздельное, — спросил себя и ответил Лидумс. — Место помощника освободилось. Погиб он, под трамвай попал. Похоронили. Стал я подыскивать ему замену. Нашел. Кругом безработица. Выбирай только. С почти законченным экономическим образованием. Навел справки. Все нормально. Хотел представить главе фирмы. Отнес бумаги, человек за дверью ждал. Хозяин почитал, хлопнул по ним рукой и сказал, что бумаги оставьте, человека отпустите; подождем. Хорошо, ждем. Ждем месяц, ждем второй. Наконец хозяин зовет, у него вот этот Зарс сидит. Я взял его с собой, поговорили. Ничего не понимаю: образование — гимназия, практик, по всем статьям ниже моего кандидата. Где раньше работали, спрашиваю. В каком-то универсальном магазине, кассиром, уволился три месяца тому назад. Поговорили, раскланялись. Звоню в этот магазин, спрашиваю по-свойски своего коллегу — главбуха, что натворил этот Зарс, почему ушел, а теперь ищет работу? Тот мнется, но рассказывает, что где-то три месяца тому назад Зарс сидел в зале на кассе, его позвали к телефону, он побежал переговорить, оставив кассу на кого-то из продавцов. В этот момент к ней подлетели двое налетчиков, схватили приготовленную к сдаче в сейф выручку и сбежали. Правда, через пару дней их нашли, деньги тоже, но Зарсу предложили уйти. Я к хозяину, спрашиваю, что, мне вы не доверяете, а этому, непонятно кому, оказываете такое почтение, и он будет находиться рядом с сейфами! Хозяин меня взялся успокаивать, потом прикрикнул, что вопрос не подлежит обсуждению, что так надо, мы его берем и точка. И никому ни слова. Взяли. Работал он неплохо, проработал два года, ушел в мебельную фирму, и чем-то еще она занималась, экспортом леса за границу, по-моему. Вот и все.
По мере того, как длился рассказ, в Конраде что-то расслаблялось, появилось чувство облегчения и какого-то благодушия, дескать, вот и нашлась та самая ниточка, за которую мы тебя теперь дернем, господин бухгалтер, наш дорогой Зарс с невинным лицом. «Как все просто, — подумал Франц. — Надо было только найти где покопать поглубже, и кусочек правды откопали».
— Скажите, — спросил он, — почему хозяин взялся ему покровительствовать?
— Этого я не знаю. Прошел слух, что Зарс ухаживал за племянницей босса, но так или нет — не ведаю. Хозяин не обязан отчитываться, да и какая мне разница, — ответил старик.
Поблагодарив за беседу и предупредив, что бывшего финансиста возможно пригласят к ним запротоколировать сказанное, Конрад тепло с ним распрощался и поспешил на службу.
Когда Конрад рассказывал об итогах своего изыскания, Федор сдвинул брови и выпятил вперед подбородок, что по определению Казика означало признак наивысшего умственного напряжения, затем сказал:
— Я же говорил, говорил тебе: тщательно изучи окружение, и вот, пожалуйста, результат. Правда, результат небольшой и неизвестно, что он даст. Сейчас твоя основная задача — вести это дело на допросе таким образом, чтобы Зарс заговорил. Подумай. Я — у начальника отдела, — скороговоркой проворковал он и, расставшись с Конрадом у дверей кабинета, побежал в известном направлении.
Казимир, потянувшись, оторвался от кучи наваленных дел и спросил:
— Что я буду иметь, если дам тебе фотографии таинственного Пуриньша и его братика?
— Рассказ о первом грехопадении нашего несравненного Зарса, идет? — улыбнулся Конрад.
И оба стали обсуждать результаты, как говорили в их кругу, «раскопок древностей».
На следующее утро, как всегда в одиннадцать утра, Зарс появился в кабинете Конрада. Судя по внешнему виду бухгалтера, он отлично выспался, был спокоен, его взгляд выражал озабоченность — ведь неспроста сюда не вызывают — и какую-то ранее невиданную Конрадом скуку: «Ну, сколько можно вызывать и все без толку?»
В противоположность ему Конрад волновался больше обычного: первая, ознакомительная серия бесед с Зарсом, когда Франц выуживал по крупицам обстоятельства его жизни, прошла, можно сказать, в пользу господина бухгалтера. Ничего, кроме фамилий сослуживцев, а также людей, занимавшихся подпольной деятельностью, в которой он и сам участвовал и которые подтверждали его деятельность, Конрад не узнал. Эти крупицы он берег, лелеял, не бросал их в огонь словопрений с Зарсом, где по одной они сгорели бы; напротив — развивал производные от них и группировал полученные данные для решающего разговора «с нашим любимцем», как окрестил его Казимир. Имея кое-какие доказательства, Конрад просто-напросто побаивался их растерять: ведь это был его первый серьезный опыт, и он помнил слова шефа, что на таких, как он, возлагаются кое-какие надежды.
— Что ж, начнем, пожалуй, — сделал он первый ход королевской пешкой, правда, на одно поле.
— Я думал, что мы уже к концу приближаемся, — изволил пошутить Зарс.
— Не опережайте событий, — посоветовал Конрад, — все еще впереди.
— Не понимаю, сколько можно терзать человека, — обиженно заметил господин бухгалтер.
— Что вы, что вы, как можно, — съехидничал Конрад. — Мы предоставили вам почти трехнедельные каникулы, во время которых терзался я. Скажите, что же произошло после налета на кассу универсального магазина, которую вы так беспечно бросили? — внезапно спросил он, всем своим видом показывая, что детали самого налета его не интересуют.
Удар был силен. Конрад увидел, как Зарс побледнел и стал хлопать глазами. Ему действительно сделалось нехорошо. «Дознался, чертов сын», — засверлило у него в голове.
— Не все так безвозвратно ушло в небытие, как вам хотелось бы. Бумаги, шрифты машинок, люди, которые ими пользовались, имеют свойство оставаться, и я их нашел, Зарс. Так что, давайте, выкладывайте о вашей афере с кассой, — и Франц постучал по темно-синей папке.
— Какой афере? Кассу правда грабанули, но я был ни при чем, — промямлил тот. «Наконец-то, — подумал Конрад, — и разговоры о событии материализуются и приобретают очертания факта».
— Вы знаете, что такое быть выкинутым за недоверие, когда кругом безработица? — жалостливая нота прозвучала в голосе Зарса.
— Слышал. Что же вам приказали сделать, чтобы не оказаться в тюрьме или безработным? Чем вам следовало помочь этому господину? — Конрад бросил на стол фотографии Пуриньша. Франц скорее импульсивно двинул в дело тяжелую фигуру, нежели рассчитал варианты: делать это сейчас или позже. Выпад удался. Зарс, бросив взгляд на фото, обмяк и замолк минуты на две. Он явно растерялся, увидев, что Конрад перебирает еще какие-то бумаги в папке, из которой вылетела и бахнулась на стол эта фотография и в которой были еще какие-то листки, тем более, что эта темно-синяя папка-скоросшиватель во время предыдущих вызовов на столе не фигурировала.
— Поймите, все решалось в два дня и ночь, и я вначале понял, как и любой другой, что это был настоящий грабеж и меня вышибут из магазина за то, что я покинул кассу и оставил выручку. Потом дело повернулось таким образом, что я соучастник, ибо один негодяй показал, что он по голосу звонившего узнал голос моего знакомого, вызывавшего меня к телефону ранее. Передо мною замаячила тюрьма. Любому кассиру звонят друзья, и мы всегда отлучались… Поверьте, сначала я не соображал ничего, все запуталось: я соучастник, мне специально позвонили, я вышел из кассы, оставил вместо себя продавца, но тот не имел права влезать в кассу, где была кнопка тревоги, он остался стоять рядом, охранять, и тут эти разбойники хапнули деньги. Это был конец всему. День и ночь меня давили, показывали тюремные снимки — вот, мол, твое будущее. Затем сказали, что этих двоих поймали, и они дают показания, что я дал им идею грабежа, предложили очную ставку с ними. А потом появился вот этот, — он кивнул на фото, — сама любезность, пообещал все дело закрыть, если… — Зарс замолчал минут на пять.
— Что «если», — давая возможность отдышаться Зарсу после самого длинного его монолога за пять встреч, произнес с пониманием с сочувствием Конрад.
— Если я буду делиться с ними информацией о всех подозрительных незнакомцах, поселяющихся у нас с матерью и в домах рядом с нашим. Вначале он, — кивок на фото, — сделал вид, что грабители магазина именно в нашем районе и околачивались, даже около нашего дома, что их интересуют подобные «фрукты», которые выследили меня, сделали свое черное дело с ограблением, а теперь оговаривают меня. Я разозлился и сказал: «Ах так, ладно, помогу». Он, — опять кивок на фото, — заверил, ладно, мы тебя выпустим, дело закроем, в магазине тебе не работать, пока послоняйся так, а потом мы тебя пристроим, в обиде не останешься. Я уехал из Риги месяца на два по подпольным делам, предупредил, чтобы на меня не рассчитывали в связи с этой заварухой. Вернулся — меня за глотку: где был, с кем встречался, что замышляют твои знакомые, выкладывай. Тут до меня дошло, что влип я, что он, — опять кивок на фото, — никакой ни сотрудник криминальной полиции, а из политической полиции, и что все дело они разыграли, но было поздно, — Зарс понурил голову.
— А почему поздно? Мог и отказаться.
— Да? Как отказаться? Вы что думаете, они дураками были? У них все бумаги отработаны были, по которым я соучастник, магазин — пройденный этап, впереди минимум — безработица и максимум — тюрьма. Это с одной стороны. С другой — они с меня обязательство взяли — помогать им. И вот я между двух огней оказался.
— Допустим, тюрьма — это для слабонервных, — возразил Конрад, — никто с такой липой в суд бы не пошел. На испуг вас взяли.
— Может быть. Это теперь все легко обсуждать, тридцать лет прошло. А тогда? Да что говорить! — Зарс дернул головой и понуро уставился в пол. Наступила пауза.
— Как звали этого типа? — кивнул Конрад на фото, оставшееся лежать на столе.
Заре, не поднимая головы, бросил:
— Для меня он был вначале Смилгой, потом стал Пуриньшем. Его настоящая фамилия, наверное, Пуриньш. Так я его по телефону дома и в управлении вызывал.
— Номер телефона домашнего?
— 2-23-07 и 2-23-36, последний служебный.
— И как долго?
— Что долго? — не понял Зарс.
— Вызывали. До какого года? — пояснил Конрад.
— До тридцать седьмого или чуть раньше.
— Что же, вас бросили?
— Бросили.
— Вы знали, что к матери приезжали люди из Москвы?
— Догадывался, полагал, но точно не знал. Мать о постояльцах ничего не рассказывала, я с вопросами не лез, ни к ней, ни к ним. Игра есть игра, но иной пластинку московскую оставит, другой — книжку. Как не догадаться?
— Как же вы связь с Пуриньшем поддерживали?
— Без нужды меня не таскали. Если было что стоящее, я ему звонил, надо было — встречались.
— Стоящее — это человек у матери?
— Да.
— Сколько же людей вы им показали?
— Я им не показывал. Я давал приметы, говорил, когда уходит из дома, когда приходит, и все. Остальное — их дело. Может, они из соседних домов смотрели, кто их знает.
— Так скольких вы приметы дали, — подлаживаясь под стиль Зарса, спросил Конрад.
— Четырех или пяти, не помню.
— Это за сколько лет?
— За шесть, наверное. До 1937 года. Потом меня бросили.
— Ах вот как! И почему же бросили?
— Вы же знаете, что в Москве творилось. Приезды иссякли.
— Вы считаете тех четырех-пяти, кто в доме останавливался?
— Да.
— Но по Латвии всего, в связи с вашими разъездами?
— Знаете что? Дайте мне передохнуть, — первый раз попросил пощады господин бухгалтер.
— Сейчас дам. Скажите, деньги за оказываемое содействие вам платили? — как можно учтивее спросил Конрад.
— Да, платили.
— Хорошо, прервемся, я пока отпечатаю протокол того, о чем вы мне сейчас поведали, а вы пока отдохните. Продолжим потом.
Конрад стал печатать, в то время как господин бухгалтер, прикрыв глаза, думал о чем-то своем: о молодости, о выданных им людях, о Пуриньше, да мало ли о чем?
Бросив на него взгляд, Конрад отметил, как в памяти у него возникла фраза шефа: «Пуриньш плюс Зарс во время войны». Что же, связка подходящая. Но об этом не сейчас, позже, все в одну кучу валить незачем.
Закончив протокол, Конрад позвонил Федору, того на месте не оказалось. Казимир, выселявшийся на время бесед с Зарсом в соседний кабинет, сказал, что Федор у начальника отдела и что как только Конрад сделает протокол, им велено там собраться.
— Так что пошли, — пробежав глазами протокол, заключил Казик и, хлопнув друга по плечу, добавил: — Молодец, доканал нашего любимца.
Начальник отдела встретил их приветливо и, указав на вращающуюся бобину магнитофона, сказал:
— Пока вы как заяц на барабане стучали на машинке, мы с Федором Петровичем послушали запись беседы с Зарсом. Неплохо, неплохо! Но каков негодяй, каков негодяй!
У начальника отдела, которого все называли ласково по отчеству Онуфриевичем, были два полярных определения людей: какой негодяй и какой хороший человек, и он припечатывал их, как почтовый штемпель на конвертах.
— Что будем делать с нашим любимцем, так вы его называете? — обменялся он улыбками с Казимиром и, не ожидая ответа, продолжал: — Я тоже бывал в тех местах, где негодяй действовал, но его не помню, а с некоторыми из подпольщиков в одной волости вырос. По фамилиям их припоминаю, но столько лет пролетело. Да. Вот такие деятели буквально взрывали нашу молодость изнутри, а мы что? Лопухами были, считали всех окружающих братьями и сестрами. Такие вот негодяи протаптывали нам дорожки в тюрьмы, как козлы-провокаторы. Вы знаете, кто такие козлы-провокаторы? — обратился он к Конраду. — Нет? А вы, Казимир? Тоже нет? А говорят, что вы все знаете!
— Он знает все, что в учреждении делается, — поддернув плечи вверх, встрял в разговор Федор, — но не больше.
— Федор, не надо мести, не мсти за «парижский вариант», так, кажется? — неожиданно обратился начальник отдела к Казику. Тот автоматически кивнул. Все рассмеялись. — Так вот, — продолжил Онуфриевич, — в Средней Азии во главе отары овец, шествующей на мясокомбинат, идет козел. Он ведет их, вводит через ворота, потом его выводят через другие и ставят во главе следующей отары, а тех — забивают. Отсюда пошло — козел-провокатор. Ясно? Ладно, проехали. Давайте предложения.
— Предложение одно — арестовать и начать следствие, — сказал Федор.
— Ваше мнение? — обратился Онуфриевич к Конраду.
Франц помедлил.
— Я не уверен, нужно ли сейчас арестовывать. Он начал давать показания, у меня с ним неплохой контакт. Он разговорится еще больше. И затем, насчет нового кодекса: если не будет статьи об уголовной ответственности за сотрудничество с охранкой, то его надо будет выпускать. В проекте кодекса этой статьи нет.
— Все? — спросил Онуфриевич. Конрад кивнул утвердительно головой. — Сомнения, сомнения, — побарабанил по столу пальцами Онуфриевич. — Ладно. Продолжаем обмен мнениями. Что думаете вы? — обратился он к Казимиру.
— Я думаю как и вы, — ответил тот. Все опять засмеялись. Но Казик не смутился. — И попробую развеять сомнения нашего уважаемого Франца, — сказал он. — Во-первых, сейчас действует старый кодекс, а это закон, даже если его через месяц отменят. Новый примут еще через год, так пускай он поживет у нас, сговорчивее будет. Во-вторых, состав преступления налицо, доказательства весомые Конрад собрал, господин бухгалтер показания дает. Ему, естественно, будет совестно. Ведь остатки совести у него есть, не всю же он пропил? И вот, раскаиваясь, придет он домой и повесится. Что тогда? Надо арестовывать, а контакт сохранится, куда он денется, — подытожил свои мысли Казимир.
— Я согласен с этими доводами, тем более, что они нами выношенные, так сказать. Но право на сомнение мы же имеем? Я колеблюсь, потому что не знаю: будет ли он более откровенным по периоду войны, находясь на свободе или в камере. Хотим мы или не хотим, но вот сейчас он рассказал о своей провокаторской работенке, а мы его — раз и под арест, чтобы ему легче было. Да? Завтра думать начнет, делиться с нами своими «подвигами» или нет. Вот я в чем сомневаюсь, — закончил Конрад.
— Не лишено смысла, мыслишь по деловому, — ободрительно хмыкнул Онуфриевич. — Ты как, Федор?
Тот свел брови и дернул плечами, напрягся, всем видом показывая, что его подчиненные не могут не быть на высоте при таком руководителе, и сказал:
— Зарса надо отдавать в распоряжение следователя, и он будет его разматывать по сегодняшним материалам. Все остальное следователя пока интересовать не должно. Это наши догадки, и мы сами повозимся вокруг них. Следствие его арестует, это же ясно.
— Единогласно, — подвел итоги Онуфриевич, — не будем мудрить. Обмен мнений показал, что я смело могу испросить аудиенцию у шефа. Все свободны. Оставьте мне протокол, — бросил он Конраду.
Казимир
Казимир обладал, как он говорил, памятью карточного фокусника: за годы работы он накопил порядка пятидесяти способов поиска людей, причем доведенных до автоматизма. Он не признавал памяти пассивной, по типу наморщенного лба и сопутствующего воспоминания: что, да, где-то мне он встречался, а дальше — пусто. Он запоминал человека с обстоятельствами, то ли по месту рождения, жительства, времени (дням рождения) и имени, то ли по особенностям походки, приметам, акценту, диалекту, манерам, то ли по всевозможным датам-привязкам типа праздников семейных, революционных, контрреволюционных, религиозных и пр. Память, как он утверждал, досталась ему в наследство от отца-телеграфиста, знавшего тысячу фокусов. Казик любил демонстрировать один из них, когда стену его комнаты обклеивали телеграфной лентой, на которой писались цифры от нуля до миллиона, отделявшиеся друг от друга точкой с запятой. Он проходил дважды по периметру комнаты, почти пустой, ибо имущества так и не успел накопить, запоминал цифры и затем все их по порядку повторял, ошибаясь при этом не больше четырех-пяти раз. Это впечатляло, хотя Федор и говорил: «Ну что это дает?» — имея в виду, что Казимир по служебной лестнице вверх не двигался, а сидел уже лет семь на одной и той же ступеньке из-за отсутствия высшего образования. В заочники он идти не хотел, так как по его мнению заочники только и делали, что сдирали друг у друга контрольные, времени для самообразования у них не было. Учиться же с отрывом от работы его не пускали, ибо у начальства возникал законный вопрос: кто же тогда будет работать?
К Конраду он вначале присматривался, определял: по протекции, по призванию, по престижности или из-за нежелания работать по специальности пошел тот по неспокойной, неблагодарной дороге оперативника. Увидев, что Франц не избегает черновых дел, действительно желает познать технику работы и способен раскручивать запутанные истории до полной ясности, Казимир проникся к нему приязнью.
Дело Зарса для Казимира было проходным, за свою карьеру он вытянул на свет не одну такую темную лошадку. Ему нравилась серьезность Конрада, ответственность при поиске улик, и он охотно раскрывал ему секреты своих фокусов. Пуриньша он вычислил быстро: от голой фамилии к архивным спискам студентов университета, отбор дел тех Пуриньшей, кому к началу тридцатых было в районе двадцати пяти, коллекционирование фото их владельцев, домашние адреса соискателей на политохранку, совпадение адреса с телефоном 2-23-07. Все — промежуточный финиш. На фото был изображен упитанный молодой человек с правильными чертами лица, гладко причесанными волосами, прямым, как проспект, пробором, внешне симпатичным взглядом. Без особых примет.
В конце войны Казимира взяли служить в полк НКВД и пришлось побыть ему в роли конвойного: возить в военный трибунал или выстаивать там в карауле и охранять судимых за сотрудничество с врагом. Изо дня в день, служа в Лиепае, смотрел он на них, вдруг притихших и покорных, вымаливающих себе жизнь и прощение. Все это было до того тошно и надоедливо, что однажды, не выдержав, пошел он к приятелю отца, работавшему в уездном отделе, и взмолился: «Не могу больше смотреть на все это паскудство! Да, надо их судить, но ведь я жизни-то не видел, а здесь каждый день одно и тоже — стой и гляди, и так целый год. Смотри на все эти рожи, молчи при этом и слушай, что они не стреляли, не вешали, не продавали своих же. Пожалуйста, переведите меня туда, где их ловят».
Мольбам Казимира вняли, прикомандировали к уездному отделу вначале в охрану, а потом зачислили в оперативники. Последовавшие пять лет Казимир мотался как челнок по Курляндии, участвовал в открытых боях, просиживал сутками в засадах, вылавливал в лесах тех, кто стрелял из-за угла в парторгов волостей, председателей сельсоветов, жег хутора, хлеб, вешал пленных красноармейцев. Они разрушали в бессильной злобе даже малюсенькие молокозаводики, уводили скот, жгли хлеб, отчего окрестные крестьяне разводили в недоумении руками и говорили, что с этими разбойниками пора кончать.
Казимир не признавал наводящих вопросов типа: не были ли вы там-то, не служили ли в таком-то подразделении? Он спрашивал прямо: в каких частях германской армии, в каком отделе СД находился, чем занимался, отвечай! И когда слышал, что был только в обозе или лечился в госпитале, автомата не имел, в боях не участвовал, то внимательно выслушивал остальную, как говорили, туфту и резюмировал, что такого длинного безоружного обоза, состоящего из одних только раненых, к тому же не участвовавших в боях на советско-германском фронте и стрелявших только в тире из пневматического оружия — в немецкой армии не числилось.
Если спросить господина бухгалтера сейчас о том, где он служил во время войны, то он наверняка ответит, что в обозе. Казимиру представлялся обоз длинный-предлинный, извивающийся по дороге, состоящий из автомашин, фур, телег, саней. Где-то на одной из телег сидел господин бухгалтер, но на какой? Годы работы выработали прикидку: мог ли вот такой наш любимец сотрудничать с абвером или СД? И он отвечал себе — мог. Он располагал связями в этой среде, имел опыт провокатора, хотел жить в его понимании по-человечески, боялся советской власти, ибо за ним грехов хватало. Даже то, что господин бухгалтер в конце войны оказался в Лиепае, откуда можно было удрать в Швецию, а он не уехал, остался… Стоп! Остался, оставили, не смог, помешали… Как же было с теми тремя? Рагозин, Богданов, третий с длинной польской фамилией — не вспоминается. Кажется, Селедиевский. Ничего, вспомнится. Пуриньша Зарс с трудом, но назвал. В досье, хранившемся на предмет выдачи иностранного паспорта, фотография тоже сохранилась. Но где оригинал? Погиб, удрал, сменил фамилию? Иностранный паспорт Александр получил. Цель поездки — частная. Работа? Постой, постой. Экспорт леса? Значит, куда-то ездил. Один? С кем-то? С Зарсом? Надо посмотреть, не получал ли тот иностранный паспорт. Ладно, посмотрим, успеем. Главное, что в политохранке он был, в связке с Зарсом вверх по утесам карабкался, пока оба вниз не покатились и носы не разбили. Полно, не спеши. Александра мы не нашли, так что кто его знает, где он. Итак, те трое. Именно троица. И с ними случилось что-то смешное. Это было одно из первых дел, на рассмотрении которого он присутствовал, поэтому оно и запомнилось. Почему весь трибунал, прокурор вдруг разом засмеялись? В такой момент? Когда осматривали вещественные доказательства? Ну да. У троицы были удостоверения СД и номера на них шли подряд, что-то вроде 103, 104, 105. Приехали они в Лиепаю из Риги в разное время по отдельности, для конспирации. Жили на разных квартирах. Потом один из них выдал остальных двух — и их арестовали. Так где же была первая встреча с Пуриньшем? Вот здесь. В трибунале, в 1945 году. Председательствующий еще спросил, кто выдавал вам удостоверения? И все трое ответили: Пуриньш, Пуриньш, Пуриньш. В СД он был один — Александр. Наконец-то, обнаружилось. Зарс, по идее, мог быть связан с Александром, скажем под номером 91 или 110. А почему бы нет? Что мы вообще знаем о количестве выданных удостоверений и их владельцах? К тому же большинство провокаторов трудилось без удостоверений. Бумажки выдавались элите. Казимир вспомнил, что Рагозин был наиболее активным, выдал множество людей. Следствие по его делу было проведено молниеносно, за месяц, приговор трибунала — расстрелять. Многое оставалось за кадрами хроники жизни Рагозина и ему подобных. Когда Казимир поделился своим экскурсом в прошлое с Францем, тот покивал головой и сказал:
— Тебе приходило в голову, что количество обнаруженных нашей службой разного рода предателей явно превышает в несколько раз известные величины антифашистского подполья в Риге и Латвии? Чем это объяснить?
— Тем, что, наверное, мало знаем о патриотах. Сегодня мы говорим о единицах, а сколько их было? Не были же немцы благотворителями, чтобы держать такой аппарат просто так, — ответил тогда Казик.
— Вот-вот, отлаженному механизму оккупантов противостояли массы непокоренных людей, многие их которых гибли по доверчивости, наивности, неиспорченности. В то же время эти козлы-провокаторы делали свое дело и оставались живыми, — рассуждал Франц.
С той вечерней беседы окна в кабинете друзей все чаще оставались освещенными до позднего вечера.
Берлин. 1 января 1940 года
Последние пять лет начало очередного Нового года ожидалось Вильгельмом Канарисом с радостным любопытством избалованного успехами игрока, овладевшего в совершенстве умением блефовать и раздевать до нитки очередные жертвы рейха. Секрет был прост: 1 января был его день рождения, который сам по себе уже являлся его амулетом на счастье, по крайней мере стал таковым пять лет тому назад, в 1935 году, когда Гитлер именно в этот день назначил его начальником абвера — военной разведки Германии. Тогда ему исполнилось 48 лет, и вскоре стало очевидным, что те влиятельные советники из военных, национал-социалистических и промышленных кругов, которые сошлись на кандидатуре капитана первого ранга Канариса, командира крейсера «Силезия», и предложили ее Гитлеру, не просчитались: они выбрали одаренного, обладавшего практикой проведения тайных операций разведчика, в политическом плане последовательного противника рабочего движения и убедительного реваншиста.
Пожалуй, никто из офицеров кайзеровского военно-морского флота, урезанного в период Веймарской республики, не мог сравниться по авантюрным передрягам с Канарисом, в которые попадал будущий адмирал и из которых, надо сказать, он благополучно выплывал. Канарис любил повторять придуманную им самим шутку, что благодаря его маленькому — полутораметровому плюс четыре сантиметра — росту, его попросту не замечали среди присутствовавших и ему удавалось исчезать, подобно актерам в моменты темноты, наступающей между картинами спектакля, чтобы появиться на сцене вновь в следующем акте.
Действительно, будучи адъютантом командира крейсера «Бремен», патрулировавшего у берегов Латинской Америки перед Первой мировой войной для защиты местных немецких компаний, Канарис участвовал там в каких-то тайных переговорах, за что был награжден боливийским орденом. В период войны он договаривался с англичанами о судьбе крейсера «Дрезден», обнаруженного теми в чилийских территориальных водах. С 1916 года работал по линии разведки в Испании, при выезде в Германию его поймали, посадили в итальянскую тюрьму, где ему грозила смертная казнь, однако с помощью друзей ему удалось выпутаться.
Конец войны Канарис встретил в качестве командира подводной лодки. По возвращении в Германию примкнул к тем силам, которые задушили революцию, и был ближайшим советником военных заговорщиков, организовавших убийство К. Либнехта и Р. Люксембург. В 1919 году он был адъютантом у военного министра Г. Носке, в 1920 — участвовал в антиправительственном путче, который провалился за двое суток, после чего сумел вернуться на службу в министерстве! В 1924 году его послали в Японию, где создавались новые подводные лодки для Германии, в 1928 — направили в Испанию в связи с аналогичным строительством. Наконец, в 1932 году — командирство на «Силезии» и через короткое время перевод на скромную должность начальника береговой охраны в малюсеньком Свинемюнде, откуда явственно просматривался один путь — на пенсию. Однако судьба распорядилась иначе… Гитлер, вероятно, мог избрать на пост шефа абвера более видную кандидатуру из числа генштабистов, генералов и полковников рейхсвера, с более высокими должностными аргументами, однако он знал чего хочет: нужен был разведчик-профессионал, человек действия, с фантазией, не чурающийся черновой работы, обладающий дипломатической гибкостью, послушанием и хваткой солдата. Всего этого в послужном списке Канариса хватало с избытком. Будучи посвященным в захватнические замыслы Гитлера самим Гитлером, Канарис начал тотальную разведывательную деятельность против намеченных жертв политической экспансии. Находящийся на задворках военного министерства в виде небольшого отдела, абвер стал в темпе развиваться и к 1938 году превратился в Управление разведки и контрразведки «Абвер-заграница», в штатах которого работало 15 тысяч человек. С того же 1938 года, после ликвидации военного министерства, Канарис подчинялся начальнику штаба верховного главнокомандования В. Кейтелю и вскоре только Гитлеру как верховному главнокомандующему и больше никому…
Сегодня, 1 января 1940 года, Канарис пришел на службу позже обычного. Утром он побывал в манеже, поупражнялся в верховой езде, выбрав самую спокойную лошадь — кобылу Венеру. Приведший ее отставной фальдфебель с крейсера «Дрезден» Шульц, устроенный в манеж Канарисом по старой дружбе три года тому назад, сразу определил по этому выбору, что адмирал находится в минорном настроении, ни с кем не будет разговаривать, поэтому позволил себе лишь коротко поздравить его с днем рождения и сообщить, что бригаденфюрер Шелленберг велел подготовить себе лошадь на утро завтрашнего дня. Часто Канарис совершал верховые прогулки с Шелленбергом, во время которых руководители обеих разведок, военной и соответственно Главного управления имперской безопасности, вели свои бесконечные диалоги, обмениваясь информацией и нанося при этом друг другу вежливые уколы легкой сенсационностью сообщений, поступающих по линии их ведомств. Шульц должен был докладывать о всех друзьях адмирала в манеже, чтобы тот мог избежать встреч с теми, кого он не хотел видеть в данный момент. Доводил ли Шульц подобную информацию до Шелленберга, Канарис не знал, но допускал. Встречались они лишь тогда, когда лично созванивались по телефону, либо в районе ипподрома, чтобы прогуляться по лесным дорогам, либо, когда было прохладно, в манеже. Последний раз они виделись позавчера, здесь, в манеже, и Шелленберг деланно выразил сочувствие по поводу того, что при разборе захваченных архивов второго бюро польского генштаба, или проще — военной разведки, нашлись материалы о вербовке поляками военнослужащих германской армии. С точки зрения Канариса, ничего страшного в этом не было: разведка армии любой страны должна добывать информацию, однако неприятен был сам факт, что ведомство Шелленберга, которое не имело никакого отношения к захвату абвером польских архивов, пронюхало об этом, и теперь Шелленберг будет потешать публику своими росказнями.
В масштабах Канариса все это было мелочью, мало ли что не случается при огромных объемах работы, и он найдет, чем в свою очередь досадить Шелленбергу. Единственно, что его злило — это наличие еще одного информатора в собственном ведомстве, который вчера рассказал об успехах польской разведки, а сегодня может ляпнуть об агентах абвера. С мыслью о том, что необходимо издать еще одну директиву об ограничениях при работе с трофейными документами разведок враждебных государств, Канарис соскочил с лошади, кивнул Шульцу, переоделся, сел в свой «опель-адмирал» и отправился в управление, расположенное на улице, носящей имя великого адмирала Германии — на Тирпитцфере, 74. В расположенном здесь особняке находился мозговой центр абвера, работали ведущие руководители военной разведки и располагались основные отделы. Эту резиденцию прозвали «Лисьей норой», поскольку, выполняя архитектурные замыслы «маленького адмирала», в доме понастроили столько и таких коридоров, что недавно принятые сотрудники попросту в них плутали, как в джунглях.
Проходя мимо вытянувшегося в приемной адъютанта, Канарис бросил:
— Пригласите ко мне через час Бентивеньи и Шмальшлегера, — и прошел к себе. Он подошел к небольшому зеркалу, расположенному в комнате отдыха, примыкающей к кабинету, и стал внимательно себя рассматривать. На него глядел усталый, но бодрящийся человек с почти лишенной растительности головой, высоким лбом, слегка нахмуренными бровями, с мешочками под широко расставленными светлыми глазами, глядящими озабоченно, крупным носом, идущими от его крыльев резкими складками, очень большими ушами, слегка отвис шей нижней губой, придающей капризно-презрительное выражение лицу, худой шеей, причем было заметно, что воротник рубашки явно великоват. «Надо поменять размер рубашки, — подумалось ему, — и не носить больше этого горохового костюма. Пора переходить на абсолютно темные тона. Вообще выгляжу на свои пятьдесят три, а может и больше. Обижаться не стоит, вид соответствует затраченным на жизнь силам», — философски заключил Канарис, налил себе минеральной воды и вернулся в кабинет. Он включил огромный ящик «Телефункена» с вертикальной шкалой, настроил его на волну Вены и стал слушать тихую музыку вальсов.
Когда кто-то пытался сказать ему, что он не щадит себя даже в свои дни рождения, он обычно отвечал, что разведка работает день и ночь, без выходных и праздничных дней. В лучшем случае, в свой день рождения он мог позволить себе вот так отключиться на какой час, как он говорил — посмотреть на год назад, на год вперед. Что ж, как разведчик он мог гордиться успехами своей службы. Не было за последние пятьдесят лет ни в одной стране мира руководителя разведки его, Канариса, размаха, самодовольно подумал он. За пять лет сделано столько, что от унижений Версаля остались лишь воспоминания. Занятие Рейнской зоны в марте тридцать шестого было первой открытой пробой сил вермахта и скрытой работы его разведки.
Агентуре абвера во Франции стало точно известно, что французы ничего не предпринимают в ответ на запущенные в Париж пробные шары о предстоящем марше частей верхмахта в зону. На основании этих данных фюрер приказал двинуть туда… одну дивизию — больше наскрести не могли, ибо только-только в Германии прошел первый призыв. Солдат попросту не было. В Рур вошли три батальона. Вошли и стали ждать, что будет. Франция могла выставить в эти дни 90 дивизий, и когда генерал Гамелен придвинул к границам из них лишь больше десятка, даже Гитлер перетрусил, не говоря о военном министре Бломберге, который умолял фюрера отступить. Канарис, опираясь на свою информацию, доказал, что данных о намерениях французов также войти в зону попросту нет, так зачем нам бежать оттуда? Подождем. «Слонам» должно повезти. Они мудрые. Если французы войдут, то мы всегда сможем зону покинуть. Но мы не пешки. Игра удалась. Также блестяще, без единого выстрела была присоединена Австрия.
Вначале Гитлера волновал даже вопрос, какую позицию займет Муссолини, что будет делать Чехословакия, ибо после захвата Австрии наибольшей угрозе подвергалась именно она, стоит только посмотреть на карту. Канарис встал и подошел к висящей на стене карте мира. Из радиоприемника, настроенного на Вену, зазвучала очередная речь Гитлера. Канарис усмехнулся. Вспомнил, как докладывал фюреру, что Франция в дни аншлюса вообще сидит без руководства вследствие очередного правительственного кризиса, а Чемберлен откажется от каких-либо гарантий чехам. Так все и произошло. Путь на Вену был открыт. Очередной блеф сработал на выигрыш. Сам Канарис произвел, как он говорил, свой «маленький аншлюс»: он пригласил на работу в абвер одного из руководителей австрийской военной разведки полковника Эрвина-фон Лахузена, который стал начальником второго отдела. Это был тонкий ход. Канарис улыбнулся еще раз. На пост руководителя диверсионного отдела он мог найти кандидатов из своего окружения, но взял сорокалетнего Лахузена, земляка фюрера, австрийца, от чего Гитлер пришел в восторг и немедленно дал свое согласие. Будущий адмирал знал, как заручаться симпатиями фюрера. Канарис сел у стола боком, так, чтобы не видеть карты, взял лист бумаги и стал набрасывать очертания Германии и территорий стран, которые она захватила или планировала оккупировать. Австрия, Чехословакия, Литовская Клайпеда, Польша. Он закрасил эти страны в желтый цвет. Германию — в коричневый. Желтый и коричневый, что ж — гармонируют. Но ведь на повестке дня Франция, а до нее должны быть сломлены Дания, Норвегия, Нидерланды, Бельгия… Он выбрал зеленый карандаш и стал штриховать территории обреченных государств. Иначе мечту фюрера Англию не блокировать и во Францию не войти. Таковы наметки. Со дня на день фюрер подпишет приказ о присвоении ему следующего адмиральского звания, все документы подготовлены. Он вспомнил, как радовался своему первому адмиральскому чину.
Тогда дышалось как-то легче, начиналась испанская эпопея, отрабатывались детали франкистского путча, «маленький адмирал» сновал между Берлином и Римом, уговаривал итальянцев ввести войска в Испанию. Он пририсовал к Франции Пиренейский полуостров, бросил при этом взгляд на портрет Франко, висящий в кабинете, с его милым посвящением ему, Канарису. Да, тогда он первым определил способности вождя у дорогого сердцу Франсиско, рекомендовал его фюреру. Если бы таким, как Франсиско, был бы этот чурбан Генлейн в Чехословакии! Англичане и французы промолчали и при развитии испанских дел, и при аншлюсе Австрии, и при разделе и съедении Чехословакии. Но ведь вечно-то молчать они не могли. И вот на тебе — Польша, состояние войны с Англией и с Францией. А как иначе выйти на границы с Россией? Без Польши? Как? Для чего затевалась три года тому назад история с подбрасыванием Сталину документов о неверности русских генералов? У Советов сейчас такая чехарда с военными, что хоть бери их голыми руками, командовать там явно некому. Но сколько запутанности, переплетения интересов во всей этой географии! Как в неразрешимом пасьянсе: карты закрыты, сбросить нечего, варианты комбинаций исчезают. Он зачеркнул коричневым карандашом Францию, Бельгию, Голландию, Данию, Норвегию, подумал, что таких фигур, как Франко, способных быть во главе режимов, там явно не просматривается, а вот подчинятся ли они? Попробуй, тронь их. Вздохнул. С Чехословакией все было не так просто. В мае тридцать шестого чехи здорово стукнули абвер по носу, когда в Праге была ликвидирована почти вся его агентура. Пришлось создавать ее заново. Два года подготовки тихой работы, тайных операций. Мюнхен, отторжение Судет — весь этот спектакль прокрутили на глазах у публики за десять дней. Мало кто знает, что сцену для этого эффектного спектакля подготовил он, Канарис, и его абвер. Таковы особенности жанра разведки. Хорошо, появился Лахузен, специалист по чехословацким делам, который стал ближайшим консультантом еще будучи в Вене.
Начали натаскивать Конрада Генлейна, нашли Германа Франка, обучили их подготовке разложения чехословацкой армии. За полтора года создали партию судетских немцев — отличную «пятую колонну», навербовали сотни агентов. К осени тридцать восьмого Генлейн стоял уже во главе «Судето-немецкого добровольческого корпуса» в 40 тысяч человек, снабженного оружием. Это была сила. Одно центральное разведывательное бюро в Судетах во главе с Ламнелем чего стоило. Все, что происходило в Чехословакии, абвер знал не хуже Бенеша. Ему, адмиралу Канарису, лично пришлось каждый второй день мотаться в замок Дондорф, около Байрейта в Баварии, где создали штаб-квартиру для Генлейна. Он буквально тыкал пальцем тогда, где демонстрировать, где саботировать, где нападать на чешских жандармов, таможенников, кого убрать из политических оппонентов, а Генлейн и Франк передавали указания своим подчиненным. Все происходило по расписанию абвера на радость фюреру, который совал сведения о «стихийных взрывах отчаяния» в Судетской области Чемберлену и Даладье до тех пор, пока последние не сдались и не продали Бенеша. Сразу после мюнхенских подписей вермахт вошел в Судеты, а в марте 1939 года — присоединили оставшуюся Чехию по австрийскому образцу. К мюнхенским дням у границ Чехословакии стояло 30 дивизий верхмахта, а на западных границах рейха — всего 5, против которых было 28 французских. У Бенеша имелось 45 дивизий. Чехи мобилизовали один миллион и мобилизацию отменили, затем объявили призыв еще раз и опять отменили. Русские двинули к западной границе 30 дивизий при поддержке 600 самолетов, заявили, что помогут и без Франции, если Бенеш попросит их официально. О том, что президент промолчит, Канарису было известно. Такой вариант событий проигрывался, русских побаивались, но Бенеш молчал, все обошлось. Имея на руках минимум козырей, фюрер блефовал по-крупному, и огромные силы, которые могли тогда задавить фатерлянд, стояли кругом в бездействии, как на улице толпа смотрит на избиение кого-то, но не вмешивается.
Но — вот Польша. Польша! Что будет дальше? Канарис встал, подошел к карте и от нахлынувших мыслей замотал головой. Радость от 1 января улетучивалась.
Все начиналось блестяще. За неделю до вторжения в Польшу, после энергичных шагов Гитлера, был подписан договор о ненападении с Россией. Это была гарантия невмешательства со стороны русских. Абвер находился на высоте. Сеть заброшенных радиоагентов была небывало значительной, в августе в Польшу переправили группу диверсантов, они разрушили важные транспортные сооружения, что препятствовало концентрации частей польской армии; в ночь перед нападением 1 сентября через польскую границу перебросили под видом шахтеров и рабочих порядка пяти тысяч диверсантов, в основном говорящих по-польски, с тем чтобы они захватили приграничные мосты, электростанции. Все шло по плану. Но… Канарис вздохнул. Когда посол Англии Гендерсон 3 сентября в 9 часов утра прибыл в рейхканцелярию и зачитал переводчику Гитлера Шмидту ультиматум, а тот перевел его фюреру, последний на какое-то мгновение потерял дар речи, потом спросил Риббентропа: «Что же теперь делать?» Выступление Англии и Франции на стороне Польши не ожидалось. Все были уверены, что пронесет и на этот раз. И началось. Уже на следующий день, 4 сентября, англичане арестовали на своем неприступном острове 400 немецких агентов. Абвер оказался, как мрачно пошутил начальник отдела разведки Пиккенброк, в роли подлодки без перископа. Сколько усилий, нервотрепки, хитроумных ходов затратил Канарис на уверения друзей — англичан, что вот чуть-чуть, чуть-чуть подождите и генералы сотворят государственный переворот.
Заговор немецких генералов против Гитлера существовал, в отличие от заговора русских генералов против Сталина. Канарис улыбнулся. Англичане шли на закулисные переговоры охотно, требовали убрать фюрера и записали в так называемый «Меморандум X», представленный ими немецким заговорщикам, параграф «Об урегулировании восточной проблемы в пользу Германии». С британской стороны переговоры вели официальные круги, они знали, куда бросить нерастраченные силы вермахта. И такая непоследовательность. То сами носились с идеей удара по Красной Армии, и мы Для них все провернули. Теперь же врезали нам. Какого черта они полезли со своими ультиматумами?! Господи, ведь не Польша же цель! Это только промежуточная станция на пути к России. Неужели непонятно, что по дороге в Россию надо перешагнуть через поляков, этих пешек в большой игре? Как же иначе попасть на Восток? С Францией мы разделаемся, всякие там Бельгии, Голландии не в счет. Но как подписать мир с Англией? А если нет, то война на два фронта? Россия-то на повестке дня…
Услышав об ультиматуме Англии в рейхсканцелярии в тот день и приехав к себе, Канарис тотчас позвал Лахузена, Пиккенброка, Бентивеньи и сказал им, что наихудшее свершилось и невозможно ничего уже изменить. Он отчетливо это помнил… Да, начало сорокового года сулило одни заботы. Но надо держать себя в руках, надо работать.
Канарис сел за стол, сосредоточился, нажал на кнопку, вошел адъютант.
— Бентивеньи и Шмальшлегер далеко? — спросил он.
— В приемной, экселенц.
— Зовите.
— Слушаюсь, экселенц, — ответил адъютант и вышел.
Тут же появились подполковник Франц фон Бентивеньи, начальник службы контрразведки третьего отдела абвера, и майор Шмальшлегер, заместитель начальника абвера в Вене, руководитель отряда, направленного в Польшу. Бентивеньи был выше среднего роста, стройный шатен с выразительными темными глазами и вопросительно-недоверчивым взглядом. Рядом с аристократичным Бентивеньи майор Шмальшлегер выглядел грузным, неповоротливым служакой, схожим со шкафом средних размеров. Пока Бентивеньи, поздоровавшись с адмиралом, рассыпался в любезностях в связи с днем его рождения, Шмальшлегер незаметно, как ему показалось, огляделся, так как в кабинете шефа ему пришлось быть впервые. Бентивеньи представил майора, затем попросил разрешения подписать несколько срочных бумаг. Пока Канарис, пробегая их быстро глазами, подписывал, Шмальшлегер продолжал рассматривать окружающие его предметы, прикидывая интересы шефа, чтобы в следующий раз, в случае визита в этот кабинет, подарить что-либо ласкающее взор хозяина. Он сразу узнал фотографию полковника Николаи, шефа германской военной разведки времен кайзера, труды которого на профессиональные темы читал. Увидев фотографию таксы адмирала, Шмальшлегер уверился еще раз, что хозяева должны соответствовать своим четвероногим любимцам, что конечно же шефу, с его небольшим ростом, подходят именно такие, небольшие собачки, а не какие-то там доги, овчарки или боксеры, на фоне которых он показался бы еще более тщедушным. От внимания майора не ускользнула и старинная, надо полагать, статуэтка, изображавшая мудрых, всегда знающих что делать в каждый момент обезьян. Франко на портрете Шмальшлегер не узнал, как ни напрягал память. Решил спросить потом у сослуживцев, что это за птица. Мелькнула мысль не подарить ли адмиралу верховую лошадь: на польских племенных заводах можно было выбрать отличный экземпляр, на котором шеф будет смотреться величаво. Мысль майору понравилась, он улыбнулся и в тот же момент услышал голос адмирала:
— Хорошо, Бентивеньи, отдайте документы и начнем, а то наш бравый майор уже размечтался.
Шмальшлегер вздохнул и принял подобающую позу. Бентивеньи вышел из кабинета и тотчас вернулся без тонкой папки. Усевшись и раскрыв польскую, как ее окрестили, папку, подполковник пригласил глазами сделать то же самое Шмальшлегера. Тот достал из портфеля свои документы, разложил их на столике и стал ожидать вопросов адмирала.
— Итак, результаты вашей экспедиции, майор, — бросил Канарис.
— Как вам известно, экселенц, нас подкрепили людьми из Бреслау, и в Варшаву отряд вошел сразу после ее занятия. Бросились к зданию генштаба — пусто. Искали документы энергично. Нашли в форте Легионов Домбровского, недалеко от Варшавы. Материалы второго бюро были там. Организовали их отбор, погрузили на машины — и прямо в Берлин. Почти три месяца разбираем. Работа движется медленно: двадцать грузовиков все-таки с документами, мало переводчиков с польского, — доложил Шмальшлегер.
— Бентивеньи, соберите офицеров, знающих польский, из отделений в Кенигсберге, Штеттине, Бреслау, откуда сможете. Эту канитель пора кончать, — бросил недовольно генерал, — а то привезти — привезли, а что дальше? Еще полгода разбирать будем?
Оба офицера почтительно склонили головы.
— Что нам нужно в первую очередь? Разыщите агентуру второго бюро по России, поляки вели активную разведку, нам следует принять у них эстафету на лету, — Канарис сделал паузу, посмотрел на Бентивеньи и добавил, — и по Англии. По английским делам создайте другую группу. Ясно? Поймите, сейчас это главное. Объясните всем, что как увидят работу второго бюро по участкам польско-советской границы, так пусть немедленно концентрируют эти материалы в одном месте. Не гонитесь сейчас за классификацией всех документов. Ищите людей Варшавы, пока мы подготовим своих — упустим время. У польской агентуры уже налаженные возможности. И вот что, Бентивеньи, что у русских с их укрепленными районами? Вдоль новых рубежей они будут их строить? Что нового слышно о передвижении полевых аэродромов к теперешней границе? Я не могу понять одного: какого дьявола русские размещают свои истребители около самой что ни есть границы? Они с ума посходили? Кто кого собирается атаковать? Сталин нас? Это же признак наступательной операции! Ничего не понимаю! Не законченные же они идиоты, чтобы подбрасывать нам такие мишени! Ну ладно! Работайте по этим вопросам. Ситуация для нас выгодная, до сих пор потоки людей идут там с запада на восток и наоборот, правда поменьше, но тоже идут. Должен быть максимум отдачи! Максимум! И вот что еще, Бентивеньи, 28 декабря я подписал директиву нашему дорогому Лахузену о создании в Кракове отряда в две тысячи человек и в Варшаве «Украинского легиона». Это на случай войны, для засылки в советский тыл. Для диверсий. Отберите себе из них тех, кого сейчас можно использовать в разрезе сказанного мной. Вы меня поняли? Бентивеньи наклонил голову.
— А теперь, Шмальшлегер, расскажите мне о своих находках по части польских вербовок в вермахте. Конспективно. Бентивеньи мне о них докладывал. Прошу детализировать.
— Слушаюсь, экселенц. В августе 1936 года в город Гдинген из Магдебурга для получения документов, подтверждающих его арийское происхождение, прибыл Герхард Болен. С ним установили контакт офицеры польской разведки, сделали соответствующее предложение. Он не колеблясь согласился, как указано в документах, поскольку в Германии его унижали по политическим мотивам. С ним сразу обговорили псевдоним, связь, дали задание по СД, СС и полиции. Через месяц после возвращения из Польши Хенри, это данный ему псевдоним, добровольно поступил на службу в пехотный полк и на Рождество вновь поехал в Гдинген за инструктажем. О гарнизоне выложил все. За одно сообщение получал по 20 рейхсмарок, в банке Гдингена открыли на него счет, в марте он снял там 200 марок. Позже его перевели в отделение воздушной разведки. Судя по оплате, он передал важные сведения о люфтваффе, причем в оригиналах. Он получил разрешение на воскресные отпуска в Мариенбурге. Во время проезда через польский коридор Хенри передавал документы таможеннику, заходившему в вагон, а на обратном пути ему таким же образом их возвращали. По месту службы в Магдебурге он работал у офицера ВВС, выполнявшего задания абвера, имел доступ к секретам. Вот такова коротко канва этого дела, экселенц.
— Недурственно, недурственно поработали, коллега, — покачал головой Канарис. — Еще что примечательно?
— Дело «Краузе», экселенц, агент польского второго бюро с 1933 года под номером 1713, мастер завода прессового оборудования фирмы «Крупп». В 1937 году в Алтен-Эссене построил виллу стоимостью 34–40 тысяч рейхсмарок.
— Сколько, сколько? — переспросил адмирал.
— Стоимостью около сорока тысяч марок, — порозовев от общения с шефом, ответил майор и продолжал: — В 1933 году Краузе посетил свою родину — Позен, где с ним встретились офицеры второго бюро. На сотрудничество пошел после некоторого колебания. С ним работали через польское консульство в Дортмунде. Его снабдили фотоаппаратурой. Он передал фотокопии конструкций тяжелого оружия, данные о стали на броню для военных кораблей, расчеты различных орудий. Втянул в свою шпионскую работу жену и сына. Причины этого предательства…
Такое безмятежно праздничное утро затянулось облачками профессиональных ляпсусов. Хотя и мелких, но бьющих по самолюбию адмирала. Он встал из-за стола.
— Ладно, ладно, все ясно! О причинах можете мне не рассказывать. Тяга к богатству — вот причина. Старо как мир. Скажите мне, Бентивеньи, о другом. Семь лет встречаться в Германии на уровне консульской резидентуры, пусть даже очень конспиративно! Я сам так работал и все понимаю. За семь лет он на контактах не попался! Бывает и такое. Не увидели, прошляпили. Но отгрохать виллу за 40 тысяч марок?! И кто? Мастер завода!! И чтобы никто этого не заметил? Не верю! Где наша сеть осведомителей? Что у нас творится? Когда вы вошли, Шмальшлегер, в мой кабинет, то увидели обезьянок, вон тех. Вы на них бросили взгляд. Я видел. Не так ли? Они выражают, так сказать, свои обезьяньи заповеди: никому ни слова, никому не отдамся, ничего не слышу, но все видим. Что же у нас получается? Все наоборот. Болтаем, отдаемся даже полякам. Ни черта не замечаем. Была бы моя воля, я всем офицерам воинских частей и сотрудникам военных предприятий сделал бы эмблемы с этими обезьянками. Вы спросите, зачем? Затем, чтобы смотрели на эти эмблемы друг у друга на груди и соображали, как не допускать болтовни и быть наблюдательными. Эта статуэтка не даром здесь стоит: обезьяньи заповеди надо вдалбливать в головы разведчиков. И вам в том числе, майор. Такая эмблема не помешает сотрудникам вашего отряда.
— Почему, экселенц, — с недоумением вырвалось у Шмальшлегера.
— Потому что то, о чем вы мне рассказали, уже известно моему другу Шелленбергу, черт бы вас и его побрал.
Майор растерялся и не знал, что сказать. Бентивеньи сделал ему знак рукой, мол, не высовывайтесь, не возражайте.
— Информация исходила из вашего отряда, майор. Благодарите бога, что сегодня мой день рождения и я не намерен в ответ на поздравления ругаться. Запомните, майор, что к польской агентуре по России будут тянуться руки всех. И своих, я имею в виду Шелленберга, и чужих — англичане не поскупятся, если узрят у нас аппетитного агента. Поэтому наведите порядок при разборе документов и пресекайте болтовню. Вы свободны.
Когда майор ушел, Канарис, помолчав, сказал:
— Сделайте выводы, Бентивеньи. Абвер-3 должен вскрывать такие случаи, это ваш хлеб. Этот Краузе у меня из головы не выходит, столько вытащил секретов, подлец! Правда, куда? В Польшу, которой, слава богу, нет. Если такими оборотистыми окажутся русские или английские «пешки»: что тогда? Что если поляки делились информацией от подобных Краузе с англичанами? Вы скажете, мы не умрем. Да, живы останемся. Но репутация абвера блекнет.
Адмирал подошел к карте и карандашом поехал снизу от бывшей польско-советской границы наверх — к границе с Литвой и дальше к Латвии и Эстонии.
— Смотрите сюда. С территории Польши мы работу разовьем, но с Прибалтикой пока ясности нет. Как сложится там ситуация покажет следующий год. Я так думаю. Мы в Прибалтику входить не будем, незачем преждевременно наваливаться на фланг русским и раскрывать карты. Это не по-джентльменски. Но в случае каких-либо осложнений мы не можем остаться там без позиций. Нужно иметь крепкую сеть, управляемую вами, скажем из «Абверштелле Кенигсберг». Конечно, коллеги из Эстонии, Латвии, Литвы дадут нам людей, но надо иметь и свою агентуру, неизвестную нашим прибалтийским друзьям. Мало ли что может случиться! Они продаются всем. Каждый Краузе мечтает о вилле. Попробуйте подразвить там операцию «Кредит», в Европе мы имели благодаря ей неплохие результаты. Вот так, Бентивеньи. И не считайте, что если вермахт одерживает одну победу за другой благодаря в том числе и нашим расчетам, то нам не придется платить за грехи. В трудные минуты за грехи платят.
Бентивеньи лишь успевал наклонять голову в знак согласия.
— А теперь вот что, подполковник. Я не люблю быть должником, тем более перед таким своим другом, как сэр Шелленберг. Давайте сочиним ему деловое письмо насчет, помните, его сотрудника Шнайдера, который возится на наших глазах уже полгода с этим англичанином, как его фамилия?
— Остин, экселенц. Они знакомы уже месяцев восемь.
— Тем более, что англичанин работает на абвер уже полгода. Мало того, что он сотрудник Интеллидженс Сервис, о чем этому дураку Шнайдеру не сказал, и наш долг нарушить молчание Остина и предупредить драгоценного друга Вальтера. Примерно такого содержания: «По достоверным сведениям абвера сотрудник консульского отдела посольства Германии в Мадриде Шнайдер установил там контакт с английским торговцем Остиным, который использует это знакомство в интересах английской разведки. Сообщаем согласно договоренности об обмене информацией». И мою подпись. Все мило и пристойно. Абвер не прощает издевок. Кажется на сегодня все, Бентивеньи. Все-таки у меня день рождения, и я ухожу. Пусть Шелленберг радуется нашему подарку и отстанет от Остина. До завтра.
Подполковник вышел, тихо закрыв за собой дверь. Канарис не переносил обид, даже ничтожных. Последнее слово оставалось за ним.
Рига. Февраль 1940 года
В это тусклое февральское утро Александр Пуриньш проснулся позже обычного. Было воскресенье, можно поваляться, даже перевернуться и лечь поперек двухспальной кровати, тем более, что Магда убежала, надо думать, часов в девять, а ему в такой позе нравилось смотреть на свою недавнюю новинку в спальной комнате — камин, умело выделанный из печи, облицованной белым кафелем от пола до потолка. Он давно мечтал о том, чтобы придать какой-то уют спальне, комнате просторной и холодной, где солнце бывало лишь по утрам и то на короткий миг. Ранней осенью прошлого года ему пришлось побывать в гостях у Свикиса, оптового торговца лесом, главы мебельной фирмы, владельца здоровенного особняка в Задвинье, расположенного в числе других богатых домов на улице, опоясывающей небольшое озерцо Марас. Участок торговца спускался к самой воде, был ухожен, газон сверкал коротко подстриженной политой травой, в центре его росли три великолепные липы, и возле них стоял камин. Пуриньш вначале ничего не понял. Камин с трубой, торчащей, правда, из-под навеса, и на вольном воздухе. Подумать только! Затем, бросив взгляд на самодовольное выражение рожи господина директора Паула Свикиса, с которым тот позировал перед гостями на фоне дома, лужайки, прекрасного БМВ вишневого цвета, небрежно поставленного около гаража, Пуриньш понял, что у хозяина всех этих богатств камин на дворе, с фигурной решеткой, выкованным из меди экраном, затейливыми щипцами и громоздкой кочергой — это способ самоупрочивания в шатающемся мире. «Что ему камин, — зло думал Пуриньш, — он с таким же успехом способен разводить черных лебедей и разместить в пруду крокодилов при условии вечно теплой воды и заграждения, чтобы они не покусали ноги гостям». Впрочем, Пуриньш завидовал денежным людям по-хорошему. У него самого таланта к коммерческой деятельности не просматривалось, а вот если бы деньги явились к нему в качестве наследства, выигрыша в лотерею, на ипподроме или вследствие выгодной женитьбы! Конечно, все эти вздохи по деньгам с неба были ребячеством, но ведь бывают такие случаи? По мере топтания на месте по службе в политической полиции и наматывания прожитых лет, а ему исполнилось уже тридцать пять, Пуриньшу все чаще приходила мысль о том, что неужели придется всю оставшуюся жизнь посвятить себя охране таких, как Свикис, с чертовым камином-памятником?..
Он перевернулся еще раз, пошарил рукой под кроватью, достал сельтерскую, отбросил крючок с фарфоровой пробки и жадно стал пить. Полегчало. Принялся за вторую, пил медленнее и считал искорки от лопающихся пузырьков на поверхности стакана. Поскольку успевал досчитать до десяти-двенадцати раз и сбивался, то понимал, что путается и одной сельтерской не обойтись, надо сходить за пивом. Голова побаливала, вставать не хотелось, от давно погасшего камина еще шло тепло. Усмехнулся, что если бы не увидел сооружение Свикиса, то не удосужился сделать камин у себя. В тот вечер Свикис расхвастался, что мысль сделать камин на дворе пришла ему в голову, когда он увидел знаменитую скульптуру девушки-русалки в Копенгагене. Может и так, подумал Пуриньш. От торговца лесом особых фантазий ожидать не приходилось. От девушки-русалки к камину… Хотя именно это рассуждение и подтолкнуло мысль Пуриньша, но только в обратном порядке: от согревающего огня к таинственным незнакомкам. Навещавшие его дамы придут в восторг от предложения полюбоваться на огонь в очаге и танцующие блики на стенах спальни, и это оправдает их в собственных глазах — в результате минутной слабости оказаться в кровати любезного хозяина. Пуриньш стал гордым от сознания, что его мысль по-настоящему изящна и оставила далеко позади тупоумные финансовые затраты жирного лесоторговца. Последствия того вечера у Свикиса свелись для Пуриньша не только к идее о камине. Отнюдь. Появилась несравненная Магда, прелести которой не шли ни в какое сравнение с другими дамами — они были на класс выше, и он уже стал подумывать о женитьбе на ней, но капитал в денежном выражении у нее был невелик, а без такового нечего было пока и огород городить. Вот если бы им стать владельцами косметического салона, где работала Магда, вот тогда!..
На вечеринку к Свикису Пуриньш попал через своего кузена Лерха, одного из хозяев пивного завода, всегда готового выполнить любое деликатное поручение политической полиции. В данном случае Пуриньш искал знакомства с Эрисом, турецким почетным консулом в Риге, хозяином шикарного кафе-кондитерской, домовладельцем, жившем в городе с незапамятных времен. Надо было подойти к нему незаметно, как бы случайно. Лерх взялся осуществить знакомство и, узнав, что в числе прочих у Свикиса будет турок, получил приглашение для Пуриньша. Собралось человек тридцать. Прием проходил на лужайке с камином, дамы и господа перемещались, образуя группки людей, поглощенных беседой друг с другом о всем на свете: о только что закончившемся лихом разгроме Гитлером Польши, о вторжении туда же России, о разделе Польских земель, о страшной войне на Западе, о советско-германском пакте, репатриации немцев из Латвии в Германию, о том, что эти левые подрывают стабильность в стране… Но главной темой было: неужели Латвии не удастся избежать войны? Одни толковали о том, что Англия и Франция еще договорятся с Гитлером, что у них опытные дипломаты, ведь был же Мюнхен, вспомните, господа! Другие робко возражали, что, помилуйте, но Вторая мировая война уже началась! Третьи возлагали надежды на Германию, однако не могли парировать мнения возражавших, зачем же бегут туда прибалтийские немцы, не признак ли это, как в случае с Польшей, скорого появления пришельцев с Востока?
Слушая обеспокоенные разговоры, Пуриньш молчал. Он-то знал об активности резидентур советской разведки в Эстонии и Латвии. Эстонцы уже мучались в поисках решения проблемы с русскими требованиями о создании на Балтике военно-морских баз. За этим следовало ожидать и вымогательства Вентспилса или Лиепаи, мало ли чего? «Чем мы хуже, — думал Пуриньш, — зачем вообще лезть в Эстонию и Латвию, если между Советами и Германией существует пакт о ненападении?» Ответить на этот вопрос он не мог. Ясно было одно — мирные времена в Балтии кончаются.
…Пуриньш легко вычислил Эриса по его типичной восточной внешности: среди собравшихся был только один человек с массивным носом на обрюзгшем лице, черными пронзительными глазами, полуседыми волосами. Короткногий здоровяк стоял рядом с пышной блондинкой и рассказывал что-то, усердно жестикулируя маленькими ручками. Лерх незаметно кивнул Пуриньшу, они подошли к парочке, и Лерх представил всех друг другу.
— Я о вас слышал, — сказал Пуриньш турку и при этом сделал чуть удивленный вид.
— Наверное, не только слышали, но и видели, ведь у меня в кафе бывает вся Рига.
— Ни разу почему-то у вас не был.
— Наверное потому, что не любите восточные сладости, — вступила в разговор блондинка, которую Лерх назвал Магдой.
— Вероятно, — согласился Пуриньш, — от восточных сладостей полнеют.
— Вам это пока не грозит, — заметил Эрис, — у вас отличная спортивная фигура.
— Благодарю, — наклонил голову Пуриньш и спросил: — Я вспомнил вас по сыну. Нурмухамед Эрис со строительного факультета, это ваш сын?
— Да, — осклабился турок, — младший.
— Я его тоже знаю, — заметила Магда, — он учится с вашим братом Оскаром, не так ли?
— Да-да, — в некоторой растерянности произнес Пуриньш, подумав, до чего же Рига маленький город, все друг друга знают, и что изо всей его маскировки получится балаган, если он будет играть, как предположил вначале, сотрудника телеграфного агентства. Пуриньш ловко перевел разговор на скачки.
— Вы, насколько я знаю, владелец нескольких прекрасных лошадей? — обратился он к Эрису.
— О да, всего двух, а третью на днях получил из Стамбула. Если вы увлекаетесь, то приглашаю через неделю на ипподром, после акклиматизации это будет первая проба сил нового приобретения. Посмотрите. И вас, мадмуазель, — любезно обратился он к Магде и отошел хозяину дома.
Пуриньш остался с Магдой, которая ему явно пришлась по вкусу.
— Пойдете? — спросил он.
— А почему бы и нет? Люблю скачки. Составите компанию?
— Разумеется. Откуда же, позвольте спросить, вы знаете моего брата Оскара?
— В салоне, где я служу, много чего знают. Например, я знаю, что вы сыщик и, говорят, хороший.
— Вот так прямо и говорят?
— А что? — сделала наивное лицо Магда.
— Мой братик болтает? — скрывая раздражение за улыбкой, спросил Пуриньш.
— Не сердитесь, не он. Ваш брат очень мужественен, он боксер, но он не в моем вкусе. Вы на него совершенно не похожи, — тараторила Магда. — Если вы не против, то возьмите с собой Оскара на ипподром, а я приглашу свою подругу, ей ваш брат очень импонирует. Хорошо?
Еще некоторое время они продолжали оживленно говорить, пока другие гости не развели их в разные стороны. В конце вечера вышло так, что Пуриньш не без умысла покидал дом одновременно с Эрисом и Магдой, причем дочь хозяина Расма и ее муж шутливо приказали Пуриньшу доставить домой их одинокую подругу. Эрис предложил их довезти, и они доехали на «мерседесе» турка до замка президента, где вышли и от набережной Даугавы пошли пешком, благо Магда жила неподалеку, в старом городе.
— Детектив — это так замечательно, — ворковала Магда, — я раньше встречала только полицейских. Знаете, иногда заходят к нам в салон, кто по делу — навести справки, кто с просьбой проконсультировать по части косметики. Но вот из политической полиции я впервые встречаю. Вы, значит, политическими занимаетесь?
«Час от часу не легче, — непроизвольно замотал головой Пуриньш, — сейчас скажет в каком отделе я работаю, а потом начнет перечислять моих агентов. Ну, братец Оскар, достукаешься ты у меня!» Вслух же он поддержал болтовню спутницы.
— Вам нравятся детективы? Детективом хорошо быть, если владеешь частным бюро, как в Англии. Тогда сам себе хозяин, имеешь приличный доход. Это при условии, если у тебя голова работает и ты можешь раскрыть преступление. А так, — протянул он, — я прежде всего служащий, и этим все сказано.
— Не скажите, не скажите, — гнула свою линию Магда, — все время иметь дело с загадочным, таинственным — это так увлекает. Возьмите Шерлока Холмса, Пуаро, Пинкертона. Я с таким интересом слежу за их поисками преступников.
— Во-первых, первые двое — это литературные герои, они выдуманы. Но вы правы в одном. Следить за ходом их мысли интересно. Это возбуждает. Пинкертон же — это американский полицейский, очень талантливый сыщик. В книжках о нем много нафантазировано, преувеличено. Надо быть очень проницательным и ловким, чтобы самостоятельно раскручивать загадочные истории, — подлаживаясь под стиль Магды, заключил Пуриньш.
— Я уверена, что вы пробьетесь, в вас есть честолюбивые нотки, — вдруг заявили она ободряющим тоном.
— Откуда это вы взяли?
— Но ведь мы уже знакомы часа два, — засмеялась Магда.
— Три с половиной, — уточнил Пуриньш.
С детективной темы они переключились на косметику, затем на лошадей. Пуриньш пригласил Магду пообедать, и они договорились встретиться через пару дней.
Когда Магда поднялась к себе в квартиру, мать уже спала, но в передней раздавался негромкий звонок телефона, накрытого предусмотрительно футляром для чайника. Подняв трубку, она услышала голос Эриса, с его характерным акцентом.
— Вы только что вернулись?
— Я гуляла с кавалером, а не ехала на авто, как некоторые, — неприветливо ответила она.
— Ну не сердитесь, дорогая. Я просто размышляю, вы же видели, что на вечеринке его интересовали лишь я и вы, не так ли? К чему бы это?
— То, что я его заинтересовала, это ясно, — разглядывая себя в зеркало, ответила Магда. — А вы? Не уверена. Увидим на ипподроме.
— В двух словах, дорогая, что он из себя представляет? А то я не буду спокойно спать.
— Сидит на зарплате в своем упр… извините, вы знаете где, и в глубине души мечтает быть богатым и независимым. Проницателен. Хорошо, что вы успели шепнуть о нем на вечеринке до того, как он подошел. А теперь я хочу спать. Адью! — и, не дослушав пожелания спокойной ночи от собеседника, Магда положила трубку.
После обеда с Пуриньшем Магда сообщила Эрису, что «мой детектив», как она теперь стала называть его в узком кругу, проявляет интерес к турецкому консулу, спрашивал, как часто тот бывает на своей родине. Эрис в ответ неопределенно хмыкал и спокойно ожидал очередного хода со стороны нового знакомого. Разговор не заставил себя ждать. В день последних осенних скачек Пуриньш напросился к Эрису в гости и вечером навестил его. Турок жил неподалеку от своего кафе, в доме наискось от консерватории, на другой стороне улицы. В нем он владел несколькими квартирами. Они расположились в уютном кабинете хозяина, где к удивлению Пуриньша было много книг на различных европейских языках. Задернув плотные портьеры на окнах, Эрис включил неброский свет и пояснил:
— Все хорошо, но не переношу лязга трамваев и всегда удивляюсь, как здание консерватории в Риге находится на улице, где ходят трамваи. В странах Европы не встречал такого соседства. Музыка противопоказана трамваю.
«Тоже мне меценат! Мне бы твои заботы. Живешь в доме с трамвайным эхом потому, что выгодно. Рядом твое же заведение с тысячным оборотом. Было бы выгодней, лошадник, так жил бы ты либо здесь в особняке, либо в Турции или Швейцарии, наконец», — подумал Пуриньш и решил больше не тянуть с деловой частью разговора.
— У меня к вам серьезное дело, господин Зарс, — начал он.
— Я весь внимание, дорогой господин Пуриньш.
— Мое ведомство, надеюсь, вы в курсе какое, долгие годы знает вас как блестящего коммерсанта, — на последнем слове Пуриньш сделал ударение, на что Эрис обратил внимание, — достойно представляющего интересы далекой восточной страны. Мне поручено войти с вами в деловой контакт — нам нужны бланки нескольких турецких паспортов, скажем, четырех, — Пуриньш перевел дух. Иностранные паспорта ему пришлось выпрашивать впервые в жизни.
Эрис чуть-чуть пожевал губами, дернул бровью и, не высказывая удивления, сказал:
— Я не спрашиваю, для какой цели вам требуются документы, все равно правды вы не скажете, но что я получу взамен?
— Мы заплатим вам в любой европейской валюте в форме, которая вас устроит, скажем, через банк удобной для вас страны.
Эрис задумался, встал, подошел к столику с курительными принадлежностями, предложил Пуриньшу сигареты и сигары различных сортов. Тот взял тонкую голландскую сигариллу. Закурили. Эрис дернул за шнур, вошла служанка, пожилая латышка, он бросил ей: «Кофе!» — подошел к секретеру, вытащил оттуда бутылки с коньяком и ликерами, рюмки, поставил все это на столик, спросил гостя, что тот предпочитает.
— С вашего позволения «Контре», — показал Пуриньш на четырехугольную, почти квадратную бутылку с отличным ароматным ликером.
— У вас есть вкус, — похвалил Эрис, но себе налил коньяка. — Сладкого при моей профессии не переношу. Целый день дышу воздухом, насыщенным приторными запахами. Необходим коньяк для нейтрализации, — сказал он и, отпив чуть из бокала, замер на какое-то время, наслаждаясь превосходным ароматом напитка.
Пуриньш отпил свой ликер и подумал, что надо будет выжать из начальства деньги, чтобы достойно реваншировать перед турком и под этим флагом пополнить свои резервы спиртного, которое иссякло. Служанка принесла кофе. Надымив сигарой так, что дым стал уже обволакивать его массивную фигуру, Эрис после тягучей паузы в разговоре сказал:
— Четыре паспорта я достать не смогу. Многовато. Остановимся пока на двух, из расчета тысячу долларов за паспорт, всего две с половиной тысячи. Вам нужны будут турецкие выездные визы на незаполненных паспортах, это тоже стоит денег. Я не далек от истины? — и, не дожидаясь ответа, продолжил: — Вы переведете деньги на мой счет в банке «А. Эрнст» в Берне, вот вам координаты, — и он протянул визитную карточку, на которой было напечатано: «Карл Шварц, коммерсант», а также наименование банка и номер счета. — Как только я получу уведомление из банка о поступлении этой суммы, только переводите лучше не из Латвии, то я вам позвоню. Паспорта я смогу передать недели через две. Так что решайте.
— Начальство согласно с этими условиями, — быстро ответил Пуриньш. — Конечно, цену вы назвали крайнюю. Высокую я имею в виду.
— Цены на паспорта поднимаю не я, а ситуация в Европе. Если бы вы действовали через посредника, это стоило бы еще дороже. Вы согласны?
— Согласен, — ответил Пуриньш. — Поэтому и вышел на вас.
— Очень хорошо, договорились, — поднял свой бокал Эрис. Затем, перейдя на доверительный тон, сказал: — Кстати, мой дорогой Пуриньш, для сведения скажу вам, что я представляю здесь интересы кредитной компании «Бомон» и банка с тем же названием, тоже швейцарского, но находящегося в Женеве, впрочем, это не имеет значения. Вы слышали об этом банке? Нет? Жаль. Мы кредитуем всевозможные инициативы в Европе, в том числе и в Балтии, но перед тем как вкладывать деньги, мы обязаны иметь четкую картину обстановки в том или ином регионе, — заучено произнес хозяин. Несмотря на туманность фразы, Пуриньш уже раскусил, что перед ним не только торговец и почетный консул, но и авантюрист, по меньшей мере европейского масштаба. Хозяин продолжал.
— Вы владеете немецким? Да, кстати, у меня имеется ваша газета «Сегодня», в ней тоже начали печатать такие объявления, — и он, подойдя к журнальному столику и поколдовав над ним, протянул швейцарскую и рижскую газеты. Объявления были очеркнуты красным карандашом. Как понял Пуриньш, тексты были аналогичны и предлагали лицам с твердым доходом ссуды на небольших процентах. Эмигрантскую русскую газету «Сегодня» он почитывал постольку, поскольку там появлялись неплохие литературные поделки русских писателей зарубежья, но в основном по обязанности на службе, и особого интереса она у него не вызывала, слишком много содержалось в ней сплетен, желчи и грязи по отношению к красным, а для него это была обыденность до тошноты. Объявлений такого рода он не встречал. «Так вот оно что! Безобидный кондитер турецких сладостей занимается пропагандой благодетельных кредитов и любопытных ссуд. Меценат!» Но вслух, уловив условия игры, которую с ним повели, он произнес другое:
— Взять деньги легче, нежели, отдать.
— Если бы вопрос ставился только так, компания не затевала кредитование. Акционеров фирмы интересует, на каких условиях следует вкладывать капитал, например здесь, в Латвии. Вы с вашими способностями, как никто другой, можете осветить данную ситуацию, — посмотрел он на Пуриньша выжидающе.
— Допустим, не следует. Как ни мало я разбираюсь в коммерции, господин Эрис, — в тон сказал Пуриньш, — вскоре акции многих европейских компаний в Балтии упадут в цене. Вы это тоже знаете.
— Почему? — спросил Эрис, соблюдая условия игры.
Раскурив новую сигариллу, отпив глоточек ликера и сделав намеренную паузу, Пуриньш сказал:
— Недели через две-три могут быть подписаны договоры о размещении красными их военных баз на территории Латвии, Литвы и Эстонии. Как вы думаете, после этого акции упадут или поднимутся? Во сколько компанией «Бомон» оценивается такое сообщение?
— Не беспокойтесь, в накладе не останетесь. Для начала ссуда в две тысячи швейцарских франков, я думаю, вас устроит. Компания подготовит проект договора с вами, — важно сказал Эрис.
— Я думал не франков, а долларов: вы бы отсчитали назад две тысячи…
— Не нужно неуместных шуток, господин Пуриньш, — резко прервал его Эрис. — Дела есть дела: за паспорт платите не вы, и притом в Берн, в долларах, а франки пойдут вам лично со счета банка «Бомон», из Женевы. Улавливаете разницу?.
— Пардон, пардон, господин Эрис, — воскликнул весело Пуриньш и фамильярно хлопнул турка по плечу. — Давайте выпьем коньяка!
Проводив гостя, Эрис открыл окно, проветрил комнату, сел за письменный стол и стал что-то писать, зачеркивая, и исправляя. Он переоделся и уже в костюме, посмотрев на часы, куда-то позвонил. Услышав знакомый мужской голос, вежливо поздоровался по-немецки и сказал: «Заказанный вами набор сладостей готов, можете забрать», — и положил трубку.
Ровно через тридцать минут в конторку кафе, куда переместился Эрис, вошел молодой служащий из германской комиссии по репатриации, расположенной в пяти минутах ходьбы от кафе, которому хозяин вручил изящную корзинку с пирожными.
Еще через час радист-шифровальщик резидентуры абвера в германском посольстве, рядом с которым находилась комиссия, отправил в Берлин шифротелеграмму.
На следующий день, прибыв утром на работу, Бентивеньи в числе других прочитал телеграмму следующего содержания:
«Берлин. Питеру. По сложившимся обстоятельствам Эгон форсировал установление деловых отношений с Паулсом по линии «Бомон» в разрезе операции «Кредит». Паулс утверждает, что ориентировочно до середины октября, не исключено, что и раньше, будут подписаны договоры СССР со странами Прибалтики о размещении на их территории русских баз армии и флота. Он просит, якобы по поручению своего начальства, два турецких паспорта, их присылку просьба осуществить в пределах двух недель. Для кого предназначены паспорта, пока неизвестно. За представляемую информацию Эгон выдаст ему из фонда «Бомон» три тысячи франков. По сведениям от Марго, Паулс способный, информированный чиновник, материально в средствах ограничен».
В отношении платы в долларах и лишней тысячи франков Эрис не упомянул — в конце концов, личные дела нечего вмешивать в служебные, тем более, что паспорта у него были, причем подлинные, а не фальшивые, каковые по такому случаю могли прислать. Берлин же надо уметь заинтриговать и показать, как ловко он подцепил на крючок не кого-нибудь, а все-таки сотрудника политической полиции.
Еще через две недели Бентивеньи положил на стол Канарису телеграмму Эгона следующего содержания: «Паулс сообщил о прибытии в Ригу группы кадровых сотрудников НКВД в составе около двадцати человек. Приехали из Минска, имеют при себе паспорта латвийских граждан, экипированы в штатские костюмы темного цвета, размещены в здании школы при советском посольстве, расселяются по частным квартирам, находятся под руководством резидента русской разведки советника посольства И. А. Чичаева. Некоторые участники группы проявляют усиленный интерес к сбору информации о представителях правящей партии президента Ульманиса, военных кругов, организации «айзсаргов». Детальные цели прибывшей группы изучаются через Паулса и другие источники».
Пробежав телеграмму, Канарис похлопал ладонью по столу и промолвил:
— Да. Бьюсь об заклад, что эти же люди в черном начали готовить материал для отгрузки в лагеря. До чего же НКВД схоже с ведомством рейхсфюрера Гиммлера, не так ли, Бенти? А что, если объединить их под одной крышей, а? Включите это в информацию для фюрера на завтра. На полкорпуса мы вновь обошли Шелленберга. Я доволен вами, Бенти.
…С тех сентябрьских дней пробежало почти пять месяцев, и Пуриньш мог все это время пожить в свое удовольствие: немцы платили неплохо, появились деньги. Магда, когда он этого желал, проводила время с ним, находились и иные увлечения. Однако рядом были и красные, их присутствие явно воодушевило левых. Пуриньш и его коллеги видели, что происходит консолидация оппозиционных сил, в получаемых ими сообщениях все чаще мелькали слова о едином фронте против Ульманиса. Пора было думать о будущем. Но что делать? Ворочаясь на кровати, Пуриньш снова и снова перебирал возможные варианты будущих событий.
Репатриация немцев из Латвии завершилась. Поток уезжавших во фатерлянд наводил на грустные размышления. От кого они бежали? Ведь многие прожили в Латвии всю жизнь, пустили здесь корни, создали состояние, имели доходы. Причем жили они в условиях полнейшей свободы, не то что в Германии, которая стала похожа на военный лагерь и проводит одну войну за другой. Значит, имелся смысл перебираться туда несмотря ни на что? Даже на то, что завтра там могут призвать в армию и отправить на фронт или «поймать» английскую бомбу. Правда, знакомые немцы на вечеринках в честь отъезда, дружески подмигивая и хлопая по спине, бормотали, что ничего, Александр, расстаемся-то всегда на год-два, мы еще вернемся и так выпьем за встречу, что врагам рейха и всей этой красной сволочи тошно станет. Вкусив блаженства от имевшихся теперь у него доходов, Пуриньш понимал, что добровольно от них никто не отказывается, а тем более не бежит. Удирают с тем, чтобы вернуться. Зная эти ходы репатриантов и видя их пьяные слезы при расставаниях, он бросал приятелям на прощание — не забудь приобрести в Риге обратный билет! Шутка имела успех, уезжавшие довольно ржали. Но вот в какую сторону взять ему билет? Немцы уносились в свой рейх, некоторые еврейские семьи уезжали в Палестину, начальство запасалось паспортами нейтральных стран, с которыми можно было жить где угодно. Эрис собрался в свою Турцию. Все куда-то бежали…
Вчера на прощальном вечере в честь отъезда Эриса Пуриньш так напился, что утром головой ворочал с трудом, после сельтерской полегчало. Александр посмотрел на полдюжины бутылочек из-под воды, стоявших у кровати, и усмехнулся. Вспомнил, как Эрис-старший инструктировал своего младшенького насчет содержания кафе и дома. Тот, невысокий, худой, в очках с тоненькой оправой смотрел на отца неподвижным, как у змеи, взглядом; и только его большие, не под размер головы, уши двигались — видимо, в такт мыслительным процессам. Как понимал Пуриньш, почетный турецкий консул должен был исчезнуть до лучших времен: такого, как он, резидента, хозяева обязаны были беречь, еще пригодится либо здесь, либо в своей Турции, да и вообще мало ли где. Мир велик. Но дело есть дело, и Эрис-торговец не мог бросить свой корабль в виде кондитерской, а потому оставлял на нем капитаном сына с инструкциями, как следить за управляющим, а Пуриньша наставлял, как контролировать сына. «До чего же все мы марионетки, куклы, которых дергают за ниточки. И мы танцуем, складываемся, прыгаем, ползаем, как хозяева велят», — усмехнулся Пуриньш. Его самого Эрис передал на связь Штраусу, сотруднику немецкой репатриационной комиссии. «Интересно, — думал Пуриньш, — кому еще поручили присматривать за мною?»
И здесь же его мысль перескочила на коммунистическое подполье. Он прилично знал его механизм деятельности, слава богу, лет десять, нет больше — двенадцать отданы слежке за этими фанатиками. У них все построено на доверии и конспирации, но как они-создают эту веру друг в друга? Пуриньш много раз задавался этим вопросом. Были бы они католиками, что ли, тогда ясно. Но они ни бога, ни черта не признают. Молятся на своего Маркса и на русскую революцию — вот и вся их религия. А как помчались они из Латвии в Испанию на помощь тамошним друзьям! В России недовоевали, так туда понеслись. И латыши, и русские, и евреи, и поляки. Повылазили изо всех нелегальных и полулегальных нор и вперед, через все границы, в Испанию, врукопашную с парнями Муссолини и Гитлера подраться. Их не держали, начальство сказало — пусть едут, там и останутся, сложат головы. Французы туда их тоже пустили, а вот обратно… Кто жив остался, тех в лагерях интернировали. Обратно в Латвию? Ни-ни, это вам не проходной двор. Катитесь в свою Россию, она большая, всех примет. У нас свои дела… «Да, дел полно. Завтра надо будет встретить Зарса, расспросить о Лиепае и отправить его в Даугавпилс, пусть пооколачивается вокруг русского населения, посмотрит на изменения там, информацию он всегда получит, увидим, на что у господина Штрауса можно будет рассчитывать. Эрис жмотом не был, жил сам и давал жить другим. Сдались мне эти базы! О, господи, голова вроде от выпивки проходит, так от мыслей разбаливается».
Пуриньш встал, подошел к окну, посмотрел. На улице было полно снега, а он все валил и валил. Вот показались двое прохожих, прошли, их следы сразу же замело снегом.
«Куда же мне скрыться? Следов моих оставлено здесь предостаточно. В Германию? Но кому я там нужен — языком владею так себе, для салонной болтовни», — думал он с тоской.
Зазвонил телефон.
— Александр? — раздалось в трубке.
— Он самый. А, это ты, — ответил он, услышав голос Зарса. — Легок на помине. Ты откуда?
— Да вот, из дома приехал, нахожусь на уровне своей любимой забегаловки.
— В «Черной бомбе» сидишь, что ли?
— Звоню отсюда. Сидеть, не сижу.
— Давай иди ко мне, я о тебе как раз вспоминал.
— Вы один?
— Один, один. И захвати пива.
— Много?
— Не меньше пяти бутылок.
— Ладно, минут через двадцать буду.
За семь лет знакомства отношения с Зарсом приобрели характер дружеских. Они привязались друг к другу, как хозяин и его собака. Бывали между ними размолвки, и даже стычки, но до разрыва дело не доходило, не могло до него дойти, ибо воля бухгалтера была сломлена напрочь: свои, узнай они правду, вычеркнули бы его из памяти, и не исключено, по меркам Пуриньша, — из жизни, а вот примут ли его в свой клан чужие — это большой вопрос. Так и оставался Зарс неприкаянным, делавшим все, чтобы услужить своим хозяевам. Другого варианта попросту не оставалось. Пуриньш вспомнил, как произошло у них первое недоразумение. Он выдавал вначале бухгалтеру по тридцать лат в месяц. По шесть серебряных пятилатовых монет. Тот принимал, благодарил, но на третьей выдаче взбунтовался, сказал, что выдавайте мне или больше тридцати, или двадцать пять лат, черт с вами. Но не эту круглую сумму, не делайте из меня иуду с тридцатью сребрениками. Пришлось платить по сорок, какая разница, все равно тридцать туда входили. Мать Зарса контора Пуриньша не трогала, это было невыгодным делом, мало ли что, может быть, она еще пригодится, хлопнет в качестве капкана. Правда, ее дом никто уже не посещал, но все в пределах нормы — раз на линии обрыв, то таковую вычеркивали. Ведь мог кто-то из завалившихся проговориться об этой явке? Мог, поэтому дом оставили в покое. В этом случае интересы Коминтерна и политохранки совпали.
В дверь позвонили. Открыв ее, Пуриньш увидел Зарса, запорошенного снегом, изо всех карманов пальто которого торчали горлышки бутылок.
— Ты как Санта-Клаус, — приветствовал гостя Александр, — только вот мешка для подарков у тебя нет, по карманам все рассовано. Нехорошо. Некрасиво.
— Снег заметает все следы. И бутылок почти не видно, — ответил в тон ему Зарс, отряхиваясь на лестнице и входя в прихожую. — Пожалуйста, держите богатство. А насчет мешка — лучше не надо, плохая примета.
— Почему? — спросил Пуриньш.
— Все бегут кто куда, и все с чемоданами. Не знаю, как вам, а мне бежать некуда. Изменится власть — еще придется с мешком в Сибирь отправиться.
— И ты о том же?
— Вы тоже так думаете? — без удивления спросил Зарс.
— Не спеши, не спеши с выводами, — ответил Пуриньш.
— Почему? В народе все замечают, все видят. Раз господа немцы побежали, то ясно от кого. Советы к нам придут, вот так, — сказал Зарс, располагаясь в кресле гостиной.
— Иди сюда лучше, поработай немного, разожги камин, — показал ему на спальную комнату хозяин, — тепло будет и здесь, а я пока на стол накрою, перекусим.
Заре принялся за растопку. Аккуратно наколол тонкие щепочки, затем покрупней, сложил их в форме островерхой крыши домика и поджег. Пламя занялось сразу, повеяло легким дымком, тяга была хорошей. Он подложил дрова покрупнее и вышел к хозяину. Тот поставил на стол легкую закуску: лососину, миногу, сыр, разлил в бокалы пиво.
— Как там в Лиепае?
— А, ничего интересного. Крейсер «Киров» по-прежнему на рейде. Дымит. Плюс два миноносца. Морячков на берегу мало. Встретился с другом из управы. Русские скандалят с городским головой: сколько прачкам платить за солдатское белье. То брали по 20 сантимов, а голова, узнав, велел по 40 брать. Шум, гам. Смех!
— Да, ценная информация, — протянул Пуриньш.
— А что я могу сделать? Наврать? Ей богу, живут красные смирно. Наши пакостят им как могут. Ясное дело, кому нравятся чужие войска на своей земле. В Вентспилсе отдали им казармы, так наши все из них вывезли, вплоть до кухонных котлов, и электропроводку срезали.
— Что твои дружки-подпольщики говорят? — перешел на другую волну Пуриньш.
— Какие там подпольщики! Всех их распугали, да пересажали, из моих-то друзей. Новые их места позанимали, а я от них вдали, сами так учили. Отошел. Только от матери и узнаю новости. Вы это так, не для информации? — осведомился Зарс.
— Так, так, для себя, — благодушно, наполняя себя пивом, ответил Пуриньш. — Сугубо в частных целях. Чтобы знать, к чему готовиться.
— Смейтесь, смейтесь.
— Пардон, я серьезно. Ты думаешь, я не соображаю? Все знаю, все вижу. Больше тебя и вас всех вместе взятых.
— Кого всех?
— Таких, как ты. Опыт есть опыт, он годами накапливается, — примирительно заключил Пуриньш. — Ты не ответил на мой вопрос.
— Отвечу. Насколько я понимаю, происходит объединение всех левых, даже левые социки идут с коммунистами вместе. Да что вы, сами не видите? Будет и у нас Народный фронт, как во Франции, а рядом Советы. Скоро все пойдет прахом. Обнаружат мои дела с вами — и конец. Куда мне бежать? Некуда, — сам себе ответил Зарс.
Пуриньш с блаженством выпил залпом большой бокал пива.
— Иди, подбрось дров. Не дрейфь. Твоя фамилия, даже имя твое нигде у нас не фигурирует. Это не в наших правилах. Мы смотрим на вещи реально, никогда, слышишь, ни в одном случае мы не привязывали тебя или кого еще к событию, к факту тебе известному. Таково правило, установленное нашим руководством. Не буду говорить, что у нас не имеется картотеки с фамилиями осведомителей, без нее не обойтись, но она уничтожена. Поверь мне. Вот моя фамилия останется. Она за двенадцать лет работы, хотя и в агентурном отделении, но любой собаке известна, то ли прямо, то ли со слов.
Пуриньш откинулся на спинку кресла и стал смотреть в проем двери на огонь в камине, создающий причудливо бегающие блики в уже наступающих сумерках.
— Моя мать, как термометр: настроение у нее поднимается с каждым месяцем, видимо, связи остались, но я в ее дела не лезу, — продолжил Зарс.
— Правильно, не нужно. Рано или поздно, но те, кто направлял в ваш дом людей оттуда, убедятся, что она вне подозрений, а на тебя и внимания не обратят, пройдут мимо. Да и кому ты нужен. Сколько лет прошло. Работай у Свикиса и будь здоров. Кстати, какие у него планы?
— Удерет, — категорически изрек Зарс, отпил из бокала и пояснил: — Он ищет покупателя на свой дом. Тихо, тайно, но ищет. При продаже он проигрывает, это точно. Говорит о чем-то?
— Конечно, — согласился Пуриньш. — Я тебе вот что скажу. Немцы бегут, это факт, но не думаю, чтобы надолго. Они вернутся через год-два. Увидишь.
— Что же тогда? Война?
— Как же ты думаешь, дурья голова? Сегодня они уезжают на пароходах, а завтра на них же вернутся, и мы пойдем на пристань их встречать? Ты думаешь, Гитлер сожрал Польшу просто так? Он получил границу с Россией. Теперь между Германией и Советами никого нет, если не считать нас, Эстонии и Литвы. Так? А все эти три страны, — рассмеялся Пуриньш, — можно пробежать за три дня, что немцам, что русским. Кто быстрее, — заключил он.
— Веселая картинка получится на нашей земле, — задумчиво произнес Зарс. — Выходит, немцам еще будем служить?
— Не переживай, если понадобится — найдем тебе контору вместо Свикиса, — хлопнул его по колену Пуриньш. — Хочешь чего покрепче? — бросив взгляд на пустые бутылки из-под пива, спросил он. — Водки могу налить.
— Давайте, — сказал гость. Он выпил рюмку, другую. Закусил. Настроение у обоих улучшилось.
— Пойми, — увещевал его уже багровый Пуриньш, — наши акции еще поднимутся. Такому, как ты, с твоим-то опытом, цены не будет при любой власти. И никто ничего знать не будет. Надо все только по-умному делать, как я…
Так просидели они часа два, пока их не потревожил телефон: Магда спросила, топится ли камин, и намекнула, что она замерзает.
Пуриньш стал выпроваживать гостя.
Берлин. 5 февраля 1941 года
Всю весну и лето сорокового года в кабинете Гитлера велись бесконечные дебаты о том, как же добить непокорную Англию. Совещания у фюрера по этому вопросу были то узкими, то собирался широкий круг лиц. Обсуждались все более конкретные варианты сокрушения англичан, отделенных теперь, после поражения Франции, от германских дивизий лишь проливом Ла-Манш. Эта водная преграда постоянно фигурировала в речах собирающихся у фюрера в оперативном, штабе верховного командования, у морских военачальников, в разведке. Преграда, правда, все время видоизменялась, становясь то узенькой полоской воды, через которую запросто можно перепрыгнуть и тогда Англию постигнет участь стран континентальной Европы, то расширялась до величины моря средних размеров, через которое нечего и думать добраться до Лондона. Все зависело от темперамента спорящих сторон. Наиболее узким пролив стал казаться в июле сорокового, после капитуляции Франции, когда Гитлер одобрил наметки о высадке в Англии сорока дивизий и дал указания о подготовке флота к этой операции. Флотские начальники были реалистами, они желали бы операцию осуществить, но сил для этого попросту не имели. Для них Ла-Манш был каким-никаким, но кусочком моря, а английский берег — крепостью. Кроме того, у англичан были флот и авиация, с которыми надо было считаться.
Адмирал Канарис примыкал ко второй группе военных — противников реальной войны с Англией и высадки на британских островах, поскольку их целью была война с Россией, одним из режиссеров которой был и маленький адмирал.
Когда Канарису сообщили, что генерал Йодль 30 июня подал Гитлеру идею высадки в Англии, то адмирал лишь усмехнулся, ибо на неделю раньше фюрер поручил генералу Гальдеру начать штабную разработку нападения на СССР. Соответствующие указания получил и Канарис. Генштабу и абверу было понятно, что один план напрочь бьет другой, как сильная карта исключает из игры маленький козырь. В конечном итоге Гитлер сказал, что если Россия будет разгромлена, то с Англией автоматически будет покончено — без поддержки Советов она сама падет.
При встречах с фюрером Канарис исподволь и открыто рисовал ему мощь английского флота и береговой обороны острова. В то же время он нашпиговывал Гитлера сведениями о слабости Красной Армии, малочисленности в ней, современных танков и самолетов, серьезном ослаблении командных кадров, подсовывая тому разведсводки с перечислением командующих советскими приграничными округами, командиров соединений, состоящих в этих должностях считанные дни. Он не отговаривал прямо отказаться от плана вторжения в Англию. Пусть такой план останется. Сроки операции по высадке откладывали всю осень. Канарис рассматривал эти потуги как хорошие дезинформирующие Сталина шаги при подготовке войны с Россией. Гитлер согласился с этой оценкой, и сроки вторжения в Англию перенесли на весну сорок первого! Надо было окончательно запутать Сталина, и действительно, немцам это удалось. Согласно получаемой абвером информации, Советы верили мифу о ненападении со стороны Германии…
Только что из кабинета Канариса вышли его заместитель адмирал Брюкнер, начальники первого, разведывательного, отдела абвера полковник Пиккенброк, второго, диверсионного, отдела полковник Лахузен, третьего, контрразведывательного, отдела полковник Бентивеньи и начальник штаба абвера полковник Остер. Совещание носило деловой характер. Канарис торжественно объявил, что фюрером отдан приказ о подготовке вермахта к войне с Советским Союзом и назначен срок окончания этой подготовки — начало мая 1941 года. Он подчеркнул, что основной задачей является обеспечение внезапности нападения. Это само по себе нелегкое дело, ибо как скрыть те силы, которые планируется сконцентрировать в Польше, ведь туда будет стянуто до восьми армий! Конечно, продолжил он, будем реалистами, не следует думать, что русские не обнаружат наших сил. Рано или поздно обнаружат, но лучше чтобы это случилось как можно позже, и если это произойдет непосредственно перед форсированием Буга, тогда уже никто не спасется. Необходимо, подчеркнул он, при встречах с русскими на всех уровнях проводить мысль о том, что Германию и Россию стремится рассорить Англия. Этой идеи придерживается Сталин, и ее надо развивать. Пожалуй, это будет являться основным дезинформирующим постулатом, сказал он.
Затем стали ломать головы, как замаскировать приготовления к войне. Посыпались предложения о распространении слухов об активной замене войск на польских землях, о заведомом преувеличении численного состава и вооружений каждой немецкой дивизии с тем, чтобы за одним соединением скрыть наличие двух или даже трех, о необходимости ссылаться на укрепление экономических связей с Россией при строительстве сети железных и шоссейных дорог через Польшу, о переброске флота в порты на французском и немецком побережье Северного моря, чтобы поддержать версию о готовящемся вторжении в Англию и т. д.
Собрались крупные профессионалы, для них придумывание способов одурачивания противника являлось интересной мужской игрой. Наконец-то идея прыжка на Восток и сокрушения России материализовалась! Обсудили вопрос о создании штабов «Валли-1, -2 и -3», которые были призваны руководить командами и отрядами фронтовой разведки с началом войны и соответственно разместиться близко к театру военных действий на территории Польши. Эти штабы отвечали принятой структуре отделов абвера и должны были придать мобильность разведке при подготовке к вторжению и в ходе блицкрига. Здесь же обсудили вопрос о назначении начальников штабов «Валли». Начальником «Валли-3» по предложению Бентиве-ньи утвердили Шмальшлегера, работавшего на территории Польши уже полтора года и неплохо изучившего почерк советской разведки. Обговорили кандидатуры других руководителей на ключевые посты в организуемых органах абвера на Воcточном фронте. Сама магия слов — Восточный фронт — придавала разговорам разведчиков праздничность, рождало опьяняющие замыслы, предоставляла поводы выложиться перед начальством самым блистательным образом. Каждый из них был авторитетом в своей области тайной войны, и раскрывающийся перед ними огромный плацдарм войны на Востоке сулил максимальное раскрытие возможностей по службе. Разведка во главе с Пиккенброком уже с осени сорокового года собирала сведения об оборонительных системах Красной Армии, используя для этого самолеты эскадрильи «Ровель» для заброски агентуры в Советский Союз и аэрофотосъемки с высоты до 13 000 метров, откуда их было не видно и не слышно. Пиккенброк испытывал ни с чем несравнимое наслаждение, когда демонстрировал перед начальством снимки советских самолетов, базирующихся на аэродромах близко от границы. Под это дело Гитлер наградил его орденом.
Здесь, на совещании, Пиккенброк, или как его звали в узком кругу — Пики, предложил начать ускоренное формирование шпионских школ, которые следует развернуть сразу после начала военных действий в Остланде. Он хорошо знал положение дел с кадрами кандидатов в агенты из числа белоэмигрантов на сегодняшний день: они уже иссякли и их не хватало даже для функционирующей Варшавской школы абвера.
Получив слово, Лахузен своим низким и размеренным голосом стал излагать мотивы усиления частей полка «Бранденбург-800» и развертывания его в дивизию для использования натренированных там диверсантов для захвата важных в военном отношении мостов, туннелей и удержания их до подхода авангардных частей вермахта. Лахузен встал, подошел к карте и наглядно продемонстрировал, сколько водных преград придется преодолеть. Начал он, как положено, сверху карты, с севера, подробно охарактеризовал Остланд, ткнул карандашом в Западную Двину, Неман, заметив, что в Латвии и Литве имеются мосты, затем карандаш поехал к Бугу и далее вниз… Все согласно кивали головами и вспоминали, как ловко в мае прошлого года части «бранденбуржцев», переодетых под беженцев, просочились через линию фронта в тыл французской и бельгийской армии, захватили Шельдский туннель около Антверпена, а в Париже — французские секретные архивы.
Затем в порядке очередности говорил Бентивеньи. Опираясь на полученный опыт борьбы с начавшейся деятельностью групп Сопротивления во Франции, он резонно поставил вопрос о том, как разграничить здесь сферы деятельности абвера и СД. Бентивеньи слыл поборником строгих, выверенных до деталей систем контрразведки, чтобы в их ячейки враги рейха попадались с гарантией. Слушая его, Канарис подумал: «Интересно, когда мы захватим документы русской разведки, то сколько ее агентов обнаружится в Германии и в каком качестве?» То, что они имеются, он не сомневался: служба радиоперехвата ела свой хлеб не зря, радиограммы неслись как из Европы, так и со стороны Москвы, но сколько друзей русских сидят рядом с секретами вермахта? Ничего, придет время, и им некуда будет передавать информацию, она будет никому ненужной, с Советами будет покончено.
Во время верховых прогулок с Шелленбергом Канарис излагал свою концепцию невысокого военного потенциала русских, но тот, в свою очередь, тоже располагал информацией и приводил цифры о возможностях русских в области производства танков и самолетов. Цифры впечатляли. Вопрос состоял в том, хватит ли у русских времени развернуть все это до их поражения в войне? Или, находясь в цейтноте, они сдадут партию, как это происходило с европейскими странами в течение последних пяти лет, пока Канарис находился во главе абвера.
Сейчас, в начале сорок первого года, он не был уверен в правильности прогнозов на молниеносность войны. Тень борьбы на два фронта — с Россией и Англией — маячила перед ним, о ней постоянно напоминал со стены портрет полковника Николаи, его предшественника, который безуспешно предупреждал кайзера о неразумности такого варианта.
Отпустив своих помощников, Канарис попросил задержаться Остера, которому доверял наиболее деликатные поручения и который был в курсе интриг своего шефа по части отвода удара по Англии в сторону России.
— Послушайте, Ганс, — обратился он к Остеру, — я чрезвычайно паршиво спал прошлой ночью. Кейтель вчера попросту вывел меня из себя, я еле сдержался, чтобы не наговорить ему лишнего.
— Что случилось, экселенц?
— Никто не сомневается, что русских мы разделаем, но сроки, сроки! Эти недели, отпущенные на войну Браухичем, Йодлем и Гальдером, меня просто бесят! Эта арифметика, что на Россию уйдет столько же недель, сколько на Францию и Польшу! Они меряют циркулем по карте расстояние наших маршей по Европе и переносят их на территорию Советов! Но это же абсурд!
Канарис встал и начал ходить по кабинету.
— С чего начался разговор, экселенц? — спросил невозмутимо Остер.
— Я спросил его в отношении создаваемых стратегических резервов, имея в виду создание служб абвера в них. Ведь это наша обязанность. Спросил в удобоваримой форме, не помышляя его задеть.
— И что Кейтель?
— Рассвирепел и высек меня форменным образом. Вы знаете, что он мне заявил? Вы, говорит, можете понимать кое-что в разведке, но вы моряк, поэтому не пытайтесь давать нам уроки стратегического и политического планирования. Представляете?! Я уже не адмирал, равный ему по званию, а просто моряк, способный доставить и доставлять информацию о противнике, но неспособный оценивать ее так, как это делает наш несравненный Вильгельм Кейтель, который всю жизнь просиживал штаны в кабинете.
Остер вздохнул.
— Я понимаю вашу обеспокоенность, экселенц, но не принимайте все это так близко к сердцу…
— В случае, если мы сбавим обороты и начнем пробуксовывать, время до победы затянется, где же стратегические резервы? Или все наличные армии вытянутся в нитку, тыл будет пустым, а на Западе жди еще один фронт? Так? Где наши резервы для засылки в русские тылы? Где, я спрашиваю? Они что, не нужны? Надо же сейчас браться за создание системы подготовки агентуры из числа военнопленных и гражданского населения. Ведь так? У нас же нет ни одной директивы на этот счет. Кейтель уверен, что через два месяца мы в Москве и он будет командовать парадом.
— Вы правы, как всегда, экселенц. Очевидно, вы пригласили Либеншитца для обсуждения какой-то из этих целей? — постарался увести разговор немного в сторону Остер. Канарис кивнул. Затем, успокоившись, подошел к сейфу и вытащил оттуда карту Европы, которую расстелил на столе и сделал приглашающий знак Остеру. Последний знал карту, он не раз работал с этим документом, нанося знаки, символизирующие оперативные возможности абвера в странах Европы. Всякого рода кружки, треугольники, жирные точки всевозможных цветов означали большие и малые учреждения абвера, его резидентуры и подрезидентуры за границей и на территориях, оккупированных Германией. Канарис всегда приходил в хорошее расположение духа, когда работал с этой картой. Остер и остальные чиновники хорошо знали эту слабость адмирала и называли карту лекарством, после приема которого шеф приходил в отличное настроение: наглядная мощь абвера поднимала его тонус.
— Начинать, как говорят в Англии, так начинать с начала, мой дорогой Остер, — сказал адмирал. — Последуем по дороге, предложенной коллегой Лахузеном. Начнем с северо-запада, с Балтии. Думаю, здесь нас воспримут с радостью: мы для балтийских народов ближе, чем большевики. Не так ли?
Остер согласно кивнул. Затем, увидев на территории Эстонии, Латвии и Литвы новые значки в виде красных ромбов, спросил:
— Новые обозначения, экселенц?
— Да, это мы размечали с Бентивеньи. Угадаете сами, что это, или подсказать?
Остер увидел пару десятков таких же значков на территории Украины, Белоруссии, в южных районах России.
— Верно, — подтвердил Канарис. — Они будут подчиняться вермахту, а не Гейдриху, — с гордостью добавил он. — Наша работа пойдет в них по линии Бентивеньи, третьего отдела, как работаем во Франции. Менять ничего не будем. Но это все мелочи. Вот о чем надо посоветоваться. Как вы думаете, где нам создать «Абверштелле Остланд»?
— В центре Остланда, — улыбнулся Остер.
— Вы имеете в виду Ригу? — спросил Канарис.
— Конечно, экселенц. Лучшего варианта попросту не имеется. Ревель, или как его, Таллинн находится на отшибе.
— Маленький, но премилый городишко. Я впервые был в нем еще в 1937 году. Пики сопровождал меня, мы договаривались с эстонцами о подборе местных русских для засылки в Советы. В Таллинне разместим отделение абвера. Это будет хорошим подспорьем центру в Риге. Я бы хотел, Остер, чтобы вы лично занялись комплектованием сбалансированного аппарата из представителей всех служб в Риге и Таллинне. Отдел кадров предоставит вам кандидатуры, но складывать их вместе — ваша обязанность. Прикиньте, сколько и где следует открыть школ по подготовке агентуры и какого профиля. Будем смотреть дальше сухопутного Кейтеля. Вам нужно будет объединить интересы всех трех отделов. Это касается как Остланда, так и других регионов. Кроме вас этой работы объективно никто не проведет, каждый потянет в свою сторону.
— Слушаюсь, экселенц. Я бы желал только заметить, вы уже упомянули о договоренности с опер-группенфюрером Гейдрихом насчет лагерей, но нужна директива, кто, чем будет заниматься, иначе при таком обилии разного рода учреждений на оккупированной территории получится, попросту говоря, базар.
— Да, да, Остер, вы правы. Но не можем же мы издать такую директиву уже сейчас. Будет фюрером подписан приказ о нападении — появится и директива. Не раньше. Однако мы должны быть готовы полностью уже сейчас. Давайте поговорим вместе с Либеншитцем.
Канарис звонком вызвал адъютанта и попросил его пригласить Либеншитца. Обменявшись приветствиями, Канарис предложил тому сесть.
— Как здоровье, самочувствие, полковник? — осведомился адмирал.
— Превосходно, экселенц, вот только не мешало немного похудеть.
Либеншитц был весьма плотным, коренастым здоровяком, его голубые глаза излучали энергию и готовность выполнить незамедлительно любые пожелания шефа.
— Вы похудеете, я вам предоставляю такую возможность. Действительно, вы стали терять форму, наверно, белых пятен в ресторанах Парижа для вас почти не осталось…
— Ну что вы, экселенц, — засмущался полковник.
— Так же, как и для некоторых ваших подчиненных, — продолжил Канарис. Обращаясь к Остеру, он спросил: — Вам известна эта история?
— Что-то слышал, но не помню, — соврал Остер, полагая, что собственное изложение Канарисом происшедшего в Париже окончательно вернет шефу хорошее настроение.
— В декабре в Париж из Гавра привезли курьерскую почту. Я не путаю, полковник?
— 25 декабря, на Рождество, экселенц, — уточнил Либеншитц, и его лицо стало медленно покрываться красными пятнами.
— Курьеров было двое: капитан и оберфельдфебель, и шофер, конечно. Сдали, получили пакеты на обратный путь и… Расскажите, Либеншитц, что произошло, вам картинка с олухами-курьерами видится с натуры, не так ли? — подмигнул Канарис Остеру.
Полковник насупился, не зная отношения адмирала к случившемуся, и стал бубнить в стиле провинившегося старшеклассника:
— Видите ли, господин адмирал, в Париже они очутились впервые. Приняв новую почту, в том числе пакет с секретными бумагами, они отъехали от пункта курьерской связи, подъехали к гостинице, где у капитана были вещи. И здесь фельдфебель взмолился посмотреть Париж, естественно, и шофер стал подпевать. Капитан поддался, хорошо, говорит, через час встречаемся у автомобиля. Машину закрыли и разошлись: капитан — в гостиницу, фельдфебель и солдат — на прогулку. Через час офицер подошел, видит: его подчиненные стоят с девушкой. Капитан, видя такое дело, отложил отъезд еще на час. Когда через час собрались уезжать, оказалось, что машина взломана, почта исчезла. Розыск по линии тайной полевой полиции результатов не дал. Таков вкратце данный инцидент, господин адмирал.
— Вот вам, Остер, и наш хваленый вермахт. Такого разгильдяйства я еще не встречал. Кстати, Либеншитц, капитан в гостинице тоже был с дамой?
— Не установлено, господин адмирал.
— Не установлено, — повторил Канарис. — Вероятней всего девица, бывшая с этими двумя дураками, завлекала их, чтобы сообщники влезли в машину. Позор, позор, господин полковник.
— Так точно, экселенц, — пробубнил Либеншитц.
— Кстати, по вопросу о документах, по аналогии вспомнил. Остер, предусмотрите в «Абверштелле Остланд» штат сотрудников групп по изготовлению русских документов.
— Но по категории бумаг высшей сложности у нас специалисты только в Берлине, экселенц, — сказал Остер.
— Что вы имеете в виду под высшей сложностью? — спросил Канарис.
— Например, партийные билеты большевиков.
— Об этом и думать нечего, не трогайте, такие вещи только здесь, в Берлине могут делаться. И вот что. По парижскому случаю составьте обзор. Капитан, кстати, его фамилия?
— Клюге, господин адмирал, — сказал Либеншитц.
— Да, да, Клюге, вспомнил. Он получил вчера полтора года тюрьмы. С учетом его безупречного прошлого и надо полагать всякого рода заступников. Я вот о чем думаю. Когда возьмем Москву и Ленинград, туда всякого рода паломники вроде капитана и фельдфебеля потащатся. Рты раскроют от удивления перед Кремлем и растеряют все на свете. Войска надо воспитывать. Поручите, Остер, преподать этот случай, обзор разошлем всем нашим отделам. Из ошибок надо извлекать выводы, — поучительно закончил мысль адмирал. — Так вот, Либеншитц, пора вам заняться чем-то новым, а то вы в Париже закисать стали. День нашего прыжка на Восток все ближе. Штабная разработка стратегического плана наступательных действий вермахта на лето этого года в разгаре, и как всегда абвер впереди.
— Я понял уже несколько месяцев тому назад, что теперь очередь России, — сказал Либеншитц.
— Почему? — спросил Канарис.
— Значительно упала переписка с центром абвера здесь, в Берлине, — ответил полковник.
— Вот, Остер, учитесь. Выдумываем умнейшие дезинформирующие противника меры, а в своей среде расшифровываемся. И если это чувствует Либеншитц, то почему не будет ощущать какой-нибудь английский или русский осведомитель, внедренный в абвер? Наверное, в штабах вермахта та же картина, — воскликнул Канарис. — Сделайте выводы, Остер. Больше рассылайте разного рода запросов, связанных с вторжением в Англию. Как вы смотрите, полковник, — обратился он к Либеншитцу, — если мы назначим вас на пост начальника нового органа «Абверштелле Остланд»?
— Как большую честь, господин адмирал.
— Мы оказываем вам огромное доверие, полковник. Стать во главе такого подразделения в период подготовки к наступлению на Советы — это ответственность перед рейхом и фюрером, — торжественно изрек Канарис.
Перешли к деловой части беседы. Адмирал подозвал Либеншитца к карте и объяснил ему планируемые направления ударов по Прибалтике и Белоруссии.
— Смотрите, до сего времени против Советов с территории Прибалтики мы ведем работу силами «Абверштелле Кенигсберг» преимущественно через Латвию и Литву и «Кригсорганизацион Финланд» — через Эстонию. Поскольку вы, Либеншитц, выдвигаетесь на первый план, то постепенно функции и силы этих двух органов перейдут к вам. Мы должны обеспечить Восточный фронт лучшими кадрами, чтобы военное командование было уверено, что абвер предвидел, предусмотрел, получил исчерпывающую информацию заранее, господин полковник, — сделал ударение на слове «заранее» Канарис. — Не забудьте, что вы должны высоко держать марку абвера. В Риге разместятся и рейхскомиссар Остланда со своим штабом, и руководство службы СД, и полицейские чины, и мы.
— Осмелюсь заметить, экселец, что все это хорошо… и сложно, — подыскивая нужное слово, нерешительно заявил Либеншитц. Остер посмотрел на него с интересом. — Все сложно, когда на одном перекрестке вместе сходятся все службы: и абвер, и СД, и полиция. Это больше благоприятствует внутренней безопасности провинции, а для нас? Предвижу путаницу, господин адмирал. Ведь нам придется отбирать и посылать в советский тыл людей, причем не прибалтов, а русских, знающих местные условия, т. е. из числа пленных, я так понимаю, и здесь же господа из СД, они будут ставить палки в колеса. Не нравится мне это соседство…
— Видите, экселенц? Те же опасения, — бросил реплику Остер.
— Вы думаете, я этого не понимаю? — раздраженно спросил адмирал. — Я это предвижу, но что из того? Работать будем вместе, не смещайте акценты. Я рад, что вы, Либеншитц, ухватили суть вопроса, на глубину я не рассчитывал. Но то, что касается пленных — вы попали в точку. Если мы покончим с Советами за два месяца, то мы, возможно, сумеем насытить агентурой наши потребности в тактической разведке. Я говорю «возможно», ибо русская контрразведка работает вовсе неплохо. Они ловят наших в данное время весьма успешно. Так, Остер? Остер кивнул и, отвечая на вопрошающий взгляд адмирала, сказал:
— На сегодня не поступило подтверждения о начале работы от пятидесяти групп, посланных по линии третьего отдела.
— Вы слышите, Либеншитц, это большой процент неудач, — заметил Канарис. — Мы обменивались мнениями с Остером. Сейчас наши школы в Варшаве, Штеттине, Кенигсберге, Вене работают с полной нагрузкой. Если поискать, то найдутся еще толковые люди в среде русской и украинской эмиграции, вон их сколько болтается и здесь, в Берлине, и в Париже, и по всей Европе. Но если война затянется, а мы с вами, я имею в виду абвер, люди трезвые, что тогда? Нужны, прежде всего, система и трезвый расчет, — передохнул Канарис.
— Как вы смотрите, господин адмирал, на мою поездку в Кенигсберг? — спросил Либеншитц. Канарис утвердительно кивнул.
— Поезжайте туда, ознакомьтесь с будущим театром военных действий здесь, в Центре. До начала восточного похода остается немного времени, где-то порядка четырех месяцев. Недели через две-три дайте предложения о количестве и дислокации разведшкол в Остланде. Будем делать их не крупными Для того, чтобы в случае предательств мы избегали бы многочисленных провалов. Я думаю, возьмем за отправной пункт школ десять. Теперь смотрите сюда, — Канарис подозвал полковника к карте. — Основной удар по Прибалтике наносится силами группы «Норд» и частично группы «Центр», и верховное командование планирует покончить с Советами на 14-й день после начала войны. Из Кенигсберга сразу поезжайте в Гамбург. Там уже начато формирование штабов лагерей военнопленных, которые расположатся в Прибалтике. Обратите внимание на эти красные ромбики, мы сделали такие пометки: в Риге расположится шталаг-350 с отделениями в Митаве, — здесь адмирал стал сверяться с бумажкой, пододвинутой ему Остером, — это по ихнему Елгава, в Виндаве, — Канарис с трудом выговорил, — Вентспилс, Либаве — это Лиепая, там у русских база военно-морских сил, пусть для моряков будет свой лагерь, — пошутил адмирал. — В Динабурге, по-русски Двинск, мы разместим шталаг-340. В Валге, это на границе Латвии и Эстонии, — шталаг-351, в Минске… хотя это к вам не относится. Все эти лагеря войдут в Управление военных лагерей округа и будут подчиняться военному командованию. В каждом создайте третье отделение, подберите туда толковых офицеров. Проинструктируйте их, как получать максимум информации о русских тылах, транспортных путях, промышленных объектах — и не просто их перечисление, но в плане целей бомбометания и диверсий. Наше дело — информация командования армий. Все остальное — СД: будете отдавать им комиссаров, большевиков и, как их… евреев, — Канарис поморщился, как от прикосновения к какому-то противному насекомому, без которого, однако, не обойтись…
Долго еще в кабинете адмирала горел свет: профессиональные умы складывали механизм уничтожения Красной Армии, доступа к секретам ее тылов и господства на оккупированных территориях. Все это делалось заблаговременно с истинно немецкой пунктуальностью.
…В самый канун нападения Германии на СССР Канарис разыскал донесение резидента абвера из германского посольства в Москве, в котором говорилось о пьяных подвигах там некого герра Шелленберга, прибывшего туда весной сорок первого года по делам химических концернов рейха. «Организовать утечку содержания сообщения? — подумал адмирал. — Пусть фюрер посмеется… Но когда отсмеется? Что тогда? Гейдрих этого мне не простит. Нет уж. Придется ограничиться шуточками при встрече с этим «химиком» на верховой прогулке, спросив его невзначай, что сведения о нападении на Советы, выболтанные им сотрудникам посольства, явились новым, незапланированным средством дезинформации, не так ли? Пусть поежится друг Вальтер», — Канарис тихо злорадствовал. Громко поиздеваться не получалось. Законы разведки не позволяли. Особенно когда это касалось главы конкурирующей фирмы — начальника разведки (шестое управление) РСХА Вальтера Шелленберга. Интересно, как на это среагировали тогда в Москве? Что, русские не знали, кем на самом деле являлся «химик»? Конечно знали, но не оценили его болтовни. Создаваемые трудом и потом маскировочные конструкции при подготовке нападения затрещали и вот-вот могли рухнуть. Слава богу, что Сталин в этих делах полный профан…
Канарис спрятал в недрах своего сейфа порочащее Шелленберга сообщение. Авось пригодится?
Гамбург. Апрель 1941 года
— Что нового в Берлине, господин полковник? — улучив паузу для вольной темы в деловом разговоре, спросил подполковник Вистуба, который безвыездно сидел в Гамбурге уже с рождественских праздников и использовал любую возможность выйти за пределы разговоров об организации этих полевых, временных, фундаментальных, в любом случае вонючих концлагерей для пленных русских, а также службы абвера, которые ему поручили налаживать.
— Что нового? — переспросил его Либеншитц. — Много нового. Прежде всего то, что адмирал при каждой встрече повторяет и вбивает в головы свой любимый тезис о недопустимости болтовни на общие темы, знаете, о всяких там передвижениях войск, что мы обожаем делать. Следует избегать широких совещаний, как он выразился, «абвер не церковь» и бросьте выступать в качестве пасторов перед прихожанами, проводите деловые беседы с глазу на глаз. Понятно?
— Не совсем, — несколько обиженно ответил Вистуба, начальник третьего отдела «Абверштелле Остланд», — я здесь целыми днями работаю с незнакомыми доселе мне людьми со всех концов рейха, и я не желал вас задеть своим вопросом…
— Бросьте, бросьте, Вистуба, не обижайтесь, мы не девочки. Я вас отлично понимаю, вы моя опора здесь, сам сидел в провинциях и каждого коллегу из Берлина встречал как, — полковник замешкался, — как родную богатую тетку из Америки. Я всегда мечтал о такой. Сейчас же, единственная возможность поправить свои финансовые дела — это поехать к теткам в Россию. Раз они не едут к нам. На два-три месяца в гости — это неплохо. Но будет ли так? Вот вам и все новости вкратце.
— Вы же всего второй раз приезжаете, — оправдывался Вистуба, — в Берлине вас не найти. Я оторван от всего. По телефону не поговоришь. Быстрее бы вперед. Но насчет теток я вас понял.
— Потерпите, мой друг, осталось совсем немного. Могу сказать одно, что для раздраженных слов адмирала о проповедях имеются серьезные причины: слишком много провалов при заброске наших людей на Восток. Не исключено, что где-то сидит их информированный источник. И, возможно, не один.
— Русские агенты? У нас? Непостижимо, не верю! — воскликнул Вистуба. — Хотя из обзоров после польской кампании нам продемонстрировали столько наших офицеров, продавшихся этим нищим голодранцам полякам, что я лично был в шоковом состоянии. Что ж, и у русских при всей их бедности золото может быть скоплено для подкупов.
— Никто не говорит, что они русские. Вероятней всего, они немцы, но работают на советскую разведку либо прямо, либо через кого-то. И не обязательно на денежной основе. У них есть идеи. Мало ли как. Внутренних врагов в рейхе хватает. Скажите, исходя из чего они прихлопывают наши группы на таком большом расстоянии по фронту границы? Только ли в силу своей бдительности, о которой без конца кричат? Наверняка имеют информацию отсюда, а затем уж роют ямы, вяжут петли, расставляют свои капканы и что там еще. Имейте в виду, друг мой, что НКВД всегда делает вид, что какой-то там икс или игрек попались случайно, благодаря разоблачению со стороны тетки Маруси.
— Конечно, конечно, господин полковник, внимательность прежде всего, — заторопился Вистуба.
— Проблем много, — разговорился Либеншитц, — на Восток ежедневно идет 50 составов, в Польском генерал-губернаторстве уже сейчас сосредоточено порядка ста двадцати дивизий. Как все это закамуфлировать? Получи красные эту информацию — туго нам придется.
— Я слышал, — сказал Вистуба, — наши доблестные генштабисты считали, считали и недосчитали подачу эшелонов с горючим для фронта: нужно 24 состава в сутки, а у военных только 16. Теперь они хватаются за голову, что как бы не застрять на рубеже Киева — дальше у танков не хватит топлива.
— У всех свои заботы, Вистуба. Давайте думать, как нам не сесть в лужу с подготовкой своей агентуры для засылки в русские тылы. Хватит ли у нас нашего горючего, — с выражением произнес полковник. — У адмирала не раз проскальзывала мысль, что он не очень верит в конец большевиков через 2–3 месяца. Да и русские воевать умеют, я их и по Первой мировой войне знаю, и в 1929 году полгода в России служил. Поэтому меня сюда и определили. Война решается на полях битв, а не в кабинетах. Верьте мне! Надо нам отрабатывать систему. Систему подготовки людей, примерно на три-шесть месяцев. Итак, что вы надумали с домашним заданием, которое я вам оставил в свой первый приезд?
— Я подготовил предложения в виде справки. Вот документ, господин полковник, — протянул Вистуба несколько листов машинописного текста, — посмотрите, пожалуйста.
Полковник перелистал их, пробовал было углубиться в чтение, затем сказал:
— Позже прочитаю внимательно, а теперь доложите коротко.
— Полагаю, что здесь подойдет трехступенчатая система подготовки: отбор подходящего материала в лагерях, перевод согласившихся в лагерное отделение для наблюдения, изучения и проверки с улучшенным питанием, снабжением табаком, ну и немного дать спиртного. Наконец, школы.
— В принципе верно, — подумав, ответил Либеншитц. — Опыта в этом деле, да в таких масштабах у нас явно недостаточно. В оборот войдут сотни тысяч пленных. Но будет система — получим результаты. Не то опозоримся так же, как и с Англией.
— Вы считаете, что работа там не была поставлена должным образом? — озадаченно спросил Вистуба.
— А чему вы удивляетесь? Людского материала, из которого можно отбирать подходящих кандидатов, у нас почти нет. Нужны не просто люди, а испытанные агенты с безупречным английским, со всеми личными подлинными вещами, с такой мелочью, заметьте, как с продовольственными карточками нужного цвета. Англичане их часто меняют. С фотографиями членов семьи и любимого пса, да мало ли с чем! Где все это взять? Найдите все это, а прежде всего, людей, в карманы одежды которых надо было положить массу вещей, подтверждающих их легенды. Попробуйте! Пытаемся до сих пор засылать по линии беженцев из Бельгии, Голландии на рыбацких суднах, однако у Пики от этого радости мало — на связь они не выходят, ловят их исправно.
— Вы полагаете, в России будет легче?
— Легче — не легче, но возможностей больше, исходного человеческого материала — мяса с костями — больше. Если английских пленных у нас были десятки, сотни, то в России будут тысячи, десятки, сотни тысяч. Вся надежда на массы. Разница!
— Не знаю, не знаю, господин полковник. Вы рисуете огромной важности задачи. Я не смогу их сразу переварить. Честно. И я пугаюсь двух вещей: кто будет работать с этим контингентом. Нам его не охватить. Раз. И второе — это линия раздела с СД и гестапо… Конечно, я предполагаю, что они эти массы подсократят… но…
— Вы не оригинальны, Вистуба, — перебил его полковник, — однако не вздумайте спрашивать об этом адмирала — он мгновенно вспыхнет. Я дважды почувствовал это на своей шкуре. Видимо, этот вопрос его самого волнует. Запомните! СД мы отдаем все, что касается политической разведки и контрразведки; расследование государственных преступлений, аресты поручаются гестапо. Пока что у нас все распределено, как в хорошем оркестре.
— До встречи с адмиралом я вряд ли дорасту, да и не мне нарушать его покой. Не потревожить ли этим свой. Но, господин полковник, опуститесь до моего первого вопроса: кто будет работать с этими русскими в лагерях? В рижском, например, на должности начальника третьего отделения утвержден капитан Вагнер, человек в годах, воевал в Первую мировую, призван из запаса два года тому назад, прибыл из Франции, работал там в лагере с пленными, русского языка совершенно не знает… Колбасник по профессии, с юридическим образованием.
— И чем же он плох? Не знает языка? — перебил Либеншитц. — А где мы напасемся знающих русский? Тоже мне язык! Откроем массовые курсы по языкам очередных противников? Бросьте, Вистуба, это нереально. Пусть они говорят по-немецки. Да и всех разговоров с ними на полгода, максимум на год, Вистуба. Это по адмиральским, вполне реальным расчетам. Все же он юрист, в лагерных условиях поработал. Колбасник — тоже хорошо. Практик, значит. Со скотом работать умеет. Ничего, освоится и с пленными русскими. Переводчиков найдет, сам чему-то научится. Знаете, кто назначен начальником СД Остланда? — вдруг спросил Либеншитц.
— Откуда же мне знать? — не скрывая досады на пасторские разъяснения полковника, сказал Вистуба.
— Бригаденфюрер Пфифрадер.
— Это хорошо или плохо?
— По-моему, очень плохо, — с прямотой старого служаки отрезал Либеншитц. — Он безмозглый мясник. Это я по аналогии с вашим колбасником Вагнером вспомнил. Но это между нами. Я озабочен не меньше вашего. Он нам в создании системы работы ой-ой как будет мешать. Вот увидите! Но надо срабатываться. Помните, Вистуба, союзников по карательным акциям и тому подобным делам не выбирают. Ими обеспечивают по штатному расписанию. Как лопатами и противогазами. Я уже имею кое-какой опыт такого боевого содружества, — с иронией сказал Либеншитц. — Во Франции начали создаваться так называемые группы Сопротивления. Ничего особенного. Экзальтированные личности, обиженные за поражение своей страны. Изредка нападают на наших офицеров, охотятся за оружием. Умело их выяви — и дело сделано. Работа эта тонкая, и адмирал не противился, когда это так называемое Сопротивление поручили абверу. Вы понимаете, надеюсь, что из этой категории людей при надлежащей обработке можно приобрести толковых кандидатов для подставы тем же англичанам, которые все время хотят создать свои опорные пункты разведки на континенте?
Вистуба с интересом слушал эту тираду полковника и в знак согласия кивал утвердительно.
— И что вы думаете? — продолжал полковник. — СД и гестапо наплевать на разделение сфер деятельности. За террористические акты они стали хватать заложников их казнить их. Примерно десять за одного. К чему это приведет, я вас спрашиваю, Вистуба?
— К недовольству германской армией, к увеличению враждебных акций, к прямо противоположным результатам…
— Вот-вот. Вместо умиротворения приглашение к новому раунду борьбы. Вместо приобретения агентов для работы в условиях Франции, Англии, черт побери, сплошное запугивание людей. Знаете, если мы, абвер, хотим забросить в озеро удочку или даже сеть с тем, чтобы достичь улова, то Пфифрадер бросит туда здоровый булыжник и распугает всю рыбу, большую и мелкую.
— И какой выход вы предлагаете? — спросил Вистуба.
— Ничего вразумительного, друг мой, кроме как работайте по нашей системе, а они пусть идут своим путем, я вам не скажу. И адмирал не скажет. Так уж сложилось. Главное в том, что мы к борьбе готовы, СД и гестапо — тоже, но нам их не переубедить. И не пытайтесь. Посмотрим, чей опыт окажется удачливее. Теперь вот что, — Либеншитц посмотрел на часы, — сейчас пять часов. Так?
— Совершенно верно, господин полковник, — вставая в ожидании очередного приказания, произнес Вистуба. Он хорошо изучил, что Либеншитц не теряет времени даром и в любую единицу времени решает определенную проблему.
— В восемь часов встречаемся в ресторанчике «Дубовая скамья», знаете, в районе морского вокзала? Только будьте в штатском и закажите столик в нише — там лучше. Я познакомлю вас с одним человеком, который тоже приехал из Берлина навестить нас.
— Слушаюсь, господин полковник, — отчеканил Вистуба, с сожалением поглядев на свой мундир люфтваффе, в котором хорошо смотрелся.
— Сейчас давайте своего Вагнера, поговорю с ним минут двенадцать, с вами основательно продолжим завтра, — распорядился Либеншитц.
Вистуба вышел, распорядился насчет Вагнера, прикинул, что за тип приехал в гости вместе с полковником. Наверняка не офицер абвера, скорее всего — какой-нибудь полезный человек, которого в свое здание полковник посвящать не хочет. Он пошел в отель, где остановился, принял душ, лег отдохнуть и стал названивать в ресторан. Линия была занята или аппарат там не срабатывал. Вистуба выругался, но что поделаешь, пришлось встать, одеться и поехать туда несколько раньше, чем он рассчитывал, чтобы к приезду шефа все было бы готово в наилучшем виде. Заодно, подумал он, полезно и погулять, размяться. Бесконечное сидение за письменным столом, канцелярская работа в течение последней недели в ожидании приезда начальства вызывали у него чувство отупения и общей раздражительности, чего раньше он за собой не замечал; Плюс еще бесконечные споры с армейским командованием, где размещать эти лагеря, сколько тратить на рацион питания лиц, отбираемых абвером для поправки здоровья, дьявол их побрал.
Каждый тянул в свою сторону, как будто русским было не все равно, в каком месте сидеть. Но начальству вермахта было явно неодинаково, и они тащили лагеря поближе к городам, чтобы, живя в комфортабельных квартирах в Риге, Динабурге, Валге, не утруждать себя поездками по каким-то волостям или проживать близко от заборов из колючей проволоки. Снабженцы из управления лагерей только и вопили, как достать проволоку — все шло для фронтовых частей и тыловикам отрезали лишь ее остатки. С одной стороны, лагеря для Вистубы были вроде приложения к основной работе контрразведчика, причем весьма малоприятного свойства. Он представлял эту грязную атмосферу, в которой будут находиться русские, тем более начальство официально объявило, что поскольку Советы не присоединились к Гаагским конвенциям 1899 и 1907 годов и Женевской 1929 года об отношении к военнопленным, то нечего вообще с красными цацкаться. Но с другой стороны, ему был небезразличен уровень постановки работы в лагерях, как говаривал адмирал своим офицерам: «Наше благополучие зиждется на нужных человечках, поэтому ищите».
Вистуба с сожалением посмотрел на свой мундир авиатора, в котором в собственных глазах он выглядел этаким орлом, вздохнул и стал завязывать галстук. Из зеркала на него смотрело бледное лицо сорокалетнего человека, изрядно пожившего, с редкими, гладко зачесанными назад волосами, умными глазами непонятного цвета, скорее всего, все-таки светло-голубыми, обвислым носом и твердо сомкнутой тонкой линией рта. Он усмехнулся, взял из вазы орхидею, оторвал цветок и вдел его в петлицу пиджака, затем лихо надвинул на лоб шляпу с широкими полями и двинулся к лифту.
В фойе он небрежно бросил швейцару насчет такси, а сам осмотрел себя в огромное зеркало. Оставшись довольным своим легкомысленным, как он считал, видом, Вистуба сел в такси и поехал в сторону морского вокзала.
В названном полковником заведении ему бывать не приходилось, а в незнакомых местах он привык делать рекогносцировку. Было семь часов вечера, когда он вышел из машины и не спеша двинулся к цели. Это был уютный на первый взгляд кабачок. Вистуба сошел по ступенькам вниз, дверь распахнулась, и швейцар, очевидно видевший его через окошко, склонился в полупоклоне. Он огляделся, народу было немного. Увидев, что пара столиков в нишах, о которых толковал шеф, свободны, он подошел к хозяину, стоявшему за стойкой, и отдал необходимые распоряжения, указав, что их будет трое и какие закуски были бы желательны, затем вышел на воздух, осмотрелся и пошел к причалам. Только что по радио объявили о начале посадки на судно «Бремен», отходившее рейсом в Стокгольм, и на ближайших причалах все пришло в движение. Корабль был огромным, и Вистуба подумал, как хорошо было бы очутиться на нем хотя бы на недельку и отвлечься от всех своих порядком надоевших дел.
Пошел уже третий год его военных приключений, и как не интересны они казались, но брала зависть к людям, которые могли себе позволить вот так запросто отправиться в нейтральную Швецию и пожить вдалеке от проблем военного времени. «Ничего, — думал он — еще полгода и двинусь тоже, но только в южные края, погреться на солнышке в какой-нибудь Испании». Его внимание привлек человек примерно его лет, стоящий неподалеку от стенки причала, который, как ему показалось, никуда не собирался ехать и никого не провожал, и в глазах которого он ухватил напряженную зависть, сходную с собственными мыслями. Вистуба усмехнулся и принялся его разглядывать, прикидывая, подданным какой страны тот является. Наметанным глазом Вистуба определил, что тот не немец, скорее, он был похож на англичанина или американца: высок, мускулист, одет в серый костюм, на голове темная шляпа с узкими полями (таких в Германии не носили). Незнакомец держал руки в карманах брюк и с интересом поглядывал на окружающих. Казалось, что он видит все впервые и старательно запоминает. Тряхнув головой, Вистуба досадливо поморщился: опять, несмотря на такой хороший вечер и прогулочное настроение, в голове заработали инстинкты слежки, заложенные, видимо, на всю оставшуюся жизнь. Он часто ловил себя на мысли, что когда видел хорошенькую женщину, выпархивающую из автомобиля, то запоминал номер авто. Какое-то наваждение с этими привычками слежки.
Сделав круг по причалу и посмотрев на часы, он двинулся к ресторанчику. Около их столика хлопотала маленькая молодая официантка, брюнетка с пышным бюстом и таким выдающимся здоровым задом, что Вистуба хмыкнул, прикинув, не по нему ли именно выбрал полковник данное заведение, ибо других достопримечательностей в ресторане пока видно не было. Попросив красавицу принести темного пива и отпив пару глотков, он стал рассматривать из своей ниши, как из наблюдательного пункта, публику, входящую в заведение. Несмотря на близость моря, моряков здесь почти не было — торговый порт был вдалеке. Пока что сюда заходила приличная публика из тех, кто хотел выпить с друзьями на дорогу перед отплытием из фатерлянда или съесть кусок молочного поросенка, являвшегося здесь по частоте одинаковых команд хозяина на кухню, как понял Вистуба, фирменным блюдом. С полковником все ясно, подумалось ему, в основе силы подчиненных лежит знание слабостей начальства, так что придется думать о резерве молоденьких представителей свинячьего племени, а не только о колючей проволоке, которая почему-то приснилась ему прошлой ночью. Но что это? Дверь распахнулась, на пороге стоял тот самый незнакомец, а за ним возникла плотная фигура полковника. Вот так встреча! Вистуба привстал из-за стола, сделал приглашающий жест рукой, полковник увидел и уверенно двинулся к столику, ответив на поклон хозяина. Незнакомец следовал за ним, сняв шляпу и ища взглядом, куда ее повесить. К ним подошел хозяин, усадил, принял шляпы и спросил Либеншитца:
— Программа обычная?
— Да, — ответил тот.
Появилась официантка, несшая в кувшинах пиво, окутанное пышной пеной.
— Вистуба, познакомьтесь. Это мой, теперь наш друг из Латвии — Александр Пурин, — исковеркав фамилию, представил полковник.
— Очень приятно. Я вас сразу заметил там, на причале. Не мог только определить, вы англичанин или американец, а насчет Латвии и в голову не пришло.
— И я вас выделил из толпы, только не мог представить, что вы коллега господина полковника, думал, вы из криминальной полиции.
— Почему? — озадаченно спросил Вистуба.
— Порт, морской вокзал, гангстеры, отплытие возможных объектов, мало ли что, — все это дело крипо, так ведь? А вы ничем не были заняты, как и я. Все просто. На всех вокзалах мира одно и тоже — полно детективов.
— Вот видите, Вистуба, как важно слиться с толпой, помахать кому-то на «Бремене» ручкой, быть занятым на виду у всех чем-то! Раз просто фланируете — бросается в глаза, подозрительно. Он почти угадал, кто вы, — дружески подначивал полковник.
— Но я зато сразу определил, что наш друг не немец, — отпарировал Вистуба, — а о профессии иностранца думать пустое дело. Все внимание, что он не наш, чужой.
— Вы квиты, счет равный, — благодушествовал Либеншитц. — Все идет отлично, примемся за еду. Прошу, прозит! — полковник поднял кружку, отпил пиво, выпятил губу и поднял большой палец так, чтобы его одобрительный знак видел хозяин. Покончив с закусками и в ожидании основного блюда, попивая пиво, Либеншитц перешел к деловой части встречи.
— Наш друг господин Пурин работал в политической полиции в Латвии и сотрудничал с нами около двух лет, не так ли?
Пуриньш в знак согласия наклонил голову. Вистуба, посмотрев на его безукоризненный пробор, подумал про себя: «Служить ты можешь любому, лишь бы заплатили, но вот можно ли тебе верить?» Однако внешне внимал полковнику с ощутимым усердием.
— В дальнейшем, Вистуба, именно вы продолжите работу с нашим новым другом здесь, в Гамбурге, а затем в Риге.
Вистуба усиленно закивал головой.
— Разрешите вопрос, господин полковник, — спросил он.
— Да-да, — ответил тот.
— Господин Пурин, какого сорта людей вы можете нам предложить на будущее?
— Господа, я не очень силен в немецком, вы это видите. Как я вас понимаю, из людей, с которыми я лично был в контакте, заслуживают доверия человек шесть-семь. Это те, кто вхож в коммунистические и левые круги. Я ими занимался. Большее количество нужных вам источников назовет начальник нашего управления господин Штиглиц, он в бегах, равно как и я, — усмехнулся Пуриньш. — Но я понял ваш вопрос шире: из каких категорий можно рекомендовать вам людей в качестве новых осведомителей, не так ли?
— Так, но не совсем, — откликнулся Либеншитц, — поясняю. С вами, я имел в виду с Латвией, мы серьезно воевать вовсе не собираемся. Вы, то есть латыши, местное население нас поддержите. В этой среде мы, в том числе и вы, можем отыскать подходящих типов для засылки в русский тыл? Ведь латышей к ним не пошлешь?
Пуриньш задумался. Он уловил, что у новых его хозяев в головах явная путаница. Как быть в этом случае? Говорить правду?
— Видите ли, господа, — осторожно начал он, — спектр политических сил в Латвии до 1934 года был весьма широк: от социал-демократов на левом фланге до правого «Перконкруста», — Пуриньш перевел буквально «Гром и крест», — партии близкой к вашей национал-социалистической. Коммунисты у нас все двадцать лет были вне закона. Но с тридцать четвертого года у власти стал «Крестьянский союз» во главе с господином Ульманисом, и мы работали по всем запрещенным им с того времени партиям и группам. Русская среда, русское население, вы говорите? Кое-кого мы, конечно, имели в этих кругах, постольку поскольку они примыкали к левым…
— Вот видите, Вистуба, — вполголоса быстро сказал полковник, — остается наша база — пленные. Продолжайте, друг мой, — кивнул он Пуриньшу.
— Я хочу сказать, что мы строили работу по группам с одинаковой политической ориентацией, а не по национальным кругам. Полагаю, как и вы.
— У нас этим занимается гестапо. У них вся интересующая их публика расписана, как блюда в этом меню. Каждой партией, группой от левых до монархистов занимается свой человек, — сказал Либеншитц. — Но мы, абвер, вы этого не понимаете, — нечто совершенно другое. Сейчас нас интересует только то, что касается русского фронта, и прежде всего меня и моего коллегу, — кивнул он на Вистубу, — на направлении прибалтийских государств.
— Теперь я задам вопрос, разрешите? — Пуриньш после выпитого и съеденного освоился и осмелел. — Скажите, почему вы, во всяком случае до прихода в Балтию русских, не появились у нас? Мемель, или Клайпеду Германия у Литвы забрала, а дальше что? Испугались? Вошли бы вы в Прибалтику и к сегодняшнему дню могли уже прочно там находиться и готовиться к походу на Восток с иных позиций.
Немцы переглянулись. Полковник разрешающе кивнул, заговорил Вистуба:
— Всего я не знаю, мы с шефом не политики, а военные. И с нашей точки зрения территория Остланда — это мизер. По существу мы ее можем пройти при наличии там русских частей за три-четыре дня. Войди мы в Балтию раньше — сколько гвалта поднялось бы! Представляете? Русские вошли туда, и как Европа загудела, а? И пусть в этом случае вопят на них. Нам не к чему было брать на себя лишнее. Стратегия!
— Дело не только в русских. Уж кто-то, а я знаю обстановку в Латвии. Левые традиционно были здесь не слабаками, просто народ, чернь латышская, мразь русская, голь еврейская режима Ульманиса никогда не жаловала. Нельзя с этим не считаться. К июню сорокового я был уже в Германии, но друзья мне сообщили, как мастерски русская резидентура сотворила новое правительство, сплошь из левых интеллигентов, но формально без коммунистов. Заметьте. И народ повалил за ними. Стадо есть стадо…
— Бросьте, господин Пурин, — перебил его захмелевший Либеншитц, — это все ерунда. Придем мы и найдем таких интеллигентов, почище этих, вы нам поможете их отыскать на помойке? — он захохотал своему каламбуру. — У нас имеется министр по восточным делам — Розенберг. Слышали? Я ему был представлен неделю назад. Он, кстати, учился в Риге, знает латышский язык. Он организует такое гражданское правление, у него такие планы, все придут в восторг! Так что, будем реалистами, мой дорогой Александр! Прозит! У кого власть, тот заказывает и музыку, и мессу, и что хотите! Прозит! — полковник полез чокаться.
Пуриньшу полковник нравился. В нем были энергия, напор, цинизм, масштабность мышления, наконец, за спиной у него была великая Германия, способная переломить любого противника. За месяцы, проведенные здесь, Пуриньш успел повидать чиновников разных ведомств, и больше всего по душе ему были сотрудники абвера: всегда подтянутые, рассчитывающие до мельчайших деталей любую операцию с тем, чтобы перехитрить противника. Они импонировали Пуриньшу как профессионалу. В отношении же его в абвере набрасывались несколько планов. Его хотели использовать для подставы англичанам в качестве бежавшего от большевиков из Латвии. Однако Канарис забраковал такой вариант, найдя фигуру Пуриньша одиозной и легко проверяемой. Были голоса оставить его в центре документации в Берлине, но кто-то посчитал это нерациональным: запереть знающего в Латвии людей в четырех стенах для изготовления пусть важных, но бумаг. В конце концов его передали в «Абверштелле Остланд», который мог использовать Пуриньша в качестве резидента под прикрытием какой-нибудь конторы с туманной вывеской. Как в свое время использовали Эриса, подобравшего его. «Или, наконец, устроить его в СД. А почему бы и нет, — предлагал Бентивеньи, — свой человек нам там нужен. Мне просто жаль отдать его СД. Ведь мы его приобрели». Канарис идею одобрил.
— Скажите, господин Пурин, — прозвучал голос Вистубы в момент, когда полковник вышел, — где нам разместить нашу контору в Риге так, чтобы она не бросалась в глаза, была в центре города, но не в домах вашей полиции или русского НКВД?
— Вы хотите иметь один большой дом или несколько средних?
— Абвер избегает монументальных зданий. В них пусть будут СД, гестапо. Для авторитета. Мы же не афишируем себя.
— Надо прикинуть с планом Риги в руках. Я с удовольствием подскажу. Давайте возьмемся за это дело завтра. Хорошо?
— Прекрасно. И не забудем про администрацию лагеря. Им тоже в Риге потребуется дом.
— Какого лагеря? — не уловил Пуриньш.
— Для пленных красных, — как само собой разумеющееся ответил Вистуба.
— Ах так, — протянул Пуриньш. Про себя он подумал, как немцы рациональны, все раскладывают по полочкам заранее. Да, такая армия все сокрушит.
Из туалета вернулся полковник. Широко осклабившись, он предложил перейти к поросенку, которого нес за ним хозяин.
Вечер продолжался…
Москва. 21–22 июня 1941 года
Вечером 21 июня Сталин велел соединить себя с командующим Московским военным округом генералом армии Тюленевым. Слышимость по аппарату ВЧ связи была, как обычно, превосходной, будто собеседник находился на отдалении пяти метров, и генерал услышал неровное дыхание Сталина, уловил длинноту паузы после своего уставного ответа, что у телефона да, он, Тюленев, и наконец глухой, как показалось, печальный голос вождя. Сталин осведомился о том, как дела с противовоздушной обороной столицы и велел повысить ее готовность на семьдесят пять процентов.
Тюленев сказал: «Слушаюсь, товарищ Сталин», подождал, что тот добавит еще, однако услышал ясные гудки отбоя. Генерал подумал, что раз Сталин вышел прямо на него, минуя наркома обороны, значит он получил новые сведения о надвигающейся с Запада опасности, о близости которой знали или догадывались высшие руководители армии и флота, пытавшиеся, хотя и не все и вразнобой, но подготовить вверенные им соединения для отпора армиям фашистской Германии, что, однако, наталкивалось, как правило, на игнорирование в Кремле их деловых предложений. Еще Тюленев подумал, а почему, собственно, на семьдесят пять, а не на все сто процентов? Из главного морского штаба он знал, что на флоте уже объявлена оперативная готовность номер один.
Что означал вычет двадцать пять процентов? Надежду или намек на то, что каким-то образом все утрясется, что обнаженные германские сабли будут вложены назад в ножны и надвигающееся облако опасности развеется?
В тот момент генерал Тюленев, как и другие советские люди, свято верившие в то, что Сталин знает все, не мог предполагать, что эта игра в проценты отражает половинчатость, дробность, растерянность мышления вождя перед войной, ко встрече с которой по вине Сталина страна готова на была.
Положив трубку, Сталин надолго задумался. Если нарком обороны, генеральный штаб, командующие западными округами располагали ограниченной, отрывочной разведывательной информацией и в соответствии с ней не могли не прогнозировать вероятность германского вторжения, то он владел, обязан был владеть полной или почти полной стратегической и оперативной обстановкой, однако был далек от правильных военных решений, чем поставил страну в ужасное положение.
Теперь, вечером 21 июня, Сталин думал о том, могло ли что-либо измениться за неделю, если бы он отдал приказ о приведении войск в боевую готовность и об открытой объявленной мобилизации?
Товарищ Сталин всю неделю пробездействовал. Он имел привычку говорить о себе именно так, в третьем лице, и в эти тягостные минуты его мучила собственная половинчатость. За эту неделю он обязан был перекроить свое мышление и суметь сказать вначале самому себе: дорогие соотечественники, я ошибался, заблуждался, поверил этому подонку Гитлеру, необходимо действовать. А затем официально: к оружию, товарищи, Родина в опасности!
Но он не смог пока этого произнести, как до него промолчали другие руководители европейских стран — жертвы германской агрессии. И эта приравненность к ним мучила Сталина. Все семнадцать лет после смерти Ленина он, товарищ Сталин, всегда был прав. Другие заблуждались, ошибались, вредили, блокировались, провоцировали, и только он их поправлял, воспитывал, разоблачал. Перешагнуть через личную неправоту, признать ошибки он был не в состоянии.
Знал ли Сталин военное дело? С горечью признавался он себе, что нет, не знал. Его пребывание в гражданскую войну в качестве члена военного совета на двух фронтах — Царицынском и Юго-Западном особых лавров ему не снискало, оба раза его с фронтов отзывали. Ленин призывал своих более молодых соратников овладевать военными знаниями, но Сталина они, честно говоря, мало интересовали. После смерти Фрунзе по рекомендации Сталина во главе обороны страны был поставлен его старый сподвижник по Царицыну Ворошилов, который с общими политическими задачами руководства кое-как справлялся, но от стратегического или даже оперативно-тактического искусства был далек. Этим занимались его заместители: Тухачевский, Егоров и другие. Год тому назад Сталин был вынужден снять Ворошилова с должности наркома обороны, ибо война с малюсенькой Финляндией шла таким позорным образом, были понесены такие потери, что ему, товарищу Сталину, пришлось вмешаться и поправлять дела. Правда, Ворошилов позволил себе бестактность, заявив, что, дескать, с кем воевать, если руководителей в Красной Армии не осталось — всех репрессировали. Однако Сталин быстро поставил его на место — освободил от руководства. Но действительно, на кого опереться, кто понесет бремя ответственности в войне с Германией? Сейчас, в этот сумеречный час наивысшей опасности, он вдруг четко осознал, что Ворошилов-то был прав — лучших кадров более не существовало. Но с другой стороны, мог ли он доверять тем, кто все годы гражданской войны находились под руководством и влиянием Троцкого, по настоянию которого его, Сталина, ЦК отзывал с фронтов? До поры до времени он терпел засилье в Красной Армии всех этих подчиненных врага народа Троцкого, а их в гражданскую войну скопилось немало: семьдесят тысяч бывших царских офицеров и двести пятьдесят генералов. Правда, что такое двести пятьдесят? Какие-то двадцать процентов от их числа в царской армии: всего было их в той тысяча двести. Что-что, но цифры были коньком товарища Сталина.
Получив «доказательства измены» Тухачевского, Якира, Уборевича, их якобы преступных связей с немецкими генералами, Сталин решил распрощаться с ними. Ниточка потянулась дальше к Блюхеру, Егорову, Дыбенко… Так надо было, думал тогда Сталин, нечего держать рядом с собой тех, кто в любой момент мог произвести военный переворот. Ничего, замену мы им нашли: повысили в званиях и должностях других товарищей, оказали им доверие. Командуйте! И то, что в армии этот номер не пройдет, Сталину было невдомек. Он смотрел на военных как на игру в солдатики, как на винтики: вывернул один, ввернул в это же место другой, машина функционирует, солдатики маршируют и ладно. Он полагал, что главное — это его, сталинское, благорасположение и дело пойдет… О том, что с материально-техническим обеспечением в Красной Армии дела обстоят неважно, он узнал во время гражданской войны в Испании и при неудачных попытках прорыва линии Маннергейма в Финляндии: наши танки горели как свечи, истребители оказались по сравнению с немецкими тихоходными, артиллерия нуждалась в совершенствовании, автоматического стрелкового оружия на вооружении практически не было. И вновь, который раз, он стал выправлять положение, теперь уже по части вооружения. И выправил. Только его, сталинская, воля могла за прошедшие два года перестроить оборонную промышленность. Только по его инициативе могли быть разработаны новые образцы танков, самолетов, орудий, автоматов. А ведь некоторые конструкторы стали уводить творческую мысль от актуальных видов вооружения в пустопорожние искания, углубились в создание каких-то там никому не нужных ракет, реактивных снарядов. Как докладывал Берия, их действия граничили с вредительством. Берия называл их пофамильно: Королев, Ланге… нет — Лангемак. Тоже, верно, из немцев или латышей. Сталин потер виски. Хорошо, что их изолировали, а то насочиняли бы всяких утопий. Берия прав: нечего было плодить в армии целую внутреннюю армию инородцев — всех этих поляков, латышей, немцев, евреев. Нечего с ними носиться, как это делал Троцкий. Три четверти комсостава были из военспецов! Вот дожили до чего! Слава богу, что удалось и с Троцким покончить навсегда, больше не будет путаться под ногами. На место выпавших псевдогероев нашли же мы новых товарищей. И ничего — справляются.
Но Гитлер, Гитлер — сволочь! Предложил пакт. Что же было делать? Не пойти на это предложение? Пошли, выхода не было. Но как я мог ему поверить? Поверить в сильную Германию как противовесу в Европе империалистическим амбициям Англии и гнилой от демократизма Франции? То, что соглашение долго не протянется, было ясно с самого начала, но что менее двух лет… А я не успел подготовить армии ни к упреждающему удару, ни к обороне. За это время он достиг многого, подлец! Пактом обезопасил себя от нашего противодействия при вторжении в Польшу, даже теоретически — от оказания нами помощи в случае войны Франции, гарантировал наше невмешательство при всех своих европейских авантюрах, от Голландии до Балкан. Конечно, хорошо, что мы оказались в стороне от войны. Нет, я ему никогда не верил.
Не верил? Сталин задумался. Но если не верил ему, Гитлеру, то почему не принимал во внимание все эти предупреждения? Они же подтверждали, что Гитлеру верить нельзя. Значит верил. Он горестно вздохнул… Вспомнил горячку тех августовских дней тридцать девятого в Москве. Англичане и французы вели на переговорах фальшивую игру, вертели задами, сволочи. Гитлер настаивал на заключении пакта о ненападении. Он рвался в Польшу, аналогичные пакты с Францией и Англией он подписал, и они покоились у него в кармане. 26 августа он должен был начать войну с Польшей, а договора с товарищем Сталиным, гарантирующего невмешательство в его очередную авантюру, у него не было. Пока не было. Еще утром 19 августа послу фон Шулленбургу было сказано, чтобы Риббентроп не появлялся в Москве, однако после обеда Сталин велел передать, чтобы тот приехал двадцать шестого. Он, вождь советского народа, не знал что и делать и метался, как тигр в клетке. Гитлер, подлец, тонко рассчитал: англичане и французы пусть убираются со сцены в Москве, появится он, фюрер. Он выжал из Сталина пакт о ненападении, как сок из лимона. Еще бы! Его немецкие танки разогревали моторы на польской границе — для них пройти Польшу и оказаться прямиком на советских рубежах не составляло проблемы. Гитлер 21 августа прислал телеграмму Сталину — примите Риббентропа двадцать второго, не позднее двадцать третьего заключаем пакт и никакого там, надо понимать, двадцать шестого. Польша окончательно обнаглела, нам двадцать шестого в бой! И в тот же день, двадцать первого он, Сталин, сдался: ладно, пусть Риббентроп прибудет двадцать третьего, черт с ним!
Тот свалился с неба, как будто его отстегнули от лонжи у купола цирка, где он болтался почти неделю ожидания. Приземлился в простреленном насквозь кем-то из наших олухов-зенитчиков самолете со свастиками на крыльях. Немцы так дрожали в предвкушении брачного союза со Сталиным, то бишь в подписании пакта, что даже не пискнули, что их министра иностранных дел чуть не отправили к праотцам по дороге к вожделенной цели. Горячка была так велика, что воздушный коридор для пролета немецких друзей не был обеспечен. Сталина передернуло от этих воспоминаний. Но из песни слова не выкинешь. Пакт подписали всего за два дня до намеченного Гитлером вторжения в Польшу. Это слишком бросалось в глаза, тем более, что мы-то не были еще готовы напасть на Польшу. Гитлер притормозил и после соответствующего намека перенес срок вторжения на первое сентября…
Конечно, Сталин был в августовские дни тридцать девятого горд собой: еще бы! За два дня почти положил в карман незамерзающие порты на балтийском побережье, за которые Петр I воевал двадцать лет. Это был гигантский успех миролюбивой сталинской внешней политики. Секретные протоколы сговора с Гитлером были спрятаны так надежно, что никто их не найдет. Собственноручно он провел на карте демаркационную линию, разделявшую отныне Германию и Советских Союз, однако ему и в голову не пришло, что Гитлер попросту дал ему поиграться карандашом и что за линию эту придется положить больше жизней, чем в свое время угробил Петр — образец сталинского подражания. То, что три страны Прибалтики и Финляндию Гитлер пожаловал ему для затравки, в качестве временной жертвы пешек, до Иосифа Сталина не дошло.
С кем же придется встретить надвигающуюся угрозу? Кто будет рядом? Память высветила вдруг командующего Юго-Западным фронтом Егорова во время войны с Польшей, в прошлом полковника царской армии, с которым пришлось служить рядом, когда Сталин был на этом фронте членом реввоенсовета. Умный был мужик, надо отдать ему должное, но слабоволен, удалось его подмять: решил тогда Сталин идти на Львов и восстал против того, чтобы передать в срок 1-ю Конную и 12-ю армию Западному фронту, которым командовал, наступая на Варшаву, этот кандидат в Бонапарты — Тухачевский. И Егоров подчинился ему, Сталину, хотя решение о передаче было одобрено Политбюро и Лениным. Наступление на Варшаву захлебнулось и провалилось. Противник Сталина Троцкий с его идеей перманентной мировой революции был скомпрометирован, а виноватым в провале по мнению Сталина оказался Тухачевский, хотя и отозвали с поста его, Сталина. Ничего, все это уже списано давным-давно и свидетелей не осталось.
Только что Сталин отпустил Тимошенко и Жукова с подписанной им директивой о приведении войск в боевую готовность. Позвонил Тюленеву. Да, война на пороге. Директиву он подписал под воздействием сообщения немецкого фельдфебеля, перебежчика, который сообщил, что немецкие войска занимают исходные позиции для наступления, которое начнется рано утром 22 июня. О перебежчике сообщили из Киевского военного округа. Фельдфебель и он, Сталин! Это ужасно!
Сталин неоднократно возвращался к пространной докладной записке начальника разведуправления генштаба Голикова, доложенной ему почти день в день три месяца тому назад — 20 марта, которую он хранил в своем личном сейфе до середины мая, а потом вернул Голикову. В этой записке излагались варианты направлений ударов по нашей стране групп германских армий с указанием срока вторжения — ориентировочно 20 мая. Но вывод-то, вывод: слухи и документы, говорящие о неизбежности весной этого года войны против СССР, необходимо расценивать как дезинформацию, исходящую от английской, и даже может быть германской разведки. Опять слухи…
Начал Голиков за здравие, а кончил за упокой! Или наоборот. Чему здесь верить?
Интересно, подумал Сталин, сам Голиков верит своим источникам? Выходит, не верит, а я им должен верить, минуя Голикова? Эти источники, верно, еще со времен Берзина сохранились, и тот твердолобый латыш им верил. Он бы обошелся без этих дурацких выводов.
Кузнецов, главный наш военно-морской начальник, аналогичную записку прислал с такими же выводами — сведения ложные.
Кому верить?
Поскольку в указанные ими сроки военные действия не начались, Сталин вернулся к своей испытанной конструкции, которой верил сам: все это английские происки, им, английским правящим; кругам, выгодно столкнуть нас с Германией лбами, поэтому англичане и не стали подписывать с нами соглашение, которое в любом случае было бы направлено против немцев. Сталин был прав в определении, кому это выгодно, но он отстал в своей оценке определения и развития европейских противоречий. Его оценка относилась к 1939 году, а на дворе был сорок первый. Англия воевала с Германией, последняя не могла осилить пока соперницу, Гитлер решил быстренько разбить СССР, и Англия падет сама. В этом меняющемся ходе событий Сталин разобраться не сумел, хотя предупреждения о начале войны имел, но в реальность агрессии не верил. В этом была трагедия не столько его, сколько народа. Раз вождь решил, что войны не будет — ее не будет, значит, все предупреждения — в корзину для мусора под разными соусами, различными предлогами, но… как не отвечающие сталинской теории. И Голиков, и Кузнецов, надо полагать, старались своими выводами вписаться в эту концепцию вождя, по занимаемому ими положению они не могли настаивать на чем-то отличном от его выкладок. А наркому обороны Тимошенко и начальнику генштаба Жукову такие документы даже не показывали, не говоря уже об обсуждении таковых на уровне существовавшего при Сталине Политбюро. Получался замкнутый круг: объективную информацию некому было объективно воспринять, оценить и сделать объективные выводы.
«Чепуха какая-то, — подумал Сталин, — перебежчик-фельдфебель сыграл роль мышки — с ее помощью вытащили репку, которой в сказке, как известно, пытались овладеть более сильные особи. Если бы этот фельдфебель не появился, подписал бы я директиву или нет? Вряд ли. Но ведь были предупреждения от более авторитетных источников, чем этот перебежчик, не считая мартовского обобщающего сообщения Голикова и записки Кузнецова, датированной 6 мая, с их смазанными выводами».
Сталин отлично помнил первую ласточку об агрессивных действиях Гитлера. Еще бы не помнить, если Голиков доложил ему новости чрезвычайной важности в самый канун Нового года — 30 декабря 1940 года.
Сообщалось, что 18 декабря Гитлером утверждена директива № 21 Верховного главнокомандования о плане войны против СССР. На вопрос Сталина, откуда эти сведения, Голиков ответил, что информация поступила от группы антифашистов из Берлина. Сталин спросил, кто они такие? Голиков ответил, что немцы, германские антифашисты. Сталин поинтересовался, надежны ли они, можно ли им верить? Голиков ответил, что дать полную гарантию надежности этих источников он не может, ибо они сотрудничают с нами недавно.
Это было правдой. «Красная капелла» — такую кличку группе дало позже гестапо — тогда делала первые шаги в снабжении секретными сведениями советской разведки, и в Москве авторитет к ней тогда еще не пришел.
Руководители группы: офицер пятого отдела имперского министерства воздушных сообщений Харро Шульце-Бойзен, ученый-экономист Арвид Гарнак и их единомышленники вступили в контакт с советской разведкой инициативно, руководствуясь своими антифашистскими убеждениями. Они поставили на карту свои жизни и отдали их в декабре 1942 — январе 1943 года. Но все это было позже, и мы узнали о них только после войны.
А сейчас, в декабре 1940 года, Голиков тушевался перед вопросами Сталина и его авторитетом, как и другие, вхожие к вождю люди. Что он мог ответить? Поручиться за немцев он не мог: не было принято ручаться даже друг за друга, в том числе в его учреждении, где смерч репрессий 1937–1938 годов оставил после себя много пустых стульев, на которых сидели профессионалы, а возникавшие вакансии заполнялись строевыми командирами, в плане разведки — людьми с улицы.
1 марта 1941 года советский посол в Вашингтоне Уманский был приглашен к заместителю госсекретаря США Уэллесу, который по указанию президента Рузвельта проинформировал посла о той же, уже ставшей Сталину известной, директиве под номером 21, сведения о принятии которой Гитлером были получены также и по линии американской разведки. Со слов госсекретаря Хэлла, Уманский, выслушав Уэллеса, стал бледным и после некоторой паузы, придя в себя, поблагодарил за информацию, сказал, что не теряя времени сообщит обо всем своему правительству.
20 марта Уэллес подтвердил Уманскому сообщение от 1 марта и дополнил некоторые моменты.
Сталин, получив записи бесед Уманского с американцами, в отличие от посла не занервничал, не побледнел, был спокоен, руководителей Красной Армии с ними не знакомил, велел лишь Голикову перепроверить сведения от Уманского, что тот и сделал своей докладной от того же числа — 20 марта.
Сведения сошлись не только по существу, но и по времени, день в день, полюс получены были по линиям двух разведок в разных частях света: советской и американской, которые, надо полагать, пользовались различными источниками. Сталина все эти совпадения даже не всколыхнули, не заколебали в непогрешимости и безапелляционности его оценок. Единственное, что его удивило, так это получение информации о плане войны с СССР в декабре сорокового, через 12 дней после принятия такового. Не запущена ли эта дезинформация по указке англичан, подумал он. Он не мог себе представить, что в разгар борьбы с Англией, Гитлер готовится к войне на втором фронте. У Сталина это не укладывалось в голове, так как противоречило его классическим схемам, он не представлял себе степени авантюризма Гитлера и вздорности его военных решений. По его глубокому убеждению, Гитлер должен был покончить с Англией, а это не могло произойти в 1941 году, и затем уже готовиться к нападению на СССР, следовательно, война отодвигалась где-то на сорок второй, не раньше.
Как интригу со стороны Англии — рассорить Советский Союз и Германию — Сталин воспринял послание Черчилля, врученное ему 22 апреля 1941 года при посредничестве английского посла в Москве Криппса, которого не принял ни он сам, ни Молотов, хотя посол рвался на прием к ним с 5 апреля.
10 и 13 июня советский посол в Лондоне Майский был приглашен в МИД, где министр Иден и его постоянный заместитель Кадоган передали ему сведения, полученные от английской разведки о направлении соединений германских вооруженных сил на восток, к рубежам СССР.
Сообщения Майского постигла участь послания Черчилля — Сталин их не воспринял и, судя по датам, дальше, чем подготовить сообщение ТАСС от 14 июня, его распорядительская деятельность в эту решающую судьбу страны и людей неделю не пошла, и он буксовал в своих сомнениях.
В апреле-мае 1941 года предупреждений о готовящейся германской агрессии Сталину поступало предостаточно, хотя, когда речь идет об угрозе нападения, говорить о количественных показателях неуместно. Существенную информацию направлял советский военный атташе в Париже, а затем после разгрома Франции в Виши — Суслопаров, получивший ее от европейского резидента советской разведки Леопольда Треппера.
12 мая Зорге сообщил из Японии, что на советской границе сосредоточено 150 германских дивизий, 15 мая он же уточнил дату начала войны — 22 июня.
11 июня Сталину было доложено, что германское посольство в Москве по указанию из Берлина должно подготовиться к выезду из СССР в течение семи дней и что уже 9 июня из труб посольства повалил густой дым — там начали сжигать документы.
Очевидно, что на отрицательное отношение Сталина к предупреждениям о начале войны повлияла его подозрительность, недоверие к людям, проживавшим или работавшим за границей. Он убеждал себя и других, что все заговоры и провокации плелись и осуществлялись из-за рубежей страны. Они служили отправными пунктами для создания Ягодой, Ежовым, Берия видимости всякого рода выступлений против партии и государства со стороны партийцев, из которых «лепили» всевозможные антипартийные оппозиции, блоки, группы я выбивали из них признательные показания о готовящихся переворотах, покушениях и т. п.
В результате Сталина не верил никому. Вместо анализа фактов о готовящейся агрессии он сразу спрашивал: кто сказал? Как будто вопрос о каком-то статусе источника информации имел первостепенное значение и убирал другое, более важное, — быть войне или нет.
Когда прибыло сообщение Зорге, Сталин спросил Голикова: «Кто этот человек?» Голиков ответил, что это немец, антифашист, принимал участие в революционном движении в Германии, прошел подготовку в Союзе, последнее время работает в германском посольстве в Токио, сообщает достоверную информацию. «Кто его туда послал?» — последовал вопрос Сталина. Услышав фамилию Берзина, у Сталина внутри что-то передернулось. Кандидатуры «врагов народа» для него авторитетными не являлись. Он задал еще несколько уточняющих вопросов, суммировал ответы Голикова. Что же в итоге?
Латыш Берзин послал немца Зорге в Токио, поставил его во главе группы, куда входили японцы, югослав, шведка, опять немцы… Немецкий посол Отт любезно выкладывал нашему человеку секреты своей страны? До Сталина это не доходило. Голиков пытался объяснить ему, что, мол, Зорге, т. е. Рамзай…
— Почему Рамзай, — перебил Сталин.
— В этом слове инициалы разведчика — Рихард Зорге, — пояснил Голиков. — Так вот, Рамзай был знаком с женой посла Отта еще в 20-е годы в Германии, она считалась тоже «красной». Пошла на сближение с Зорге, так как боится за разоблачение со стороны Рамзая и в связи с этим за крах карьеры мужа, на чем мы и играем…
«Детская игра какая-то, — подумал Сталин. — Авантюристы, которым я должен верить. За тысячи километров от Европы разве им лучше все известно, чем мне?» И не поверил. Весь май Рамзай направлял шифротелеграммы в Москву о том, что сто пятьдесят дивизий вермахта вторгнутся в Союз. 12 июня он получил наконец ответ из Центра, что его информация о нападении 22 июня вызывает сомнение. Радиограмму с последним предупреждением о начале войны Зорге направил 17 июня. Все. Большего он сделать не мог. Но на Сталина не подействовал даже такой довод разведчика, как вызов к Гитлеру японского посла в Берлине и официальное заявление фюрера тому, что 22 июня Германия совершит вторжение в Россию.
«Выходит, что тот немец Зорге был прав», — мелькнуло в голове у Сталина, когда лысый Тимошенко и Жуков со своим вечно выпяченным подбородком доложили ему о другом немце, фельдфебеле, перебежчике. С этой мыслью, опустошенный своими раздумьями, пораженный собственной недальновидностью, Сталин поднялся из-за стола и отправился в спальню. Он прилег не раздеваясь, но не заснул. Мысли множились, роились. Он понял, что проиграл, теперь вся надежда была на армию, партию, народ. Он ворочался до часу ночи 22 июня, затем задремал. Когда к нему в спальню на цыпочках вошел генерал охраны со словами о том, что звонит по срочному делу Жуков, то Сталин молча поднялся и пошел к аппарату. Жуков доложил обстановку и попросил разрешения начать ответные действия. Сталин молчал. Затем велел Жукову с наркомом приехать в Кремль…
Ольга
Прожив в Москве после долгого перерыва почти три месяца, Ян с трудом но привык к бурному темпу жизни, который предложили ему столица, война, воздушные тревоги и бесконечные поездки и поиски людей в связи с новым назначением. В смысле условий бытия он был неприхотлив: за двадцать лет работы ему приходилось трудиться в различных районах страны, жить в избах, в комфортабельной квартире, как в прошедшем году в Риге, в комнатах, сдававшихся внаем, бывать на Севере и в Средней Азии. Он был счастлив вернуться в столицу, был доволен маленькой квартиркой, предоставленной ему сейчас неподалеку от стадиона «Динамо», хозяин которой отбыл на фронт, однако не мог не переживать об одном: в наркомате, где он не был четыре года, не осталось знакомых. Проходя по длиннющим, извилистым коридорам здания на Лубянке, с бесчисленным количеством высоченных дверей, он отмечал в памяти кабинеты, в которых работали его личные друзья, и думал, что вот сейчас кто-то из них выскочит, остолбенеет от неожиданности, что-нибудь завопит в смысле где пропадал, хоть позвонил бы, но тщетно. Заглядывать же в ставшие чужими кабинеты и тем более спрашивать о ком-то не было принято, во всяком случае в их кругу. Мало ли как можно было истолковать такого рода интерес к человеку, о судьбе которого говорить не только с незнакомыми не положено, но и с друзьями не рекомендовалось. Раньше бывало, в коридорах нет-нет да и раздавалась латышская речь. Поэтому, проходя мимо стадиона «Динамо» и увидев силуэт знакомой долговязой фигуры с приметной длинной шеей, Ян улыбнулся в предвкушении приятной встречи и, перегнав широко шагающего военного, вгляделся в знакомые черты.
— Дима, ты? — воскликнул он радостно.
Тот опешил от неожиданного оклика, остановился, затем заулыбался:
— Надо же войне случиться, чтобы снова пришлось увидеться. Здравствуй, Ян, — ответил долговязый. Оба улыбаясь смотрели друг на друга, Ян снизу вверх, Дима — наоборот, ибо был на две головы выше.
Ян отлично помнил этот день встречи. Было 3 июля, и он находился под впечатлением незабываемого выступления по радио товарища Сталина.
— Откуда ты взялся, славный представитель латышского народа? — спросил Дима.
— В час борьбы наше место — находиться рядом с великим русским братом, помогать надо брату, — с присущей ему насмешливой интонацией ответил Ян. Оба рассмеялись. Чтобы избежать дальнейшего взаимного прощупывания и сразу определиться, Ян добавил: — Три месяца хожу по Лубянке и никого из друзей не встретил.
— Я туда только раз заходил, но мне повезло больше — кое-кого повидал из «стариков». А ты где трудишься, — приступил к обычным в таких случаях расспросам Дима. — Может к нам пойдешь?
— У меня свой стадион есть, — кивнув на «Динамо», ответил Ян. — Стадион под названием Латвия. Готовлю людей туда.
— Ах, это твоя епархия, — протянул Дима и предложил, — пойдем присядем.
Они прошли в Петровский парк, высмотрели по привычке скамейку на отшибе и, не сговариваясь, одновременно зашагали к ней.
— Сталина слушал? — спросил Дима.
— Да, конечно, Трудно вождю в эти дни. Ты заметил, какой у него голос прерывистый был? И акцент неимоверный? Да, все так неожиданно обрушилось.
Оба помолчали.
— Будем, как Иосиф Виссарионович сказал, развивать партизанскую войну. Фашизм надо бить любым оружием, но в гроб его загнать. Священная война, — повторил в раздумье Дима слова вождя, — сколько она продлится?
Сели, закурили. Указав на стадион, Дима добавил:
— Мое дело здесь крутится. Поближе к футболу местечко отыскал. Хлебное дело.
— Да ладно трепаться, — сказал Ян, — спецбригада в тыл врага, да?
Дима кивнул.
— Направление у нас одно, но масштабы разные, — продолжил Ян. — У тебя группы, целя бригада создается, я слышал. У меня — одиночки для набора опыта. Да и тех пока найдешь, побегать надо. Ищу их среди добровольцев в армию. С латышским языком. Но трудно, профессионалов нет.
— Да, все так внезапно началось. Никто не ожидал, что все кувырком пойдет. Если бы время на подготовку оставалось, на мобилизацию, — Дима вздохнул. — Ты, Ян, откуда появился?
— Пять месяцев прослужил в Латвии, своей родной, в наркомате. Пришлось повстречаться и познакомиться с немецкой агентурой поближе. Кое-кого разоблачили, посадили, так сказать, но это слезы, Дима, слезы.
— Что так?
— Да много ли сделаешь за те месяцы, что нам немцы отпустили?
— О чем ты?
— Дима, дорогой, для нас там ясным стало только одно: абвер весь год до начала нападения готовился к нему. Мы брали живьем, так сказать, его агентов, захватывали рации, документы. Всем их снабжали из Кенигсберга. Из всего было видно, что работа их в условиях нашей власти рассчитывалась на год. Год отпустили нам, понимаешь? А дальше — Советов не будет. Советам крышка. Вот все их Установки своей агентуре.
— И что же мы? Следовательно, не оценили? — спросил Дима.
— Мы все честно сообщали наверх, а вот как товарищу Сталину докладывали, не знаю.
— Все оказалось внезапным, как снег на голову, ты же слышал сегодня его речь, — сказал Дима.
— Вот именно. Мы там, на территории Прибалтики, никаких толковых позиций своих не оставили, не успели, вышибли нас молниеносно, — согласился Ян и посмотрел на приятеля выжидающе. Черт его знает, как друг Дима оценивает внезапность!
— А до Латвии где ты служил? — спросил Дима.
— На Урале служил, в лагере.
— Ты? В лагере?
— А чему ты удивляешься? Служил, а не сидел, и то хорошо. Не началась бы война, мало ли что могло произойти. Ты, я слышал, тоже с орбиты сходил или вранье?
— Правда. В тридцать восьмом отправили в управление по строительству Беломорканала, в Медвежьегорск, в тридцать девятом сказали, что иди, брат, на пенсию.
— Тоже, значит, на работу с заключенными попал?
— Да, дорогой Ян.
Оба посмотрели друг на друга понимающе. Повеяло взаимодоверием. Ставшие чужими лубянковские коридоры разводили поневоле.
— И что ты делал два года, работал?
— Почти ничего не делал, жил под Москвой, чем-то время убивал, как все дачники. Вспоминал о прошлом, все думал: за что? Да не мог сообразить, что мы, старые чекисты, такого сделали, что нас вот так погонят, как бродячих псов, кого куда. И не два года, а полтора. В ноябре тридцать девятого меня уволили, с прошлого месяца, как только началось, — на службе.
— Ты что, месяцы считал?
— Ян, я дни считал. Поверь! И считать мне надо не с тридцать девятого, а с тридцать седьмого года. Вот так. Не знаю, как тебе.
— Так же. Полная аналогия. Раньше, бывало, нет-нет, да и земляков встречал, по-латышски мог поговорить. Три года как не с кем перемолвиться стало. Опала есть опала. Вот так. Все новые. Единственных соплеменников видел лишь в лагерях. Но с ними не пообщаешься, попадешь под подозрение и самого к ним отправят. Бывало и так. Только прошлым летом душу отвел. Да что горевать! Давай об этом после войны поговорим!
— После победы, — уточнил Дима.
— Ясное дело — не в плену у Гитлера, — усмехнулся Ян.
— Об одном переживаю: тех, кому в двадцатые было по двадцать, как мне, как тебе, теперь было бы по сорок. Как нужен был бы их опыт там, в тылу врага, на землях, где они воевали в гражданскую! — сказал Дима.
— Не говори. За этот опыт кровью тогда платили, жизнями, и сейчас еще разок заплатим. Молодежь наша на все пойдет, но, пока она научится делать это так, как наше поколение, — умело, времени потребуется тьма, а где его взять? Сам бы пошел с ними. Но нет, говорят, сиди, учи. Вот и сижу. А мне бежать надо, — заторопился он, взглянув на часы. — Тебе-то рядом, а мне крюк делать, на электричку. Слушай, давай увидимся у меня, я недалеко от твоего «Динамо» сейчас живу, тогда и поговорим. Дай блокнот, запишу свои координаты. Друзей вспомним.
Ян быстро записал адрес и телефон, и друзья расстались, чтобы на самом деле встретиться лишь в 1944 году здесь, в Москве. Так уж получилось. При выходе из парка они крепко пожали друг другу руки и разошлись. Диме, или Дмитрию Медведеву, ставшему впоследствии широко известным партизанским командиром, Героем Советского Союза, до ворот стадиона «Динамо», где собирали кандидатов в партизаны, было рукой подать. Яну, полному энергии будущему шефу Казика, Конрада и иже с ними, требовалось времени больше: он пошел в метро, доехал до Курского вокзала, сел на электричку и направился за город, где готовили кадры для заброски в его родную Латвию.
…Сегодня, спустя два месяца после той встречи с Димой, Ян вновь ехал в пригородном поезде. По привычке не привлекать внимания к району нахождения их базы, нескольким домам дачного типа, и к соответствующей станции или платформе, он обычно выходил на следующей за нужной ему и быстрым шагом шел на работу, благо было недалеко. Над этой его привычкой посмеивались. Он никак не мог внушить своим коллегам, что все едут по утрам в Москву на работу, а приезды в это же время из города пяти-шести здоровых мужиков, выходящих на одной платформе, бросаются в глаза.
Центр подготовки находился в леске, на почти одинаковом расстоянии от обеих станций. За короткое время работы Ян исходил основательно здешние окрестности, учил своих подчиненных разным премудростям ведения наблюдения, ориентированию на местности. Он не переставал удивляться, как легко можно было при даже слабой наблюдательности обнаружить признаки принадлежности к одному и тому же ведомству: если встречались зеленый забор определенного колера и зеленые простенькие занавески на окнах, то не сомневайтесь, что здесь работают свои. Все снабжались с одного склада, и вариант, следовательно, был один — только эта цветовая гамма на заборе и лишь такие занавески. Ян пробовал было поговорить с начальством на темы конспирации, но бесполезно, его не слушали, отмахивались, считали это мелочью на фоне важности подготовки людей для заброски в тыл врага. Один из начальников посоветовал ему меньше обращать внимание на чужие дома и одновременные приезды по утрам преподавателей из Москвы. Ян намек усвоил: действительно, ему что ли больше всех надо? Он не раз сталкивался с ситуациями, когда зарождение инициативы приравнивалось к проявлению нездорового интереса, и незачем было наклеивать самому на себя ярлык великого конспиратора, как о нем уже стали поговаривать. Это было лишним, и он уходил в свою работу, не отбрасывая, однако, мысль, что какой-то немецкий агент сумел бы здорово отличиться, разгадай он секрет простеньких зелененьких занавесок в домах, находящихся друг от друга на приличных расстояниях.
Свою, как он называл, воспитанницу он застал в комнате с радиоинструктором Петром Петровичем, который, как ухватил Ян, изучал с ней способы устранения встречающихся неполадок рации. Поскольку подготовленных ранее радистов в распоряжении Яна еще не было, решили, что его воспитанница в течение двух месяцев овладеет навыками радистки, а там видно будет. Если все сложится как планировали, то рацией ее снабдят позже. Правда, в глубине души Ян не думал, что ей придется работать на рации. Обычно радисты направлялись в тыл в составе групп с рациями, шифротаблицами и прочими причиндалами и, главное, со свежеприобретенными и нерастраченными навыками работы на рации. А здесь? Кто его знает, как сложится ее судьба. Попадет она в тыл к врагу, причем одна, и сколько времени пробудет в таком качестве, в отрыве от всех, кто скажет? И никто, думал он, на нее обязанности радистки затем не возложит. Не положено. Радист должен быть без неясностей, рядом со своим командиром. Здесь же она пойдет на оседание, ей поручат изучение и подбор людей для работы в Риге, активную деятельность. Она будет на виду, в общении с другими, и для этого ей рация не к чему. С другой стороны, конечно, хотелось иметь там, за линией фронта, широко подготовленного разведчика. Когда готовишь одиночек, хочется их универсальности, ловил себя на мыслях Ян, хотя такие качества были сродни всезнайству.
Увидев заглянувшего шефа, Ольга и инструктор поняли, что он ищет встречи, как шутили они, и минут через пятнадцать закончив занятие, она постучала в его кабинет.
— Можно? Доброе утро, — по-латышски сказала она.
— Здравствуй, здравствуй, — ответил шеф также на родном языке.
Ему приятна была и эта серьезная молодая женщина, и то, что они могли общаться на своем языке, и то, что вскоре с ее помощью служба будет располагать хоть какой-то информацией в оккупированной Латвии.
— Знаете, — сказал он, переходя на официальный тон, — начальство согласилось с нашим предложением и решило остановиться на смоленском варианте. И вы будете чувствовать более уверенно, и немцы, удостоверившись в вашей правдивости, придут в восторг от собственной проницательности в случае глубокой проверки легенды, — улыбнулся он.
— Я тоже так думаю, — бесхитростно ответила она, и шеф увидел в ее выразительных глазах удовлетворение, что с нею согласились.
«Слишком серьезна. Чересчур правдивые глаза, все в них читается. Или я преувеличиваю? Мне кажется? — думал Ян в эти минуты. — Не хватает у нее легкости общения, начисто лишена навыков трепа. Это видно мне, станет ясным и им. А почему бы и нет?» — и он залюбовался своей воспитанницей.
Перед ним сидела женщина, которой через две недели надо будет очутиться далеко от этой дачки. Молодая, невысокая, хрупкая, загорелая, с короткой стрижкой темных волос, с вдумчивым, спокойным взглядом, она была готова к этому броску в неизвестность.
«Внутренне готова, — решил Ян, — однако над внешним обликом ей придется подумать. Его надо доработать, даже исказить. Пусть будет крикливой, даже истеричной. Это при намеченной легенде придаст ей естественность, а иначе можно влипнуть. Попробуем порепетировать».
Ольга была для него не просто курсанткой, которую готовили для заброски в тыл. Во-первых, он знал ее с девических лет, когда она жила в Смоленске со своими родителями, а он служил там. Во-вторых, она была его первой кандидатурой, которую он нашел в начавшемся водовороте войны.
Когда его назначили начальником подразделения, отвечающего за подготовку и заброску людей на разведывательную работу в Латвию, то, естественно, начали осваивать методику их поиска и отбора. Решили, что прежде всего следует пересмотреть тех, кто сам добровольно пошел в Красную Армию. В одном из военкоматов его подчиненный наткнулся на знакомую фамилию. Ольга? Где же она? Медсестра, вот что! Но она же училась в техникуме связи. Ей и карты в руки для работы радисткой. Ян знал, что ее родителей, старых большевиков репрессировали, но он сумел доказать, что их дочь, ровесница революции, предана общему делу и что такими кадрами не бросаются. Его рекомендациям вняли, ибо в те июльские дни анкетные подходы начали давать сбой и уступать свои позиции здравомыслию.
Когда Ольгу вызвали на переговоры, то акции Яна, как он выразился, подскочили сразу на несколько пунктов — она произвела впечатление прежде всего своей осознанной ненавистью к фашизму, редким в те первые недели войны качеством в возрасте двадцати пяти лет. Один из коллег Яна позже, после ее отбытия, спросил его, откуда это у нее, ведь товарищ Сталин только-только в своей июльской речи призвал к священной войне против фашистской Германии, а тут, на тебе, молодая девица и ворочает такими категориями. Ян усмехнулся и сказал, что она не такая уж девица, у нее есть муж и ребенок, и что в ее образованности, наверное, повинны ее родители — революционеры с дооктябрьским партийным стажем. Коллега был из тех, с кем Ян мог говорить подобным образом, оба они, участники гражданской войны, имели таких наставников. Вначале, при обсуждении вопроса о мотиве появления Ольги на территории Латвии, ограничились лишь тем, что она возвращается на родную землю, бежит от большевиков, предполагалось дать ей другую фамилию. Однако, поразмыслив, решили, что к такому варианту служба еще не готова. Ведь мыслилось ее проживание на легальном положении, встречи с родней, привлечение их к работе, а это противоречило бы фамилии выдуманной. Конечно, если бы время позволило, то можно было создать из Ольги совершенно другое лицо, найти ей родственные корни, которые бы выдержали проверку. Но времени не было, а информация требовалась, надо было форсировать ее засылку. Толчок дала сама Ольга. Своим кротким, тихим голосом она как-то неярким августовским утром заявила:
— Знаете что, товарищ Ян, пусть мои родители послужат своей власти на этом свете еще раз. Я их дочь, их репрессировали в тридцать седьмом, Смоленск пал 16 июля, вот я и иду в Латвию к родне. И все, — просто заключила она.
Ян согласился, обсудил вариант со своими подчиненными и начальством. Кто-то поморщился, что как это будет выглядеть в политическом плане: дочь репрессированных бежит к немцам и вообще… Но Ян, который не желал ее обидеть и навязывать ей эту мысль сам, но подвел Ольгу к ней, показав тупики иных вариантов, только и ждал такого предложения. Между собой они называли это решение «смоленским вариантом».
Этот ход давал возможность выпутаться, по его мнению, из любой ситуации с точки зрения личной безопасности. Проверят немцы — все сходится: и Смоленск, и родители, и учеба, и дочь, и муж. Но какие преимущества это могло дать для работы, Ян представлял туманно: в Москве еще не знали, честно говоря, режима оккупационных властей, и Ольге предназначалось пробить брешь в этом незнании…
— Значит, согласились? — повторила Ольга. — Когда и как я перейду туда?
— Подожди, подожди, не гони лошадей! Будем гнать — телега перевернется и мы убьемся. Надо все обдумать.
— Я думаю, вы меня перебросите где-то поближе к Латвии, да? — осмелела в своих предположениях Ольга.
— Нет, — помотал головой Ян, — надо, чтобы ты побывала еще раз в Смоленске. Не всегда короткий путь оказывается самым удачным. Пусть тебя в Смоленске кто-то из знакомых увидит. Ты им скажешь, что хотела эвакуироваться в Москву, к дочери, не дошла, по дороге вывихнула ногу, пролежала в деревне почти два месяца, и этим сроком ты закроешь нашу подготовку, вернулась домой, в Смоленск, что делать не знаешь, пойдешь к родне в Латвию. Подходит?
— Логично, а в какой деревне я лежала?
— Вот здесь точности не требуется. Ты же там не была. Просто в деревне, в ста километрах от Смоленска, там от деревни два дома осталось, русские отступили, немцы прошли на восток к Москве. И все. В Смоленске тебя проверят — и все сойдется. Знакомых найди не дураков, чтобы подтвердили твои шатания, а деревню ты не запомнила, тебе не надо же было тогда предполагать, что будешь давать показания господам фашистам, ведь так?
— Да, иначе подозрительно окажется — ах, какая я умная, все помню.
— Если ты в Смоленске не побываешь, у тебя не будет крепкого тыла, — гнул свое Ян. — Твое положение окажется каким-то туманным, верь — не верь. Другое дело — партизаны, они в лесах, они на нелегальном положении, им документы не нужны, а если потребуются, то лишь чтобы отбрехаться от старост или полицаев, которыми немцы напихивают села. И вот что, Ольга. В эти оставшиеся дни давай поработаем над твоим внешним видом и лексиконом.
— Вам что-то не нравится, мой латышский вас не устраивает? — вспыхнула она.
— Подожди, подожди! Язык у тебя нормальный, не твоя вина, что на родном языке ты уже пять лет, когда родителей увезли, не говорила. Это объяснение всегда при тебе, да и экзамены тебе устраивать по языку не будут. Смоленск не Рига, это все поймут. Речь о лексиконе. Ты жертва большевиков, ты бежишь к родне, в Латвию…
— А до этого я бежала в Москву, почему, спросят? — разозлилась Ольга.
— К дочери и мужу двигалась тогда, а сейчас там фронт проходит. Осталась Рига, — отпарировал Ян. — Подходит?
И не дожидаясь ответа, он продолжал в одобряющем, ласковом ключе:
— Тебе надо побольше злости, если хочешь знать, даже какого-то кривляния, гримас на лице, понимаешь, отвращения к нашему строю, боли за родителей и…
— Вы хотите, чтобы я уже здесь сейчас впала в истерику? Вот увижу фашистов, тогда…
— Да нет, не то. Они твои освободители, а ты кипишь недовольством, обидами по отношению к нам.
— Погодите, погодите, товарищ Ян, — скопировала Ольга его манеру разговора, — но не все сразу. Ненависти как таковой я наберусь, успею, посмотрю, что от Смоленска осталось и использую свои чувства как надо в разговорах с ними. Вы что хотите, чтобы я вас сейчас в оборот взяла за своих родителей? Так вы меня отправите не в бой на запад, а в лагерь на восток, — вдруг выкрикнула Ольга.
Ян опешил. Такого замыкания, такого выброса искр, всплеска эмоций он не ожидал. «Так вот она какая! Вулкан в засаде. А что если… А что, если родители перетянут, ведь это может случиться? Теоретически, а? Я ошибся? Ошибаются и не такие деятели. Тогда конец мне. Восток мне светит. Да черт со мной! Идея скомпрометируется. Выходит, если родители там… то детям не верить? Одна несправедливость порождает другую? Но в конце концов у нее муж, ребенок. Нашел! Она же туда идет жизнь отдать за Родину, за Сталина! За родителей, за тебя, за всех нас кабинетных стратегов, за писарей, так сказать». Почему-то в уме проскользнула фраза о том, что писарей и блядей Петр I при построениях распоряжался ставить на левом фланге. В последних рядах. На правом те, кто в бой идут. Она идет в бой, и надежд, что останется живой, мало до ничтожности, до призрачности. То, что сейчас ты мусолишь здесь, на теплой даче — одно, а она там, эта бедная девочка, окажется щепкой в мутном потоке войны, беженцев, оккупантов, в незнакомой Латвии, неизвестном ей образе жизни. Ты толкуешь ей о том, чего сам не знаешь. Если бы увидеть все своими глазами, посмотреть на оккупационные порядки, а потом учить этих мальчишек и девчонок. Завтра же пойду к начальству, пусть дадут возможность мне и подчиненным поехать и подопрашивать пленных, может окажется и кто-то из бывших в Риге. Почему бы и нет?..
— Не надо волноваться, Ольга, — сказал он мягко. — Я к тому, что ты очень серьезна, вдумчива, ты доброволец, ты ненавидишь фашистов, ты кроме советской власти ничего не видела, пела всю жизнь советские песни, понимаешь? Там же тебе надо перевоплотиться. Сыграть роль обиженной, беженки, ограниченной вздорной бабенки, истеричной, в меру истеричной, — поправился он, — с тем чтобы тебе поверили. Вообще-то, тебе с твоими данными надо было идти в партизанский отряд. Придет время — будут они и в Латвии. Там все ясно: врага увидал — действуй, как командир приказал. Здесь же ты будешь одна, по крайней мере первое время…
— Товарищ Ян, — подняла она на него повлажневшие глаза и тронула рукав его пиджака, — вы не волнуйтесь, я выполню все, но не могу же я сейчас, здесь, вот так сразу переделаться в эту самую, как вы выразились, вздорную бабенку! Я же не актриса, — и она, улыбнувшись, напомнила: — Вы же говорили в прошлый раз, что расскажете мне о моих задачах.
Ян вздохнул. То ли это прикосновение его тронуло, то ли ее слова, чтобы он не волновался, то ли по мере приближения срока ее заброски возникла мысль о том, что этот воробушек там навоюет. «Ладно, курс намечен, надо выдерживать направление движения!» Он достал и разложил на столе огромный план Риги с изображенными на нем чуть ли не каждым домом, во всяком случае с ясно видимыми кварталами домов, разместил это бумажное разнолоскутное одеяло так, чтобы на поверхности стола оказался центр города, и принялся объяснять.
— Не будем загадывать многого. Основная твоя задача — благополучно добраться до Риги, обосноваться там на жительство, мы подчеркиваем — на законных, легальных основаниях. Поселишься или у сестры своей двоюродной, или по ее рекомендации у кого-то другого. Но не прячась по углам, а на основе тамошних законов, если надо зарегистрируешься в полиции, короче, как положено. Ты нам потребуешься как жительница Риги, понятно? С подлинными документами, в спокойном месте города, я имею в виду такой район, где нет облав, военных объектов и прочей дребедени, у которых обычно шастают полиция, солдаты, там всегда ворье, за которым следят, около, скажем, мостов, там — охрана, понимаешь? К тебе прибудет наш человек, твой командир, но без настоящих как у тебя документов, и надо избежать риска, чтобы на него сразу не обратила внимания вся эта названная мною шушера, доходит?
В такт отрывистым вопросам своего инструктора Ольга кивала головой, схватывая особенности своей будущей роли. Указания и советы она воспринимала легко, играючи и, если говорить честно, то мало задумывалась над тем, что слушать мудрые выкладки здесь, в Подмосковье, — это одно, а перемножить их на условия центра Остланда, каковым стала столица Латвии, — совсем иное дело! О, если бы она пожила где-то на оккупированной территории, скажем в Польше или в Чехословакии, мало ли где в Европе, засиженной нацистами словно мухами, тогда она отнеслась бы к вроде простым советам товарища Яна не то что с серьезностью, этого у нее хватало, но под углом зрения или жизни, или гибели. А так… так она воспринимала сказанное как заботу, внимание, как… необходимый, в соответствии с расписанием, полезный урок, как воспринимали это многие ее коллеги по учебе на различных дачах с зелеными занавесочками.
— Смотри сюда, — журчал голос инструктора, — представь себе за точку отсчета вот эту фронтальную линию, улицу Бривибас, слева на ней — памятник Свободы, справа от нее пошла перпендикулярно, загибаясь влево, улица Элизабетес, — он показал очерченный на плане район, — вот в этом треугольнике вплоть до Даугавы находились правительственные учреждения, здания бывших посольств, улицы и дома, где проживали богатые семьи, в основном немецкие, — его палец запрыгал, — рядом с памятником Свободы и с университетом — бывшее германское посольство, вот — французское, дальше английское и так до улицы Аусекля, там было посольство США. Видишь?
Ольга кивнула. План Риги она уже изучала как предмет будущей своей деятельности в качестве разведчицы, представление у нее о городе было, но только книжное.
Как бы уловив ее мыль, Ян продолжал:
— Все исходишь собственными ножками, только тогда все поймешь, а сейчас схвати основную мысль. Как мы понимаем, в этом шикарном районе должны разместиться немецкие учреждения: военные, тыловые, гражданские, ну, не знаю, какие еще. Особняки посольств, здания учреждений, все лучшее отойдет или уже отошло оккупантам. Жить тебе в этом районе никак нельзя, ты беженка, таких, как ты, знаешь, — он подыскивал слово, — под колпак брать обязаны. А найти друзей или подружек из тех, кто там в обслуге работает — вот твоя задача или, — он мечтательно посмотрел в потолок, затем обвел пальцем выбранный им район, — устроиться там на работу хоть служанкой, хоть посудомойкой.
— Да не переживайте вы, — сказала Ольга, — обзаведусь я знакомыми в этом аристократическом уголке. Сяду на трамвай, приеду от сестры из Задвинья, войду во двор и давай спрашивать, кто тут из Смоленска, беглые, — развеселилась она. Ян улыбнулся.
— Там повышать голос на улице запрещалось. Полицейские вокруг посольств ходили и следили за тем, чтобы раньше девяти утра посторонние не шатались, а въезжать на эти улицы даже молочнику можно было только с ручной тележкой на резиновых колесах, на лошади — ни в коем случае, — пояснил он.
— Когда наши начнут бомбить порт и причалы на Даугаве — шум появится обязательно, — не сдавалась Ольга. — И резиновые колеса на танках даже не помогут.
— Мечтай, мечтай, это тебе не возбраняется.
— А о чем вы мечтаете? — спросила она.
— О том, чтобы посланные мною люди…
— … залезли в абвер, так зовется это любимое вами родственное учреждение?
Ян кивнул. Согласно курсу подготовки он рассказывал Ольге об учреждениях разведки и контрразведки рейха, их функциональных задачах, но сведения о них, которыми он располагал на сегодня, были скудными. Он не скрывал своего незнания и подчеркивал, что только сейчас такие наши лазутчики, как Ольга, смогут наладить сбор сведений, так необходимых для борьбы с врагом, которая только начинается. Он постоянно учил Ольгу с вниманием относиться к каждому новому знакомству там, куда она направлялась, и сегодня не преминул указать ей на это:
— То, что ты сумеешь познакомиться с обслугой фашистов, я не сомневаюсь. Однако не подходи к этому слишком просто, ибо тот, кто на них работает, делает это уже продолжительное время, имеет доходы, держится за место. Ты должна прежде всего находить тех, кто их ненавидит, как ты, как я, как мы все. Это не просто…
И он долго втолковывал ей о разных трюках, к которым прибегают сотрудники этих служб для проверки интересующих их людей, сознавая при этом, как мелко он сам плавает, несмотря на пять месяцев работы в Латвии перед войной. Да, ему пришлось участвовать в разоблачении пары десятков немецких агентов, но этот опыт был мало пригодным при работе с Ольгой. Он с товарищами имели дело со служащими полиции, офицерами, деятелями правых партий, торговцами, короче — обеспеченными жителями, которые скрывали лишь свои шпионские дела, но никоим образом не беспокоились где и как им жить. Это был их мир, и Ян с коллегами вламывались в него по необходимости и выходили из него с удачей или впустую, по нулям.
Другое дело Ольга, которой придется начать с нуля, постепенно обрасти полезными связями, создать, как учил ее Ян, небольшой плацдарм для приема и устройства других разведчиков.
— Когда ты доберешься до своего дяди в Курземе, — продолжил он очередной раздел инструктажа, — то постарайся получить первичные документы, удостоверяющие личность, там, в сельской местности, это легче будет сделать, чем в Риге, а потом, осмотревшись, двигай к месту назначения. Со связью решим так: через два месяца, скажем, с 10 ноября, по субботам с семи до восьми вечера у кинотеатра «Сплендид Палас» тебя будет ожидать наш человек.
— Как я его узнаю?
— Узнавать будет он. Мы ему покажем твое фото. Если ты почувствуешь, что за тобой следят, иди на встречу в платочке, он поймет и к тебе не подойдет, если ты уверена, что все в порядке, одень берет. Выходи до тех пор, пока не познакомитесь. Ясно?
— Да!
— Он подойдет к тебе с паролем: «Если желаете, могу предложить вам два билета на последний сеанс Моя дама не придет». Ответ: «Только если не в последних рядах — я неважно вижу». После знакомства договоритесь о встрече, исходя из обстановки, где удобнее поговорить. Учти, что человек будет обязательно приезжим, для его проверки спроси потом в разговоре с ним, у какого стадиона он виделся со мной. Если ответит, что у «Динамо», то это мой посланец. Слушайся его. Ясно?
Здесь Ольга впервые за все время отрицательно покачала головой:
— Не понимаю. Если мы с ним паролем обменялись, друг друга признали, то зачем еще один пароль, чтобы все запутать?
Ян недовольно поморщился.
— Для твоей же безопасности, чтобы тебе подстраховаться. Предположим: гонца нашего поймали, выудили у него пароль, отзыв, за них же сразу хватаются, послали на встречу с тобой другого, своего человека. Он, Ольга, все произнесет правильно там, у кино. Он и меня тебе опишет, почему бы и нет? Я был в Риге на официальной работе, кто-то предаст, сломается из тех, кого мы тут готовим, и может выболтать вплоть до описания этой дачи. А вот штришок насчет стадиона промелькнет мимо внимания, при помощи его ты и убедишься, что говорить с подлинным моим посланцем.
— Вы хотите сказать, что кто-то из нас может там, в тылу врага не выдержать и стать предателем, Да. — Ольга смотрела на своего учителя с каким-то ужасом. Глаза ее сузились, лицо стало бледным, и вся она стала похожей на дикого зверя. — Как вы можете сказать такое, товарищ Ян! Ведь я… ведь … мы идем на священную войну, как сказал товарищ Сталин, а вы толкуете о таких грязных вещах!
Ян встал, подошел к ней, погладил рукой по плечу:
— Успокойся, в такой борьбе, с таким противником ко всему надо быть готовым. И лучше я тебя предупрежу об этом, чем ты узнаешь это с риском для жизни на собственной шкуре. К твоему сведению, разведчики чаще всего горят на том, что их выдают, предают, называй как хочешь, собственные друзья, соратники, реже они попадаются на личных оплошностях и еще реже их находят путем розыска. Умный одиночка работает десяток лет, вообще, сколько надо, и никто ничего не распознает. Но стоит против разведчика собрать первичную информацию, выявить способы связи, тут отмобилизуют до последнего соглядатая. Противник все сделает, чтобы разоблачить, сломать его, заставить работать на себя. Вот так…
— Меня им не сломать, — вполголоса сказала Ольга с полными слез глазами.
— Верю. Но я стараюсь, чтобы ты вообще не попала к ним в лапы, чтобы ты чувствовала опасность ловушки на расстоянии. Понимаешь? Мы еще будем говорить об этом с тобой. Две недели у нас в запасе, может, чуть меньше. У тебя есть одно слабое место.
— То, что я не вздорная бабенка, да?
— Нет, — засмеялся он, — у тебя нет опытного командира, с кем ты могла бы посоветоваться там. Тебе нужен советчик — тогда тебе цены не будет.
— А сейчас я что, дура?
— Нет, — покачал он головой, — ты умная, ты кажешься постороннему человеку очень умной, интеллигентной, серьезной, и это, как бы выразиться, входит в противоречие с тем, что ты бежишь в сторону оккупантов, фашистов, разбойников, которые по сути своей лавочники без образования, вообще дерьмо, которые книги сжигали, — как последний аргумент почти выкрикнул он. — Вот за это противоречие я и боюсь.
— Товарищ Ян, как будет, так и будет. Иного варианта пока у нас нет. Вы сами говорите. Я свою роль сыграю до конца…
Они еще говорили долго, обсуждая детали работы Ольги и ее поведения там, в тылу врага.
Чужая среди своих
Горечь потерь и поражений, сплошное невезение на фронтах порождали спешку, принуждали каждого в наркомате решать свои вопросы быстрее, еще быстрее, как можно быстрее.
Начальство нажимало, нервничали до безрассудств, до паники, до явных и скрытых ошибок, как это было ни зазорно вспоминать. Под угрозой смерти находились миллионы жизней, и мало кто верил сводкам, что что-то решалось планомерно и мы были вынуждены отступать на заблаговременно подготовленные рубежи. Уж слишком быстро двигался противник. Очевидцы рассказывали, что 1 июля, утром, в Ригу, на Московский форштадт выскакивали откуда-то красноармейцы в одном исподнем, но с винтовками, спрашивали, не эта ли дорога на Москву, и, получив ответ, бежали дальше. Нам за них стыдно не было. Краснеть за это надо было бы Сталину, но он за это велел расстреливать и, очевидно, был тоже на своем месте прав. Спешка перекатывалась через головы, как морская пена через купающихся.
Надо было за дни и недели доделывать то, чего не делали до войны годами. Невозможно было поднять из небытия тысячи чекистов, которые погибли во время чисток и которые требовались войне, а кто-то должен был их заменить — тайный фронт не закрывался на переучет. На него прибывали разные экземпляры, в том числе и такие, которые мечтали отличиться, и во имя нанесения ударов по врагу и получения актуальных сведений старались буквально вытолкать за линию фронта группы, отряды, а прежде всего забрасывались одиночки, двойки, тройки. Их гибель рассматривалась как героизм, как суровая дань войне, как выковывание алтаря победы, у которого мы затем дружно вытягивали «вечную память». В те дни далекой осени сорок первого мало кто задумывался о том, как часто жертвы бывали и напрасными. Они вели свой отсчет от ошибочных оценок начала войны. Теория о том, что война будет вестись на территории врага, разбилась 22 июня сорок первого года и вновь воскресла через долгие смертельные годы, когда советский солдат вернул оккупированной территории статус родной земли и она, многострадальная, вновь приняла своих хозяев.
А пока шла осень сорок первого. На отданной врагу родной земле царили мрак и туман, и Ян не знал, чем она дышит. Начальство же обязано было знать все, и он, к примеру, должен был ответить, что происходит в этом треклятом Остланде, как нарекли его фашисты. Он же жался, молчал, а его упрекали, что пора, товарищ, раскачаться, а проникновением у вас туда и не пахнет… Что он мог ответить? Надо было создавать позиции заранее? Ах какой умник! Вот что, выжимай из ситуации все, что можешь. На линии фронта в сто раз труднее. Давай, действуй. Да, совершенно верно, соглашался он, надо форсировать заброску людей… При этом чем-то жертвовали, какие-то острые углы стесывали, что-то упрощали. Часть плана о посылке Ольги через Смоленск выкинули: решили — нечего время тратить на лишний круг, это, дескать, плод фантазии, финты сверхконспирации некоторых товарищей. И вообще, кто затеял этот ее поход? Успеет ваша подопечная находиться и по территории Латвии. Легализуется по дороге с Востока, из Даугавпилса, на запад, в Курземе, в городишко Дундага, да? Очень хорошо! А оттуда в Ригу. Прекрасно!
Обошлось это пренебрежение (нарушение одного из законов на войне — закона достоверности деталей легенды, в данном случае — проделанного пути) дорого.
В конце сентября Ольга оказалась под Даугавпилсом. Механизм переброски сработал безукоризненно, и вот она шла по дороге, которая ничем не напоминала войну: ни стрельбой, ни разрушениями, ни колоннами беженцев, в общем ничем. Первые шаги были удачны, напряжение при пересечении линии фронта спало, девушка-разведчица казалась себе храброй. Ко всему еще светило солнышко, было тепло и спокойно. Она думала, вот расскажу товарищу Яну, когда встретимся, об этих первых шагах, не так уж все страшно. После такого удачного начала у нее и в мыслях не было, что больше они не увидятся никогда. Это впечатление спокойствия еще больше усилилось при пересечении какого-то пустыря на окраине города, где ребята гоняли в футбол. Пустырь был как пустырь, и ребята как ребята. Гвалт стоял тоже обычный, довоенный, улыбнулась она. Правда, по одному краю пустыря тянулась колючая проволока, но… война! Без проволоки война не обходится, мелькнула мысль. И здесь же услышала крики родителей, позвавших детей домой: «Янка, Сергей, Арвид, марш домой, хватит, наигрались! Ицек, Абрам, Гришка, сколько повторять надо? Быстро мыться!» Прошло еще несколько минут, пока русоволосые, рыжие, белые, черные головы ребят стали рассыпаться в разные стороны. Только потом Ольга сообразила, что сторон было всего две, а сейчас она видела просто расходящихся детей, с жаром обсуждающих перипетии судя по накалу, последней в их жизни игры, та улыбнулась: сколько таких бескомпромиссных встреч еще будет. Проходя через два дня мимо пустыря, она вновь встретила тех же, как ей показалось, ребят, стоявших понурой кучкой, без мяча. Уже минуя их, она спросила, улыбнувшись:
— Что же вы такие скучные, небось, так вечером набегались, что сегодня без сил?
— Да нет, — ответил один, — мяча-то нет.
В его голосе было столько необъяснимой печали, что Ольга заинтересовалась и остановилась.
— Что так? Сходить за ним лень?
— Вы, верно, нездешняя? — спросил другой мальчишка.
— Да, я недавно здесь, — ответила она, — и что из этого?
— Ребят, у которых мяч, вчера увезли. Мы их ждем, а их все нет, — сказал самый маленький.
— Кто увез? — не поняла Ольга.
— Вот там, за проволокой, дома, видите? — спросил старший.
— Да.
— Там жили евреи, там гетто. Вы Не знаете, что такое гетто? Евреев там готовят к смерти. Их увезли. Так мама сказала. А мы их ждем, ведь ребят отпустят, тетя?
Улыбка сошла с лица Ольги, она посерела под цвет грязнопесчаного пустыря.
— Ах вот что, — воскликнула она, отшатнувшись от проволоки, разделившей уже мертвое от еще живого. В этот момент она осязаемо прикоснулась к одной из самых страшных тайн войны. Нет, ей, конечно, было известно о преследовании евреев в Европе, но вот чтобы так, сразу, через пустырь, мяч, мальчишек узнать об этом? Неделю тому назад она жила на уютной даче под Москвой. Всего неделю. Теперь же стоит рядом с гетто, вот они, пустые дома, за проволокой. Последнее, что пришло в голову — среди этих ребят ни одного черненького. Ни одной черной головки. Наставления товарища Яна: «Обходи дальше охраняемые противником объекты, не селись рядом с ними…» Но все это было на третий день, а в тот вечер, немножко поплутав, но сориентировавшись по церкви, она нашла нужный адрес и негромко постучала в дверь. Ей открыла женщина средних лет, по описанию, вроде, похожая… «Координатами, — как выразился Ян, — гостеприимного дома я тебя снабжу, но ни звука обо мне, о твоем задании. Не надо ее пугать. От этого ничего не изменится. Это наша пролетарская тетка, она в подполье в буржуазное время участвовала. Она безотказная, добрая, беженке должна помочь», — заключил инструктор. Он дал Ольге еще два подобных адреса, но велел прежде всего идти по первому. Имя женщины Ян назвал, ее звали Антония, но сказал, что приказал по имени к ней не обращаться. Пояснил, что в доме она одна, примет, так примет, если нет — уйдешь. Спросишь по имени, то естественно — откуда узнала? Что ответить? Сказали рядом в доме или какие-то друзья? Легко проверить. Что-то еще врать? Заврешься. Если тетка жива, то поживи с недельку и двигай в Дундагу, так условились в Москве.
— Беженка? — после «Ну, здравствуй» спросила тетка.
— Да, — смело ответила Ольга.
— Все на тебе, других вещей нет?
— Нет.
— Я вас сразу отличаю, пять человек у меня здесь ночлег имели, ты шестая будешь. Верно соседи, жлобы, мать их так, ко мне отправили, знают добрые католики мой характер.
Ольга несмело кивнула, ничего не ответив, обрадовавшись, что инициатива разговора и источник идеи обращения в именно этот дом принадлежит хозяйке.
— Из России бежишь, стало быть? Давай, иди мойся, покажу тебе где. Потом покормлю, — распорядилась она.
За едой Антония расспросила Ольгу. Та рассказала, что идет от Смоленска к дядьке в Дундагу, что больше идти некуда.
— Ты латышка или русская? — спросила Антония.
— Вообще-то латышка, но всю жизнь жила в России.
— Да это без разницы, что наш конец Латвии, что Белоруссия, раньше эти земли Витебской губернией звались. И что ты думаешь делать?
— Отдохну у вас дня три, если не прогоните, и пойду дальше.
— Да я не гоню тебя. Поживи, наберись силенок, — и женщины, встретившиеся как было угодно войне, говорили долго о том, как жилось до нее, проклятой.
В последующие три дня Ольга походила немного по городу, дошла до того пустыря, посмотрела на немецких солдат, которых встречала нечасто, на местных полицейских, наводнявших временами городские улицы, орущих, распоряжающихся, вошедших во вкус власти, мчавшихся куда-то на грузовиках, рассмотрела, где находится гебитскомиссариат. Идти за документами она должна была, когда прибудет к дядьке: только он мог подтвердить, что она есть она.
За день до намеченного ею по времени отъезда, где-то после полудня, в дверь постучали.
— Сейчас, сейчас, — крикнула Антония и побежала открывать. Послышались радостные возгласы.
— Альфред!
— Антония, пламенный привет!
— Ты откуда?
— Из столицы, приехал посмотреть, как вы тут живете при новых порядках. Ты не одна?
Затем Ольга уловила, что в коридоре зашептались, и в комнату вошел мужчина на вид лет тридцати пяти, стройный, прилично одетый, при галстуке, в очках, со слегка помятым лицом, редкими волосами, с быстрым взглядом. За ним шла сияющая Антония.
— Знакомьтесь, — сказала она.
— Альфред.
— Ольга.
Сели. Мужчина, спросив разрешение, закурил. Ольга поняла, что он здесь свой человек, и это ее приободрило.
— Как вы там, в Риге, как мама? — начала расспросы Антония.
— Ничего, держимся, осваиваем их новый порядок, — вторично помянул он эти слова и усмехнулся, — жаль, эвакуироваться не вышло, мама болела, не поднять мне было всего старого дома, пришлось остаться, — горестно вздохнул он.
— Да, — протянула Антония, — я и не собиралась уезжать, кому я оставлю дом, хозяйство? Да и кому я там нужна?
Помолчали.
— Ну а как там наши, ты встречал кого?
— Вижусь кое с кем, ты понимаешь, что только первые месяцы прошли, все растерялись, да и… — опасливо посмотрев на Ольгу, он замолчал. Уловив его взгляд и паузу, Ольга поднялась, чтобы выйти, но Антония одернула ее.
— Сиди, сиди, послезавтра уйдешь, — и пояснила гостю. — Ольга беженка, идет из Смоленска в Курземе, в Дундагу, к дядьке, а потом в Ригу, думает там устроиться на житье и работу.
— Ах вот оно что, — протянул Альфред. — Вы русская?
— Нет, я латышка, но всю жизнь в России прожила, в Смоленске в основном.
— Я пойду на стол накрою, — сказала Антония, — потом поговорим, ладно? Слушайте, давайте пельмени соорудим, праздник себе устроим. Ты, Альфред, их всегда уважал, а?
Альфред обрадовался.
— Давай, тетка, втроем сейчас штук двести намотаем.
— Вы из Риги? — несмело задала, наверное, первый свой вопрос Ольга на чужой ей земле.
— Да, — ответил тот, — контора, где я служу, занимается лесом, мебельными делами, вот объезжал свои владения первый раз с начала всей этой катавасии. Служба есть служба, торговать надо, начиная с раннего утра, так говорит мой хозяин, — пошутил гость. — А вы, стало быть, из смоленских латышей, мы здесь слышали, как-никак близкие соседи, что их там и не осталось, так ли это?
— Мало осталось, кого вывезли в Сибирь, кто уже спит вечным сном, — ответила Ольга.
— Да, да, — кивал головой гость, — и не боитесь идти через весь этот ужас? Опасно же, — посмотрел он на нее вопросительно.
— Конечно, — согласилась она, — но встречаются хорошие люди, вот Антония, так мне помогла. Мне некуда идти, просто некуда. И решила дойти до дядьки, не так уж и далеко.
— Мир не без добрый людей, — согласился Альфред, — но все-таки в такой путь решиться пойти — надо быть храброй, могли и в Смоленске или в Белоруссии остаться или нет? — гнул свое гость.
— Но у меня там никого не осталось, а здесь все же дядька и его дочь, моя двоюродная сестра в Риге живет.
— Вы их раньше не видели? — спросил Альфред.
— Нет.
— Знаете что, я дам вам свои координаты в Риге, будет нужда, позвоните, — и он, порывшись в кармане, достал свою визитную карточку, что-то дописал на ней и протянул Ольге. — Возьмите, может пригодится. Друзья Антонии — мои друзья. Я дописал свой домашний адрес и телефон, — сказал он и поднялся навстречу Антонии, входившей в комнату.
— Пошли к столу катать пельмени, хорошо, тесто у меня со вчерашнего вечера готово и мясо в норме, — позвала она.
Ольга вначале сказала, что не голодна, посидит заштопает скатерть хозяйке, но под напором Антонии согласилась.
Еда удалась на славу, даже настойку типа зубровки пропустили по рюмочке. Все пришли в хорошее настроение.
В тот же вечер гость хозяйки позвонил своему приятелю в Ригу.
— Ну как ты там? — послышался знакомый голос.
— Закончил объезд владений, звоню из Динабурга, — доложил тот.
— Ого, по-немецки заговорил, не выпил ли лишнего?
— Лишнего не выпил, зубровку пробовал, не отказался, Антония поднесла. Слушай, вернусь, расскажу, многих встретил, отношение хорошее, даже удивился.
— Вот видишь, я же говорил, а ты крутился как флюгер на крыше: то давление, то понос.
— Ладно, я не об этом. Одно срочное дело. Здесь сегодня встретил дамочку, идет из Смоленска в Курземе, потом в Ригу. Что-то не то, своих далеких родственников здесь никогда не видела, но…
— Ну мало ли что бывает, особенно в эти дни, — перебил рижский приятель.
— Поверь моему нюху, ты слышишь? Она из тех смоленских латышей, непонятно, что ей в голову взбрело идти в Латвию, а если ее послали?
— Ах ты вот о чем!
— А ты думал, я невесту ищу? К твоим коллегам здесь я не пойду, светиться не хочу, они тут пьяные на карачках ползают. Ну их. Адрес Антонии у тебя есть. Приметы девицы я тебе даю. Пусть возьмут на выходе из города, чтобы не поджигать мои позиции. Да?
— Все понятно, хорошо, диктуй.
Альфред продиктовал приметы Ольги, и друзья распрощались.
Ольга в это же время, перемыв посуду, выучила наизусть данные владельца визитки: Альфред Зарс. Мебель. Фирма Свикиса, телефоны, домашний адрес. Тренировки по зазубриванию помогли. Мало ли что, найдут у нее лишнее, пострадает хороший человек. Так ее учили. Да и из намеков раскрасневшейся Антонии она поняла, что Альфред не просто знакомый, что в разных делах приходилось участвовать раньше… Ольга не выспрашивала в каких. Пояснив, что нечего носить лишнее с собой, она оставила карточку у Антонии.
Через день, утром, распрощавшись с Антонией при выходе из дома, она не обратила внимание на мужика с точильным инструментом, стоявшего неподалеку. Тот, увидев ее, поднял вверх здоровый нож и попробовал на заскорузлый ноготь лезвие. Болтающийся рядом парнишка в кепке пошел следом. Минут через десять ее остановил патруль фельджандармерии. Проверка документов. Ее задержали. Последовал арест и долгие восемь месяцев в тюрьме Двинска, по-латышски Даугавпилса, или по-немецки Динабурга, как звали его раньше и теперь немцы.
Восемь месяцев в тюрьме — это страшно. Вначале она ждала, что ее вот-вот выпустят. Ничего плохого она никому не сделала. Вдвойне страшно в тюрьме было от того, что ты на чужой территории, в окружении людей совершенно незнакомых по прежнему образу жизни, с которыми не знаешь о чем говорить. К такому повороту событий она, если откровенно, готова не была. Как спастись?
Повторять все время, что ты беженка и проклинать Советы, от которых ты бежишь? Да, это надо говорить беспрестанно, пусть те, кто рядом, если их спросят о тебе, подтвердят твой рассказ. Делиться с незнакомыми о своей жизни в России, в Москве, в Смоленске? Что рассказывать? О светлом, о дочке, муже, друзьях, школе, техникуме — не будешь, нельзя: чего же ты от них бежишь? В Смоленске хоть что-то осталось от той, лучшей, как она считала, половины жизни, но как совместить это с бегством оттуда? Надо все чернить, долдонить изо дня в день: как увезли родителей, как они погибли, как в ней росла ненависть, которая со временем и толкнула ее на прежнюю родину родителей, и вот на тебе — меня арестовали, держат в тюрьме, вот она ваша свобода от большевиков!
О, как трудно было все это играть, играть не на теплой сцене два часа спектакля перед зрителями, а в тюрьме — восемь месяцев перед тюремщиками с ключами и наручниками. Дергать за свои собственные нервы как за струны и фальшивить что есть мочи. Но только в этом было спасение, только так могла она остаться полезной сталинскому делу. Она помнила о прочитанном с десяток лет тому назад очерке Горького о легендарном Камо, революционере, который притворился психически больным, будучи арестованным в Берлине, и играл эту роль так, что ему поверили лучшие немецкие психиатры, однако что не помешало выдать его полиции Николая II. Он симулировал сумасшествие в Берлине и Тифлисе в течение двух с лишним лет, а потом бежал из тифлисской больницы.
Прошли октябрь, ноябрь… Она лишь горестно вздыхала, вспоминала пароль для контакта с посланцем оттуда, с другом, представляла, как тот приходил к симпатичному фасаду шикарного кинотеатра и безуспешно ожидал ее, Ольгу. Как там он, ее инструктор? Верно, терзается. На связь не вышла…
Яну было тоскливо. Даже в самых мрачных прогнозах не мог он предвидеть, что все так, не начавшись, оборвется. Провалится куда-то в пропасть, в пустоту, не успев материализоваться.
Где, в каком месте произошел провал? Он ходил черный, осунувшийся, клял себя за поверхностную подготовку Ольги, за свое малодушие при изменении в последний момент легенды, за поспешность при засылке, за все. Он отлично понимал подтекст замечаний, что следует направлять на работу в тыл врага людей с чистыми биографиями, исключающими возможность предательства. Он знал свою воспитанницу лучше других и здесь, в Москве, не допускал мысли о малодушии с ее стороны. Но там, в тех условиях? Всякое могло случиться, приходило в голову. Он отбрасывал эти мысли, а они лезли. Но надо было готовить других людей, и он работал. В метаниях молодой неопытный разведчицы там, в тюрьме, в головах ее инструкторов здесь, в Москве, отсутствовало, пожалуй, одно и то же — представление о противнике как о профессионально хладнокровном наемном снайпере по человеческим судьбам, а не только как о хитром, коварном, вероломном, как учили Ольгу, или глупом, как изображали его в кинофильмах, на плакатах и в карикатурах.
Легенда Ольги была не из лучших, она испытывала это на собственной шкуре. Ей не верили. Вначале ее допрашивали весьма часто, она гнула свою линию, затем наступил перерыв, очевидно, все, что она рассказывала, проверялось. В начале декабря ее привезли из тюрьмы в весьма приличное здание, где в одном из кабинетов восседал за столом какой-то деятель в штатском костюме с безукоризненным пробором, внимательным взглядом и неторопливой манерой разговора. Он попросил ее рассказать о себе. Она повторила вновь все ту же свою историю бегства. Как ей казалось, он слушал вполуха, но стал детально расспрашивать ее о техникуме связи, где она училась. Спрашивал о преподавателях, соучениках, предметах, которые там изучались.
Дверь в соседнюю комнату была приоткрыта, и оттуда все время слышалась работа коротковолнового приемника. Очевидно, кто-то сидел там и крутил ручку настройки. Ольге даже показалось, что она услышала голос Левитана. Это ее страшно обрадовало, она поняла, что Москва живет, что немцы на допросах врали, говоря о конце столицы и Ленинграда. Ольга приободрилась, чуть размякла и вдруг вздрогнула: она услышала дробный звук сигналов азбуки Морзе, которыми наполнился эфир.
— Знакомое дело? — бросил небрежно допрашивающий ее чиновник.
— Что? — спросила Ольга.
— Азбука, — кивнул он в сторону соседней комнаты.
— Не понимаю, — сказала Ольга.
— Не переигрывайте, — небрежно заметил он, — раз учились в техникуме связи, то должны знать это дело и отрицать это глупо. Раз отрицаете, то, значит, что-то скрываете. Доходит? Значит, ошибаетесь. О-ши-ба-е-тесь, — произнес он по слогам. — Ладно, — он сделал паузу, — проверим еще раз всю вашу подноготную. Проверим и весь ваш техникум. Учились ли вы на связистку там или, может быть, еще кое-где. Вот так. Сейчас вас отвезут в камеру, если что надумаете, то сообщите нам, — и он поднялся, подчеркнув этим окончание допроса.
— Что я должна сообщать? Я сижу уже не знаю сколько за то, что побежала из России в Латвию, собственно говоря, за переселение на территории Великой Германии, ведь так? Два месяца в тюрьме и за что, господин офицер, — Ольга распалилась, вспомнив уроки Яна о вздорной бабенке. — Куда же мне надо было бежать, к большевикам, на земле которых погибли мои родные? Так бы и говорили сразу, что по территории Остланда жертвам большевизма и его жителям передвигаться нельзя…
Офицер позвал конвоира, и Ольгу увели. Ей пришлось пробыть в тюрьме еще полгода…
Возвратясь в Ригу и рассказав Вистубе об Ольге, Пуриньш, а это он допрашивал ее, закончил свое сообщение следующими словами:
— Возможно, что я ошибаюсь и что она действительно лишь беженка. Возможно. Однако логики такого ее похода я не усматриваю. Как вам сказать, она очень интеллигентна для типа просто беженок, и потом эта мгновенная реакция на передачу Морзе.
— Это вы ловко придумали с азбукой. Все, что вы говорите, интересно, но бездоказательно. Судьба родителей говорит в ее пользу. По-моему, вы поспешили. Новые обязанности накладывают на вас свой отпечаток. Не следовало ее хватать вот так, сразу. Вы хотите возразить? Зарс? А что Зарс? Он все правильно сделал, сообщил вовремя. Жалко, меня не было на месте, я бы не пошел на ее арест. Пришла бы в Ригу, координаты милейшего Альфреда у нее были, и она посетила бы его. Разве не так? Эта самая Антония тоже могла что-то подсказать о ее родне. Мы что, не нашли бы ее в Дундаге? Это деревня! Ладно, Александр, не стоит эта дамочка стольких разговоров. Решаем так, проверьте все еще раз. Подтвердится — выпускайте. В Риге она будет под колпаком, сестру двоюродную она назвала, Альфред на месте.
— Я согласен, что она не стоит разговоров, если она никто, а если да? — обиженно сказал Пуриньш.
— Для того чтобы сказать «да», следовало за ней следить, а не хватать на площади, — уже с раздражением сказал Вистуба. — И хватит о ней. У абвера и политической полиции мозги разнятся от рождения. Учтите этот нюанс.
Пуриньш замолчал и поспешил откланяться. Черт бы побрал всю эту историю! Она явно не прибавила ему лавров в абвере. И все из-за спешки и неорганизованности. Холера их возьми! Вистуба был в отъезде, Пуриньш сунулся к Либеншитцу, тот сморщился — подумаешь, мелочь какая-то, беженка, и отфутболил его в четвертый отдел, в гестапо к Тейдеманису, начальнику латышского отдела СД, куда Пуриньша определили на службу заместителем этого дурака Тео, как звали Тейдеманиса в своем кругу.
Пуриньш по приезде в Ригу испытал двоякое чувство к своим новым хозяевам. С одной стороны, в плане материальном, жить можно было и накопить кое-что тоже, особенно при решении еврейских дел. Но абвер не захотел или не мог принимать его на работу непосредственно к себе, а посодействовал устройству в СД, откуда ему следовало о всем существенном докладывать Вистубе и Либеншитцу. Оба немца были опытными контрразведчиками, это Пуриньш понял, начиная с гамбургского знакомства, и они решили в его лице создать свой опорный пункт в конкурирующем ведомстве. Когда он заикнулся, что хотел бы поработать именно в их конторе, то Вистуба сказал, что, мол во-первых, вы не имеете офицерского чина германской армии, и мы не можем взять вас сразу на работу в «Абверштелле Остланд», во-вторых, можем вас послать во фронтовую группу абвера, хотите? Не хотите! В-третьих, нам нужен свой человек в латышском отделе СД и тем самым в гестапо. Вы идеальная фигура на этот пост и будете приносить нам огромную пользу. Пойдете? Пуриньш согласился. Опыта ему было не занимать. И вот, первая осечка. Надо же так поспешить. Да ладно, черт с ним, с Тео, который только и знал: берем, арестовываем, выбиваем показания, к этому сводилось все его умение. Надо было выждать, прав Вистуба, никуда она не делась бы. Да, думал Пуриньш, у абвера больше опыта работы на оккупированных территориях, надо прислушиваться к ним и не спешить. Что, я не подберу к ней ключей здесь, в Риге? Не потребуется Альфред, найдем другого, найдем двух Альфредов! Так он рассуждал сам с собой, идя домой, где его уже ждала Магда, посоветовавшись с которой, Либеншитц и отправил Александра на работу в СД…
Ольга была далека от всех этих передвижек на карьерной доске вокруг ее персоны. Новый год она встретила в камере. Дни тянулись тусклые и похожие один на другой, как семечки из кулька. От своего бессилия в создавшейся ситуации она ночами плакала. Ей было страшно от лязга всех этих железных дверей, от топота по бесконечным лестницам и коридорам, криков истязуемых. Было обидно попасться, не успев ничего сделать. Затем в ее голове все большее место стала занимать мысль, что все они проверили, все сказанное ею подтвердилось, но они тянут время в надежде на ошибку с ее стороны — проговорится на допросах или в камере сочувствующим теткам или бравым девахам, кричащим, как их обидели полицаи, забравшись рукой между ног и вытащив оттуда сахар. Она научилась различать этот сорт людей по тому, как они сразу замолкали, когда говорить начинала она, думая услышать исповедальные мотивы. Она должна была прожить месяц, два, пять, сколько надо без права на ошибку. Ольга не отбрасывала и такой мысли, что кто-то, думали немцы, будет ею интересоваться из-за стен тюрьмы, а они тогда потянут за ниточку. Ей это, с горечью и одновременно с радостью думала она, не грозило. Она — одиночка, и этим все сказано. Она думала о своем провале. Много думала и поняла, что, конечно, ее легенда была слабой, но разве она была в ответе за такой поворот? В тюрьме встречались беженки, которых ветер войны сорвал с насиженных мест и гнал по дорогам, как осенние листья, но никто из них не сидел так долго, как она. Что было делать? Только повторять как молитву: да, я жила в Смоленске, моих родителей большевики арестовали, о их судьбе я ничего не знаю, бежала оттуда в Латвию, без документов, вы меня задержали. Кто может подтвердить? Мой дядька, сестра двоюродная. У кого жила здесь, в Двинске? Имя знаю, фамилию не знаю, пробыла то у этой женщины три с половиной дня.
Антонию она не подозревала: тетка вся на виду, да и раньше у нее останавливались люди. Выдавать кого, беженцев? Какой смысл? Они потом ей окна разобьют. Этот ее гость? Но что он мог узнать из двадцатиминутного разговора? И потом — он же старый друг Антонии, а та, по словам Яна, человек надежный. Голова ото всего шла кругом. Вероятно, просто случай: проверка документов, их отсутствие, неубедительность беженских россказней. И почему в Ригу через Дундагу? Зачем вообще было упоминать Ригу? Остановилась бы на Дундаге и точка, осмотрелась, получила документы и тогда пошла в Ригу. Тихо все получилось бы. А сейчас сколько шума наделала! Даже если освободят, то известят же они Ригу, придешь туда и, здрасте вам, тамошние политические сразу тебя вычислят, из тюрьмы гостья! Эх!
Ольгу выпустили в последней декаде июня, и она, выйдя из ворот тюрьмы, почувствовала такую опустошенность, такое одиночество, тоску и жалость к самой себе, что, прислонившись к какой-то стене, горько заплакала. Такие сцены здесь были не в новинку, к ним привыкли, и люди обходили ее, отворачивая лица. Война! У всех горе. В кармане была справка об освобождении из тюрьмы, хоть какой, но документ, подумалось ей. Она вытерла слезы. К Антонии решила вначале не идти, мало ли что. Потом подумала: у меня же нет никого, чего бояться? На какие шиши я доберусь до дядьки? И она направилась к уже знакомому дому. Антония остолбенела, увидев ее.
— Как, опять ты? Назад, в Смоленск идешь? Удивление хозяйки было столь неподдельным, что Ольга отбросила мысль о вмешательстве Антонии в ее судьбу.
— Да нет, я в тюрьме все это время пробыла.
— Как в тюрьме? Где? — не поняла та.
— Здесь, у вас в городе, — и она, всхлипывая от горя и унижения, поведала о случившемся. Антония плакала вместе с ней.
— Надо же, сволочи. В тот день они облаву страшную проводили, я помню. Но чтобы восемь месяцев тебя продержать! Их всех взорвать надо, — распалилась хозяйка. — О беженцах они всегда расспрашивают, но мне и в голову не пришло, что рядом ты, здесь, в тюрьме.
Присев на диван в знакомой малюсенькой гостиной, Ольга поведала о своих злоключениях. Антония, слушая ее, лишь вытирала глаза и сочувственно кивала. На предложение пожить у нее Ольга решительно отказалась. Она боялась, причем панически, этого ставшего для нее проклятием города.
— Если можете, дайте мне взаймы денег на билет до Елгавы и дальше до Стенде, а там и Дундага близко.
Антония тут же открыла тумбочку и дала несколько бумажек.
— А что это за деньги? — спросила Ольга.
— Марки, дочка, марки. Ты что, их не видела?
— Как же не видела, у меня прошлый раз было немного, а в тюрьме все исчезло. Я пришлю вам, вы не беспокойтесь.
— Ладно, ладно, пришлешь — хорошо, не пришлешь — не умру от бедности. Поешь и отдохни, а потом поедешь. Поезд так и так утром. И вот что, возьми визитную карточку Альфреда, может, он тебе в Риге поможет.
Через день Ольга сидела с дядей на скамеечке около его дома. Она с наслаждением расслабила натруженные при ходьбе ноги, вдыхала вечерний свежий воздух и слушала соловьиные трели. Ей не хотелось ни говорить, ни отвечать, ничего не делать, только вот посидеть в этом мирном уголке, далеком от войны и тюрьмы.
Первым нарушил молчание дядя Карл.
— Эх, Ольга, Ольга, взяла ты на себя ношу такую, что сломает она тебя. Посмотри, на кого ты похожа, сущий скелет, и мне до конца правды не говоришь.
— Знаешь, дядя, чем меньше знаешь, тем легче отвечать.
— Знаю, седьмой десяток на свете живу. Слышал.
— Я тебя встретила, и так все легко стало, а то все одна была, — и Ольга обняла дядю, — в камере могла только к трубе так прижаться.
— Сколько же отсидела ты в Даугавпилсе?
— Считай, с октября, сейчас июнь на исходе — восемь месяцев.
— Были у меня деятели ихние, спрашивали об отце твоем, о тебе.
— А ты что?
— Что я? Правду сказал, что брат из России уже пять как не пишет, что с ним случилось не знаю, что жили вы в Смоленске, что была у брата дочь, ты, значит. Видеть тебя не видел, но знаю звать Ольгой. Фотографию твою показал, что отец раньше присылал, и все. Что еще мне говорить?
— Когда они были?
— Считай, после годовщины вашей 7 ноября, Дней через десять.
— Все верно, дядя. Все ты правильно сделал, — сказала Ольга, думая, что к Новому году они уже все проверили.
— Что с отцом, с матерью?
— Не знаю, дядя, увезли их и многих их друзей, живы или нет — не знаю! Дочь моя осталась там.
— У тебя и дочь есть?
— Да, чего удивляешься?
— Ничего не понимаю. Родителей твоих, выходит, ваша власть наказала, хотя и боролись они за нее еще с царских времен, ты бредешь из Смоленска, а дочь-то где, ты ее там бросила? Сама в тюрьме сидишь. Где же дочка?
— Вот и проговорилась. Ты умный человек, дядя Карл. Им в Даугавпилсе я о дочери упомянула, а ты помалкивай. Это козырь против меня. Им сказала — потерялся ребенок, вряд ли жив. В надежных руках дочь моя.
— В Смоленске?
— Ну что ты, чтобы я ребенка бросила!
— В Москве?
— Около того, — засмеялась Ольга.
— Значит, ты оттуда заслана, вот оно что, — подвел итог дядя, — я так и подумал, когда эти приходили.
— Что подумал?
— Что ты дочь своих родителей, не можешь не встрять в какую-нибудь историю.
Ольга посмеивалась, давно ей не было так хорошо.
— Под Москвой немцам морду хорошо набили, — вдруг сказал дядя и заулыбался впервые за вечер. — Такие важные они ходят, такие господа. Здесь их почти и не было, а в Вентспилсе и Лиепае полно. И видеть их не хочу, на нас, местных, смотрят как на скотов. Сейчас опять они бьют русских на юге где-то.
— Где именно?
— Что я знаю? Радио нет, говорят, лупят они ваших в Крыму, у Севастополя, еще где-то, у Харькова, что-ли.
— Так за кого ты, дядя, за немцев или за русских, или как?
— Я сам за себя. Мне никто не нужен. Все обещают мужикам лучшую жизнь, а разве делают? Вон русские пришли, мне лично стало легче жить, а через год их немцы вышибли с треском. Чего им было лезть, раз против немцев продержаться не могли?
— Но ведь война неожиданно началась, немцы вероломно на нас напали, — пробовала возразить Ольга.
— Не знаю, как для вас началась, а у нас мужики говорили, что Гитлер до Сталина доберется, не быть им рядом. Один другого сожрет.
— Подавится, — сказала Ольга.
— Ты о ком?
— О Гитлере. Раз его бить начали, то получит он свое.
— Ты вот мне скажи, почему Сталин с Гитлером какой-то там договор подписали?
— Договор о ненападении они подписали. Гитлер силен, англичане и французы тоже с ним договоры подписали, его все боялись, да все бумажками оказалось. Но нас ему не одолеть — подавится, — повторила она.
— Посмотрим, посмотрим. Пока я только вижу русских пленных кругом.
— Много их?
— Не считал, но хватает. У нас в уезде у хозяев работают, в Лиепае в лагере сидят. Там они отважно дрались, но немцы их поколотили. Организованы они очень, немцы, не то что русские или наши латыши, разгильдяи.
Ольга засмеялась.
— Чего смеешься?
— Так ты за кого? Ругаешь русских и говоришь, что хорошо они немцам рожу набили.
— Я за тебя, за свою жизнь, за людей. Для нас, бедняков, арендаторов, жизнь только началась в сороковом году. Землю дали, хозяевами стали себя чувствовать, а теперь хозяин тот, кто форму нацепил и бегает, как легавая собака, на всех лает и кусает.
— Они тебя допекли, что ли?
— А ты как думаешь? Брат — красный, я, стало быть, на худой конец — розовый. О тебе велели сообщать, когда вломились прошлый раз. Моим соседям велено за мной следить. В прошлом году, когда вся эта сволота повылазила из своих щелей, все эти айзсарги, полицаи, страшно стало. Хватали всех: и партийных, и комсомольцев, и активистов, и евреев, и цыган. Господи, что делается, не люди — звери теперь правят…
— Терпи, дядя, будет опять власть нашей, рабоче-крестьянской. А о моем приходе доложи, обо всем, но только кроме дочки, понятно.
— Не глухой, не слепой, — проворчал он.
Про себя Ольга думала, что ходит, как в цирке по канату: если родители были бы живы, они обязательно послали бы фото внучки Карлу, а он по простоте душевной показал бы немцам. Если же те дознаются о ней, докажу, что умерла она, нет ее. Такое о родном ребенке! Но делать нечего, иначе разоблачат — от детей такие, как я, не бегают. Мысли путались.
— Послушай, — спросила она, — Вероника по-прежнему в Риге работает?
— Да, на фабрике, деревня ей всегда не по душе была.
— Что ты ворчишь, дядька, все тебе не так. Ну где здесь работать?
— На земле всем работа есть, и потом здесь воздух чистый, вокруг никого — свобода: хочешь — кричи, хочешь — голой ходи, никому дела нет.
— Голому кричать на свежем воздухе в одиночестве — это хорошо, — засмеялась она, — но если свободных голых много соберется, то не будет ни одиночества, ни свободы, одни голые зады останутся… и вся сволота, сам говорил, из щелей повылазила, где уж тут свободе быть?
— Ладно, ладно, не издевайся! Поживи здесь, отдохни, не спеши в Ригу, раз восемь месяцев отбухала, то и девятый прихвати, ничего не изменится.
— Что ты, дядя, не могу, на эти восемь месяцев я уже опоздала. Это же двести сорок дней я бездельем занималась, а другие в это время… жизни свои молодые несли в этот огонь. Задолжала я порядком за эти месяцы.
— Успеешь еще, — гнул свое дядя. — Я в твои дела не лезу, но посмотри, на кого ты похожа, ты же на скелет похожа: кожа да кости, да глазища еще, ты подозрительной кажешься, — привел он последний аргумент, — тебя сразу заберут опять.
— У меня справка есть, что я своя, исключительно тюремная дама, абсолютно близкий для них человек, — пошутила Ольга. — Пойдем в дом, я опять есть захотела…
Рига. Шталаг-350
Через три дня Ольга отправилась в Ригу. Вероника встретила ее с некоторой опаской: сестры увиделись впервые в жизни, в детстве они обменялись парой писем, а здесь еще расспросы об Ольге в полиции, куда вызывали Веронику. Было от чего потерять покой в недавнем прошлом скромной деревенской девушке, устроившейся в Риге на фабрику.
При рассказе Ольги о ее походе, Веронику мучил один вопрос: почему сестра не осталась у отца в деревне? Ведь здесь, у меня в квартирке попросту тесно, думала она про себя. Ольга и ее инструктор в Москве предвидели этот естественный вопрос, и вслух Ольга как могла напирала на работу, которую только здесь и можно получить, не пойдет же она в деревне в батрачки. Положение выравнивал муж Вероники — Густав, блондин высоченного роста, работавший на одной с женой текстильной фабрике наладчиком станков. Как все большие люди, он был медлителен, оттого что, очевидно, все здоровяки с сорок шестым размером обуви вначале всегда примериваются, как им не задеть притолоку или шкаф с посудой. Он воспринял приход Ольги с присущим ему добродушием, ее тюремная эпопея вызвала у него жалость и желание как-то помочь этой девочке с советской стороны, попавшей в незавидную ситуацию. Тем более, что ею уже интересовались сыщики из полиции, которых Густав не переносил даже в бане, где они, снимая форму, дико гоготали, чтобы как-то выделяться на голом фоне. Вслух он повел линию на то, что вначале пусть 3 Ольга поживет здесь, а не понравится, то подберем что-нибудь иное.
Вероника на эту удочку попалась и стала возражать, как это может не понравиться, дескать, мы сестры, не к чужим же идти и снимать комнату. Очевидно, Густав хорошо усвоил, что его женой импульсивно двигает дух противоречия, и он рассеял ее колебания предложением от противного.
Утром 1 июля Густав пришел с рынка и, застав сестер спящими, стал тормошить их.
— Эй, вставайте, — скомандовал он, — сегодня большой праздник.
— Что ты мелешь? — подала голос Вероника.
— Праздник? — не поняла Ольга.
— Ровно год тому назад нас освободили, так что радуйтесь, поднимайтесь. У меня предложение — поехать в центр, посмотреть на победителей, поприветствуем их, — веселился Густав.
— Болтун, — сказала Вероника.
— Я не поеду. Без документов? Боюсь, — заявила Ольга.
— Брось дрейфить, — ободрил ее Густав, — сегодня они будут хрюкать от самодовольства как нажравшиеся свиньи. В торжественные дни все эти тыловые гниды расцветают, как лилии. До вечера будут орать песни в свою честь, хвастаться, как Ригу освободили.
Вероника поддержала мужа, и Ольга сдалась.
И вот они стояли в числе других зевак на улице, носящей имя Германа Геринга, и смотрели на кучку военных чинов, обходивших выстроившиеся шеренги солдат.
— Слушай, — тихо спросила Ольга, едва дотянувшись до уха высоченного Густава, — как раньше эта улица называлась?
— Кришьяна Валдемара. А что?
— Да так, мне все интересно, ведь первый раз здесь очутилась, а все по-немецки зовется. А что это за здание красивое?
— Академия художеств, во всяком случае до них, — кивнул он на немецких чинов, — там находилась.
«Ого, — подумала Ольга, — на девятом месяце вышла в направлении интересов товарища Яна. Какая я молодец! — и с симпатией посмотрела на Густава, вытащившего ее с Вероникой на представление.
— Густав, — спросила она, — кто эти генералы?
— Этих двоих теперь и в газетах, и в кинохронике постоянно показывают, других не знаю. Тот, что слева, в очках, толстая сука — почти тихо проговорил он и вовремя поправился, — полный — это рейхскомиссар Остланда Лозе, а в середине с лампасами на штанах — Келлер, генерал-полковник, командующий 16-й армией, наступавшей на Латвию, он теперь главный над всеми войсками в Остланде. Знаешь, что это за словечко?
— Знаю, дядька просвятил, — сказала она. Ольга во все глаза рассматривала немцев, проходивших маленькой кучкой мимо толпы с одной стороны, и выстроившихся солдат — с другой. Они были затянуты в красивые мундиры, на головах гордо несли фуражки с высокими тульями, их руки облегали перчатки. Сапоги, пряжки отливали блеском. Бонзы были торжественны, взирали на солдат с высоты своих чинов, их лица излучали надменность и недосягаемость победителей. Ей вспомнился фильм «Александр Невский», жестокий облик псов-рыцарей в громадных шлемах.
— Хорошо, посмотрели, пойдем погуляем. Хочешь? — прогудел на ухо Густав.
— Дойдем до Даугавы, ты же еще ничего не видела.
Они покружили по центру города, и Ольга вдруг широко открыла глаза. Перед ней был лепной фасад кинотеатра «Сплендид Палас», который она сразу узнала. Подумала, что теперь ходить сюда нечего. Рядом слышался бас Густава, что-то каламбурящего. Вероника прижималась к ней и старалась ее расшевелить. Постепенно облики виденных ею бонз стали как-то растворяться, она с удивлением рассматривала красивые дома на одной из улочек, куда привел ее Густав: львов с вытянутыми хвостами на доме, барельефы женских лиц на фасадах, сфинксов у подъезда, балкончики с причудливой лепниной, то вытянутые в эллипс, то круглые, как иллюминаторы, то узкие, как вертикальные бойницы, окна. Дома, как пояснила Вероника, занимала знать, квартиры в них состояли из десяти и более комнат. Ольга недоверчиво качала головой. Потом до нее дошло, что она идет по району, о котором толковал товарищ Ян.
— Послушай, как называется эта улица, — вдруг что-то подтолкнуло ее спросить минут через двадцать медленной ходьбы.
— Эта? — переспросил Густав. — Немцы называют ее Кайзердарза, а мы — улица Аусеклиса.
— Все он знает, — сказала Вероника.
«Добралась до цели, — мелькнула мысль у Ольги. — Как все просто, если не считать восьми месяцев остановки в вонючей тюрьме».
Около некоторых домов на этой улице, куда заходили и выходили редкие в этот праздничный день военные, шагали часовые.
— Пошли отсюда к реке, — сказала Ольга, — подышим свежим воздухом. И она потянула спутников из этого средоточия чиновничьего люда. Ей вспоминались уроки Яна, а тут еще тюремная справка в кармане.
Вечером за ужином Густав вдруг спросил:
— Помнишь ту улочку со львами и сфинксами?
— Еще бы не помнить, я такую красоту впервые в жизни видела, — ответила Ольга.
— На ней дом, в котором политическая полиция размещалась, — продолжил он.
— Густав, — сказала Ольга, — почему ты сразу не сказал? Мне не нужно сейчас там ходить. Если за мной следят, всякое могут подумать.
— Брось ты, следят. Кому ты нужна в такой день? Я тебе не сказал тогда, чтобы ты не пугалась, — извиняющимся голосом добавил он. — И полиция была там в буржуазное время. Из этого здания то ли выбросился сам, то ли выбросили Фрициса Гайлиса, комсомольца. Я его знал немного. Вот и все, что я хотел сказать.
Ольга с симпатией посмотрела на него.
— Полиция на той улице, верно, потому, чтобы охранять район богатеев, — простодушно добавила Вероника. — Так что не пугайся.
Ольга отходила от насыщенного событиями дня. После тюрьмы столько впечатлений сразу. Глаза ее искрились радостным блеском — наконец-то она, чужая, оказалась среди своих.
У каждого свои заботы
Сорок второй год начался для немцев с продолжения панихиды по разгрому у стен Москвы. Чего-чего, но такого фиаско после разбойничьих нападений, захватов чужих земель, беспроигрышной серии войн они не ожидали. Надо было спешно искать виновников поражения после пятимесячного движения вперед, после победных реляций и неуемных восторгов по поводу силы германского оружия. Надо было изобразить крах под Москвой как простую осечку — мол, запнулись о какую-то кочку, но ничего, скоро двинемся дальше. Виновниками Гитлер объявил на паритетных началах своих генералов и русскую зиму, дескать, невозможно было предусмотреть недальновидность со стороны первых и суровость второй. Генералов поменяли, зима прошла, но на Москву немцы вторично, вот так, в лоб, не полезли. Очевидно, дело было в другом — в стойкости русских солдат и офицеров, которые, находясь в крайне невыгодных условиях внезапности нападения на них и собственной неподготовленности, дрались ожесточенно на каждом рубеже, отступали, гибли, попадали в окружение, не сдавались, сражались и погибали. У немцев просто не осталось сил для финишного рывка на столицу…
…Канарис выехал на фронт в инспекционную поездку в сопровождении Пиккенброка и Бентивеньи сразу после своего дня рождения. Ему исполнилось пятьдесят пять лет, он был полон сил, энергии, предприимчивости, и от него многого ожидали. Начальство абвера двинулось прежде всего в столицу Остланда, Ригу, где провело многочисленные рабочие встречи и совещания с руководителями фронтовых абверкоманд армейской группы «Норд», застрявшей у Ленинграда. Канарис выслушал претензии командующего группой «Норд» генерал-фельдмаршала фон Лееба, который поведал ему, что армейская разведка в большом долгу, ибо он сам получает крайне мизерную информацию о положении в Ленинграде, что он не может вечно сидеть на голодном пайке, не владея знаниями о противнике. Канарис его отлично понимал: в январе готовилось очередное немецкое наступление на Ленинград, и в ставке Гитлера строили в связи с этим большие политические планы, ибо взятые города хотя бы в какой-то мере компенсировали провал под Москвой. Под вопросом находилась и личная репутация самого Лееба, опытного военачальника, который был старше адмирала на целых десять лет и который великолепно сознавал, что успех в наступлении — это его последний шанс остаться на плаву. Казалось, что отрезанный ото всех путей, кроме Ладожского озера, израненный, осажденный город должен был бы пасть перед мощной группировкой Лееба. Однако его войска, по выражению фюрера, топтались и топтались — подумать только — с июля месяца и безрезультатно! Для Канариса эта оценка фон Лееба не была новостью, ему было жаль старика, и он был рад помочь всем, чем мог: агентурой, диверсиями, получением новых сведений о положении в войсках, обороняющих Ленинград, о смертности от обстрелов, голода и эпидемий. Информация поступала, полная ли, скудная ли, она имелась в распоряжении Лееба и его штаба, абвер трудился вовсю. Но беда была в том, что не она имела решающее значение, не она определяла ход сражений на русско-германском фронте. Вступали в права обстоятельства, неподвластные разведке. Они были выше разведывательных сил — стойкость русской пехоты.
Когда вермахт оккупировал отторгнутую от Чехословакии Судетскую область, что делал, кстати, Лееб во главе 12-й армии; когда вермахт ставил на колени Францию, где Лееб командовал уже группой армий «Центр», своевременные разведданные были одним из компонентов военного успеха, куда еще входили: военное преимущество, политическая разобщенность противников фюрера, деморализованность войск врага, отсутствие у них тыла и некоторые другие вещи, разложенные разведкой по полочкам. Здесь же, в Ленинграде, а чуть раньше под Москвой, выявился такой компонент, как нереальность преодоления стойкости русских войск. Несмотря на все их потери.
«Разведка в таком случае, — думал Канарис, — превращалась уже в какую-то часть декораций на арене военных действий — она им лишь сопутствовала, но ничего не решала».
Как и ожидал Канарис, январское наступление на Ленинград окончилось безуспешно, город опять выстоял. Лееба сменили и уволили в отставку.
Будучи в Риге, Канарис детально ознакомился с оперативной обстановкой в Остланде. Либеншитц и аппарат «Абверштелле» только успевали снабжать шефа запрашиваемыми им сведениями. Канарис был поражен тем, что здесь, на его взгляд, в единственном настоящем европейском центре красных, где советская власть просуществовала всего лишь один год, где, казалось бы, должны быть тишина и покой, наличествовало такое сопротивление, что было непонятно, откуда оно бралось! Когда ему доложили, что в Латвии с начала оккупации уже расстреляно три тысячи патриотов, семь тысяч находятся в тюрьмах этой маленькой провинции и из них три тысячи политзаключенных — в тюрьмах Риги, он вопросительно посмотрел на Либеншитца. Тот пожал плечами и развел руками, мол, что поделать.
— Я не призываю вас, полковник, бегать за каждым из этих сумасшедших сопротивленцев, в конце концов, это не наше дело. Пусть Пфифрадер и Ланге ими занимаются. Однако битва за Ленинград продолжается, равно как и в отношении Москвы мы не сказали последнего слова. Но вот когда они начнут рвать коммуникации рейха с вермахтом прямо здесь, в Остланде, и мы начнем нести потери от их мин на вашей территории, будет плохо, полковник.
— Понимаю, экселенц, но никто из нас не ожидал, что все эти враждебные рейху элементы разовьют такую активность именно здесь, казалось бы в далекой от большевизма стране…
— Расстояния сместились. Я сам в смятении чувств. Этот край, к сожалению, был столько лет в составе России и только после Первой мировой войны приобрел статус самостоятельности немногим больше, чем на двадцать лет. Что вы хотите? За два десятка лет ликвидировать все их традиционные связи с Россией?
Канарис задумался. Потом ладонью постучал по пачке весьма тощих досье, лежавших перед ним на столе.
— Для задуманной вами комбинации из этих никто не подходит. Используйте их на местном рынке. Здесь их поле деятельности. Нам нужно нечто совершенно иное. Европейская близость, знание языка… Записывайте, записывайте, полковник! Через месяц я вернусь сюда, посмотрим, что вы сумеете предложить…
Через два месяца, в марте, Канарис, будучи вновь в Риге, утвердил план «Нарцисс», правда, пока без реальных исполнителей главных ролей, которых еще предстояло найти.
…Ольга шла по улице походкой чуть усталого и не освободившегося еще из-под влияния рабочего дня человека, также как шагали с ней рядом с фабрики десятки людей. Была глубокая осень, середина октября, и все так непохоже на это время года в России. Как обычно, в такую пору здесь донимала влажность — этот непременный антураж морского побережья. Она заставляла дрожать больше, чем суровый снежный морозец. Прошедшие полгода Ольга вела тихий, незаметный образ жизни: дом, работа и наоборот. После тюрьмы и всего пережитого требовалось уйти в тень, отсидеться, приучить наблюдавших за ней к ее обычному распорядку, а в том, что они должны были находиться рядом, она не сомневалась. Ей надо было вжиться в незнакомую среду, найти полезных друзей. И надо: было подыскать другую работу, с более свободным; режимом дня и с меньшим людским окружением. На фабрике не поговоришь с чужим человеком, его туда попросту не пустят, от станка не оторвешься, раньше положенного часа не уйдешь. Сейчас она шла на встречу с Кириллычем, на ту самую злополучную улицу Аусекля, на которую ее так внезапно в июле, можно сказать, вытолкнул Густав. Он же снабдил ее этим адресом, объяснив, что там живет та самая Тамара, в квартире которой можно спокойно поговорить с Кириллычем и хорошенько познакомиться с самой хозяйкой.
Войдя со стороны порта и Даугавы около так называемого Царского парка, Ольга проверилась на пустынной площади последний раз и вышла на нужную улицу. Никто за ней не шел. Она неторопливо подошла к дому 10/12, поднялась по лестнице и позвонила в квартиру № 17. Ей открыла Тамара.
Ольга увидела ее второй раз. Первый — мельком, они встретились у ворот порта, когда Густав проводил ее к Кириллычу, несшему охрану пленных, а от того отошла «та самая», как выяснилось, Тамара. Теперь все стало на свои места, как понимала ситуацию Ольга.
— Снимайте пальто, заходите, — приветливо пригласила Тамара.
Ольга вошла. Поздоровались. Обезоруживающе улыбнувшись, Кириллыч сказал:
— Располагайтесь, будем знакомиться, а то прошлый раз, когда Густав вас ко мне повел и вы увидели меня с оружием, что-то в вас дрогнуло, в лице изменились даже.
— Я не ожидала такой встречи. Густав все твердил — пленный, пленный, а тут, на тебе — охранник. Я их боюсь, охранников.
— Да, Густав рассказал, что тебе пришлось пережить. Страшное дело, — произнесла Тамара задумчиво и слегка дотронулась до волос Ольги, передавая этим жестом свое сочувствие.
Ольга поблагодарила взглядом и уже освоившись спросила:
— Скажите, а что на вас за форма, первый раз такую встречаю.
— Это одеяние, как нас нарекли, «Украинского национального батальона», мундиры будто бы остались от австрийской армии, нафталином отдают точно, — Кириллыч опять улыбнулся, теперь уже извиняюще, затем объяснил: — Надо же было выбираться как-то из этого паршивого лагеря. Немцы создали батальон в апреле этого года…
— А зачем он им нужен? — спросила Ольга.
— По идее для того, чтобы выделить нужных им людей из массы пленных, расслоить, разделить и заставить одних стать надсмотрщиками за другими. Одним словом — полицаями. Но ни в каких акциях мы не участвуем, — поспешно добавил он.
— Вы понимаете, вначале выпустили из лагеря красноармейцев-латышей, дескать местных, их большевики оболванили. В апреле — украинцев, кто хочет идти в батальон. Мы даем самостоятельность Украине от русского порабощения, как дали Латвии. Понимаете? Русских они хотят изолировать, а потом и для них что-нибудь придумают. Но какой я украинец? Мать моя с Украины, мозги я им запудрил и вылез из этой ямы. А что делать?
— Другие, выходит, остались в яме, — задумчиво сказала Ольга.
— Да, остались, им надо помогать всем, чем можно, — он испытывающе посмотрел на обеих женщин. — Вы, сидя в тюрьме, тоже стремились из нее хоть выскочить, хоть выползти. Так?
Ольга кивнула.
— Все мы в плену, каждый по-своему. Земля — наша, квартира — моя, а кругом все чужое, все им принадлежит, — подала голос Тамара.
Ольга опять кивнула, вздохнула и улыбнулась. Мысленно она благодарила Густава за то, что свел ее с хорошими людьми.
— У нас много хороших ребят. Я тебя, — перешел на ты Кириллыч, — с ними познакомлю. Рагозин Иван, Зинченко Федя, Серега-минер, Шелест Петя, Мартыненко Леша, у него свадьба намечается, Соломатин, тот еще в лагере сидит… — Кириллыч по своей доброте был готов и дальше перечислять своих друзей. Ольга засмеялась:
— Хватит, хватит! И кто же командует вашим батальоном? — задала она свой первый, пожалуй, разведывательный вопрос после заброски во вражеский тыл.
— Незабываемая фигура, — рассмеялся Кириллыч, — капитан по фамилии Хендрих и по имени Чарлз…
— Чем он так примечателен? — поинтересовалась Ольга.
— Филон — каких мало. Лавочник. Он из Гамбурга. Они в основном все из Гамбурга…
— Кто они? — не поняла Ольга.
— Руководство лагеря. Комендант Зульцбергер, начальник отделения абвера капитан Вагнер, наш принц Чарлз, как мы его зовем, и другие паразиты. Понимаете, они формировали лагерь, как мы поняли, еще до войны, в Гамбурге. У них все продумано. Все они друг друга знают, жили на соседних улицах. Торгаши великие, и здесь одной компанией держатся.
— Собирали клетки в своем Гамбурге, куда нас посадить, — отрезала Ольга.
— Вот-вот, — бросила Тамара и затем зло добавила: — Их самих бы посадить в эти клетки, пусть попрыгают. Пойду, чай приготовлю.
— Скажи, Кириллыч, разве в лагере абвер тоже есть?
— Ого! Ты уловила это слово, вот как… — протянул он и уважительно посмотрел на Ольгу. — Мы-то пока узнали, что к чему, — пуд соли съели. Хорошо, старик Дьяконов у нас есть, он знает немецкий, разбирается в их службах, его они на поворотах обойти не могут, хотя и пытаются.
— А кто он?
— Военврач первого ранга. Его у нас зовут «из лап смерти выводящий». Большой ум, великий человек. Не доходит, почему? Об этой мышеловке-плене никто не думал. И вдруг она раз и захлопнулась. Для меня на двадцатый день войны, в июле, под Ленинградом. Я израненный, контуженный и в плену. Сам врач, а ничем себе помочь не могу. И таких нас сотни, тысячи. Ко всему нас готовили: к подвигам, к стройкам, к походам на Север, к автопробегам по Средней Азии, а тут, на тебе — плен, фашисты, овчарки, тиф, смерть. Ужас! Дьяконов нас спас. Он из стада, каким мы оказались, заставил вернуться к людскому обличью. Дошло? — она кивнула, спросила: «Он партийный?»
— Ты, как Вагнер, — засмеялся Кириллыч. — Тот все выясняет. Ольга, об этом здесь не спрашивают. Комиссаров и большевиков съедают первыми. Я же тебя не спрашиваю, где ты узнала название службы Вагнера. Люди здесь ценятся по делам, а не по словам, и тем более вопросам, — Кириллыч стал серьезным.
— Извини, я не хотела любопытствовать, но просто узнать о надежном человеке. Это так редко здесь встречаешь. Густав очень рекомендовал с тобой и с Тамарой поближе сойтись.
— Все правильно, — подала голос из кухни Тамара. — Ваш Вагнер, этот худой, рыжий, в очках, да? И еще переводчик, такой толстый? Они ходят в один из домов в начале нашей улицы, — и она внесла чай. — Здесь их, военных, вообще полно.
Глаза Ольги ожили, заблестели. Наконец она стала слышать что-то близкое к так подробно разработанному заданию, которое не удалось выполнить.
— Слушай, Тамара, что с нашим вопросом? — подал голос Кириллыч.
— К кому вести? Ой, не знаю. Надо узнавать, ничегошеньки я еще не сделала. Это мы о пленных. Ребята бегут по одному, по два, надо их поселять на квартирах, где им можно тайком пожить, — пояснила она Ольге.
— Ты тоже собираешься? — спросила Кириллыча Ольга.
— Конечно. И я, и много друзей. Кто как устраивается: одни совсем на нелегальное проживание уходят, другие из нашего батальона женятся, тогда официально у жен могут жить. Главное — вырваться.
— А потом? — спросила Ольга.
— В партизаны, — лаконично ответил Кириллыч. — На восток, поближе к белорусам. Там воюют. Только не сейчас. Зима на носу. Куда бежать — знать надо.
— А здесь? — быстро спросила Ольга.
— Здесь? Сложно, Ольга, но возможно. Девочки, мне в казарму бежать надо. Пока, пока, — заторопился Кириллыч, — еще встретимся, поговорим. Он быстро одел шинель и перед уходом сказал Ольге: — Лучше переночуй здесь. А если пойдешь, то не через центр, дуй вдоль речки к мосту.
— Ясно, будет сделано, — вспомнила Ольга уроки своего инструктора.
Женщины заговорились до самого вечера. Тамара рассказала, что есть хорошее место на овощной базе, недалеко от лагеря, можно Ольге попробовать устроиться туда.
— Было бы здорово, — загорелась Ольга.
— Подожди, вот вернется мой муженек, он в отъезде, договоримся.
— А ты замужем?
— Да. Живем вместе уже год. Замужем. Только в церкви не были, — и Тамара стала нахваливать своего мужа. Правда, она промолчала, что ее муж, Шабас Иван, крепко связан с патриотами, обретающимися в Лудзенском узде, где проживали его старики.
На следующее утро Густав и Вероника на работе отчитали Ольгу — как это она не предупредила их о том, что останется у Тамары ночевать. Та отбивалась, как могла, и лишь твердила:
— Хороший ты, Густав. С такими людьми познакомил!
Густав же продолжал ворчать: из-за отсутствия Ольги он не выспался. От этих упреков и заботы, в них звучащих, на душе у Ольги стало покойно: кому-то она нужна. Это было особенное чувство. Одиночество прошедшего года уходило прочь.
В этот вечер выхода Ольги в свет, как окрестил его Густав, в двадцати минутах ходьбы от дома, где жила Тамара, в проходном дворе дома на углу улиц Кришьяна Барона и Парковой стояли двое. Они жались от влажного ветра, курили. Один из них худой, с близко поставленными черными глазами, в очках, с единственными в своем роде растопыренными ушами, которые могли играть роль вешалки для шляпы, в длинном кожаном пальто, говорил другому, стройному блондину с выразительными серыми глазами:
— Видишь тот дом на противоположной стороне Парковой?
— Дом как дом, — пожал блондин плечами, — только пока мы тут стоим, солдаты туда-сюда шныряют.
— Правильно, — оценив наблюдательность собеседника, сказал ушастый, — это не просто дом, это публичный дом. Такой кот, как ты, сможет там разжиться. Только не зарывайся. Будешь жить там. Временно. Вот тебе записка к мадам Бергман, хозяйке. Рекомендация не от меня, от верного человека. Меня не впутывай, а то засыплешься. Она тебя поселит в мансарде, в комнатке. Все договорено. Я живу в этом доме, — он показал на тыльную сторону здания, выходящую на улицу Кришьяна Барона, — вот черный ход. Видишь? Лестница крутая, не бегай, а то ноги сломаешь. Окна на четвертом этаже, вот те, запомнил? Как увидишь зажженную лампу на окне, она из твоей мансарды видна будет, то сразу иди ко мне, восьмая квартира. Мои телефоны тебе известны, если срочно — звони. Наших встреч на этом пятачке никто не засечет. Никто. Даже твои шефы при всем их желании. Вагнер и Вистуба нам только о твоей конспирации и твердили. Не подведи. Заруби на носу, что мы тебя селим в здании веселого заведения не для того, чтобы ты там путался с девочками, а потому, что здесь проще, не надо формальностей, прописки. Надо будет — и друзей сюда приведешь: вот, мол, сам нашел комнатенку, могу здесь снять опостылевшую форму, отдохнуть, по городу походить вольным образом. Все ясно?
Во время тирады ушастого блондин дисциплинированно кивал головой. Ситуация прояснялась и в целом ему все нравилось. Да еще в качестве приложения такой дом! Другие попасть в него всю жизнь не могут, а он жить рядом с такими ценностями будет. Вот так плен! Мечта!
— И последнее, — вновь заурчал ушастый, — адреса тебе известны, все их вроде Пуриньш тебе в голову вдолбил. Публика там — исключительно местные русские, беглые и полубеглые твои сородичи по лагерю. Будь моя воля — завтра бы их всех забрал, но раз твои шефы затевают что-то умное, то не мелькай то тут, то там, объектов будем выбирать вместе. Хозяева квартир — это наше дело. И меня кое с кем сведешь, понял?
— Слушаюсь, господин лейтенант.
— Забудь эти слова, дурак. Я же не называю тебя унтер-офицером.
— Извините, господин Мухамед.
— Вот так то лучше, Граф, — и он с ударением тихо повторил, — граф. Идите, граф, вас ждут великие дела. Не забудь, квартира мадам Бергман на втором этаже, — бросил он и скрылся за дверью черной лестницы.
Человек с этим странным для латышей и русских именем, а его полное имя было Нурмухамед, служил в латышском отделе СД у Тейдеманиса и Пуриньша. Он окончил, живя с детства в Риге, французский лицей, в сороковом году учился в Латвийском университете. Ему исполнилось двадцать два года. Сослуживцы характеризовали его как изворотливого, ловкого, способного проникнуть в любую среду. Арестованные патриоты называли его жестоким и не знающим пощады. Он владел одинаково хорошо латышским, русским, немецким, французским языками. Происходил из богатой семьи. В принадлежащем ему кафе продавались исключительно свежие булочки, пирожные, критерием их первозданности являлось то, что на утро второго дня они, будучи нераспроданными, шли за полцены, а затем вовсе изымались. Это было прекрасной рекламой и привлекало посетителей. Еще здесь продавали халву, пастилу, тянучки, все — на восточный лад. Здесь можно было выпить кофе, в том числе по-турецки, по-арабски, как изволите. Нурмухамед, наряду с упомянутыми языками, владел еще и турецким, своим родным, равно как и его папа — почетный консул Турции господин Эрис, фамилию которого носил его ушастый сын.
Расставшись с блондином, молодой Эрис поднялся в квартиру и сразу сел за телефон.
— Халло, шеф, — позвонил он Пуриньшу, — все в порядке: Граф отправлен на постой. Боюсь только, чтобы он там не свихнулся — столько соблазнов и все голые.
Пуриньш засмеялся.
— Ладно, черт с ним, — ответил он, — если где-то и похвастается — не беда, значит, оборотистый парень, создаст о себе впечатление как о гуляке, далеком от политики. Это нам на руку, подозрений меньше — хлыщ, бабник, да и только, а это не политик. На таких внимание не обращают. Вы лучше скажите, что отец пишет, приедет?
— Не думаю, вряд ли. После ареста красными брата отец надломился, никого не хочет видеть, все дела на меня переложил.
— Не понимаю, как вы оставили брата здесь, такое время неспокойное было!? Благоразумные люди все тогда вылезли из неспокойно качавшегося парома под названием «Латвия».
— Что теперь говорить, глупость была сделана. Будем надеяться на лучшее. Но я им отомщу за брата, пусть их вешают на каждом дереве Бикерниекского леса.
— Ну вешать не вешать, но расстреливать их там будем, пока всю эту красную мразь не изведем. А насчет брата успокойте отца, ссыльных они не трогают, все обойдется. И еще вот что, Графа держите в руках. Как только провернем более важные дела, всех хозяев квартир — под гребешок, острижем и все подполье, и все надполье наголо.
— Я так и понял, шеф. Как вы смотрите, если подбросить в группу «Кольцо» шапирограф? Так и так московское радио они слушают, новости обсуждают. Дадим технику — начнут готовить листовки с новостями, а это готовые доказательства. Прихватим с гарантией. Кандидаты для леса, а?
— На лесную прогулку за одни листовки потянут вряд ли, а в Освенцим на выживание, пожалуй. Да, вот еще что, дорогой Эрис, как там дела с кандидатами, что я просил? — поинтересовался Пуриньш, имея в виду задание от Либеншитца по какому-то «Нарциссу».
— Работаю, шеф, но вы же знаете, сколько требований выставлено. Никак все вместе не сложить, одно исключает другое. Я доложу при встрече свои соображения.
— Хорошо, друг мой. На службу ходить пока избегайте, встретимся дома или у меня, или у вас. До свидания.
— Всего хорошего, шеф.
Пуриньш в свою очередь созвонился с Зарсом.
— Привет, старый греховодник!
— Добрый вечер, босс.
— Твои рекомендации пошли в дело.
— Вы насчет чего?
— Заведения мадам Бергман.
— Ах это, — протянул Зарс, — пустяки.
— Я знаю, что это не шахматная загвоздка. Дело не в сложности. Если она тебя спросит насчет твоего приятеля, то прикрой его, что да, мол, отличный малый, а лучше всего не посещай заведение пока он там живет. Понял?
— Хитро же вы! Вначале дай записку для устройства, всего лишь. А теперь самому не пойти. В накладе остался опять я. Знал бы, то не дал, устраивайте сами.
— Ладно, не обижайся, дольше проживешь. Пойми, в этой ситуации нам невыгодно было идти туда с просьбами от лица службы. Не тот вариант. Вот что, послушай, та Ольга, помнишь, тебя не разыскивала, не звонила? Я помню, ты всучил ей свои координаты.
— Какая Ольга?
— Даугавпилсскую историю забыл?
— Ничего я не забыл. Вы то о бордельных делах, то о подпольных. Все перепуталось.
— Положим, постельных подруг ты мне не назовешь и я не спрашиваю.
— Да ладно. Тех, кого надо называть столько было, что стараюсь не держать в голове, лучше выбросить их из памяти. Сплю спокойнее. Помню все отлично. Всего год прошел. Что, объявилась она, что ли?
— Прошла по одной компании, пока в довольно нейтральной ситуации. Знаешь как — сегодня небо ясное, завтра тучи набегут. Если она к тебе прискачет, ты уж постарайся, не забудь.
— Босс, неужели мне со всякой мелочью надо возиться? Ей богу… У вас такие сети, что, вон, только она мелькнула — уже засекли и отбили депешу. Есть же там, значит, свои телеграфисты.
— Ты мне не указывай, что мне делать, а что нет, — взъерепенился Пуриньш, — без тебя советников хватает. Я тебе не говорю — беги неизвестно куда и неси неизвестно что. Придет — хорошо, не забудь, вот я тебе и напомнил. Эти их группы плодятся, как грибы после дождя. Овцы они все, наивные до глупости, всем и всему верят, но когда овец много, то они же всю траву сожрут. А ты — мелочи! — и Пуриньш еще раз взорвался: — Прекрати свое дурацкое — босс. Ты что, уже к союзникам примериваешься? Пока, — зло заключил он и бросил трубку не дождавшись, что Зарс попрощается.
— Еще одного хама воспитывал, — обернулся он к вошедшей с улицы Магде, услышавшей его резкую концовку разговора.
— Кто это был?
— Неважно кто. Так, из старых добрых друзей.
— Знаешь, друзьями не разбрасываются, да еще добрыми. Кстати, у меня в салоне сегодня была госпожа Свикис, приглашала на субботний вечер. Пойдем?
— Сходим, конечно, если опять что-нибудь на голову не свалится.
И они стали мирно ужинать.
В субботу, придя в конце рабочего дня в казарму, Кириллыч нашел, как обычно, Дьяконова в его закутке и поделился с ним о знакомстве с Ольгой. Свои впечатления он обобщил двумя словами: «Отличная девушка».
— Возможно, — согласился Дьяконов, — только ты старайся как-то без эмоций оценивать людей. Вероятно, ты прав, — повторил он, — тюремные ее скитания, что подтвердил Густав, лучшее доказательство. Только не упускай из виду, что слишком часто я видел в этом паршивом лагере, как привозят партию и в ней тип с отъевшейся харей начинает рассказывать, как он сидел в карцере за попытки к побегу, но вот почему его везут за такие дела сюда, а не в Саласпилс, я не понимаю. Если мы с тобой в чем-то провинимся здесь, то нас милейшие Вагнер или Хендрик быстренько спровадят туда. Улавливаешь? Поэтому избегай телячьих восторгов. Конечно, женщина — это другое дело. Ты говоришь, она знала слово абвер? Н-да, — протянул он привычно, — этому можно только научить. В ее родном Смоленске вывесок с таким словом до войны не было видно. Пока держись за нее, за Густава, за Тамару, может, кривая и тебя выведет в люди, — и он потрепал по плечу Кириллыча. Затем еле слышно, одними губами зашептал: — В этой трубе, смотри, кирпич вытаскивается, — и он тронул рукой один из них, у двери печки, — на дворе доскажу.
Они вышли.
Дьяконов продолжил тихо:
— Там банка, в ней мною составленные списки, кто здесь погиб, кто служит немцам. Начал я вести и бежавших. Пока передать некому. Если меня отсюда вынесут ногами вперед или переведут, то продолжи, а сбежишь, то передай нашим. Они должны знать правду — сколько, кто, чего здесь стоил.
Собеседники замолчали. Кириллыч сжал предплечье Дьяконова в знак согласия.
— Да, сейчас все мы в безызвестном отсутствии. Кто там знает, что здесь происходит. Одним словом — отверженные, — промолвил Кириллыч.
— Ну-ну, Гюго ты мой. Жану Вальжану на каторге было посложнее, чем тебе. Ты вон в форме, да с ружьем, да к девушкам в гости ходишь. Он же с каторги вышел, а его свое же общество не приняло, отторгло как прокаженного.
— У меня в партии танкист появился, новенький…
— Это с обожженной рукой?
— Да.
— Сволочи, ему же лечиться надо, а не в порту надрываться.
— Надо. Но я его приспособил ящики считать! Так вот, он рассказал, что сам видел на параде в Москве в прошлом году, как товарищ Сталин на трибуне стоял.
— А ты что, не знал? И раньше ребята рассказывали.
— Да нет. Понимаете, он видел сам, своими глазами, а я не видел и вряд ли увижу. Выберемся ли мы отсюда?
— Увидишь, увидишь, Кириллыч. Будешь умницей, уши не развесишь — выскочишь.
— Вот вы, профессор…
— Опять ты за свое. Ну какой я тебе профессор? — поморщился Дьяконов.
— Это просто в виде уважения. Для меня вы учитель, профессор жизненных дел. И вообще, в институте перед профессорами я преклонялся.
— И раболепствовал?
— Нет, такого не было, — серьезно ответил Кириллыч, — я всегда завидовал знаниям людей, с которыми жизнь сводила.
— Это хорошо. Значит, сам расти, интеллигентом будешь.
— В лагере им станешь, как же!
— Да, и здесь, если ты духовно не деградировал, то твой интеллект будет расти в объеме. Ты будешь больше знать, лучше оценивать окружение, люди перестанут быть для тебя загадкой. Обрати внимание на революционеров, сидевших в тюрьмах. Все они выходили оттуда с большим запасом знаний.
— Да, все это так, но лучше тюрьму обходить по соседним улицам и растить интеллект на свободе. Я все понимаю, — заторопился Кириллыч, увидя, что Дьяконов сделал нетерпеливый жест, что, дескать, разговор о другом.
— Не передергивай, — сказал свое любимое изречение Дьяконов, — я к тому, что сохранить здесь порядочность — это и есть неподдельная интеллигентность.
— Вот вы говорите, профессор, о духовности. Се верно. И равно упрекаете в поспешности при знакомствах, хотя бы с Ольгой, Тамарой, с Рагозиным, с Петруней. Но ведь души наши молодые тянутся друг к другу. Все мы кончали одни школы, институты, учились в Осовиахиме, бегали с парашютом прыгать, да мало ли что. А вот они, — Кириллыч кивнул на здание администрации, — ловят, сортируют, делят, уничтожают эти души. Это их хлеб. Нельзя жить не веря друг другу. А этого они и добиваются. Разве не так?
— Так, так, пошли лучше спать, а то устал я сегодня. Шесть человек прооперировал. Еще нам чухаться здесь сто лет. Успеем, договорим.
— Почему сто?
— Когда война кончится и немцы уберутся, а мы останемся, то разделим сто на отсиженное и получим сколько здесь за год шло нам, а потом сложим и получится сто лет. Понял?
— Занятно, — улыбнулся Кириллыч, — спокойной ночи, профессор.
— Выспись, аспирант.
И Кириллыч поплелся к себе в барак.
Понедельник и вторник выдались в «Абверштеле Остланд» сумасшедшими днями. Либеншитц и дело закрывался с двумя-тремя ближайшими ее сотрудниками. Шифровальщики работали с полной нагрузкой. Пуриньш был в центре внимания и цвел как мак. Это была высшая точка его карьеры. Когда Вистуба сказал ему об этом, то он ответил, что боится, как бы с пика не перейти в пике. Главное, что мог стать разрешенным один из вариантов «Нарцисса», причем совершенно неожиданно и с незапланированной стороны.
Началась же вся история с субботнего приема у Свикиса. Когда тот в завязавшейся беседе упомянул, что к нему заходит какой-то турецкий бизнесмен с обычными разнюхиваниями по части сбыта, то Пуриньш не обратил на это внимания. К тому же любезный владелец фирмы, по его словам, спихнул турка на попечение Зарса, а это значило — иностранец для Свикиса неинтересен и гарантированно, что кроме кабаков тот ничего здесь не увидит. Тем более, Пуриньш улыбнулся про себя, что путь к мадам Бергман для Зарса перекрыт и для гостя — тоже, почему достопочтенный гид и стал возмущаться в разговоре по телефону двумя часами раньше. Тайное стало явным, и Пуриньш был в предвкушении того, как поиздевается над Зарсом, что, дескать, он с братом-турком уже надели котелки, белые кашне и лакированные туфли, в руки взяли трости и намылились на фурмане поехать на Парковую… С этим видением Пуриньш заснул, улыбаясь. Что-то из похождений Зарса, турка и своих собственных ему снилось под утро. Поэтому телефонный звонок Зарса и начало его сбивчивого рассказа о турке он воспринял как продолжение сна. Но потом лицо его стало вытягиваться, и он приказал Зарсу ехать к нему немедленно. Магда чертыхнулась, разбуженная, но кроме слов мужа «турок-не турок» ничего не уразумела и заснула снова, велев унести из спальни этот дурацкий телефон.
Явился Зарс, и на нем действительно были лаковые штиблеты. Как определил Пуриньш, от него разило не одним, а несколькими букетами коньяков, лицо его слегка распухло, но держался он подчеркнуто прямо. Увидев у неприкрытого на кухне окна распечатанную бутылку шампанского, он посмотрел выразительно на нее, затем на хозяина. Выпили.
— Так вот, в контору зашел турецкий делец, приехал из Швеции через Штеттин.
— Свикис вчера о нем упоминал.
— Он не турок, поверь мне. Если я и раньше ошибался редко, то сейчас почти не ошибаюсь.
— Дальше. Доказывай, но не топчись, как конь в передней.
— Я встречался со стариком Эрисом, с молодым Мухамедом. У этого в немецком другой акцент, он по другому пьет кофе, курил какие-то европейские слабые сигареты, налегал на водку. У него европейские привычки.
— Ну, допустим, виски-то у нас нет, коньяка приличного тоже. Кто платил?
— Он. И был прижимист, не то, что Эрис: швырял и сдачу этак рукой отводил.
… Эрис, турки, турецкие паспорта… Пуриньш вздрогнул… Неужели? Затрясшимися от волнения руками он набрал номер телефона гостиницы «Рим», где останавливалась этого сорта публика, назвал полицейский пароль и по подсунутой Зарсом визитке спросил:
— У вас остановился господин Дюмерель из Турции?
— Совершенно верно.
— Будьте любезны, его номер паспорта и все данные.
Выслушав и записав, он бросился в свой кабинет, открыл ящик стола, достал блокнот и… Все сошлось. Вот это да! Сей джентльмен с паспортом, который Пуриньш купил у Эриса. Вот так номер! Кому же начальство оный паспорт перепродало? Резиденту какой разведки? Кто из них в Риге не хотел сам лично торговаться с Эрисом, зная, что тот работает на немцев? Значит, этот мой начальник был связан с тем резидентом, как Зарс со мною. Докладывать Либеншитцу сразу или перепроверить? А что здесь проверишь? Паспорт ведь прошел через меня, все точно.
— Вот что, — решил он, — ты сходи с Дюмерелем еще раз в ресторан. Оплачиваешь ты. На, возьми. Реваншируешься перед ним, — Пуриньш отсчитал и протянул Зарсу пачку марок. — Выберешь ресторан, закажешь все заранее, позвонишь. Я буду с Магдой, мы расположимся понаблюдать, без знакомства, — Пуриньш проинструктировал Зарса. Тот, допив шампанское, ушел.
Да, но что рассказывать Либеншитцу, а о чем промолчать? И вообще, об этой страничке моей биографии при знакомстве в Гамбурге они почти не интересовались. Наверняка старик Эрис им выложил обо мне все истории в деталях. Да ничего там страшного и не было, так, рядовое дело. Вот теперь будет спектакль! Уж немцы черненького турочка отмоют и сделают эдаким беленьким альбиончиком!
Вечером во время ужина Пуриньш, улучив минуту, встретился с Зарсом у гардероба в уголке.
— Что нового?
— Да ничего особого нет, за исключением того, что о Турции он не очень рассказывает. Но с другой стороны, о чем говорить? Страна бедная, там ничего, кроме овец, интересного нет. Исключительно шашлыки. По-карски. Знаете, как их делают? С ребрышками, — Зарс был явно навеселе.
— Ты вот что — не перепей. По второму вопросу?
— В Италии и Испании бывал. Исходя из описываемых им там событий — недавно. Что еще? — повторил он вопрос Пуриньша. — Я не расспрашивал его о знакомствах здесь. Побоялся. Влипнем еще. Все равно он правды не скажет. Если он со мной второй вечер веселится, то у нас ходить ему на людях не с кем. Да, уезжает он в четверг. Все, шеф. Я побежал.
— Если он начнет тебя уговаривать — не упорствуй, — крикнул в догонку Пуриньш.
— Само собой, — откликнулся Зарс и удалился.
Утром в понедельник Пуриньш сидел в приемной комнате Либеншитца торжественный, как хозяин похоронного бюро. Выслушав его, полковник подскочил как ужаленный. Вот это номер! Он заставил повторить рассказ во всех деталях. Наблюдательность Зарса его ошеломила.
— Вот это класс, — радовался он, — сколько он с вами работает?
— Лет десять. С ним мы всех подпольщиков здесь переловили…
Либеншитц воззрился на него и лишь махнул рукой.
— Если так, то кто сейчас нам пакостит? Это вы бросьте. Не будем об этом. Некогда.
Он выпроводил Пуриньша и стал отдавать распоряжения. Прежде всего послал шифровку в Берлин. Получив ответ, он долго вертел его в руках, был явно озадачен. Распорядился вызвать Пуриньша. Тот явился с еще большим величием и выглядел как павлин на публике: обычный серый костюм был заменен черным, из нагрудного кармана выглядывал платочек, Магда надушила его тончайшим мужским одеколоном. Пуриньш не исключал, что Либеншитц позовет его поужинать. Но тот был зол и угрюмо произнес вместо любезного приветствия:
— Черт вас возьми, Пуриньш, но я ничего не понимаю.
— Господин полковник?
— Вы назвали мне номер одного из паспортов, врученных вам Эрисом, которым пользуется некий Дюмерель, не так ли?
— Совершенно верно.
— Но ведь Эрисом для вас были получены другие паспорта.
Пуриньш молчал. Он пока ничего не соображал. Либеншитц покрутил головой, шея у него покраснела, и, закашлявшись от напряжения, он сказал:
— Дьявольщина, придется мне говорить начистоту. На паспортах, им полученных, были другие исходные данные. Вы спросите, как так? Отвечаю, что он их получил от нас, из Берлина.
— Поддельные? — вымолвил Пуриньш.
Полковник промолчал. У Пуриньша закружилась голова. Ну, друзья, вот это фокусники! Им роли цыганок-гадалок только исполнять, на ходу обманут за твои же денежки. Однако вслух он мрачно произнес:
— Врать мне незачем. Паспорта дал Эрис, другого не дано. Я ему заплатил полную цену.
— Сколько?
— По тысяче долларов за каждый, плюс пятьсот за въездные визы, всего две с половиной тысячи долларов.
— Сколько, сколько?
— Две с половиной тысячи, — повторил Пуриньш. — Что, многовато ваша служба попросила? Деньги перевели Эрису в Берн. Банк «А. Эрнст».
Теперь замолчал Либеншитц, у которого в голове вертелась одна мысль: «Ну, турок, доберемся до тебя!».
Набравшись храбрости, Пуриньш не мог отказать себе в злорадном предположении:
— Но я знаю, куда могли пойти фальшивые паспорта. Во всяком случае одна из гипотез вырисовывается.
— Ну и?
— Продать поддельные лучше кому-то из наших врагов, например, англичанам, русским. Причем заранее сказать им, что это фальшивка. Заплатят все равно неплохо, будут видеть, как создаются образцы продукции в Берлине. Если бы он всучил мне такой, то англичане, к примеру, распознали бы марку Берлина, и Дюмерель скорее всего такой паспорт не получил. Зачем гробить собственного сотрудника на любом германском контрольном пункте?
— Вы хотите сказать, что ваш начальник работал на англичан?
— Не исключаю. И работал честно.
— В таком случае вы сыграли роль передаточного звена?
— Вероятно. Не мог же господин почетный консул Турции доложить вам, что он старается для врагов рейха? Вы бы ему задали тысячу вопросов и вдобавок его не поняли. И на всякий случай прислали фальшивки. Он не рассчитал только, что я отмечу номерок. Я же человек аккуратный.
— Хотя бы вы и пять раз записали, дело не в том, — стал приходить в себя Либеншитц, начавший смотреть на Пуриньша с уважением. — Случайно, но факт, что этот Дюмерель нарвался на такого аса, как Зарс. Как вы думаете, чем его отметить?
— Поездкой по Германии. Он мечтает об этом.
— Хорошо, сделаем. Кстати, Дюмерель дал сегодня пару адресов — мы работаем за ним. Не такой уж он одинокий чужестранец.
— Он уезжает в четверг.
— Он поедет в Берлин. С нашим сопровождением. Не можем же мы его отпустить одного, бедняжку. Кстати, не поужинать ли нам сегодня, Пуриньш?
— С удовольствием, господин полковник.
— Я приглашаю и вашу очаровательную жену. А сейчас составьте рапорт обо всем происшедшем.
— Благодарю. И слушаюсь. Господин полковник, все-таки, в чем цель «Нарцисса»? А то все, что мы подбираем, бракуется немилосердно.
— Я чуть приоткрою перед вами дверь — внедрение в секретные миссии англичан и американцев. Но никому ни слова.
— Само собой, господин полковник.
Пуриньш вышел гордый от приглашения и одержанной победы. Он доказал, что умеет служить, что он не уступает офицерам абвера, не то что этот болтун и костолом Тейдеманис.
Через месяц после описываемых событий, в канун Рождества, Ольга и Тамара подошли, как было условлено, к порту, где встретили Кириллыча и такого же высокого, но плотного парня, который был обычным пленным в обтрепанном, видавшем виды обмундировании.
— Знакомься, Ольга, знакомься, Тамара. Это Соломатин Миша, друг, приятель Федьки Зинченко. Удалось достать для него хлебную работенку — уборщиком трудится, хозяин метлы, так сказать.
— И тачки, — дополнил Миша, ежась на холодном декабрьском ветру в своем куцем одеянии, но улыбаясь от радости встреч с такими симпатичными девушками, каких он не встречал с довоенных времен.
— А что мы раньше тебя здесь не видели? — спросила Тамара.
— А то, что был я на товарной станции, в Шкиротаве, в том наряде, а теперь вот доктора определили больными из здешних пять человек, и положено их заменить, — простодушно объяснил тот.
— Это то, что нам требуется, — продолжил беседу Кириллыч. — Он должен мотаться по всем причалам под охраной кого-то из нас и убирать, мести, вылизывать этот вонючий порт на ветру, пока не простудится и не сломается. Наши господа убедились, что здесь нужно иметь отменное здоровье. Нам же требуется Ми-и-иша, — протянул он имя Соломатина, — который что? Все сделает как учили, да?
Миша кивнул.
— Миша, когда ты сможешь нарисовать склады и пункты выгрузки вооружения? — взяла быка за рога Ольга.
— Кириллыч мне говорил. Но только еще пару дней мне надо. И здесь рисовать опасно, — ответил тот. Было видно, что Кириллыч для него высший авторитет.
— Я приведу его к тебе. Здесь всего-то ходу пять минут. Если уж Миша чертил план сормовского завода Вагнеру, то нам он все сделает, — заявил Кириллыч.
— Как Вагнеру? Это абверу? — воскликнула Ольга.
— Ага, — отозвался Миша. — Да вы не бойтесь. Я все сделаю. От Вагнера же мне выбраться надо было живым, так что мой рисунок послужит пропуском назад, в жизнь. Ничего особенного там я не наплел.
За полтора месяца знакомства с этими ребятками Ольга поняла, что это то, что ей требовалось как разведчице. И деловая Тамара, и немногословный, надежный Густав, и долговязый, добрейший Кириллыч, и рассудительный Федор, и красавец Леша Мартыненко, и вечно исчезающий муж Тамары Иван Шабас, и по рассказам деловой Иван Рагозин, уже проживавший на нелегальном положении, и вот теперь Миша Соломатин. В беде русские люди сходятся быстро, в плену — тем более. Военное лихолетье, голодные годы, неурожаи, стихийные бедствия толкали друг к другу, заставляли биться с несчастьями сообща, всем миром. Это въелось в плоть и кровь на протяжении веков.
Все знакомства осуществлялись быстро, по принципу — пока живы, по цепочке, от одного к другому за час, за два, а сверх того рождалась уже дружба за день-два, опять-таки потому, что ты мог уйти насовсем или в иной лагерь весьма быстро. Каждому последующему давалась от предыдущего в цепочке убедительная характеристика — свой парень или наш в доску, или сволочь, подонок. Этого зачастую было достаточно. Их никто не учил в жизни, им не приходило в голову, что червь собственного «я» может съесть владельца личности и превратить таковую в раковую опухоль по спасению собственной шкуры. Им без знания этих премудростей было легче погибать. Враг же знал все эти пробелы подпольщиков и патриотов и использовал их почти со стопроцентным попаданием.
Новый 1943 год Ольга встречала у Вероники и Густава. Пригласили Тамару с мужем. Шабас Иван, с которым Ольга подружилась за это время, был скромным, тихим работягой из железнодорожных мастерских. Невысокого роста, скуластый, с твердым взглядом, всегда старательно причесанный, одетый в один и тот же опрятный старенький костюм, он был немногословен, вежлив, от него исходила крестьянская уважительность недавнего сельского жителя к городским собратьям, всегда все знающим лучше. Шабас принес клюквенную настойку. Все понемногу потягивали ее, цокали языками от удовольствия и превозносили мудрость родителей Ивана, снабдивших его такой вкуснотой на праздник. Иван принимал комплименты с удовольствием, глаза его лукаво поблескивали, он что-то жевал и предпочитал помалкивать.
Освоившаяся вполне в Риге, Ольга, темперамент и выучка которой позволили оказаться в эпицентре небольшой группы единомышленников, мечтала об одном — связаться с влиятельным подпольем, уйти в партизанские края и начать драться там с врагом. Она страшно переживала, что с карьерой разведчицы ей не повезло, ей хотелось действий, действий…
— Как мало мы здесь можем, с каким скрипом все это достается: оружие, документы. Если бы не ты, Иван, не знаю, что и делать. Говорим, говорим с ребятами, они согласны, они пойдут, поедут, побегут, поползут куда надо, и — ничего, на месте маршируем. Болтовня какая-то получается.
— Не убивайся, Ольга, — положил ей тяжелую руку на затылок и притянул к себе Густав, — и мы чего-нибудь здесь рванем. Достанем здоровую мину и так шарахнем, что господа фашисты неделю спать не будут.
— Брось, Ольга, не лезь на рожон, если они узнает, что ты и после тюрьмы не успокоилась, знаешь, Что они с тобой сделают? — увещевала ее, как обычно, Вероника.
— Ничего мы такого не делаем. Подумаешь, знакомые ребята появились. У кого их нет? — стала наводить тень на плетень Тамара.
— Что-то у тебя при живом муже ребят многовато, смотри, не поймут, — сказал Густав.
Все засмеялись. Отпили настойки, закусили отличной ветчиной, которую тоже доставил Иван.
— Слушай, Иван, что ты думаешь о Пете Шелесте?
— Отличный парень. Я его полгода знаю, еще как только их батальон организовали и они стали караулить пленных у нас на товарной станции, — ответил Шабас. — А что, он тебе подозрителен?
— Да нет. Парень неплохой, только страшно вежливый какой-то…
Все засмеялись.
— Опять плохо, — сказал Густав, — сколько людей, столько характеров. Вон Федор Зинченко и Ванька Рагозин так похожи друг на друга, а характеры совсем разные: Федор весь из себя какой-то задумчивый, все мыслит, а Ванька открыт для всех. Такой оборотистый, быстрый, все может.
— Иван, а где Ванька достал документы для проживания? — поинтересовалась Ольга.
— Сподобилось получить и все. Ты думаешь, так уж сложно их добыть для одного человека? Для десятка людей трудно обзавестись бумагами, а для одного — чепуховое дело, — заметил Иван. — Ты, Ольга, не спеши, каждый делает свою работу. То, что ты подбираешь пленных для будущих акций, можешь с их помощью собрать кое-какую информацию, оружием обзавестись — это тоже хорошо. Из леса до этого не дотянуться, руки коротки. Ты и Густав, и Томковы бойцы здесь, в городе, — заключил Шабас.
— А ты? — спросила Вероника.
— А я за союз деревни с городом, предлагаю за него выпить, — ответил Иван.
Поставив свою рюмку, порозовев от тепла, выпитого и деревенской снеди, Ольга сказала, обращаясь к Шабасу:
— Вот, смотри, Иван. Фронт. Все ясно на фронте: там противник, здесь мы, наступать — туда, рубеж обороны наш — здесь. Партизаны. Здесь уже потрудней ориентироваться, но и то возможно: в лесу — свои, кругом — враг, полицаи, каратели. А в городе? Здесь как во вражеской траншее при наступлении и ее захвате. Дерутся чем попало: и пулей, и ножом, и лопаткой. Я хочу сказать, здесь все перемешалось, ничего не ясно. Никто тобой не командует, каждый сам по себе. Выживет — хорошо, но и в ящик сыграть проще простого.
Наступила тишина. Каждый задумался о чем-то. Молчание нарушил Густав:
— Придет твое время, Ольга. Скажи, что выгоднее: иметь там, в лесу, солдата в юбке или здесь своего лазутчика?
— Тоже в юбке, — добавила Ольга.
— Это уже неважно, для городской траншеи, как ты выразилась, ты подходишь, — заключил Шабас. — Я, например, езжу ремонтником туда-сюда, мотаюсь как заведенный, а жена погуливать стала, может, я тоже хотел бы там быть, тем более, что родичи в деревне. Хочу проводником устроиться. Полегче будет.
— Я тебе дам по шее. Это я погуливаю? — и Тамара слегка стукнула Ивана по затылку.
Все завозились, задвигались. Густав завел патефон. Вечер продолжался.
За окном наступал рассвет нового 1943 года.
Шеф (окончание)
Когда Конрад вошел в кабинет шефа, тот стоял у окна и смотрел на улицу, барабаня по стеклу пальцами. Конраду даже показалось, что шеф раскачивался с пяток на носки, что было необычным и раньше за ним не замечалось. Такие его привычки, как вопросительно смотреть на собеседника поверх очков или взять в руку пять-десять карандашей и слегка постукивать ими по поверхности стола, — это знал каждый. Но вот насчет раскачивания на прямых ногах Конрад не ведал, однако через двадцать минут понял, что это признак душевного волнения и молчаливый самопоиск в невозвратно ушедшем прошлом.
Кивнув на полукресло перед своим могучим столом, шеф сказал:
— Садись, сейчас я расскажу одну печальную историю из своего прошлого двадцатилетней давности. Из нее ты поймешь, какую неблагодарную роль сыграл твой всезнающий начальник в судьбе одного человека, — и шеф рассказал об Ольге. — С тех пор, как я проводил ее на задание, ничего о ней больше не слышал. Ни словечка не дошло до меня с той стороны. Проводил на смерть, на безызвестность. Что ты на это скажешь? — горестно закончил он и закивал головой в такт своим словам.
— Не знаю. Первые недели войны… Конечно, я понимаю, что тогда вы, я имею в виду наркомат, не имели опыта отработки легенд… — с прорезавшейся неким образом ноткой покровительственности заявил Конрад и продолжил: — Я все это знаю по бумагам, по рассказам. Меня познакомили в доме отдыха в прошлом году с одним тогдашним сотрудником наркомата, которого по заданию заслали проводить подпольную работу в лагерь наших военнопленных, а его и еще нескольких взяли, да перевели в лагерь во Франции. Он всю войну там и просидел. Ничего не мог сделать полезного. Кругом одни французы и англичане.
— Хотя бы жив остался, — вздохнул шеф. — А после войны?
— Наградили его за те четыре года орденом Красной Звезды, и директорствует он в зале «Динамо». И вся любовь, как говорят.
— Вот такова у нас вера в своих же. Хорошо, что твое поколение эти метаморфозы по рассказам знает. Мое — на собственной шкуре их испытывало. На смерть мы эту девочку послали, иначе и быть не могло. Чего-чего, а соглядатаев и шпиков у немцев хватало с избытком. После войны мы с ними знакомимся, знакомимся и до сих пор перезнакомиться со всеми не можем. В городских же условиях это был ближний бой. Где свои, где чужие не разберешь. Не так ли? Человек наш выходил на встречи с ней точно, но впустую. До Риги, выходит, она вовремя не дошла. Значит, или погибла, или попалась. Но где, как? Мы со своей профессией какие-то однобокие — хороших дел не знаем, все в дерьме копаемся. Вот ты мне ответь, что за борьба происходила в Риге? Не знаешь? Я знаю нескольких человек: Судмалиса, Слосмане Веронику, которых, извини, немцы в свои ловушки поймали, а как — неизвестно. Были у нас верхогляды, в том числе и я, которые своих же запутывали. Вот я знаю, к примеру, пять таких фамилий. Подпольщиков. Но для чего тогда немцы держали там столько народа в СД, абвере, полиции? Их там до черта было, и хлеб свой они зарабатывали, ломая кости нашим. Так? Ты вот что. Разузнай, кто из историков наших занимается этой проблемой, рижскими подпольными делами. Я слышал, начали эту целину вспахивать. Но сейчас я не об этом. Это так, к слову. Был у меня Ванаг. Да, да, тот, который почти твой дядя. По моей просьбе он беседовал с матерью Зарса. Зашел я с другого конца, решил, зачем в лоб идти, нам это не с руки. Она человек заслуженный, и как бы мы хорошо и складно не говорили, это смахивало бы, что загоняем мы человека в угол. Ванаг побеседовал с ней и набросал для полноты картины список ее знакомых. Вот смотрите, — перешел на официальное обращение шеф, здесь они по всей Латвии.
Конрад просмотрел список и отрицательно покачал головой.
— Пока ни о ком не слышал, кроме вот имени Антония. Так вы, кажется, назвали тетушку из Даугавпилса, адрес которой был у Ольги?
— Да, молодец, что ухватил с ходу. Если Антония была знакома с мамой Зарса, то почему бы ей не быть знакомой с ним, нашим дорогим господином бухгалтером? — претендуя на знание терминологии в отношении Зарса, принятой в отделе, произнес шеф. — Отсюда возможно вырастает все остальное.
«Однако, старик вникает в дела, не то, что некоторые», — подумал Конрад. Вслух же, желая потрафить просто старому человеку, переживавшему за тот далекий провал, с подъемом в голосе сказал:
— Я его на левую сторону выверну, но ясности добьемся, — затем пояснил свою мысль: — С ним надо начинать с малого и даже не с него. С дел фирмы Свикиса в Даугавпилсе. Ездил ли он туда во время предполагаемого пребывания Ольги у Антонии. У меня есть один потенциальный свидетель из заведения Свикиса. Начну с него…
— Начни, начни, — отдаваясь собственным мыслям, сказал шеф. — Подпольная работа начиналась и с такого казуса, как мой, и с крупнейшего провала в Эстонии. Там, знаешь, оставили в тылу врага секретарей ЦК, руководителей совнаркома, секретарей укомов партии, в общем, цвет партийных и комсомольских кадров, которые все на виду были. Мне рассказывали, что нашелся же всего один человек, который владел информацией о них. Он выдал всех их немцам. Правда это или не совсем, но к сорок второму все они погибли. И знаешь, кто был этот тип, что выдал? Сярэ — первый секретарь ЦК Эстонии, кандидат в члены ЦК ВКП(б). Вот ведь как было. Сам там по заданию остался, попался и поплыл. Не каждый выдерживает, когда видит дверь, приоткрытую в загробный мир. От занимаемой должности это, как видишь, не зависит. Говорят, сейчас в Норвегии живет. Фашисты жизнь ему сохранили. Вот. Или представь себе: наши оставили подпольщиков в Пскове. Те ждут приказа о начале боевой деятельности, живут со своими семьями, а их всех в один прекрасный вечер и забирают. В чем дело? Координаты, будем говорить, запланированных жертв, дали абсолютно непроверенным людям, засланным во вражеский тыл по линии НКВД из Ленинграда. Стоило немецкой полиции чуть пригрозить этим горе-связникам пальцем, как они тут же пустили сопли и все выложили. Представляешь? Не представляешь. Так тоже бывало. Не из одной победной поступи партизан по им одним известным тайным тропам все складывалось, как часто изображают. Бывали и позорные страницы. Я тебе рассказываю об этом, чтобы ты ничего на веру не брал, а то у нас есть такие, кто только ушами хлопает. Ведь зарплата у всех одинаковая. Ладно, смотрю, контузил я тебя своими воспоминаниями.
— Что вы, товарищ генерал, спасибо за науку. Пожалуйста, вы скажите в следственном, чтобы они мне Зарса выдавали для неофициальных бесед. Он теперь за ними числится.
— Толкаешь меня на прегрешения? Ладно, скажу. Но беседуй тогда, когда добудешь что-то существенное, иначе напишет он на тебя жалобу, что мучаешь его, истязаешь.
— Что вы, у меня с ним отличное взаимопонимание.
— Конечно, конечно, замечательнейшее. Он тебя боится, куда ему деваться? Ладно, иди работай. Начальникам твоим я все скажу. У меня от них нет тайн, — на прощание пошутил шеф.
Вернувшись в кабинет, Конрад выложил все Казимиру, показал ему список знакомых матери Зарса.
— Из фактов знакомств трудно определить его роль. Все так запутано, — сказал Конрад.
— Да, расползешься лишь вширь, в точку попадешь едва ли. Оставь это на потом, — покачал головой Казик. — Тем более, что сама Ольга их не знала.
— Поеду завтра в Даугавпилс, а потом в Дундагу. Это две точки, которые она должна была посетить. Но ни Антонии, ни дядьки Ольги в живых нет. Шеф это выяснил в сорок пятом. Но почему больше ничего не прояснилось? Как ты думаешь?
— Старик тебе частично ответил: мы, как правило, занимались чистыми отбросами человечества. Вот тебе дело этого выродка, — Казимир подбросил над столом том с подшитыми там документами. — Он здесь признает, сам называет, что выдал; оккупантам и девицу Ольгу, только какую? Неизвестно. Участвовал в поимке Иманта Судмалиса, еще называет раз, два, три, десять человек. Все они мертвы. Следствие велось по нему в Лиепае месяц, погибшими от его доносов в деталях никто не занимался. Девица Ольга? Кто она? Никто не устанавливал. Уже в июне сорок пятого этого подонка приговорили к расстрелу. Вот тебе и все. Шеф поручил кому-то узнать о судьбе Антонии и дядьки. На этом свете их нет, сказали соседи. Ольга? Они такую не знали. Если бы тогда появился на горизонте Зарс, то, возможно, ниточка куда-нибудь да и потянулась бы. Но ведь он не появился.
— Ладно, — выслушав соображения коллеги, сказал Конрад, — я поеду. Буду искать.
Неделю Конрад провел в Даугавпилсе. Обошел все дома по улице, где если Ольга и жила, то всего несколько дней. Побеседовал с десятком людей, жившими по соседству. Нашел трех более близких знакомых Антонии. Безрезультатно. Кроме слов о том, что редкой доброты души была женщина, что дом ее был открыт для всех и каждого, он ничего не услышал. В конце концов он созвонился с Федором Петровичем.
— Как дела? — спросил тот.
— Плохо. Ничего не получается.
— Я же говорил. Столько времени прошло, целых семнадцать лет.
— Видите ли, дело в том, что если Антония занималась в тридцатых годах подпольной деятельностью, а этот факт установлен, архивы подтверждают, то конспирация для нее — прежде всего. Не будет же она афишировать своих знакомств по этой части.
— Все это так, но даже если мы раскопаем что-то о тридцатых, это еще не оккупационные дела. Что в домовой книге записано?
— Как всегда: выписана по указанию полиции, дата — десятого августа сорок четвертого.
— Обычное дело. В августе они расстреливали в Бикерниекском лесу.
— Или арест и лагерь. И там…
— Да, этих вариантов всего два. Ладно. В Дундагу поедешь?
— Конечно.
— Закругляйся быстрее. У тебя дел невпроворот. Не только этот бухгалтер. И то он не за тобой.
— Не только, — согласился Конрад, попрощался и повесил трубку. Затем набрал телефон Казимира. Поздоровались.
— Судя по тому, что замолк и не звонишь, то на нуле, да?
— Хвастаться нечем. Обегал всевозможных тетушкиных знакомых на улице и так, вообще, всем показывал фотографию несравненного господина бухгалтера. Без толку.
— Это естественно. Не жил же он у нее. Так, забегал и убежал. Не расстраивайся, езжай в Дундагу.
— Уже даже не хочется. Что я там найду?!
— Брось, брось. Проработать ниточку надо. До последнего стежка. На разрыве все может исчезнуть. Бодрее, бодрее, старик!
— Конечно, ну ладно, до встречи.
Найти дом дяди Карла не составило особого труда. Был воскресный день, и хозяева завтракали. Конрад представился, объяснил цель прихода. Хозяин, здоровый круглолицый мужчина, как выяснилось шофер, заулыбался:
— Наш предшественник, выходит, исторической личностью был. Помню, в сорок пятом, мне тогда лет четырнадцать было, к нам заскакивал кто-то из вашей Вентспилсской конторы. Интересовался Карлом. Мать покойная вашему коллеге что-то рассказывала, а что — не помню. Он к тому времени точно месяца два как умер.
— Он умер или погиб?
— Умер, умер, но при немцах еще. Потом мы здесь жить начали. Дядю Карла я видел в детстве, но говорить с ним не говорил. Я же мальчишкой был.
— А мать ваша рассказывала о нем?
— Возможно, но тогда меня это не интересовало. Знаете, единственное, чем я могу вам помочь, это на чердаке лежит чемодан с вещами дяди Карла: старые фотографии, письма. Видно мать их сложила, так они там и пылятся пятнадцать лет уже, или больше.
— Интересно. Дайте посмотреть.
Шофер вышел и вскоре вернулся с чемоданчик ком средних размеров. Чего в нем только не было! Альбомы с фотографиями, старый будильник, машинка для стрижки волос, бумаги, письма, карточки с поздравлениями на Рождество… Конрад ста листать альбом, бегло рассматривая незнакомые для него лица. Просмотрев страниц пять просто автоматически потому, что надо было ознакомиться, ибо сам же сказал, что интересно, он вдруг застыл!
Дернулся, приблизил альбом к глазам и тяжело, с облегчением вздохнул. За одну из наклеенных фотографий уголком была засунута визитная карточка… Альфреда Зарса с указанием фирмы Свикиса и дописанными от руки домашними адресом и телефоном ее владельца. Конрад на какое-то время затих. Такой удачи он не ожидал!
— Послушайте, — сказал он хозяину дома, — насколько я понимаю, в ближайшие двадцать лет это добро вам не понадобится, отдайте мне его. Если кто-то спросит о чемодане, то вот мои координаты на работе и дома. Найдут. Согласны? Я сейчас составлю протокол выемки этого чемодана. Хорошо? — и он быстро стал заполнять бланк.
— Берите, берите. Мне это ни к чему. Столько лет в пыли простояла вещь.
Довольные друг другом они расстались. Выйдя на улицу, Конрад посмотрел на небо, глотнул свежего сельского воздуха и негромко засмеялся. День был удачный! Бывало, сколько возишься вокруг какого-то узелка и никак, все впустую, напрасные хлопоты, как гадалки на картах говорят. Еще ничего, если пытаешься что-то раскрыть в благожелательной обстановке, когда вроде все идут навстречу. Хуже, если поиск сопровождается противодействием каких-то сил, увертками и ложью. Тогда надо пробираться как между колючками в лесу за тем грибом, который маячил где-то в отдалении.
Конрад пошел на почту. Решил обрадовать шефа. Тот обычно приходил по воскресеньям на работу. Заказав телефон дежурного и удостоверившись, что шеф своей привычке не изменил, попросил с ним соединить.
— Да, слушаю тебя, Франц, — послышалось в трубке.
— Добрый день, — поздоровался Конрад. — Хочу вас обрадовать. В Дундаге нашлась визитная карточка нашего несравненного, вы понимаете кого.
— Понимаю. Где именно?
— В вещах ее дяди.
— Вот как! Он умер, да?
— Еще в начале срок пятого.
— Но мои гонцы тогда ничего не нашли. Они же вскоре там были, в июне где-то.
— Это объяснимо. Мать нынешнего хозяина могла тогда чужим альбомы, письма и прочее не отдать. Власть только сменилась. Возможно, ожидала родственников. Для них, сельских людей старой закваски, эти вещи священны.
— Слава богу, что так. Молодец, что нашел.
— Повезло.
— Это хорошо, когда везет. Значит, ищешь настойчиво. Везет тем, кто работает. Не везет тем, кто ничего не делает. Какие-нибудь идентифицирующие признаки?
— Домашний адрес и телефон написаны от руки карандашом.
— Им?
— Вроде бы. Надо сравнивать.
— Да, — протянул шеф, — доказывать много чего придется. Молись всем святым, чтобы он не узнал об этой Дундаге, а то как загнет, что был там и с дядькой подружился, — останемся на бобах. Когда же она там побывала?
— Где? — не понял Конрад.
— У дядьки. Ладно, не будем больше. Завтра с утра ко мне. Успеешь?
— Конечно. До свидания.
На следующее утро в приемной шефа сошлись Павел Онуфриевич, Казимир и Конрад. Тихо, обмениваясь последними новостями, они стояли в уголке и ждали приглашения. Вошли, поздоровались, расселись вокруг маленького столика, стоявшего впритык у исполинского, за которым восседал шеф.
— Где Федор? — спросил шеф.
— Я послал его по срочному делу в таможню, — ответил Онуфриевич.
— Вот-вот, — проворчал шеф, — чтобы только не заниматься делом бухгалтера.
— Нас здесь достаточно, чтобы решать вопросы по Зарсу, — примирительно заметил Онуфриевич.
— Безусловно, — бросил шеф. — Только я не понимаю, почему Федор так равнодушно относится к этому делу. Как-никак его подчиненные, — кивнул он в сторону Франца и Казимира, — занимаются делом, а не развлекаются. И я рассчитываю, что мы выйдем на непростые фигуры германской разведки, — он легко постучал карандашом по полированной поверхности своего любимого стола.
Конрад коротко доложил о результатах своей поездки.
— Ладно, покажите визитку, — обратился шеф к нему. Тот достал из папки кусочек пожелтевшего картона. Шеф вооружился увеличительным стеклом и принялся тщательно разглядывать этот немой предмет, к которому прикасалась Ольга.
— Образец почерка Зарса с собой? — спросил он немного погодя.
— Вот, пожалуйста, — почти одновременно ответили Конрад и Казимир и вытащили разом нужные бумаги.
— У Федора наверняка образцов не было бы, — пробурчал шеф, — ваши не годятся, здесь нет ни одной цифры, — и он вернул лист Конраду.
— Двойка и семерка похожи: первая по прямому горизонтальному основанию, вторая по отсутствию поперечинки. Так? Но всех цифр на образце, исполненных на карточке, тоже нет.
— Возьмем, — сказал Конрад.
— Да, возьмите, — подтвердил шеф. — Пусть напишет то же самое на своей же визитной карточке. Вы же нашли их при обыске? Интересно, как он расположит текст карандашом?
— Заподозрить может раньше времени, вот что получится, — подал голос Казимир.
— Но не на одной же карточке он делал добавления, — возразил Павел Онуфриевич. — Смотря кому карточка — дописывают по-разному.
— Двадцать лет прошло, он не вспомнит, кому чего надписывал, — поддержал Конрад.
— О, не говорите! Преступники помнят свои жертвы, — примирил всех шеф. — Продиктуйте написать текст визитки на принадлежащей ему книге, а затем на визитной карточке. Увидите, особенности проявятся. Запутайте его, скажите, что у кого-то найдены бумаги фирмы Свикиса, в том числе и книга с аналогичными надписями владельца. Так. Каковы результаты по Риге? — обратился шеф к Казимиру.
— Домовой книги по дому дочери дяди Карла не сохранилось.
Шеф огорченно вздохнул.
— Но удалось найти двух старушек, — продолжил Казимир, — они вспоминают Ольгу по фотографии. С трудом, правда. Снимок неважный, да и время ушло. Говорят неуверенно, что видели такую, причем упирают в основном на ее волосы, шевелюру. Появилась она у Вероники и Густава где-то летом сорок второго, работала, но где — неизвестно, уходила и приходила обычно с хозяевами, с осени того же года или в начале сорок третьего они ее меньше видели.
Наступила пауза. Несколько раз звонили телефоны. К утру понедельника вопросы обычно накапливались, и шеф коротко отвечал на них. Было заметно, что он находится во власти прошлых страстей и с нетерпением переносит вторжение в них телефонных рулад, нарушающих с таким трудом восстанавливаемую мозаику тех далеких дней.
— У нее был красивый оттенок волос, какой-то старинной темной меди, они были густые, но короткая стрижка, что делать. Как в армии положено. Шевелюра, говоришь? Значит, до лета сорок второго к парикмахеру не добралась. Да и не должна была она к нему бежать. Зачем? Здесь не армия.
— Арестованной она сидела, — авторитетно заявил Павел Онуфриевич, — и все дела. На встречи не выходила? Нет. Причина? Или больна, или вражья сила помешала. Если больна, то все равно выползла бы в течение данного ей срока. Значит — в тюрьме была. Тогда где и в каком городе — неизвестно.
— Вот видишь, — сказал шеф, — а не хотел помогать нам наравне с Федором. Мысли-то в твоей опытной голове еще роятся.
Лысина Онуфриевича покраснела от этого двусмысленного комплимента. Франц и Казимир переглянулись, они посчитали фразу сомнительной, с двойным дном. Шеф слегка язвил, это было заметно по тонкой улыбочке и лукавому взгляду.
— Если принять гипотезу Павла Онуфриевича, то, значит, Ольга была у своего дядьки по пути откуда-то в Ригу, — заявил Казимир.
— Почему? Могла и позже побывать, — возразил Казик.
— Конрад прав, — заключил шеф, — это случилось по дороге в Ригу. Во-первых, так было в здании, а во-вторых, зачем ей тащить карточку из Риги? С таким же успехом она могла оставить ее у Вероники, а мы ничего бы не нашли. И третье, самое важное. Немцы задержали ее с карточкой Зарса и отпустили с ней. Для вида слегка допросили о нем. Ничего она рассказать не смогла. Они знали, кто такой этот тип, и рассчитывали, что она к нему рано или поздно сама придет. Она же сочла нужным ставить карточку у дядьки, ибо предмет, побывав в руках у врага, опасен, черт возьми. Помолчали. Онуфриевич откашлялся.
— Извините. Но Зарс с ней мог встретиться и после ее, скажем, освобождения из-под задержания, — сказал он.
— Маловероятно, — отпарировал шеф, — тогда эта карточка была бы с ней, вроде подспорья, и не оставила бы ее в Дундаге. Этот вопрос оставим открытым. Дело за вами, молодые люди. Пусть негодяй Зарс объяснит, как визитка оказалась в Дундаге. И берите шире. Сейчас у нас поиск выглядит тонюсеньким лучом, проникающим в комнату, где была Ольга и ее товарищи, а надо высветить темные углы и закоулки этой комнаты, то бишь ее бытии, с ней связанных. Если в деле был замешан Зарс, то это серьезно, мы уже убеждались в его способностях предавать большие дела. От него мы должны выйти на его хозяев. До сих пор о Пуринше толком ничего нет. Не так ли? Затем выявить других, оставшихся в тени немецких холуев, типа Рагозина. Черт побери, выявляли мы в прежние годы их десятками, а вот целостной картины до сих пор не имеем! Как гибли наши патриоты? Ничего не знаем. Все засекретили. До полной темноты, какой теперь, растопырив руки, ходим, на стену натыкаемся.
Закончив эту деловую встречу, шеф занялся чтением бумаг. Вечером он принимал граждан, нравилось общение с людьми. Наверное, вечный гул голосов в приемной, общение с сотрудниками в кабинете были для него своего рода противовесом которым уравнивалась домашняя малолюдность детей у шефа не было, а с супругой за долгие год совместной жизни длительных разговоров уже происходить не могло. За семь лет, прошедших со времени смерти Сталина и разоблачения Берии, на учреждении, руководимым шефом, изменились принципы работы: был снесен барьер, из-за которого рядовые люди взирали со страхом на тех, сидел в этом здании; восстановилась практика общения с гражданами страны, которые вновь стали товарищами. Шеф с подъемом воспринимал эти перемены — медленно, но восстанавливалось общество послереволюционной, ленинской перестройки. Однако таких, как он, остались единицы. В подчинении его был народ, пришедший на службу в тридцать седьмом, в сороковые военные годы, и для них возвращение ко времени, которого они не знали, было не простым делом. Массовое освобождение невиновных, высланных, реабилитация оставшихся в живых и погибших партийцев, возвращение из лагерей своих же военнопленных, партизан, сражавшихся в западноевропейском сопротивлении, — все это взламывало стереотипы мышления у всех тех, кто оставался в те же годы в нормальной жизни. Шеф самым последовательным образом заставлял свое окружение не прятаться, не отгораживаться от людей, а встречать и выслушивать всех нуждающихся, видя в этом попытку искупления за прошлые грехи.
Как ему доложили — к нему на личный прием рвался некий гражданин Кульчицкий, с которым уже беседовал на прошлой неделе Федор Петрович, но общего языка они друг с другом не нашли. Перед беседой шеф затребовал журнал приема посетителей, прочел там запись, сделанную каллиграфическим почерком Федора, и поморщился, прочитав вывод: заявителю разъяснено, что тот обратился не по адресу.
Однажды шеф высказался на собрании, издеваясь над бюрократическими закидонами своих подчиненных: «И вот перед глазами замаячило футбольное поле и на нем в трусах товарищ Н., переправляющий мяч-жалобу вдаль от своих ворот».
Аудитория тогда развеселилась.
На этот раз в трусах ему привиделся Федор Петрович…
Вошедший Кульчицкий был абсолютно лыс, коренаст, широк в плечах и чрезвычайно подвижен. В нем говорило все: жестикулирующие руки, кивающая в такт словам голова и даже длинные рукава чересчур широкого чесучового пиджака, которые он отряхивал к локтям, когда они наплывали аж к середине ладоней.
— Добрый вечер, товарищ начальник и депутат Верховного Совета! — с расстановкой сказал он.
— Здравствуйте, здравствуйте, — успел ответить протяжно шеф.
И все. Начался монолог.
— Я — бывший чехословацкий гражданин, но я гражданин Советского Союза, и я — венгерский еврей, т. е. я родился в Венгрии и хотел бы поехать в Соединенные Штаты к своим сестрам, которых в; последний раз я видел в Австрии в 1945 году, и я обращаюсь к вам…
— Немного помедленнее, — перебил его шеф.
— Что, что? — вскинулся посетитель.
— Обороты сбросьте, пожалуйста. Я к вечеру слегка устаю. Возраст, знаете. Не улавливаю так быстро, как думаете вы и излагаете, — извиняющимся тоном сказал шеф.
— Я уже почти не думаю, когда излагаю. Я так часто рассказывал свою историю, что у меня внутри поселился автомат. Начинаю говорить, и скорость: сама возрастает. На прошлой неделе, когда я встречался здесь с вашим подчиненным, получилось даже смешно: он говорит так же скоро, как и я. Но положение у нас разное — я что-то прошу, а он только отказывает. Мы быстро закончили. Я, как всегда, проиграл.
— Значит, дебют играете в режиме шахматного блица?
— Это очень просто — партия-то у меня она и та же. За много лет накопился только один вариант, так что научился. Вы в шахматы играете?
— В отличие от вас мне приходится ежедневно прибегать к разным вариантам.
— Сочувствую. Вам приходится давать сеансы одновременной игры на многих досках.
— Вот-вот. Только не на досках, а иметь дело с судьбами. Итак, досье ваше я прочитал. Все, что изложено в бумагах, мне известно. Расскажите теперь сами.
— В 1945 году мне было 22 года. Красная Армия освободила Вену. Меня взяли в советскую миссию переводчиком. Я хорошо знал русский, немецкий, чешский, венгерский. С вашими офицерами я объездил в тот победный год больше, чем за всю свою жизнь.
В этом месте шеф хмыкнул и улыбнулся.
— Вы мне не верите? — опять вскинулся посетитель.
— Отчего же? Верю. Просто подумал, что после европейских турне у вас была одна поездка — на восток. Да-да, продолжайте.
— В Австрии мне пришлось участвовать в задержании одного крупного эсэсовца, в монастыре. Он уже одет был, как монах католический. Я проводил первый допрос. Он в Африку миссионером собрался. И вы знаете, откуда он был? Отсюда, из Риги. У него была длинная фамилия, я не запомнил, но корень был такой — Панцирь.
— Панцингер? — теперь уже оживился шеф.
— Совершенно точно. Вы его знали? Это был большой чиновник. У него ваши офицеры нашли цианистый яд, целую ампулу. Это, как я слышал, выдавалось ихним бонзам, но он не покончил с собой. Ваши еще смеялись — кишка у гестаповца слаба в мир иной уйти, а вот церковники о том далеком мире говорят так, словно это дверь в комнату рядом. В соседнем монастыре мы поймали еще одного типа тоже из Риги, но не немца. Он был из ваших местных эсэсовцев. Хитрый, сволочь. Но он у нас сбежал…
— Вы его запомнили? — перебил шеф.
— Безусловно. Тем более, что меня при этом побеге ваши подозревать начали. Но это ерунда. Поехал я раз с группой сотрудников особого отдела задерживать какого-то агента. У него нашли радиопередатчик и тысячу американских долларов. Все это привезли в расположение части. На утро доллары исчезли. Кто их хапанул — черт их знает. Но обвинили меня. Да еще прошлый случай с побегом вспомнили. Дали мне восемь лет — и в лагерь в Воркуту. На восток, как вы заметили. Вы следите за моим рассказом?
— Конечно.
— И ваше мнение?
— Показаний о том, что кто-то видел, что вы взяли деньги, или ваших отпечатков пальцев на коробке, где они хранились, здесь нет, — и шеф потряс тощей папочкой. — Дело рассматривалось в особом совещании, значит, кроме подозрений ничего не было. Доказательства виновности Кульчицкого отсутствуют, и вы реабилитированы. Итак?
— Я доскажу до конца, еще немного осталось. Я не отбывал наказания полностью. Через три года меня освободили и оставили жить там же, на Севере. Когда я с товарищами по несчастью пришел за документами, то мне, как и им, выдали советский паспорт. Я не посчитал возможным его получить, поэтому меня отправили проживать в том же качестве ссыльного.
— Почему?
— Почему не получил паспорт или отправили назад?
— И то, и другое.
— Советского гражданства я не имел, чехословацких документов тоже. В общем, я завидовал всем, кто имел статус ваших граждан, будь то зэк или надзиратель. Вам понятна моя мысль?
— Яснее некуда.
— Я стал писать в чехословацкое посольство с тем, чтобы получить положенный мне паспорт. Это было сложно: я имею в виду возникнуть из какого-то небытия и доказать, что ты не верблюд. Наконец я получил чехословацкий паспорт. Женился на советской женщине и решил стать советским гражданином, но уже на законных основаниях. Вновь канительная переписка, но уже с Президиумом Верховного Совета. В итоге я стал тем же, как и вы, уважаемый товарищ генерал. Вы спросите, что же ты, чудак, мудрил, тебе же предлагали советский паспорт и ты сам от него отказался, так? Отвечу: да, мог, но всегда хотел быть честным человеком. Жить правильно, без трюков. Если бы вы видели эту картину, когда открылось окошечко в темном затхлом коридоре и лагерная дама выкрикнула мою фамилию и стала читать данные моего советского документа! Когда я сказал, что я еще не ваш гражданин и не имею права взять то, что мне не принадлежит, на мгновение она растерялась, потом сказала, дескать, иди, дурак, назад на поселение, захлопнула окошко, а очередь загоготала.
Шеф слушал эту трагическую историю, излагаемую в виде фарса, и думал о том, что он в двадцать два года уже отвоевал гражданскую, вылавливал врагов новой власти, а этот Кульчицкий, еврей, каким-то чудом оставшийся в живых и избежавший участи жертв геноцида, в том же возрасте попал в жернова лагерной мельницы своих же освободителей. Шесть лет ежедневной дрожи в оккупации, да три за колючей проволокой лагеря, да поселение — и не сломаться, сохранить честность и юмор! Сильны же люди! Мог бы получить наш паспорт, чего проще? Нет, добился своего, к вранью не предрасположен. Это ясно. Эх! Федор! Как мы не умеем выслушивать людей и слушаем с позиций собственной испорченности. Цитируем великих, и делаем по-своему, на средне-усеченно-казенно-обывательском уровне.
— …Все у меня наоборот, не как у людей, — продолжал рассказчик. — Теперь с советским паспортом, будучи женатым на советской гражданке, усыновив двоих ее детей, хотел поехать в Прагу, повидать там своих сестер. Не получилось. Зачем, какая в этом нужда, спрашивают. Вопросов глупых с десяток, а ответ один, как штемпель, — нет, нецелесообразно. Когда я был чехословацким гражданином, то мог поехать хоть насовсем, но некогда было, ибо в лагере сидел. Стал советским — опять незадача. Куда я не писал! Послал письмо чехословацкому президенту, что, мол, помогите посетить родную республику, обязуюсь, что во время моего нахождения там переворота в вашей резиденции — Пражских Градчанах — не произойдет. Предлагал вашим коллегам в Москве, что я согласен оплатить поездку со мной в Прагу и обратно сотруднику госбезопасности, чтобы, ну, одним словом, присматривал за мною…
— Так и написали? — перебил шеф.
— Конечно. Терпение лопнуло.
— И результат?
— Мне отказали. У их начальства отсутствует юмор.
— Зато у вас его в избытке.
— Вы серьезно?
— Нет, я с юмором. И что вам было сказано?
— Что я великий путаник: когда имел чешский паспорт, то никуда не уехал, а когда сменил гражданство, то захотел. Они никак не могли понять, что тогда я ухаживал за своей будущей женой и мне не до сестер было.
— Потом до них очередь дошла, — рассмеялся шеф, — и где они в настоящее время?
— В Нью-Йорке. За эти годы они уехали туда, и я хочу их повидать. Я сообразил прийти к вам, помимо всего прочего вы мой депутат, я за вас голосовал.
— Спасибо.
— За что?
— За то, что не голосовали против.
— Так вы поможете?
— Помогу.
— Я не сбегу.
— Уверен в этом. Нет смысла. Слишком долго боролись за справедливое отношение. Я так понимаю. Да и от жены может попасть, — не удержался от шутки напоследок шеф.
— Да. Она женщина строгая, — в тон ему ответил Кульчицкий.
Оба засмеялись.
— Оставьте ваше заявление. Через десять дней позвоните моему сотруднику, — и он дал телефон Конрада. — Он вам сообщит о решении. Думаю, что оно будет положительным. До свидания.
— Не знаю, как вас благодарить, — неожиданно медленно, тихим голосом произнес Кульчицкий. Глаза у него повлажнели, он вытащил платок, стыдливо высморкался и вытер слезы. — Всего хорошего вам, — сказал он и вышел из кабинета. Шеф набрал номер телефона.
— Федор Петрович? Зайдите ко мне.
Руководители подразделений в день приема шефом посетителей обычно старались в эти часы быть на местах, в своих кабинетах: мало ли какая справка могла понадобиться старику, да и продемонстрировать, что ты на месте, весь в делах, — тоже было нелишне. Так уж повелось в эти приемные Дни. Объясняться с шефом на следующее утро в ответ на его замечание, что вы, дорогой, своим отсутствием несомненно соблюдаете трудовой распорядок, но… было занятием малопочтенным.
Федор явился слегка запыхавшимся, свидетельствуя тем свое неуемное желание поскорее предстать перед шефом. Тот где-то в глубине души поморщился от такого усердия, так как четко знал, что спуститься на три этажа можно было и без ускоренного выдоха-вдоха, но промолчал: артистические способности Федора он знал наизусть и не собирался губить его талант.
— Федор Петрович, неделю тому назад ты принимал некого Кульчицкого?
— Это такого лысого полного еврея? — спросил Федор.
— Все точно, — откликнулся шеф.
— Принимал.
— Ну и?
— Фантаст какой-то. Не понять, ни кто он, ни откуда, кроме того, что в Воркуте отсидел лет пять. В Штаты захотел, тоже мне деятель! — Федор слегка покрутил головой и поддернул вверх плечи, чтобы через мгновение их опустить.
Шеф встал, подошел к окну, остановился и стал раскачиваться с пяток на носки.
— Если бы ты, Федор, мог сейчас сплюнуть от переполняющей тебя желчи при воспоминании об этом Кульчицком, то ты бы сделал это. Хотя желчный пузырь болит у меня, а не у тебя, — добавил он, сморщился в предчувствии приступа и сел на свое место. — Ответь мне на один вопрос, Федор, кто виноват в истории этого человека?
— Только не я, — быстро выстрелил Федор.
— Ты уверен? Но ведь на прошлой неделе, когда ты выслушал его, ознакомился вот с этими говенными бумажками и отказал ему, ты продолжил его изоляцию, его пребывание в Воркуте, хотя он и живет с нами в одном городе.
— Товарищ генерал, на человека имеются компрометирующие материалы. Как мы можем уважать его просьбу? Разрешите, я вам зачитаю все по пунктам, что с ним было. Я все выписал и храню в тетради.
— Ты, Федор, не Арина Радионовна, а я не Пушкин, чтобы ты мне сказки читал. И ты прекрасно знаешь, что я сам умею читать. Да, его история — это еще одна компрометация, только нас, а не его. Ни одного доказательства, даже самого паршивенького, здесь нет. И ты это видишь не хуже меня. Его упекли по статье о простой краже, даже не по традиционным статьям о государственных преступлениях. Заметил? Им заткнули, как пробкой, дырку, образовавшуюся от исчезновения изъятой при обыске валюты. Девиз жулья при этом — спишем на бродягу-еврея. Где это видано, чтобы особое совещание применило вдруг статью о простой краже? Это значит, что начальник особого отдела стоял на коленях перед совещанием и просил, просил… за Кульчицкого. Воров же выгородили. Ты этого не увидел? Ты не умеешь читать между строк?
— Да видел я. Может не так, как вы — под микроскопом… Так что? Мы теперь всем им кланяться должны? — нервно возразил Федор Петрович.
— Свои ляпсусы исправлять должны. Эх, Федор, Федор! Тех лет, что люди там провели, мы не вернем. Жизнь не пластинка — иголку не переставишь, снова не сыграешь. Что было сыграно, то отзвучало. Но права человеческие XX съезд возвратил. И ни тебе, ни мне отнимать их вновь не положено.
— Я их и не отнимаю, — обиженно выпятив нижнюю губу, сказал Федор.
— Ты их зажимаешь, пользуясь завесой секретности, нас окружающей, вот что ты делаешь. Кстати, ты с какого года служишь?
— Я? С тридцать седьмого.
— А я с девятнадцатого. Все перевидал. Чуть было на людей отказался орать, стал рассуждать о процессуальных правах и кодексах — сам загремел, Думал, все, конец. Война спасла. Почему у нас вторая партия по численности там, в лагерях, тюрьмах и на близлежащих кладбищах возникла и умирала, гибла? Ты задумывался?
— Там всякие оказались: и вредители, и враги народа, и власовцы, но…
— Не крути вола, Федор. Так говорят те, кто оправдаться хочет. Туда ушла большая часть старой партийной гвардии. Те, кто революцию с Лениным делали. Ты полагаешь, что Ленин окружил себя теми, кто без конца ошибался и превратился в отступников революции? Как бы не так! Вряд ли с такими революция победила. Все было наоборот. Именно потому, что ленинская гвардия, как кость, застряла у Сталина в горле, он выплюнул ее под пресс НКВД, ручку которого дергали Ежов, Берия, Абакумов и такие, как мы с тобой, Федор. Так Хрущев в докладе сформулировал. И знаешь, почему так вышло? Ленин ушел из жизни слишком рано. Не успел он Сталина сместить и задвинуть куда-нибудь подальше, хотя и раскусил его за восемь месяцев пребывания на посту генсека: в апреле 1922 года того избрали, а в декабре Ленин сказал, что ошиблись, надо Иосифа Виссарионовича передвинуть. Заметь, никого больше, только его единственного. Не успел Ильич отрегламентировать гарантий прав партийцев при социализме. Ему это и в голову не пришло. Я так думаю, — повторил шеф мысль Ванага, — не было у нас гарантий прав личности и сейчас нет. Пример? Изволь: твое отношение к Кульчицкому.
— Вы уже подвели базу, товарищ генерал! — встрепенулся Федор Петрович, никак не ожидавший такого перехода от экскурса в историю к какому-то непонятному типу, непонятному в квадрате: по своей сути и потому, что шеф за него зацепился как за союзника.
— Это хорошо, что он на прием ко мне прорвался. А если нет? Остался бы твой отлуп — это не наше дело, извольте обращаться в другое учреждение, а гарантии прав гражданина Кульчицкого наш уважаемый Федор Петрович выбросил бы в корзину для бумаг и с концами. Все. Общий привет. Так?
— Скоро у нас граждане обзаведутся собственными адвокатами, попробуй, подступись к ним тогда.
— К сожалению, не скоро, Федор. Далеко не скоро. Вот я выступил в этой роли адвоката, а как ты меня? Сразу параллель у тебя появилась: у полного, лысого еврея Кульчицкого адвокатом выступил сам шеф. Так ты будешь рассказывать подчиненным?
— Что вы, что вы, — заерзал Федор. Про себя он думал, что лет десять назад — черта лысого, чтобы шеф заступился за какого-то там, не пойми кого, чеха, венгра, еврея, а теперь, на тебе, оказывается и историю старик зовет себе на подмогу.
— Кульчицкий тебе фамилию Панцингера не называл?
— Что-то он там хвастался. Начальника СД, что ли, задерживали. Это он и сочинить мог. Фамилии он не помнил, но что-то похожее говорил.
— Федор! Зачем ты так! К чему ему сочинять? Я дал Кульчицкому телефон Конрада. Передай ему, пусть встретится с Кульчицким, поговорит о Панцингере и продемонстрирует наш семейный альбом эсэсовских чиновников. Кого-то из них Кульчицкий встречал неподалеку от Панцингера, но тот сбежал, бестия.
Уходил Федор Петрович от шефа слегка пришибленным. Разговор вывел его из равновесия. «Вчера было одно, сегодня — другое, а что будет завтра? Пора уходить на отдых, — решил он. — Или попробовать пересидеть шефа, ведь тому уже шестьдесят с гаком, скоро и на пенсию, а?» Такие задачки Федору поддавались быстрее, чем отгадывание типа Панцирь-Панцингер, важно это или нет.
Панцингер
Оберфюрер СС Фриц Панцингер сидел в углу купе поезда, мчавшегося с вполне приличной скоростью. Через два часа должна уже быть Рига — станция назначения как для поезда, так и для него. Он при этой мысли изобразил тонкими губами обычную свою азиатскую улыбочку, как окрестили эту его манеру в родном гестапо, и попросил заглянувшего к нему в ответ на звонок проводника принести еще кофе. Панцингер уже привел себя в порядок, побрился, был в мундире, правда еще не застегнутом на все пуговицы, что не противоречило этикету дорожного путешествия. Он мог позволить себе чуть-чуть расслабиться, хотя бы в течение двух дней переезда к новому месту службы или двух часов, оставшихся до прибытия в столицу Остланда, в виде компенсации за два предшествующих года напряженнейшей работы. Он вновь пришел в хорошее настроение, на сей раз от цифры 2, которая становилась для него талисманом на удачу, и одновременно от появления в коридоре прелестной блондинки, заглянувшей с интересом в его купе. Ему нравилось обращать на себя внимание в подходящих местах, в таких, например, как вагон, ибо в служебной обстановке до этого дело не доходило. Враги рейха от его вида не млели. Там был иной мир: вынюхивание, слежка, преследование, аресты, пытки, признания. Хотя нет, последних было не так много. И он поджал свои тонкие губы. Как бы там не было, на работе он внушал страх, а здесь, в поезде, — любопытство. Ехавшие в одном из соседних купе два его офицера, наверно, уже разболтали, поэтому публика в вагоне посматривала на него с любопытством, если не дикарей при виде белого человека, то по крайней мере смиренных прихожан на встрече с папой римским. Адъютант Коммель передал ему визитную карточку некоего Свикиса, просившего передать, что если господину оберфюреру потребуется мебель, то лучшую может предложить только его фирма.
Да, поклонение ему нравилось. А иначе зачем жить? К чему все эти тяготы службы, когда нет покоя ни днем, ни ночью? Когда все новые группы Сопротивления возникают равно как из — пепла и праха только-только спроваженных в небытие, коварные заговоры плетутся бесконечно, агенты врага сыплются с неба, считай, с каждого десятого самолета, ночами эфир переполняется все новыми радиоперадачами. Ужас, что творится! Панцингер покачал головой, повернулся на сиденье в сторону окна и стал смотреть на пробегавшие мимо перелески.
Август перевалил за свою середину. Стояло жаркое, сухое лето. Где-то не так уж далеко от Остланда заканчивался очередной этап войны — Курская битва, после поражения немцев в которой наступательная стратегия вермахта на Восточном фронте приказала долго жить; Германия должна была пересмотреть свою военную доктрину и перейти к войне оборонительной. Нет, ни оберфюрер Панцингер, ни его начальники Гиммлер и Кальтенбруннер не ощущали еще всех этих передвижек в стратегии воюющих сторон (они не были столь проницательными в военных вопросах). Но одно было ясно — операция «Цитадель», а так было обозначено кодовым наименованием наступление вермахта под Курском, заканчивалась поражением. Однако, с другой стороны, в Главном управлении имперской безопасности (сокращенно РСХА) сидели профессионалы, понимавшие, что такое масштабное поражение вызовет новый всплеск сопротивленческой войны, и поэтому спешили укрепить наиболее заметные болевые точки важных областей, оккупированных рейхом.
Мысль о необходимости перемещения оберфюрера сразу на два ключевых поста в иерархии РСХА в Прибалтике: командующего полицией безопасности и СД Остланда, а также начальником «эйнзац-группы-А» мотивировалась тем, что если уж не Панцингер с его опытом выведет как клопов на белый свет и утихомирит всех этих партизан и подпольщиков, то больше некому вытянуть эту ношу. Во всяком случае на сегодня, на август сорок третьего. Кроме того, Панцингеру объяснили, что для дальнейшего его продвижения на руководящие посты в РСХА, а это значило стать начальником одного из управлений главка, ему необходим был боевой опыт, стаж участника войны, без которого повышение не произойдет. Таково было правило. Эти доводы, особенно перспектива роста, льстили его самолюбию, и он был весь в ожидании успешной борьбы с врагами рейха.
До нового назначения Фриц Панцингер занимал пост начальника отдела IV А четвертого управления (гестапо) РСХА. В системе гестапо — государственной тайной полиции — отдел, возглавляемый Панцингером, стал ведущим по размаху деятельности и по авторитету его руководителя: когда начальник гестапо группенфюрер Генрих Мюллер находился вне Берлина, то исполнять свои обязанности, в соответствии с заведенным им порядком, он оставлял Панцингера. Одно полное название отдела IV А чего стоило: «Борьба с левой и правой оппозицией и саботажем, противники по мировоззрению, особые случаи, превентивный арест». В отделе были четыре отделения: первое осуществляло руководство по борьбе с коммунистами на территории всей Германии, а также в оккупированных странах, т. е. Франции и других, а также на захваченной территории СССР. Это же отделение координировало все мероприятия по борьбе с коммунистами в Японии, Болгарии, Румынии; руководило полицейскими атташе, имевшимися в германских посольствах за границей, которым вменялось в обязанность выявлять очаги коммунистического движения и брать всех коммунистов на учет. Второе отделение вело работу с саботажем и расследовало диверсии и террористические акты, а также осуществляло контрразведывательную деятельность против английской и советской разведок, руководило службой радиоперехвата. Третье отделение вело разработку оппозиционно настроенных к политике Гитлера лиц, в том числе вело борьбу с остатками движения так называемого «черного фронта» группы Отто Штрассера и с австрийским антифашистским движением. Четвертое отделение осуществляло внешнюю охрану руководителей правительства.
Из перечисления функций отдела IV А видно, какого уровня фигура в лице оберфюрера была направлена в Прибалтику.
…Панцингер смотрел в окно и вспоминал, как в сороковом году, после победы над Францией, он вот также спешил на поезд в Париж, чтобы в числе других избранных гестаповцев обеспечить охрану фюрера, который должен был туда вскоре приехать. Сейчас его особо беспокоило положение дел с руководством «эйнзацгруппы-А». Предшественники на посту начальника группы — бригаденфюреры Франц Шталекер и Гейнц Иост работали упорно: к сорок третьему году в результате карательной Деятельности группы на территории Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии, Псковской, Новгородской, Ленинградской областей были уже убиты сотни тысяч человек, однако уровень подпольной враждебной деятельности не только не снизился, но и возрастал чуть ли не в геометрической профессии. Между руководителями группы и Пфиф-Радером, возглавлявшим до Панцингера полицию безопасности и СД Остланда, существовали постоянные дрязги на тему, кто из них старше. На правах старшего оперативного начальника обергруппен-фюрер Еккелен попросил своего старого друга рейхсфюрера Гиммлера утихомирить спорщиков. Было решено объединить командование обоих органов в одних руках — выбор пал на Панцингера.
В ушах у него звучали слова Мюллера, сказанные перед назначением: «Поймите, мой дорогой Панцингер, я лично очень уважаю Пфифрадера, это упорный трудяга, но он же настоящий мясник. Вместе со Шталекером и Иостом, они, эта святая троица, набили горы красных, но мы находимся там же, где и стояли в начале пути — никакого движения вперед нет. «Эйнзацгруппа-А» — наша гордость, сила, фронтовая элита. И использовать ее черт знает как! Не для того же мы создавали эти группы, что бы сбивать верхушки большевизма и соревноваться, кто больше набьет евреев. По линии СД надо, решать две главные задачи: обеспечить засылку в Ленинград серьезной агентуры, способной разложить оборону красных изнутри и прикрыть коммунистическую деятельность в Прибалтике. 16-я и 18-я армии буквально стонут от партизанских акций. Они повисли на наших коммуникациях, кандалы на каторжнике. Пора их сбросить. Чем: же идет дело с операцией «Цитадель», тем волы ней они распоясываются. У вас солидные познания по разоблачению организованной преступности врагов рейха. Взять ту же «Красную капеллу»! Пока что это ваш триумф, дорогой Панцингер, мы аплодируем вам и ждем ярких успехов на благо фюрера и рейха!»
Да, разоблачение «Красной капеллы» было гордостью отдела Панцингера. Пришлось, конечно, помотаться чуть ли не по половине Германии, всему Берлину, Франции, Бельгии вслед за радиопередатчиками этой «капеллы». Оберфюрер отлично помнил день 26 июня 1941 года, когда в четыре утра абвером были запеленгованы сигналы радиопередатчика с позывными РТХ. С этого все пошло и поехало. Двести пятьдесят шифротелеграмм были перехвачены, однако лишь почти год спустя математику, доктору Фауку, удалось разгадать шифр советской разведки. Когда гестаповцы прочитали тексты телеграмм, они пришли в ужас: русские были в курсе вынашиваемых и планируемых штабом верховного командования ударов по Москве, Ленинграду, Сталинграду, Кавказу! Подпольщики передавали информацию о маршрутах германских подводных лодок, действовавших в Северном море на коммуникациях союзнических конвоев, о новых конструкциях авиационной техники. К примеру, передали в виде микрофильмов чертежи нового истребителя «Мессершмитт», развивавшего скорость 900 км/ч, даже о новых торпедах с дистанционным управлением! Было от чего хвататься за головы! «Слоны» из Москвы, будучи уверенными в неуязвимости применяемого шифра, предложили в телеграмме резиденту отправиться в Берлин по трем адресам: Шульце-Бойзена, Харнака и Кукхофа с целью выяснить причины перебоев в радиосвязи!
Советский резидент Леопольд Треппер тоже схватился за голову: он-то понимал, что по радио такие вещи не передаются, что если подобрать ключ к шифру, то…
Доктор Фаук сделал это и положил адреса на стол Панцингеру. Тот не торопился, организовал слежку, прослушивание телефонов разведывательной сети противника. Когда Панцингер и его сотрудники — начальник второго отделения оберштумбанфюрер Копков и комиссар уголовной полиции Штрюбинг в августе сорок второго вышли на Хорога Хайлмана, сотрудника службы радиоперехвата, подчиненного Фаука, блестящего молодого математика, поддерживавшего связь с выявленным по адресу из Москвы руководителем организации Шульце-Бойзеном, офицером министерства связи. Кальтенбруннер и Мюллер сказали, что «хватит слежки, а то так наследим, что руководители «капеллы» узреют наши следы, пора брать». 31 августа 1942 года начались аресты. В течение трех-четырех недель задержали 60 членов берлинской группы. Вот это был улов! Панцингер пришел в хорошее настроение, он вспомнил, как удалось вставить фитиль «маленькому адмиралу»: референтом по организации саботажа во вражеском тылу в абвере работал некий Герберт Гольнов. Используя его сведения, Шульце-Бойзен аккуратно передавал в Москву данные о подробных акциях абвера на территории России. То-то забегал тогда Канарис!
Панцингер встал, закрыл купе и оглядел себя в зеркало, вмонтированное в дверь. На него смотрел сорокопятилетний выше среднего роста худощавый офицер в очках, с близоруким взглядом, в мундире, придававшем ему импозантность. Он довольно улыбнулся своему отражению. В дверь постучали. На пороге стоял Кюммель, адъютант.
— Пора, господин оберфюрер, через две минуты — Рига.
Панцингер благосклонно кивнул и надел фуражку. Мимо проплыла к выходу из вагона та самая пышная блондинка…
В это же августовское утро на плацу шталага-350 пленные были выстроены в виде прямоугольника, в основание которого приволокли и установили трибуну, на которой обычно комендант лагеря исполнял торжественные речи. Лагерные острословы прозвали ее кормушкой, поскольку с трибуны раздавались сладкие обещания или черные угрозы. Каково будет меню кормушки сегодня, никто не знал, впереди — рабочий день, его никто не отменял, толпа дышала равнодушием и неприязнью. На этот раз на трибуну забрались новый начальник лагеря подполковник Ярцибекки, переведенный недавно в Ригу с поста начальника лагеря в Валге, Вагнер со своим вторым «я», неразлучным Рейнкопфом и еще какой-то тип в незнакомой для пленных форме: немецкой, но на левом рукаве у него был нашит щит с бело-сине-красной окантовкой, андреевским полем и надписью «РОА», а на фуражке красовался орел.
Ярцибекки неожиданно зычным голосом прокричал о том, что он объявляет о своем официальном вступлении в должность и что сейчас выступит представитель штаба «Русской освободительной армии» капитан Плетнев. Рейнкопф перевел. Оратор придвинулся к краю «кормушки» и хорошо поставленным голосом заговорил:
— Соотечественники, я прибыл сюда по поручению «Русского комитета», возглавляемого генерал-лейтенантом Андреем Андреевичем Власовым. Вам, верно, приходилось уже читать обращение «комитета», который избрал местом своей дислокации славный русский древний город Смоленск…
Откуда было знать пленным, что такое «Русский комитет» и где он находится? Расположен он был вовсе не в Смоленске, а в Берлине, однако головке предательской организации и дирижирующими ею немецким деятелям было важно создать иллюзию, будто «комитет» образован самими русскими на русской территории. Это должно было впечатлить пленных, показать им, что наряду с властью, которую они защищали, существует еще одна власть, защищавшая их интересы сейчас, здесь, на территории, захваченной врагом. Попавшим в плен после Декабря сорок второго уже приходилось видеть листовки с сообщением о создании «Русского комитета» в Смоленске и с изображенным на них для большей убедительности портретом Власова, который рекламировался как главный союзник новой власти из числа бывших командиров, тех, кто сидел за колючей проволокой. Именно в декабре прошлого года, после создания «Смоленского комитета», находящегося в Берлине, и начался отсчет времени, когда пошли сыпаться с неба листовки, написанные скверным (явно переводным с немецкого) русским языком. Попавшие в плен до того декабря ничего о всей этой заварухе не знали, и откровения немецко-русского капитана были для них новостью.
Натренированное выступление продолжалось:
— Под руководством генерала Власова и его боевых сподвижников, последовавших за ним, формируется «Русская освободительная армия», призванная сыграть историческую роль в ликвидации большевизма… Мы создадим новое русское правительство из истинных патриотов, и только оно заключит почетный мир с Великой Германией!..
Рейнкопф переводил речь коменданту и Вагнеру. Те, улыбаясь, удовлетворенно кивали: фашистская демагогия всегда отличалась качественностью. Откуда было знать пленным, что никакой «Русской освободительной армии» не существовало? Что в формируемых из русских пленных взводах и ротах только унтер-офицеры могли быть русскими, а офицеры и даже фельдфебели набирались из немцев? Что Власов сдался и перебрался в штаб 18-й армии группы «Норд» один, без соратников, лишь с поварихой, что готовых поддержать его предателей разыскивали по всем лагерям и свозили их в Берлин, словно боевых бычков для предполагавшейся корриды?
— …Всем народам, освободившимся от власти Советов, немецкое командование предоставляет право борьбы рядом с доблестной немецкой армией. Латыши вступают здесь, на этой территории, добровольно в латышские части, созданы охранные роты в Белоруссии, в Крыму — татарский батальон, из украинцев сформирована добровольческая дивизия СС Галиция, рядом с вами стоят бойцы «Украинского национального батальона». Теперь ваш черед, соотечественники! Сталину на вас наплевать, он от вас отказался! — неожиданным фальцетом выкрикнул Плетнев и закончил свою речь призывом записываться в РОА в течение сегодняшнего дня в комендатуре лагеря. Здесь же комендант пояснил, что до обеда выход на работы отменяется.
Немцы хорошо изучили, что пленные большей частью тушуются выходить из строя и перед лицом своих товарищей публично изъявлять желание где-то служить и куда-то направляться, посему разговоры интимного, так сказать, свойства было предпочтительней вести в кулуарах. В комендатуру тотчас наметилась очередь, бросив взгляд на которую Соломатин со злостью сказал Кириллычу:
— Вон скольких понос пронял, выстроились, как в сортир, побежали поливать власть свою, подлецы!
— Да пес с ними, — ответил тот. — Что ты им сделаешь? Запретишь? Кто думает только о том, как из лагеря ноги унести, кто — к партизанам смоется. Мы с тобой, вступив в ряды украинского воинства, не об этом думаем?
— То мы, а большинство служит как положено, — пробурчал Соломатин.
— Тем, кто поверит всей этой брехне и полезет на передовую, наши так накостыляют по шеям, что потом костей не соберут. Но это их дело. Пусть сами рассчитываются. Давай лучше о своих ходах думать. Ты к Елене сегодня зайдешь? Сможешь? Там Ольга будет и вообще…
Соломатин кивнул в знак согласия.
В эти же минуты Вагнер успел переговорить кое с кем из своих осведомителей, которые под шумок очереди записывающихся в армию Власова сумели пробраться в его кабинет и поделиться свежими наблюдениями. Затем Вагнер приказал позвать Дьяконова, а сам присоединился к группе офицеров, окруживших недавнего оратора в кабинете Ярцибекки.
— …Я объехал лагеря в Минске и Даугавпилсе. У вас — в третьем. Теперь двинусь в Валгу, в ваши бывшие владения, господин подполковник, — обратился он к коменданту.
— И как успехи? — поинтересовался тот.
— Средние. Где больше, где меньше сотни. У вас я ожидал больше, поскольку здесь много народу из командного состава сидит, но, судя по очереди, — он кивнул в окно, — мои ожидания не оправдаются.
— На это есть свои причины, — заметил Вагнер, отвечавший за миссию Плетнева. — Зайдем потом ко мне, поговорим.
— В вермахте с этим легче. Солдаты идут за старшими по званию в любых условиях. Дисциплина, — промолвил Ярцибекки с гордостью, — а у русских — разброд. Толпа есть толпа, каждый сам по себе.
— Не совсем так, господин подполковник, — проговорил Плетнев обиженным голосом, — ручаюсь, что они не идут к нам именно потому, что следуют за кем-то, внушающим им отрицательное отношение к РОА. Дисциплина обязательна во всех армиях.
— Я имею в виду армию, а не пленных. Не обижайтесь, капитан, вы делаете неблагодарную работу, — проговорил комендант.
— Пойдемте, господа, ко мне, — обратился Вагнер к коменданту и Плетневу, — я вам кое-кого продемонстрирую.
Они вошли в кабинет Вагнера, куда по его знаку Рейнкопф ввел Дьяконова.
— Вот, полюбуйтесь, господа, на лагерный авторитет, и вы разрешите ваш спор. Это — Дьяконов, старший по званию в лагере, врач первого ранга. Так? — обратился он к пленному.
— Военврач первого ранга, — поправил тот Вагнера.
— Какая разница? — поинтересовался Ярцибекки.
— Я военный врач, я давал военную присягу, разница в этом, — с достоинством ответил Дьяконов.
— Ах вот оно что, — протянул Плетнев, до которого дошел смысл сказанного Вагнером в кабинете коменданта. — Вы тот, кто против?
Дьяконов молчал.
— Вы не только против, вы подбиваете других к неповиновению, — заорал Вагнер.
— Послушайте, — обратился к нему Плетнев, — я согласен, вы давали присягу, все мы присягали, но от вас, от меня, от всех пленных отказался тот, кому мы ее давали. Сталин отказался даже от собственного сына Якова, который попал в плен. Даже его забыл в лагере, а ему предложили обменять сына на германских генералов. Что говорить о рядовых пленных? Присяга — это обязательство перед государством, которое тоже имеет свои обязанности перед присягнувшими. Пленным англичанам, французам, бельгийцам идут через нейтральные страны и письма, и посылки. Даже звания им присваивают их правительства, зарплату начисляют. А вы забыты. Сталин отказался вам помогать. С вами все кончено. О вашей присяге забыто.
— Господин капитан, — сдержанно сказал Дьяконов, обращаясь к Вагнеру, — как я понял, сегодняшняя запись — дело добровольное, именно так об этом было объявлено. Я врач, пленный, и мое дело лечить здесь своих товарищей по несчастью…
— Нет, — перебил его Ярцибекки, — это не ваше Дело. Вам надлежит быть в изоляции от военных Действий, а лечите вы по нашей доброте.
— Вот что, Дьяконов, хватит! Вы нам надоели. Сегодня же отправим вас в Саласпилс. Разговоры окончены. Подзуживать пленных на неповиновение мы вам не дадим. Все. Рейнкопф, уведите.
Дьяконов вышел…
У Елены наступили необычные дни — она выходила замуж. Она жила с сестрой Анной в небольшой квартирке на улице Артиллерийской. Обе работали на швейной фабрике, зарабатывали плохо, и если бы не старики-родители с их посылками из деревни, то было бы совсем туго.
Сложилось так, что их скромная обитель, расположенная в пятнадцати минутах ходьбы от лагеря, стала одним из центров, где собирались служаки из «Украинского национального батальона», поначалу лишь переодевавшиеся здесь в штатское, чтобы чувствовать себя свободней при вылазках в город. Затем контингент гостей стал постепенно расширяться: бывали здесь и беглецы из лагеря, которых снабжали одеждой и отправляли в другие более стабильные убежища, а куда они девались потом — никто не вспоминал. Не к чему было запоминать их имена, да и никто их не спрашивал. Самым актуальным делом было доставание, подгонка и перелицовка старой одежды, вечно нужной для «клиентов», как шутливо называли выходцев из лагеря.
Сейчас Елена с Анной подшивали белое подвенечное платье, а Ольга и Тамара распаривали и разглаживали какие-то старые пиджаки и брюки, принесенные не ко времени, чтобы затем аккуратно сложить их в стопку и убрать подальше с глаз: от обысков никто не был застрахован, а ответить на вопрос, зачем двум молодым хозяйкам мужские носильные вещи, — было не просто.
Разговор вился вокруг предстоящей свадьбы. Ольга никак не могла уразуметь происходящего и все удивлялась:
— И в такое время замуж собралась, Ленка?
— Если война, так по-твоему время остановиться должно, — ответствовала за подругу Тамара.
— Кто венчать будет — не знаю, — недослышав вопроса и вынув булавки изо рта, ответила Елена. — У двух священников Леша вчера был, те ни в какую, говорят, документов у жениха толком нет, не можем, говорят, нарушать германские законы. Вся надежда на стариков, привезут масло, мясо, смотришь — и попы дрогнут.
— Тоже в плен пойдут. К нам только, — добавила Анна. Все громко расхохотались.
— Хорошо, я понимаю — свадьба. Это день, два. Неделя, наконец. Как жить дальше? Кругом война, все мы в ее котле варимся. У твоего Леши и бумаг вон нет, одна форма непонятного войска лишь на спине, — гнула свое Ольга.
— Война войной, Оля, а жизнь-то идет. Господи! Да я такого парня встретила, принца настоящего, во сне или в кино видела таких, и чтоб я отказалась от своей судьбы ради этой паршивой войны? Со временем к нашим сами уйдем. Вначале к старикам погостить. Там, в Латгалии, поближе к Белоруссии, народ воюет. Раз Лешка здесь выжил, то и там выдержит. А я рожать там буду. Вот так, — изложила свои замыслы Елена.
— Смелая ты, — покачала головой Ольга.
— Не было бы войны — не встретила бы я своего мальчика красивого, а теперь из-за той же войны от него отказываться и сохнуть? Нет уж, дудки! Любовь одна, и никому, кроме нас двоих, до нее дела нет. Ни войне, ни…
— Ладно, ладно, сдаюсь, — замахала руками Ольга на зардевшуюся от спора Елену.
— Послушай, Тома, — переводя разговор на другую тему, спросила Анна, — твой Шабас точно привезет наших стариков со всем их добром? Время уже, — кивнула она на часы.
— Раз Иван сказал, то сделает. Знаешь, как сейчас поезда ходят? Бесконечно опаздывают. К себе в вагон он их возьмет, и все в порядке будет. Со своим проводником как за каменной стеной, — ответила Тамара.
И точно, в дверь позвонили. Анна бросилась открывать, однако вошел Кириллыч. Он поздоровался, сказал Елене, какая та сегодня красавица, и отозвал в коридор Ольгу.
— Ты что такой озабоченный, случилось что? — спросила она.
— Да. Дьяконова отправили в Саласпилс, — Кириллыч был лаконичен.
— Боже мой! За какие грехи? Он никуда не встревал.
— Все, сволочи, припомнили. Главное же сегодня приключилось. Вот именно за то, что верен был присяге и ни в какие их формирования не лез.
Кириллыч поведал об утреннем представлении на плацу.
— Пойдем в ту комнату, поговорим, — Ольга потащила приятеля.
Вновь затрещал звонок. Вошли Леша Мартыненко и двое мужчин в гражданской одежде: один крепыш с жилистой шеей, похожий на друга Ольги и Кириллыча Федора, второй — светловолосый, молодо выглядевший. Ольга встречала их раньше, но серьезных разговоров с ними, несмотря на все ее желание, вести не приходилось. Крепыша звали Иваном Рагозиным, второго — Петей. Сегодня Ольга и Кириллыч хотели с ними поближе познакомиться и посмотреть, чем они могут помочь их группе.
— А где вы Федора потеряли? — спросила Елена.
— Он забежал колечки забрать, — ответил Леша. Подойдя к невесте, полуобнял ее и, наклонившись к уху, что-то зашептал. Та счастливо засмеялась и поцеловала его.
Ольга залюбовалась парой. Они действительно смотрелись. Хрупкого сложения, гибкий, с серыми глазами с поволокой и широкими длинными бровями Алексей и темная, большеглазая Елена, которую несколько портил лишь тяжелый подбородок, когда она, стараясь быть серьезной, сжимала губы. Но сейчас она была сама радость жизни, хотела быть со своим суженым-ряженым, как звала Алексея младшая сестра Анюта из-за его «опереточной» формы.
Пришедшие прошли во вторую комнату, вскоре к ним присоединился Алексей, оставив сестер и Тамару доканчивать платье. Прибежал Федор, принес обручальные кольца. Все стали их рассматривать.
— Все с тобой, Леха, окольцевали тебя, теперь никуда не сбежишь, — сказал Рагозин.
— Мне и бежать хочется только сюда и никуда больше, — ответил жених. — Сегодня после утреннего представления принц Чарлз долго мне внушал, что теперь я буду его ближайшим соратником, дескать, солидность придает только брак. Обещал, если надо, то и со священником поможет.
— Не хватало еще, чтобы немец искал тебе православного служителя божьего, — смиренным голосом произнес Федор, забирая кольца и укладывая их в коробочку. — И вообще, я уже обо всем договорился с отцом Иаковым из Гребенщиковской общины. Он согласился обвенчать. Я ему такого наплел, такого! Что буду поставлять ему детей на крещение от рожденных в бараках членов нашего воинства. Сказал, что где-то в мае он может рассчитывать на твое с Еленой потомство! Ведь так? — продолжал треп Федор.
— Не загадывай, Федя, не надо, это плохая примета, — заметила Тамара.
— Что же здесь плохого? На майские праздники как раз пополнение прибудет. Здесь радоваться надо! Отметим день солидарности как следует, — подл голос Рагозин.
— До них дожить еще надо. Как-никак девять месяцев еще, да и если отпраздновать, то более существенным образом, — заметил Кириллыч.
— Что будет, братцы, к тому времени? — Леша заложил ногу на ногу и стал раскачиваться на стуле.
— Если ты о своем наследии, то лучше девочка, чем мальчик, — заметила Ольга. — Девочкам не надо служить в армии…
— И сидеть в лагере, — мягко, с интонацией украинского языка докончил Петя. — Я думаю, у немцев сейчас невеселые времена. Был я в госпитале ихнем, уборщиков туда возил, они видели много танкистов обгоревших. Бои под Курском идут сильные.
— Говоришь, под Курском? Значит, рядом с моей стороной — я из-под Белгорода. Но что-то не верится о больно великих боях там. У наших и танков толком раз-два и обчелся, — заметил Рагозин и сделал паузу.
— Не скажи, не скажи. Ты служил в артиллерии? — воскликнул Федор.
— Командиром зенитно-пулеметного взвода был, — ответил Иван.
— А я танкистом. Только через месяц после начала войны без машины остался. Хреновая была тачка — БТ-6 называлась. Бронь на жесть была похожа. Но на полигоне рядом гоняли новую модель — Т-34. Вот это класс! Наш Кочанов, знаете, танкист этот обожженный? — спросил Федор. Все мужики кивнули. — Так вот, он успел повоевать на «тридцатьчетверке», рассказывал, что пушка в нем бьет по цели с полутора километров, а немецкие — только с полукилометра.
— Ну это ты загибаешь, Федор, — Иван подмигнул, — если так, то от немцев ничего и не останется.
— В январе наши блокаду под Ленинградом прорвали? Прорвали! От немцев в следующем году мало что останется. Сейчас тем паче под Курском они трещат, — авторитетно произнес Кириллыч.
— Что вот от нас останется? — покачал ногой Леша.
— Почему ты так грустно? — тихо сказала Ольга.
— Да ничего веселого нет, Ольга. Кто мы есть, а? Кто ответит? Нарушившие памятку красноармейца. Так? Русские в плен не сдаются, — ответил Алексей. — А мы все?
— Это ты брось. Попали, так попали. И здесь воюем. Шапирограф достали? Будем листовки печатать. Динамит достанем — рванем так, что небу жарко будет. Как у вас приемник, тянет? — спросил он у вошедшей Анны. Та кивнула утвердительно.
В это время раздался звонок. Народ поспешил в прихожую. Приехали старики Елены. В комнате остались Ольга, Иван, Кириллыч, Федор.
— Послушай, Иван, — начала Ольга, — ты все можешь и знаешь.
— Все только боженька на небе знает, да черти в аду. Что я могу знать? Как скрыться от ищеек ихних, да где безопасно ночь провести. Бегаю с места на место как заяц, — ответил тот.
— Брось, не темни. С партизанами ты знаком? — вмешался Федор.
— Ты даешь, Федя! Какие такие знакомства? Я же у тебя на глазах все время, а партизаны вон где. Нет у меня прямых выходов на них. Так, через дружков окольных приветы идут туда-сюда. Побывать бы у них — другое дело. А так…
— Предположим, нам что-то передать надо. Сделаешь? — спросила Ольга.
— Ну как так сразу передать? Несерьезно, ребята. И что передать? — поинтересовался Иван.
— Конечно, не о свадьбе Лехи с Леной. Кое-что о немецких объектах, военных, для нашей авиации наводку на цели. Скажем так, — сформулировал Кириллыч.
— Это здорово! — воскликнул Иван. — Но надо подождать, ребята. Я собираюсь в те края, но где-то в следующем месяце. Тогда и решим, а?
— Ладно, — не сговариваясь ответили Ольга и Федор.
— Вы с Иваном, как два брата, — обращаясь к Федору, сказала Ольга. — Так быть похожими!
— Это все война, — сказал Кириллыч. — Все перемешала. Есть людские типы очень схожие, но живут в разных концах страны и никогда не встретятся. На войне, когда земля дыбом встала, то раз — и рядом очутились!
— Не поэтому, Кириллыч. Он, — кивнул Федор на Ивана, — с Белгородчины. Я — из-под Харькова. Одной землей вскормлены, поэтому и похожи.
— Вот благодаря войне рядом и оказались, — не сдавался Кириллыч.
— Пора, ребята, и честь знать. Пойдем, — встала Ольга.
— Да подождите, перекусим и пойдем. Я и не знаю, к кому в эту ночь попаду. Накормят ли? — заявил Иван.
Вошла Анна с тарелкой, на которой лежали хлеб, сыр, холодное мясо. Все заговорили разом, славя родителей невесты и их хозяйство.
Выйдя втроем, Ольга, Федор и Кириллыч остановились в проходном дворе чуть-чуть поболтать, прежде чем разбежаться по домам: Ольга — к Веронике и Густаву, Кириллыч — в казарму, Федор — дальше всех — в Яунмилгравис, где жил в доме старого рыбака, к которому его устроил Густав.
— Ну и как вам Иван? — спросил Кириллыч.
— Толковый мужик, осмотрительный, — сказала Ольга.
— Торопиться не любит, все обдумывает. Не треплив. Может, действительно в следующем месяце удастся связаться? — выложил Федя и хлопнул по плечу Кириллыча.
— Тише ты, а то от радости из штанов выпрыгнешь, — поморщился тот. — Чую, что все у нас с Ванькой получится. Дело он знает, провернет как надо.
— Пусть завтра Густав ко мне приедет, — сказал Федор.
— Хорошо, — ответила Ольга.
— И предупреждаю: ему придется, может быть, две ночи у меня пробыть. За одну не управимся.
— Ты уже к себе перенес? — спросила Ольга.
— Да. Все в сарае сложил. Ночью надо перевезти на этот чертов остров. Предупреди Густава, чтобы ничего с собой не тащил: ни сапог, в общем — ничего. Незаметней будет. А то после взрыва поиски пойдут, обратят внимание на приезжего в тот вечер рыбака. Мало ли что, — ответил Федя.
— А ты сам? — уточнила Ольга.
— Что я? Я уже, считай, там местный, примелькался. Густав же, как протопает через поселок, — всех ворон испугает. Его там не раз видели. Да еще с сапогами сорок седьмого размера на плече, — Федор старался предусмотреть, откуда может возникнуть опасность. А мне, наверно, надо будет оттуда сматываться. Ничего не попишешь.
— Взрывчатки не хватит? — спросил Кириллыч.
— Должно хватить, но окончательно Сергей определит завтра. Минер все-таки. Если не хватит, то мы с Густавом и с тобой махнем на тот склад в Межапарке. Докупим, — ответил Федор.
— За какие шиши, денег же больше нет, — Кириллыч вопросительно посмотрел на Ольгу.
— Шабас достал ящик шнапса, сойдет, — ответила Ольга.
— Но это же для свадьбы, — возразил Кириллыч.
— Для свадьбы есть пол-ящика. Обойдутся, — ответила Ольга.
— Когда поедем? — спросил Кириллыч.
— Если Серега скажет, что не хватает, то завтра вечером. Идет? — сказал Федор.
— Ладно, все ясно, разошлись, — объявила, подведя черту разговору Ольга. — Я завтра весь день сижу в конторе на телефоне. Если что, то звоните буду связывать вас друг с другом. До скорого! — она попрощалась, и подпольщики разошлись.
В намеченные Федором и Ольгой дни взрыв склада на островке Даудера в Яунмилгрависе организовать не удалось. Не так все было просто, казалось. Живя неподалеку от объекта, Федор ведал многое: и время выгрузки с барж горючего порядок складирования бочек и канистр, и путь, которому можно было безопасно подойти к островку, и место, куда сложить припасенный тол, и практическое отсутствие охраны склада, если не считать двух-трех солдат, не появлявшихся на береги ночью. Будто бы все выяснил Федор, бывший командир Красной Армии, а ныне находившийся бегах пленный, по-прежнему готовый к бою на любой позиции. Однако приехавший к Федору в тот вечер Сергей, в прошлом году еще офицер-минер а теперь выдававший себя за красноармейца, отпущенного из лагеря и работавшего в железнодорожной мастерской, забраковал план нападения. Он сказал обескураженным Федору и Густаву, что тола явно маловато, что не дело растягивать «представление» на два дня, ибо в два раза повышается опасность обнаружения. Подошли — заложили — подожгли — уплыли — и с приветом. Стойте на берегу и смотрите как грохнет, — таково было его резюме. Пришлось вновь мотаться и выклянчивать тол по крохам. «Для глушения рыбы», — так объясняли солдатам вермахта свои просьбы Кириллыч и Ольга. После очередной добычи взрывчатки, Ольга привозила солдатам по несколько рыбин, которые доставал Густав у знакомых рыбаков. Все были довольны.
Взрыв прогремел на две недели позже после срока намеченного в тот раз в подворотне дома Елены. 27 августа 1943 года тысячи канистр и бочек с бензином взорвались и полетели высоко над землей и водой. Горящая масса шлепнулась в реку, а пламя продолжало бушевать на поверхности воды. Для того чтобы прогорело полторы тысячи тонн горючего, так необходимого немецким танкам, ходившим на дорогом бензине в отличие от наших «тридцатьчетверок», кормившихся соляркой, потребовалось три дня и две ночи.
Гордые успехом Ольга, Федор, Густав, Кириллыч, Сергей ходили с победным видом. Они могли позволить себе лишь перемолвиться друг с другом о первом успехе и с усмешкой сравнить этот взрыв с салютами, которые стали в это время практиковаться в Москве, о чем они узнали из передач советского радио. Они никому не проговорились о своей причастности к проведенной акции, и это продлило их жизнь. Они поклялись себе молчать, и первое время никто и не предполагал, что «пятерка» замешана в этом деле. Не знали об этом ни Иван Рагозин, ни другие люди из СД, гестапо, абвера, которых чиновники данных учреждений бесконечно вызывали на встречи, инструктировали, учили, распекали, угрожали, в общем, делали все от них зависящее, чтобы выйти на след злоумышленников.
Рагозин сдался в плен 27 июня 1941 года добровольным порядком. На тот пятый день войны он — лейтенант Красной Армии, командир взвода зенитно-пулеметной роты, отбившись от своих, шел во главе небольшой группы бойцов, хорошо вооруженной, состоящей из физически здоровых молодых людей, не отягощенных ранениями, контузиями, голодом и прочими напастями. Рагозин отверг предложение бойцов вступить в бой со встреченными фашистами, первым бросил оружие и поднял руки. Он содержался в лагерях военнопленных в Минске, Молодечно, Гамбурге, где стал агентом абвера и затем в октябре сорок первого года был доставлен в Ригу. Ему предложили пойти в разведшколу, привезли даже в нее, находившуюся неподалеку от города, но от учебы он отказался, заявив о своей неподготовленности. Тогда его и направили в лагерь № 350, в распоряжение Вагнера, где тот присвоил ему фамилию Панченко. Летом сорок третьего было инсценировано, что из лагеря он бежал, обитает на различных квартирах в Риге, достал себе документы на фамилию Панченко и… участвует в подпольной деятельности. Именно под этой фамилией он числился в списках партизанской бригады в качестве разведчика, причем с августа сорок третьего. Возможно, в данном моменте желаемое выдали за действительное — свой человек, разведчик в Риге. Звучит? Но так было. Рагозину-Панченко верили. Верили в лагере Вагнер и пленные, верили в Риге настоящие подпольщики, поверили и в отряде. Он же служил только абверу в лагере и гестапо в Риге, а всех остальных предавал…
Когда штурмбанфюрер Ланге позвонил в Таллин Панцингеру, выехавшему туда на ознакомление с обстановкой, и доложил о взрыве склада с горючим, тот не заорал, не запсиховал, как делал это его предшественник Пфифрадер, но будничным тоном спросил:
— Сколько было там горючего?
— Полторы тысячи тонн, в основном бензин для танков, господин оберфюрер.
— Да, — протянул тот. Последовала небольшая пауза. — Выходит, потеряли целый эшелон с горючим. Считайте — проиграли танковое сражение. И где? В столице Остланда. Не так ли, Ланге?
— Согласен с вами, господин оберфюрер.
— Имеются ли идеи, кто, к этому делу причастен?
— Пока ничего определенного нет, абсолютно ничего. Очевидно, какая-то новая группа, — ответил Ланге.
— Очевидно, — откликнулся Панцингер. — Вот что. Свое возвращение я убыстрю. Вернусь через три дня. Надо быть там, где рвется. И вот что, Ланге. Если обнаружите злоумышленников, не торопитесь их брать. Подождите моего возвращения. В Берлин сообщили?
— Так точно.
— Хорошо. До встречи.
Панцингер положил трубку и задумался. Он не ожидал спокойствия на новом месте. Но чтобы после двух недель его пребывания, да еще в центре Остланда! Вот вам и цифра 2! Дурное начало деятельности, а на носу приезд рейхсфюрера Гиммлера, до которого остается только две недели с хвостиком. Начало визита 15 сентября, цейтнот. Голова у Панцингера шла кругом.
В Ригу он вернулся через два дня и тотчас провел совещание руководящих сотрудников обеих возглавляемых им служб. Панцингер не любил длинных речей. Он придерживался стиля своего учителя Мюллера, основанного на краткости, волевом подходе и умении вникнуть в главное звено решаемой проблемы.
— Господа, — начал оберфюрер, — я ознакомился с обстановкой на месте, изучил основные документы, направленные моими предшественниками в Берлин. Проделана великолепная работа. Ликвидирован целый ряд подпольных коммунистических групп с претенциозными названиями: «Рижская антифашистская организация», «Рижская рабочая коммунистическая организация», «Латвийская антифашистская организация». Привлечены к суровой ответственности и обезврежены тысячи врагов рейха. Это направление является генеральным, и мы все, сообща, будем и дальше проводить его. Однако, господа, имеется и ряд просчетов, на которые мне указали перед отъездом сюда обергруппенфюрер Кальтенбруннер и группенфюрер Мюллер.
Панцингер передал указания руководителей РСХА об активизации агентурного проникновения в Ленинград и в подпольное антифашистское движение в Прибалтике.
— Смотрите, что получается у нас здесь. Возникающие группы врагов рейха саморекрутируются из местных красных активистов и военнопленных. Делаются попытки внедрить в них людей Москвы. В свою очередь, эти группы ищут контакты с так называемыми партизанскими объединениями. Говорят, их стали называть уже бригадами. Не знаю точно так ли это, но все происходит у нас под носом, в радиусе каких-то трехсот километров. К чему я клоню? Я бью в одну мишень, в десятку: нам необходимо агентурно проникнуть в новые подпольные организации в провинциях Остланда, с целью последующего проникновения в места базирования партизан и в Ленинград. Мы не можем позволить себе довольствоваться лишь сиюминутным успехом — отправить к праотцам их детей-грешников, я имею в виду ту или иную группу. Мы не можем разрешить себе направлять свои выстрелы в молоко вокруг круга мишени. Только в цель, только в десятку! В этом случае мы будем владеть обстановкой. Вы ознакомились с обзором по «Красной капелле». Вы можете себе представить, какой урон нанесла нам эта широко разветвленная организация, функционировавшая несколько лет. Отчего же так случилось? Мы не имели в ней своих людей, мы не проникли в нее, вот вам и просчет. Крупный промах. Поэтому здесь мы просто обязаны в потоках пульсирующих механизмов связи местных групп с партизанами, Москвой, Ленинградом внедрить своих протеже. Как говорят французы, «On n’est train que par les siens» — изменником может стать лишь свой человек, — Панцингеру не хватило здесь родного языка. — Именно в таком плане следует использовать недавно выявленную организацию, о которой доложил мне штурмбанфюрер Ланге… — и оберфюрер стал развивать вслух свои мысли о коварной комбинации, которую исподволь выносил в уме за время пребывания в Риге. Дюжина гестаповцев внимала своему новому шефу с удовлетворением: изощренность оратора действовала умиротворяюще на их души циников. Каждый из них прикидывал деловые качества своих агентов, способных пойти на дело и стать для противника своим человеком. Пуриньшу Панцингер импонировал: его методы отличались гибкостью, были коварны и эффективны. Пуриньшу захотелось разделить свое восхищение новым начальником с Тейдеманисом, но тот сидел с таким тупым выражением, что Александр брезгливо поморщился и отвернулся.
В поисках истины
Конрад вновь пришел на службу где-то около восьми вечера. Пришел вымотанный. И что он такого сделал за день? Провел три беседы, посетил пару присутственных мест, где рылся в старых бумагах. От чего уставать? Это не труд шахтера, не даже беготня официантов, которых по расходу энергоемкостей в газетах нет-нет, да и стали приравнивать к шахтерам. Но разговоры, беседы, вопросы, Допросы почему-то опустошали. Видимо, думал он, выплескиваемая мною энергия переходит к оппоненту, передается тому, расшевеливает, заставляет реагировать, причем либо в положительном смысле, тогда человек охотно что-то вспоминает, копается в памяти, вытаскивает из глубины ее какие-то детали, либо в отрицательном плане, когда заряд твоей энергии замыкает чужую память, человек выдает отрицания, искажение истины, неприкрытое или закамуфлированное вранье. Однако за ночь энергия восстанавливается, как говорил Казик — «скорей бы утро — снова за работу».
Франц бросил взгляд на сейф друга. Опечатан тот не был, значит, явится, иначе на столе лежала бы табличка, изготовленная из куска картона с надписью: «Строго секретно. До прочтения не сжигай! Опечатай мой сейф и спокойно иди домой».
И действительно, открылась дверь, Казик вошел и плюхнулся на стул.
— Давно ждешь? — спросил он Франца.
— Только зашел, — ответил тот.
— Что принес в клюве?
— Кое-что выходил. Кульчицкого видел.
— Это тот старый, лысый, толстый, из-за которого Федя получил штрафные очки от патрона?
— От кого-кого? — не понял Франц.
— Шефа будем называть только патроном. Для конспирации, — разъяснил Казик.
— Принято, — улыбнулся Франц. — Только он не старый и не толстый. Лысый, да. Он мне показал свою фотографию до ареста и пребывания в Воркуте. Шевелюра отменная у него была. Там, говорит, ее и оставил, как рваную рубашку. С собой взял только то, что внутри было. Память, там, порядочность. Всякие, смеется, мелочи.
— Ты с альбомом ходил?
— Да. Вот он, — и Франц вытащил из портфеля фолиант средних размеров. — Представь себе, он узнал…
— Панцингера?
— С этим все было в порядке. Он же его и по фамилии почти называл. По альбому с первого взгляда. Моментально. Помнишь, как рассказывали анекдоты в психбольнице. По номерам. Номер пять. И все смеются. Зачем что-то говорить? Под номером пять чья рожа на фотографии?
— Ах, ах, ах, — закудахтал шутовски Казик, — Фрица Панцингера. Раскрываем, смотрим, узнаем. Точно.
С фото под номером пять на них через очки в тонкой оправе взирал оберфюрер ОС, внешне похожий на пастора.
— В монастыре прятался. Рядом итальянская граница. Чего ждал? Вероятно, дрожал мелкой собачьей дрожью. Ждал проводника, который поведет. А дождался наших. Интересно было бы встретиться с ним. Потолковать, помотать, — задумчиво сказал Франц. — Он бы нам рассказал о проделках Зарса и ему подобных.
— Не скажи. Это же мелочишка для начальника СД всей Прибалтики. К тому же у нас руки коротки. Всех деятелей его ранга уже выпустили в 1955–1956 годах. Аденауэр не зря старался, и они попивают пиво у себя дома. Так что испроси у патрона деньги на проезд, в том числе на метро в Москве до вокзала, и махни в Бонн. Хочешь, я Феде подкину эту идейку? С вашим-то парижским опытом…
— Не надо новых драм, Казик. Не надо. Актеры устали, по командировочным перерасходам, — в тон другу ответил Франц. — Аллах с ним, с этим пятым номером. Интересней номер 34, — и он раскрыл нужный лист альбома.
— Кульчицкий опознал Пуриньша? — бросив взгляд на снимок, встрепетнулся Казик. — Фантастика!
— Неуверенно, с моей подсказкой, я на фотографии человек пять пальцем тыкал. Но да, представь себе, узнал. Из трех десятков гестаповских субъектов-латышей нашей коллекции. Это что-то значит. Вообще-то он и видел его мельком, когда его отловили в соседнем монастыре, он говорил по-русски, помощи Кульчицкого не понадобилось. Везли его в другой машине. Все внимание было отдано пятому номеру. Кульчицкий ехал с ним, переводил, все были радостны, болтали. Такой улов! Щука и угорь, как назвал их Кульчицкий. Где-то остановились переночевать. Все внимание номеру 5. Пуриньша, если это был он, устроили кое-как. Он и отблагодарил. Смылся. Уполз угрем.
— Обидно. По каким признакам он его опознал? — спросил Казик.
— Пробор, ломаная линия бровей, прищуренные глаза, но это по шкале от вероятного до возможного. Все-таки пятнадцать лет прошло, — покачал головой Франц.
— Вот с ним интересно было бы поговорить. Где он затаился, сволочь?
— На восток он с австро-итальянской границы вряд ли побежал. Скорее, в ином направлении. Сменил фамилию и сидит где-то тихо как мышка. А может, и не менял. Чего ему бояться? В конце концов, он не военный преступник. На Западе ему ничего не светит плохого.
— Ясно одно: во время войны старший компаньон Зарса не погиб. Во-первых, данных о гибели не имеется, во-вторых, после войны его, по всей видимости, видели. Так? — резюмировал Франц.
— Да. С пробором и характерной линией бровей, — кивнул Казик.
— Не издевайся. Запросим Москву, что-нибудь да и подтвердят официально, — сказал Франц.
— Такие фокусы с побегами заносят в анналы памятных дат с небольшой охотой. И где ты теперь отыщешь следы? Это не вахтенный журнал. Было коротенькое донесение, писанное карандашом. Вот если узнать фамилии офицеров, задерживавших его, и посмотреть в их личных делах, какие взыскания повесили им за разгильдяйство, повлекшее побег в тот май сорок пятого. Дело другое.
— А что? Идея! Пусть Кульчицкий напряжется и вспомнит фамилии. Поищем, — воодушевился франц. Затем голосом Феди добавил: — А что это даст? — и ответил: — Нам надо раскрывать подвиги двух наших альпинистов в связке Зарса и Пуриньша по войне. Пока что. А так, оба эти видения Кульчицкого больше годятся для экзотики. Монастыри, колокола, монахи, эсэсовцы. Их там, видать, полно было. Нас это вперед не двигает.
— Ну-ну, не отсекай. Каждому фрукту свое время, каждой картинке своя рамка. Если это был-таки Пуриньш, то, как ты говоришь, видение его в рясе нам еще пригодится. Может, Зарс ему тонзуру выбривал, а? Кстати, ты его допрашивал о визитке, найденной в вещах дяди Карла? — спросил Казик.
— Нет еще. На днях сделаю.
— Что так? Специально тянешь?
— Тяну. Пытаюсь найти камушки поувесистее. Если уж бросить в его огород, так со смыслом. Что ему одна визитка, даже с его дописками и приписками? Он их десятками раздавал. Они для него, как помет голубиный — везде оставляют его птички.
— Не скажи. Не прибедняйся, Франц. Визитка — улика крепкая. Ею ты ударишь в солнечное сплетение. Подумай сам, пути-дороги двух человек в мире пересеклись у третьего.
— У Антонии по всей видимости?
— Ну, дорогой, ты как Федор, то есть Фома неверующий, — стал раздражаться Казик. — Я бы только не брал у него эти чертовы образцы. Заподозрит и подготовится к отпору. Если не уверен в успехе, то давай вдвоем на него насядем.
— Да я сделаю это. Только послезавтра. Ты вот послушай, каким камнем я обзавелся. Я сегодня нанес повторный визит Лидумсу. Помнишь, бухгалтеру с фирмы пива Лерха, где Зарса устроили? Он мне позвонил с утра, сказал, что есть разговор. Дядька любит таинственность. Я помчался к нему. Встретились в кафе, как заговорщики. Он и говорит, что после той нашей встречи увидел на улице старого сослуживца по фирме, Петерсона. Разговорились. О чем? Новостях, кто умер, кто жив, кто где работает. В общем, как принято. Этот Петерсон и заявляет, что наш милый Зарс посажен. Начались ахи, охи, как, за что и прочее. Как заявил Лидумс, то Петерсон мужик правильный, его сын всю войну в латышской дивизии провоевал, за оборону Москвы орден получил. Сам старик жил тихо, продолжал в фирме работать, сейчас тоже пенсионер. Так вот, Петерсон обмолвился, что Зарс при всех властях как сыр в масле катался, при немцах, мол, в Германию как большой господин ездил…
— Вот оно что! Мы только планы строили, как на Запад прорваться, а он успел и назад вернуться, — воскликнул Казик. — А ты тянул, о Пуриньше, видите, рассусоливал, то ли он явился Кульчицкому в образе монаха, то ли то был его двойник.
— Да не был он в рясе, откуда ты выкопал рясу! Пустишь ты завтра в оборот эту басню для смеха, я обижусь, ей богу. В штатском костюме он был, в монастыре всякой публики хватало.
— Успокойся, не надо волнений. Ты отнюдь не первооткрыватель превращений гестаповцев в монахов. Это старо и смеха уже не вызывает. Не томи. Пойдешь к Петерсону?
— Уже был.
— Успел? Молодец! Рад за вас, товарищ Конрад!
— Знаешь, я подумал, что тянуть? Начнутся обсуждения, прикидки, каждый самые умные вещи будет вытаскивать из карманов памяти. Я и двинул к этому Петерсону. Говорю, так, мол, и так, Зарс у нас душевно отдыхает, лечим его от запоев, интересуют нас его военные подвиги, хотя на фронте он не был, в то время как вот ваш сын воевал и так далее. Старик все понял, расчувствовался, говорит, Зарса на фирме Лерха мало знал, ибо когда сам Петерсон туда поступил, Зарс готовился уходить. Они проработали там вместе всего около полугода, потом Зарс взял расчет, что-то лучше нашел по мебельному делу. Несколько раз сталкивались на улице, бывало и выпивали по рюмочке, болтали. В мебельной фирме Свикиса в немецкое время он прямо-таки расцвел. По одежде было видно. Перстень золотой завел, с головой римского воина. Петерсон позавидовал я даже. Что еще? Да, где-то осенью сорок третьего наш господин Лерх уезжал по делам в Гамбург. С собой он захватил три-четыре ящика с образцами продукции — пивом разных марок. Петерсон и еще два служащих притащили багаж на вокзал, все было изящно запаковано и погружено в купе. Вышел он на перрон, смотрит у соседнего вагона второго класса стоит Зарс и с ним еще двое типов. Все приодеты, как на курорт едут. Он увидел Петерсона, растерялся и спрашивает, что, мол, ты здесь делаешь. Тот ответил, что помогал Лерху багаж принести и в свою очередь спросил, что далеко ли собрались. Зарс стал бубнить, что вот едем то ли работать там, в Германии, то ли разузнать насчет работы. Ситуация была тоже непонятная: Петерсон выступал в роли грузчика, одетого скромненько, которому Лерх кивнул, мол, донес, топай отсюда, в то время как увидел Зарса и они заулыбались друг другу, поздоровались. Вот такую историю Петерсон рассказал мне. Думаю, послезавтра я Зарса разговорю и о поездке в Германию, и о визитке.
— Здорово. Наработал ты сегодня на зарплату.
— Ой, не говори! Три разговора провернул и что-то выдохся. Особенно с Кульчицким. Тяжелый привкус получился. Как он стал рассказывать, кого в лагерях встретил, тошно стало. Там были тысячи наших с тобой сограждан, вывезенных в сорок первом и после войны. Кошмар какой-то! Умирали они там через каждого пятого или десятого. О судьбах наших пленных страшно и печально слушать. Тех, в чью жизнь и смерть мы с тобой в последнее время заглянули. Какая же это трагедия и для тех, кто безвестно погиб в лагерях их или выбрался оттуда и погиб в лагерях наших, отечественных! Отечественная война, отечественный лагерь! Жуть какая-то! А близкие? Каково им? Слова-то какие они получали — без вести пропал и точка…
Через день Конрад вызвал Зарса. За два месяца нахождения в изоляции он похудел, сбросил килограммов пять-шесть, у него исчезла припухлость под глазами и на щеках. Отлучение от выпивки сказалось и на том, что стал он собраннее, более уверенным в себе.
«Как может за два месяца, за какие-то шестьдесят дней измениться к лучшему выпивоха в сносных условиях бытия. Каково же приходилось нашим пленным той осенью — зимой сорок первого в Саласпилсе, под снегом, без еды те же шестьдесят дней и ночей? Оставалась ли у них еще надежда на выживание, или их души уже отлетали прочь? Ладно, надо начинать», — подумал Конрад.
В первый момент, когда следователь и Казимир встретились с Зарсом на предмет получения от него образцов почерка, в том числе в цифровом варианте, господин бухгалтер поначалу не понял, к чему этот урок правописания. Его заворожила диктовка цифр в разных сочетаниях. Чувствовал он себя при этом раскованнее, чем обычно: Конрад отсутствовал, а это означало, что на диктанте какой-нибудь внезапный фокус с целью затолкать его, Зарса, в угол не появится. Крючок с наживкой насчет определения якобы записанных им телефонных номеров, названия фирм и его фамилии на найденной у кого-то книге он проглотил спокойно. В самом факте записи ничего криминального не могло быть. Сотрудники фирмы оставляли на всякого рода справочных изданиях, словарях свои координаты, чтобы коллеги, работающие рядом, не растаскивали чужое добро. У кого-то оказалась эта книга? Что ж, кто-то взял и не отдал. А если факт данного знакомства невыгоден для него самого? Зарс задумался на минуту другую, т. е. ровно настолько, сколько потребовалось ему для нанесения образца почерка на книге, выбранной его собеседниками, и стал перебирать в уме, с кем он мог быть связан посредством этого глупого для его судьбы на сегодняшний день книжного базара. Но вслед за этим мозг вдруг озарила вспышка воспоминаний, едва на столе вместо книги появилась визитная карточка и следователь попросил изобразить на ней карандашом его домашний телефон, а затем и адрес. Он сразу же вспомнил…
Из всей компании, обсуждавшей порядок использования улики, извлеченной Конрадом из альбома покойного дяди Карла, правым оказался Казимир, который робко пискнул о том, что стоит ли брать у Зарса образцы написания цифр на его же визитке. Заподозрит, мол. Замечание Казика повисло, о нем забыли. Вопрос будто бы был мелочным. Все решили за Зарса: в фарватере глубин его памяти тайна визитки отсутствует. Не одной же Ольге «этот злодей», по выражению Онуфриевича, вручил картонную карточку с ориентирами, дописанными от руки? Начальнику отдела собственное умозаключение импонировало, казалось солидным. Казимир оценивал Зарса здраво, не как примитивного соглядатая, но как обладавшего хваткой бульдога профессионала политического сыска, полтора десятка лет выдергивавшего жертвы на потребу своим хозяевам. То, что он последнее время закладывал за воротник, большой скидки на провалы в его памяти не делало — решающая улика возникла задолго до вхождения господина бухгалтера в виражи выпивок. Практик Казик стихийно исповедовал теорию о том, что следует учитывать противную сторону, какой бы противной в другом смысле этого слова она не казалась, но… раз решение принято, оно было исполнено. Конрад мог теперь ринуться в бой и с помощью копья — положительного заключения экспертов — проткнуть незащищенную грудь своего противника.
Оба, Франц и Казимир, обсудили в деталях план действий на сегодняшний день и тоже обменялись изящными умозаключениями. К сожалению, умопостроения относятся к вещам хрупким и разбиваются огорчительно часто, чаще, чем чашки из повседневного сервиза. Как и следовало ожидать, умозаключение насчет того, что отбор образцов почерка у Зарса эмоций не вызовет, оказалось ошибочным. Наоборот, его память освежилась, внутренне он подобрался и вовсе не собирался встретить стрелы Конрада незащищенной грудью. Тем не менее поначалу Зарс просчитался…
— Как настроение, Зарс? — начал привычно Конрад.
— Вы так спрашиваете, что оно должно у меня улучшаться с каждым моим с вами свиданием.
— Естественно. Все время к открытию истин двигаемся. Мы теперь стали такими близкими людьми, что трудно представить, как вы будете в будущем обходиться без меня. Вы, наверное, в камере только обо мне и думаете.
— Вот-вот, — закивал в тон Зарс, — жду не дождусь, какой очередной ребус вы мне подкинете.
— Обижаете, Альфред, — с ударением на первом слове, тягуче произнес Конрад, впервые назвав его по имени. — Фокусником пятнадцать лет выступали вы, плюс еще пятнадцать хранили свои тайны от любопытных взоров, а может, и не только хранили, но и новые фокусы разучивали, а нам теперь разгадывать надо их секреты. И потом, фокусы с бородой отгадывать труднее, ей-ей, рецептура-то не записана, в глубокой тайне хранится, а секрет только у вас, дорогой Зарс, причем в устном предании. Вот так-то.
Тот набычился. Фривольные нотки начала диалога улетучивались.
— Итак, куда же вы разрешили себе ездить во время войны? Где изволили бывать?
В памяти Зарса возникли Даугавпилс, Антония, Ольга, Пуриныи, но вслух он сказал:
— Мало ли где. Вы же знаете, в какой фирме я работал. Всю Латвию десять раз вдоль и поперек объездил и в Эстонии побывал.
— А в остальных европейских странах, сударь, тоже приходилось бывать?
— Что, что, — поперхнулся Зарс, — в каких, каких?
— В Германии, например, это же тоже Европа, — не давая передышки наседал Конрад. — Я не ошибся? Если что, поправьте, мой господин.
Заре растерялся. «Надо же, — думал он, — мышеловку-то настраивает не в даугавпилсском углу, а вон где. Дознался, змей гремучий». По лицу Зарса пробежала тень, но он осевшим голосом, стараясь выиграть время для уверток, спросил:
— В Германии? Я вас не понимаю. Туда обычно по делам выезжал сам хозяин, господин Свикис, нам, служащим, там делать было нечего.
— Вот-вот, вам по линии другого ведомства приходилось страдать там. Ладно, разминка окончена. Вопрос о том, что вы в Германию не ездили, отпадает, Зарс. Меня интересует, с кем вы туда отправились, состав вашей экскурсионной группы. Итак, кто входил в группу чисто любознательных путешественников?
Такая, на первый взгляд, подсказка со стороны Конрада устраивала Зарса. Официальный мотив его выезда был недалек от иронических слов Конрада. «Ясно, этот черт переговорил с попутчиками, что тогда?» Вслух он сказал как о рассеявшемся недоразумении:
— Ах, вы об этом! Мы поехали в поисках работы. Тогда многие, поверив призывам оккупационных газет, выезжали на работу в Германию. Сулили они хорошо, вот я и поехал на разведку, посмотреть, не устроюсь ли там, с выгодой для себя, конечно. Заработать настоящие марки не помешало бы. Я думал, что вы о командировках.
— Замечательно, Зарс, — сказал Конрад. — Вас там только не хватало. Имея блестящее место здесь, у Свикиса, и отправиться неизвестно куда. Как же вы оформили поездку?
— По правилам, как все. Написал заявление в рейхскомиссариат, получил разрешение, купил билет и поехал.
— Куда?
— В Гамбург, затем в Берлин и обратно. Ничего подходящего для себя я не нашел. Это было в сентябре сорок третьего.
— На что же вы рассчитывали, вы что, немецким владеете?
— В том-то и дело, выше среднего уровня, но далеко до совершенства. У меня была пара рекомендательных писем, но я сам уразумел, что мне там ко двору не прийтись, и я вернулся. Вылазка эта из памяти испарилась, поэтому я вначале и был в недоумении от ваших слов о Европе, — сказал Зарс с облегчением.
Он был доволен тем, как изящно замкнул концовку невинного рассказа о своих похождениях. «Пусть фанатик побегает паровозом по кругу игрушечной железной дороги, попробует поймать себя за хвост», — Зарс приободрился. Это не ускользнуло от Конрада, но крыть было нечем. «Пока нечем. Но не в холостую же, черт возьми, поговорили. Дверь приоткрылась. Сейчас вставим туда ногу и не дадим ей захлопнуться», — думал в свою очередь Конрад.
— Кто же еще поехал поиграть в лотерею?
— Понятно, — хохотнул не к месту Зарс. — Еще двое ребят. Один из них электриком тогда был. Кроме его фамилия. Второго фамилия Лицис, он был то ли автомехаником, то ли маляром. Мы познакомились в отделе труда рейхскомиссариата. Вместе разрешения получали. Решили вместе и ехать.
— Что же с ними сталось, куда они прибились?
— Кроме, имя его Николай, по-моему. Он в Гамбурге попал на завод сельскохозяйственных машин. Я его после войны встречал. Проклинал он все на свете, что поверил посулам, ибо там надо было вкалывать больше, чем дома. Дураком, сказал, оказался. Теперь он директор школы под Ригой. Красивый такой парень. Все об успехах на женском фронте рассказывает. Второго, Лициса, вы должны знать. Эвалд Лицис, знаменитый теперь критик театральный и киношный. Я раз его после войны встретил в театре, так он не очень-то захотел со мной постоять, боком, боком, извинился и с каким-то важным тузом в буфет сиганул. Думаю, не захотел вспоминать те годы.
— Как и вы, — заметил Конрад и несколько раз отвел рукой протестующее движение Зарса. — Кто же еще ехал?
— Ехали многие. Вагон, несколько вагонов, поезд, наконец. Но мы как забились в купе, так и не выходили до самого Гамбурга. В карты играли, в окно глядели. Доехали до Гамбурга-и расстались. А не говорил, не писал в документах о поездке потому, что вопросам не было бы конца. Вон их сколько у вас только — сто. Да, еще один в купе был. Богослов. Некто Брокан.
— Сколько же длилась ваша поездка?
— Да ерунда — немногим больше двух недель. Теперь вот отмывайся за нее.
— Вас в нее Пуриньш отправил? — спросил Конрад, не надеявшийся на то, что Зарс вот так сразу приступит к сдаче позиций, но желавший продемонстрировать свое полное неверие в эти шалости Зарса времен молодости.
— Что вы, — взглянул Зарс на него с легкой укоризной, — я же не раз говорил, что во время войны я не был связан ни с каким Пуриньшем. Мы с ним расстались до войны, когда он уехал в Германию. Возможно, в Германию, — добавил он.
— Но-но-но, не старайтесь ехать со мною по параллельной колее, используем одну. Я спрашиваю об отправке вас в Германию Пуриньшем. Придет время, и я поинтересуюсь в деталях, как вы с ним в те веселенькие дни работали. Ясно?
— Да, ясно. Но если он меня не отправлял, то как я с ним мог работать?
— Если вы сейчас скажете мне, что он вас направлял, следовательно, вы с ним и работали, наивный вы мой простачок, — отпарировал Конрад. — А это вас может резануть как серпом по… одному месту. Вы только подумайте, Зарс. Находясь с Пуриньшем в одном городе, а всю войну вы провели в Риге, в тепленькой фирме Свикиса, друга Александра, вы не виделись, не встречались и не работали с Пуриньшем? Вы его избегали, переходили на другую сторону улицы, притворялись, что не слышали, как он вас окликал? Вы это хотите сказать?
— Я не говорю, что не видел его, встречал, но не работал с ним, — упрямо повторил Зарс и добавил, — в Германию я сам поехал, он меня не направлял.
— Вот так-то лучше, — удовлетворенно сказал Конрад. — Сегодняшний день я посвящаю разбору некоторых фактов, совершенно конкретных ситуаций, а о вашей дружбе с Пуриньшем еще поговорим. Время работает на нас, а не на вас.
Зарс промолчал. Что было сказать? Фанатик цеплялся за каждое слово и прессинговал по всему полю. Зарс сделал обиженный вид, рассчитывая скрыться за ним, словно за дымовой завесой, в тень, отдышаться. Что, мол, с тобой, фанатиком, спорить, все одно — бесполезно.
Но тот был настроен, как гончая, взявшая след. — Скажите, при встречах, нечаянных, конечно, встречах, — уточнил Конрад, заговорщицки подмигнув, — Пуриньш спрашивал вас, как, мол, там, на периферии, старые довоенные друзья поживают, разные красные дьяволы? Он же не мог не спросить вас об этом? Вы Латвию, как упомянули, десять раз объездили, а он наших гонял и сажал все свое рабочее и неслужебное время. Все логично, верно?
— Спрашивать спрашивал. Изредка. Но я все связи порвал и ни с кем не встречался.
— Да, конечно, — понимающе кивнул Конрад. — У вашей мамы в Даугавпилсе была знакомая по имени Антония, она у вас в Риге гостила до войны. Скажите, когда вы ее видели последний раз в Даугавпилсе? И когда вы, кстати, там были последний раз в оккупационное время?
Мысли Зарса замельтешили. «Как ответить? Последний раз видел и последний раз приезжал в этот гнусный Динабург. В чем здесь подводный камень? Александр говорил, что Антонию шлепнули здесь, в Риге, в Бикерниекском лесу в начале августа сорок четвертого. Их всех тогда в это время… Но я ее встречал после Германии. Да, на второй день после Рождества. Пуриньш меня в тот несчастный вечер к матери туда погнал. Но с Ольгой могла Антония в тюрьме свидеться? Вполне. Ну и что, обеих-то нет! А если Антония наплела на меня в тюрьме насчет моего последнего приезда, как отправила она к Аделе Кириллыча? Это было перед Новым годом, в декабре сорок третьего. Пуриньш еще хотел выбить от него показания на Ольгу. И мы тогда всю ночь вдвоем, Антония и я, проболтали. О чем? Об Ольге в том числе. Какая она отважная, ах боже мой! О Кириллыче и Соломатине Антония лишь сказала, что были какие-то друзья Ольги проездом у нее. О той записке ни слова не упомянула. Выходит, два раза, считая осень сорок первого, когда впервые возникла эта смоленская красавица, я там был. От этой встречи отпираться опасно. О господи, но последний визит самый острый. А если в тюрьме эти две бабы обговорили детали и поделились с другими? Не всех же… В лагеря-то тоже увозили. Но тогда они могли прищучить меня раньше. Значит, не знали! Нет, у Антонии я был единожды, мать о том визите в курсе, на допросе у этого фанатика явно проговорится. Что ей скрывать от своих же подпольщиков? Надо же было меня впутывать в этот «Рижский партизанский центр»! Будь он трижды неладен! Нет, о последнем визите они ни черта не знают. Остается осень сорок первого и все. Баста!»
Пауза затягивалась. У Конрада в памяти, как в самолете насчет ремней и курения, высветилось изречение шефа: «Молчит — значит думает, что сказать, следовательно имеет, что сказать».
— Ну, давайте свой вариант, Зарс, хватит думать.
— Мне все припомнить надо, а то получится, как с Германией.
— Вот-вот, вранье всегда создает осложнения. Один мыслитель говорил: «Врать — это значит плевать вверх и ждать, когда плевок упадет тебе на голову».
— Ну, не скажите. Прибыльным это дело тоже бывает. Свои же денежки от жены вырвать можно. Рассказать? — стал вдруг совсем смелым Зарс.
— Валяйте, — благодушно разрешил Конрад.
— Детскую больницу в Задвинье представляете? Это недалеко от моего дома. Я там всех знаю, в том числе и сотрудника ГАИ, который на посту около знака ограничения скорости. Не больше тридцати скорость там, развилка опасная. Вижу я один раз, он «Победу» притормаживает, другой раз, третий. С небольшими интервалами, понятно. И я спрашиваю, что ты свирепствуешь? Рассказывает: владелец автомобиля — профессор — выпивает. Не за рулем, нет. Денег не имеет, жена все забирает. Она работает там же, и едут они вместе. Профессор договорился с гаишником, что тот его останавливает за превышение скорости. Пожалуйста, штраф, профессор. Тот к жене, она тридцатник достает, выговаривает мужу, опять скорость превысил, но платить-то надо! Затем гаишник подъезжает к дому профессора и в условном месте денежки отдает, ну, там трояк ему остается. Все довольны. Профессору есть на что выпить, — Зарс рассмеялся первым.
— А вы с юмором, Альфред, — покачал головой Конрад и улыбнулся в предвкушении, как подкинет историю Казику, который такого варианта съема денег у жен не знает. — Хитер профессор, ловко у него выходило. Итак, когда вы видели Антонию и когда навестили Даугавпилс в последний раз?
— Где-то осенью сорок первого, будучи по делам фирмы, я заходил к ней в гости, мать просила проведать. Да, осенью сорок первого, — делая вид, что вспоминает точно, наморщил лоб Зарс.
— Кого вы встретили у нее, с кем познакомились?
— Я? — сделал Зарс большие глаза. — Никого. Абсолютно никого. Антония всегда жила уединенно, квартирантов не держала.
— Заре, вы встретили эту молодую женщину, посмотрите на фотографию, — Конрад выложил фотографию Ольги. — Как вам известно, она погибла, но остались ее друзья, которым известно, что вы познакомились у Антонии.
— Когда я вам рассказывал о Германии, то назвал людей, встреченных случайно в рейхскомиссариате, с которыми ехал, а теперь? Какой смысл мне скрывать, кого я видел у Антонии? Никого я там не видел.
— Вот ваша визитная карточка, обнаруженная в вещах этой женщины, — Конрад бросил на стол кусочек картона. — Номера телефонов, домашний адрес приписаны вами. Экспертизой установлено, — Конрад похлопал рукой по синей папке.
— Я не отрицаю, что это моя визитка. — Зарс повертел ее в руках и осторожно положил на стол. — И я дописал свои координаты на ней. Так принято. Если дал свои домашние адреса и телефон, то, значит, вручал кому-то из близких знакомых. Может, той же Антонии. Но никакой женщине, — кивнул я он на фото Ольги, — я ничего не давал, ибо не встречал ее.
— Если сейчас спросить вашего друга из ГАИ, получал ли он деньги от профессора, возвращал ли их 3 и оставлял ли себе трояк, что он скажет?
— Он ответит «нет». Зачем впутывать себя в историю? — вопросом на вопрос ответил Зарс.
— Да, в новые истории вы влезать не хотите, Зарс. Но придется. У меня найдутся свидетели типа жены профессора, и уж от таких вы не отвертитесь. Ладно. Сейчас я отпечатаю протокол, а вы можете пока почитать газеты, — и Конрад принялся стучать на машинке.
Прошла неделя. Реакция на прошедший допрос господина бухгалтера со стороны причастных к делу лиц была и однозначной, и противоречивой. Однозначность вытекала из того, что все делали на него большую ставку и проиграли.
Противоречивость происходила из разнокалиберности оценок, ибо сколько голов — столько умов. Сам Конрад ходил мрачный, думал, какая все-таки бестия сидит на его шее и какой он, дилетант, получил урок. Подумать только, погнавшись за образцами почерка, дали этому змею разложить все по полочкам! Скромную мысль Казика не уловил, не вслушался, не понял, что друг тихо говорил о потере эффекта внезапности. Пошел вслед за хоровым мнением, при помощи которого можно лишь разгадывать кроссворды.
Казимир призывал не расстраиваться, успокаивал. Славно еще, что вояж Зарса в Даугавпилс осенью сорок первого прорезался, не на работу же он туда ездил устраиваться, это даже коню понятно. Да еще трое таких же темных, с трудной, так сказать, судьбой появились, и если каждый из них снесет пусть не по золотому яичку, но по одному весомому свидетельскому показанию, то их появление на сцене будет оправдано.
Онуфриевич, внимательно выслушав о тупике даугавпилсской версии, воскликнул: «Какой нахал, какой нахал, вы только подумайте!» — и, расстроившись сам, тут же отчитал Федора, который попал ему под горячую руку, ибо тот не к месту радостно брякнул, что если бы спросили его мнение, такого фиаско не вышло бы. Онуфриевич посоветовал искать и найти друзей Ольги, которые могли бы внести ясность, встречалась ли она с Зарсом в Даугавпилсе или где-нибудь еще.
Шеф, прочитав протокол и поговорив с Конрадом, совершенно четко выразился о том, что Зарса недооценили. Он заметил, что добровольно в Германию ездили только дерьмовые люди, что от допроса он ожидал большего, но действия Конрада одобряет, так как тот не полез в ненужную полемику и умолчал о том, где была найдена карточка. «Притормаживать в нашей профессии тоже надо уметь», — изрек шеф.
Конрад вошел в кабинете двумя досье: одним — пухлым, вторым — в виде тонюсенькой папочки.
— Угадай, что я держу в руках? — обратился он к Казику.
— Их, — ответил Казимир, — пока статистов, а потом посмотрим.
— Вот здесь, — подкинул Франц на руке пухлое, — образцы некритического восприятия устных рассказов известного критика Эвалда Лициса, которыми он время от времени одаривал любопытствующих, вроде нас с тобой. Эта папочка свидетельствует о том, как угоняли в Германию, в фашистскую неволю Николая Кромса. Правда, имеется и его личное заявление об угоне, извиняюсь, о выезде туда…
— У Линде обзавелся?
— В том числе и у него. Казик, это такая тройка, что черт ногу сломает в их похождениях, — сказал Франц, огорченно помотав головой. — Я думал, что уже свет забрезжил, но нет, туман наваливается.
— Дай посмотреть, — и Казимир углубился в изучение досье. При этом он хмурил брови, посмеивался, делал заметки в своем блокноте, пару раз позвонил и уточнил какие-то детали. Через час он сказал Францу:
— Если до сегодняшнего дня у тебя было уравнение с одним неизвестным, то теперь — с тремя. Так что набирайся терпения и начинай ввинчиваться в историю этих субъектов.
Лисьи игры
Перед отъездом в Остланд в июне 1943 года Канарис вызвал к себе полковника Ганзена, начальника абвера-1, сменившего на посту руководителя разведотдела генерала Пиккенброка.
Адмирал попросил захватить для ознакомления ряд дел по союзническим резидентурам в Европе. Ганзен недоумевал: к чему бы это? Ему уже было сказано, что он будет сопровождать Канариса в поездке на Восточный театр военных действий, в связи с чем было бы естественным обновить в памяти, как называл их Ганзен, «славянские дела», однако браться за три дня до выезда за американские и английские форпосты в континентальной Европе?
Непонятно.
Канарис не стал вначале ничего рассказывать Ганзену. Он трудно сходился с новыми помощниками. То ли дело Пики — Пиккенброк, с которым адмирал проработал целых семь лет, начиная с тридцать шестого. Как-то они стали считать, в каких только странах не побывали вместе! Насчитали семнадцать. Объездили всю Европу. Пики понимал адмирала с полуслова, по жесту, по движению губ и бровей. Не то, что этот Ганзен, которому требовалось все разжевывать. Но что поделаешь? Пики был разведчиком по призванию. Изменения в обстановке он чуял всеми порами своей кожи. Когда до него уже в конце 1942 года стало доходить, что дело не кончится лишь одним поражением у Сталинграда, что Гитлер войну с Россией проиграет, то Пиккенброку стало ясно одно, что заложенные в план «Барбаросса» разведывательные данные о Красной Армии й России оказались блефом, за что по головке не погладят. Кроме того, далеко не полностью, но в какой-то степени он был в курсе шашней Канариса с английской и американской разведслужбами, участия адмирала в акциях по смещению Гитлера.[1]
Обдумав хорошенько, в какие передряги он может влипнуть, Пики только-только получив в начале сорок третьего звание генерал-майора, запросился на фронт. Думая, что пятидесятилетнего генерала можно остановить от казавшегося начальству нелепого шага нелепым же предложением, Пиккенброку сказали: «Полк в вашем распоряжении». Думали, что он откажется, а он согласился. Полк, как полк. Главным было сбежать от адмирала, оставшегося на капитанском мостике, и в марте сорок третьего Пики принял полк, правда, вскоре перейдя на дивизию.
Адмирал Канарис не мог последовать примеру Пиккенброка. Что мог просить он? Да и мог ли? Просить линкор, крейсер? Смешно. Его кораблем оставался абвер, и он полагал, что сумеет хотя бы продержаться и переплыть на нем море войны поближе к западным друзьям. Адмирал располагал налаженными контактами и в Цюрихе, где генеральный консул, капитан I ранга Ганс Майснер, он же резидент абвера, соприкасался с Алленом Даллесом, резидентом американской разведки в Берне и в Риме, где особо доверенный сотрудник абвера Иозеф Мюллер, по профессии адвокат, поддерживал связи с английскими разведчиками из окружения посла Великобритании в Ватикане, а также и в других городах мира: Анкаре, Мадриде, Стокгольме…
Значительные услуги оказывал адмиралу его личный сердечный друг барон Ино, гражданин Турции, торговец оружием, до нападения на Польшу проживавший постоянно в Берлине и разъезжавший по всему свету. Он являлся крупным негласным сотрудником английской разведки, основной сферой его деятельности во время войны стал Ближний Восток, он нередко посещал Лондон и постоянно был к услугам адмирала. Правда, подчас и адмиралу приходилось выручать барона и его лондонских приятелей. Сейчас, листая одно из досье и встретив знакомую фамилию, Канарис улыбнулся: он вспомнил прошлогоднюю историю, когда барон, презрев все условности конспирации, запросил срочной встречи. Адмирал предложил ему рандеву в Цюрихе с Майснером. Оказалось, что абвер в Риге схватил сотрудника английской разведки с турецким паспортом, который каким-то сумасшедшим образом был куплен у турецкого консула в Риге, приятеля барона. Вероятно, Ино дал кому-то наводку на Эриса. Почему бы и не дать? Теперь же выручай, да еще срочно! Пришлось помочь. Так называемого Дюмереля, так кажется, перевербовали и отпустили. В рядах противника появился еще один лазутчик. Прекрасно! Все остались довольны. Но сейчас речь шла не о личных интригах Канариса против фюрера, с удовольствием используемых англичанами и американцами, но о работе абвера против союзников с позиций нейтральных стран.
Ровно год тому назад, в июне сорок второго, Канарис стоял перед Гитлером как оплеванный, и фюрер не стеснялся в выражениях по адресу возглавляемой им службы, провалившейся при проведении операции «Пасториус» — прямой засылки агентов в Соединенные Штаты. Все началось 14 июня прошлого года, когда с подлодки на восточном побережье, в Аманганзетте на острове Лонг-Айленд в районе Нью-Йорка высадилась первая группа агентов абвера, а тремя днями позже на западном, во Флориде, около Понте Ведра к югу от Джексонвилла — вторая.
Обе группы в количестве десяти человек готовились в течение нескольких месяцев под наблюдением начальника второго (диверсионного) отдела полковника Лахузена в школе, расположенной в местечке Квентэ, около Берлина. Для операции были отобраны немцы американского происхождения. Перед ними стояли широкие задачи в области шпионажа, равно как и диверсий: они должны были взорвать несколько заводов по производству алюминия для самолетостроения, важные участки железных дорог и другие объекты. Однако через несколько дней после высадки германские агенты были задержаны с поличным. У них были изъяты радиопередатчики, взрывчатка, 175 тысяч долларов. Их судил военный трибунал, семь из них согласно приговору были расстреляны.
Когда 30 июня Гитлеру было доложено о несчастье с операцией «Пасториус», он приказал вызвать Канариса.
— Для чего годится ваша секретная служба, если она порождает такие катастрофы? — кричал фюрер.
Канарис ответил, что агенты были схвачены потому, что один из них оказался предателем и заранее выдал операцию ФБР.
— Этот человек был старым членом национал-социалистской партии и кавалером партийного «знака крови». Его рекомендовал мне отдел загранработы партии во главе с рейхслейтером Боле.
Это замечание еще больше разозлило Гитлера, и он уже завопил:
— Прекрасно, если вам не по душе хорошие члены партии, то в будущем вам следует опираться на уголовников и евреев.
Канарис молча. Что он мог ответить? Провал есть провал. Конечно, зря он упомянул о партийной принадлежности предателя, на что фюрер среагировал мгновенно. Заложил тот группу агентов не потому, что был членом НСДАП, а оттого, что работал на ФБР, то есть уже ранее успел предать партию с потрохами.
— Вы правы, мой фюрер, — тихо ответствовал адмирал, — мы имели дело с плохим членом партии. Прошу прощения. Мы обязаны были знать своих людей лучше.
— То-то же, — сказал Гитлер. И после паузы заметил: — Какого дьявола вы затеяли операцию по высадке 14 июня?
Канарис вопросительно вскинул голову. Он не знал, что ответить. Любым ответом можно было вновь попасть впросак, и он лишь пожал плечами.
Уловив замешательство Канариса, фюрер пояснил свой хитроумный вопрос:
— 14 июня сорок первого мне крепко повезло, в тот день Сталин публично дал ясно понять нам и всему миру, что желает обсудить и исполнить все наши требования, что к войне он не готов. Но через год, день в день такие счастливые даты не повторяются, Канарис. Вы совершенно игнорируете гороскопы при решении важных вопросов.
Адмирал начал невнятно бормотать, что это далеко не так, что он тоже… но вот как все плохо сложилось… Гитлер его не слушал. Он сел на своего любимого конька и минут десять вдалбливал в ошарашенную голову шефа разведки свои концепции оккультных наук. Канарис кивал головой в позе послушного ученика и думал о том, кто же находился в более глубоком нокауте: он, в качестве шефа осрамившейся разведки, или Германии, имея во главе такого фюрера?
Сейчас за очередную операцию, из многих проведенных с того злополучного июня, он взялся сам. И как ни странно толчком для новой затеи послужили слова Гитлера и кое-какие события осени сорок второго. Он позвал Ганзена.
— Скажите, полковник, вы в курсе прорабатываемой операции «Нарцисс»?
— Безусловно, экселенц. Я ознакомился с несколькими вариантами, но насколько понимаю ни один из них вас не устроил и практически операция…
— Буксует. Совершенно верно. Нет подходящего исполнителя. Все, что предлагали, это сырые штампы, от которых за десять километров отсвечивает надпись — «сделано в Берлине». Согласны?
— Да нет. Я бы так не сказал…
— Что же вы предлагаете?
— У нас есть прекрасные исполнители и во Франции, и в Голландии, да мало ли где. Вся Европа в нашем распоряжении. Отсюда до Швейцарии рукой подать. Я думаю, Берн лучшая точка.
Канарис с сожалением посмотрел на преемника Пиккенброка и хотел было съязвить, что спасибо, не могли раньше додуматься, до чего все просто. Но затем раздумал.
— Да поймите, полковник, любой чисто европейский вариант является проверяемым. Англичане просеивают дотошно. Европейские кулисы ими обжиты как родной дом. Навести справку о бельгийце? Да любую. За три дня досье сошьют. Мы же уже по три раза провалились на бельгийцах и голландцах. И повторять ошибки не имеем права.
— Но легенду мы отработаем безукоризненную, — не сдавался полковник. — Все завернем в такую обертку, которая будет означать только одно: конфетка прямо из движения Сопротивления.
— Полковник, вы помните сообщение нашей резидентуры из Сан-Себастьяна в декабре прошлого года?
— Насчет этих евреев?..
— Не просто евреев, а восьмерых храбрых узников гетто и двух родных дезертиров доблестного вермахта. Кстати, как их фамилии? — спросил Канарис, проверяя память Ганзена.
— Шефер и Шуман, — без запинки ответил тот.
— Хм, отлично, полковник. Так вот, восемь евреев в форме вермахта, вооруженных и с документами, проехали из Риги всю Германию, Францию и добрались до Испании. Как вы думаете, была бы в этой дыре Сан-Себастьяна американская резидентура, куда бы они явились, им поверили?
— Не сомневаюсь, господин адмирал. Но зачем они американцам?
— Я не об этом, — поморщился Канарис неадекватности мышления полковника. — Безусловно, такая вооруженная группа американцам ни к чему. Путь, тропа, евреи с порога смерти, рекомендации от Сопротивления в Латвии, вот что меня привлекает! Вот что надо всучить «союзничкам» в Швейцарии! Поди, проверь, откуда ноги растут у такого беглеца, так?
— Совершенно справедливо, экселенц.
— Думаю, что Кальтенбруннер и Мюллер не сразу пришли в себя, когда им доложили, что этих бравых ребят задержали только на испанской земле. Слава богу, что их выдали гестапо, а то они вообще ничего не узнали об их похождениях.
Увидев, что шеф пришел в лучезарное настроение от того, как сели в лужу конкуренты абвера, Ганзен решил чуть подсыпать соли на раны гестапо, чтобы сломать возникший было ледок отчужденности из-за своих неудачных реплик в разговоре, диссонирующих с ходом мыслей Канариса.
— Но насколько я знаю, то обергруппенфюрер Кальтенбруннер доложил фюреру, что этих кандидатов в смертники задержали еще в Париже…
— Да-да-да, в Париже, — развеселился адмирал. — Это гестаповская сказочка на ночь для фюрера. Мюллер ходил с полными штанами и уговорил меня не пускать наверх донесение от наших в Мадриде об их задержании. Надо же было найти дырку Для перехода границы: дождаться отлива в Бискайском заливе и протопать по суше через границу в Испанию. Не иначе как контрабандисты их провели. Учитесь, Ганзен.
— Я поражен, экселенц, — Ганзен лебезил, как мог. Для него разговор с Канарисом на неофициальной тональности был одним из первых. — И подумать только, эти два наших дезертира вырвались-таки и уехали назад в Ригу. Я запомнил их пофамильно, поскольку Кламрот из абвергруппы «Норд» доложил об их задержании, когда они в составе шайки прорывались на восток в ноябре прошлого года. Их взяли в Старой Руссе.
— А вы говорите, Ганзен, обопремся на Европу. Нет, меня привлекают дальние походы. Так что будем планировать нечто подобное и по нашему мертворожденному «Нарциссу» — вдохнем в него жизнь.
Совещание в Риге прошло бесцветно. Новый начальник «Абверштелле Остланд» полковник Неймеркель дело свое знал, хорошее впечатление на Канариса и Ганзена произвел начальник отделения в Таллине — «Абвернебенштелле Ревал» фрегатен-капитан Целлариус. Однако в целом подразделения абвера в Остланде выглядели, как выразился адмирал, «по-прежнему неубедительно»: десятки групп, забрасываемых в тылы Ленинградского и Волховского фронтов, никаких сообщений не передавали. По-видимому, их или захватили, или они сами переходили на сторону противника. Работа шла вхолостую. Единственным утешением для руководителя абвера являлось проникновение агентуры в группы подпольщиков с последующей нацеленностью на партизанское движение, а также планы Целлариуса по проведению диверсионных акций в Финском заливе.
Уютно устроившись в одной из комнат отведенного в его распоряжение особняка, Канарис весь отдался плетению очередной интриги. Ганзен и Неймеркель внимали адмиралу с непритворным вниманием — у него было чему поучиться.
— Думаю, Ганзен, что эта кандидатура подойдет, — Канарис щелкнул пальцем по лежащей у него на коленях фотографии. Ганзен согласно кивнул.
— Полковник, — обратился Канарис к Неймерке. — кто отыскал этого молодого человека?
— Моему предшественнику, полковнику Либеншитцу его рекомендовал господин Пуриньш. Это…
— Слышал, слышал. Работает на нас, а служит в СД. Его еще здесь до войны подобрал наш турецкий друг. Ох уж эти мне турки, — Канарис вспомнил Эриса, историю с паспортами, Дюмереля, барона Ино, англичан. Мысль остановилась на Гизевиусе, сотруднике резидентуры, встречавшемся с А. Даллесом, его подчиненных Гавернице, Юнге… Стоп! Хватит!
— Что известно рекомендующему, господину Пуриньшу?
— Да ничего, — пожал плечами Неймеркель, — что нужен человек с такими вот данными для учебы в Германии. И все. Мне самому ничего неизвестно.
— Конечно, конечно. У меня этот вариант возник под влиянием одной реплики фюрера, — Канарис подмигнул Ганзену, которому в самолете рассказал о тех словах Гитлера по поводу проникновения в Штаты, представив эту реплику в виде анекдотической шутки во время фривольной болтовни с фюрером на равных. Ганзен осклабился в знак согласия.
— И под впечатлением вашей славной группы десяти, добравшейся до Испании, полковник, — продолжал адмирал. — Благодарите святых, что они по дороге не разгромили, скажем в Париже, какой-нибудь штаб, а лишь мечтали добраться до Лондона и очутились опять в Риге, но только в тюрьме. Надеюсь, они ликвидированы?
— Так точно, экселенц.
— Вам, полковник, такую десятку в Москву не заслать. Нет. Так хоть мы с Ганзеном для начала в одном экземпляре, но образчик американцам подставим. Они ребята доверчивые, в Европе всего как год, приманку сожрут. И англичане им не помогут. Еще пара уточняющих вопросов, полковник, и мы с Ганзеном вас отпустим, а то голову закрутили вам сегодня изрядно.
— Что вы, что вы, экселенц, для меня большая честь принимать вас.
— Скажите, полковник, его родители?..
— Погибли в гетто. Имеет теток. Одна проживает в Либаве, и мы, согласно телеграмме генерала Пиккенброка, делаем все возможное, чтобы ее не трогали. Племяннику удостоверение личности изготовлено нами, но ему подсунуто через его друзей. Он был рад получить такое.
— Еще бы, — не удержался Ганзен.
— У тетки он и живет, работает в частном гараже. Каждый его шаг под контролем.
— Он закреплен на практическом деле?
— Да, — ответил Неймеркель, — в его понимании, он выдал нам двоих скрывавшихся террористов, хотя обойтись мы могли и без него. Он этот случай переживал.
— Не без этого, не без этого, — промурлыкал Канарис. — Сделайте так, чтобы послезавтра племянника, окрестим его так, привезли сюда. Ганзен с ним повидается. Завтра я поработаю с Целларриусом, встречусь с другими начальниками абвергруппы и мы с Ганзеном улетим. И вот что, Неймеркель. Знакомясь с делами, я отметил один недостаток. Ваша клиентура из числа арестованных, назовем ее одним словом — террористов, в последнее время стала умнее и стремится разыскивать виновников краха их замыслов. Запомните, в их головах должна оставаться одна мысль: провалы — вещь случайная, сами, дескать, виноваты. Пешки есть пешки и останутся таковыми. О стратегии и тактике наших замыслов им догадываться вредно. Уйдут на такое дно, что ни одной сетью не вытащите. Не копируйте гестапо и СД. Это у них играют сегодня в осведомителей, а завтра выступают свидетелями. Итак, полковника Неймеркеля можно отпустить. Мы же с вами, Ганзен, еще обменяемся мнениями. Неймеркель откланялся. Попивая херес, адмирал уставился на пламя, мерцавшее из-за решетки камина, который он покосил растопить из-за своего простудного недомогания.
Ганзен не смел нарушить молчания.
— Вот что, — очнулся Канарис, — об этом новом родственничке, Племяннике, наши швейцарцы, даже Майснер, Гезевиус или другие, знать не должны, обойдемся без них.
Ганзен удивился. На связи консульских резидентур были более ценные источники. А здесь… мелочь тонконогая, ткни — упадет.
— Но… тогда придется создавать что-то дополнительное. Стоит ли? — осторожно спросил он.
— Понимаете, — объяснил Канарис, — швейцарская полиция уже не та, что раньше. Американцы у нее в почете. Богатые люди. Я побаиваюсь, что если Даллесу доложат о контактах антифашиста, прибежавшего, скажем, в Женеву откуда-то со стороны России через Германию, а так мы планируем, то, — адмирал выплеснул капли спиртного в камин и полюбовался, как вспыхнули искорки, — наш Племянник сгорит.
Однако сам Канарис думал об ином. «Пиккенброк сбежал, Бентивеньи тоже начал закидывать удочки насчет дивизии на фронте, тем более, что Пики уже во главе такого войска. Гизевиусу бежать некуда: он прибежал в такую безопасную гавань, куда другим не добраться. Какого-то молокососа он отдаст американцам запросто. Мне же еще работать надо, и товар лицом показать тоже надо. Племянник, если все пойдет как надо, превратится в честного двойника и шишки из американского леса понесет нам. Минимум на связь с движением Сопротивления в Европе они его запустят. И это товар на радость фюреру! Гизевиус же мне нужен, наших дел против обожаемого фюрера».
— Ганзен, сделаем так. У него кто в Женеве?
— Вторая тетка, владелица художественного салона. Скорее всего, просто хозяйка антикварной лавки.
— Прекрасно. Итак, пусть его здесь сведут с какой-нибудь действующей подпольной группой. Месяца на полтора-два. Затем выедет на работу в Германию. Подготовка в индивидуальном порядке. На этот месяц, не больше, и в Швейцарию. «Окон» там предостаточно. Инструктаж за вами.
— Все ясно, господин адмирал.
— А теперь — спать.
Начальник «латышского отдела» СД Тейдеманис, огромный, ширококостный детина твердил своему заместителю Пуриньшу, буравя того почти немигающими серыми глазами:
— Пойми ты, Александр, одно дело. Вся блажь с разработкой умных комбинаций по засылке наших подсадных уток в подполье может годиться где во Франции или в прочей Европе, где собраются пять-десять групп Сопротивления и конкурируют друг с другом. Коммунисты, социки и всякая иная шваль. У нас этих групп в сто раз больше и все один цвет — красный. Их надо брать и щелкать. Без церемоний. То, что ты рассказывал о лисьих ходах гестапо там, во Франции и Бельгии, может проходить у них в Берлине, но для нас это все детские забавы. Ты меньше слушай своих дружков из свиты нашего Панцингера. Это все дань моде. Ах-ах, «Красная капелла»! Ай-ай, кого мы разоблачили! Как же так, не убереглись от развившейся эпидемии на почти шестьсот человек. И где? В центре рейха. Доигрались в тайную войну! Тоска собачья!
— Да перестань тараторить. В ушах звенит. Для тебя никто не указ. Панцингера высмеял. Канарис уезжал, так он чистюля по-твоему. Рейхсфюрер приехал, всех распушил, тоже тебе не по нраву…
— Да? — перебил зама Тейдеманис. — Ты задумался, по какой причине все зачастили в Остланд снимать один другого с постов? И по линии армии, и СД, и абвера. То ли было год-два назад: все стабильно, потому что давили мы, а теперь все проникаем. — и Тейдеманис выругался, резко сомкнув рот, отчего его толстые губы булькнули.
— Русские жмут, Херберт. Фокус в этом. Вистуба мне рассказывал…
— Ты поменьше путайся с абвером. Твое место здесь. Ты где деньги получаешь?..
— Да пошел ты в задницу! Где за мозги платят, там и получаю! Понял?
Разгорающийся было спор притушил телефонный звонок. Пуриньш взял трубку и минуты две лицо его покрывалось красными пятнами в такт доносящимся в ухо новостями. Он бросил трубку, и со словами «Ну, подлецы, дождетесь трибунала» поднял глаза на начальника.
— В чем дело, если это только не твоя роскошная Магда выплевывала на тебя штрафные очки?
— Прекрати свои шутки! Если бы Магда! Ты послал на этот склад Лукстиньша с компанией забрать прячущихся там евреев?
— Да, а что?
— Во-первых, ты прекрасно знал, что это дело Графа, носившего им жратву по поручению теток из фотоателье. Так нельзя, Херберт, ты мог провалить нашего агента. Во-вторых, кроме Лукстиньша всех наших пятерых полицейских задержали солдаты охраны и сейчас же надо ехать их выручать.
— Ничего не понимаю, кто звонил?
— Эрис. Ему отзвонил Граф. Тот подошел к какой-то там дыре, через которую евреи получали от его еду и рванули, когда наши молодцы прибыли завязалась перепалка со складской охраной. Евреев было трое или четверо. Почему ты меня не спросил, на черта они тебе сдались? Ты о Графе подумал?
— Теперь ты иди со своими жидами и Графом туда, куда меня послал! Не хватало, чтобы из-за каждой вшивоты с пейсами я спрашивал у тебя разрешение! — разорался Тейдеманис.
— Послушай, ты, дубина, уймись. Или еще раз пойдешь на коврик к Панцингеру. Не знаю, кем ты от него на сей раз выйдешь. У него целевой замысел по Графу. Если тебе в голову ударила излишняя моча, он тебя вылечит. Причем гомеопатию он не уважает, он тебя поставит вниз головой — и недержания у тебя как не бывало. Оберфюрер тебя пострижет, как своего пуделя, до блеска.
Тирада Пуриньша отрезвила Тейдеманиса. Он замолк, нахохлился и произнес примирительно:
— Ладно, расскажи толком, что произошло.
— Наши подъехали, отрекомендовались, сказали о том, что приехали забрать прячущихся. Ефрейтор, начальник караула, заорал, что здесь склад вермахта, вы что, хотите ворваться? И велел направить на них крупнокалиберный пулемет с вышки. Наши оружие побросали, их запихали в грузовик и отвезли в ближайшую комендатуру. Граф видел, как один из немцев подбежал к какому-то окошку подвала, что-то там сказал и эти жидовские бандиты сиганули через дыру.
— Вот гады! Вот так и те двое, как их там — Шефер и Шуман, спутались с группой Рендиниекса, всю Латвию проехали, Псковщину, взяли их аж в Старой Руссе!
— Хорошо еще, что абвер все организовал и их брал. Будь там наши полицейские, то, увидев пятерых в форме вермахта, да на грузовике, сдрейфили бы, как на этом складе, — подлил масла в огонь Пуриньш. — И запомни, они организовали засаду вне территории Латвии, якобы нарвались на случайную заградительную команду, чтобы никаких подозрений на своего человека в группе, здесь в Риге, не было. Дошло? Такие, как Граф, несут нам золотые яйца. Рисковать ими нельзя.
— Ладно, перейди на другую волну. Что будем делать?
— Иди к начальству.
— К Ланге?
— Ты в уме? Даже и не думай, не ходи. Навести наше непосредственное начальство. Это чистое дело гестапо, пусть выручают. Но на вермахт не жалуйся. Обиду лучше проглотить. В конце концов Граф был у Вагнера, потом отдали нам. А мы чуть было не подпалили. Беглых со склада найдем. Хозяйка фотоателье нас на них выведет. Они к ней обратятся. И Граф еще сработает.
Тейдеманис ушел.
«Пусть изворачивается, как хочет, — думал Пуриньш. — Ума не ссылаться на Графа у него должно хватить, если не захочет рикошетом схлопотать себе пощечину. Но почему, почему немецкие солдаты принимают сторону красных террористов, даже прячут евреев? Неужели, как и в сороковом, придется бежать?»
Граф чувствовал себя превосходно. Уже более года он жил так же свободно, как до войны в своем родном Запорожье. Имея на руках удостоверение унтер-офицера караульной службы шталага № 351 за подписью начальника лагеря Ярцибекки, он располагал правами большими, нежели когда стал за два года до начала войны курсантом зенитно-артиллерийского училища, которое окончил лейтенантом. Действительно, в имевшемся у него аусвайсе значилось, что он «есть принадлежащий к караульному отделу (Укр.) лагеря военнопленных района Рига. Он уполномоченный носить оружие и имеет право свободного хождения согласно местных предписаний». Дата, подпись, печать.
В училище выдавались лишь увольнительная в установленном порядке, причем далеко не на каждый день. Об оружии — винтовке, когда он бывал в целевом, привилегированном карауле, или пистолете, когда ходил в штатском, он до войны и не мечтал. Тогда он был равным среди равных. Теперь стал господином. Записанное в аусвайсе делало его выше окружающей толпы. Далеко не каждый немец в Германии официально располагал огнестрельным оружием, а о русских, украинцах, латышах здесь, на оккупированной земле, вообще говорить не приходилось. Они не имели права свободного хождения на своей земле. А Граф имел.
В караульные дела он назначался в самом начале своей карьеры. Пару раз съездил в Германию, сопровождал эшелоны с военнопленными. Будучи старшим караула, легко знакомился с простыми людьми, которые из-за сердобольности несли еду пленным, работавшим на погрузке-выгрузке товарных вагонов. Имея указание Вагнера на знакомства такого рода, он не рисковал ничем, улыбался, шутил, делал возможными незаконные передачи, нравился всем сторонам, прослыл своим. Когда накопилось изрядное количество знакомств, после следовало якобы дезертирство со службы. Зачем было слоняться в карауле, если создалась база для работы? Никто не подозревал, что бегство это — мнимое, что он является подсадной уткой, запущенной абвером на гладь житейских перекрестков рижского Сопротивления. За прошедший год у него выработалась собственная система вхождения в доверие в нужные круги: он начинал обычно с женщин, от которых легче было получить нужные рекомендации. Это не означало вовсе, что он набивался на интимные дела. Как правило, он напирал на свое одиночество в чужом краю, на проживание вне закона, тайную деятельность. Все это в небольших дозах создавало облик благородного рыцаря и позволяло находиться в тени культивируемой им развесистой клюквы, приносящей плоды за счет мелких услуг, ловких намеков о том, что в будущем у него один путь — тропа в партизаны.
Номер с евреями на складе вермахта был проходным трюком и никаких сложностей для него не представил. Подумаешь, принести им продукты раз, другой, третий и доложить затем, что все в порядке — передал! То, что туда вдруг намеревались нагрянуть люди из «латышского отдела СД», он не предполагал, очевидно, произошла какая-то накладка, равно как и был удивлен реакцией охраны этого склада. Но ничего, свои задачи он выполнил для обеих сторон: и для Эриса, и для подпольщиков. Все остались довольны. Еще одна проверка прошла благополучно…
Первичное знакомство Графа с группой исконных рижан, латышей — патриотов, людей среднего достатка, главным богатством которых было благородство, произошло почти на год раньше. Тогда он по заданию Вагнера был включен в группу военнопленных под охраной для работы на территории еврейского кладбища. Санитар первой горбольницы по имени Август, его жена Мирдза, ее подруги — хозяйка фотомастерской Мария и санитарка Эмилия помогали военнопленным чем могли. Они тайком проносили на кладбище скудные продукты, потрепанную, старую, но выстиранную и залатанную, заштопанную одежду, более или менее отремонтированную обувь.
Знакомство состоялось. Могли ли неискушенные честные люди предположить, что в среду этих обросших, грязных, голодных, разве только не воющих на луну по ночам от тоски и безысходности пленных какой-то там неизвестный им Вагнер постарался заслать человека продажного? Конечно же, нет.
Когда через год Граф уже аккуратным, выутюженным, в роли собирающегося удрать с опостылевшей караульной службы унтер-офицера предстал перед ними же и рассказал, как ловко он обвел вокруг пальца своих мучителей, то они этому поверили. Правда, появилось легкое сомнение в связи с таким превращением, но оно не привело к подозрительности. Во-первых, они видели своего друга там, на кладбище, в шаге от могил, куда и он мог угодить, во-вторых, он выполнял их просьбы, пробираясь к последнему убежищу евреев — складу, рискуя жизнью раз, другой, третий. Наконец, была война, сопровождаемая превращениями и маскарадами, бегствами в самых разных формах. Разве они сами: Мария, Мирдза, Эмилия и Август не надевали на себя маски?
…Граф прибежал к Марии взъерошенным, в меру напуганным, но не потерявшим уверенности и способности к действию. Рассказав о случившемся, он резюмировал:
— Надо куда-то смываться или ложиться на дно и абсолютно не показываться месяца два, но где спрятаться? Верные ребята снабдили меня всякими поручениями, я обещал им помочь. Что-то надо делать. Но могу я сейчас, когда мы все отдаемся борьбе, забиться в щель?
Эту мизансцену Пуриньш отрепетировал с Графом сам, не полагаясь на Эриса, который тяготел к методам Тейдеманиса: выявил — забирай, не хочешь говорить — выбьем.
Как верный слуга двух господ, Пуриньш одной своей головой отвечал и перед своим высшим руководителем Панцингером, разработавшим идею засылки провокаторов в партизанское движение, и перед Вистубой, который Графа отдал на время в аренду службе СД при условии, что им будет руководить профессионал, досконально знающий местную среду и при полном согласовании работы с абвером.
Когда оберфюрер ознакомился с делом Графа и увидел в нем пометки Бентивеньи: «Для доклада адмиралу» и «Мимикрия. Использовать на местном рынке», то он заинтересовался объектом досье, позвал Ланге, затем был вызван Тейдеманис.
— Я ознакомился с делом Графа, господин Тейдеманис. Дополнительно доктор Ланге просветил меня об истории его передачи в пользование вашему отделу. Считаете ли вы его ценным агентом?
— Так точно, господин оберфюрер.
— Бентивеньи аналогичного мнения, штурмбанфюрер Ланге тоже, — Ланге наклонил голову в знак согласия. — Скажите, почему тогда сведения, получаемые от него, используются таким варварским образом? — спросил Панцингер тихим пасторским голосом.
— Я не понимаю вас, господин оберфюрер. Почему варварским? Я… мы… с ним работают непосредственно мой заместитель Пуриньш и сотрудник отдела Эрис…
— Да, я вижу. Они приносят в клювах интересную информацию, но затем ее почему-то пожирают диким образом. Вы со мной согласны, доктор Ланге? — Тот опять кивнул головой, правда, не до конца понимая, куда клонит новый шеф. С Пфифрадером было легче легкого, тот знал себе одно: если цель появилась перед мушкой, то нажимай на курок — и порядок. В таком же духе действовал и Тейдеманис. Сам Ланге в дела, с его точки зрения — рядовые, не вникал, но понимал, что с новым шефом по-старому не проживешь.
— Вот, смотрите, — продолжал бесстрастным баритоном Панцингер, — в сентябре прошлого года вы арестовали Екатерину Иванову. Основания для ареста имелись. Граф превосходно вошел в роль: благожелательный караульный, флирт с сестрой Ивановой, затем выясняет, что его хотят использовать в преступных целях, он делает стойку, идет по следу, выясняет, что Иванова достала десять пропусков для проезда по железной дороге. Кому? Военнопленным. Куда? В партизанскую зону действий. Господин Пуриньш все изложил прекрасным лаконичным языком старого сыщика. Какое решение должны были принять вы, Тейдеманис?
Тейдеманис молчал. Что он мог сказать? Следуя логике оберфюрера, не должен был он хватать этих проклятых баб, тем более, что ничего путного на допросах в тюрьме они не дали. Кричали, визжали, плевались, бились головой о стенку, но по делу — ни слова. Но где достали пропуска, и кому они предназначались? Твердили одно, что кто-то положил их под подушку, а кто — не знают. Оставили в квартире засаду, когда их увезли, думали, кто-то притопает за пропусками. Тщетно. Никто не пришел.
Ланге решил вмешаться и как-то обелить своего подчиненного.
— У начальника латышской политической полиции слишком много дел, и что-то он мог упустить из вида, тем более, что бригаденфюрер Пфифрадер… — примирительно начал Ланге.
— К черту это пустословие, Ланге, — взъерепенился вдруг Панцингер. Лицо его посуровело, крылья носа раздулись, взгляд стал тяжелым, глаза буравили Тейдеманиса. — У начальника государственной тайной полиции группенфюрера Мюллера размах работы несравненно больший, но он, мы его подчиненные, вникаем в дела. А вы здесь к этому не приучены. Начальник латышского отдела ограничил свою деятельность Ригой. По какому праву? Назовем тогда отдел рижским, а не латышским. В этом корень неправильного решения по информации Графа. Держать за хвост возможность засылки своего человека в партизанский край и выпустить этот хвост из рук. Вместо того чтобы по уже имевшемуся пропуску пробраться в отряд и снабжать нас оттуда сведениями, достали пропуска из-под дамских подушек и принесли их к себе в кабинеты. Великую работу они закончили! Деятели! Да засуньте эти пропуска каждый в одно место, — обер-фюрер выругался, — и можете ездить в Риге на трамвае и не вытаскивать из карманов и не показывать — на трамвае они лишние. Зачем вы вместо того, чтобы готовить Графа в отряд, направили его к этой старой дуре Липперт?
Тейдеманис обрел дар речи и заикаясь стал объяснять:
— Она живет рядом с домами, где расположены гостиницы СД и проживают многие наши офицеры, в том числе посещающие ее квартиру. Она высказывала негативное отношение к генералу Власову и его программе по консолидации русских сил под эгидой немцев, ругала режим в Остланде, приютила у себя троих русских солдат, двух сестер и брата, не позволила разлучить их по разным домам призрения. Она снабдила Графа одеждой покойного сына, дала ему карту Латвии, компас, фонарик, когда он завел с ней разговор о том, что хочет убраться из города… К сожалению, пути в партизаны у нее не было. В тоже время она русская, вдова немецкого подданного, все германское ей близко, офицеры наслаждались у нее немецкими обычаями, — невразумительно оправдывался Тейдеманис.
— Пропуска на железную дорогу она ему не предложила. Иначе вы бы посчитали свою миссию законченной и забрали ее для выяснения вопроса, где она его достала, не так ли? — сказал с иронией оберфюрер.
— Она рассматривала его как своего сына… — мямлил Тейдеманис, желая хоть таким образом вырваться из угла, в который попал, — и мы полагали, что она что-то выпытывает у господ немецких офицеров…
По окончании этого злополучного знакомства с оберфюрером, Тейдеманис долго приходил в себя, и больше не желал быть вызванным на коврик, о чем ему прозрачно намекнул Пуриньш.
Инструктируя Графа, Пуриньш вначале делал ставку на публику, собирающуюся у сестер, Елены и Анны, но там почему-то все тормозилось. Рагозин вел себя правильно, хотя и несколько шумно. Ясности, что Графу можно уйти в восточные уезды Латвии по линии знакомств сестер, пока не просматривалось, хотя толокся он у них регулярно. Разговоры о походе в партизаны там проскакивали постоянно, но только что прошла свадьба, к которой активно готовились, молодоженам стало не до активности на поле сражения, они были заняты друг другом. Сроки об отправке в партизаны отодвинулись на октябрь-ноябрь. Сбивало с толку Пуриньша и то, что при наличии крепких позиций в доме на Артиллерийской, ничто не свидетельствовало, что публика, там бывающая, причастия к взрыву в Яунмилгрависе. Следовательно, эта точка сборищ антинемецких элементов пока не так уж и актуальна. Правда, настораживало Пуриньша появление там той самой Ольги и выпуск листовок на занесенном по идее Эриса в дом сестер шапирографе. Оставалась группа Марии из фотоателье. Что ж, попробуем… и клюнуло.
…Когда Граф поведал Марии о случившемся, она прежде всего успокоила его, приободрила, напоила чаем и проводила в тихую боковую комнатку отдохнуть, успокоить нервы, поспать. Сама она отправилась к Эмилии держать военный совет о том, чем помочь ставшему для них близким пленному офицеру Красной Армии, находящемуся на нелегальном положении, которому они сами придали двусмысленную позицию, могущую обернуться для него здесь, в городе, крахом. Женщины — народ эмоциональный, склонны к преувеличению и самобичеванию. Безусловно, просчет со складом не был трагедией. Но они понятия не имели о лисьем гамбите четырех «слонов»: Канариса, Панцингера, Ланге и Пуриньша, с общим стажем лжи и обманов в сумме не менее 60 лет.
— Что думаешь ты, Эмилия, — спросила Мария, выложив ей последние новости. Вопрос не был новым, он уже возникал в бесконечных разговорах подруг. Первой заповедью попавшего в беду человека было — спрятаться и бежать. Только куда? В Риге их знакомый перебывал во многих спасительных пристанищах. Если он пойдет по ним по второму кругу, то может и провалиться. Нужно другое решение. Они посмотрели друг на друга и одновременно сказали глазами: пусть уходит в партизаны. Созрел для этого он. Проверен. Промедление приведет к тому, что засыпется здесь и погибнет.
— Знаешь что, — вслух ответила Эмилия на вопрос подруги, — мне вот не понравился один шаг с его стороны. Помнишь, раз он ночевал в моей квартире. Я рассказывала тебе. Утром я убежала в больницу еще затемно. В предыдущий вечер я сказала ему, что будешь уходить, закроешь дверь ключом, положишь ключ в конверт, надпиши его моими координатами, заклей и положи в почтовый ящик. Если соседи будут любопытствовать, то ничего особенного — в ящике мне письмо. Что он сделал? Прихожу, в ящике ключ торчит, один, без конверта. Что соседи могли подумать? Что у меня кто-то незнакомый был? В наше-то время, когда все друг за другом шпионят?
— Это чистая случайность, — успокаивала Мария, — подумаешь, парень молодой, проспал, вскочил, времени нет — и на работу. Конверта не нашел, ключ — в ящик и побежал.
— Положим, конверт я ему приготовила. Куда ему нестись надо было? Он же не работает нигде. В этом же и фокус. В это утро я на часа два позже вышла из больницы и там, в лесу, в сторону Шмерли топает наш молодой друг, — задумчиво сказала Эмилия, — хорошо был одет, даже в шляпе.
— Послушай, подруга, как ты думаешь, могут у него быть и другие подпольные дела, помимо наших?
— Конечно. Но в такого рода делах надо соблюдать точность, иначе приобретешь неприятности для себя и товарищей. Он же бросил ключ обо мне не подумав. И спешить ему некуда было, — упрямилась Эмилия.
— Так что будем делать? — спросила Мария.
— Господи, пусть идет в партизаны. Не на прогулку же отправляем по лесу. Взвалит на себя тяжелую ношу, и потащит она его. Может к победе, а может к собственной гибели. Ты думаешь — через Стасю?
— Да, — ответила Мария. — Другого пути у нас нет.
— Но нас предупредили, что это путь для важных переправ.
— Как ты отличишь важное от не совсем? Уже война три года, а мы ни разу тропку эту не использовали, вдруг она уже паутиной затянулась? Проводники все на ней верные. Пройдет, как поезд по рельсам. Друг наш говорил, что в случае возможности уйти туда, в Освею, повезет с собой какие-то документы, чтобы связать рижское подполье с партизанами. Разве мы не должны дать ему безопасный мостик для связи?
Эмилия замахала руками:
— Ой, что ты, что ты, Мария. Да я не хотела никого обидеть, ни друга нашего, ни тебя, ни ребят. Просто я испугалась сама не знаю чего и теперь все этим испугом меряю.
Вечером того же дня, презрев всякие условности, Граф, он же блондин, вбежал со двора, выходящего на улицу Парковую, по черной лестнице дома № 8 по улице Кришьяна Барона. Он позвонил в квартиру № 8. После долгой паузы раздался женский голосок:
— Вам кого?
— Молодого хозяина, — ответил блондин.
— Да? — удивилась слегка служанка и пошла в глубь квартиры.
Появилась знакомая фигура Эриса в халате, с заспанным лицом и как всегда смотрящими в одну точку близко поставленными глазами.
— Судя по нарушению всех правил конспирации и твоему растренированному дыханию, вызванному близостью женских тел, — Эрис кивнул в сторону дома мадам Бергман, — что-то случилось.
— Получил ходку в партиз… — выпалил Граф, едва они переступили порог кабинета хозяина.
— Поздравляю, — и Эрис с чувством потряс руку Графа. — Расскажи, как все это произошло.
— Нет худа без добра, — начал Граф, — история со складом и моя пошатнувшаяся судьба взволновала моих тетушек. Сцена, которую со мной репетировал господин Пуриньш, потрясла их. Все плакали и рыдали: «Что будет с нашим бедным, бедным мальчиком. Ему надо помочь, ему надо бежать». Так что передайте господину Пуриньшу, что его, если не в настоящий театр, то для заводилы по блефу при игре в двадцать одно вполне можно взять. Талант! Любого обведет!
— Но-но! Оставь свои блатные выкрутасы. Сам скажешь ему об этом, — бросил Эрис и стал названивать по телефону. Пока он крутил диск, то уточнял: когда надо идти, дадут ли они поручения, имеются ли пароли…
Граф лишь блаженно улыбался и мотал головой от привалившего успеха. Он еще не мог осознать, будет ли ему там лучше, но то, что не будет уже скитаний по чужому городу с чувством опасности, исходящей от своих, немцев, власовцев, самоохранников, полицейских, агентов Тейдеманиса и Пуриньша, — это он начал с трудом, но соображать.
Наконец Эрис дозвонился. Высказав пару комплиментов Магде, которую он встретил недавно в театре, попросил к телефону Александра. Поздоровались.
— Опять склад, в который вернулись еврейские мыши? — подозрительно спросил Пуриньш.
— Шеф, поздравьте Графа, он добился такого желанного для вас путешествия. Система сработала. Зрительницы были в восторге от его игры с вашей режиссурой.
— Не болтайте так много. Откуда звоните, от себя?
— Да, Граф рядом.
— Бегу. До встречи.
— Пуриньш будет здесь через минут двадцать. Что за спешка? — обратился Эрис к Графу. Потом дернул за звонок. Появилась служанка.
— Вот что, Марта, накройте стол на четыре персоны. В столовой. С серебром. Будет холодный ужин. Нарежьте телятину, буженину, лососину, поставьте угорь, овощи. Водку, шампанское, мозельское. Кофе, ликер — в кабинете. Мари передайте, пусть сидит у себя в комнате, здесь не порхает. Вы справитесь одна.
Старуха покосилась на Графа, но все же сказала:
— Я при старом хозяине всегда справлялась одна. Мари вы скажите сами, мой господин. Я ее сюда на работу не принимала, — и служанка величественно удалилась.
— Понял? — спросил Эрис Графа и подмигнул ему.
— Досконально, — отреагировал тот моментом и, осмелев от того, что его берут за господский стол, заметил: — Смазливенькая, чистенькая и все время на месте. Не то что лошади из нашей конюшни, — и он кивнул в сторону «стойбища» мадам Бергман.
Эрис вышел и сказал крутившейся неподалеку от гостиной служанке:
— Мари, сними чехлы в столовой, проветри комнату, иди к себе и сиди там весь вечер. Под ногами не путайся. Марта со всем справится.
— А как же я, милый, — и она попробовала прижаться ближе к хозяину.
Послышалось сердитое фырканье Марты, и тут же раздался звонок в парадную дверь. Мари как ветром сдуло. Вошел Пуриньш. Его щегольская серая шляпа сидела на нем самым что ни на есть залихватским образом. Он сказал несколько слов Марте по-немецки, справился о старом Эрисе, консуле. Марта расцвела. Улучив момент, Граф спросил у хозяина:
— Для кого четвертый прибор? Будет Тейдеманис или Вистуба?
Эрис поджал свою толстую нижнюю губу к тонкой и тихо процедил:
— Не исключаю кого-то из немецкого руководства гестапо, поэтому и серебро на столе.
Граф в такого рода этикете силен не был, но сообразил одно — надо дернуть где-то в этом доме водочки, а то, когда начальство сядет за стол, — хрен там можно будет свободно взять на грудь.
Подойдя к Марте, которая доставала из бокового отделения огромного черного серванта ножи, вилки, протирала их и готовила для раскладки, Граф осведомился насчет туалета. Марта указала в конец длинного коридора к выходу на черную лестницу. Проходя мимо прохода в кухню, он услышал, как в одной из комнат напевала Мари. Не постучав, времени было в обрез, он втиснулся в обитель служанки. Та была в одной комбинашке, она тихо взвизгнула, сложив инстинктивно руки крестиком а худенькой груди. Граф улыбнулся, успокоил ее жестом, что только, дескать, не сейчас, не с руки, показал при этом на запястье без часов, что времени нет и в хозяйскую сторону, что полно народа, потом, чтобы до нее дошли его симпатии, хлопнул ее по попке и одновременно приложил палец ко рту — не пикни. Жестом же обратился к ней, поднеся сложенную ковшиком ладонь ко рту и изобразив булькающие звуки. Она сообразила и достала початую бутылку из тумбочки. Он взял и удалился в туалет. Вся пантомима с Мари заняла минуту. Удобно устроившись на обитой шкурой какого-то зверя сиденье, отчего зад был как бы с воротником, он потягивал шнапс и дергал за ручку бачка, чтобы громыхающая по коридору Марта и пару раз прошелестевший по дому Эрис слышали, как он очищается от скверны. Почти расправившись с питьем, он вышел из туалета, приоткрыл дверь комнаты Мари, оставил там бутылку с недопитым, показав этим свою воспитанность, улыбнулся и побрел к хозяевам.
— Что, живот подводит на нервной почве? — спросил Пуриньш.
— И нервы, конечно, тоже. Питаюсь-то я как? Все больше как придется, всухомятку, как какой день, — перешел он на жалостливую ноту.
— Брось! Жрать ты был всегда горазд. Еще Вагнер в твоей характеристике отметил. В положительном смысле, конечно. Что, мол, ради хорошей жратвы выполнит любое желание. Ладно, давай ближе к делу. Кого они дали для начала пути? Кто отправная точка, кто последующие? Путь, путь, куда идти. Вот карта. Давай смотреть.
— Завтра надо зайти к некой Стасе. Полное имя Стасиене или Стефания, как нравится, так и зовите. Ей где-то лет тридцать. Работает служанкой на Стрелковой, 7. У нее в Пасиенской волости, в деревне Пирогово, кажется, сестра живет. Звать Адель. Туда за мной придут, кто, когда — неизвестно. И уведут в партизанский отряд. Вот все пока.
— Как фамилия сестер? — спросил Пуриньш.
— Ой, чуть не забыл, Долновские.
— Ты где-то уже успел вмазать шнапса на радостях, — поморщился Пуриньш. — Иди в ванну и влезь под холодный душ. Трезвей. Сядем за стол — не налегай, не в коня корм.
Граф не стал спорить, вышел, порадовавшись тихо, что успел хорошо врезать, а то теперь сиди и пялься на парадную жратву.
Когда Граф удалился к ожидавшему его душу, впервые за время плена в эдакой фешенебельной квартире; он пожалел, что рядом не будет Мари, но успокоил себя, что в отсутствие оберлейтенанта он сюда обязательно забежит минут на 15–20. В крайнем случае служанка может заскочить и к нему в мансарду. Все складывалось отлично. Европа — это тебе не Запорожье! Чирикая что-то развеселое, Граф полез под душ. Перед решительным боем надо быть чистым, так предки учили, подумал он и пожалел, что не было белой нательной рубахи и чистых подштанников.
Пока Граф наслаждался в ванной, Пуриньш прикидывал варианты, которые исполнителю знать было не положено.
— Придется проработать всю ночь, — сказал он.
— К чему такая спешка? Сделаем все днями, — возразил Эрис.
— Нельзя. Представьте себе, что у Стасиене или У всей группы Марии имеется старший руководитель, мужчина. Он в тени, мы его не знаем. Именно он принял решение об отправке Графа по какой-то новой цепочке, причем в определенный день, завтра наш красавец должен быть у Стаей, или как ее там. Она ему говорит одна или вместе с кем-то, что на, малый, тебе билет на железную дорогу до Зилупе и сегодня же выезжай, поезд через три часа. И точка. Отсрочек здесь не бывает, они дурно пахнут. Здесь до посадки в вагон его может и сопроводить какая-нибудь тетка, искать которую бессмысленно, | да и незачем. Не найдем.
— Что вы предлагаете?
— Во-первых, пригласить сюда Ланге. Другое дело пожалует он или нет. Но известить надо.
— Я так и подумал и сказал это Графу, когда он спросил о четвертом приборе.
— Поймите, Эрис, здесь нужна санкция на проведение операции, задуманной Панцингером. Помните пометку в деле о том, что контроль лично за Ланге. Санкцию должен давать он, самый близкий к оберфюреру, иначе если что не так, то завалившими операцию будем мы с вами.
И Пуриньш стал названивать доктору Ланге. Тот все понял с полуслова и пришел в хорошее настроение, выслушав напоминание Пуриньша, что это тот Граф, за которого был выпорот Тейдеманис, хотя и оставался при порке в брюках.
Ланге заставил себя ждать. Он был почти ровесником Панцингера, но в деловой хватке явно уступал тому, ибо в основном являлся исполнителем. Войдя и кивнув подчиненным, он сразу отвел Пуриньша в сторону.
— Хорошо, что вы у нас в наличии, мой дорогой Александр. Ехал сейчас и думал: ну если бы вас не было, кто позвонил бы мне и в стиле салонной французской болтовни постарался напомнить все те гадости, причем справедливые гадости, которые вывалил на бедного Херберта наш оберфюрер? Ценю ваш дипломатический такт, — и он по приятельски хлопнул Пуриньша по плечу. Во время его тирады в прихожей Эрис и Граф отошли в кабинет и стояли там навытяжку. (Граф благоухал французским шампунем, лик его был светел, очищен от было прилипших к нему грязных дел и пламенел от выпивки и мочалки в предвкушении дальнейших подвигов).
Когда Ланге вошел в кабинет, то оба щелкнули каблуками. Сели. Пуриньш ввел в курс складывающейся ситуации. Помолчали. Переварили смысл нового витка спирали, на который выводился сидевший здесь же блондин с лучезарным и невинным взором. Первым по рангу нарушил молчание Ланге.
— Итак, как я понимаю, мы, возможно, видимся в таком составе в последний раз. Наш друг отправляется на выполнение нелегального задания, идет причем в одиночку, все время будет находиться в контакте с бандитами, подвергаться проверке, рисковать. Предлагаю поднять тост за него. Эрис, прошу наполнить! Прозит! — все выпили по бокалу шампанского. Граф тоже, не обращая внимания на знаки Пуриньша, мол, притормози наполовину.
— Эрис, — продолжил Ланге, — возьмите мою машину, она ожидает около консерватории, и поезжайте в отдел. Я сейчас позвоню дежурному в группу документации. Возьмите папку «Мимикрия» номер 12/43, откройте ее, убедитесь, что там в отдельном конверте три документа: отношение в партизанский отряд, присяга и удостоверение участника организации. Там же в папке три коробочки: в одной печать, в другой — угловой штамп, в третьей — образцы подписей. Захватите также блокнот в клеточку. Даю вам тридцать минут.
— Слушаюсь, господин штурмбанфюрер. И Эрис, сорвавшись с места, умчался.
— Я полагаю, доктор, что его отправят завтра, нельзя же такого красивого парня подвергать здесь опасности. Они настроились на это и намерение свое осуществят, — как дятел долбил свое Пуриньш.
— Благодарите бога, что по настоянию оберфюрера все три документа под вашу Александр, диктовку Граф в ту злосчастную ночь после выволочки написал. Оберфюрер свои идеи облекает в плоть тотчас. Мало ли, говорит он, когда в поход. А если завтра? В противном случае сидели бы мы сейчас совсем скучными. Кто пойдет с документами, мы же не знали. А так, пусть Зарс перепишет буквально творение Графа, заполним прочерки его данными, вы подпишитесь согласно образцам, поставите штемпель, печать — и у Графа верительные грамоты, как у английского посланника. Верно? — обратился Ланге к еще более зардевшемуся от оказываемого внимания блондину.
Тот серьезно посмотрел на Ланге, на Пуриньша и тихим, несвойственным ему несмелым голоском спросил:
— А если не сойдется? Если «Рижский партизанский центр» не подтвердит, что я их человек и послан ими для установления связи?
Ланге и Пуриньш переглянулись. Затем Ланге произнес нечто вроде небольшого реферата, который Пуриньш переводил и расцвечивал на свой вкус.
— Запомни, к партизанам ты должен перейти с поручением от какой-то организации. И только так. В этом весь фокус. Тогда у тебя есть цена, а так, придешь пустым, то и цена тебе копейка в базарный день. Таких праздношатающихся одиночек в лесах шляются десятки, но они без рекомендаций, без документов. А в России же документ, мандат, бумага, все одно настоящие или фальшивые — важнее человека. Ими создается человек. Так у вас исторически повелось. Отрекомендовать тебя от группы Ольги, тебе известной? Или от других бандитов? Но у них и названия нет. Кроме того, опасно, они у нас пока не под контролем. У них может уже накоплена информация, которая нам боком выйдет, попадись она руководителям противника даже через тебя. Какая разница? Весь же этот «центр» у нас вот здесь, — и Ланге показал зажатый в кулак лимон со стола Эриса. — У Тейдеманиса в руке этот фрукт потечет. И бандиты описаются, если попадут в его лапы. Но как бы Херберт не давил их, тебя они не назовут, ибо ты им незнаком. Ты для них — инкогнито. В этот прочерк могли вписать и кого другого, но исходный рубеж и рекомендации для броска в данный момент в твоем владении. Люди «центра» группе Ольги известны, и для нас это провал. Наше счастье, что никто из них не знает о твоем походе. Улавливаешь разницу? Чуть что, души деятелей «Рижского партизанского центра» улетят на небо, а трупы свезем в могилы. Единственным владельцем единственных в мире бумаг «центра» окажешься ты. Соображаешь? Правда, были у нас и другие кандидаты помимо тебя, но расклад звезд благоволит к тебе, другие ребята без нашей подсказки косвенно поддержат версию наличия «центра», укрепят твое положение. Но о двойном дне «центра» они знать ничего не будут. И мы его свернем, как только необходимость в нем исчезнет. А ты, ты до конца будешь отстаивать честь пославших тебя. Верь одному — весь этот «центр» мы обложили теплыми бутылочками, как недоношенное дитя, и чуть он повысит голосок — мы кислород перекроем.
— Выходит, «центр» заложник на время, так сказать, для моего влезания в партизанскую бутылку, — осторожно прозондировал Граф.
— Именно так, — ответил Пуриньш.
— Да, когда я писал эти документы, то думал, что с ними пойдет другой человек. А теперь самому придется. Боязно. Как я вылезу из этой бутылки? Там же западня! — промолвил Граф. Хмель из него улетучивалась по мере того, как до него доходило, его загоняют в виде предательского шара в партизанскую лузу.
— Ты там и останешься в роли партизана. При твоих способностях в начальники еще вылезешь. Надо будет, мы тебя оттуда вырвем, как пробку из шампанского, — ответил Пуриньш.
— Ничего, не дрейфь, бумаги не столь уж плохи. Их наивность подкупает. Получить такие весточки из Риги, это будет впервые за всю войну. От них ошалеют, они впечатление произведут. Это оригинально, с такими бумагами ты идешь первый, — заметил Ланге.
— У меня сомнения, как он понесет все это с собой в кармане. Не боится? Храбр? Безрассуден? — проверял свои выкладки Пуриньш.
— Без них он ноль, Александр. Из тех отрывочных сведений, что мы перехватывали, бандиты постоянно нащупывают контакты для объединения своих групп там, в Освее, с городским подпольем. Это у них мания. И раз так, то пусть заимеют. Так разработал все оберфюрер. А он дока по части разных там хоров, оркестров, капелл, — и Ланге подмигнул, — в общем, музыкальная натура.
— А вот и наш хозяин! — воскликнул Пуриньш.
Эрис вошел в комнату и самым аккуратным образом разложил на столе принесенные бумаги. Все сгрудились вокруг них.
— У тебя красивый почерк, Граф, ты был, наверное, одним из первых в школе, — сказал Пуриньш. — Так, это текст присяги. Она у тебя, как клятва почти.
— А что вы думали? — спросил Граф. — Для нас это основной документ. Главное в нем — в плен мы не сдаемся. Присяга дана «Рижскому партизанскому центру».
— Эрис, переписывайте все три бумаги. В присяге и в удостоверении участника организации имеются прочерки, впишите туда фамилию, имя, отчество нашего друга, — распорядился Пуриньш.
При слове «друг» Ланге и Пуриньш обменялись понимающими взглядами.
Эрис сидел, пыхтел и писал. Остальные пропустили по рюмочке. Эрис сказал:
— Я не очень-то владею письменным русским, но мне кажется в тексте Графа имеются ошибочки.
— Да бросьте, не обращайте внимания, переписывайте. Все должно быть естественным. Не будем же мы звать эксперта по языку. Ошибки присущи нашим кадрам. Вот без ошибок — подозрительно. В письменном отношении к руководству отряда имеются слова, чтобы «центру» и другим городским группам помогли минами, пистолетами, стрелковым оружием? — спросил Ланге.
— Да, конечно, — в один голос подтвердили Эрис и Граф.
— Отлично, — прореагировал Ланге. — На этом мы их и нагреем.
Через час все было готово. В верхнем левом углу отношения в отряд стоял угловой штемпель с полным наименованием на латышском языке «Рижский партизанский центр», в прочерках для места написания документа значилось — Рига, 4 сентября 1943 года. Особо впечатляла печать, на которой рельефно выделялись мощные, мускулистые, выглядывающие из-под засученных рукавов руки рабочего с силой ломающие ладонями ненавистную паучью свастику. Полукругом вокруг оттиска печати шла надпись на латышском языке: «Смерть немецким оккупантам».
Выбирая глубину и оттенок печати, которая не Должна была иметь идеальную форму на документе, Пуриньш ставил бесконечные ее оттиски на листочках. Ланге это дело надоело, и вообще пора было идти в столовую. Поэтому он предложил закругляться. Пуриньш расписался на документах за руководителей подпольной организации, и все перешли к холодным закускам и горячительным напиткам.
Эрис отозвал Графа, сказал ему, что тот доложен пойти к себе выспаться, дал ему в качестве снотворного бокал французского коньяка и с собой пакетик провизии с барского стола. Они договорились, что завтра в десять утра, перед походом Графа к Стефании, они встретятся еще раз здесь и в присутствии Пуриньша договорятся о способах связи. Распрощались.
За столом разговорились. Все были рады успешному началу операции «Мимикрия».
— Собственно говоря, почему «Мимикрия»? — спросил Эрис, наименее осведомленный из трио по части проворачиваемых сегодня в его квартире дел.
Ланге как старший объяснил:
— «Мимикрия» — это защитное средство растения или животного, обеспечивающее сходство с окружающей природой, т. е. превращение становится незаметным, неразличимым для врага. Вагнер со мной поделился, что этот Граф и в мормоны влезет, и в староверы протиснется, дай такому мужичку только направление. Абвер его прогонял, как двигатель самолета на стендах. Единственно только в роли гомика он не выступал. И то пока ему не приказали.
Во время этой тирады с упоминанием абвера Пуриньш навалил себе побольше закуски. Он смущался.
— У меня вопрос, господа, — воскликнул Эрис. — Вероятно документы, которые окончательно превратят Графа в «Мимикрию», следует зашить ему в одежду. Надо отдать это портному, не так ли?
— О нет, наш дорогой хозяин. Пусть это сделают его дамы из карточной колоды: Мария, Стефания, Эмилия. Они любому проверяющему подтвердят, как собирали в дорогу беглеца-патриота, и потом, Эрис, мужской стежок хороший криминалист определит через пять минут, — сказал Ланге и вдруг перевел разговор в другую плоскость: — Кстати, Пуриньш, я заметил, что служанка Марта, так кажется ее звать, заметно отличает вас как старого друга дома даже какое-то довоенное рандеву вспомнила.
— Господин Эрис-старший — достойнейший коммерсант и дипломат, я всегда ценил его расположение, — ответил Пуриньш.
— Вы любвеобильны, Пуриньш. Иногда я завидую вам, руководители всех наших родственных ведомств чрезвычайно к вам предрасположены, — лукаво прищурил свои выразительные глаза Ланге. Он был в хорошем настроении и мог позволить себе любезно намекнуть, что СД известно все не только о врагах…
— Вы знаете, штурмбанфюрер, моя сила в том, что моему любому устному слову, а тем более по какой-то сделке, вы можете верить полностью. В наше время игр и интриг — это редкое качество. Стоит кому-то подвести компаньона, он в круг играющих уже не попадет, не так ли? Я оказал в прошлом некоторые услуги абверу, начальство это знает, я доложил, но служу в вашем монастыре и его устава не нарушаю. Раньше я работал в политической Полиции Латвийской республики, с врагами президента Ульманиса не путался. Опять-таки из-за джентльменски данного слова. А вот начальник информационного бюро штаба армии Латвии полковник Целмс-Цельминьш, начальник «латвийского абвера», так сказать, на следующий день после вступления красных в сороковом году, пулю в лоб себе пустил. Он присягу солдата нарушил, говорят, что красным он служил, но от президента держал это в тайне. Правда, тот распорядился несмотря ни на что похоронить бедолагу на Братском кладбище. Служить вам он почему-то не захотел, хотя и был в пределах видимости германских служб. Мир праху его! — Пуриньш на минуту склонил голову. — Нет, сентиментальничание в обращении с пистолетом — это удел натур, не годящихся для нашей работы.
— Ну хорошо, хорошо, Пуриньш. Абверовские бонзы оценили вас изрядно. К сожалению, вы не Лахузен, и Канарис не мог перетащить вас непосредственно в центр абвера, а в какой-то их дыре вам не пристало быть. Я ценю вас, Пуриньш, не меньше оберфюрера. Хватит комплиментов, однако, и не будем ссориться. А в чем ваша слабость, черт возьми?
— Моя слабость, — здесь Пуриньш покосился на молодого Эриса, — моя слабость в моей жене, Магде, я хочу сказать. Слишком уж ее использовал турецкий консул, и вы не отстаете. Все переплелось в этом мире.
Ланге слегка опешил, но удержался от мысли нанести было булавочный укольчик и лишь заметил:
— Она моя слабость тоже, думаю, вы верно меня поймете и не обидитесь, мой друг.
— Вот видите, доктор, я вам сказал честно, а вы, вероятно, подумали, что вот Пуриньш сейчас пойдет зигзагом. Мы с Магдой нашли друг друга в зрелом возрасте, она моя опора в этом качающемся водовороте событий, верьте мне. Хайль, Гитлер, доктор!
Все привстали.
Закусив еще и высказав свое восхищение гостеприимству хозяина дома, Ланге заметил, что должен откланяться, необходимо посетить оберфюрера, пускай Пуриньш пока задержится здесь, о дополнительных моментах он телефонирует сюда.
Примерно через час Ланге позвонил.
— Оберфюрер передает вам и Эрису привет, Пуриньш. Все сделано основательно. Дополнительно следует: не выставлять и снять все посты наблюдения за группой условно «Фотоателье», на вокзале в день отъезда Графа, у дома Стеафнии. В поезде, до станции Зилупе в вагоне рядом поедет Эрис. Мало что, проверка — и со своим аусвайсом Граф будет в роли размахивающего белым флагом. Эрису надо получить для себя жетон патруля отдела гестапо Остланда о дальнейшей связи: Граф подготовит три тайника на месте, мы пришлем курьера через месяца два. Дайте ему пару телефонов для связи здесь. Если он окажется один в месте, откуда можно позвонить, то использует возможность. Договоримся о рандеву. И последнее. Надо постараться продвинуться в их разведку, у него есть для этого знание языка, аусвайс, опыт, храбрость. Тогда будет толк. И встретиться будет легко. Сидеть в обозе нечего. Еще раз успеха. Об операции «Мимикрия» знаем мы четверо. У оберфюрера все. Еще раз удачи.
Выслушав Ланге, Пуриньш сказал:
— Ну что, Эрис, поздравляю вас с участием в настоящей мужской игре. Выслушайте наставления Панцингера, — и он пересказал их. — Теперь о завтрашней, будем надеяться, поездке. Оденьтесь посвободней, не так, как мы все обычно ходим: в этих кожаных пальто до пола. За версту отдает гестапо. Достаньте какой-нибудь мольберт, берет, курточку, шарф и поезжайте. Ваша задача сопроводить его до Зилупе. И никаких встреч и шепотов в тамбурах с Графом, вы контролируете его выход со станции и точка. Не дай бог его свои возьмут под контрнаблюдение. Действуйте по обстоятельствам. Если его схватят уже там, ближе к лесу, то Граф сообщит из участка в Ригу. Надо будет — пусть отобьется, так сказать, с честью и выйдет из окружения. Это его новым друзьям импонирует. Все ясно? А теперь спать. Утром накормите его, пить — ни капельки. Объясните, что и на запахе горят. Ауфидерзейн. Я еще в управление.
Пуриньш пришел домой издерганным и усталым до чертиков. Вечер выдался забитым всеми этими бесконечными деталями отправки агента, отработкой фальшивых бумаг, согласованиями, при которых истинной правдой нельзя было пользоваться. Надо было втолковать коллегам и дежурным оставить на вечер, ночь и в первую половину завтрашнего дня слежку за разными объектами с тем, чтобы нечаянно не притопать к друзьям Графа и не напугать их новой опасностью. Они и так пугались собственной тени.
Спал Пуриньш неровно. Последние полгода его терзал один и тот же сон. Он идет по людному месту, рынку например, навстречу в толпе идет его покойная мать. Он к ней походит, здоровается, она поворачивается к нему, смотрит с любопытством, отвечает на приветствие, а затем замечает, что, дескать, вы ошиблись, я не та, за которую вы меня приняли.
Сегодня этот сон видоизменился. Мать куда-то исчезла, уехала из города, живет в другом месте. Он часто бывает в этом другом городе, почему-то Гамбурге. Мать живет там в однокомнатной квартире бедно. Но встретиться с сыном не желает. По телефону объяснила: «Знаешь, Саша, у тебя своя дорога, у меня своя келья, я довольна ею». Причем тут келья? Может, потому, что их семья из православных?
Под утро ему приснился еще один сон. Невероятный! Будто сильными, страшно мускулистыми волосатыми руками ломает фашистские свастики и отбрасывает их загнутые концы в стороны, как наколотые дрова, вы думаете кто? Зарс, сволочь, негодяй паршивый…
Утром Граф встал чуть свет. Не спалось. Нервничал, вроде боксера перед первым боем. Вспомнил, как 14 июня сорок первого присвоили ему лейтенанта, а через неделю — война, а еще через три месяца — плен. Немецкий. Затем свобода, дарованная немцами. Теперь опять в плен, но уже к своим, мать их так. К своим, к чужим? А кто есть кто? А, все к черту пусть катится! Не хватало еще повеситься здесь, в этой мансарде. Кому сдалась эта сенсация? Полиции? Еще публичный дом закроют. На неделю. Не дождетесь. В каждую минуту жизни надо из нее выдирать все, что можно, иначе другие хватанут, а ты останешься при своих нищих интересах, попрошайкой, заглядывающим в чужие окна.
Граф вычистил пистолет системы «Браунинг», смазал слегка его, затем занялся зубами, бритьем, мытьем, сложил немудреные вещички, надраил сапоги. Он нацарапал записку мадам Бергман, что уезжает на пару недель, комнату просит сохранить за собой, деньги на столе. От нечего делать стал глазеть в окно, до сигнала — появления лампы на подоконнике кабинета Эриса было еще минут сорок. Нервное напряжение росло. Как-то обернется эта авантюра? Неожиданно он увидел, что его сподвижник Эрис выскочил из двора, сел в свою машину и куда-то рванул. Граф подумал, что этот момент следует использовать разумно. Он как был, в бриджах на подтяжках, сапогах и белой нательной рубахе ястребом спикировал с верхотуры дома мадам, перебежал улицу и вот уже стоял у двери черного хода своего воспитателя. Позвонил. Открыла курочка Мари с бидоном в руке, очевидно ждала молочницу. Она ошалело посмотрела на раннего визитера в начищенных сапогах, оба они одновременно приложили пальцы к губам и как были, с бидоном, прошествовали на цыпочках в ее комнату. Бидон мешал. Его отставили в сторону… Одарив друг друга приятными вещами, они, прислушавшись и уловив, что Марта по коридору не вышагивает, вышли вновь на кухню. Она, продолжая держать бидон, промурлыкала:
— Но ведь так нельзя, опасно. Когда ты опять придешь?
— Через десять минут я вернусь, но не к тебе, твоему турку, не перепутай, веди себя прилично, — ответил он.
— Приходи завтра утром, турок куда-то уезжает на пару дней.
— Забегу. Не забудь про бидон, купи молока, — и он побежал на свой наблюдательный пункт. Дело есть дело.
Ровно в десять утра Граф с небольшим чемоданчиком позвонил в квартиру, где проживала Стефания. Дверь открылась моментально, его ждали. Не было смысла заставлять незнакомца стоять перед дверью лишнюю минуту. Взад и вперед сновали хозяйские шоферы, служанки, точильщики ножей, старьевщики, разный местный и пришлый люд, которому незачем было знать о необычном визите к скромной домработнице.
Граф вытер ноги, вошел робко, поздоровался, сказал, что «я от Марии из фотоателье, знаете?», Стефания кивнула, улыбнулась и быстро зашептала:
— Долго разговаривать не будем. Не к чему. Вам надо отсюда бежать, так товарищи решили. Не бойтесь, все будет хорошо, друзья у нас надежные. Вот вам записка к моей сестре Адели в деревню Пирогово, Пасиенской волости. В записке указано, что пряжа готова, высылаю с человеком, который по пути тебе ее завезет. Это один пароль. Адель спросит вас, как я выгляжу. Вы опишите полностью мою комнатку, не забудьте про лампаду. Это тоже пароль. Да, икона — католическая, не дай бог перепутаете, мы католики, — простодушно добавила Стефания. — Теперь, где ваши бумаги? Мария сказала, что вы от друзей их везете. Давайте сюда, зашьем.
Бумаги Графа не тяготили, подумаешь, все эти фальшивки. Даже если найдут, то Эрис выручит. Такого поворота он не ожидал. Но как быть? Осторожность превыше всего, надо слушаться. Нечего из себя храбреца выставлять, скажусь белой вороной!
Он вытащил конверт с тремя листками.
— Снимайте брюки, живо!
Граф было заколебался, но стал стаскивать. Стефания вытащила из-под кровати ручную швейную машинку, отпорола угловой наколенник на бриджах, сложила бумаги между наколенником и лишним лоскутом с тыльной стороны и вновь пристрочила по тому же шву. Бумаги оказались в тайнике, с внешней стороны ничего видно не было.
— Вот такое у вас теперь потайное отделение — никто не найдет. А это билет на поезд и покушать на дорогу.
— Что вы, я сыт, — отнекивался Граф.
— Берите и не думайте отказываться. Да, вот еще что. Выйдете, если кто спросит, дворник, например, где был, что здесь делал, то ответите, что посыльный я, доставлял, дескать, для господина Пумпурса, это супруг дочери моей хозяйки госпожи Свикис, свечи для канделябров, бал у них скоро. Вот и все. И да хранит тебя Господь!
И она повесила на шею Графа под стоячий воротник кителя икону Марии Магдалины. Она не сказала ему, что святая отгонит от него злыдней по дороге. Стефания надеялась на лучшее и старалась ради этого незнакомца, друга ее друзей, как могла.
Стрелы летят и в цель, и мимо
14 октября 1943 года тепло распрощавшись со Стефанией, у Графа в самой-глубине души, там, где она еще не покрылась метастазами предательства полностью, всплыла мысль о том, какой же добротой обладает эта простая латышская женщина, католичка, так участливо встретившая его, чужого по крови украинца и вообще приблудного типа, вся выложившаяся для того, чтобы он смог выполнить какой-то свой, в целом непонятный для нее поход. От нахлынувшего вдруг на мгновение удивления он слегка приостановился, показалось, его даже кто-то тихо окликнул, но затем он потопал дальше выполнять германское задание. Если разобраться, — мелькнуло в голове, то я-то тоже католик, родители те уж точно без молитвы дня не начинали. Ну я, значит, формально той же веры. Однако ладанка на груди, переданная Стефанией, ничего не напоминала, от нее не было ни тепло, ни холодно. «Ладно, — думал он, — Стефу попросили помочь, свою задачу она исполнила, мне надо исполнять свою. Раскисну, пущу слезу, чертов католик, вспомню про костел, мамку, еще вспомнить про сиську не хватает, и ошибки пойдут одна за другой, и окажусь в кювете с дыркой в голове. Лучше о Мари вспоминай». И он зашагал веселей. Через полсотни шагов рядом с ним прямо-таки бесшумно притормозил фурман, колеса были на резиновом ходу.
— Добросить? — раздался слегка грассирующий голос Эриса, очевидно следствие его французского воспитания. — Ты что, оглох, третий раз около тебя останавливаться?!
Про себя Граф всполошился: только о Мари подумал, на тебе, и ее хозяин тут как тут. Однако, увидев на облучке в одеянии кучера известного ему Штайера, порученца при высоком начальстве, успокоился, тот без дела разгуливать не будет. «Конспирация, заботятся обо мне», — подумал Граф.
Он лихо вскочил в пролетку. Лошадь сразу же зацокала по направлению к вокзалу.
— Что-то случилось? — спросил Граф.
— Начальству под утро пришла гениальная идея. Зачем тебе документы тащить самому? Хоть я и буду в соседнем купе до места назначения, но кто-то пристанет, шум, гам, выяснение отношений. Лучше везти их мне, германскому офицеру, а затем в конце тебе отдать.
— Снимаю штаны, — невозмутимо ответил Граф и стал делать вид, что расстегивает свои брюки.
— Ты что? — воскликнул Эрис.
— То самое, господин Мухамед, все уже зашито так, что не найдете. Сто марок, если обнаружите, идет?
— С меня? — растерялся Эрис.
— Если у вас нет, пусть Штайер войдет в долю. Штайер заржал, лошадь дернулась. Граф мстил за сытую жизнь Эриса, за входившую в его рацион Мари.
— Эта служанка за пятнадцать минут сделала такой тайник, который портным СД не снился: они бы три дня только ходили вокруг стола, чертили бы и кроили по лекалам берлинского образца.
— Ладно, ладно, все в порядке. Отставить обмен штанами, — пошутил Эрис. — Начальство о твоей безопасности заботится.
— Знаете что? Я выйду, пойду пешком. В роль надо входить, а не въезжать. На вокзале еще дружки из лагеря вынырнут. Опасно.
— Давай, давай. Если у тебя в штанах все на месте, то вперед, — скаламбурил Эрис.
— У меня все там разложено, — ответил Граф, выпрыгнул из пролетки и, вспомнив о Мари, подмигнул Эрису.
Поезд в Зилупе ушел по расписанию.
В это же утро Панцингер предложил Ланге позавтракать вместе. Они встретились в отдельном кабинете ресторана на последнем этаже огромного шестиэтажного магазина для офицеров вермахта.
Заказали легкий завтрак.
— Понимаете, Ланге, только сейчас я выкроил время для вас, хотя уже, по моему, два месяца в Риге. Поговорить надо о многом и вот так, наедине, без свидетелей. Вы, надеюсь, уловили, что я сторонник серьезных дел. Хотя я и не люблю Гамбург, но давайте договоримся о том, чтобы в наших с вами отношениях и перед лицом Кальтенбруннера, Мюллера и других не менее уважаемых руководителей нашей системы всегда руководствоваться гамбургским счетом. Надеюсь, вы помните, что это?
Ланге улыбнулся, но кивнул несколько раз головой в знак того, что не прочь восхититься еще ра этим остаточным реликтом рыцарского благородства. Тем более из уст начальства.
— Так вот, — сказал оберфюрер, — в старое доброе время на состязаниях по французской борьбе в Гамбурге — при закрытых дверях, без публики, счет по схватке велся честно, без фальши, накидывания или сброса очков. Без циркового ажиотажа, как обычно боролись на публике. Я внимательно изучал пожалуй все, что относится к нашей карательной деятельности. Ревизовать то, что было, я не буду. Нет ни времени, ни желания. Вранья слишком много, Ланге. Слишком. Вот что. И цифры разгромленных групп завышены, и какой-нибудь группе из пяти пленных и трех баб, извините, придается статус таинственной пещеры Али-бабы с сорока разбойниками, хотя их всего восемь. Это далеко не гамбургский счет. Все это направляется в Берлин, там ахают, охают, а здесь все на месте крутится без изменений. Уменьшения террористов не замечается. Если в Риге фактически действуют 100 террористов, а вы дали цифру в Берлин, что было их 1000, но 500 уничтожено, то это не по-джентльменски. И мы в Берлине прекрасно можем спать, вот-вот ожидая гибели еще четырехсот, но которых, извините, нет в природе, ибо действуют-то те 100, которых мы не поймали до сих пор. Агенты ваши, извините Ланге, измазаны в крови по уши, компрометируются слишком большой близостью с вами и подвести под удар какое-нибудь значительное формирование они не в состоянии…
Разговор для Ланге был неприятен. Конечно, оберфюрер с его колокольни был прав, но как тут развернуться, если массы этих молодых и совсем юных фанатиков бьют выверенный, подобно часовому механизму, немецкий профессионализм, не считаясь ни с какими потерями. Москва, русская фронтовая разведка засылают своих диверсантов все чаще.
— Я понял вас, оберфюрер, под вашим руководством работа пойдет более четко. Оправдываться не буду. Думаю, не к чему.
Панцингер одобрительно кивнул.
— Давайте используем до предела, — сказал он, — нашу находку — «Рижский партизанский центр».
— Вы полагаете, оберфюрер, послать намеченных в партизаны Панченко и других тоже от имени «центра»?
— Ни в коем случае, что вы, Ланге, — замахал салфеткой Панцингер. — Повтор, дубляж, трафарет. Отношусь к этому резко отрицательно. Появятся противоречия. Провалимся. Насколько ни примитивен противник, но он начнет сравнивать, а сравнение всегда конкретно. Возникнут накладки. От Графа они получат данные об организации в Риге, это хорошо. Это их воодушевит. Каждый мечтает о союзниках. Но можно ли верить этой организации? Они захотят подключить к перепроверке других людей, наших людей, ну, может, и своих тоже. Пожалуйста. И мы подготовим второе действие Пьесы. Интрига нуждается в развитии. Сейчас я вас прощу об одном. В октябре мы планируем заслать из Риги в партизанский край несколько своих людей. Возьмите все группы, которые туда пойдут, под свой личный контроль.
— Слушаюсь, господин оберфюрер.
— Они должны подтверждать наличие этого «центра» в Риге, иначе Граф окажется на мели. Но Графа перед ними не раскрывать. Где тонко, там и рвется.
Ланге наклонил голову в знак согласия, затем, увидев благожелательную позу оберфюрера, решился:
— Простите, шеф, хотел спросить о «Красной капелле», как удалось схватить столь большое количество участников?
— С конспирацией у них было поставлено дело дрянновато. Москва сама дала нам в руки адреса руководителей «капеллы». Русские черпали от них информацию огромными порциями, однако я не верю, чтобы они доверяли немцам полностью. Они эксплуатировали их на износ, не заботясь о перестройке группы, ставшей гигантской. В разведке масштабность гибельна. Если бы русские не думали, что их шифр запаян, как консервная банка, которую невозможно вскрыть, сузили круг руководства резидентуры до минимума и ввели способы связи, ваш покорный слуга еще продолжал бы носиться по Германии с радиопеленгаторами и не знаю с чем еще, а не завтракать с вами в этом уютном ресторане. Со стороны русских с «оркестрантами из капеллы» работали явно непрофессионалы, — Панцингер сделал паузу, подбирая слово, — какие-то олухи. Они сами загубили свой агентурный потенциал в Германии…
Граф добрался к концу дня до Пасиенской волости. Был он бодр, весел, улыбчив и смотрелся эдаким петушком. По дороге он подремал. Правда, больше делал вид, что спит, чтобы не влезать в разговоры попутчиков. Ему лишние вопросы были ни к чему. Он даже с некоторым чувством жалости посмотрел, как Эрис протопал в местный полицейский участок, чтобы прокоротать там время до ночного поезда обратно в Ригу. Сам же он сориентировался по рассказу Стефании и отправился в пасиенскую больницу, где должен был встретить Адель. Стефания объяснила, что прокладывать к ней путь прямо в Пирогово было неразумно, на каждого чужого внимание обращалось чисто деревенское, т. е., как истолковал Граф, как на живого негра. Ему повезло, он сразу выскочил на Адель.
Работавшая санитаркой и слывшая в округе знахаркой, Адель сразу завела для отвода глаз разговор по поводу болезни ног Графа, даже предложила ему снять один сапог и осмотреть его пальцы, якобы потерявшие пульсацию крови, а затем бочком, бочком вывела его во двор, посадила на телегу, и они отравились в Пирогово. В полупустой больничке никто не заметил какого-то пришельца. Мало ли их ходит к знахарке!
Расчет сестер-католичек был тонок, и через час Граф сидел в деревенском доме, где не было абсолютно никакого шума, пил чай, рассказывал городские новости. Для деревенской Адели услышать описание жилища ее родной сестры Стефании, которую этот обходительный, видный парень видел этим же утром, было равносильным узнать новости из первых рук из Москвы или Берлина, в ее памяти находившихся от Пасиенской волости на таких же Длинных перегонах, как и жившая в Риге ее сестра.
Сестры были очень похожи, обе стройные, подвижные, дружелюбные. Граф «коней не гнал», не расспрашивал ни о чем, сами поделятся. Мало ли какой механизм в чужом околотке! Может, за ним еще несколько пар глаз взирают с интересом.
Адель постелила ему на сеновале, объяснила, Что в случае чего он — пациент, приехал из Риги на пару дней, она приготовит ему болтушку для ревматических пальцев, он и уедет. Ни одного лишнего Опроса Граф не задал. Слова Пуриньша вбились в голову, как гвозди в доску: «Твоя сила в твоей противоречивости: плен, побеги, аусвайс, бумаги «центра». В тебе нет приглаженности — пусть думают. Твой ребус им не решить. Подготовочка не та, я их знаю. Еще в тридцатые их по кабаньим углам гонял и в тюрьмы засовывал. Грамотишкой им не с руки было овладевать. Не дрейфь и ненавидь оккупантов, как они, но без перебора. В Ригу — ни-ни, ты не ходок, боязно. Если не выйдешь на связь — свою голову ищи в другом месте. Открутим и выкинем».
Через три дня за ним пришли. Точнее пришла красивая тонконогая дивчина двадцати двух лет, плюс-минус год туда сюда. Подойдя к сеновалу в со провождении Адели, она крикнула: «Ну, где тут отсыпается доблестный боец, тетка?».
— Выходи, выходи, милок, — крикнула Адель.
Граф появился действительно заспанный. А что ему было делать? Не по деревне же бродить. Познакомились. Девушка назвалась Тоней и важно заявила, что ей поручено отвести его к себе, в деревню Стрельцово соседней Истренской волости. По до роге Тоня рассказала, что она активно работает по сбору теплых вещей для партизан, «ведь зима-то на носу».
Ей хотелось быть на равных с этим симпатичным лейтенантом Красной Армии, бежавшим из фашистского плена и прибывшим на помощь в их далекий край.
Дома Тоня познакомила Графа со своими родителями. Посидели, поговорили о Риге. Граф создал о себе неброское, солидное впечатление, знал, что скоро прибудет уже на финишный пункт. Здесь же он в непринужденной атмосфере делился, какие прекрасные советские активисты борются с врагом в столице Латвии, между прочим его друзья. Деревенские внимали его рассказам с интересом и сочувствием. У родителей Антонины Граф пробыл 7 или 8 дней. Наступили первые серьезные заморозки октября сорок третьего. В сарае, на сене, где он скрывался, появились теплые одеяла. И наконец за ним пришли. Партизанская цепочка замкнулась. Одиннадцать дней как он выехал из Риги и ни разу не пришлось ему туда звонить и общаться с кем-то из своих новых хозяев.
…Пришел за ним, как потом выяснилось, двоюродный брат Тони — Павел, партиец с 1939 года, одногодок Графа, оба они были с 1919 года, активный партизанский вожак. Вот он, знающий все лудзенские дорожки, речки, горки, ложбинки, деревеньки и все вокруг них с закрытыми глазами, и был послан за красным командиром, скрывавшимся у его родни. «Целые десять дней меня мурыжили по этим Пироговым и Стрельцовым, другие ребята, тех, что Шабас организовал, уже давным-давно в отряде. Одно дело, когда сами организуют все, да по-простому, по-рабоче-крестьянскому лепят, другое — когда начальство от большого ума начинает проектными изысканиями заниматься», — думал намаявшийся Граф.
За это время самые черные мысли посещали его искушенную голову: проверят по Риге, найдут там знакомых, попавшихся на попытках контактов с партизанами; вдруг от Катьки Ивановой круги пошли, ведь год со времени ее смерти промчался? Могла она перед смертью что-то ляпнуть? Вполне. Да мало ли других знакомых могли наговорить?
Павла, пришедшего за ним с еще одним партизаном, никакие такие бурные мысли не обуревали. За каждым пленным они отнюдь не торопились, о том, что у Тони ожидает своей очереди лейтенант Красной Армии, — знали, вот и пришло время по пути его забрать. Одна только деталь бросилась Павлу в глаза: «Интересно, как на третьем году войны и плена у лейтенанта сохранились такие подогнанные под ногу, сверкающие глянцем хромовые сапоги?» Вот такая мысль блеснула у Павла. Может в самый первый миг встречи думка эта и не отшлифовалась в такое законченное умозаключение — попросту вначале в глаза сапоги бросились, ибо видные были. Но затем мозг свои исчисления выдал и сложил их примерно вот в это предложение. С сожалением он бросил взгляд на свою стоптанную обувь, сравнение шло не в его пользу, и они трое отправились в неблизкий путь.
Эта сапожная деталь ровно никакого значения не сыграла, но в какой-то клеточке мозга отложилась, как облик первой любви, и наблюдательный Павел пронес ее сквозь всю жизнь, в течение которой каких только коллизий не создавали мчавшиеся бурным потоком дни, недели, месяцы, годы, десятилетия. Случилось так, что первое впечатление — щегольские сапожки, «забило» весь остальной облик пришельца, встреченного в деревне Стрельцово.
Когда Граф предстал перед командованием партизанской бригады, дислоцированной в Освейском районе, он почувствовал вначале себя довольно тоскливо: недоуменных вопросов было много, его жизненные стежки гладко далеко не вились… Каждый допрос — это переживание. Даже если человека допрашивают в качестве свидетеля, причем добросовестного, желающего помочь распутыванию какой-нибудь длинной истории или короткого эпизода. Этот свидетель, пересказывая виденное, слышанное, осязаемое, волнуется, боится что-то спутать, переживает за каждый допущенный им ляпсус, нервничает даже за, как ему кажется, неверное восприятие допрашивающего, которого он, не желая, ввел в заблуждение.
Что уж тут сказать о человеке недобросовестном, старающемся запутать следствие, исказить объективную картину, заменить правду вымыслом? Такой субъект — словно гиря на ногах. Лучше бы этого умника вовсе не было, так думает следователь. А что говорить о лжеце, искажающем, переделывающем свой собственный облик.
События же, окружающие допрашиваемого — военное лихолетье, и этим все сказано. Оно выплескивало из себя героизм, благородство, подлость, низость, все, что хотите. Им и расплачивались и за хорошее, и за плохое, в него и уходили платить долги и зарабатывать награды.
Сколько было таких случаев в реалиях войны, когда человек делал подлость, ее обнаруживали, ему говорили: иди и в бою смой свой позор. Он шел, бился, но смывал ли? Он мог просто быть в бою, исправно стрелять, но в гонке за добрым именем не рисковать. Он как бы отвоевывал эпизод боя. Но без всякого старания во имя спасения жизней погибавших рядом.
Так что понятие «иди и смой» не надо приравнивать к умывальнику. Кровь других со своих рук смыть можно только своей кровью. Ну а если ты нагадил столько, что своей крови вообще не хватит?
Подумайте, сколько таких виновников осталось нетронутыми, кровь в них исправно циркулировала вплоть до мирной, тихой, кроватной, биологической смерти. Обидно? Да, очень обидно, и суть не в том, что месть не состоялась, а в вечности дерьма…
При допросе Графа, и не одном, в бригаде с ним беседовали неоднократно, все сомнения толковались в его пользу, презумпция невиновности действовала, хотя ее проводники теоретически мало что о ней знали. Они попросту были честными патриотами, партизанами, боровшимися за святое дело — свободу народа.
… Когда Граф вошел в землянку, там находились заместитель командира бригады Балод и начальник контрразведки Юрч. Граф представился, затем присел на стул, извинился, снял правый сапог и стал стаскивать штанину бриджей.
— Ты чего? — не понял Юрч, широкоплечий, скуластый, с угрюмым лицом и приветливыми глазами.
— Документы, которые велели мне передать, и из которых видно, кто мы есть… — пояснил Граф.
— Хм, — давай, доставай, — сказал Балод, круглолицый, с ямочками на щеках.
Граф ловко вывернул на левую сторону штанину и финкой поддел внутренний шов на колене, затем оторвал лоскут материи и достал бумаги, сложенные аккуратно, по-хозяйски. Под пришитым сверху лоскутом они нисколько не деформировались и легли на стол перед Юрчем одна к одной, как три карты при игре в двадцать одно. Граф оделся, натянул сапоги и из внутреннего кармана френча вытащил еще один документ — аусвайс, где он был обозначен унтер-офицером караульного отдела (Укр.) лагеря военнопленных.
Прочтя в аусвайсе «он уполномоченный носить оружие и имеет право свободного хождения согласно местных предписаний», Юрч сказал:
— Оружие?
— Вот, — извлек Граф из кармана брюк браунинг, вытащив при этом обойму и проверив, нет ли в патроннике патрона, оттянув для этого на себя ствол и наклонив его вниз, по направлению к полу.
— Богатый ты, лейтенант, — покачал головой Юрч.
— Кто здесь богатый? — раздался голос вошедшего Лайвиньша, командира бригады, высокого, стройного, широкого в плечах. — А, пополнение, что Павел приволок.
Лайвиньш сел за стол, разложил бумаги Графа и стал их рассматривать. Прежде всего его внимание привлекли документы «Рижского партизанского центра». Он прочитал их внимательно, передавая листки по одному своим товарищам. Закончив читать, он спросил Графа:
— Смелые ребята, а?
— Да, братва что надо, — ответил тот.
— Где же ты на них вышел, или они на тебя? — спросил Балод.
— Я на них? Да когда сидел в лагере в Гризинькалнсе, то меня с ихним Федей познакомил Ванька-банщик из лагеря.
— Ты входишь в их руководящую группу, в число командиров? — уточнил вопрос Лайвиньш.
— Нет, — ответил Граф. — Я с ними, так сказать, на равных. Ребята предложили, я вступил, а когда узнали, что к вам собираюсь, то вот вручили. Говорят, отвезешь документы, объединяться нам надо. Партизаны оружием помочь нам смогут. Вместе мы сила…
— Еще какая, на расстоянии в три четверти Латвии, — усмехнулся Лайвиньш. — Разломаем немцев, как свастику на печати.
— Кто тебе дал эти документы и где ты их получил? — спросил Юрч.
— Федя, активист «центра», прямо в парке, в Верантском парке, — вспомнив парк у дома Эриса, сказал Граф.
— Да, верительные грамоты у тебя богатые, — протянул Лайвинш. — Руководителей «Рижского партизанского центра» ты знаешь?
— Нет, не знаю, — правдиво ответил Граф, — там же конспирация. Что не положено, то не положено.
Юрч тем временем рассматривал на свет штемпель «центра» и печать — сильные трудовые руки разламывают свастику.
— Здорово придумано. Никогда не видел. Работа хорошего мастерового.
— Делал человек с богатым воображением и глубокой ненавистью к фашизму, — задумчиво заключил Лайвиньш. — Я тоже такого не встречал. Вообще видно, что организация боевитая, во всяком случае солидная: и со своим членством, печатью присягой и даже штемпелем. Прямо как в райкоме! И какова основная задача твоей организации? — спросил Лайвиньш.
— Снабжать вас людьми, пленными стало быть, усилить борьбу с фашизмом. В городе распространять листовки, организовать диверсии, да мало ли что…
— Да, все это верно, — покачал головой Лайвиньш. — И люди из Риги идут. Уже две группы прибыли. Сегодня у нас какое? 25 октября с утра было? Да, — сам спросил и ответил командир бригады. — Первая группа прибыла в первых числах этого месяца, человек 25 там было, вторая — 13 октября, с восемнадцатью человеками. Ни у кого на них таких солидных документов не было. Так, Юрч?
— Не было, — глухим голосом откликнулся тот.
— Жалко, что и руководители «центра» к нам не идут, а? — спросил Балод.
— Заняты они по Риге, — быстро заметил Граф, понявший из реплик Ланге и Пуриньша, что руководству «центра», чьи подписи были подделаны на бумагах, вход в Освейские леса забит наглухо. «Дать возможность действительного объединения двух сил! Так вам Ланге и разрешил», — подумал Граф, которому уже начинало казаться, что экватор допросов он благополучно переполз.
— Скажи, — проскрипел дотошный, вечно простуженный Юрч, — вот почему тебе документы эти доверили, а у других групп их не было?
— Во-первых, как я понимаю, я вышел из Риги раньше других, заранее имея поручение, шел один, по тропе надежной. Во-вторых, у меня был настоящий аусвайс, ходовой, вот он. Проверят — отпустят, у других не знаю были ли еще. По-моему, нет. Ну и вообще, мне доверяли. Имел ли кто еще задание по связи — не знаю.
— Ясно, — сказал Балод.
— Скажи, а как ты на тропу сестер Долновских угодил? — спросил Юрч.
— Я не знал, что это за дорога. Теперь только понял, что она самая долгая, — запустил «дурочку» на всякий случай Граф. — Я отправился 14 октября. Там вышла одна история с евреями на складе. Оставаться в Риге было опасно, и мне предложили через Стефанию уйти. Вот я и ушел.
— Ясно, — сказал Лайвиньш, хотя ему ничего не было понятно, почему парень этот не пошел с первой группой, которую вез Шабас до Зилупе, а потом к своим родителям в Лаудари, той же Истренской волости, в которой жила в Стрельцово Тоня. Но не будешь же вслух недоумевать перед посланцем подполья из Риги?
Балод этого командирского сомнения по ходу дела не понял и спросил:
— Но ведь Шабаса Ивана ты знал, в его списке ты фигурировал, почему с ним не пошел?
— Я Шабаса последнее время в сентябре не видел, я прятался из-за складской истории. С ним идти не получилось.
Лайвиньш досадливо поморщился на своего зама: незачем давать этому парню возможность собирать все доводы. С Шабасом еще о нем толком не поговорили. А теперь в лагере они встретятся и все обсудят.
— Ты вот что, расскажи, как в плен попал, где сидел, — перешел на другую тему Юрч.
Граф набрал воздуха побольше, ибо глава эта хотя и была отрепетированной и залегендированной, но лучше, чтобы ее вообще не было, и начал:
— Училище окончил 14 июня сорок первого, получил назначение командиром минометного взвода, затем — в отдельном артиллерийско-пулеметном батальоне, был командиром дота. 20 сентября сорок первого около Ленинграда, будучи контужен, попал в плен. И пошла служба другая, — невесело усмехнулся он. — Лагерь в Валге, в лазарете там был, отошел малость, в апреле сорок второго бежал. Поймали, посадили в тюрьму Тервете, оттуда снова бежал, затем посидел в тюрьмах Алуксне и Валки — и в лагерь в Риге, в Гризинькалнс. В январе или феврале сорок третьего познакомился с Шабасом, он мне поручил вступить в охранный украинский батальон. Вступил, стало легче. Караульный как никак. Связался с рижскими подпольщиками.
Тут Граф немного притормозил, по понятным причинам о них рассказывать не стоит. Начнутся вопросы, ах, тот погиб, а как погиб? Ну их к лешему.
— Вот такая моя история, — закончил он.
— Да, история у тебя богатая, — проскрипел Юрч. — Ладно, пусть идет пока. Так, командир?
— Мы посоветуемся, определим, куда тебя пристроить, подожди на свежем воздухе, — сказал Лайвиньш.
Граф вышел. Все заговорили разом.
— Темная лошадка, — проскрипел Юрч. — Лагерь, тюрьмы, побеги, и на тебе — караульный.
— Всякое в жизни встречается. То, что он с патриотами в Риге связан, помощь им оказывал, доверием у них пользуется, я думаю, — сказал Балод, обращаясь к Юрчу, — отрицать не можешь.
— Будем разбираться. Спросим других людей. На днях еще одна группа прибыть должна. Куда его определить сейчас? — сказал Лайвиньш.
— По линии разведки. Парень пронырливый, с немцами общался, аусвайс имеет, — Балод потряс слегка документом.
— Пусть будет так, — заключил Лайвиньш. — Балод, вот что, срочно подготовь шифротелеграмму в Москву.
— И все-таки бегал, бегал, а в унтеры выбился. У нас, поди, сержанта при таком раскрое не получил бы. Для немцев у него характеристика очень отрицательная была, — ворчал Юрч.
В этот же день Балод подготовил донесение в Москву, в штаб партизанского движения Латвии, на имя его начальника полковника Спрогиса.
«…С сентября 1942 года в 362-м сторожевом батальоне, где был помощником командира взвода… 24 октября 1943 года прибыл в партизанский отряд… передал нам письмо «Партизанского центра» из Риги, удостоверение и присягу того же центра… Письмо ему дали двое военнопленных…» В конце телеграммы содержался интуитивный, но четкий вывод: «Не исключено, что он завербован и послан немцами». Донесение подписали Лайвиньш и Балод.
Назначили Графа в разведвзвод, командиром которого являлся славный латгальский парень Александр Гром, до войны немного служивший в НКВД. Он был храбр, бесшабашен, ведал разведывательными акциями бригады аж до Риги, подчинялся непосредственно заместителю Лайвиньша — Балоду. Свое дело Гром любил и был ему предан. Правда, грамотешки у него было маловато, но что делать? В партизаны шли не по уровню образованности, а отдать если надо жизнь за Родину. Под его началом Граф, по отзывам, воевал умело, ходил в дальние разведпоходы, в частности ему приходилось охранять своих же радистов, которые поддерживали связь с Москвой, с Ригой, уходивших с рациями подальше от базы лагеря, чтобы не запеленговали.
В дни последней декады октября Панцингер был не на седьмом небе, а на девятом, извините, месяце, готовый принять сам отличного качества плод работы гестапо, зачатый по его же теории. Как умный генерал он не обрывал проводов в Берлин, не слал туда шикарных телеграмм с намеками о том, что вот-вот вытащит кишки партизанского Движения во вверенном ему Остланде. Ибо, работая в Берлине, хорошо изучил, как долго смеются получатели телеграммы над несбывающимися обещаниями и прогнозами провинциальных чиновников, покачивая головами, что нашему дорогому, к примеру, Лео несмотря на критический мужской возрастной ценз, еще так много хочется!
Панцингер сделал только тихий звоночек своему вечному, как он его называл, шефу — Генриху Мюллеру, начальнику 4-го управления (гестапо) РСХА и коротенько сообщил о побитии двух «пешек» красных, с помощью которых надеется развить успех.
Мюллер ответил:
— Хорошо, пока не пишите, не надо лишней беготни по нашему старому доброму Принц Альбрехтштрассе. Да и завистников у вас здесь хватает, не успел обжиться на новом месте, а о делах уже в Берлин депеши строчит. Будем скромнее, — и ляпнул что-то на родном баварском диалекте.
Панцингер попросил прислать в его распоряжение радиста, обученного работать на русской основе. Мюллер бросил свое короткое «да» и добавил, что пришлет хорошего знатока русских шифров, из тех, кто работал на «Красной капелле», хотя бы на месяц. Панцингер поблагодарил. Он представил себе, какую небольшую служебную радость доставил Мюллеру и как тот по привычке стал расчесывать свой ершистый невысокий ежик, затем оторвался от телефона, встал из-за стола, подошел к оперативной карте, где были изображены все выявленные радиоточки русских и западных союзников, и воткнул красный с белой полоской флажок в точку под названием Баложи, что под Ригой. Правда, названия этого места не было на такой карте, но Рига имелась, и этого было достаточно.
Дело обстояло так. В середине октября «с подачи» Балода и Грома, после детальных обсуждения командованием бригады и с санкции штаба партизанского движения в Москве, в Ригу была заброшена группа в составе двух человек (командира и радиста) с задачей сбора и передачи информации для использования ее в будущем в качестве опорной базы для руководителя рижского подполья, ожидавшего своего времени заброски.
Начало операции проходило весьма прозаично, ничего героического в себе не содержало. Точкой старта стало интеллигентное кафе в Старом городе на углу улиц Марсталю и Грециннеку, где до войны собирались видные латышские шахматисты, в том числе Матисон, Апшениекс, а также и заезжие знаменитости. У Зарса в этот вечер было свободное время, но так как на режиме вынюхивания он находился постоянно, то и здесь, заказав по уже приобретенной после поездки в Германию немецкой привычке рюмочку кюммеля, он стал интеллигентно потягивать содержимое и разглядывать публику.
Его внимание привлек мужчина лет тридцати, развязный по манере сидеть за столом, управляться с выпивкой и жадно есть, при этом очень даже симпатичной наружности, которого Зарс, ей богу, где-то встречал. Их взгляды встретились, незнакомец приподнял шляпу и взял курс к столику Зарса, попросив официанта перенести за ним и его закуску.
— Мы с вами встречались, — сказал незнакомец, — правда, далековато от Риги, но по общему делу.
— В Лудзе? — бросил Зарс.
— Нет, в Зилупе, дорогой Альфред.
— Бог ты мой, Куранов, сукин ты сын, ты ли это?
— Собственной персоной.
— Подумать только! И давно ты в Риге?
— Да лет пять уже, с тридцать восьмого, а может меньше.
— Ну ты подумай какая встреча! — в памяти Зарса всплыла молодежь, там в Латгалии, группу которой в семь человек он заложил политохранке задолго до войны. Куранов относился к тем, кто уцелел, А рванул из тех мест и обретал неизвестно где. «Что за песню запоет он? Какая разница! Раз сам лезет, то не подозревает. Что ж, поболтаем».
— Где ты обитаешь?
— Да на Саркандаугаве, квартирка скромненькая, конторщиком в одной фирмешке стучу на машинке, бумажки сочиняю. Зато время свободное имею.
— Могу подсобить тебе куда-нибудь в более серьезную фирму оформиться, — и для солидности Зарс повертел перед носом Куранова пальцем с кольцом, изображающим голову римского война. Кольцо внимание Куранова привлекло массивом золота в него заложенным, и акции Зарса повысились. По рюмочке, по другой — друзья назюзюкались и отправились менять «плацдарм», так как для солидной выпивки здесь необходимого разгона не было. Пройдя по улице Геринга, спустились в «Фокстердиль», в славный погребок-ресторанчик, и здесь уже стали со смаком пользовать более основательные напитки.
— Ты подожди, не спеши, — уговаривал более рассудительный Зарс, — ты же не насос, не качай так в себя, не пожар же тушить собрался. Лучше поговорим о жизни.
И Зарс рассказал о неудачном вояже в Германию, где по его словам жизни нет, одна война, все кричат о победе, а Москвы не получили, Ленинграда — тоже, зато немцам накостыляли у Сталинграда и Курска.
После этого паса с левой Зарса, его собеседник решил подхватить эту радикальную заявочку и стал популярно разъяснять Зарсу о скором крахе рейха. Он вспомнил с приязнью о прошлых их встречах на подпольной работе. Будучи пьяным, он видел Зарса в дымке тех романтичных лет, тем более, что по части табачного дыма все в ресторане клубилось, а пол содрогался от топота танцующих. Куранов хлопал Зарса по плечу, уверял, что сила в их единстве, как и раньше, и предложил вступить в крепкую группу ребят, чтобы «набить морды этим наци». Зарс трезвел. Сбегав в туалет и освободившись от лишнего веса всеми возможными способами, он вернулся к столику. Собеседник пластинку не менял, но авторитетно заявил, что через год «мы эту эсэсовскую шоблу отсюда вычистим», и стал переходить на то, каких крепких ребят он имеет в качестве друзей в Латгалии.
— Давай к нам, Альфред, — и привалившись к спинке стула он задремал.
Минуту-другую Зарс смотрел на него оценивающе, думая, что он выступил по полной программе, т. е. растрепал все, что может пьяный, и по старому гестаповскому закону следует посмотреть, что он может вывалить на трезвую голову с прополощенными мозгами.
Выйдя на улицу, Зарс увидел патруль. Он предъявил жетон негласного сотрудника «латышского отдела» СД, объяснил ситуацию, и вскоре два извозчика повезли навеселившихся друзей в гестапо. Разница была в том, что в первой пролетке везли Куранова, а во второй ехал в единственном числе Зарс.
По отделу дежурил Эрис, ему помогал Штайер. Позвонив Пуриньшу и выслушав очередную порцию нотаций, в какое время дня и ночи надо гореть на работе, Зарс невозмутимо заявил, что в Германию больше не хочет, что желает прокатиться в Швецию. Пуриньш рассвирепел, велел передать трубку Эрису. Тот доложил рассказ Зарса.
— Ладно, поговори с ним сам, затем пусть Штайер с ним поработает. Но до утра меня не будите.
Через два часа Эрис набрал телефон Пуриньша. Тот не был способен от негодования разговаривать. Он икал от ярости. Было слышно, как Магда успокаивала его.
— Попей воды, — ворковала Магда.
— Где эта сволочь? — спросил Пуриньш.
— Кто, задержанный? У нас.
— Да нет, Зарс.
— Он сразу ушел спать. Сказал, что его можно будить. Велел передать всем, что спит в одиночестве, — ответил Эрис.
— У вас хорошее настроение, Эрис? Что вы меня подначиваете?
— Настроение отличное. Задержанный дал развернутые показания, что он командир заброшенной партизанами в город группы. У него имеется радист с рацией.
— Что?.. — зависла тягучая пауза. — Я немедленно выезжаю.
— Машина уже у вашего дома, — отрапортовал Эрис.
— Спасибо, Мухамед, — и Пуриньш стал натягивать брюки, думая при этом, что Ланге и Тейдеманису он позвонит уже сам из своего кабинета.
Примчавшись в контору, Пуриньш на ходу приказал Эрису вызвать «этого негодяя Зарса» и кубарем скатился в полуподвал для экзекуций. Лицо Куранова в двух-трех местах кровоточило и было закинуто назад, ремни, привязывавшие его к стулу, были ослаблены. Он был в легком беспамятстве. На другом стуле вроде бы дремал Штайер: хотя веки его были полуоткрыты и в его пальцах дымилась сигарета. Он лениво открыл глаза и горделиво сообщил, что ничего особенного не потребовалось. Указательным и большим пальцами он, сложив их как для демонстрации толщины бутерброда, показал, что, дескать, применил пытку чуть-чуть и тип, испугавшись, все выложил. Возникший рядом Эрис поддакивал.
— А он не того? — показал тоже жестом пальца у виска Пуриньш. — Не с фантазией, крыша у него на месте, не съехала?
Раздался голос Эриса:
— Пройдите наверх, вам информация.
— Все в порядке, Александр, — сказал Зарс, — он мой старый знакомый и твой тоже. Помнишь ту типографию в Зилупе? Из тех кадров. Мы их брали в тридцать шестом. Напрягись — вспомнишь.
— Да-да-да. Отлично помню. Вот это номер. Надо брать второго.
— Я свое дело сделал, донесение на столе. Не спал — писал. Оцени.
— Звоню Ланге и Тео. Надо действовать.
Все завертелось. Панцингер лично побеседовал со вторым участником группы, радистом разведывательного подразделения партизанской бригады Волдемаром Седлениексом (кличка — Гаецкий), которого задержали 25 октября. Убедившись, что его напарник выдал все, что мог, Гаецкий посопротивлялся всего пару-тройку дней, и радиостанция вновь вышла в эфир, но уже под личную диктовку Ланге. В штаб бригады пошли ложные радиограммы, содержавшие все компоненты отсутствия принуждения при работе под контролем противника. Присланный из Берлина радист следил за каждым движением Гаецкого. Итак, 25 сентября 1943 года, в один день на невидимом фронте борьбы с подпольщиками в Латвии гестапо нанесло два далеко-рассчитанных удара: в партизанской бригаде стал действовать Граф, в Риге — захвачена партизанская радиостанция, начавшая работать под диктовку Панцингера — Ланге. Противник еще более укрепил свои позиции.
…Весь октябрь сорок третьего Ольга, Федор, Кириллыч, Соломатин изыскивали всяческие зацепки, чтобы передать собранную информацию в партизанский отряд, а при случае уйти туда кому-то из них для налаживания связи.
Ольга чувствовала, что как она сама, так и вся ее группа попадают в какую-то трясину неопределенности. Словно в болоте они ощущают, видят кочки, по которым можно куда-то выбраться, но которые находятся в неописуемом хаосе, не поймешь, можно ли на что-то встать, опереться, выскочить, перебежать по этим кочкам. А они куда-то отодвигаются, исчезают, покрываются болотной жижей, становятся опасно скользкими и вообще исчезают.
Взять Петю, Шабаса, Рагозина, Лешу… Один, Петя, куда-то исчезает, позвонит, опять пропадет; Шабас вечно занятой, в разъездах, Томка минимум три раза проговорилась, что мужик ее только и возит людей в свои родные Лаудари; Рагозин и дружок его Гудловский, оба пыжатся, собираются уйти в леса, говорят, давай сведения, что вы с Кириллычем, Соломатиным и Федором собрали — унесем, (однако на просьбу Ольги взять ее с собой туда, в те края — Рагозин посмеивался, отказывал: не мог же он выдать замысел хозяев, что Ольга нужна в Риге в качестве приманки, что она «под колпаком» и в любой нужный момент предназначена для гестапо, а не для отряда). Лешка, тот занят любовными утехами, делом безусловно стоящим, но если говорить серьезно, то куда ему от молодой жены, ожидающей ребенка, рваться? С трудом в этой войне свое кровное нашел и от него бежать? Может, у другого витязя и хватило бы сил пуповину от только что образовавшейся семьи оборвать и… а у него не было ни сил, ни желания бросаться с головой в очередной темный омут войны…
Для того чтобы вжиться в те октябрьские дни сорок третьего в Риге, показать, как же бежали пленные красноармейцы и командиры из лагеря в партизанский отряд, автор приводит почти полностью письмо одного из таких беглецов — Корецкого в адрес Зои Пасторе, квартира матери которой Анастасии Журовой-Пасторе являлась одной из спасительных, конспиративных квартир, развернутых советскими патриотами. В письме, стиль которого сохранен, читатель встретит несколько фамилий ранее упоминавшихся в тексте.
«г. Краснодар.
Добрый день, уважаемая Зоя Сергеевна! С чисто сердечным приветом к вам от нас всех. Получил от вас письмо, но не смог сразу ответить по некоторым причинам независящим от меня. Первым долгом поздравляю вас с праздником 25 лет советской власти в Прибалтике, особенно советской власти в Латвии (т. е. письмо относится к 1965 году. — Авт.). Я это хорошо помню, так как в эти годы, т. е. 1940 служил в артил. (артиллерии. — Авт.), жил в казармах около Кишозера.
Зоя Сергеевна, в отношении того, чтобы я написал т. Васюкову, то я это сделал. Я искал еще одного товарища, который должен был знать вашу маму, но пока ответа нет. Это Лазарев Дмитрий, год рожд. точно не помню, но примерно 1919 или 1920 с Костромской или Вологодской области. В 1950 г. я сказал, что он на родине. От себя я могу отписать следующее.
Находясь в плену в рижском лагере, все мои попытки бежать из лагеря были неудачны. В продолжение длительного времени мы проверяли один другого, и таким образом у нас создалась группа. Это Лазарев Д., Мердаев Г., Федченко Г. и я. Познакомились поближе с товарищами, которые из военнопленных работали в пекарне. Это Васюков Михаил, Хидимели Владимир, Власов М., работающих в бане военнопленных Кочанов Андрей и Иван Рагозин, которые жили там же. От них я получил записку, что имеются квартиры, куда можно явиться, то на улице Пионерской на 4 этаже, номер не помню. Там скажут другие адреса.
И вот представился нам случай. 13 октября 1943 г. в 18.30 мы четверо бежали из плена. Когда стемнело, мы по одному нашли эту квартиру. Часиков в 8 вечера хозяйка сходила в баню, и оттуда пришли Кочанов и Рагозин. Через 15–20 минут Кочанов А., Лазарев Д. и я пошли на улицу Артиллерийскую номер не помню, в общем на вашу квартиру. Помню женщину средних лет, ее звали тетя Аня, тебя Зоя, и мальчика лет 4–5, который был из Пскова, а ваша мама его взяла к себе. Когда я разговаривал с мальчиком, его кажется звали Витя, сидя у меня на руках, он рассказывал за пожар, как горел дом и еще как он с Зоей ходил в библиотеку, а мальчик говорил блиотека. А вам, Зоя, на мой взгляд было лет 13–14.
Примерно в 21.30 сюда же, т. е. к вам пришли остальные три человека, т. е. Рагозин, Мердаев, Федченко. И еще оказалось за занавеской были двое, — кто они — я их не знаю. После разговора о том, что так много на ночь нельзя оставаться, ваша мама дала пропуска Кочанову и мне, и мы двое ушли на другую квартиру на улицу Московскую, насколько помню № 1, к дяде Лене (не точно. — Авт.) переночевать там. А там было нас четверо. Двое ушло утром, а мы, Кочанов и я, ночевали вторую ночь. 15 октября, утром, часиков в 10 зашли к вам. Кочанов зашел в дом. Я стоял у ворот. Из дому вышли два латыша, за ним вышел Кочанов, мы ушли в скверик. И те товарищи, т. е. латыши, дали нам адрес на ул. Чиекуркална, 4, где вечером мы встретились с Васюковым и еще одним тов., фамилию не помню. 16 октября в 12 часов Кочанов и я пошли на Артиллерийскую, у скверика встретили вашу маму с мальчиком, которая Кочанову сказала адрес квартиры в районе старой Риги. Но этим адресом нам воспользоваться не пришлось, так как вечером мы встретили Ивана Рагозина и латыша, которым оказался Шабасов Иван из деревни Лаудари. Они привели нас на улицу Звезда, 18. Это на Звиргаду острове у Двины. Там был Хидошели Владимир. Меня оставили, а Кочанова забрали на другую квартиру. Квартира, а вернее дом, принадлежал Курмелису Петру. Это был человек лет 50 с бородой, работал точильщиком на рынке, жена его (имени не помню), сказала: у нас дети ушли с русскими. Сын Леонид (на которого я был чем-то похож) и дочь Лена. Поэтому мы звали ее мама, а его папа. О матери я помню, что она работала в ателье пошива. Полная, крупная женщина, лет 45–50. У них мы прожили 8 дней. 25 октября нас на вокзал проводил Папаша, где нам дали пропуск и билеты и мы поехали. До деревни Лаудари добрались благополучно, а дальше нас сопровождал проводник из партизанского отряда. В деревне Лаудари нас собралось 23 человека… Рагозина и Шабасова в скором времени проводили обратно.
Вернулся один Шабасов, от Кочанова я слышал, что якобы Рагозина по дороге арестовали. Кочанов, выполняя задание, был ранен. Хидошели ушел с заданием с группой, и его я из виду потерял… В новом году, это 1944, мы перешли фронт и соединились с советской армией…»
…Итак, никто из группы Ольги в эту третью группу военнопленных, доставленных из Риги в бригаду Лайвиньша 31 октября, как и в первые две, прибывшие в начале октября и 13 октября, — не попал. На последней группе бойцов приток свежих сил из Риги иссяк.
Что же случилось? Одной фразой на этот вопрос не ответишь. Слишком сложными, противоречивыми, порой необъяснимыми оказались события осени сорок третьего для патриотов рижского подполья, уже появившихся на этих страницах или ожидающих хронологии своего появления, и особенно для тех из них, кто прибыл в Ригу с места базирования партизан в Освее и попал здесь в расставленные гестапо ловушки. Слишком необычное 3 сложение векторов борющихся сил, точнее, их столкновение произошло тогда, и неравными по профессиональной подготовленности оказались противоборствующие стороны. И как результату обманы, просчеты, ловушки, гибель, гибель, гибель…
…Прочитав ответ из Москвы от Спрогиса, Лайвиньш позвал Балода и Юрча.
— Когда Шабас появится? — спросил командир.
— Днями, верно послезавтра, тридцатого. Приведет очередную порцию из Риги, — сказал Балод.
— Должен привести, — поправил Юрч. — Когда будет, тогда и будет.
— Суеверный ты, Юрч, — улыбнулся Лайвиньш.
— В нашем деле не без этого, — серьезно ответил тот. С юмором у него было не очень.
— Ладно. Вот что. Спрогис вполне резонно требует навести справки об этом «Рижском партизанском центре». И что с его курьером? С одной стороны, мы в своей телеграмме прямо сказали, что не исключена его вербовка немцами. А дальше что? Спрогис, ты перепроверь это на Садовом кольце. Надо действовать. Но с помощью кого выяснить подноготную «центра»?
Так в тот день ничего и не решили.
31 октября, к вечеру, в бригаде появилась группа из Риги, в составе двадцати трех человек. Лайвиньш решил побеседовать прежде всего с Шабасом.
— Заходи, заходи, Иван, — приветливо встретил командир ценного своего связника, безотказно выполнявшего самые сложные и рискованные поручения. Одна доставка беглых пленных чего стоила! Ни одного, ни двух, а более шестидесяти человек в три приема обеспечил он документами, пропусками, собрал незаметно в Риге на квартирах, затем на вокзале, усадил в вагоны, довез до хутора родителей в деревне Лаудари Истренской волости, откуда дальше в отряд их вели выделенные для этой цели разведчики партизанской бригады — Кравченко, Равинский и другие.
Иван присел, перекинул ногу на ногу, с уважением взял хорошую папиросу, предложенную командиром, закурил и на вопрос Лайвиньша «как дела» просто ответил:
— Устал. Нервишки пошаливают, — и он виновато посмотрел на собеседника.
— Ты чего-то бедновато одет, Иван, — сказал Лайвиньш, — простынешь.
— Мне разжиться не с кого, с тебя только, например.
— Я велю, дадут тебе денжат, купи что-нибудь, костюмчик какой. Ты все-таки у нас городской житель. И пальто справь.
— Благодарствую. Куплю, справлю, — лаконично ответил Шабас.
— Я вот о чем хочу потолковать. Ты этого блондина, который к нам неделю назад прибыл, хорошо знаешь? — спросил Лайвиньш, имея в виду Графа.
— Хорошо знаю. Парень боевой. Я его с прошлого года, с сорок второго знаю. Познакомились, когда он караульным, обычно старшим по наряду на Риге-товарной был. Я то там работал.
— Он у нас здесь, походя так, Юрчу сказал, что ты ему поручил вступить в охранный батальон.
— Я? — удивился Шабас. — Нет, я его встретил уже в форме. Да и какое это значение имеет? Большинство из этих ребят готовы были хоть у черта при кипящих котлах служить, лишь бы из лагеря вырваться.
— Почему ты его с собой не взял с первой группой, в самом начале месяца?
— Его не было в те дни. Он где-то скрывался. Не буду же я бегать по городу, искать. Парень самостоятельный. И вы мне сами, командир, говорили: твое дело только проводка людей и все. В другие дела не ввязывайся. Я и не ввязываюсь. Вот только…
— Что только?
— Помнишь, командир, есть на примете у меня одна дивчина по имени Ольга, она с моей Томкой дружит. Она латышка, но из тех, российских, в Смоленске жила, у нас летом прошлого года в Риге появилась. У немцев в тюрьме, в Даугавпилсе восемь месяцев отсидела, под конец выпустили ее. Очень боевая. У нее группка своя есть хороших парней, тоже из пленных. Хочет она к нам сюда добраться, у них сведения разные там собраны…
— Ой, подожди, подожди, Ваня. Мы с этими, что ты привез, разобраться не можем! В тюрьме у немцев, ты говоришь, сидела? Выпустили? Этот блондин тоже по тюрьмам там, в эстонском углу ошивался, потом в караульные попал. Чудеса, ей богу! А что за сведения?
— Всего я не знаю, но о немецких военных объектах. Я сам с Томкой на улице Аусекля живу, так эта Ольга, она глазастая, уяснила, что там по нечетной стороне в начале улицы, по-моему в домах № 5, 7, 9 находятся гостиницы для офицеров СД, а через два дома от меня в доме № 6а по Аусекля, стало быть штаб, как его, самого главного по Восточным территориям. А, черт бы его побрал, память уставать стала. Не помню.
— Подожди, подожди. Лозе? Так это по Остланду. Ты говоришь, по всему Востоку?
— Да.
— Розенберга?
— Вот — вот.
— Интересно, — покачал головой Лайвиньш. — Кто же ее, твою Ольгу, хорошо знает, кто может ее охарактеризовать?
— Кроме меня? Так Рагозин Иван. Пришел он наконец.
— Это тот, что у нас в списках разведчиков с твоей легкой руки, как Панченко Иван записан? — Лайвиньш достал из сейфа пачку листков в мятой обложке и освежил память: — Да, Панченко Иван агентурный разведчик с августа этого года. Как он?
— Парень боевой, любое дело свернет. Сам увидишь.
— Вот что, Ваня, ты вот такие бумаги с такой печатью видел когда-нибудь?
— Ты лучше расскажи мне, что это, я в чтении-то не очень, — замялся Шабас.
Лайвиньш объяснил, почитал выдержки из бумаг Графа. Шабас пожал плечами, потом тихо сказал:
— Но ведь я людей от них, от этого «центра» не приводил сюда или приводил? Групп в Риге много, и обычно они без вывесок, командир.
— Понимаешь, товарищ Стаканов, — впервые в знак дружеского расположения назвал Лайвиньш Ивана по псевдониму разведчика, под которым он числился в списке Саши Грома, — не можем мы разобраться во всех группах, что в Риге существуют.
— Так поговорите с ребятами, что я привел. Вон их сколько. По ниточке, по ниточке, да еще жилет свяжете. Рагозин много знает. Из этой группы, пожалуй, больше всех. Корецкий там, Кочанов, грузин один, Лазарев — те не очень-то, они и Риги толком не знают. А вот Рагозин, Гудловский — это черти, змеи такие, что везде пойдут. По-моему Рагозин что-то об этом «центре» мне поминал.
— Ладно, Иван, иди отдохни.
— Як родителям смотаюсь, поживу там недельку, потом приду.
— Давай так.
Когда Шабас ушел, Лайвиньш стал думать, что если немцы кого-то заслали в группах пришельцев, то дом Шабаса в Лаудари, как перевалочная база, давно накрылся бы. Однако держится, значит, все нормально. «Но как этот чертов блондин попал на самую конспиративную дорожку, дьявол его побрал. Ото всех ее берегли. Эх, бабы, бабы, растаяли, как всегда, перед смазливым малым».
Лайвиньш велел позвать Балода, Юрча и Грома. Рассказал им о разговоре со Стакановым, упомянул об Ольге. Сошлись во мнении, что поговорить надо прежде всего с Рагозиным. Вошел крепкий, с мощной жилистой шеей парень, с широким лицом и спокойным взором голубых глаз. Сел. Разговор начал Юрч:
— Сколько ты в плену?
— Да с начала войны.
— Досталось?
— Считайте, что четыре лагеря прошел: в Минске, Молодечно, Гамбурге и здесь, в Риге.
— И что же тебя так возили, — недоверчиво проскрипел Юрч.
— Просто везло, эшелон подали — езжай, куда привезут — не знаешь, — пожал плечами Рагозин, понявший подвох в вопросе, но что тут ответить? Гамбург он всегда упоминал. Мало ли, встретится солагерник оттуда, что сказать? Обмишурился, первый раз видел?
— Как в плену очутился? — спросил Балод.
— Мы с винтовками, они с автоматами. Нас было семеро, их человек двадцать. Окружили и давай нас чесать. Был бы у нас «Максим», отбились бы, а так…
— У вас что, пулеметов не было? — спросил Гром.
— Откуда? «Максим» сняли с вооружения еще в сороковом году, они нам не достались. Потом, слышал, их опять ввели. Я ведь кадровый. Так вот о бое. Двое в живых осталось, прикладами по шеям нам надавали и готово.
— Так вы кто по званию? — спросил Лайвиньш.
— Лейтенант, командиром взвода зенитно-пулеметной роты был. Только без пулеметов, как показал выше, — Рагозин вздохнул.
— Хорошо, дадим время, бумагу, ты нам все изложишь, — сказал Юрч. — Так, командир? — обратился он за поддержкой к Лайвиньшу. Тот согласно кивнул.
— Вот что, полчаса мы уже беседуем здесь и только с одним из прибывших. Вы, — кивнул он Балоду и Грому, — идите переговорите с другими, народу пришло много. Ты, Юрч, пока останься, — распорядился командир. — Потом соберемся, обменяемся мнениями.
Когда все ушли, Лайвиньш обратился к Рагозину:
— Народ говорит, что ты в лагере влиянием значительным пользовался, к тебе все за советом шли, многих вытащил, подсказал, как и куда бежать надо было. Так? — нарочно польстил слегка Лайвиньш, желая разговорить для начала новоявленного пришельца, как-никак командира в прошлом, фамилию которого он слышал от других прибывших, а не только от Шабаса, не только из списка разведчиков бригады в Риге, которые считались довольно относительным приобретением, ибо многих из них и не знали толком. Основной тягловой силой, если честно, там считался у них один Шабас. Он регулярно бывал в отряде, скрупулезно отчитывался. Однако начальство из Москвы требовало — проникать в стан врага, и они старались приобретать все новые позиции и, грубо говоря, в результате от случайной публики информация в общем-то поступала. Ее анализировали, сопоставляли, делали выводы. Риска при получении новых сведений практически не было. К сожалению, о существовавших в Риге группах полной ясности не имелось, действовали они вразнобой и из отряда виделись, как в тумане.
Но в данном случае командование столкнулось с частью организованного подполья в Риге, созданного не по инициативе отсюда, из леса, совершенно неизвестного Москве, причем группировке хорошо законспирированной, сильной, раз практикует солидную документацию. Да и потом, нельзя быть безразличными, когда перед тобой судьбы людей, подвергающих свою жизнь опасности. Об этом надо думать!
Лайвиньш вздохнул.
Юрч обуревавшие командира мысли понимал, но несколько в ином ракурсе. «Народ вливается — это хорошо. Уже больше шестидесяти из Риги прибыло — это отлично. Но мною ни один самый паршивенький осведомитель противника не выявлен. Конечно, из числа местных негодяев, пытавшихся пролезть к нам, мы отделались. Так их тут все собаки знают. Не раз было, когда один-другой полицай слезу пускал. Ошибался мол, братцы, на своей жизненной стезе. Ну и пошел вон, говорили обычно таким в лучшем случае. До места базирования штаба отряда их вообще не допускали. А вот этот лобастый, Рагозин-Панченко? Он-то что из себя представляет? А с ним как тень ходит еще Гудловский, Беспалый. Он что за боец такой? В дело, в дело их запустить надо. Пусть набьют нам по несколько немецких трупиков. И вопрос выяснится!» — думал жесткий Юрч, ответственный за внутреннюю безопасность отряда.
Примерно так соображал он и далее, поглядывал испытывающе на Рагозина, принявшегося отвечать на вопросы командира:
— В последние полгода перед бегством из лагеря мне удалось встать там на должность лагерного банщика. Что это такое — не вам объяснять, дело известное. Это клуб, все проходят через тебя, причем голые, — пошутил он, одновременно примериваясь к реакции слушателей. Командир и Юрч слегка улыбнулись. — Можешь отличить уголовника с их наколками запросто, и у кого звездочка сделана, а у кого зад в ракушках — на якоре сидел, и кому дамы снились. У одного гада даже свастику сподобилось разглядеть…
— Вот такую, — подвинул к нему изображение печати «центра» Лайвиньш.
— Примерно, — посмотрев на рисунок и отодвинув его от себя, сказал Рагозин. — В общем, баня в лагере — это отдушина, где народ хотя бы на какие-то тридцать минут может быть представлен сам себе: поболтать, посудачить можно, с кем встретиться, хлеб на курево поменять. Раз я там банщик, то всё меня знают, что-то спросят: «Ванька, сделай то, да сделай это!»
«Раз изображение печати с рабочими руками и свастикой прошло мимо его внимания, то он их, должно быть, и не видел. Ладно, спросим прямо», — решил Лайвиньш.
— Скажите, Рагозин, что вы знаете об организации «Рижский партизанский центр»?
Рагозин сделал мину мыслителя, потерев лоб двумя пальцами, и зачмокал губами, вспоминая инструкции Ланге и Пуриньша, слышал, мол, что есть такая группа, поминали ее, но вот кто?
— Что-то похожее я слышал, в бане говорили ребята о такой организации, что квартиры у них для сокрытия пленных имеются. Но кто говорил мне? — здесь он раздумчиво пожал широкими плечами и повертел головой недоуменно. — То ли слышал я от такого Феди, он все с девицей одной гужуется по имени Ольга, их там целая группа. Эти ли? Либо нет? Но Шабасу Ивану я что-то о таком «центре» поминал. Не помню толком, — сказал он виновато, что вот, дескать, в такой ответственный момент жизни память его немножко не вытянула, подвела.
Вдолбленный ему в голову этюд Ланге типа гадания на ромашке в форме помню — не помню он сыграл как надо, без нажима и шумных аплодисментов, не вызвав зловредного шипения хмурого чекиста, который одним своим присутствием накалял обстановку.
— То ли от Феди, то ли от Сереги, пленных, я раньше слышал об этом «центре», — твердо заявил он, — но давно, потому как они из лагеря сбежали и скрываются в городе на квартирах. Да, точно так, — закончил он свою мысль.
Лайвиньш кивнул.
— Ну а о группе, как ты сказал, об Ольге, что тебе известно?
— Как вам сказать? Ольга женщина правильная, в отряд рвалась каждодневно. Парни вокруг нее тоже положительные, но понимаете… Вот вы меня; по лагерям расспросили, и вижу я, что, ну как сказать, не очень вы меня зауважали по этой причине, да и на друзей моих коситься будете, — Рагозин был тонким психологом. — А эта Ольга в одной тюрьме только отсидела без малого год, и вот давай бери ее в отряд. А на самом деле сидела, не сидела — я не знаю и вот притащу ее к вам. Как вы к этому отнесетесь? Везде осторожность должна быть. Велите вы мне ее в отряд привести следующий раз — пожалуйста, дорогу теперь знаю — доставлю.
Этим тонким шажочком — «следующий раз», — Рагозин произвел огромный прыжок в сознании командования бригады…
Вечерами Лайвиньш и остальные, наговорившись за прошедший день с прибывшими пленными, все время, постоянно обращались к вопросу, так кому поручить проверку организации «Рижский партизанский центр»? Тем более, что из Москвы опять пришло напоминание.
Графу? Не с руки. Во-первых, он пришел от имени организации, которую следует перепроверить.
Не с его же помощью, естественно. Он всегда подтвердит ее наличие. В Москве смеяться будут. Да и в Ригу он, как сказал, если пойдет, то только из-под палки.
Вале? Ее собирались послать в Ригу в начале ноября, буквально через несколько дней. Но ведь пока в Риге у нее со связями слабовато. Через кого ей узнать? Организация для нас совершенно неизвестная, а если Валя подорвется на ней? Кому это нужно? Вариант отпадал.
Шабасу? Но у него свои заботы. Ему придется опять бегать, людей собирать, прятать их там по квартирам, везти сюда. И так партизаны за ним в этом деле транспортировки пленных как за каменной стеной, давать ему еще одно задание? А если он провалится на нем?
Запросить Куранова и Седлениекса? Запросим. Но это им тоже не с руки. Их задача — работа на командира — организатора подполья.
Остается агентурный разведчик бригады Панченко, он же Рагозин. Парень боевой, в Риге располагает устойчивыми связями, что-то о «Рижском партизанском центре» слышал, во всяком случае не с нуля ему начинать. От ходки в Ригу не отказывается, как некоторые. Наконец, он для нас, будем прямо, даже цинично говорить, — почти чужой. Если что с ним случится, то… война есть война. Что делать? Спишется на войну. Шабас, Валя, Курасов, Седлениекс — это все свои ребята. Рисковать ими? Не будем. Все! Кончили обсуждение. Сошлись на Рагозине. Пусть проверит и сообщит о «Рижском партизанском центре».
Так и порешили.
Итак, на конец октября в партизанском лагере в Освее были следующие действующие лица нашей, подходящей к трагедийной развязке, очередной драме рижского подполья.
Будущая разведчица Валя, заброшенная в распоряжение партизанской бригады на самолете 20 июня 1943 года, речь о ней пойдет впереди.
Граф, пришедший в партизанскую бригаду Лайвиньша 25 октября 1943 года по особо законспирированной цепочке патриотов из Риги, от Стефании к сестре в Пасиенскую волость Лудзенского уезда, затем к родной племяннице обеих сестер — Черковской Антонине в Истренскую волость Лудзенского уезда, затем ее родственник Павел Черковский довел Графа до расположения штаба отряда.
Германский агент Панченко, он же какой-никакой партизанский разведчик Панченко — Иван Рагозин, прибывший в бригаду Лайвиньша 30 октября 1943 года в группе военнопленных через деревню Лаудари Истренской волости Лудзенского уезда.
Прибывшие вместе с Рагозиным немецкие агенты Степан Гудловский и Иван Чувиков.
В лагере до середины октября находились еще Куранов с Седлениексом.
Весь октябрь и до середины ноября в Риге был Имант Судмалис, постоянно находилась там Ольга, которые друг друга не знали.
Вот такая расстановка действующих лиц сложилась к ноябрю и к последующим месяцам, вплоть до февраля 1944 года, когда уже новое действие разыграется исключительно в Риге, куда переберутся почти все действующие лица нашей документальной истории.
Валя
Когда 20 октября сорок третьего года был взорван эшелон с боеприпасами, следовавший тихим ходом по железнодорожному полотну станции Югла, то настроение у Ланге сделалось скверным: опять совершенно непонятным было, что за группа действует. Тейдеманис рвал и метал. Через неделю после безуспешных поисков он решил себе позволить отвести душу на Пуриньше:
— Вот тебе следствие вашего умничанья. Ну, кто, кто рванул эшелон? Ваш чертов «партизанский центр» или еще какая группа террористов, эта твоя подружка, загадочная Ольга, к которой ты не поленился потащиться в Даугавпилс, или еще кто, а? Я спрашиваю. Вот если бы мы долбанули по «центру» раньше, пересажали бы их, то пришли бы к выводу, что да, это они или не они. Ясней было искать дальше…
Когда Тейдеманис в раздражении стал нести чепуху в связи с поездкой Пуриньша в Даугавпилс для беседы с Ольгой, то обычно делающий свои дела сам и находящийся в тени заместитель еще раз показал свои острые клыки:
— Слушай, Тео, у всех умных нормальных людей имеются мозговые извилины — и все они, как правило, кривые, и чем больше кривизны, тем больше вес мозга, так как их, извилин, больше помещается. У людей глупых встречаются и распрямленные извилины, но это видят после вскрытия. У тебя, как я понимаю, имеется всего одна извилина, абсолютно прямая, и та на чем-то сзади, под брюками на заднице. Понял? Так что тебе черепную коробку вскрывать не будут, только брюки снимут.
Тейдеманис опешил. Такого хамства он не ожидал. Ну и наглец этот Пуриньш! Но ответить ругательством не посмел, только бросил на своего зама испепеляющий взгляд.
Найденная при помощи Зарса рация была таким сверхкозырем, что дальше влезать в спор было бессмысленным делом. Начальство носило Пуриньша на руках. О рации знали в Берлине, откуда распорядились наградить этого дьявольского проныру орденом. Надо было не спорить, а искать виновников взрыва. Ищейки были подняты, выгнаны из теплых постелей и курсировали по всему городу…
Хорошо еще, что рация обнаружилась. Она заслонила несчастье с эшелоном. Да и шли они в отчетности для Берлина по разным графам: таблица, где фиксировались пущенные под откос эшелоны была переполнена прыгающими, как солдаты из вагонов, цифрами и кроме как злости и воспаляющихся нервных окончаний руководству СД и гестапо ничего не прибавляли. Ну а захваченная рация при готовом к сотрудничеству радисте, безусловно, снимала разного рода недуги у пожилых гестаповцев, мучившие их по мере продвижения армии ближе к государственной границе, за которой располагались их дома, пуховые перины, грелки и ночные горшки.
У Панцингера на совещании слегка поспорили: запустить по рации сообщение об этом взрыве? Стоит ли игра свеч? Тейдеманис, не бывший докой в подобного рода делах, брякнул, что если проинформируем, то может из бригады скажут, что, мол, передайте таким-то сбежать туда-то и тому подобное. Ланге процедил: «Чушь! Не следует лезть на рожон, пусть активничает партизанская сторона».
Пуриньш тихо заметил:
— Вернутся наши из отряда, а вскоре это произойдет, информация появится. Подрыв поезда — это пустяк для активизации радиообмена по этому поводу.
Панцингер хранил ледяное молчание. Только поинтересовался у Ланге, изолировали ли этого дурака Курасова. Пусть держат его подальше, на частной квартире, так, на всякий случай, вдруг показать его придется, но к радисту не подпускать, при рации он не нужен. На этом разошлись. Оберфюрер еще не был готов к принятию решения и тянул паузу, что было естественным делом в неопределенной ситуации.
13 ноября 1943 года раздался взрыв мины на Домской площади. И хотя этот взрыв не повлек материальных потерь (правда, при нем погиб невинный человек), равнозначных развалившемуся эшелону, он был пострашнее: резонанс от него пошел гулять, подумать только, — по Европе. Дело в том, что в этот день, на намечавшемся на площади митинге, его участники должны были осудить деятельность антигитлеровской коалиции. Митинг приурочили к незадолго до этого закончившейся Московской конференции глав внешнеполитических ведомств СССР, США и Великобритании. Вот, мол, они в Москве принимают подлые решения о разгроме рейха, а мы в Риге протестуем против нападок на нашего обожаемого фюрера, построившего новый порядок на европейском континенте. (Отступая от нити повествования, автор не может не отреагировать на оценки современных журналистов и историков, что, дескать, организация того взрыва пятидесятилетней давности была делом бессмысленным, тем более, что при взрыве погиб человек, а затем и причастные к акции люди и их знакомые, что взрыв был организован во имя «красной оккупации Латвии в 1940 году». Что сказать по этому поводу? Думаю, ничего. Пусть эти упреки повиснут в воздухе. Те, кто боролся с фашизмом, думали по-иному.) Часа через два после взрыва старой мины английского образца митинг все же провернули. Слюной на нем брызгали с удвоенной силой: вот они происки вражьей силы, террористический взрыв на наших глазах, в то время как мы печемся о мире. Так кто агрессор? Эхо взрыва на митинге в Риге прокатилось по Европе, означая, что в какой-то маленькой задавленной гигантским Рейхом Латвии движение Сопротивления тоже борется!
Эта акция на площади не шла ни в какое сравнение с подорванным 20 октября эшелоном, она квалифицировалась как политический протест, поэтому и реакция была иной.
Тейдеманис на сей раз помалкивал, ибо утверждать, что горстка русских военнопленных, составляющих «Рижский партизанский центр», решила сорвать митинг, предварительно испортив на площади громкоговорители, а затем взорвав мину, было нереальным. Не те, не те субъекты должны были находиться у истоков диверсии на площади, где собрались видные представители Латвии, освобожденной от красного террора. Но другие кандидаты на совершение взрыва пока не были известны, так что «центр» фигурировал в официальных бумагах, как причастный к враждебной акции, как молчаливый статист, без единого намека на реальные доказательства его виновности. Ведь всегда надо кого-то подозревать, чтобы ублажать начальство, которое могло бы, в свою очередь, вводить в заблуждение более высокое начальство, и видимость розыска злоумышленников отливалась уже в какую-то фигуру, правда, в песочной формочке. В резервной версии должно быть несколько злоумышленников.
Снова собрались в узком кругу у Панцингера. Он только что закончил разговор с Мюллером. Их беседа была спокойной, без передержек, без упреков и оправданий. Для них, генералов полиции, это происшествие было очередным рабочим днем: мало ли покушений, взрывов, побегов, нападений на офицеров вермахта происходило по всей Европе. Важным было раскрыть и наказать виновных… Но вот политическая подоплека взрыва высветила не ко времени вспышку единства антигитлеровской коалиции…
— Я только что переговорил с группенфюрером Мюллером. Он одобряет спланированные действия по проникновению наших людей в организации террористов в сочетании с комбинированным задействованием захваченного радиста. Осторожным, не резким задействованием. Эксцесс на площади, по мнению группенфюрера, не должен выбивать нас из колеи принятых решений. Мало кто в Европе знает, где находится эта Латвия, если произнести это слово, как его выговаривают здесь, в Риге. Группенфюрер пошутил, что когда он сказал о случившемся своему итальянскому коллеге, который сейчас, после выхода Италии из войны, обитает в Берлине, то тот озадаченно воскликнул: «Латвия, Латвия! Это рядом с Боливией, не правда ли?» Все задвигались, прокатился смешок. Напряжение было снято. Панцингер продолжал:
— Отнесем это к разряду каламбуров, но Латвию надо перетрясти. Предлагаю при очередном сеансе связи с нашими «корреспондентами», так отныне будем называть партизан, упомянуть о взрыве на площади. Не сообщить об этом мы не можем. Нелогично знать, быть почти рядом и не сообщить. Это не эшелон. На площади было все руководство. Укажем, что похоже никто не пострадал.
Раздался голос Ланге:
— Господин оберфюрер, а не добавить ли два слова?
— Какие, — спросил Панцингер.
— «Подробности сообщать?»
— Хм, остроумно, — заметил Панцингер. — Вы рассчитываете, что «корреспонденты» в свою очередь попросят выяснить, кто это сделал, или ответят, что им все известно, или что их это не интересует.
— Последней фразы быть не должно, господин оберфюрер, она демаскирует — такие вещи не могут не интересовать, — заметил Ланге. — Я имею в виду и третий вариант. Допустим, они не знают инициаторов эксцесса на площади, попросят по радио узнать: кто же эти «патриоты»? Но следует по аналогии думать, что такие же вопросы у них появятся перед находящимся пока в их логове Панченко, который по нашим расчетам на днях должен будет оттуда отбывать к нам, на базу. Не знаю, право, как пойдет дело у Графа. А это в свою очередь даст Панченко, Юрченко и другим людям свободу действий при расспросах здесь: у них появятся полномочия наведения всевозможных справок и немалые!
— Браво, доктор Ланге, браво. Ценю хорошую мысль. А кто такой Юрченко, вы так, кажется, упомянули? — спросил оберфюрер.
— Наш человек, пошедший с Панченко, его фамилия Гудловский, тоже из военнопленных, — ответил Тейдеманис.
— Да-да, хорошо. Добавьте свои волшебные слова, доктор. И вообще, руководите работой радиста. Вы на правильном пути, штурмбанфюрер.
Выйдя от Панцингера, Тейдеманис подошел к Ланге и попросил разрешения переговорить с ним. Тот, получив столько комплиментов в одночасье от оберфюрера, был в прекрасном настроении, и они прошли в кабинет Ланге. Тейдеманис не стал вилять, а сразу пошел напролом. Он сказал:
— В последние месяцы, господин штурмбанфюрер, у меня обострились отношения с господином Пуриньшем. Он много стал себе позволять. Я прошу оградить меня от его неуместных выходок и личной нескромности. Я даже хотел составить на ваше имя письменный рапорт и просить его перевода на иной участок работы…
Ланге с интересом посматривал на верзилу Тейдеманиса, думая, что создание конкурентных отношений в ведомстве — это неплохой стимул для активных дел.
— Продолжайте, продолжайте, Херберт, — совсем по-домашнему подбодрил он Тейдеманиса.
— Взять последний случай. Я понимаю, что захват радиста и рации — это и заслуга людей Пуриньша, и его лично. Но как я думаю, это стало возможным потому, что вы лично, господин штурмбанфюрер, распорядились об этом. Осенью сорок первого Пуриньш получил подобные сведения по Даугавпилсу, я имею в виду одну женщину по имени Ольга. Основания причислять ее к агентуре русских имелись, но Пуриньш, пользуясь моим отсутствием, выпустил ее, хотя думать, что она знает радиодело, мы могли…
— Остановитесь, Херберт! Я знаю это дело. Да, она сомнительный элемент, да, она проявляет активность в сборищах террористов, рвется к партизанам. Но ведь она под колпаком и скоро крышка прихлопнется. Придет срок. И я поручу ее вам, Тейдеманис. Вы довольны? Раз Пуриньш не справился, докажите свою результативность.
— Благодарю вас, господин штурмбанфюрер, я…
— Что же касается обострения ваших отношений с нашим не менее уважаемым Александром, то не занимайтесь мышиной возней. Работы у нас невпроворот. Скоро наступит ваш черед показать себя — буквально в течение месяца мы должны будем разгромить группу террористов. Но немного терпения, мой дорогой. А сейчас все внимание розыску террористов на Домской площади. Оберфюрер предложил объявить вознаграждение за поимку этих бандитов в размере 30 000 марок. Споры с Пуриньшем мешают делу. То же самое я скажу и ему. Признайтесь, Тео, вы недолюбливали друг друга еще со времен работы в политуправлении? Нам это известно, — и Ланге изящно пощекотал подбородок высоченного Тейдеманиса.
Тот заулыбался, затем серьезно сказал:
— Исходя из опыта вывешивания разных там красных флагов, распространения листовок, могу предложить, что надо искать преступников и в числе тех, кто работал на этой площади. Обычно злоумышленников тянет к местам хорошо изученным их собственными ногами, знакомых с расположением домов вокруг места события.
— Интересно, интересно. И представьте себе, Херберт, Пуриньш высказал тождественную мысль. У вас одна школа, школа господина Штиглица!
Оба улыбнулись. Конфликт был погашен по лучшим образцам гестаповского товарищества: все издержки оплатят будущие жертвы.
Отпустив Тейдеманиса, Ланге продиктовал телеграмму в отряд: «13 ноября на Домской площади перед началом собрания гитлеровских подпевал взорвалась бомба. Официально о пострадавших пока ничего не известно. Сообщать ли подробности? Гаецкий».
Когда телеграмму принесли Лайвиньшу, он вызвал Балода, Грома, показал ее, спросил:
— Что нам известно? Ничего?
Балод промолчал. Гром высказал предположение:
— Кто-то из наших, но кто? Возможно, «Рижский партизанский центр»? Или Судмалис?
Лайвиньш заметил:
— Плохо, когда не знаем. Не гадать же на картах. Надо выяснить. Вот что, Александр, пошлем телеграмму Гаецкому, пусть сообщат подробности, что им известно. Может что прояснят, а? И поручи еще раз Рагозину и Гудловскому выяснить толком все о «центре» и кто в Риге рванул так впечатляюще.
Крючок Панцингера — Ланге сработал. Правда, никаких скорых практических результатов ни та, ни другая сторона от обмена посланиям вроде бы не получила: запрос — ответ, запрос — ответ. Но началась игра. Просьба Рагозину по «центру» уже стала для него приказным заданием, он как бы заимел «мандат» на проверку, в смысле, что же вы, ребята, там делаете? Поскольку других путей для проверки «центра» не было, а подвернулся Рагозин, то поручили ему, тем более, что другие из прибывших с ним в Ригу, кроме входивших в его группу агентов Гудловского и Чувикова, возвращаться и не помышляли — еле удрали из преисподней лагеря. Вопросов по Риге набежало сразу несколько: взрыв на площади, «центр», Ольга… Как решить их? И по-видимому, одно поручение чисто психологически вызывало желание дать другое, третье. Так, когда знакомый уезжает в столицу, к примеру в Москву, приятели дают ему поручения: привези мне это, достань мне то. Что при этом испытывает едущий — понятно: раздражение. Рагозин же был доволен — ему поверили. И особенно, когда ему объявили, что придет время и… намекнули — скоро в Ригу отправится один наш человек… и не исключено, что ты представлен симпатичной девушке, которой следует оказывать там, в Риге, всю необходимую помощь. Ведь Граф с Валей познакомились в эти дни в отряде и прониклись симпатиями. Уже само пребывание в бригаде Рагозина, Гудловского и третьего из их компании — Чувикова, представляло собой то же самое, что съемка скрытой камерой. Запомнили они многих и, вернувшись в Ригу, играли в том числе роль опознавателей подозрительных на принадлежность к движению Сопротивления лиц. К тому же и город-то был небольшим. Всех этих знакомств нельзя было избежать, раз живешь в одном лесу. Но вот думать о мотивах возвращения непроверенных, неизвестных по сути, пришедших и тут же отправившихся назад в кошмар оккупационного города, где тебя, как сбежавшего из лагеря, разыскивают, думать, пускать их назад или нет — обязаны были.
Немцам повезло, что обстоятельства сложились именно так, а не иначе. Действительно, засылка в отряд Рагозина с компанией, Графа, возможно, и еще кого-то кроме перечисленных, прошла успешно. Партизанское руководство хотя и высказало крепкие сомнения в адрес Графа, но Рагозина и Гудловского, похоже, не подозревало, и подобные, как по Графу, телеграммы в Москву не направились. Значит, они оказались в доверии, тем более, что Рагозин уже числился по бумагам партизанским разведчиком в Риге.
Командование бригады вполне естественно рассматривало начало работы рации Гаецкого как свой успех, небольшую, но победу. Разве могло прийти им в голову, что Гаецкий, подпольщик времен буржуазной Латвии, уже не тот Седлениекс, каким его знали и в Латвии, и в Москве, а сломленный духовно и физически перерожденец? Не исключено, что тяжелая работа в условиях подполья, не могущая не отразиться на его нервной системе, сломила Гаецкого молниеносно до такой степени, что он не использовал даже в одной из первых передач условного знака — «работаю под контролем». Очевидно, не выдержав пыток, он выдал его сразу. У захваченных радистов этот знак стараются вылущить как можно быстрее, пока пленник в растерянности, в оцепенении, в ужасе.
…И вновь к Рагозину. Рассказ о его разрушительной работе непрост. Восстанавливаема она по крохам. И нужно ли это? Может, ограничиться лишь тем, что заклеймить его, как раньше? Нет, попробуем… Мы поручили тебе, друг наш Рагозин, разобраться с «центром», здесь же, совершенно случайно, и со взрывом — разберись с причастными к нему, ведь не безразлично это, и, наконец, давайте его с Валей познакомим. А что? Он там ей поможет. Не нашлось в тот момент трезвой головы, обладатель которой заявил бы, что хватит с него одного, первичного поручения — разобраться с «центром». Никто не прикинул: какого дьявола его в самом начале войны занесло в Гамбург? Это не было причиной к панике, но могло и отказать в доверии. Следовало остановить его на нейтральной позиции: пришел к нам, привел людей — хорошо, согласен идти за следующей порцией? Иди, будь осторожен, проверь «центр», дай знать или возвращайся. Документы на Панченко у тебе хорошие… или, ладно, поживи в Риге, направляй к нам воинов.
Напоследок, не удержавшись от методики насадок кусочков мяса на шампур, Рагозину еще добавили: «Смотри там, с самостийными взрывами будьте крайне осмотрительны, все делать только с гарантией, без анархии. В кустах не отсиживаться, но и лишних жертв избегайте. Везде нужна подготовка. Иначе пойдут погромы, аресты, ведь так? Главное, чтобы не пострадали наши люди, которые с таким трудом восстанавливают подполье. Мы здесь посоветовались и решили, что Ольгу надо переправить в отряд. Подумайте над этим…»
16 ноября 1943 года Рагозин, Гудловский и Чувиков вышли из расположения бригады в сопровождении Шабаса, который повел их в обратный путь к дому своих родителей в деревне Лаудари. Там передохнули и на поезде благополучно вернулись в Ригу.
Рагозин чувствовал себя героем на белом коне. Еще бы! С маленьким заделом в виде рекомендации Шабаса и записи в журнале боевых действий бригады, что у них с августа сорок третьего в Риге появился свой агентурный разведчик Панченко: в октябре он уже стал считаться активистом при подготовке побегов трех групп, действительным лидером которых был честнейший Шабас, а к 16 ноября по количеству нитей, вложенных ему в руки там, в Освее, превратился почти в уполномоченного по подпольным делам в Риге! Вот такая метаморфоза произошла с этим христопродавцем всего за 15 суток пребывания в бригаде, но к которой его готовили два с лишним года.
Начальник разведки бригады Саша Гром был доволен. Такие дела провернуть за две с небольшим недели! Заслать радиста, подобрать и подготовить из всей массы военнопленных стоящего лазутчика во вражеский лагерь — это тебе не два пальца обоссать. Это работа, как ему втолковывали старшие начальники, требующая наблюдательности, умения увидеть нужные черты характера, свойства личности. Он не нашел никого подходящего ни в первой, I ни во второй группах пришельцев из Риги.
«Нет, отцы-командиры, — говорили они, — не за тем шли. Дайте нам винтовку, автомат, если нет, то сами в бою отобьем оружие. За муки наши адовы, когда гады лагерные нам подличали из-за всех углов, били нас по животу и убивали безоружными, мы их здесь стрелять будем в бою». И стреляли, но возвращаться в Ригу не желали.
Рагозин прошел школу Вагнера, сдал зачет Вистубе: в шкуре Панченко его научили продавать друзей, коммунистов, родную мать. Когда он разнюхал почти все в отношении Дьяконова и сдал этого человека Вагнеру, его пребывание в лагере приобрело характер формального времяпровождения. Пришли личные охранительные документы, нелегальные квартиры со статусом безопасности, где проводил время он и те, кто действительно бежал. Он был передан Ланге, с ним встречались Тейдеманис, Пуриньш, он бегал по собачьей команде «рядом» без поводка. Это был выдрессированный пес.
Для него возвращение в Ригу было запрограммировано, без него не могли обойтись ни те, ни другие. Гром хотел найти человека смелого, сильного, выносливого, готового на все. И он нашел такого в лице Рагозина.
Подготовку Грома к разведывательной работе в тылу врага солидной не назовешь. До войны он поработал немного в системе НКВД, но его профессиональные навыки так и остались в зачаточном состоянии. Школы, выучки для разоблачения таких типов, как Рагозин, Гудловский или Граф, у него не было. Да и у более старших его коллег такого опыта явно не хватало. Хотя, если быть повнимательнее к разного рода документам, не принимать на веру рассказы провокаторов об их военных бедах, то кое-каких и не малых вредных последствий удалось бы избежать. Но не будем нарушать хронологии и казаться умными, как говорят, задним числом, через десятилетия после войны, воюя на бумаге.
…Юрч ходил сумрачный, угрюмый. Он старательно выговаривал начальству один контрдовод, прочно засевший у него в голове: «Пока мы не дождемся отчета о выполнении задания по проверке «партизанского центра», мы не должны навешивать другие поручения».
Однако его тягучая манера говорить не шла ни в какое сравнение с красноречием Грома, который обходил старика Юрча на поворотах.
…Итак, в начале ноября сорок третьего Валя отправилась в Ригу. Имя Валя было псевдонимом партизанской разведчицы, настоящее — Вероника Слосман.
…Когда Вероника прибыла в партизанский отряд, Лайвиньш по-настоящему был рад. Еще бы, своя, даугавпилсская, в этом городе в белорусской школе училась, по образованию юрист, привлекательная, да еще и с жизненным опытом (раскроем тайну — ей было двадцать восемь лет). До войны она работала заместителем прокурора Московского района города Риги. Училась в Латвийском университете. В Москве и здесь, в партизанской зоне, ее инструктировали, учили конспирации, называли адреса, пароли, людей, на которых она могла опереться в Риге. Она внимательно все воспринимала, смотрела на собеседников чуть удивленным взором и впитывала премудрости нового образа жизни с основательностью профессиональной подпольщицы. Четыре месяца провела она в отряде, пока наконец подготовка завершилась, условия созданы и было принято решение о ее засылке в Ригу.
Конец октября — начало ноября уже выдались холодными, надвигалась суровая зима, поэтому было решено пошить Вале теплое пальто так, чтобы все было в соответствии с современной терминологией «по фирме». Лучшие портные отряда потрудились: по фасону, крою, элегантности пальто не уступало рижским моделям и не отдавало какой-либо провинциальностью. Марку — «сделано в Освее» — решили не пришивать, но разыскали этикетку одного из довоенных рижских ателье и пришпандорили ее. Для солидности. Пошив пальто, подбор воротника, советы как шить — все это внесло разнообразие в жизнь молодой красивой женщины. Еще бы — выбор фасона, варианты, примерки, зеркало, зависть подруг, что вот Валька заживет теперь, как до войны!..
Варианты, варианты… Но вариант ходки в Ригу не шел ни в какое сравнение с пальто — он был гнилым, как трухлявая доска, переброшенная через болотистую лужу: обломится — и бах в грязь. Причем в отлично сшитом пальто, с хорошим воротником. Что было первичным, что вторичным при выборе варианта похода в Ригу, понять трудно: то ли напарница для похода, то ли ее маршрут, а скорее всего просто штампованное безумие — по накатанной стезе! В компаньонки Валентине выбрали Антонину Черковскую, девушку расторопную, знающую всех в местной округе, прекрасно ориентирующуюся в обстановке. Подруга Вале была нужна. Именно такая. Для прикрытия от любопытных взоров, мол, едет какая-то чужая, да в городском пальто. Тоня должна была оградить Валю от ненужных вопросов попутчиков, ибо на местную обращают меньше внимания, да мало ли для чего еще — для храбрости, наконец, вдвоем смелее, веселее. Но…
Значит, Тоню выбрали также потому, что у нее две такие славные тетки, патриотки, хозяйки переправочных пунктов, которые сделают все, что надо. С одной стороны, это хорошо — сама Тоня, Адель, Стефания, Мария Ликумс на деле доказали свою преданность делу подполья. Они в сумме — партизанская тропа. Но с другой стороны, по тропе прошествовал меньше месяца тому назад подозрительный на принадлежность к германской агентуре человек, условно Граф, о чем доложено Москве и оттуда получен приказ: проверить организацию от имени которой он представился — «Рижский партизанский центр». Приказ пока не выполнен, он в стадии выполнения. От его результатов зависит, можно ли пользоваться данной тропой или нет. До внесения ясности в вопрос о благонадежности Графа тропа не может быть использована. Опасно! Опасно для жизни тех, кто по ней пойдет. Опасно для ее составных частей: Тони, Адели, Стефании, Марии! Вы согласны с таким ходом мысли? Скомпрометированный путь в тылу врага равнозначен минному полю на передовой. Понятно, что если Граф не «наш», а «их» человек, то Адель, Стефания, Мария уже находятся под наблюдением гестапо, Тейдеманиса, Пуриньша, а появление у них наших разведчиц — это смерть, могущая наступить сразу или с рассрочкой на время платежа жизнями за безумие. Кажется, все эти выводы ясней-ясного, но только не для начальников, утвердивших именно этот путь и оперирующих легковесными выкладками с конечным выводом: да что там, пронесет! И где-то в тумане светлого будущего маячили уже награды. Так или иначе, но молодая, цветущая женщина отправилась на смерть.
Вот это и есть та жестокая жертвенность, когда тебя приносят в жертву, а не ты сам решаешь это сделать во имя жизней твоих товарищей, Родины, как например, герои-панфиловцы, Александр Матросов, капитан Гастелло… Между этими понятиями «тебя приносят в жертву» и «ты идешь на жертву» проходит зловещая граница, разделяющая бездушие, неподготовленность, поверхностность твоих начальников и твое яркое, сознательное, романтичное геройство. Разве позаботились о безопасности Вали при засылке в Ригу, о чем талдычили не один месяц, пока она была в бригаде? Нет, это подтверждает факт отсутствия другого конспиративного пути туда, без привлечения Тони, Долновских и Ликумс, т. е. пути, на котором наследил Граф! О чем это свидетельствует? О равнодушии к человеческой жизни. Вот где рождается неоправданная, запрограммированная жертвенность без вариантов на спасение, кроме случайностей; жертвенность при которой патриот не знает, что он принесен на заклание в качестве жертвы уже самими начальниками, которые почти всегда могут любые неудачи свалить на несчастные случаи и вероломство врага. Вот так…
…Постов наблюдения вокруг мест работы и жительства Адели Тейдеманис и Пуриньш решили не выставлять: негде там приткнуться было, каждый чужой был заметен — все в волостном центре знали всех. Пост около Стрелниеку 7, где жила Стефания, вначале приезжих молодых женщин не зафиксировал: дом большой, народу ходит много, в общем, не увидели. Но во внеурочное время Стефания, а ее знали отлично, вышла из дома и зашла в хлебную и молочную лавки, где взяла кое-что из снеди. Это привлекло внимание. Доложили начальнику отдела Тейдеманису, тот поделился со своим замом, произошла трогательная сцена примирения на почве общей борьбы с противницами рейха, коварно нырнувшими к домработнице по известному адресу.
Через пару дней, больше родная племянница с подругой не могли у нее находиться, Стефания отвела Валю к знакомой — Валентине Лак, до войны проживавшей с братом Вероники Слосман в одной квартире. Затем Валя перебралась к Марии, в квартирку при фотомастерской по Бривибас (в те дни Адольфа Гитлера), 87, а Антонина спешила домой, поскольку свое задание выполнила полностью.
…Собрались у Ланге. Все в хорошем расположении духа. Еще бы, лесная птичка в клетке!
— Будем брать? — с интонацией и манерой Тейдеманиса спросил Пуриньш.
Прошел смешок. Даже Тайдеманис заулыбался — его цитировали. Один Эрис сидел серьезный, он мало знал о возне двух конкурентов.
— Нет-нет, — замахал руками Ланге, — ни в коем разе, равно как и Стефанию.
Пуриньш удовлетворительно кивнул головой: его линия побеждала. Но здесь же Ланге добавил, обращаясь к Тейдеманису:
— Попутчицу, вернется домой, можете брать, но только в деревне. Соберите на нее местные грехи. Раз с партизанами связана, то что-то должно быть. И родителей, конечно. Надо такие гнезда выжигать, как бородавки электротоком, — затем, повернувшись к Пуриньшу: — Я понимаю, что у вас будут трудности при ведении наблюдения за фотомастерской, или фотоателье, как его называет госпожа Мария Ликумс. Оно популярно, в центре города, и людей, заказывающих снимки, туда обращается много.
— Да, место бойкое, контролем визуальным определить кто за фото, а кто для встречи — почти невозможно. Боюсь, там мы будем мало эффективны…
Здесь прорезался голос Эриса: — Господин штурмбанфюрер, дело не так плохо выглядит. Я изучил обстановку на месте детально.
Фотоателье им засвечивать невыгодно, это укрытие, сюда придут самые верные, с шушерой здесь встреч не будет. Поэтому я предлагаю работать пока только за Шубкой, назовем ее так, воротник уж у ее пальто больно красивый. Вношу предложение: при ее выходах из ателье брать ее под наблюдение, а наиболее подозрительных визитеров — фотографировать, затем разберемся.
— Согласен, — сказал Ланге, — только сумерки теперь ранние, многого мы не получим. Да, непросто будет.
— Но долго мы ей находиться там не дадим, не так ли? — сказал Тейдеманис.
Все переглянулись.
— Месяца два мы должны выждать, а то и больше. Не забывайте о радисте. Рация предназначена для руководителя. Но это не она. Надо набраться терпения. Следует выяснить: для чего ее прислали, не будет ли среди ее связей публики, причастной к взрывам. Работы много, господа. И вообще, подождем Панченко с компанией. Они многое должны прояснить.
…Когда Антонина, оставив Валю в надежных руках в Риге, вернулась в свою родную деревню Стрельцово, то по какой-то совершенно необъяснимой случайности в свой родной, родительский дом не пошла, нырнула к соседям. А те и докладывают, что у тебя, Тоня, в доме засада, тебя ждут, отца и мать вчера арестовали и увезли. Больше в деревне в этот вечер никого не тронули.
Кто отдал распоряжение взять Антонину, а ее стариков — в качестве заложников, мы знаем. Кто указал на нее? Граф, Рагозин с Гудловским и Чувиковым? Каким способом: то ли в тайнике бумажку в гильзе оставили, то ли по телефону с Ригой связались. Были, были способы связи. Но так или иначе один пункт из особо конспиративной тропы лопнул, выпал, исчез. Тоня погоревала у соседей, но мало ли что еще приключится, обыски пойдут. Поэтому огородами, огородами — и из деревни прочь. В декабре она очутилась в партизанской бригаде. (Это наводит автора на поправку, что отправились Валя и Тоня в Ригу не в начале ноября, а попозже. Но в изученных материалах везде стоит начало ноября.)
Впоследствии Антонина Черковская с партизанами, вынужденными уйти за линию фронта, прошла курс подготовки и вновь была заброшена на подпольную работу в Латвию.
Но почему-то никого не волновал вопрос, что с Валей-то может быть плохо. Один из пунктов тропы лопнул, Тоня чудом вывернулась из-под удара, ее старики арестованы… Арестованы! А вдруг они заговорят и выдадут все им известное? Мать Тони разве не может называть своих сестер Адель и Стефанию? Расскажет о том, что ей известно о побывке у них Графа и Вали. Что тогда? Надо спешно выводить Валю из западни, куда она угодила. Срочно! Паникуем, если будем рассуждать вот так? Да нет, разумному сомнению всегда должно быть место. Мать не расскажет? Дай бог. Единственное утешение, вернее скидка, что Ланге, Тейдеманис, Пуриньш уже и так все знали. Спасай, не спасай — догонят и с поезда или откуда хочешь стащут. Хорошо, что Валя ничего этого не знала, а ее начальство, в свою очередь, было напрочь лишено эмоций и страстей, даже в замороженном виде.
19 ноября 1943 года наконец-то вернулись в Ригу Рагозин, Гудловский и Чувиков. Рагозин позвонил Пуриньшу с вокзала, тот дальше. Рагозин трубку не вешал, ждал команды, и она прозвучала:
— Час тебе на то, чтобы помыться, побриться. Явишься на работу, тебя встретят. Семен и Чувиков пусть ждут в твоей квартире, но не напиваются. С ними будет говорить Тейдеманис лично. Увидит, Что они «под мухой», измордует на месте. Учти, с тобой будет беседовать начальство, самое высшее. Все чтобы шло по протоколу: на вопросы отвечать четко, в споры не лезть. Семену скажи, чтобы вычистил зубы три раза, Чувикову — переменить носки. Проверь лично. И все чистое, чистое одеть. И чтобы не напились. Иди осмотрительно, проверься. Докладывай без похвальбы, исключительно факты.
— Так точно.
— Исполняй!
Схватив извозчика, троица помчалась исполнять указание. Сначала залетели в баню, быстро вымылись, затем на квартиру к Рагозину, переоделись, но только слегка, так как гардероба на трех здоровых мужиков явно не хватало. Рагозин побрызгался одеколоном. Чувиков заныл:
— Вань, а Вань, надобно принять бы, а?
— Заткнись, харя, после разговоров с начальством нажремся до обалдения. А сейчас ни грамма. Сюда пожалует посланец большого Тео и заберет нас на вопросы — допросы. Видимо, хотят сравнить, что я наговорю, а что вы, по отдельности. Прием старый. Ничего лишнего не болтайте. Не врите. Не делайте из себя героев. Все, я помчался.
У меня пять-шесть минут времени. Встречаемся здесь.
К Пуриньшу пожаловал сам Панцингер. Ланге знакомил его с богатой нумизматической коллекцией, «изъятой» при обыске. Тейдеманис и Пуриньш стояли почтительно вытянувшись, с раскрытыми блокнотами в руках, готовые по первому сигналу начать записывать указания начальства. Эрис ввел Рагозина. Тот был возбужден, красен лицом, еще бы, столько таких чинов сразу! Оберфюрера он вообще видел впервые, но нюхом понял, что это главная шишка, и к нему первому обратился; с фашистским приветствием. Присягу на верность он принял давно и имел полное право выбрасывать правую руку вперед и орать имя злодея, которого в этот момент, возможно, проклинала в нетопленой комнате его мать, жившая в оккупации на Белгородчине.
Панцингер с интересом посмотрел на Рагозина, предложил всем сесть, бросил Эрису, чтобы тот записал беседу.
— Итак, Панченко, сколько дней вы пробыли там и как прошло установление контакта? — спросил Ланге.
— Пробыл на два дня больше двух недель. Они мне и нашим ребятам поверили. Думаю, что крепко поверили.
— Из чего это следует? — продолжил Ланге.
— Они дали задание уточнить, проверить, что за организация «Рижский партизанский центр»…
Полуприкрытые веки Панцингера дрогнули, он бросил взгляд на Ланге и махнул рукой. Ланге понял жест мгновенно, так как вопрос уже не раз обсуждался, и в свою очередь распорядился:
— Тейдеманис, завтра же приступайте, без пропусков кого-либо — весь «центр», как он у нас в списках, взять.
Панцингер тихо спросил Рагозина, Эрис переводил:
— За время пребывания в логове бандитов они кого-либо из пришедших с нашей стороны расстреляли, изолировали, высказали недоверие?
— Как я понял, только по отношению к Графу, — и тут он назвал имя Графа. — У него, наверное, были документы этого «центра». Так я понял с его слов, но в целом все спокойно, его зачислили в разведку.
Панцингер вскинул брови.
— Ах вот как! Итак, Ланге, подготовьте для партизан сообщение примерно такого рода: «В Риге Действительно была группа лиц, объединенная в «Рижский партизанский центр». Это аферисты, которые обирали пленных, беря у них деньги на билеты для проезда в Лудзу и Зилупе. Узнав, что наши люди захотели с ними увидеться, они захватили кассу наличных и сбежали из Риги». Все. «Центр» свою задачу выполнил. С его помощью мы сделали немало удачных ходов: и к «корреспондентам» прошли, и закрепились, но хватит. Опасно. Такое же задание, какое получил Панченко, могли поставить и перед другими личностями. Могли?
— Конечно, — в один голос ответили Ланге и Пуриньш.
— Тейдеманис, одевайтесь и поезжайте готовить операцию, Пуриньш потом переговорит с приятелями Панченко, — приказал оберфюрер.
Тейдеманис ушел.
— Если они выйдут на «центр» помимо нас, то мы будем выглядеть бледно, — продолжил Панцингер, — и с документами в единственном числе у Графа, и с тем, что «центристы» ему их не давали и в глаза не видели. Я полагаю, что Панченко может передать такое сообщение с учетом завтрашней акции где-то недели через две, к началу декабря.
— Что еще тебе поручили? — спросил Ланге.
— Чтобы я, стало быть, старался планировать всякие акции со взрывами так, чтобы анархии в этом деле не было.
— Давай, давай, — засмеялся Ланге, — только не очень активничай, а то самого тебя не дай бог взорвут. Друзья твои — народ дошлый. Еще просветят тебя рентгеном, увидят твои внутренности… будь осторожен.
— Господин штурмбанфюрер, за что вы так? — взмолился Рагозин. — И там пугают — будь осторожен, и вы то же самое.
— Но ведь так и есть. Ты есть кто? Пре-да-тель, — по слогам произнес немец, — поэтому будь осторожен. Что еще тебе поручили?
— Переправить в лес Ольгу с некоторыми из ее людей, возможно, придется помочь какой-то девице, которую они забросят сюда…
— Никаких переправ людей больше в лес, никаких Ольг. «Центр» кончился и переправ не будет, — нарушил наступившую паузу оберфюрер.
Ланге и Пуриньш склонили головы в знак согласия.
— Если вы, Панченко, поможете подвести под удар всех оставшихся в Риге бандитов и террористов, я представлю вас к званию фельдфебеля.
Панченко вскочил, вытянулся.
— Не пожалею сил. Благодарствую, господин оберфюрер.
Забегая вперед, скажу, что это свое обещание Панцингер выполнил: звание фельдфебеля Рагозин получил, но не СС, а вермахта, и для маскировки на фамилию Панченко. Но вот как это всплывет — расскажем позже.
Ланге и Пуриньш задавали Рагозину все новые уточняющие вопросы, а Панцингер думал… Будет ли конец этим террористам, бандитам, партизанам? Когда он ехал на новую работу сюда, в Остланд, у него было представление, что вот ликвидируем местные «Зеленую капеллу» или «Лесной хор», или «Танцы на лужайке» — и все. Дело будет сделано, как в Германии с «Красной капеллой». Но в этих карликовых Латвии, Эстонии, Литве конца всем этим организациям врагов рейха не просматривается. Как бы не работали Панченко и подобные ему, всех оставшихся им под удар не подвести, так что понятие «оставшихся» оказывается величиной постоянной! Черт возьми, выходит, в разных землях математические символы меняют свое значение? Открытие? Он покачал головой. Действительно открытие. Меня назначили сюда с расчетом, что стратегическое положение на фронте улучшится, вермахт пойдет вперед, коммуникации удлинятся, партизаны насядут на них, надо организовать защиту коммуникаций на Москву, Ленинград, надо иметь здесь способного руководителя. Но никуда мы не двинулись и вряд ли уже двинемся, кроме как в обратный путь, следовательно, коммуникации здесь, в Остланде, остаются тоже величиной постоянной. Еще одно открытие? Не много ли постоянных величин, которые не хотят меняться? О чем это говорит? Пора возвращаться в Берлин, господин оберфюрер, чтобы остаться величиной, хм, опять же постоянной.
Он открыл глаза, большую часть перекрестного допроса Панченко он прослушал, и спросил:
— Скажите, что представляют из себя руководители партизан? — рукой он сделал жест по направлению к Эрису. Тот в миг все понял, встал и передал ему лист с записью беседы.
— Видел я не всех. С одними общался больше, как с Громом, начальником разведки бригады, с другими меньше. Говорят, самый дельный у них — это комиссар Ошкалнс, но его в расположении не было, не видел его. Он старый революционер, арестовывался не раз, депутатом сейма был. Командир бригады Лайвиньш дядька добрый, доверчивый, мы ему понравились. В этот «центр», — Рагозин сделал презрительную рожу и махнул рукой, — они прямо-таки вцепились. Уж очень им хотелось, чтобы в Риге была какая-нибудь партизанская война тоже. Больше никого я не знаю. Все они там люди крепкие, настырные. Но, — Рагозин задумался, — вопросы задают робко, не то, что вы. Пришли из плена, значит, свои ребята, назначили всех сразу по взводам. В веру к ним впасть несложно, — подвел он итог.
— Хорошо, — Панцингер встал, отдал запись Эрису, сказал, чтобы Ланге следовал за ним, Пуриньш с остальными справится.
Назавтра, 20 ноября, руководители «Рижского партизанского центра» Сергей Немцов (Немко), Николай Михалькевич и их боевые друзья из числа военнопленных и местных жителей были арестованы. Их пытали, избивали, стремились вырвать показания, что взрыв на Домской площади их рук дело. Но они молчали. Молчали, так как ко взрыву этому не были причастны, а брать на себя чужую славу не хотели. Их расстреляли, сослали в лагеря смерти. В отношении них в партизанскую бригаду через Рагозина передали ту самую фальшивку, и в конце ноября в Москву была отправлена телеграмма следующего содержания: «Как выяснил источник, в Риге существовала группа лиц, называвшая себя «Рижский партизанский центр». Раньше она имела некоторую положительную роль в сплочении антифашистских элементов в Риге и Рижском уезде. Затем свелась к группе аферистов обиравших пленных (взносы, якобы приобретение билетов на проезд по железной дороге в Латгалию и Белоруссию). В связи с этим на связь с этой группой не пойдем. О Вале сообщим дополнительно».
Вот такую телеграмму отстукали, приняли и пришили в дело. Если за первую «партию» принять появление Графа с «верительными грамотами» от «центра», второй считать вхождение в доверие Рагозина и поручение ему проверить, что из себя представляет этот «центр» и третьей — фальшивку в отряд об аферистах, обиравших пленных, то Панцингер разгромил своих противников в трех «партиях». Но если бы это была только игра, без людей, лишь со слонами и пешками! А ведь гибли-то люди! В шахматы одновременно один человек может сыграть партию за белых и черных; нет партнера или проверяет какую-то комбинацию, создает этюд и т. п.
Судьбы авторов, наверное, схожи в чем-то с этим приемом, правда, приходится играть больше, чем за две стороны, так как действуют десятки действующих лиц. Поэтому и хочется задать риторический вопрос: как же можно было посчитать удовлетворительным и рассеивающим сомнения ответ, полученный от Рагозина, без какой-либо видимой попытки с его стороны встретиться с Немко, Михалькевичем и выяснить у них: так за кого же они? Даже здесь должно было возникнуть еще одно, пусть последнее сомнение относительно Рагозина — он ни с кем не встретился, да и не пытался этого сделать, на конкретных лиц он не сослался… Без этого его сообщение не могло рассматриваться как достоверное, а следовательно, входило в число сомнительных…
А как же Граф? Превосходно. Он не аферист. Он пришел по рекомендации «центра» в отряд. Вот и все. Он же не знал, что кто-то там проворачивал аферы. После войны эти документы Графа в числе иных были сданы штабом бригады и спокойно лежали в архиве в Риге, в заведенной на Графа папке, и придавали некоторую романтичность его военным похождениям. При запросах же в архивах московских об участниках «центра» выдавался обычно стереотипный ответ насчет кучки аферистов. Прошли долгие годы, пока комбинация Панцингера — Ланге вылезла на свет и почти открылась вся правда.
…На следующий вечер, 21 ноября, Рагозин, Гудловский, Чувиков веселились на законных основаниях. Как же, победители! Пили у Рагозина. Тосты поднимали за все: за будущее фельдфебельство Рагозина, за успехи в работе, сравнивали точные ходы немецкого начальства со славянской добротой и наивностью людей в лесах. Похохатывали над простаком Сашкой Громом, ставшим их начальником как партизанских разведчиков. Спорили, кто лучше сыграл свою роль и в каком эпизоде.
Чувиков, наименее из них понятливый, жесткий тупой исполнитель, накачавшись шнапсом с пивом, спросил, икая:
— Все вот никак не пойму, зачем Ланге и Пуриньшу этот «центр» понадобился? Ходили, ходили вокруг него, облизывались, в отряде судили — рядили, а вчера за два часа — и нет «центра», одни круги по воде пошли. Утопили мы его, кореша.
— Дурак ты, Ваня, — ответил Семен, — до войны в Одессе анекдот ходил. Старый еврей покупал на рынке 10 яиц за гривенник, варил их тут же, на базаре, на керосинке в кастрюльке, а затем продавал за ту же цену, что и покупал. Его спрашивали, что это у вас за коммерция: прибыли никакой. Он отвечал, что, во-первых, он при деле, а во-вторых, имеет почти куриный навар. Вот и «центр» был делом, при котором Ланге коммерцию прокрутил и заработал в свою пользу.
Чувиков на всякий случай заржал, икнул несколько раз, но так как был полным валенком и ничего не понял, то спросил:
— А при каком деле?
— Ну вот смотри, Ваня, — принялся втолковывать ему Семен, — немцы знали, что в Риге имеется несколько ценных монет, царских, скажем, десятирублевок. Понял?
— Конечно, — икнул Ваня.
— Они решили показать их нашему другу Сашке, мол, возьмет — не возьмет. Понял?
— Чего тут не понять? Все пока ясно, — сказал Ваня и стал подремывать.
Гудловский растолковывал:
— Нам же там, в Освее, поручили проверить: монеты настоящие или фальшивые. Мол, езжайте назад и попробуйте пробу определить. Знаешь, как золотую монету определить?
— Нет, — дернул головой Чувиков.
— На ребро монету поставь: золотая стоит, а обычная падает.
— Ну и что? — икнул Ваня.
— Мы проверили и сказали, что фальшивые монетки-то, не золотые. Упали они все, Ваня, упали в братскую могилу.
— А они? — икнул Ваня.
— Кто они? — не понял Семен.
— Партизаны, — сказал Ваня.
— Ясное дело что — раз монеты не золотые, то пошли они к черту. Немцы их выкинули, но только из жизни. «Центр» в расход пошел. Понял, дурила? — Гудловский закипел от раздражения. Его иносказания до Чувикова не доходили.
— Понял, немцы при деле были, как тот старый еврей, яйца — ребят русских — кокнули, а бульон партизанам слили. Вот так-то, Сема, — всхлипнул пьяными слезами Ваня и здесь же предложил помянуть усопших без чоканья рюмками, молча.
Рагозин аж взвизгнул от ярости:
— Сказочники поганые, хватит околесицу нести, доболтаетесь, умники, — со всеми своими кастрюлями, бульонами, яйцами, монетами присоединитесь к тем усопшим. Вот там с ними и лобызайтесь. А я жить хочу.
— Ну что ты, Иван, фельдфебель ты наш, мы же так, по-свойски. Не обижайся. Давай на мировую, — заголосили оба друга. И троица продолжала топить в вине свои продажнические дела.
В тот же вечер, 21 ноября, к Марии Ликумс пришла подруга и товарищ по подпольной борьбе Эмилия Бриежкалне.
Расцеловались, так как месяц не виделись. Уселись рядышком на диване.
— Как ты съездила? — спросила Мария.
— В деревне у сестры забот полно, как у всех у них в деревне. Весь октябрь проработали, как черти…
— А у нас новости, — перебила Мария деревенские рассказы подруги.
— Какие?
— Пока тебя не было, пришла гостья издалека.
— От партизан? — шепотом спросила Эмилия.
— Да. Остановилась у меня, не знаю что и делать.
— Как что? Помогать ей будем. Мы бы с тобой туда пошли, нас приютили бы? Как здорово! Значит, окрепли там, в лесах, раз своих людей направлять стали.
— Так-то оно так. Но подумай сама, что с ними будет, если найдут ее?
— Плохо будет. А документы у нее есть?
— Конечно, но не в них же дело. У всех у нас есть документы, но загреметь мы можем все, — сказала осторожная Мария.
— Ничего, будем скрывать. У тебя поживет, у меня побудет, нас же много, — Эмилия воодушевилась.
— А девушка она славная, адвокат. Сейчас познакомлю, — Мария вышла и вернулась с Валей. Эмилия бросилась к ней, как к родной. Обняла за хрупкие плечи, заставила снять очки, нагляделась в ее близорукие глаза, расцеловала каждый в отдельности, заставила их увлажниться, расплакалась сама. Сказала:
— Храбрая ты, девочка, адвокат.
— Да не адвокат я, прокурором работала до войны, в Риге. В позапрошлом году университет наш, окончила.
— Так тебя здесь многие знают? — обеспокоенно спросила Мария.
— Не без этого. Но зато и я многих знаю. Однако самой мне отсюда или из другой квартиры выходить часто не следует. Так учили меня. Дела свои через двух-трех верных людей могу я проворачивать.
— Давай так сделаем, — сказала практичная Эмилия, — пусть твои связники приходят сюда первого, десятого, тридцатого числа за снимками — свадебными фотографиями, которые, дескать, к прошлой среде должны были быть готовы. Это все как пароль, понимаешь? Мы подготовим такие в пакетах, их обычно много, сразу не найти. Зовем твоего знакомого в лабораторию, поищем вместе. Находим пакетик…
— Как вы все знаете, Эмилия! — раскраснелась Валя. — Лучше, чем я.
— Мы с Марией, Стефанией, Аугустом, да мало ли с кем, этими делами, почитай, с июля-августа сорок первого занимаемся, уже два года. Так что научились, жизнь заставила.
— Начали мы с пленных, помогали им, выхаживали, выкармливали, скрывали… Да, Эмилия, она нашего дружка там встретила, — и Мария назвала имя Графа. — Даже пальто он назад прислал, вот парень честный. Это пальто моего покойного мужа, оно мне теперь ни к чему, — пояснила она Вале.
— Да, он хороший парень, светлый, приятный такой. Он благодарит вас за все, что вы для него сделали.
— Он скрывался у нас, — скромно заметила Мария.
— Вот видишь, — сказала Эмилия, обращаясь к Марии в успокаивающем духе и одновременно ободряя Валю, — он скрывался, долго ходил к Марии то на ночь, то на две, у меня ночевал и ничего, все обошлось, и до отряда дошел, воюет.
— Вы не боитесь, я постараюсь избегать записок, лучше на ушко шепну. Если только очень надо, то в пакетик с фотографиями.
— Как же ты добралась сюда? — спросила Эмилия.
— Мы с Тоней шли от ее дома, через теток.
— Да, как наш дружок туда был направлен, — задумчиво произнесла Эмилия. Ей вспомнился отчего-то тогдашний, уже ставший далеким эпизод с ключом в почтовом ящике.
— Что ты вечерами-то будешь делать? — спросила она Валю.
— Мне бы почитать. Хочется какие-нибудь стихи, только не о солнышке и теленке, а что-то о городской жизни, нашей доброй Риге, любви…
Мария взглянула на Валю, Эмилию. Глаза ее засветились хитростью.
— Попроси, Валя, Эмилию, она тебе мигом все достанет, даже сейчас, из сумки.
— А что, и вот тебе, читай, заучивай наизусть, — Эмилия извлекла из сумки небольшой томик.
— Александр Чак. Стихи. «Дорогой Эмилии…» Вы его знаете? — воскликнула Валя. — Он мой любимый поэт. Ой как здорово!
— Я тебя еще познакомлю с ним. Он мой большой… друг.
— Да? Ах вот как, — промолвила Валя.
— Мы думаем привлечь Александра к написанию листовок, у него чудный стиль, — весомо произнесла Эмилия, которая разрешала все самые запутанные вопросы быстро и логично.
Наступила пауза. Мария накрывала на стол к ужину.
— Знаете что, — сказала Валя, — не делайте этого, не надо ему писать листовки. Не стоит рисковать. Он же большой поэт. Он певец Риги, ее домов, улиц, людей, башней, колоколен. Он у нас один. Не надо ему писать листовок, Эмилия, поверьте мне. Мало ли что с ним будет? Но если придется, то познакомьте меня с ним.
Глаза Вали смотрели серьезно. Он прижала томик к груди, лицо ее посуровело и сделалось непреклонным. «Да, это мой характер», — подумала Эмилия, а вслух в несвойственной ей, мягкой манере произнесла:
— В нашем тихом омуте чертей прибавилось. Давай будем с тобой на ты. Ладно? — И она привлекла Валю к себе.
В тот же вечер, 21 ноября, Тейдеманис и Пуриньш честили на высоких тонах бригаду сыщиков, выезжавших в Истренскую волость для ареста Тони. Давно уже начальник и заместитель по оперативным делам не выступали единым фронтом против разгильдяйства в собственных рядах. Это их сближало, роднило и создавало фон истинного фронтового братства. Набычившийся Тео лез, как всегда, напролом. Дипломатичный, изворотливый Пуриньш бил незадачливых порученцев исподтишка, заходил с разных сторон и доказывал безмозглость оппонентов, которые и не думали защищаться перед двумя такими величинами.
— Какого дьявола вы залезли в дом самого объекта? — гремел Тео.
— Там, верно, только окончили печь хлеб в честь скорого прихода дочери и запах вился над деревней, они и перепутали дом, — добавлял Пуриньш.
— Кто из вас предложил лезть именно в дом Черковских, — орал Тейдеманис.
— Начальник местной полиции, — наконец выдавил из себя старший группы захвата.
— И вы послушали олуха, который умеет только стрелять кабанов, евреев, цыган и ловить рыбу? — спросил Пуриньш. — Вы днем побывали в деревне, определили наблюдательные пункты, откуда просматривался весь дом?
— А зачем им? Им подавай теплые печи — греть задницы. Эта девица сделала то, что вы не сообразили, канальи, все высмотрела и удрала, — шумел Тейдеманис.
Экзекуция продолжалась. Гестаповцы были очень заинтересованы в поимке Антонины там, в деревне, вдалеке от Риги, и ее изоляции. Они планировали в таком случае получить на Валю изобличающие показания, что она пришла от партизан. Другие люди, соприкасавшиеся в Валей, таких свидетельств дать не могли: кто знает, откуда она пришла. Да мало ли что можно было выбить из жительницы тех мест — связной партизан?
Ланге и Пуриньш лелеяли надежду захватить Тоню и сделать из нее предательницу или с ее помощью то же самое, что и с Валей. В их понимании там, где речь шла о человеческой жизни, можно было приставить острый нож к горлу и сказать: «Иди с нами или прочь из жизни». И победа была бы обеспечена. Тем более над слабыми женщинами. Однако получился промах.
В начале декабря Мария делала пачку свадебных фотографий, которые попросили повторить. Валя в комнате что-то писала. Вдруг Мария влетела в комнату.
— Валя, смотри, смотри! — воскликнула она и бросила мокрый еще снимок на бумаги Вали, отчего та быстро выдернула свои листки. — Смотри, это же наш дружок стоит в последнем ряду крайним справа.
Там действительно стоял Граф собственной персоной. Валя стала с интересом рассматривать снимок, спросив, кто женился и что за форма на некоторых молодых людях. Мария сказала, что насколько она знает, то жениха звать Лешей, невесту — не знает как, а парни в форме служат в какой-то там роте, да-да, в украинской, где и служил до бегства и наш… Она не успела досказать, как Валя перебила ее:
— А это кто? — и указала на узкоплечего, худощавого молодого мужчину в очках с тонкой оправой, с черной шапкой волос и с огромными ушами. Он стоял во втором ряду и, поджав тонкие губы, спокойно взирал в объектив.
Мария глянула туда же, развела руками и сказала:
— Я не знаю кто это.
— Зато я знаю, — прошептала Валя — С ним училась в университете, он учился на архитектора. Из очень богатой семьи. Его фамилия Эрис, он турок. Их семье принадлежало кафе на улице Кришьяна Барона, а живут они… точно на углу той же улицы и Парковой, в большом угловом доме, не исключено, что это их собственный дом. Но ведь он работает в «латышском отделе политической полиции». Как он влез на эту свадьбу? Ой, мамочки, это же страшное дело. Позови, позови Эмилию.
Объяснившись по телефону условной фразой с Эмилией, Мария пошла досушивать снимок.
Пришла Эмилия. Валя ей все объяснила. Добавила, что не раз сидела в турецком кафе Эриса, а потом сокурсники показывали, где живет его семейство.
— Эмилия, — сказала Валя, — надо не просто предупредить всех этих людей на снимке, это, пожалуй, рано еще делать, кроме паники ничего не будет. Надо выяснить, кто его привел туда, как он проник и чем он занимается. Стало быть, он бродил вокруг тех, кто бежал в партизаны в октябре, да? Ой-ой, что делать? Но сообщить надо, что такой тип лезет, вынюхивает… Посылать мне в отряд этот снимок без толку. Время уйдет. Надо найти здесь людей. Кого?
— Я тебя познакомлю с Густавом. У них своя группа. Это сильный парень, он мастером по станкам на текстильной фабрике работает. Комсомолец тридцатых. Дадим ему этот снимок. Я ему все объясню. Пусть поработают, выследят этого турка. Поручу Густаву, а потом, если захочешь, то познакомлю с ним. Идет?
— Да.
В тот же вечер Эмилия увиделась с Густавом. Она пришла к нему домой в тот момент, когда он играл в карты с Семеном Смушкиным, сыном богатого еврейского торговца, который вопреки происхождению еще в конце тридцатых вместе с Густавом принимал участие во всякого рода стычках с полицией. Недавно, выправив себе надежные документы на русского, перестал скрываться по подвалам, чердакам и легализовался. С юмором рассказывал он, как однажды в числе других беглецов из гетто прятался на каком-то складе вермахта под охраной немецких солдат, и когда их хотели арестовать латышские полицейские, то немцы защитили беглых, не пустив полицейских на склад.
Эмилия, увидев чужого человека, не знала как ей поступить. Густав рассеял ее сомнения, сказав, что Семен свой парень, что можно говорить, вдруг она расскажет, где сегодня можно достать списки карателей, проживающих в Риге. Очевидно, эту тему они обсуждали между собой. Густав, пошутив таким образом, думал, как на самом деле добраться до преследователей Семена.
— Скоро и Ольга подойдет, ты же встречала ее? — спросил Густав.
— Видела, по-моему, — осторожничала Эмилия.
— Это наш руководитель, — с некоторой обидой за столь скромный ответ об Ольге, которую он боготворил, сказал Семен.
— Вот, смотри, — решилась Эмилия и вытащила снимок.
— Так это свадьба Елены и Алексея! — воскликнули одновременно Густав и Семен.
— И что из этого? — спросил Густав.
— Кого ты здесь на этой фотографии знаешь, а кого нет? — допытывалась Эмилия.
— Я на самой свадьбе не был, он, — кивок на Семена, — тоже. Так что всех я не знаю. Эти ребята в форме украинского батальона более или менее известны. У Кириллыча надо спросить. Он их всех знает.
— Подожди, подожди спрашивать. Вот это знаешь кто? — и она ткнула в Эриса.
— Я знаю. Точно это он. По кличке Ушастый. Сын владельца кафе «А ля Туркиш». Он же в СД или в гестапо работает, — воскликнул Семен. — Я с ним на футбольном поле встречался. Вот так гость, вот так подарок. Как же так? Вот это нырнул Ушастый в самую гущу наших!
Семен, парень экспансивный, как волчок закрутился.
Эмилия рассказала о соображениях Вали, выдавая их за свои, указав лишь, что Эриса на фото опознала дочь Марии, знавшая студенческую молодежь.
— Кто же привел его на свадьбу и зачем? — спросила Эмилия.
— Эмилия, дорогая, здесь какой-то черный замысел был. У этих ребят в квартире есть шапирограф. Они слушают московское радио и составляют листовки. Не можем же мы всех ребят спрашивать, кто привел этого хлыща. Растрезвоним еще на полгорода. Не пойдет. Ладно, Эмилия, мы все обдумаем толково. Могу тебя уверить в одном — в нашей группе провокаторов нет, о наших делах никто ничего не знает. Такую клятву мы дали и держим. Аминь.
Эмилия ушла в хорошем настроении. Густав надежен, как сейф: все хранит в себе и на фальшивый ключ не поддается.
Густав и Семен остались. Семен стал вычерчивать на большом листе бумаги точки, в которых может бывать Эрис, дорожки, по которым следует шагать тому домой, на работу. Вариантов для слежки за Эрисом было совсем мало: работа его на бульваре Реймерса, наблюдение за которой ничего не даст, кроме опасности самому быть схваченным патрульной службой. Оставался дом. Пришли Ольга с Кириллычем. Густав и Смушкин рассказали о фотографии и сомнениях Эмилии.
Кириллыч предложил:
— Шлепнуть его надо, чтобы не лазил, не вынюхивал.
— Пока не выясним, с кем он из гостей свадебных пришел — нельзя, — отрезала Ольга. — Вот что, Семен, последи за ним. Изучи подходы к его дому и по вечерам пошустри там. Мы хотя бы знаем двадцать человек с этого снимка. Может, кто и нырнет?
Семен ушел.
— Я давно хотела с вами, друзья, поговорить о том, что сама в себе уже носить не могу. Нам надо уходить в Освею. Последняя группа ушла в конце октября. Я просила, молила Рагозина. Он отказал: то билетов нет, то пропусков нет. Вчера я встретила его, накоротке. Он вернулся! Поговорили о том, что надо быть осторожнее, что в последние дни опять многих взяли. Он говорит, что больше группами из Риги не пойдут. Сказал, что обо мне в отряде знают. Я договорилась на завтра с ним увидеться, переговорить. Я сомневаюсь, что из этого что-то получится. Но я предлагаю, чтобы Кириллыч и Миша попробовали уйти с помощью одной моей знакомой из Даугавпилса, к которой пусть Кириллыч предварительно съездит, повидается. Может, до Лудзы он проводит. Отвезет все, что мы здесь насобирали, хотя бы польза будет.
— Все это хорошо, но как твоя знакомая нас встретит, кто мы для нее? С улицы два дяди пришли путь к партизанам искать? — спросил Кириллыч.
— Есть у меня один приятель двухгодичной давности, которого я встретила у этой женщины, — и Ольга поведала о Зарсе и встрече с ним у Антонии.
— Если бы у меня был такой знакомый, — сказал Густав, — то я бы попробовал. Попытка не пытка. Он же ничего плохого за эти два года тебе или нам не сделал, на знакомство с тобой не лез. Вдруг будет полезен? — высказался Густав, не подозревая, что лучше спросил бы о путях в Освею у Эмилии. Но и так бывало! Идею подала Ольга, ее стали развивать и пришли к какому-то выводу.
— У тебя есть его координаты? — спросил Густав.
— Вообще-то есть. Он мне дал свою визитную карточку с указанием номеров телефонов, рабочего и домашнего, и адреса. Но карточку я оставила у дядьки в Дундаге.
— Ну ты молодец! Чтобы легче найти было твоего поклонника…
— Нет, — серьезно, как всегда, ответила Ольга, — чтобы не попасться с нею по дороге. Не забывай, тогда у меня документов никаких не было. И потом подвести человека! Только из тюрьмы с визиткой какого-то человека и справкой об освобождении! Да не вешайте вы головы, я же все запомнила. И вот все записала на бумажке. Это абсолютно точно.
Густав повертел бумажку в руках, покрутил головой и сказал:
— Для начала я пойду и позвоню ему на работу. Договорюсь о встрече. Я, Ольга, с тобой пойду, да и Кириллыч подстрахует.
— Ты думаешь, так надо?
— Только так, — Густав набросил пальто и пошел к ближайшему телефону-автомату. Он отсутствовал минут сорок. Ольга уже и волноваться стала. Наконец Густав вернулся. Запыхавшийся, но веселый.
— Роман, да и только! — сказал он, ввалившись в комнату. — Позвонил на работу. Там говорят, что уехал господин Зарс по делам, будет только в конце следующей недели. А сегодня пятница. Думаю, дома все-таки. Позвонил — молчок, никто трубку не берет. Думаю, если отсиживаться вздумал, то трубку брать не будет. Я к нему домой. Тихо. Тут тетушка спускается по лестнице. Спрашивает меня, кого вы ищите? Зарса, говорю. Последнюю неделю я его не видела, но здесь рядом на улице Робежу живет его мать, госпожа Аустра Ласе. Черт побери! Так я-то с ней знаком! Когда пришла новая власть в сороковом году, она и выступала, и на торжественных собраниях в президиумах сидела. С началом оккупации ее забрали, но где-то через два-три месяца выпустили. Я думаю, она подпольными делами в старой Латвии занималась. Иначе к чему такой почет в сороковом и арест при фашистах? Господи, так я тетушку Аустру с пятнадцати лет знаю! Это вот здесь, в десяти минутах ходьбы. Ольга, если Антония — подруга матери Зарса, то и сходи к ней сама. Зачем нам ждать его? Существо дела не меняется.
— Прямо сейчас? — рассказ Густава о матери Зарса подстегнул Ольгу.
— А что? — подал голос Кириллыч. — Мы тебя проводим и около дома покрутимся.
— Там ты особо не раскрутишься, всё голо, но в отдалении переждем.
И они отправились.
Мать Альфреда встретила Ольгу несколько натянуто. Вот так, без рекомендаций, к ней давно никто не заходил. Ольга рассказала ей все, кроме заброски из Москвы и своей подпольной группе. Рассказала о Смоленске, об Антонии, нечаянной встрече с ее сыном, аресте, тюрьме, восьми месяцах там проведенных, освобождении, сегодняшней жизни. Показала свою записку с координатами сына хозяйки, объяснила судьбу его визитной карточки. Изложила свою просьбу о помощи двум хорошим людям из военнопленных, никаких не изменников Родины, а патриотов, которым надо отсюда уйти в партизаны, передать важные сведения.
— Ты так со мною откровенна, девочка, — и она покачала головой.
— Я знаю, что вас тоже арестовывали.
— Но я не знаю, почему они так быстро выпустили меня. Хотели сделать из меня своего рода ловушку, мол, полетят мотыльки на огонек? Не знаю. Ты первая пришла через два с лишним года после моего ареста и такой ворох всяких разностей на меня вывалила, что голова пошла кругом. Ты отважна и, вроде, не безрассудна, но как ты решилась прийти ко мне и все так высказать?
— Я немного знаю вашу подругу Антонию, кроме добра я от нее ничего не видела. Я немного знакома с вашим сыном — он предложил в трудный час обратиться к нему. Его нет, мы искали. И у меня нет выхода спасти хороших людей! — воскликнула она. — Так лучше я рискну, но попробую спасти их. Они никакие не изменники…
…Аустра немного задумалась. Антония была в Риге в прошлом году, навестила и ее, Аустру. Рассказала о беженке с такой изломанной судьбой, о ее восьмимесячном пребывании в тюрьме, назвала и имя — Ольга. Антония о многом поведала: и о гетто, и о расстрелах, и о судьбе наших красноармейцев, которые брели в плен по пыльным дорогам, не сумев защитить даже себя. «Но странно другое: почему Альфред не обмолвился мне об Ольге? Правда, встреча у него было случайная, скоротечная, координаты свои он ей дал на случай помощи, но о тюрьме он не знал. Откуда он мог знать?»
— Успокойся, Ольга. Антония мне рассказывала о тебе. Кстати, как твоя фамилия, только настоящая, без всех этих превращений в конспиративных целях?
— Моя? Гринберг. Я живу под нею и здесь.
— Гринберг? Твои родители жили в Штатах до революции и мать звали Полиной?
— Да.
— Боже мой, боже мой! Я все время сидела и думала, на кого ты похожа. Да вот фотография твоей матери, — и Аустра достала из тяжелого альбома хорошо известный Ольге снимок. — Теперь для меня все ясно: и кто ты, и как здесь очутилась. Восемь месяцев тюрьмы! — и она горестно покачала головой и заплакала в бессильной ярости.
— Но родителей твоих нет в живых? — в надежде на опровержение спросила Аустра.
— Нет их, уже пять лет, как погибли мама и папа, — и Ольга тоже заплакала…
— Я слышала много хороших слов о них от своей мамы, бабушки Альфреда. Это были революционеры первой когорты партии. Подумать только, таких людей! Сколько я переживала за тех, кто отсюда уходил в Россию так или в порядке обмена заключенными, или попросту бежали, а там люди исчезали… Ладно, перейдем к делу, времени у нас мало. Твоих друзей я лично изменниками не считаю. Это Сталин так распорядился считать…
— Ну что вы, тетя Аустра, разве так можно…
— Мне можно, тебе — не советую, не повторяй мои слова. Во всей Европе известно, что сын Сталина в плену у немцев, и он его тоже, как всех, изменником считает. Это же издевательство над сыновними чувствами к Союзу, да к нему самому! Разве это отец? Отказаться от сыновей Родина разве может? Словоблудие это, дорогая ты моя. Вот что, записку эту ты мне отдай на время. Себе новую напишешь. Как сделать, как сделать, чтобы Антония поняла меня, мою просьбу и ни о ком упоминать не надо было бы? Я на обороте записки напишу так: «А! Вот я нашла записку с координатами, оставленными в твоем доме и переписанными знаешь кем. Выполни просьбу ее друзей. С оказией верни записку мне, я буду знать, что все в порядке». Все понятно?
— Вам и ей, наверное, ясно.
— Антония все вспомнит, и тебя, и Альфреда, она постарается выполнить просьбу, но надо, чтобы кто-то из местных проводил этих ребят до нее. Так безопаснее.
— У нас есть такой, он живет неподалеку отсюда, Густавом его звать.
— Так это Густав по кличке Шкаф. Вот оно что! Когда вы думаете двинуться?
— Через неделю или больше, как управимся.
— Хорошо. Только знаешь что? — Ласе помолчала. — Альфреду ты об этом сейчас, если встретишь, не рассказывай.
Она еще раз замкнулась, ушла в себя. Потом сказала:
— Что же с тобой будет?
— Побуду еще здесь, если подвернется возможность — уйду тоже, но пока на мне и другие люди.
— Ты, как капитан с мостика, должна уйти последней?
— Вроде этого.
— Если у них все пройдет хорошо, то попробуем и с тобой, а?
— Дело не во мне, ребята должны вынести отсюда информацию…
Расцеловавшись на прощание, Ольга ушла. Она шла к маячившим вдалеке фигурам и думала, что получила от этой чужой женщины материнский поцелуй, о котором уже успела забыть.
— Ну что? Судя по времени, чая было выпито много, — сказал, подойдя, Густав.
— Вы знаете, ребята, — ни капельки. Забыла тетя Аустра про чай, а я не напоминала.
— Так ты уже племянницей стала, — отметил Кириллыч.
— Почти. Пошли домой, все расскажу. Но если в двух словах, то ехать вам нужно будет втроем: тебе, Густав, надо проводить Кириллыча и Соломатина до Антонии, а потом…
Разговор с Рагозиным вышел тягостным, состоял из упреков и недоговоренностей.
— Скажи, Иван, ну почему ты перед последним походом никого из нас не предупредил?
— Ольга, лишних мест не было, я имею в виду пропусков и билетов. Как в лодке — сколько мест, столько людей, если перегрузим, то ко дну пойдем. И потом, всем командовал Шабас, не я.
— Брось, не крути, Иван. Шабас — проводник, а группу ты комплектовал. Твои дружки Гудловский и Чувиков пошли небось. А Немко и Выбло нет, Соломатин и Кириллыч — тоже нет. Федор Зенченко тоже, я — тоже. Чего же такое неравенство?
— Пойдете в следующий раз, не все же сразу.
— После последнего погрома? Уже и идти-то некому: Немко, Выбло арестованы.
— Шабас о тебе в отряде очень хорошо говорил, и там решили, чтобы ты в отряд пошла, как исключение. Ты знаешь, что женщины туда не шли.
Сам Рагозин думал, произнося эти слова: «Только тебя не хватало мне туда вести. Тогда крышка. Лучше из отряда не возвращайся! Тейдеманис велел с тебя глаз не спускать».
— Я ничего не скрываю и не таю, нечего перед своими в секреты играть, — в свою очередь наступал Рагозин. — Немцы схватили Немко и других ребят потому, что рыщут, кто взорвал эшелон, кто на трибуне рванул. У тебя же все тайны, ты о своих делах все молчком больше. Так? Меня же предупредили там, в лесу, что осторожнее надо быть со взрывами — дождетесь репрессий.
— Вряд ли все группы тебе, Иван, доложат, кто чем занимается и что делать будут.
Каждый при этом думал о своем: Рагозин старался выведать, не причастна ли к взрывам группа Ольги, ибо допросы захваченных из «центра» ребят ничего не дали; Ольга же думала о том, что ничего не скажет ему о готовящемся уходе в Освею. Интуитивно в ней поднималось чувство глухой вражды к нему за сокрытие сроков ухода последней группы.
…Поздно вечером этого же дня в квартиру Густава постучали. На пороге стоял Семен Смушкин. Он был бледен, возбужден, его лицо было искажено гримасой страха, ужаса, в общем чего-то трагического, происшедшего совсем недавно.
— Я выследил. Это Иван. Рагозин Иван, — повторил он как-то бессвязно. Рухнул на стул и замотал опущенной головой.
— Что ты выяснил? Расскажи толком, — цепенея от страшного предчувствия пересохшими вдруг губами произнесла Ольга.
— Видел, что Эрис встречается с Рагозиным, — он сделал паузу. — Сегодня, сейчас, вечером. Три дня вечерами я встречал Эриса около его дома. У него в доме на парадной лестнице идет ремонт, наверное, обломились ступеньки лестницы, что-то вроде этого там меняли.
Семен охрип и судорожно глотал воздух. Вероника принесла стакан воды. Он отпил воду.
— Я прятался около решетки дома Беньямина напротив, на Парковой. Смотрю, идет Рагозин. Вошел он во двор дома Эриса. Я придвинулся ближе, перебежал Парковую. Смотрю, в подъезде черного хода дома Эриса кто-то стоит курит, огонек сигареты виден. Рассмотреть, кто стоял, я не мог, не кошка. Но человек этот вошел в подъезд, за ним затопал Рагозин. Я за ними. Они прошли три пролета, там лестница винтовая, крутая, но она капитальная, каменная, как в церкви, — возбужденно выстреливал фразы Семен. — Они остановились, и тут Эрис говорит тихо: «Запомни, квартира восемь». Очевидно, Рагозин там первый раз был. Щелкнул замок. Они вошли. Все. Вот так, — и Семен откинулся в бессилии на спинку дивана.
Семен! Храбрый, мальчишески выглядевший Семен вот этим своим наблюдением, которому цены не было (но будем говорить честно, никто до конца не поверил), подписал себе смертный приговор.
Наступила тишина. Первой очнулась Ольга.
— Но ты мог и ошибиться, — сказала она.
— Да, я мог ошибиться, обознаться, — вдруг спокойно сказал Семен. — Но я приближался к ним, шел за ними. Я эту жилистую, как у индюка, шею Рагозина ни с какой другой не перепутаю, так же как и акцент Эриса. У него произношение по-русски твердое, как у всех восточных людей.
— Это невероятно, — сказал Густав. — Да, Эрис проживает в этом доме. Это-то хоть ясно и доказано. Но чтобы Иван? — Густав пожал плечами.
Все замолчали. Вероника подошла и прижалась к Густаву.
— Но надо что-то делать, — сказала она.
— Убить этого гада надо, убить, вот что делать, — вскричал Семен. — Вот что делать! Иначе он добьет нас…
— Тихо, успокойся, — голос Ольги приобрел повелительные нотки. — Но Рагозина на свадебном снимке нет. Нет же? — переспросила она.
В дверь постучали. Пришли Кириллыч, Федор и Михаил Соломатин. Практически собралась вся группа. Ольга пересказала им сведения Семена. Все загудели.
— Не верю, здесь что-то не так, — сказал Федор. — Иван начал сотрудничать с партизанами тогда, когда мы уже сбились в группу. За это время подобный ему мог бы нас продать? Но мы целы. Значит, среди нас всех нет…
— О чем ты говоришь, Федя? — перебил его Михаил. — 20-го забрали столько народа, что мы не знаем сколько. Всех мы никогда не знали. Серега-минер нам тогда помог. Сейчас мы в стороне, Рагозин тоже. На всех нас можно думать?
— К Эрису, если он такой тип, как Густав рассказал, могут ходить разные деятели. Не так ли? Как к Вагнеру тропа не зарастала? Семен же не сумасшедший, не болван, черт возьми, — повысил голос Кириллыч.
— Что-то надо делать, я боюсь, — и Вероника посмотрела на Густава вновь.
— Я поговорю с Эмилией. Может она с кем-нибудь посоветуется. В конце концов она принесла это дурное начало об Эрисе, — сказал Густав.
— Что вы философствуете! — вдруг вскричал Семен. — Неужели не приходит в голову, что Рагозину все легко удается. И билеты, и пропуска. Почему он может жить на двух фамилиях? У кого из вас есть двойные документы…
— У тебя есть, — спокойно сказал Федор.
— Да не могу же я жить под еврейской фамилией, дурила ты! — закричал Семен. — А ему?..
— Это не аргумент, Семен, — мягко сказала Ольга. — У всех у нас жизнь здесь двойная.
— Но он, он путается с Эрисом! Не мы! Если мы не покончим с ним, то… — Семен неистовствовал.
— Хорошо, завтра мы встретимся у Анюты. В этом составе, — чеканила слова Ольга. — Ты, Федор, придешь с Рагозиным, но ни полслова ему не скажешь. Скажешь, что хотим поговорить о самой последней переправе в лес, нам, дескать, надо уходить с его помощью. Ты, Густав, там не нужен. Но утром сходи к Эмилии и посоветуйся с ней. С работы отпросись. Надо, надо, Густав. До обеда скажи мне о результатах. Семен, — обняла она Смушкина, — оставайся спать здесь. Я постелю тебе. Будешь, меня охранять. Хорошо?
Семен вздохнул. Кириллыч с Михаилом вызвали Ольгу в другую комнату.
— Ольга, — сказал Кириллыч, — слежку за Эрисом и Иваном надо продолжать.
— Согласна. Но вам уходить надо, парни вы мои. Какая тут слежка! Бежать надо. Навалятся они на нас. У меня после таинственного ухода той группы с Рагозиным и Гудловским, сегодняшнего разговора с Иваном, этой фотографии, вечернего представления Семена — голова идет кругом. У меня подчас создается какая-то иллюзия, что я где-то зависаю, что нами играют, что мы какие-то, по-латышски говоря, ампелмани, но это немецкое слово, в переводе с немецкого — марионетки, что ли, за ниточки нас кто-то дергает, лишает самостоятельности. «Это годится, это можно, об этом забудьте, так нельзя». Я подросту схожу с ума, ребята. Когда меня арестовали тогда, то я была одна и отвечала за себя. Нет, убегайте скорее. Одной легче. Отобьюсь. Пусть кто-то из вас забежит ко мне на базу с утра. Посоветуемся. Пока, — Ольга встала на цыпочки и поцеловала обоих.
Ушел Федор. Уложили Семена. В доме стало тихо. Семен лежал с открытыми глазами, виденная вечером ситуация опять и опять прокручивалась перед ним, как детский бесконечный ролик фильма про зверюшек. «Я видел, я видел невероятный факт. Я его запомнил и честно им всем пересказал. Другого я добавить не могу. Если я убежден в своей правоте, то каждый миг жизни Ивана несет нам смерть. Мои друзья не видели, того, что видел я. У них выбор: верить мне или нет. Если нет, то все мы пропадем. Но верить они не могут — я их не убедил, мне показалось, я взвинченный, упрямый, нездоров, т. е. полудурок, так можно было понять сейчас последние слова Федора. Но я все видел, своими глазами. Нет, я должен спасти своих друзей». С этими мыслями Семен заснул.
На следующее утро Густав, наказав Веронике сказать на фабрике, что задержится, помчался к Эмилии. Он рассказал ей все, что Семен узнал о встрече Эриса с Рагозиным. Эмилия вышла с ним на улицу, велела сходить на рынок, прогуляться и через час быть у нее. Когда он вернулся, то у Эмилии находилась невысокого роста хрупкая женщина, с широко расставленными глазами, в очках.
— Густав, — представился он.
— Вероника, — ответила незнакомка.
— У меня жена Вероника, — сказал он.
— Значит, это совпадение, — почему-то смутилась она.
— Вероника очень знающий человек, это она узрела на фотографии Эриса и насторожила нас всех, — сказала Эмилия.
— Моя Вероника, жена моя, — пояснил еще раз Густав, — спрашивает, что с нами будет, исходя из виденного Семеном. Выходит, что Рагозин…
— Не может быть, не может быть, — вскричала Валя. — Мне представили его там, в отряде, Густав. Он партизанский разведчик. Он наш разведчик, вы понимаете? То, что Эрис эсэсовец, мне известно точно. Но Иван мог видеться с ним и по заданию. Вы понимаете? И потом Рагозин мой связник. Я, правда, еще не встречала его здесь, но увижу. Так что ваш Семен мог и не ошибиться, но не надо делать скоропалительных выводов.
— Ах вот что, — Густав повеселел. — Хитрая штука жизнь.
— Не спешите с выводами. Доведите мои соображения до Ольги. О ней мне говорило мое начальство. Есть мнение ее в отряд перетянуть. И вообще, я хотела бы с ней встретиться.
— Давайте организую, — сказал Густав.
— Через несколько дней, хорошо? — сказала Валя.
На этом и разошлись.
Густав передал разговор Ольге. Та, заботясь о безопасности заброшенной, как некогда она сама, Вали, посвятила в толкование идеи, по которой Рагозин мог встретиться с Эрисом, своих друзей. Все чуть успокоились, и назначенная встреча у Анюты началась мирно. Отсутствовали Соломатин и Густав. Рагозин в пределах допустимого рассказал о: пребывании у партизан. Вновь начали обсуждать вопрос об уходе в отряд.
— Поймите, ребята, дом родителей Шабаса уже засвечен, через этот пункт идти нельзя. Надо искать что-то новое, — убеждал Рагозин.
Внезапно поднялся Семен Смушкин. Бледный, сосредоточенный, заикаясь от волнения, он прервал Рагозина.
— Слушай, падло, ты с каких пор ссучился и работаешь на немцев? Что ты нам сказки рассказываешь и за нос нас водишь? Отвечай, гад! Говори всю правду!
Рагозин вдруг сложился, как для броска, сунул руку в карман, успел произнести:
— Да вы что, братцы, ты что плетешь, Семен?
Произошло какое-то инстинктивное движение в сторону Семена, очевидно, чтобы заслонить собой напраслину, которую тот только что изрыгнул из себя в направлении готового к прыжку Ивана. Раздался выстрел. Стрелял Семен. Рагозин схватился за плечо. На пиджаке проступила кровь. Семен нажал на спусковой крючок еще раз, еще… Маленький испанский пистолетик марки «Лама», над которым все ребята потешались, говоря, что его в свое время выронил из камзола Дон-Кихот, а Семен подобрал, замолчал, что-то в нем заело. Семен метнулся к двери, Федор успел лишь ударить его сзади по спине ногой, и тот скатился по лестнице. Оставшиеся бросились к Ивану. Он держал правую руку у плеча и только повторял:
— Надо же, надо же, на своего же товарища налететь и всадить пулю. Врагов кругом не хватает, в кого стрелять.
Кириллыч осторожно снял пиджак. Под мышкой левой руки в добротной полукобуре у Рагозина находился мощный пистолет «Вальтер». Разрезав Рубашку, Кириллыч, а вслед за ним и другие увидели, что рана неопасна, пуля прошла, не задев кость, навылет. Кириллыч с помощью Ольги осторожно обработал рану, перевязал плечо, и Рагозина скрыли у надежного человека на островке Звиргзду на Даугаве. Пришедшему навестить Гудловскому он рассказал о случившемся, тот доложил по начальству. Тейдеманис сообщил Ланге. Решили, что пусть все идет своим ходом: Иван здоров как бык, поправится, но дней десять может пофилонить в кровати, тем более, что друзья по подполью его навестят, новости расскажут, а случай с ним и его спокойствие послужат общему делу. Не трубить же тревогу в поисках Смушкина и раскрывать этим дружбу с Рагозиным!
…На Рождество Альфред Зарс, как обычно, навестил свою мать. Когда он шел по переулку к дому матери, навстречу ему попался здоровый мужчина, живший где-то неподалеку, не раз виденный, но не знакомый. Шел снег, и он узнал его больше по: очертаниям фигуры. Виделись они с матерью не часто, но в этот день он почитал своим сыновним долгом встретиться с нею, преподнести небольшую коробочку со сладостями, попить кофе, поболтать о разных разностях.
Мать встретила его приветливо. Она была в хорошем настроении, одела одно из немногих избежавших продажи симпатичных платьев, которые сама шила, но в основном чужим людям. На что и существовала. Помощь от сына была мизерной.
Пока мать пошла на кухню готовить сравнительно хороший кофе, принесенный сыном, Альфред занялся массивным фамильным бронзовым канделябром на пять свечей, водруженным на верхней полке серванта. Когда он снял его оттуда, чтобы поставить на стол, вложить и зажечь принесенные с собой свечи, то с серванта спорхнула и упала на стол какая-то бумажка. Скосив глаза, ибо руки были заняты, Альфред увидел написанные чьей-то рукой его координаты: номера служебного и домашнего телефонов, домашний адрес, название фирмы и свою фамилию. «Что за черт, — мелькнула мысль, — кто-то переписал с визитки? Но не матери же это надо! У нее и так все в голове». Он хмыкнул, одной рукой стал зажигать свечи, почти не глядя на них, обжигая при этом пальцы и чертыхаясь, другой перевернул записку и пробежал глазами текст, написанный рукой матери, составленный ею тогда, с Ольгой. А! Антония? Не так уж много у матери друзей… в твоем доме… Ну да, я там все написал. Помочь? Кому, Ольге? Ее друзьям? Я же тоже друг. Конечно. И приписка уже с оказией, оттуда? От Антонии? «Отправила в Пасиене, к Адели». Все это сразу отложилось у него в памяти, но до сознания еще не доходило. Так он и стоял, тупо уставившись на записку с обгоревшей спичкой в руках и тремя зажженными свечами, когда в комнату вошла мать и сразу все ухватила одним взглядом.
«Проклятие, Густав только что вышел от меня и тут же раздался звонок в дверь. Я автоматически схватила записку со стола и сунула его под этот массивный подсвечник, который как будто мог спасти в сохранности тоненький листок с тайной, — подумала она. — Стара стала, растерялась. Не вспомнила, что обязанность Альфреда поджигать этого монстра. Господи!»
— Во что ты уставился с таким вниманием, что и свечи не горят?
— Уставился от удивления, это же мои телефоны и адрес, но записанные чужой рукой. Кому они понадобились?
— Если ты их кому-то предложил, то они тому же лицу и понадобились. Что здесь странного? — забрала она записку, сложила ее и спрятала в нагрудный карман платья.
— Если я правильно понял, то ты писала Антонии, в Даугавпилс?
— Тебя это так занимает?
— Прости, мать. Но свои координаты я давал не кой беженке в доме Антонии. Два, три года тому назад? Не помню.
— Будем пить кофе, зажги свечи.
— Да-да.
Мать распаковала коробочку, поохала насчет сладостей, и они сели пить кофе. После паузы собачья привычка «взять след» возобладала почти бессознательно.
— Не помню, как звали эту беженку, но она искала меня?
— Нет, ее друзья тебя спрашивали. Она им и переписала твои координаты.
— И надо было помочь? Я не прочитал записку до конца, — на уровне шестилетнего соврал он.
— Мать приняла эту ложь.
— Это было давно, месяца два назад. Антония послала двух ее подружек к одной знахарке, одна из девиц страдала бесплодием, — самозабвенно лгала мать, стараясь отвести удар от неизвестных ей даже по имени и виду Кириллыча и Соломатина.
Но Альферад след взял. Он прекрасно знал, как мать спасала людей Коминтерна. Выучка выдавать была заложена в нем с молодости. То, что мать плела насчет бесплодия, было враньем. Знахарок и в Риге, и в окрестностях полно. Необязательно ради них мчаться ближе к партизанам. Эти игры ему знакомы были преотлично. Опыт, практика, точность на его стороне. Он не спешил, не хотел подозрений со стороны матери. Полчаса здесь ничего не решали. «Мужик, встреченный мужик. Если он принес записку, значит, все дело происходило вчера, сегодня; или состоится на днях. Если раньше, то так и так опоздали, но эту чертову куклу Ольгу надо брать».
Закончив спокойно кофепитие, Зарс ринулся к Пуриньшу.
— Ты уверен, что знакомые Ольги двинулись к Адели в Пасиенскую волость? — спросил тот с кислым видом Зарса на кухне, куда вышел от гостей, певших что-то веселое в рождественский вечер. — вообще, какого черта все события происходят у тебя вечерами, тем более праздничными?
— Не у меня происходят, у них случаются, а я только докладываю вам, ваша светлость, а вы изволите быть недовольными.
— Заткнись, Альфред, — дружески хлопнул его по плечу Пуриньш. — Ладно, едем в отдел. Магда! — позвал он жену. — Надо отлучиться на часок.
— Александр, это нехорошо, — грудным голосом произнесла Магда, — а гости?
— Развлекай, — и вместе с Зарсом они бросились к остановившимися неподалеку саням извозчика.
Переговорив с Тейдеманисом, у которого тоже были гости, Пуриньш пришел к однозначному выводу перекрыть дорожные подъезды к Пасиене, устроить засады в больнице, где работала Адель, и около деревни, где она жила. Дали соответствующие телефонограммы. Немедленно связались с Даугавпилсом, отдали приказ о задержании и допросе через три дня по особому сигналу Антонии.
Заре по приказу Пуриньша в тот же вечер выехал в Даугавпилс для встречи с Антонией, у которой следовало выведать, кто у нее был, с какой целью, куда двинулись визитеры.
Утром двадцать шестого, выйдя из местного поезда Резенек-Зилупе, Кириллыч и Соломатин бодро зашагали по направлению к волостному центру Пасиене, ожидая, что вот-вот кто-нибудь подхватит их на машину или повозку. Услышав, а затем и увидев нагоняющую их машину, они слегка отступили за деревья на дороге в ожидании небольшого грузовика. К своему ужасу они рассмотрели, что машина набита полицейскими. Те их тоже увидели и поняли, что это люди, на розыск и задержание которых они были направлены. Полицейские скатились с машины и стали охватывать незнакомцев с флангов.
Предложили им сдаться. В ответ раздались одиночные пистолетные выстрелы. Двух полицейских Соломатин все же уложил. Кириллыч стрелял плохо. Единственное, что он сделал полезного в эти скоротечные минуты боя, так это вытащил из наплечного мешка банку и забросил ее в дупло дерева. В банке были сведения, собранные в свое время Дьяконовым о тех, кто снюхался с фирмой Вагнера, поступил в РОА, бежал из лагеря и погиб в нем, приняв мученическую смерть. Кириллыча и Соломатина в этой последней графе списка не было… Не дошли до партизанской бригады и также и те сведения, которые так тщательно собирала группа Ольги…
Еще днем позже, окончательно поправившись, Рагозин разделался с Семеном Смушкиным. Видя, как подпольщики ухаживают за ним, Рагозин понял, что кроме голословного обвинения у Семена за душой ничего не было. Посоветовавшись с начальством, он получил приказ покончить со Смушкиным, а то мало ли что у того может появиться завтра. Он задушил Семена прямо на конспиративной квартире подпольщиков по улице Стабу 102. Рагозин использовал аналогичную версию: с гестапо связан Смушкин, который хотел, убив Рагозина, нарушить связи подпольщиков с партизанами. Гудловский и Чувиков это подтвердили.
Вот так печально для подпольщиков закончился 1943 год, и еще более ужасающе начался 1944 год, оказавшийся последним в их жизни…
Имант
Имант Судмалис — личность легендарная. Вплоть до последнего времени нашим детям и внукам о нем рассказывали начиная со второго или третьего класса, и на примере его жизни они узнавали, из кого же вырастают герои. И это прекрасно.
Сразу оговорюсь. Сейчас некоторые люди, считающие себя экспертами по истории Латвии периода войны, стараются опровергнуть правильность избранного Судмалисом пути и методы его деятельности, в частности организацию им взрыва на Домской площади. Этот взрыв маломощной мины оказался настолько сильным, что это от него, видимо, забило уши наших провинциальных критиков вплоть до сегодняшнего дня. К великому сожалению, они поэтому толком не слышали о движении Сопротивления в Европе. А жаль! Так или иначе, но история складывается из фактов. И они вот здесь. Вам же их оценивать. Да… но… — скажут наши провинциалы…
Было бы гораздо справедливее, если бы звание Героя Советского Союза он получил не посмертно, в 1957 году, если бы он остался живым с этим званием, а не превратился в легенду в возрасте двадцати восьми лет. Тем не менее звание Героя он заслужил своими прижизненными делами, а мученическая смерть лишь высветила его мужество. Нельзя было не войти в бесконечную шеренгу героев Великой Отечественной войны такому искусному организатору подпольной работы, как Имант Судмалис, но, честное слово, он не заслужил такого дилетантского, поверхностного, недобросовестного отношения к своей последней засылке в Ригу, превратившейся в прямое восхождение на эшафот.
Очевидно, не дело разбирать сейчас в документальной, но все же повести действия каждого из Должностных лиц, причастных к командировке Судмалиса в Ригу, оказавшейся трагически последней: и полной документальной основы не сохранилось, и многих авторов этой операции уже нет в живых. Однако нельзя ограничиться скороговоркой и не раскрыть грустные страницы партизанской борьбы. Как ни прискорбно, но лихо задуманная и проведенная Панцингером операция по выводу из партизанской зоны именно Иманта Судмалиса, за которым многоликая свора гестаповцев охотилась около полугода, завершилась его поимкой в Риге.
Нельзя не привести, хотя бы в конспективном виде, основных вех боевого пути Судмалиса. Революционная подпольная борьба в буржуазной Латвии, два ареста и тюремные заключения — с 1933 по 1936 год и с января по июнь 1940 года. Участие в обороне Лиепаи, с 25 июля 1941 года подполье в Риге и создание группы единомышленников, поездка в Лиепаю с целью формирования подполья там, что оказалось невозможным. С мая 1942 года борьба в составе белорусского партизанского отряда Захарова в Освее. В июле 1942 года вызов в Москву. С ноября того же года в латышском партизанском спецотряде Самсона. В июле 1943 года направлен в Ригу для объединения антифашистских подпольных организаций. В течение полугода он создал разветвленную сеть подпольных организаций и групп, проведших дерзкие акции по распространению антифашистской литературы, взрывам вражеских объектов, диверсиям на транспорте.
…Итак, после взрыва на Домской площади 13 ноября 1943 года, организованного Имантом Судмалисом с помощью соратников Джемса Банковича и Малдйса Скрейи, ему пришлось из Риги уйти. Вначале Судмалис побывал на севере Латвии у Фрициса Берга, уполномоченного ЦК КП(б) Латвии, в действовавших там партизанских отрядах. В Освею он прибыл только в конце декабря сорок третьего.
К тому времени печальные события, описанные в предыдущей главе, почти заканчивались: оставалось лишь ликвидировать группу Ольги, участники которой были арестованы 6 января 1944 года.
…7 января Панцингер пригласил к себе Ланге.
— Поздравляю вас, шрумбанфюрер, с успешной операцией, будем считать первой в начавшемся году.
— Благодарю, господин оберфюрер. Следующей вы считаете захват Судмалиса?
— Да, это опасный террорист.
— Но еще есть некто в фотоателье, — заметил Ланге.
— Нет-нет, это входит в операцию под названием «Судмалис». Нашу прелестную незнакомку мы можем взять хоть сейчас или завтра. Но пока она нужна как приманка для главного героя. Представьте себе пустую сцену. Ее тоже надо уметь сделать пустой. И мы сделали ее таковой. «Центр» сыграл данные ему роли, удалился, неугомонная Ольга со своими друзьями тоже сошла на нет. Представляю, как возрадовался, наконец, наш любимый Тео, который всегда видел в ней Жанну д'Арк, и как переживает другой ваш фаворит, наш верный Александр, блицкриг которого в отношении Ольги, скажем мягко, не увенчался успехом.
— У вас отличное настроение, господин оберфюрер, однако не один Пуриньш надеялся на блицриг в сорок первом.
— Браво, Ланге, браво. Остроумно, хотя и прискорбно. Не все удалось, как виделось. Однако сцена пустой быть не должна. В ее наименее освещенных углах наши люди готовы сыграть свои второстепенные и третьестепенные роли. Но свет зажжется, когда появится главный герой. Сцена не может быть без главного героя. Это закон театра и нашего милого гестапо. Не так ли? — Панцингер сделал паузу.
— Вы просили меня доложить, что собрано по Судмалису. Тейдеманис восстановил остатки его досье по политуправлению. Это старый их пациент. Впервые арестован несовершеннолетним в 1933 году, в тюрьме вел себя препохабно: организовывал песнопения, подбивал других на выступления в дни их красных дат. Только и делал, что сидел в карцере. Вышел из тюрьмы в тридцать шестом. Вновь в тюрьме с зимы сорокового…
— Значит, опытный конспиратор. Продержался почти четыре года. Да. Занятно. Продолжайте.
— В июне сорокового стал главным платным функционером, по их терминологии, первым секретарем комсомола в Либаве. Больше пока мы ничего о нем не знали. Да, у него прескверное зрение. Всегда в очках, без них ничего не видит.
— Меньше надо было в карцерах сидеть. Думал бы о здоровье и зрение сохранил, — по-отечески проворчал оберфюрер, уверенный, что днями получит его, с очками или без них — неважно, голову. — И это все? А где он был вплоть до последнего времени, до своего объявления у «корреспондентов» теперь?
— Трудно сказать. Следы его попадались в родной ему Либаве, в Иецавской волости, это примерно в тридцати километрах от Риги по дороге в Бауску, уездный центр, — подробно объяснил Ланге.
— Великий конспиратор, — и Панцингер поднял большой палец вверх. — Он не с Луны свалился. Он все время был где-то рядом с нами, но рядом с ним никого из наших не оказалось. Вот в чем фокус. Это не простой человек. Если бы рядом с ним был кто-то, хотевший выиграть приз по беспроигрышной лотерее в 30 тысяч марок, то мы не ломали бы головы сейчас. Следовательно, вокруг него публика избранная. Или страшно богатая, не нуждающаяся в деньгах, — шутил Панцингер. — Теперь ваши люди этих денег не получат, равно как и мы с вами не разбогатеем. Это наша работа; А жаль, Ланге? Как вы полагаете?
— Безусловно, — в тон ему ответил Ланге. — Но мы сэкономим эти деньги, взвалив розыск на свои плечи. Так вы можете доложить в Берлин.
— Доктор Ланге, вы бесподобны сегодня.
Гестаповцы одаривали себя взаимными комплиментами, словно в такт пыткам, которым подвергали в это время Ольгу и ее друзей.
— Да, господин оберфюрер, имеется еще одна, мелочь, но мелочь характерная. Наши сыщики из отдела Тейдеманиса раскопали, что Судмалис до войны был рабочим при строительстве здания министерства финансов на улице рядом, буквально в двух шагах от Домской площади. Он числился в списках фирмы «Нейбург». Нашли групповые снимки рабочих фирмы, но его на них нет. Конспиратор.
— Да, теперь все интересно, что относится к нему. В общем, это закон места преступления — делать там, где хорошо известны подходы.
Тейдеманис и Пуриньш сказали то же самое.
— Естественно! У всех нас, офицеров полиции разных стран, одни технические приемы розыска. Выучка сыщика — она как иностранный язык: дело знаешь, все поймешь без переводчика. Так? — сказал оберфюрер. — Кстати, как там Граф?
— После того, известного нам сообщения, замолчал.
— Замолчал… — повторил оберфюрер. — Вот что! Поручите Пуриньшу встретиться с Панченко. Пусть тот посетит фотоателье и отправит сообщение о засвеченности этой их тропинки, как мы договорились в прошлый раз. Заботливость Панченко о «корреспондентских» каналах связи сделает ему честь. И если они после этого прирежут Графа — черт с ним, он не нужен больше. Пусть продолжает молчать с гарантией — в свежей могиле. Судмалис же остережется: сразу напрямую на сообщницу в фотоателье не выйдет. И последнее. Если кто-то прорвется в партизанский край по этой дорожке, как пытались те двое из группы Ольги, то их там не встретят с объятиями. К стенке еще поставят.
В январе Валя послала в отряд сообщение следующего содержания: «Проверьте людей, поступивших в партизанские ряды в последнее время по связи Адели Долновской. Имеются сведения, что среди них есть провокаторы». Через три дня эта информация достигла отряда. На сообщении сохранилась заверительная подпись: «В Центр передано. Балод. 26.1.44 г.»
Естественно, получив такую депешу, в отряде огорчились. И так этих цепочек было до обидного мало, а здесь еще и рвались последние. Все было хрупко и ненадежно. Цепочка, ее звали по имени Адели, объективно совсем пришла в негодность: засада в доме Тони и арест ее стариков, загаженность пути Графом, от «мытья» которого в боях путь чище не стал. Теперь сообщение, что по цепочке прошли проходимцы. Казалось, необходимо было сделать все, чтобы обезопасить Валю, скрывавшуюся у рижского конца цепочки или начала, смотря откуда вести отсчет. Конечно, додуматься до хитроумной посылки Панцингера (что Судмалис должен был иметь в виду Валю в качестве опорно-ключевой своей помощницы и что должно было быть одним из подспудных мотивов его стремления вернуться в Ригу, только поэтому Валю пока не трогали и оставляли в покое) — о таком замысле немцев в отряде при всем желании сообразить не могли. Слишком коварно. Там думали, раз Валя функционирует, то все в порядке. Более того, это вояж Иманта форсировали как в отряде, так и, надо полагать, в штабе партизанского движения в Москве, хотя риск толкал прямо в капкан. Почему пальцем ноги не пошевелили, чтобы увести Валю от Марии Ликумс, муж которой был расстрелян за антигитлеровскую деятельность еще в 1941 году и, следовательно, вдова не могла не находиться под колпаком, — сказать трудно. Очевидно, от поверхностности при изучении той «сетки» деловых знакомств, найденных в Риге, которые должны были сыграть для Иманта только полезную роль, безо всяких отступлений от этого критерия. Тень сомнений руководителей Вали и Иманта не терзала…
Сравним, когда Судмалис, создавая свои группы, искал нужных информаторов, помощников, то в первый период пребывания в Риге провалов не было, следовательно, дилетантство при подборе людей у него отсутствовало. На войне ничего нельзя исключить. Мы не говорим сейчас еще о подлинной роли Графа, Рагозина и Гудловского, о чем в отряде не знали, но подозревать их обязаны были. Что значит подозревать? Вести их активную проверку по всем параметрам. Ну почему, скажите на милость, когда в отряд притопали эти три богатыря: Рагозин, Гудловский и Чувиков, выговорились и дружно согласились идти назад туда, откуда бежали и куда больше никто добровольно не захотел идти, даже Граф, никто не предложил: давайте двух отпустим, а третьего, скажем Чувикова, оставим у себя заложником и не спеша поработаем с ним? Нереальное предложение? Почему в бумагах Графа, которые гроша ломаного не стоили, не сделали даже попытки разобраться, равно как и в его чудо-превращениях: от беглеца из лагерей и тюрем, через карцеры и прямо в унтеры? Скажем опять — война. Да, на войне легче пять честных людей угробить, чем одного подонка разоблачить. Цена своих проверенных людей, таких как Валя и Имант (Ольгу в отряде толком не знали), должна была быть высокой, а она оказалась ничтожно малой. Даже немцы, как это ни цинично звучит, выше оценивали наших патриотов, предлагая свои десятки тысяч марок за их поимку!
…Отпустив Ланге, Панцингер стал еще раз обдумывать складывающуюся ситуацию. У него не было сомнений, что еще в этом месяце удастся ликвидировать группу, организовавшую взрыв на Домской площади. Партизаны из Освеи точно убрались к своим за линию фронта. Он, Панцингер, их все-таки выжил. Та их немногочисленная группа, что осталась, большой опасности не представляет.
Надо было подумать и о собственном возвращении в Берлин. Он размечтался на какой пост сможет претендовать. По его предположениям выходило, что занятие им должности начальника одного из управлений РСХА вполне реальная вещь. Но какого? Мюллера из четвертого управления никто не выпихнет, слишком много ему всего известно обо всем и всех в руководящих кругах рейха. Шелленберга? Его шестое управление вне конкуренции. Третье управление — СД? Но им командует сам Кальтебруннер. Остается пятое — криминальная полиция. Тоже неплохо. Намеки из Берлина уже были…
Выйдя от Панцингера, Ланге вернулся в свой кабинет. Следовало практически отрабатывать вывод Судмалиса сюда, в Ригу. Рассуждения оберфюрера о театре и сцене, конечно, красочны, но из них смирительной рубашки для этого террориста не сошьешь. Да, в уме и воображении оберфюреру не откажешь… Наши люди по углам затемненной сцены… И в Освею через Гаецкого была направлена шифротелеграмма о том, что для Андерсона (так шифровался Имант в телеграфном обмене между Ланге и Гаецким с отрядом) подобрана надежная явочная квартира на улице Руенас, у сестер Гейдан. Этим был заполнен один темный угол рижской сцены борьбы, на которую должен был выйти Имант.
Через несколько дней в отряд тем же путем ушла еще одна депеша, что для Андерсона приготовлена квартира на улице Слокас, у некоего Зенона. Этим еще одна бомба замедленного действия была заложена в другой темный угол. Постепенно на площадке, готовящейся для Иманта, скрупулезно выкладывалось лассо, или попросту удавка, чьи свободные концы находились в руках Ланге, Тейдеманиса и Пуриньша. Рывок, и петля на шее Иманта затянется. А что наши «слоны»? Да ничего. Они играли в плохой детектив. Глотали отправленные телеграммы, как слоны глотают бананы с деревьев — свое лакомство. Сестры, Зенон, явочные квартиры, шифротелеграммы об Андресоне, полученные от Гаецкого. Таинственно звучит, а?
Для чего вообще потребовалась вся эта возня? У Иманта были в Риге и в республике надежные помощники, те же Банкович, Скрейя, Туснелда Балоде-Розентретере, Арвид Балодис, Валия Балоде, Алма Микелсоне — десяток человек, проверенных, храбрых, предприимчивых и не подводивших своего лидера. Они и должны были стать его опорой. Кого-то из них можно было вывести в лес, проинструктировать, определить и на кого опереться в Риге. Опора только на своих, только на проверенных! Это закон подполья. Очевидно, «слоны» из штаба партизанского движения в Москве об этом законе забыли начисто. Балод и Гром, руководившие из Освеи всей операцией, попросту не имели опыта в этих делах, но их никто и не контролировал. Бригада 24–25 декабря перебазировалась к своим, за линию фронта. Парадокс заключался в том, что революционером-профессионалом, подпольщиком с десятилетним стажем Судмалисом руководил Балод, до войны работавший директором райпромкомбината в Московской области!
Где-то 20 января Эмилия прибежала к Марии.
— Мария, Валя, — крикнула она, — беда, беда пришла! Я встретила мать Густава. Все наши друзья арестованы: и бедная Ольга, и Густав с женой, и Федор, и Леша Мартыненко с Еленой! Все, все! А Елена ждет ребенка! Всех, кто на этой свадебной фотографии, всех забрали. Вот какое несчастье принес в их дом этот ушастый гестаповец, как его там! Кто его привел в дом Елены и Анны? Что за сволочь? И родителей Елены арестовали. За что?
— Что будет с нами? — тихо спросила Мария.
— То же самое, — ответила Валя и закусила чтобы не разреветься.
— Валя, тебе надо уходить, бежать в лес. Немедленно! — командовала Эмилия.
— Куда мне идти? — тихо ответила Валя. — На мне замкнуты люди. Я их опора. Тот же Иван Рагозин! Он через меня посылает свои сообщения. Как же я подведу людей? Будет команда — уйду. Вчера шла по улице, встретила двух бывших студентов с юридического. Остановились, потрепались, не знала как и улизнуть. Еле убежала. Дела, говорю, свидание ждет.
Об этой уловке распорядился Пуриньш: пусть думает, что ее опознали на улице эти два студента. Ни грамма подозрений на Рагозина! Так Валя и стала думать…
— Что делать? — тихо повторила Мария. — Будем ждать своей судьбы. Куда я от своего дома побегу? Мне бежать некуда.
— Почему Ольгу не мог Шабас в отряд переправить? — высказала вслух давно мучившую ее мысль Эмилия. — Он был так дружен с семьей Густава, мог и позаботиться.
— Знаешь, как в отряде, туда только мужиков переправляли. Об Ольге им только недавно стало известно, они хотели ее взять к себе, да не успели.
— У меня из головы этот турок не выходит, — вымолвила Мария, — поди накрыли их со всеми листовками, что они делали. Мне как-то читать давали последние новости из Москвы. И Елена ребеночка ждет. Господи, что с нею будет?..
Долго так сидели три женщины и перебирали судьбы тех, тюремные ворота за которыми уже захлопнулись. Они знали, что такое же будущее ожидает их самих, но не были в состоянии изменить его. Так складывалась их жизнь.
В середине января Пуриньш по указанию Ланге вызвал на встречу Рагозина, и между ними состоялся разговор, от которого многое теперь зависело.
— Вот что, Иван! После всех чисток, что мы провели за прошедшее время, ты у нас выдвинулся в так называемом подполье в фигуру номер один, почти руководителя. Так? — решил подмазать Рагозина лестью Пуриньш.
— Вы хотите сказать, что на безрыбье и рак рыба? Рак с перебитой клешней, — и он с трудом плечом двинул, которое, нет-нет, да и побаливало.
— Допустим и так. Вопрос вот какой. Мы бросили в отряд несколько наживок, но настоящая рыба, ты знаешь о ком я говорю, их то ли не взяла, то ли не распробовала, к крючкам не приближается, — продолжал свою мысль Пуриньш.
Рагозин молчал. О всех шагах гестапо, предпринятых для вывода Иманта в Ригу, он попросту не знал.
— Мы думаем тебя послать в отряд. Придешь, доложишь, что не знаешь, что и делать. Много народу арестовано, эти аферисты «центра» разбежались в разные стороны. До них, черт их побрал, должно дойти, что для продолжения борьбы, — он подмигнул Рагозину, — в кругах латышской публики нужен настоящий организатор. Ты же фигура временная.
Рагозин заволновался, он трусил.
— Да вы что, господин начальник? Мне идти в отряд? Это никак невозможно. Мы же не знаем, что им известно об истории со Смушкиным. Что этот еврей знал обо мне? Если он знал больше встречи с Ирисом, и это просочилось в отряд, что тогда? Может быть, из-за этой истории и Имант побаивается и не идет? Как они рассудят, правильно ли я сделал, что придушил его? Плечо же болит. О том, что он стрелял, где я получил рану — тоже надо рассказать. Все об этом знают. Рига город небольшой, а круг моих корешков весь на ладони. Врать нельзя. Слово за слово, и тень на меня такая наползет, что не отмоешься.
Пуриньш задумался. Резон в словах Рагозина был. На всякий случай он сказал:
— Ни черта им об этой истории неизвестно. Все каналы связи с отрядом у нас в руках.
— Вдруг не все? Кто-нибудь да прорвался без нас? — заметил Рагозин.
— Были такие, пробовали, но ничего у них не вышло, — вспомнив Кириллыча и Соломатина, сказал Пуриньш. — Ладно, давай прервем разговор. Завтра продолжим. Захвати Степана.
На следующий день встретились вновь.
— Доктор Ланге учел твои возражения. Пойдет Степан.
— Я? Как что, так Степан, — заверещал Гудловский.
— Молчать! — рявкнул Пуриньш. — Отъелись, отпились, не то слово — отожрались, обнаглели так, что уже мышей ловить не можете? Захотели на лагерный паек перебраться?
— Да что мы, господин Пуриньш! Раз надо, сделаем, — заговорил нормальным голосом Степан.
— Вот так-то лучше. Понесешь письмо от Ивана. Рагозин, вот короткий текст. Перепиши своей рукой, — сказал Пуриньш.
Иван стал переписывать.
— Степан, улови главную идею. Письмо коротеньким будет. В такие походы длинные не носят. Скажешь, что Иван все на месте здесь приготовил. В смысле почти двух десятков пистолетов, пары автоматов, гранат. И хватит. Особенно не хвастайся. На месте все есть, тащить из отряда не надо. Но руководить здесь не Ивану же, он, скажешь, людей не знает и что-то со здоровьем у него последнее время плоховато. Кашляет, скажешь, как туберкулезник, — сочинял Пуриньш.
От последних слов Рагозин и Гудловский аж зашлись от смеха.
— Поймите, надо и человеческую жалость вызвать. Если она к делу приварится, то неплохо будет. Психологически тонкий ход, — поучал Пуриньш. — Дашь адрес своей квартиры, той, в конце Мариинской. Понял?
Гудловский кивнул.
— И последнее, этому деятелю, — Пуриньш назвал Графа, — передашь на словах: сделать все, чтобы сопроводить Иманта в Ригу.
— Прямо так? — Степан переглянулся с Рагозиным.
— Только таким образом, — подтвердил Пуриньш.
Данное ему поручение Гудловский исполнил пунктуально. Он рассказал обо всем Балоду, Грому, самому Судмалису. Как мог среагировать по-иному, кроме как не по уставному, а условно по-партизанскому Имант Судмалис? Сказать, что я не пойду к незнакомым мне по боевой работе людям? Конечно, он сказал: «Есть, слушаюсь!», не вслух там, не в парадном строю стоял, но таков был смысл его последующих действий. Надо было собираться и идти. Тем более, что товарищи из отряда так тщательно для него все готовили: и несколько новых явочных квартир, и опытных связников, и оружие прямо на месте боевых действий. Такое внимание, такая забота! В предыдущие периоды подпольной работы он такого подспорья не имел. Обо всем самому приходилось раздумывать. Принципиально было решено, что он выходит в конце января. Рагозину передали привет, чтобы он поправлялся, не болел.
К началу двадцатых чисел января на столе у Ланге лежали сведения, что Судмалис с типографским наборщиком Озолиньшем прибудут в Ригу 27 или 28 января. Было решено немедленно арестовать Валю — Веронику Слосман. Зачем дожидаться, что бы они встретились? Обстановка менялась ежедневно. Раз он уже выезжает в Ригу, то Валя на свободе не нужна. Дуэт опытных подпольщиков — это уже сила. Когда Ланге давал санкцию на ее арест, он бросил довольному громиле Тейдеманису:
— Учтите, что если они сошлись бы, Судмалис и Слосман, они могли бы весьма успешно разобраться с тем, кто есть кто в разыгрываемом нами водевиле с переодеваниями. Панченко и Граф могут здорово полинять в представлении Судмалиса, и он уйдет от нас в такой глубинный омут подполья, что мы ничего не увидим, кроме лопающихся пузырей после его исчезновения. Не может быть, чтобы он ни о чем не догадался бы, если Слосман расскажет ему, что здесь происходило, а Ликумс и Бриежкалне не дополнят ее рассказа своими наблюдениями.
— Пусть делятся лучше с нами, — Тейдеманис сиял. — Разрешите выполнять?
— Да, завтра утром.
На следующий день, 22 января 1944 года, Слосман Вероника Михайловна была арестована. Одновременно были задержаны и препровождены в тюрьму героические женщины-мученицы Сопротивления Эмилия Бриежкалне и Мария Ликумс. 23–24 января агенты гестапо, с которыми мог по прибытии встретиться Судмалис, были дополнительно проинструктированы: по собственной инициативе рассказать ему о провале в фотоателье, этим они наберут дополнительные баллы доверия у Иманта, а он убережется от засады в доме Ликумс, оставленной там, на случай появления других птичек, меньшего калибра.
Итак, 27 января 1944 года И. Судмалис и В. Озолиньш прибыли в Ригу. Из Освеи до Лудзы, откуда шел поезд, их провожала группа партизан под командованием Павла, того самого, который встретил Графа в доме Тони. В деревне Маслово сагитировали местного мужика отвезти их в Лудзу на санях. Тот расхрабрился и пообещал доставить к самому вокзалу, но при въезде в город струхнул и велел вылезать. Судмалис похлопал дядьку по плечу в знак признания его благоразумия, ухарски сбил набекрень свою шляпу с пером, надетую для придания облику легкомысленности, и с напарником затопал пешочком. На станции они свели дружбу с полицейскими, у которых были тяжелые чемоданы, и заслужили их расположение, неся багаж.
По идее, гестапо могло схватить Судмалиса в день приезда или на второй-третий день. Однако этого делать не стали. Ланге это выразил так:
— Сам он ничего нам не расскажет. О своих сообщниках? Да никогда в жизни! Не тот это человеческий тип, это вам не Гаецкий. Надо выявить его ближайших друзей, взять их, схватить его и выколотить из сообщников показания. Такова была генеральная установка.
Разместив привезенное с собой немудреное типографское оборудование в столярной мастерской Букса по улице Бривибас гатве 84, Судмалис и Озолиньш в начале февраля стали готовить на нем антифашистский текст широкомасштабного характера.
После встреч с друзьями, Имант послал в расположение отряда своего связного., который передал его, Судмалиса, категоричное мнение, что Гаецкий работает под диктовку противника, а судьба Кура-нова вообще неизвестна, возможно, он арестован, не исключено, что и в помине его нет…
Связной сообщил и еще один вывод Иманта: в рижском подполье, во всяком случае в его окружении, действует провокатор и, вероятно, не один.
Не теряя времени, Имант организовал в отношении себя проверку. Арвид Балодис, Малдс Скрейя и Алма Микелсоне располагались незаметно на лестничных площадках домов, в магазинах у витрин, в каждом случае около зданий, которые должен был посетить Судмалис. И так несколько раз. В трех случаях из пяти они видели, что за обычно быстро идущим Судмалисом широко шага ли, иногда переходя на легкий полубег вприпрыжку, личности, поведение которых не оставляло сомнений в их намерениях — слежка. При подходе к новой явочной квартире, к дому Зенона, и еще в одном эпизоде филеры за ним не появлялись, испарялись. Значит, они были не нужны, все станет известно гестапо и без них. Следовательно, те, к кому в такой-то час он приходил, — внутренние провокаторы подполья?
Убедившись в том, что он находится под жестким прессингом наблюдения, Судмалис имел еще время и возможности для бегства из Риги. Можно было исчезнуть, скрыться от всевидящих глаз гестапо. Но так были запрограммированы истинные патриоты, так был сконструирован он сам, что позволить себе спастись бегством от организации, от друзей, не сделав всего, чтобы вывести их из-под удара, — он не мог. Да, он понимал, что, используя адреса верных соратников: Алмы Микелсоне на улице Харманя 15, Бука на Бривибас гатве, художника Элиаса на улице Путну, останавливаясь у них, ночуя, используя их кров, он навел на них ищеек из гестапо. Надо было теперь их спасать. Это дело его чести как профессионального революционера. Но как? Он не сомневался, что квартиры эти обложены охотниками за черепами. Но бросить в опасности своих друзей, которые дали ему ключи не только от своих жилищ, но и от своих сердец, он тоже не мог! В этом заключалась трагедия. Долг и жизнь, что важнее? Судмалис выбрал долг. В эти дни он говорил Алме:
— Ты знаешь, я могу сравнивать. Так вот, в те месяцы, до взрыва на площади, нам несмотря ни на что, хотя гестапо неистовствовало и все ищейки стояли на ушах, но было легче. Групп Сопротивления было несколько, бежавшие из плена ребята были активны. Но часть из них ушли в отряд, многих арестовали. Теперь, как я чувствую, мы одни, как шары на бильярдном столе катаемся. Или нас пытаются толкать туда-сюда чужие руки. Седлениекс. Кто мог подумать?
— В отряде должны были думать, — ответила Алма. — Если ты, узнав о нем, все понял, почему они не могли раньше прислать своего опытного товарища с ним повидаться? Зачем такая активность с его стороны, если так легко, как ты говоришь, можно было бы с октября месяца запеленговать?
— Верно, так все и произошло. Схватили и заставили против своих выстукивать тексты, — бросил Имант. — Вот что, Алма, получу на днях пистолеты, снабжу всех вас оружием и надо уходить, по крайней мере со своих квартир, убрав все улики. Спрятаться у друзей — и прощай Рига.
С оружием дело затягивалось. Еще 5 февраля во время встречи с Рагозиным и Гудловским они обещали достать оружие буквально днями. На складе у них свои люди, все договорено. Немножко надо подождать.
— Ну не выходит сразу вынести, — объяснял Рагозин, — в караул заступили такие гады, что трясут буквально всех.
Прошла неделя, вопрос не прояснялся. Гестапо тянуло. Во-первых, прошло мало времени со дня прибытия Судмалиса и не все его соратники были ясны для Ланге. Во-вторых, дай ему оружие и оставь этого Андерсона с ним на несколько дней наедине, он раздаст пистолеты, гранаты своим соучастникам и они такие бои при задержании устроят, что как потом отчитываться за трупы гестаповцев у дверей?
Так что раздвоенность чувств, правда иного, тактического плана, наличествовала и у Ланге с Тейдеманисом и Пуриньшем. Бесконечно тянуть они боялись: распознает Судмалис игру Рагозина и Гудловского, тогда все, конец.
— А вдруг застрелится, увидев, что обложен? — спросил Панцингер доктора Ланге по телефону. — Не тяните. И никаких ему гранат. Скажите, что позже будут. Хватит играть на моих нервах. Кончайте операцию.
16 февраля Гудловский наконец-то сообщил Судмалису, что послезавтра тот может прийти за оружием. В этот же день Степан предупредил хозяйку своей квартиры, что 18 февраля явится некий Имант, которого он сам встретит. 17 февраля по просьбе Судмалиса его верный помощник Джемс Банкович посетил квартиру Микелсоне и вынес оттуда в чемодане шрифт для типографии.
Очевидно, Имант полагал до последнего момента, что, заполучив пистолеты, причем по два-три на человека, ребята сумеют отбиться и рванут из города разными путями. Он рассчитывал на это, иначе зачем ему было обзаводиться оружием? Он использовал последний шанс, который стал для него роковым, но от которого он не мог отказаться во имя надежды на спасение других. Если бы речь шла о нем одном, то испарился бы в момент. Уж что-что, но проходные дворы в центре Риги и особенно Старого города, где он работал до войны, он знал отлично. Но это все использовать для самого себя, как дезертиру? Нет, не такое воспитание получил он в подполье буржуазной Латвии и при нынешней оккупации.
Детально момент задержания Иманта Судмалиса описан в воспоминаниях хозяйки квартиры, где проживал Гудловский.
Итак, 18 февраля 1944 года, вечер между девятнадцатью и двадцатью часами. На улице темно, в доме, на лестничной клетке тоже: война, света почти нет, у потолка чуть проблескивает синяя лампочка. Первыми в квартиру проходят Рагозин и Гудловский — через кухню в комнату. Здесь, наверное, уместнее вспомнить рассуждения оберфюрера Панцингера о сцене и темных углах, которые заняли свои люди. Через четверть часа в кухню, где кушали хозяйка с мужем и детьми, вошел Имант. Он был молодым, выше среднего роста физически развитым мужчиной, хорошо сложенным. Был одет по тогдашней моде в длиннополое пальто, в шляпе.
Его правая рука была опущена в карман пальто, он был вооружен. Имант оценивающе осмотрелся. Он ничего не говорил, ни о ком не спрашивал. Без сомнения, таким же стремительно собранным он поднимался на пятый этаж дома, где из каждой квартиры, расположенной на лестничном марше, грозила опасность: вдруг двери раскроются и… Ситуация внутри дома была для Судмалиса явно невыгодной. Если бы он мог до своего визита послать кого-то в этот дом и в эту квартиру, определить обстановку. Но по условиям конспирации этого не делают. Раз договорились — значит договорились. Пришел бы посторонний, так Рагозин с Гудловским его еще на тот свет отправили бы, как Смушкина. Нет, рисковать можно только собой. Поэтому Имант и явился сам.
Но все же он был взволнован, взвинчен как всей обстановкой последних дней, так и тянучкой с оружием и необходимостью шагать и шагать по ступенькам этого угрюмого дома. Разве он не слышал о квартирах-ловушках политической полиции буржуазной Латвии и гестапо в эти черные дни фашизма на его земле? Конечно слышал и знал о таких фокусах. Может быть, его успокоил вид кушающих детей, он чуть расслабился, но тем не менее вопросительно глянул на хозяйку. Она сказала, что в комнате его ждут. Он вошел туда не вынимая руки из правого кармана пальто.
— О, Имант, привет, — воскликнул Гудловский, — все в порядке.
— Где оружие? — спросил Имант.
— Да дай же поздороваться, — встал с дивана Рагозин и протянул руку, настоящую лапищу.
— Здорово, — кивнул Имант, не вынимая руку из правого кармана пальто. — Я спешу, внизу меня ждут, — соврал он, — давай ящик или что там, и я пошел.
— Ты один не унесешь, мы тебе поможем, — сказал Гудловский, — а оружие надо принести сюда, оно в квартире ниже.
— Какого черта. Ты его не мог принести сюда? А если хозяин той квартиры куда-то вышел на пять минут?
Имант понял, что он в ловушке: «Зачем я пришел сюда? Эти два быка не могли доставить один-два ящика в место, указанное мною, в Шмерли, например? А там до дома Буки я с ребятами дотащил бы сам. Сейчас Степан уйдет. К кому?»
— Да не волнуйся ты, я мигом, одна нога здесь, другая там, — и Гудловский вылетел пулей из комнаты.
Когда дверь на кухню приоткрылась, Имант увидел переставших есть хозяев и детей, по-видимому взрослые слышали обмен репликами.
«Еще дети здесь, как на беду, и ведь не предупредил меня Степан об этом. А если стрельба? Дьявольщина!»
Рагозин набычившись смотрел на него. Имант выложил последний аргумент:
— Слушай ты, постная рожа, я стреляю из кармана без промаха. Если почувствую лишнее движение, разряжу всю обойму тебе в живот или в спину, как придется. Пойдешь вниз первым. Понял?
— Да ты что, Имант, побойся бога! Не дергайся.
Между тем Гудловский, принеся один ящик, понесся за другим, притащил и его. Дышал тяжело. Ящики были по-видимому тяжелые, в них лежали пистолеты.
— А гранаты? — спросил Имант.
— Будут, но попозже, — сказал Гудловский.
«Какой резон ему было бегать дважды вниз, тащить ящики наверх и теперь опять идти вниз. Могли спуститься, взять мимоходом оружие и удалиться. Кто-то увидит меня на этой лестнице? Бог с ним, раз так, пусть видит, ведь он свой, если хранил пистолеты» — это была предпоследняя мысль Иманта.
По свидетельству хозяйки, они вышли из квартиры в таком порядке: первым Имант с ящиком, за ним Гудловский — со вторым и Рагозин. На первой же по ходу лестничной площадке Имант приостановился и глазами показал Рагозину — иди вперед. Тот пошел первым, успев, обгоняя Степана, обменяться с тем взглядом. Затылком Имант чувствовал нервное дыхание Гудловского и надвигающуюся фатальную неизбежность развязки. Примерно те же флюиды перебегали от Иманта к Рагозину, широкая спина которого была безошибочной мишенью и должна была бы принять пули, уготовленные для таких предателей, как он, но этого не случилось. Около квартиры, откуда таскали оружие, Гудловский поднял свой ящик повыше и нанес хорошо рассчитанный удар по затылку и шее Судмалиса. «Конец», — мелькнула последняя мысль. Имант потерял сознание и упал. Рагозин перекрестился и вытер платком пот со лба, щек и своей жилистой шеи. Из квартиры первого этажа вывалились Тейдеманис, Пуриньш, их подчиненный Борис Лукстиньш, который почти шесть месяцев вел разработку виновников подрыва эшелона 20 октября на Югле и взрыва на Домской площади, т. е. группы Судмалиса, и Эрис. Лукстиныи и Эрис сразу бросились к ничком лежавшему Судмалису, щелкнули наручники, из правого кармана его пальто они извлекли пистолет, из левого — гранату, из кармана брюк — еще одну.
— Эти четыре пролета я шел, ожидая выстрелов в спину. Хорошо, что Степан так ловко сбил его, — произнес побледневший Рагозин.
— Молись, что он не рванул нас всех гранатой, — сплюнул Пуриньш.
— Граната, граната, — прошептал Имант и опять впал в беспамятство.
— Доктор, укол, — приказал Тейдеманис, — он должен очухаться.
— Только не ждите немедленного пробуждения, — сказал эсэсовский врач и сделал инъекцию.
Во время задержания сотрудники гестапо и эсэсовцы с автоматами выскочили из подошедшего крытого грузовика и веером разлетелись по этажам дома, встав у каждой двери, чтобы ни один любопытный глаз не вылез за пределы своей квартиры. После отъезда основной группы захвата, в некоторых квартирах провели обыски на предмет обнаружения в них возможно находящихся там соратников Иманта, собиравшихся оказать ему помощь.
Если бы малоопытный разведчик Балод не смотрел доверчиво в рот Рагозину и Гудловскому и не затолкал Судмалиса к этим… Если бы…
В тот же день, 18 февраля, были арестованы и другие товарищи Иманта Судмалиса.
…Иманту привиделся зимний вечер в завьюженном доме в деревне Маслово, где целых три дня с утра до вечера ничего не нужно было делать, кроме как спать, лежать, сидеть, ожидать немецкие аусвайсы для путешествия по родной земле, которые должны были принести друзья из Пасиенской волости. Три дня Имант наслаждался покоем и скрипичной музыкой, концерт которой устроил ему неутомимый Павел. Тот в деревне нашел скрипку и играл без устали. В памяти возникли мелодии, воспроизводимые Павлом: чардаш Монти, серенада Тасселли, военные песни… Имант очнулся. В ушах звенело от удара. «Музыка отзвучала», — подумал он. Лежа на полу, Судмалис обвел взглядом стены камеры: они пестрели рыжими пятнами. Кровь, кровь своих… Сколько их здесь прошло? Имант чувствовал озноб. Все-таки сотрясение мозга он успел получить. Мысли вернулись вновь к деревне Маслово, к скрипке… Музыка вечна, да. Пятна были и там, на стенах комнаты, от клопов. Ребята еще смеялись: «Бей клопов из автомата!» Он улыбнулся, сознание путалось…
…Павел, проводив Иманта, вновь и вновь перебирал в памяти встречи с ним. Его задумчивое лицо и весь усталый облик там, в деревеньке, никак не вязался с тем моторным, пружинным Имантом, которого привыкли видеть в неустанном движении. В ушах Павла звучали слова друга: «Страх? Страх смерти? Он у всех и внутри каждого. Но право на жизнь надо отвоевать! Надо… И не все мы останемся в живых. Считайся с этим и вытесняй страх. Другого выбора нет. И почаще вспоминай сожженную Белоруссию, по которой мы шли. Было страшно? Было… Так вот, пусть пепелища эти выбьют страх смерти!» Вспомнилось и другое. Был дальний переход летом. Судмалис шел в колонне партизан и рассуждал о жизни после войны. Нить его мыслей вилась вокруг перспектив… науки. Да, да! О науке после неоконченной еще войны. Он говорил о том, что воюем на переделе сил и для того, чтобы поднять страну из разрухи, и двинуть вперед условия жизни сможет только наука, технике тоже предстоит работать на пределе сил…
…Задумчивый вид Имантатам, в деревне, засел в памяти Павла навечно. Предчувствовал ли тот 1 свою гибель? Трудно сказать, но страх из себя он выжег. Это точно.
В поисках истины (окончание)
Войдя в кабинет, Конрад лихим жестом бросил кожаную папку на стол так, чтобы, шлепнувшись с треском, она еще покрутилась и замерла, наподобие рулетки.
— Шеф меня уважил, — объявил он с наигранной важностью, — состоится беседа с гражданкой Ласе! Вот так.
— С кем, с кем? — спросил Казик.
— С мамой Фредиса.
— С кем, с кем? — повторил Казик, ничего еще не понимая.
— Да, да, да, с нею. Это будет, мне сдается, первый большой, хороший человек в нашем деле.
— Ты можешь толком рассказать? — стал наседать приятель.
— Могу. Я убедил шефа пойти на разговор с матерью Зарса. Без нее нам не обойтись. Как ни крути, но она единственная, кто знает о всей его несознательной жизни, переходном возрасте и может знать или догадываться о сознательной жизни дорогого ей человека. Я поклялся шефу, что не обижу ее ни словом, ни жестом, ни недоверием, ни ворчанием. Шеф особо предупредил: ни намека, что он выдавал коминтерновцев. Это никому ничего не даст, кроме возникновения стрессовых ситуаций, у пожилых хороший людей. Суду он вряд ли будет предан. Статья о сотрудничестве с охранкой на грани вылета. В новом кодексе ее не будет. Генеральная линия — идти по немецкому периоду: Антония, Ольга, знакомство с ней Фредиса. Так мать его зовет, — и Конрад в такт трем перечисленным вопросам три раза хлопнул линейкой по столу. — Затем опять сделаем поворот к тридцатым, к этим типографиям, которые по сравнению с предательством Ольги для него мелочь. Он должен рассыпаться и заговорить по-другому.
— И что потом? Допустим, мать прольет свет на истинные события, что тогда? Очная ставка? — спросил Казимир.
— Ни в коем случае. Ни я, ни шеф на это не пойдем. Обойдемся пересказом о материнских переживаниях. Так мне указано, — и Франц впервые за вечер сбросил маску играемого им персонажа чиновника, вернувшегося от патрона. — Шеф сказал, что самое главное во время ее допроса — это не ухудшить состояние здоровья тетушки Аустры. Вначале он даже предложил, что сам поговорит, но Онуфриевич его отговорил: будто она совершенно испугается. Шеф даже обиделся, Онуфриевич выкрутился, сказал, у вас стол на людей давит. Беседа может быть обращена на все, кроме ее чада, так выразился шеф. Как нам удастся использовать полученные от нее сведения — это наша забота.
— И когда?
— Я поеду за ней завтра на автомобиле шефа. Он предложил сам, мотивируя, что его Станкевич — это единственный шофер, который способен плавно ездить и возить солидных людей, остальные гоняют и курят в салоне.
…Где-то на двадцатой минуте разговора, после выяснения обстоятельств знакомства с Антонией, Конрад осмелился спросить об Ольге.
— Да, да, я только что хотела продолжить рассказ об этой удивительной женщине. Мне пришлось прикоснуться к ее судьбе благодаря Антонии, с которой она встретилась еще осенью сорок первого. Восемь месяцев в тюрьме! Но ко мне она зашла только перед Рождеством сорок третьего. Она спасала своих друзей и просила у меня помощи. О себе не думала. О, она была как загнанна лань! Она искала моего Фредиса, с которым познакомилась у Антонии, но того не было в городе господин случай привёл ее ко мне. Визитку Фредиса она забыла у своего дядьки, так кажется, но по памяти переписала все данные на листок бумаги и ним пришла ко мне. Густав, ее друг, муж ее двоюродной сестры, знал, что я мать Фредиса…
…Тетушка выложила все, вплоть до канделябра с пятью свечками, из которых две не были зажжены, и Фредиса, читающего текст записки для Антонии. Здесь по ее лицу пробежала тень и она спросила:
— Вы подозреваете Фредиса в причастности к этому делу?
Конрад промолчал, давая возможность Ласе выбрать самой вариант объяснения событий, наиболее безобидный и нейтральный для Зарса.
— Как я понимаю, тех двух беглецов, которые поехали с Густавом к Антонии, поймали или убили. И Густав пропал, его арестовали. Все погибли. И Ольга, и Антония. Иначе кто-то из них всех нашел бы ко мне дорогу.
Аустра Ласе стала вытирать набежавшие слезы. Конрад посмотрел на платочек, который она приложила к глазам, и подумал, что для нее Ольга и двое неизвестных солдат — это очередные могилы в ее жизни, за которыми ей ухаживать придется только в памяти.
«Сколько же пришлось выдержать хрупкой женщине, ровеснице века, ударов судьбы, выслушать горестных вестей об обманах там, в великой социалистической стране, где гибли латыши, строившие свою новую Родину! И она спасала их здесь, одна, по дороге оттуда для работы в подполье, в своем ветхом деревянном доме, при наличии соглядатая — этого кретина, урода, но сына, разбей его молния! Идеалы, идеалы! Как их сохранить в себе, когда на них плюют, над ними издеваются и искажают? Сумела же она это сделать. Неужели она не догадалась о роли Фредиса, когда он стоял с обожженными пальцами и пытался проникнуть в смысл примитивной условности, о чем мог бы спросить мать вслух? И бог с ним! Никаких намеков с нашей стороны! Нельзя же мне забирать у нее последние душевные силы, чтобы бить по железобетонному упорству ее сынули. Иначе я перестану уважать себя».
— Вы сказали, что знали родителей Ольги, — постарался перейти на другую волну Конрад.
— О да, это было фантастично. Я смотрю на Ольгу, а перед глазами Полина, ее мать. Я не выдержала и спросила о ее фамилию. Она ответила. Боже мой, такая встреча, — она опять расстроилась.
Конрад свел весь разговор к Ольге. Он печалился и радовался даже не подыгрывая ни собеседнице, ни делаясь неискренним перед собой. Все стало на свои места. Все! Даже записка Ольги с координатами Зарса и посланием Антонии, которую Аустра предоставит Конраду только на несколько дней, чтобы снять с нее копию и отправить в музей партизанского движения в Москву. Под конец старушка спросила Конрада, в чем обвиняется ее сын?
— Контрабанда, отправка за границу ценных картин, приобретенных им в оккупационное время, тривиальная контрабанда, на которую Альфреда подбили его дружки из Германии, — сочинял Конрад. Он помог надеть Аустре пальто и отвез ее домой с невозмутимым Станкевичем, сверстником Шефа, который, когда приехал, вышел первым из машины и открыл дверцу даме, отметил для себя Конрад.
Записку скопировали, увеличили, уменьшили. Сделали в разных ракурсах. Еще раз прикинули, как все было: Даугавпилс — Антония — Ольга — Зарс — визитка — тюрьма — дядька — визитка — Рига — группа Ольги — попытка спасения двоих через Антонию — роль Зарса — гибель двоих — смерть Ольги. Конечно, вопросы оставались. Но картина прояснилась. Трудно было, да. Ни одного свидетеля, который бы поведал о прямой причастности Зарса к этим делам. Эх, Пуриньша или Эриса сюда бы! Все на косвенных уликах, на его признании, которого нет. Завтра, допустим, оно появится, почувствует же он слабину, но придет в другое настроение и… послезавтра окажется. Надо думать, как его показания закрепить. Каждый рассуждает по-своему. Следователи пусть тоже думают.
Шеф не давал разрешения на допрос матери Зарса до последнего. Один раз обмолвился, что секретарь ЦК запретил ему дергать стариков-партийцев со всякого рода любительскими вопросами. «Ты подумай сам, — втолковывал Конраду шеф, — мать против сына? Никогда не разрешу. Уволь!» Но, когда зашли в тупик, то сам поехал к партийному начальству, доказал, что заставлять свидетельствовать против чада не будем, нам это не с руки, она не свидетель, ничего не знает о его поганых делах, а до суда дело вряд ли дойдет.
Федя, тот наоборот, бегал по этажу и делал заявления на каждом углу прямоугольного построения коридоров, что надо из старухи вытрясти все, нечего церемониться.
Станкевич сочувственно вздыхал, молчал, а в натренированной немоте старого шофера скрывалось многое. Но один раз, когда возвращались, отвезя мать Зарса домой, сказал:
— Это хорошо, что вы теперь в любом человека видите, а в сороковом… — и он покачал отрицательно головой, — людей не считали за людей. Ничуть. Я возил здесь, в Риге Шустина, комиссара госбезопасности, маленького такого росточка. Так он списки, кого в расход, кого выселить, вот здесь, в машине подписывал. А в сорок девятом что делалось? — и старик еще раз покачал головой.
…Очередную беседу Конрад начал стремительно:
— Зарс, я полагаю, вам надо сдаваться. Я вчера беседовал с вашей мамой. Кстати, она передала вам личный привет. Спросила, за что вы здесь. Ответил — за контрабанду. Улавливаете?
— Значит, у вас ничего нет, если вы взялись за мою мать. Вы хотите ее угробить? Где же ваша порядочность, о которой вы все нашептывали!? Заставить мать свидетельствовать против сына! Это ваши методы, гражданин Конрад.
— Ошибаетесь, Зарс. Я сказал, что вы здесь за чистую, даже интеллектуальную по части живописи контрабанду с грязными доходами. Пришлось и мне выкручиваться. Но картина, которую я бы создал, будучи художником, выглядела бы так. Вечер. Небогатая комната. Стоит маленькая елочка на столе. Рождество. Здесь же и монументальный канделябр на пять свечей, отливающий старой медью. Три свечи горят. Две — нет. У стола — мужчина. В левой руке у него записка, на которую и обращен его взволнованный взор. В пальцах правой — обгоревшая спичка, поднесенная к одной из незажженных свечей. В дверях комнаты стоит мать. Ваша мама, Альфред, которая в тот момент еще не понимала к чему бы это…
— Хватит, перестаньте, — закричал вдруг Зарс, — Не издевайтесь. Побойтесь бога! Я стоял и ничего вначале не мог понять: мои координаты, перевернул — какой-то текст, все вместе как абракадабра. Почему мои телефоны, адрес? Почему?..
— Я вам объясню. Ольга была благородной, как… — Конрад сразу не мог подобрать слова, — … та благородная графиня из старых, добрых романов. Она не могла себе разрешить таскать вашу вонючую визитную карточку с собой, думая, что ее опять задержат, начнут выспрашивать о владельце. Так? Я вам в тот раз показывал вашу подлинную карточку, я не блефовал. И вы ее узнали. Так?
— Так-то так. Но зачем она в тюрьму ее тогда потащила? Тотчас на меня тогда выскочили и стали допрашивать, как вы тут стараетесь. Сколько оплеух я получил…
Конрад перебил его:
— Когда вы вручали карточку, то делали это так, на всякий случай. Наверное, мысль сдать ее вашим хозяевам пришла потом, к концу разговора. Ну, думали, поговорят с нею и отпустят, а она к вам прибежит. А ее — раз, да на восемь месяцев упекли. У нее что, было предчувствие идти в тюрьму? Такого не было. Но там вас просто прикрыли, и при выходе среди своих вещей она ее обнаружила. Подумаешь, у Антонии оказался старый знакомый. Никто не думал, что история будет иметь продолжение аж до сорок четвертого года. И была ли карточка в тюрьме?.. Это еще вопрос!
— Если бы не этот дурацкий канделябр, который я снял с серванта, и записка, вылетевшая так некстати, о которой я понятия не имел, — и он покрутил головой. — Если бы я не взял ее в руки, то ничего не заметила бы мать и никаких разговоров об; Антонии и Ольге не было. Прорвались бы беглецы? Ну и черт с ними. И так все к концу шло… Когда мать мне как-то рассказала о визите Антонии в Ригу, то это было для меня так, ерундой. Но эта записка! Мать сохранила ее?
— Да, вот она, — Конрад показал фотокопию.
— Почему копия? Боитесь, что вырву оригинал и проглочу?
— Не боюсь. Не хочу показывать вас матери тем, кто вы есть. Сказал, что отправлю фотокопию в музей, а оригинал верну ей. Улавливаете?
— Великодушием берете, — исподлобья посмотрел Зарс.
— Да, в данном эпизоде беру искренней жалостью к вашей маме, Зарс.
— Это нечто новое в этом доме.
— Не больше чем основательно забытое старое, — сказал Конрад.
— Ко второму аресту и гибели Ольги я не причастен. Не клейте.
— Но к первому? — спросил Конрад.
— Но мать ничего не подозревает. Не надо ее травмировать. Я ей даже имя Ольги не назвал. Это потом все Антония выложила.
— О том, что вы и там руку приложили, Антония не подозревала. Так ваша мать все изображает. Пуриньш тоже был в этот момент в Даугавпилсе?
Наступила пауза. Зарс вздохнул и ответил:
— Я ему позвонил.
— Значит, Пуриньш был-таки рядом всю войну?
— Был, был! Он связал меня по рукам. Я продал ему свою душу, всего себя. После вашего бегства из Прибалтики в сорок первом, я был уверен, что теперь наша возьмет. Когда немцы забрали мою мать, Пуриньш сделал все, чтобы ее выпустили. Он тоже сыграл на ней, как и вы.
— Я не играю. Мы вообще хотели обойтись без нее. Вы видели это. Вы вынудили нас прибегнуть к ее помощи. Да и в конце концов у матери из веры вы стали выходить: она же не сказала вам, побоялась, что Ольга была у нее?
— Нет, не сказала, но я догадался. Иначе не могло и быть. По памяти она все с моей визитки на лист бумаги воспроизвела и пошла к матери за помощью. Не другой же кто-то ходил. Но я не причастен к ее второму аресту, — вновь повторил Зарс.
— Кто же?
— Тейдеманис, Пуриньш с помощью Рагозина, он же Панченко. Знаете такого?
— Этого фрукта мы знаем.
— Какова его судьба, если не секрет?
— Отчего же секрет? Его расстреляли еще в сорок шестом. Он назвал в числе многих, кого предал, и Ольгу.
— Расстреляли? Вот как! Не знал, не слышал, — его заметно передернуло.
— Может, не хотели слышать? Зарс замолчал.
— А кто выдал группу, как ее звали у Пуриньша, «Кольцо», вы знаете? — наконец спросил он.
— Нет, не знаю, — ответил Конрад.
— Этого никто не знает, даже сами участники «Кольца», ибо этот человек занимает и сейчас неплохой пост, готовится получать персональную пенсию. Я вам многое могу рассказать, — прорвало Зарса. — Но вы мне должны помочь вылезти отсюда.
— Я вам ничего не должен…
Долго, до позднего вечера беседовал Конрад с Зарсом, а бобины с пленкой вертелись в такт разговору, выдавая звук в колонку усилителя, стоявшего на столе у шефа, около которого, помимо хозяина, сидели Онуфриевич и Казимир. Федор болел…
…Еще через месяц шеф ушел на пенсию. Болен он, безусловно, был. И во время решения об уходе находился в госпитале. Новый шеф не стал дожидаться выхода предшественника на день или на два. Он занял кабинет старого сразу с выходом приказа. Собственно говоря, ему для этого надо было лишь пересечь приемную. Их кабинеты были напротив. Одни говорили, что мог бы и подождать. Другие настаивали, что такое учреждение не может оставаться без главы ни на минуту. Стол старого шефа был из кабинета нового шефа вынесен, его взял себе Онуфриевич, а года через три он оказался в кабинете у Конрада. Новый шеф сразу же приблизил к себе Федора, тот хорошо писал любые речи. Исполнять обязанности Федора поставили Конрада. Казимир не обиделся. Он сказал, что все, что делается, делается к лучшему.
— Посмотри, — сказал раз Казимир, — копия брачного свидетельства Панченко. Весна 1944 года. Все цветет. Друзья — кто в тюрьме, кто в земле. Счастливый жених! — и положил на стол копию свидетельства.
— Ты дальше все обработал?
— Естественно.
— Ну и?
— Невеста известная. Подлинная. Свидетели жениха — фальшивые, выступали под чужими фамилиями. Таких в природе нет и не было. Такие же поддельные, как и жених. Заметь, женился как фельдфебель немецкой армии. Но не под своей настоящей фамилией.
— Как ему навесили звание на фальшивую, под такой и жену решил осчастливить? Она здесь?
— Жена? Нет, что ты. Рагозин смылся в Лиепаю летом сорок четвертого. Ригу освободили 13 октября, и она вышла замуж за солдата, уехала с мужем отсюда и вскоре родила. Дочь у них.
— Искать мы будем? — спросил Конрад. Казик подумал и ответил:
— Шеф бы не искал. Он сказал бы так: «Дочери пятнадцать лет, ну поговорите вы с матерью. Поиграете ей на нервах. А ей вспоминать об этом убийце — себя убивать. Слезы. Дочь с расспросами. Матери врать надо».
— Думаю, что шеф правильно рассуждал. И еще он бы закончил так: «Хотите заниматься видимостью работы? Не советую», — дополнил Конрад. — Ты помнишь, при одном из разборов дела он сказал, что мы выйдем на непростые фигуры германской разведки?
— Если мы с тобой будем так много цитировать шефа или выражать свои мысли под маркой его изречений, то смотри, можем и перестать быть понятыми, — заметил Казик.
— Ладно, не будем зарываться, но и пугаться-то нам некого. Дело общее.
— Это ты так думаешь. Однако учти, новое начальство обычно начинает с того, что забраковывает дела и особенно методы старого, — учил Казимир, — хотя само в профессиональном плане еще «плавает».
— Слушай, у нас свои дела: Зарс — раз, бывший Граф, а ныне гражданин Шелестов Петр Анисимович — два. Я его тоже беру на себя. За тобой славная тройка из купе вагона Рига-Гамбург: Лицис, Кромс и этот, как его, когда Зарс чуть не забыл, что купе обычно рассчитано на четверых и выдал нам еще напоследок Брокана Антона, поехавшего учиться в Римскую духовную академию. Попозже перераспределимся. Согласен? — спросил Конрад.
— По рукам. Но это надо доказать еще, что Шелестов в прошлом носил дворянский титул, — пожал плечами Казик.
— Возможно, я этого и не докажу. Он из крестьян, откуда-то из-под Запорожья, это точно. Рассказывать прямо, как его абвер ввел в лагере в дворянское сословие и при этом он потерял свою невинность командира Красной Армии, — смысла особого у него нет. Но с фактами ему придется считаться, — ответил Конрад.
— Слушай, а ты на Артиллерийской давно был?
— Ты имеешь в виду у Елены и Анны? Я стараюсь там не бывать. Зачем расстраивать людей? Они же не помнят, кто привел туда этого турка. Им было не до него. Гостей полно, как хороших знакомых, так и не очень. Невеста с женихом заняты друг другом, Анна была на подхвате.
— Интересно, участвовал ли он потом в их допросах?
— Тогда бы вспомнили. Рагозина и Штайера они помнят отлично.
— Ты упоминал, что жена бухгалтера Лидумса всю жизнь практически у окна просидела, будучи парализованной. А дом-то наискось, почти напротив, — задумчиво произнес Казимир.
— Прошло семнадцать лет! Это нереально.
— Подожди, подожди! Представь себе: жена бухгалтера была тоже на семнадцать лет моложе. Свадьба напротив в доме запоминается. Улица тихая. Сколько на этой улице было свадеб во время войны? Сделай снимки сильно увеличенных голов Эриса и Графа со свадебной фотографии. Это все неофициально покажешь. Попробуй.
— Ну что ж, уговорил. Попробуем. Ты посмотри лучше сюда. Этот ворох — копии его автобиографий после войны. И ни в одной не пишет, что участвовал в деятельности «Рижского партизанского центра», — воскликнул Конрад. — О чем это говорит?
— Парирую. Организация-то оказалась аферистов. Стеснялся. На себя тень бросит.
— Откуда же ему было знать об этом?
— Руководство партизан поделилось. От тех же Балода и Грома.
— Но все равно задания «центра» выполнял, под его флагом в отряд шел. Мог и попытаться опровергнуть такую характеристику, — не сдавался Конрад.
— Не в его интересах это было. Для него главное — проникнуть в отряд. Он проник. А дальше, как все. Что он тебе будет писать: вступил в патриотическую организацию, а потом выяснилось, что это группа аферистов? — настаивал на своем Казик.
— Все у тебя славно выходит, но вот в автобиографии сорок третьего года он указал, что с мая сорок третьего работал в Риге в партизанской организации, — и Конрад выложил на стол найденный документ. — Сколько за этими его походами тайн скрывается! Послезавтра начнем с ним первый разговор.
Петр Анисимович явился точно вовремя. Как важную фигуру Конрад его встретил. Пока ждали лифта, он успел уже назвать пару фамилий партизанских вожаков, а в кабинете сыпал их именами, показывая этим свое панибратское знакомство с ними. Был Петр Анисимович подвижным, выцветшие голубые глаза смотрели живо, но немножко испуганно. Можно было предположить, что в молодые годы он был привлекательным парнем.
— Итак, начнем. Скажите, Петр Анисимович, почему вы носите не принадлежащую вам фамилию?
— Как это?
— Да так. Ваша настоящая фамилия Шелест. В оккупации, в отряде вы были Шелестом, а после войны появился в Риге гражданин Шелестов. Метаморфоза, да и только!
— Ну, две буковки прибавились. Это когда паспорт выдавали первый после войны, в 1944 году. Дописали по ошибке. Так и пошло. Я тоже заметил, а мне сказали, какая там разница.
— Вот здорово! Постеснялись, значит, другой бланк заполнить. Следовательно, вы и в партию вступили под чужой фамилией и должности руководящие занимали не под настоящим именем, разве не так?
— Ну, если так строго судить…
— А как судить по-вашему? Мало того, что вы себе фамилию поменяли, но везде и о родителях во всех анкетах пишете как о Шелестовых. К чему бы это, позвольте вас спросить? Это же суперложь!
— Это… это, чтобы путаницы не было. У меня так, у родителей — эдак. Пусть одинаково будет, иначе же нельзя.
— В логике, только в логике неправды вам не откажешь. Естественно, любой удивится, когда прочитает, что у матери с отцом одна фамилия, а у сына — иная.
«Да, — подумал Конрад, — этот себе присвоил чужую фамилию и жил припеваючи, а бедняга Кульчицкий сам отказался взять в руки не положенный ему паспорт и благодаря этому не получил так долго ожидаемой свободы, которой был лишен по несправедливости».
— Скажите, Петр Анисимович, где и когда вы поступили на службу к немецким властям?
— Как это? Я же по заданию, как его, Шабаса Ивана внедрился в батальон охраны здесь, в Риге, когда меня перевели.
— Вас одного перевели или других тоже?
— Вот это я не помню.
— Неужели такое обстоятельство забыли? — пытался нащупать хоть какого завалящего свидетеля по моменту перевода Конрад.
— Совершенно вылетело из головы.
— Откуда же перевели?
— Из Валги, из лагеря.
— И год?
— В конце сорок второго — начале сорок третьего года.
— С ваших слов, сколько раз из лагеря в Валге вы бежали?
— Да раза три бежал, ловили, в тюрьме, карцере сидел. Страшное время было, сколько лишений перенес.
— Здорово у вас получается. Бежал, бежал, в карцере отсидел 21 сутки. Причем ведь помните, что не 20 суток, а в других случаях память отшибает у вас. В тюрьме побывали и… в унтер-офицеры выбились, с правом ношения оружия и свободного передвижения согласно местным предписаниям, а?
— Это вы вспомнили про этот аусвайс? Я его сдал в отряде и все объяснил там.
— Все, да не совсем, гражданин Шелест. Из карцеров и тюрем в унтер-офицеры не производят. Не было такого. Без особых заслуг, конечно. К тому же опять вы врете, как сивый мерин, Петр Анисимович, — уже зло бросил Конрад.
— Как, как вы сказали?
— Как врете? Как сивый мерин. Довольно изощренно, но я вас опровергну. Аусвайс вам выдан был когда? 1 августа 1942 года, т. е. когда вы считались еще за лагерем № 351 в Валге, и удостоверение подписано тогдашним начальником лагеря подполковником Ярцибекки там, в Валге. Начальником лагеря № 350 в Риге он стал только в сентябре 1943 года. В Риге у вас было удостоверение валгского лагеря, откуда вы побеги совершали. Доходит? Ни по чьему заданию, Шабаса или еще кого-то, вы не поступали на службу к немцам. Рижских подпольщиков в Валге не было. По приглашению врага, за особые заслуги вы стали унтер-офицером там, в Валге. Потом вас перевели сюда, в лагерь 350. Исполняли вы здесь разные роли: и сидевшего в лагере, и бежавшего, и скрывавшегося. Не в тюрьмы вас сажали за побеги, а услуги вы в это время оказывали по разным лагерям.
— Ну как вы можете так говорить? — пробовал тихим голоском возразить Шелест. Он буквально на глазах терял дар речи.
— Скажите, вы от Родины отреклись? Присягу в Красной Армии перечеркнули? — Конрад давил на собеседника, как асфальтовый каток на мостовую.
— Как это понимать? Я не отрекался, я сражался в отряде.
— Но на верность фюреру и рейху вы принимали присягу, до августа сорок второго, перед тем, как вам дали звание унтер-офицера? Иначе вы бы его не получили. Улавливаете?
— Принимал.
— Следовательно, от присяги в Красной Армии тем самым вы освободились?
Шелест молчал.
— Скажите, вы наших пленных в Германию конвоировали?
— Да, эшелон сопровождал. С пленными.
— Почему вы не указываете нигде, что были в Германии, даже в отряде об этом не рассказывали, равно как и о присяге в армии врага?
Шелест замолк. Что было сказать? Так с ним еще никто не разговаривал. Мысли выхватывали картины прошлого, все путалось, страх обуял его. Если докопаются до Вали, Марии, Эмилии, до Екатерины, до Елены, что тогда? Тогда все?! Как во сне он слышал слова:
— Идите, думайте. Наш шеф, вы знаете его по партизанским краям, распорядился дать вам возможность, если сочтете нужным, описать все подвиги собственноручно. Протоколы потом будем отделывать. Кстати, вы на Парковой жили?
— Это в здании публичного дома? Жил. А что?
— Да так, я засомневался в своей памяти, — сказал Конрад.
Положим, в свою память он верил. Он проверил гипотезу Зарса, который давал Пуриньшу рекомендацию на предъявителя для мадам Бергман. Значит, на свет божий выплывал Эрис. Он жил напротив этого дома.
…После второй встречи с Шелестом, Конрад делился с Казимиром:
— От кого он получил документы «центра», он толком объяснить не может. За обнаружение таких серьезно компрометирующих антифашистских документов их владельца к стенке поставили бы, а он не помнит, кто именно ему их дал. Фантастическая ложь! То Федя, то парк с неизвестными партизанами, то какая-то женщина. Патологический врун! Немцы ему все изготовили в единственном экземпляре. Текст под диктовку он писал или даже сочинил сам. Но переписаны они другим человеком. Почерк не его. Я ему говорю: «Вы автор?» — «Нет, я не писал эти документы, это не мой почерк». Я говорю: «С изготовленных вами образцов эти документы скопированы другим человеком, повторившим все ваши ошибки и особенности. Почерк явно не ваш, но вы автор документов или соавтор. Ошибки все ваши».
— Действительно так? — удивился Казик.
— Полюбуйся. Два эксперта изучали. Да и я кое-что соображаю. Он же по существу малограмотный человек, несмотря на высшее заочное.
— Если бы он один. Поэтому я всегда стремился на очное, — вздохнул Казик.
— Не расстраивайся. Я тебе продиктую из этих бумаг: слова, отдельные фразы из отношения в ряд, присяги и его удостоверения. Ты напишешь, затем я покажу, как он пишет в этих документах и в течение всей своей жизни. Вот образцы. Пиши!
Конрад продиктовал: «Рига, Рижский». Казимир написал.
— Так, верно. А он пишет: «Рыга, Рыжский». Причем до сих пор. Дальше. Пиши: сентябрь, октябрь, ноябрь. Написал? Смотри, он всюду пишет название месяцев с большой буквы. По своей привычке или из-за уважения к немецкому написанию? Напиши слова «военнопленные», «ваш отряд». Написал? Смотри, как у него — «в/пленные», «в/отряд». И так он пишет всю жизнь. Не смешно, а? С переносами слов у него дела до старости так и не отрегулировались: он оканчивает слово на строчке загибая его в конце до вертикального состояния. Почему? Правил и знаков переноса не знает. Не признает, бедный, что деепричастный оборот выделяется запятыми. Аббревиатуры разделяет точками. Индивидуальные признаки? Смотри — С.С.С.Р., Н.С.Ш. и так до сих пор, все двадцать лет. Большей устойчивости быть не может.
Казик с интересом смотрел на письмена, выводимые другом, и на образцы оригинальных текстов Шелеста.
— До чего все просто, когда изучил предмет. Вот тебе и зав. отделом министерства, и зампредрайисполкома, и кем он только не был! И пронес дружбу с начальником разведки, который после войны его к орденам еще представлял, — воскликнул Казимир.
— Послушай, как его вранье отлилось в железные строки характеристики: «В апреле 1942 года совершил побег из лазарета военнопленных, после чего в составе партизанской бригады руководил группой разведки, а впоследствии являлся начальником штаба партизанского отряда, действовавшего на оккупированной немцами территории Латвийской ССР», — процитировал Конрад. — Сколько преступлений эти пять строчек закрыли собой; как занавесом сцену, где все совершалось?
— Он что, действительно руководил разведгруппой?
— Выходит так. Гром ему верил. Шелест мне втолковывал, что Судмалиса именно он через боевые порядки провожал, дескать, умел ориентироваться ночью по компасу.
— Ага, другие не могли, и вообще, как они без него с войной справились? А к захвату Иманта он тоже приложился?
Конрад пожал плечами.
— Жалованье же он получал. Марок тридцать, верно, — заметил Казимир.
— Естественно, как все у них служащие. Но за что получал, вот вопрос. Что входило в его службу? — ответил Конрад.
— В отряд он попал и стал как все, — раздумывал Казик, — дрался, ходил в разведку, отмывал грязь, которая на нем скопилась. Другого ему ничего не оставалось.
— И все скрывает до сегодняшнего дня. Нет, надо следствие проводить. Он что, исключение? — спросил Конрад.
— Надо. Но шефа нет, тебя не поймут. Скажи, что будем делать с Зарсом? — переключился Казимир на другого персонажа.
— Доказательств вменить ему предательство Ольги у нас не хватит. Их попросту нет. Его признание? С ним в суд не пойдешь. Так? — спросил Конрад. — Тупик. Побудет до нового кодекса — выберется.
Казимир кивнул головой:
— От признания по Ольге он побежит, как олень, а 30-е годы не страшны.
Оба замолчали.
— Не знаю, не знаю. Я был на докладе у нового шефа. Он выслушивает содержание основных дел, постоянно принимает народ, как он говорит. Но сам дел не читает. Понимаешь? Не чи-та-ет. — Конрад сказал это по слогам. — Сидит и слушает. Когда что-то ему не нравится, то прикладывает ладонь с растопыренными пальцами к лицу, смотрит на тебя через пальцы и выговаривает. Странно как-то! Голоса, правда, не повышает, но красным делается. Нервничает в себе где-то, внутри.
— Ах, ах, вы изволили заметить. Это все уже изучили. У каждого свои причуды: старый шеф раскачивался у окна, готовый взлететь от досады на небо, а новый вот так — приземленно, пальчиками закрывается, чур-чур от галиматьи, о которой мне здесь вещают. И не забывай, что он считается одним из руководителей партизанского движения.
— Ты знаешь, я кажется глупость в его присутствии сморозил. Докладывал я нормально о подполье, о Шелесте, ну об этих провокаторах, о гибели Судмалиса, а в конце я процитировал депешу старого шефа в Москву, когда по горячим следам в сорок четвертом стали разбираться, что все-таки в Риге произошло. Шеф тогда отписал: «Балод и Гром завалили агентурную разведку в Риге». Прямо вот так. И с приветом. Новый шеф сразу пальцы раздвинул и к лицу и через них мне говорит: «Не увлекайтесь чужими выводами». Вот так.
— Да что ты наделал! Франц, дурак! Извини, голубчик. Какой из тебя дипломат? Наш новый начальник в партизанском руководстве в тех местах занимал значительное положение. Ни ты, ни я, мы не знаем, как он контролировал работу тех, кто засылал людей на верную гибель, должен ли он вообще был контролировать их по возложенным на него функциям. Но морально руководитель любого ранга за провалы своих подчиненных, тем более повлекшие гибель людей, отвечает. А ты вылез с таким намеком!
— Но я же нечаянно, в рабочем, так сказать, порядке, не думая задеть.
— Ты о Веронике Слосман тоже ему докладывал?
— Безусловно. Я упомянул о ее гибели в числе других в связи с цепочкой, по которой шагал в отряд Шелест, а затем назад в Ригу Валя с Антониной.
— Да, здесь даже не знаю как и сказать. Он с Валей был знаком с юношеских лет. Она училась в Даугавпилсской белорусской школе. Я тоже из тех мест. Новый шеф на собраниях не раз говорил о ее героических делах в подполье, в Риге. Но того, что знаем или к чему приближаемся мы, — он не знает. По его словам, он был в курсе ее направления на подпольную работу в Ригу, даже виделся с нею перед ее уходом.
— Но не он же планировал и разрабатывал ее маршрут? Причем здесь он? — задал вопрос Конрад.
— Все это так. Но ему, возможно, неприятно слушать напоминание о том, что она погибла, а он остался жив. А еще он узнает причины ее гибели. И будет знать, что ты осведомлен о них. Это для него удар будет.
— Ты, Казимир, по-моему, все преувеличиваешь. Он просил докладывать о развитии дела Шелеста. Посмотрим. Да, сказал, что по тем годам не помнит его. Но после войны Шелест подходил к нему, напоминал о себе, однако получил от ворот поворот. Наш новый шеф человек сдержанный. В конце приема он меня спросил: «Как вы думаете, почему он после войны остался жить все-таки в Риге, а не уехал к себе в Запорожье. Ведь там бы он оказался вдали от своей, как вы утверждаете, провокационной роли». Я и ответил, что всей своей карьерой здесь он доказал, что сделал правильный выбор. В Латвии, Риге многие партизаны — его друзья, он его уважали, поддерживали как товарища по борьбе. Все правильно. Став партизаном, он стрелял по фашистам. Хотел он этого или нет. Но если бы он вернулся в родные места, сразу бы возник вопрос разнице в фамилиях его и отца с матерью. Он не мог туда вернуться под чужой фамилией, а у нас не мог жить под своей, ибо проходил по ней по немецким документам. Так что две буковки явились для него спасательным кругом, на котором он продержался столько лет. На Украине друзей — товарищей по отряду, которые в случае чего прикроют, у него не было. Такой ловкой связки его героических дел, как в той характеристике, там, в Запорожье, он не получил бы. Шеф выслушал эти выкладки и ничего не сказал. Переваривает.
— Ладно, посмотрим, когда ты составишь обзорную справку и положишь ее на стол. Какую еще реакцию это вызовет в высших сферах, — сказал Казимир.
— Слушай, Казик, — попросил Франц, — у меня голова разболелась от всего этого разговора. Я на завтра у Онуфриевича отпрошусь. А ты сходи к Лидумсам, на Артиллерийскую, попробуй поговорить на тему о свадьбе. Идея-то твоя, а? Мне просто неудобно идти в четвертый раз и что-то уточнять. Подумают еще, что слаб я на голову.
— Ладно, схожу.
Казик в своих расчетах почти не ошибся. С помощью Лидумса, чтобы супруга не испугалась такого неожиданного вторжения, Казимир начал разговор о военных годах, о событиях в ближайшем округе, на этой тихой улочке, где жили скромные служащие и рабочий народ. Жена Лидумса втянулась в разговор, постепенно оживилась.
— Свадьба? — ответила она на вопрос Казимира, — конечно помню. По-моему это была единственная свадьба на нашей улочке за всю войну. Здесь жили две работящие девушки. Дом был у них боевой. Я как наблюдатель видела, — она улыбнулась, — что приходили русские пленные, одетые кое-как, а выходили в приличной одежде, бедной, но без дыр хотя бы. Да, свадьба была. Скромная. Большинство было в униформе, я так и не поняла какой, но не в немецкой. Свадьба когда? Где-то осенью сорок третьего, так по-моему. А в декабре, на рождественские дни, их всех арестовали. О, это было страшно! Крики, шум, плач! Заломленные назад руки, какую-то типографскую машину у них якобы нашли. Так соседи говорили. Знаю ли я этих двоих? Черного в очках я точно знаю. Это Мухамед. Фамилия? Не помню. Сын владельца единственной в городе турецкой кондитерской, куда я девчонкой бегала и ему завидовала, что он может все сладости есть каждый день и сколько хочет. Да, я его знала, у нас были общие друзья, в юности все друзья. Вспомнила, вспомнила! Мальчишки его «рисом» прозвали. Значит, или «Ирис», или «Урис», как-то так. Вы хотите спросить, был ли он в этом доме? Как я догадалась, увидев его фотографию? Я видела его, когда он и еще один приехали на извозчике, остановились вот там, за углом, расплатились и пошли в дом на свадьбу. Почему я запомнила? Скажите, какая связь между сыном миллионера и этими бедными людьми? Он им, что, сладости принес? Он в гестапо работал, мне уже потом рассказали. Как я его узнала? У него была кличка Ушастый. Вы видели его уши? Они уникальны! Ну и главное, я знала его, знала. Приезжал ли кто-либо еще на извозчике? По-моему нет. Только он. Извините, да, был и второй, его попутчик. Но этот ли блондин? Не запомнила. Возможно. Но возможно и нет. Понимаете, когда видишь знакомого тебе человека, то все внимание ему. Он заслоняет. Ну, как это объяснить? Если бы с ним еще девушка была, то что-то отложилось бы в памяти. А так… да, приехали на извозчике вдвоем, но с этим ли? Не помню… Да, вот он стоит на свадебной фотографии. Каков подлец! Был ли Эрис при их аресте? Не могу сказать. Не заметила. Когда началась эта сцена, я от окна отъехала. Стала пить валерьянку…
Казимир рассыпался в благодарностях, хотя новостей особых не выведал. Но все-таки живой свидетель. Не помешает, да вряд ли поможет.
…Отпустив Конрада, новый шеф погрузился в раздумья. Воспоминания о Веронике приблизились, стали осязаемыми. «Кто организовал всю эту акцию по ее засылке? Все вмешались: и Балод, и Гром, и Лайвиньш, и сам я. Чья-то непродуманная идейка появилась, и все стали ее обсуждать с серьезным видом, хотя ее надо было выбросить, как окурок, и затоптать, чтобы он не тлел даже. К чему вообще женщину надо было посылать? Что, мужиками отряд иссяк? Кто-то сказал: женщина незаметней, а если две поедут вместе — и вовсе незаметно. Пальто пошить надо? Надо. Пошили - ну вовсе невидимкой Валя стала. Обо всем партизанские вожаки наговорились вдосталь на уровне деревенских баб на скамейке у дома. Но оперлись-то на кого? На какую-то непонятную личность! Шелест, Шелестов… В отряде месяца не пробыл, не проверен, подозрителен, о чем в Москву сами сообщили, прибыл от какой-то неизвестной организации и по проторенной им тропе отправляем в Ригу наших Валю с Тоней, двух девчонок. Какая-то чертовщина! А здесь еще эти крутятся: Рагозин, Гудловский. И тоже в Ригу. И Валю с Тоней они знают. Все смешали! Никакого понятия о конспирации, о построении нелегальных звеньев. Да, сейчас этот выдвиженец Конрад все по полочкам раскладывает. Надо отдать ему должное — парень с головой. Нам бы таких в те годы. А то Гром Сашка — главный разведчик, ни образования, ни опыта! Начать по Шелесту следствие? Это же тучи наших недоработок приплывут! Такую огласку вся наша прошлая неразбериха получит, что страшно подумать. Надо все взвесить основательно…»
Между тем Казимир бегал по следам Кромса, Лициса и Брокана. Тройка была совершенно разнокалиберной. Николай Кроме был здоровяком сорока пяти лет отроду, могучего сложения, с густыми рано поседевшими волосами, крупными чертами лица. Смотрел прямо выразительными темными глазами. Когда Казимир впервые увидел его, то восхитился такой яркой мужской красотой. «Прямо как римский воин — одень ему на голову шлем с перстня Зарса». В молодости он был шофером, жил в окрестностях Лиепаи, не бедствовал, жениться не торопился, образ жизни вел вольный, независимый. Везде в документах писал, что был немцами мобилизован на трудовой фронт и насильно вывезен в Германию. В те годы это было событием ординарным. Однако он написал заявление, что хочет поработать в Германии, и отправился. Не думал, что когда-нибудь эта его маленькая хитрость откроется и надо будет сидеть перед чуть моложе его лет крепышом с хитрыми глазами и плести ему всякую чушь. Как-никак он был директором сельской школы, районным депутатом. Не пристало ему бурчать о разных несусветных историях, которыми обычно баловали его мальчишки и девчонки в школе; А с другой стороны, что поделать? Казимир слушал внимательно, в своей манере, мало веря в его россказни, но усиленно кивая в знак согласия тому, что тот говорил. Где-то в апогее рассказа, как насильно угоняли молодежь из его уезда в Германию, Казимир молча сунул ему под нос его же заявление о горячем желании помочь рейху в решении задач промышленного строительства. Кроме одел очки, взял бумагу, поднес ее к глазам, прочитал, оставил на уровне вытянутой руки, покачал головой и сказал с кривой ухмылкой:
— Все копите?
— Ничуть, — помотал головой Казик, — просто наткнулись случайно. Сохранили ее немцы. Верно? Чтобы отчитаться, сколько добровольцев трудового фронта у них было. Мы получили эти бумаги без акта приема-передачи. А я сейчас сравниваю с нашими сведениями. У нас расхождения с ними: у нас добровольцев меньше зафиксировано, чем у них. Должно же уравнение быть решено? Вы детей так учите?
— Не издевайтесь, причем здесь дети?
— Притом, что директор у них доброволец, а директора не могут быть добровольцами немецкого трудового фронта и молчать об этом пятнадцать лет.
— Так что, мне из школы уходить?
— Решайте это с районо. Меня сейчас интересуют другие вопросы, и при их рассмотрении я надеюсь найти с вами взаимопонимание. Не знаю как вы. Так что вы в Гамбурге делали?
— Работал на заводе сельхозмашин.
— Не там, где танки ремонтировали?
— У меня свидетели есть, с которыми я на заводе работал. Сеялки, культиваторы клепали. От зари и до вечера. Не верите? — обиделся Кромс.
— Верю. Раз свидетели есть, то верю. Как тут не поверишь? Но свободное время тоже было? Тоже свидетели есть. Не все же силы рейху отдавались и себе что-то надо было оставить.
Здесь Кромса прорвало. Он стал посвящать Казимира в вечернюю жизнь Гамбурга. Названия кабаков, пивных, ресторанов так и посыпались на Казика, который стал активно разделять восторги Кромса и в такт им кивать головой, когда тот закатывал глаза, и с умыслом недоверчиво посматривать на него, когда он расхваливал сорта пива с тем, чтобы Кромс окончательно утвердился в его, Казимира, бескорыстном интересе. Апофеозом повествования Кромса были зарисовки гамбургских борделей, где, по его словам, учитывая морскую специфику города, сосредоточились наиболее стойкие силы Европы. Успехи Кромса на сексуальной ниве не имели аналогов в Гамбурге. Все буквально бросались и пожирали его, и одна немка захотела даже устроить его по этой самой причине в войска СС, но он сбежал от такой чести. Когда Кроме стал повторяться, то Казик вдруг поднял свою левую ладонь, обратил ее к собеседнику и спросил:
— Послушайте, когда вы дали немцам подписку о сотрудничестве?
— В июне сорок третьего, — автоматически ответил тот, поперхнулся и закашлялся от такого признания.
— Продолжайте.
— О чем? — глупо спросил Кроме.
— О сотрудничестве с германскими властями. Насчет дам пока антракт. С кем имели вы дела?
Только здесь до Кромса дошло, в какую яму его на ходу посадил этот вроде бы сельский дядька с неуемным желанием слушать о ночной жизни больших европейских городов и разомлевший от описания дамских линий. Кромс сник.
— Но, послушайте, это было вынуждено. Они подловили меня…
— Всех ловят, — мирно заметил Казик. — На чем, на дамах или на чревоугодной похоти по отношению к слепым еще поросятам? — внезапно рявкнул Казик.
— На автоаварии, я же был шофером и вот… за два месяца до выезда…
— Попали под знак? — вспомнил Казик рассказ Зарса о профессоре и гаишнике.
— Нет, ребята стащили муку с немецкого склада, я повез и перевернулся. Немцы, полиция думали, что это для партизан, ну и началось. Допросы, вопросы, угрозы, предложения. Я и согласился.
— Сколько вы выдали наших патриотов?
— Поверьте, до сентября сорок третьего — никого, не было никакой нужды.
— А потом?
— Потом поездки в Германию, полгода в Гамбурге, затем вернулся к себе домой в Гробини под Лиепаей.
— Ну и?
— Тогда выловили двух парашютистов — диверсантов. Я принимал участие в облаве. Там и другие участвовали. У меня свидетели есть.
— Раз есть, то хорошо.
«Не отвертишься, если даже передумаешь, — про себя улыбнулся Казимир. — Но он же был им нужен до поездки в Германию? И не для заштатного завода по производству сеялок, и не для гамбургских борделей».
— Вы сказали — за два месяца до поездки?
— Да.
— А поездку предложили после того, как вы пошли на сотрудничество?
— Да.
— Какую же просьбу высказали вам перед выездом?
— Да особо никакой, сказали, что надо за одним из троих особо понаблюдать: не будет ли он отлучаться на остановках, бросать письма, с кем-то встречаться в поезде…
— Это за кем же?
— Из нашего купе. Лицис. Эвалд, по-моему. Но он никакой не латыш, он еврей. У него документы поддельные.
— Почему вы так думаете? Вы уверены? Как это — еврей и бежит в Германию? Вы что-то, дорогой Кромc, путаете.
— Я ничего не путаю. Вы что, думаете, я из пальца сделанный и только в заморских бабах разбираюсь? Он ни словом, ни жестом себя не раскрыл. Но ведь акцент-то был, да мало ли по какому признаку можно было определить! И вся эта поездка была каким-то темным делом…
— Еще бы, личности в купе собрались далеко не святые и даже не светлые, — откомментировал Казик…
— Последним в купе влетел некий Брокан Антон, — прервал его расхрабрившийся Кромс.
— Подожди, подожди, дядя, — перешел на свойский язык Казимир, нащупавший слабую жилку Кромса, желавшего каким-то образом заинтриговать своими наблюдениями над попутчиками по купе, и посчитавший Кромса созревшим, чтобы открыть его скважины сведений, как до него приоткрывали их Зарс и десятки других умников, спасавших свои шкуры.
— Подожди, подожди, дядя, — повторил Казик, — Кто тебя инструктировал перед выездом в Германию?
— Насколько я понял немцев, сотрудник военной разведки, в форме подполковника люфтваффе, фамилию он прошамкал неразборчиво, и латыш один с безукоризненным пробором, средних лет.
— Пуриньш?
— Я фамилию не знаю, но подполковник называл его Александром. Вот так. Вспомнил.
— Думаю, ты этого и не забывал. Что известно еще о Лицисе?
— Документы ему в Лиепае, как и мне, оформлял мой брат, работавший там в гебитскомиссариате. Я Лициса у него встречал.
— Куда же ваш брат девался?
— Он погиб при бомбежке.
«Жалко, — подумал Казимир, — вот это был бы свидетель».
— Так чем был интересен Антон Брокан?
— Этот совершенно непонятным типом оказался. Он до последнего времени в Лиепае был в команде расстрельщиков. Они убивали советских активистов, евреев. Вечно бегал по городу, как оглашенный, кого еще схватить. И вот появляется в нашем купе прилично одетым и заводит любезные разговоры с Лицисом. Я глазам своим не поверил. Всю дорогу только нас и посвящал в то, что он правоверный католик и едет в Рим на учебу.
— Надо понимать, делал из вас троих свидетелей, которые могли бы в случае нужды тоже подтвердить его католический статус. Куда он исчез? — спросил Казик.
— В Гамбурге он как вылетел из купе, так его и видели. В сорок четвертом он объявился ксендзом в Литве. Но больше я о нем ничего не слышал.
— Ну а Зарc, Лицис, эти что?
— Зарса я в Гамбурге встретил в одном борделе. Рассказать? — несмело предложил Кроме.
— Пока не стоит, — вежливо отказался Казик. — Меня Лицис заинтриговал.
— Да, он парень интересный. Я его встретил в кабаке в Гамбурге…
— У вас все интересно, что с публичным домом или с кабаком связано, не так ли? — Казику стиль и темы разговора собеседника уже начинали надоедать.
— Все-таки послушайте, — продолжил Кроме. — Он был не один, а с немцем каким-то. Плюгавеньким таким. Я не знал, что и думать. Не в его-то положении с немцами дружбу водить. Посидели, выпили по рюмке. Потом он предлагает, что, мол, зайдем ко мне, я здесь неподалеку живу. Пошли. Комнатка такая ободранная, ничего там особого не было: кровать, умывальник, стул, стол. Вытащил он бутылку шнапса. Дернули. Немец, вроде как упившись, задремал. И тут Лицис мне предлагает, что хватит тебе на этом вонючем заводе вкалывать, махнем в Швейцарию, хочешь? У меня тетка там обитает. Я сразу протрезвел, глазами захлопал и сказал ему, что зайду через неделю, обсудим без этого мурла — немца, который рядом сопел. Через неделю зашел, а он там уже не проживал. Вот так-то. После войны я слышал, как он выступал, рассказывал, что в Швейцарии жил, в деятельности антифашистского подполья участвовал.
— Я тоже слышал об этой истории, — невозмутимо сказал Казимир. — Ладно, время позднее, идите, отдыхайте. Вы в какой гостинице остановились? В «Темпо»? Хорошо. Завтра жду вас с утра, часов в десять, устраивает?
— Не знаю кого как, но меня посещать ваш дом — не устраивает.
— Врать надо было меньше, насильно угнанный, и дорожка жизненная была бы у тебя прямой, мимо нашей конторы.
Выпроводив Кромса, Казимир пошел к Конраду.
— Уравнение номер три, — и Казимир рассказал о Лицисе.
— Что-то Кромc у тебя быстро поплыл. Как по заказу. Не скрывается ли за выложенным меньшим большее?
— Понял он нормально. За ним самим ничего такого не просматривается. Кому он нужен был, кроме как присматривать за Лицисом в поезде? Встреча его с тем в кабаке — случайность. Могла быть, могла и не состояться.
— Да. Но присутствие этого плюгавенького, комната в самом Гамбурге, треп о Швейцарии. И Лицис действительно в этой стране жил. Какая-то загадочная история! А может, Кроме все придумал, чтобы завоевать наши симпатии с учетом того, что знает о швейцарском периоде Лициса.
— Придумал? — Казик вопросительно пожал плечами. — Исключать нельзя. Надо все по датам разнести. Встретились они где-то в конце октября. Каким образом Лицис в Швейцарию перебрался?
— Я сейчас не отвечу. Надо спросить у коллег.
— Ладно. Я продолжу с Кромсом. К вечеру сойдемся. Идет?
Конрад кивнул головой.
Кромc в десять не пришел. Не было его и в одиннадцать. Явился он в начале первого. Был помятым, каким-то измученным, с потухшим взглядом.
— Что так поздно? Заспались? — начал Казимир. Тот вначале помолчал, потом попросил стакан воды. Выпил залпом, так что кадык заходил на высоко вытянутой шее.
— Видите? — показал он на шею. — Ходил на кладбище, где первая жена похоронена. Хотел повеситься рядом с могилой, на дереве. Видите шрам на шее? Веревка оборвалась, когда я с памятника соскользнул, — сказал он и заплакал.
«Вот тебе и легко поплыл. Хорошо, что поплыл. Чего только в жизни не бывает? Вчера бордельными делами меня веселил, сегодня вешаться пошел. Спасибо гнилой веревке», — думал Казимир.
— Да не следует так убиваться, — сказал он. — У вас же семья, дети.
— Как я буду выглядеть перед ними? — тихо промолвил Кроме. — Мое положение летит, членство в партии, депутатство, — все к чертям собачьим?
— Милый мой, но думать тоже надо было раньше. Нам ваша кровь не нужна. Но от партии ничего скрывать нельзя. Пойдите в райком, поделитесь своими делами. Может, что и посоветуют.
Разговор вышел тяжелым и напряженным. Ничего дополнительного о Лицисе и Брокане выяснить не удалось. Казимир решил увидеться с Кромсом через какое-то время, тот должен был успокоиться…
— Лицис после войны рассказал, что из Гамбурга он перебрался в Нюрнберг. Там ему удалось купить документы какого-то немца, с которыми поехал на германо-швейцарскую границу. День он выискивал место перехода и ночью перешел ее, — важно прочитал Франц с какой-то карточки.
— Фантастика, — сказал Казик.
— Ты слушай дальше, — улыбнулся Конрад, — он оказался в Швейцарии, разыскал там свою тетку и стал там поживать и добра наживать, — Конрад сделал паузу и закончил, — как в сказке. Но и это еще не все. Живя в Швейцарии, он переписывался с Другом, Броканом, который учился в Италии, в семинарии. Вот так.
— Фантастика, — мотал головой Казимир. — Если он сбежал в Швейцарию, то зачем ему был нужен Брокан, охотившийся за такими, как он? Ну, я понимаю, в поезде вместе были. Но какая здесь дружеская основа? И где этот Брокан теперь?
— В Англии. Всего-навсего в Лондоне, — ответил Конрад, сложил карточки и стал постукивать ими по столу.
— Это какая-то сказка. Ездить так по Германии. Миновать границы, как железнодорожные переезды. А что это такое? — спросил Казимир, показав на истертый на сгибах какой-то документ. — Я это не видел?
— Ты его не видел. На, посмотри. Временное удостоверение личности Лициса, полученное им в сорок втором здесь, в Риге. Но как он его тащил по всей Германии и рядом держал документ, купленный у немца? И сохранил его. Оригинальный текст писал какой-то немец, ошибки типичны, а переписывал кто-то со всеми ошибками…
— Подожди, подожди! Но почерк, почерк! Похож ли он на документы «центра»? — заволновался Казимир.
— По-моему, почерк не тот. Доложим начальству. История загадочная. Но заниматься им нам не дадут. Отдадут тем, кто считает, что «там ничего нет». Такой у них девиз в отличие от Фединого — «а что это дает?»
— Не завидуй, — сказал Казимир. — Замысел этим ребятам вынашивали деятели типа Панцингера, а может, и повыше. И не каждый из наших «слонов» способен его разгадать…
Послесловие
Наша история не закончилась на мажорной, победной ноте. Но именно так часто складывается жизни. В то же время у читателя, думаю, не создалось впечатления, что германская контрразведка действовала безошибочно. В книге приведено несколько абсолютно документальных ситуаций приобретения агентуры в хваленых вермахте и абвере, польской и американской, разведками, а также сказаны добрые слова в адрес разведывательной организации немецких антифашистов, снабжавших Москву ценной военной информацией. Германские. «слоны» плюхались при этом в такие лужи, что только брызги летели. Уверен, что если бы руководство «Красной капеллы» осуществлялось на уровне Берзиня и Артузова — она просуществовала бы не столь короткое время и основные секреты противника продолжали бы находиться в наших руках.
Очевидно, следует обрисовать судьбы действующих лиц повести. У одних жизнь окончилась в трагическом для них сорок четвертом. Именно тогда были казнены Имант Судмалис, Вероника Слосман, Ольга Грененберг (это настоящая фамилия Ольги; автор сохранил за собой право на художественный вымысел и не стал ее употреблять, так как к истории направления разведчицы в тыл шеф вовсе не был причастен, а он лицо реальное) и их боевые соратники.
У других, как например у Канариса, жизненный путь подошел к концу за месяц до окончания войны. У третьих — к ним относится Панцингер — в те дни, когда разворачивались описанные в повести поиски истины. У четвертых… Однако хочется сказать не только о судьбах отдельных личностей — героев и подлецов, но и объяснить место «грязных операций» охранок. Именно во множественном числе. Или германской, о делах которой было сказано достаточно, или американской, или, наконец, нашей родной, которую создал и которой практически руководил лично Сталин. И, пожалуй, следует начать с феномена тайного проникновения в среду борцов с режимом, более сложного для понимания, ибо в конце концов это и приводило к гибели наших патриотов на всей временно оккупированной территории. Почему в повести много места уделено провокаторам, этим марионеткам, которых дергали за веревочки деятели германских карательных органов?
Потому что так и было на самом деле. Много лет эта тема у нас изящно замалчивалась. Тем не менее думаю, в повести удалось приоткрыть завесу над всей этой грязной адовой кухней.
Охранки способны на самые подлые дела, для исполнения которых нужен лишь неустойчивый человеческий материал, бесчестные люди, падкие на деньги.
Если бы Судмалис, Банкович, Скрейя, Слосман, Грененберг, десятки тысяч наших патриотов во время войны избежали бы гестаповской паутины, сражались и уцелели? Германская армия не удержалась бы на нашей территории. Потоптались бы, как воинство Наполеона… и конец войне мог наступить на год-полтора раньше?
Думается, что в предреволюционные годы Сталин с упоением изучил и перенял для себя механизм провокаторства, сулящий ему огромные личные выгоды. Превращение НКВД в своем большинстве в беспринципных малограмотных исполнителей, получивших всеобъемлющие права на арест членов ЦК, депутатов Верховного Совета, вообще любых граждан страны, официальное разрешение на их пытки, их уничтожение или заключение, поощрение доносительства, — все это породило чудовищный организм подавления партии и народа. Если бы этого не случилось, неизвестно еще, пошел бы Гитлер на нас войной, как сделал это, увидев глазами своей разведки ослабленное и обескровленное государство.
Вот что значат «грязные операции» и их последствия. Из прошлого они упорно проникают в наш сегодняшний день. Отсюда их актуальность. Нам необходимо пересмотреть, обновить, изменить заскорузлые, старые, изношенные за десятки лет системы формы оперативной, следственной, прокурорской, судебной, законодательной деятельности с тем, чтобы в них не могло больше гнездиться порочное, бездушное, беззаконное отношение к человеческой личности. Мы должны стремиться к тому, чтобы весь этот организм власти гарантировал и защищал права личности. Старые формы, хотите вы этого или нет, сохраняют остатки того старого, для нас уже неприемлемого сталинского наследия, хотя далеко не каждое ведомство в этом признается.
Но… вернемся к судьбам людей, ставших прототипами героев. Вскоре после проведенного 25 мая 1944 года «суда» в Рижской тюрьме казнили Иманта Судмалиса и Джемса Банковича. Малдс Скрейя был в день казни в тюремной больнице. Его умертвили в душегубке 27 июля. В своем предсмертном письме родным Имант писал: «…Я оглянулся на пройденный путь и мне не в чем упрекнуть себя — я был человеком и борцом…» 2 августа была расстреляна Вероника Слосман, о чем заключенные узнали по возвращению в тюрьму того нарядного ее пальто, которое ей пошили в отряде. Два месяца, только два месяца удалось Вале продержаться на свободе в Риге и затем семь месяцев протомиться в тюрьме в ожидании смерти! В этот же день, 2 августа, была расстреляна Ольга Грененберг. Будучи заброшенной в первые месяцы войны на абсолютно неподготовленной основе, Ольга пробыла на оккупированной территории немногим более двух лет, причем из двадцати шести месяцев — шестнадцать в тюрьмах и только 10 месяцев на свободе, на родине ее родителей, увидеть которую Ольга мечтала всю свою жизнь. В Рижской центральной тюрьме ее пытали, избивали, ломали, но она молчала и никого не выдала. Истязали ее в тюрьме и Рагозин о Гудловским, которые из особо секретных агентов превратились в заплечных дел мастеров.
Не все выдерживали пытки и смогли противостоять гнусной лжи гестаповцев. По свидетельству очевидцев, подруга Шабаса — Кокарс Тамара — была вызвана на допрос и неделю или две не возвращалась в камеру, а вернувшись спустя две недели рассказала, что немцы ее заверили — если даст правдивые показания о подпольщиках, то получит привилегии вплоть до освобождения. В противном случае — смерть. Она поверила им, пошла на такую сделку, указала на некоторые квартиры патриотов. Ее вновь возвратили в камеру. Она страшно переживала за содеянное, за то, что поверила врагу, сокрушалась, плакала, раскаивалась. Ее расстреляли. Шабас Иван, ее муж, ареста избежал, но умер или погиб сразу после войны в своей деревне Лаудари при очень загадочных обстоятельствах. Мария Ликумс, Эмилия Бриежкалне, Адель Долговская отбывали наказание в лагере, после войны проживали в Риге, Стефания Долговская — погибла.
Канариса арестовали на третий день после покушения на Гитлера 20 июля 1944 года. Этому предшествовали аресты ряда сотрудников абвера, переходы нескольких агентов Канариса к англичанам, обнаружение СД документов, уличающих адмирала в связях с британской разведкой и в негативном отношении к фюреру. В феврале 1944 года абвер был распущен и включен в состав четвертого управления РСХА, которое возглавлял старый конкурент адмирала — Шелленберг. Полгода Канарис дожидался своей участи, находясь на второстепенной должности начальника управления экономической войны. Он надеялся пересидеть здесь финал войны и поражение Германии, но покушение на Гитлера, заговор, в котором принимали участие высшие военные чины — личные друзья адмирала, решил его судьбу…
…Его поместили в лагерь Флоссенбюрг, куда в марте 1945 года приезжал начальник РСХА Кальтенбруннер и о чем-то с ним говорил. 6 апреля в лагерь прибыл штандартенфюрер Хуппенкоттен, преемник Панцингера на посту начальника отдела IV А четвертого управления (гестапо). Он вел дело 3 Канариса до и после его ареста. В течение трех суток Хуппенкоттен жестоко допрашивал адмирала, избивал его, а 9 апреля, за месяц до окончания войны, Канариса повесили как изменника рейха.
Панцингер вернулся в Берлин в мае 1944 года. К этому времени, по оценке Кальтенбруннера и Мюллера, в Остланде, благодаря успешной деятельности оберфюрера в движении Сопротивления, наступило затишье. Панцингера назначили начальником пятого управления (криминальной полиции) и несколько позже он стал одновременно заместителем Кальтенбруннера. Пробыв в советском плену десять лет, Панцингер в 1955 году вернулся в Западную Германию, где стал служить в находящейся под контролем американцев разведывательной организации генерала Гелена, который во время войны возглавлял военный разведывательный орган — отдел Иностранные армии Востока в верховном командовании сухопутной армии. После официального образованию БНД во главе с Геленом, Панцингер, равно как и некоторые другие бывшие одиозные гестаповские фигуры, был вынужден уйти из БНД. Однако он продолжал оказывать услуги Гелену в частном порядке. В конечном итоге над головой Панцингера стали сгущаться тучи: в прокуратуре ФРГ появились документы о причастности этого гестаповца к преступлениям по отношению к участникам движения Сопротивления и к убийствам евреев. Началось следствие, Панцингера арестовали, однако в тюрьме он покончил с собой. Произошло это в 1960 или 1961 году. Так закончились карьеры двух «слонов», представителей конкурирующих ведомств, которые сообща плели заговоры против Сопротивления.
Следы Тейдеманиса и Пуриньша затерялись где-то на Западе. Эрис перебрался в Турцию. Гудловский во время одной из пьянок застрелил своего дружка Чувикова.
…Новый шеф долго думал, что же делать с Шелестом. Конрад раз пять прочитал ему вслух все основные материалы. Шеф внимательно слушал и, был не рад тому, что установили в поисках истины Конрад с товарищами. Его устраивал уже устоявшийся ореол героизма вокруг Вали, Ольги, Иманта. Открывшаяся роль Шелеста взбудоражила его: она как бы бросала тень на деятельность его современников по тому уже далекому прошлому.
«Что изменится, если мы отнесемся к Шелесту сурово? Героев уже не вернуть. Статья из кодекса за такие дела выброшена», — думал новый шеф. Вслух он сказал:
— Следствие проводить не будем. О бесспорных, доказанных фактах его предательской деятельности, об обмане им партии сообщим в ЦК.
Шелеста из партии исключили. Возможно, кто-то скажет, что вот, мол, бегали, работали, а эффектной концовки не получилось. Согласен! Не получилось. Но повесть — документальна. Так все происходило в реальной жизни.
И еще одно замечание перед тем, как поставить финальную точку. Надеюсь, читатель понял, что книга правдива. Но все ли правда, о чем написано, а если присутствует вымысел, то много ли его? Основные события повести базируются на документах, архивных материалах и других исторических источниках.
Приложения
Спецслужбы нацистской Германии
СС и СД
Еще до своего прихода к власти в стране Гитлер во многом полагался на созданные при его партии спецслужбы, призванные выявлять и уничтожать врагов нацизма. Самой первой из них стала СА (аббревиатура от Sturmabteilung — «штурмовой отряд»). Основанная в 1920 году, она представляла собой шайку самых настоящих головорезов и комплектовалась из фашиствующих уличных хулиганов. «Штурмовые отряды» несли охрану на партийных митингах, дрались с коммунистами и имели в своем распоряжении примитивный контрразведывательный аппарат.
В 1934 году зарвавшаяся верхушка СА по личному приказу Гитлера была вырезана боевиками элитного подразделения его телохранителей — СС (аббревиатура от Schutzstaffel — «отряд охраны»). Вскоре СС превратилось в мощное ведомство политической полиции со своей собственной разведывательной организацией — СД (от Sicherheitsdienst — «служба безопасности»). Шефом СС стал Генрих Гиммлер. СС было не только службой политической полиции, но и карательным органом, проводившим в жизнь политику государственного террора.
В ведении СС находилась разветвленная система концентрационных лагерей. Впоследствии арсенал устрашения «обогатился» так называемыми лагерями смерти и расстрельными командами, которые занимались исключительно массовыми убийствами людей. Перед СД же поставили задачу «выявить врагов идеи национал-социализма».
На момент нападения Гитлера на Польшу в сентябре 1939 года Германия уже располагала сложным аппаратом, одна часть которого надзирала за гражданским населением, а другая выполняла традиционные функции служб военной разведки.
РСХА
Reichssicherheitshauptamt — Главное управление имперской безопасности. Верховный штаб нацистских спецслужб времен Второй мировой войны. РСХА было образовано в 1939 году с тем, чтобы объединить в себе германскую тайную полицию и службы государственной безопасности (включая гестапо и СД). Во главе РСХА был поставлен Рейнхард Гейдрих, а после того как в июне 1942 года он был убит чешскими партизанами (подготовленными англичанами), его сменил Эрнст Кальтенбруннер.
3-е управление РСХА курировало «боевые группы» (Einsatzgruppen). Под вполне безобидным названием скрывалось их зловещее предназначение: физическое уничтожение людей в массовом порядке. За время войны «боевыми группами» в оккупированных странах было убито 2 миллиона человек, в том числе женщин и детей (процедура была стандартная: жертву расстреливали и сбрасывали в заранее приготовленную яму или ров).
4-е управление РСХА отвечало за «окончательное разрешение еврейского вопроса» и возглавлялось Адольфом Эйхманом.
Гестапо
Гестапо (акроним от Geheime Staatspolizei — «государственная тайная полиция»), являясь, пожалуй, самой мрачной карательной организацией Третьего рейха, безжалостно расправлялось с оппозицией нацистскому режиму как внутри самой Германии, так и на оккупированных немцами территориях, занималось ведением разведки и подрывной деятельности в разных странах, а также курировало «работу» разветвленной системы концентрационных лагерей и лагерей смерти, созданной нацистами. Официально основная задача гестапо формулировалась следующим образом: расследования и ликвидация оппозиции.
Гестапо было создано в 1933 году Германом Герингом взамен прусской политической полиции. Первым начальником стал Рудольф Дильс. Поначалу по указаниям Геринга гестапо проводило аресты и казни противников нацистской партии. Но после назначения в апреле 1934 года Генриха Гиммлера гестапо расширилось, превратившись в аппарат политических репрессий при СС (военизированная структура, являвшаяся своего рода «боевым авангардом» нацистской партии, которую также возглавлял Гиммлер).
Впоследствии Гиммлера повысили в должности, и он стал рейхскомиссаром, ответственным за укрепление системы безопасности Третьего рейха, а в октябре 1939 года в его ведение была передана только что аннексированная Польша. На посту шефа гестапо его сменил Генрих Мюллер. Он руководил гестапо в самые мрачные годы истории этой организации и сыграл одну из ключевых ролей в так называемом «окончательном разрешении еврейского вопроса».
Основной закон, регулирующий деятельность гестапо, был принят 10 февраля 1936 года. С тех пор эта организация приобрела полную власть над жизнью людей, которых считали врагами государства. Гестапо распространило свое влияние не только по всей Германии, но и на оккупированные немцами европейские страны. Бесчисленное число жертв было брошено в концентрационные лагеря, а других просто подвергали пыткам и казнили. Иногда в попытке прикрыться лицемерным фиговым листком законности гестапо направляло дела обвиняемых в так называемые «народные суды», находившиеся под его полным контролем. Судьи этих заведений снискали себе мрачную славу тем, что неизменно выносили лишь один приговор — смертная казнь. Действия и приказы гестапо не подлежали никакому обсуждению или обжалованию. Один из подручных Гиммлера доктор Вернер Бест сказал: «До тех пор пока полиция будет проводить в жизнь волю руководства, все ее действия будут считаться законными».
Гестапо входило в РСХА на правах отдела.
Летом 1940 года немцы оккупировали часть Франции, а на остальной территории сформировали пронацистский режим Виши. В захваченных районах абверу, СД и гестапо очень скоро пришлось столкнуться с французским движением Сопротивления, борьбой которого отчасти руководила из Лондона служба французской разведки БСРА. Активно пользуясь услугами информаторов и проводя политику безжалостного террора, СД и гестапо взялись «наводить порядок».
Немцы казнили по 100 заложников-французов за каждого своего соотечественника, убитого французским подпольем (боевые действия против немцев вели, в основном, отряды партизан «маки»). Насколько известно, немцы уничтожили 29 660 заложников, и еще 40 000 французов были замучены в тюрьмах. Некоторых увозили из страны, и они больше не возвращались. Их убивали или, как говорили сами немцы, «vernebelt» («они исчезали в тумане») в соответствии с директивой «Ночь и туман» («Nacht und Nebel Erlass»), проводимой в жизнь службой СД. Гитлер издал эту директиву в декабре 1941 года, пытаясь отыскать адекватную замену публичным казням, создававшим вокруг жертв ореол «мучеников». Во исполнение директивы NN, как ее называли в СД, граждан оккупированных стран вывозили в Германию, где они «исчезали без следа». Информацию об их местопребывании и конечной участи получить было невозможно.
С еще большей жестокостью гестапо и СД действовали на оккупированной территории СССР.
Абвер
Германская служба военной разведки с 1921 по 1944 год. Название образовано от слова «Abwehren», которое означает «отражение нападения» и понимается как контрразведка или контршпионаж. Использование именно этого слова в названии службы военной разведки стало уступкой державам — победительницам в Первой мировой войне, которые настаивали на том, чтобы вооруженные силы потерпевшей поражение Германии впредь выполняли исключительно оборонительные функции.
Абвер был образован в 1921 году в составе министерства обороны, после того как Германии позволили вновь иметь свою армию — рейхсвер. Первым шефом абвера стал майор Фридрих Гемп, бывший заместитель полковника Вальтера Николаи, руководившего германской разведкой в годы Первой мировой войны. На момент основания в абвере работало всего три офицера, семь бывших офицеров и несколько клерков. К середине 20-х годов было образовано три управления:
I Разведка.
II Шифровальное дело и радиоперехват.
III Контрразведка.
В 1928 году в абвер включили разведывательный аппарат военно-морских сил Германии. В начале 30-х годов (время возвышения национал-социалистской рабочей партии Адольфа Гитлера) министерство обороны подверглось реформированию, и 7 июня 1932 года неожиданно для всех во главе абвера оказался морской офицер, капитан 1-го ранга Конрад Патциг. Большинство сотрудников ведомства принадлежали к сухопутным силам. Назначение Патцига, возможно, было вызвано тем, что абвер в те годы считался еще весьма небольшой и невлиятельной организацией, и среди честолюбивых армейских офицеров не нашлось охотников возглавить ее. Вдобавок, моряки имели существенно больший опыт в международных делах в отличие от своих коллег из сухопутных сил.
Со временем во всех трех видах вооруженных сил Германии (армия, авиация и флот) появились свои разведывательные управления.
Вскоре Патциг вступил в конфронтацию с шефом СС Генрихом Гиммлером из-за разведывательных облетов польской границы. Руководство вооруженных сил опасалось, что эти полеты поставят под угрозу разглашения тайные планы вторжения в Польшу. В январе 1935 года Патциг был уволен и заменен на Вильгельма Канариса, тогда тоже еще капитана 1-го ранга (Патцига отправили в «почетную ссылку» командовать новым легким линкором «Адмирал граф Шпее», а впоследствии назначили начальником управления кадров ВМФ). В 1937 году Адольф Гитлер решил «помочь» советскому диктатору Иосифу Сталину, развязавшему массовые репрессии против руководства Красной Армии, и это, как ни странно, еще больше осложнило отношения между СС и абвером. Гитлер приказал держать офицеров германской армии в неведении относительно планируемых провокаций, направленных на компрометацию советских военных руководителей, опасаясь, что они предупредят своих советских коллег. Несколько специальных отрядов СС (каждому придавался специалист по взлому замков и сейфов из криминальной полиции) были посланы в офисы Генерального штаба и абвера с заданием изъять все документы, относившиеся к советско-германскому сотрудничеству в военной области. А в целях сокрытия факта взломов в зданиях (в том числе и в штаб-квартире абвера) устраивались пожары.
В 1938 году Гитлер ликвидировал военное министерство и создал ему на замену ОКБ (Oberkommando der Wehrmacht — «Главное командование вооруженных сил»). Абвер соответственно перешел в подчинение новой структуры на правах разведывательного подразделения, хотя и относительно самостоятельного. В том же 1938 году Канарис реформировал свое ведомство, образовав в нем следующие главные управления (просуществовавшие в течение следующих шести лет).
I Внешняя разведка:
G подделки документов;
H West армий Запада (англо-американская разведка);
H Ost армий Востока (советская разведка);
Ht военно-техническое;
I связи;
L авиации;
M военно-морских сил;
T/Lw авиатехническое;
Wi экономическое.
II Саботаж (диверсии).
III Контрразведка.
Абвер имел полномочия на вербовку собственной агентуры и работу с ней, а также располагал своим Шифровальным управлением, специалисты которого занимались перехватом иностранных военных и правительственных каналов связи.
При Канарисе абвер значительно расширился и на начальных стадиях Второй мировой войны действовал относительно эффективно. Но в целом германская военная разведка оказалась неэффективной. И отчасти даже не по своей вине. Просто многие добытые абвером разведывательные сведения о намерениях и планах союзников не «укладывались» в планы Гитлера и оказывались неприемлемыми для германского руководства. Больше того, абвер находился в состоянии открытого конфликта с разведывательными подразделениями СС, которые возглавлялись Рейнхардом Гейдрихом и Вальтером Шелленбергом. Наконец, сотрудники абвера оказались замешанными в ряд заговоров, направленных против Гитлера, и даже предоставили взрывчатку, которая была использована при покушении на жизнь фюрера. Канарис устроил на службу в абвер несколько евреев, а некоторым другим организовал побег из Германии в Швейцарию. 18 февраля 1944 года Гитлер подписал директиву о создании единой разведывательной системы в Германии под общим руководством шефа СС Гиммлера. Канарис (к тому времени уже вице-адмирал) был понижен в должности, а после так называемого «заговора генералов» (неудачная попытка покушения на жизнь Гитлера, предпринятая в июле 1944 года) арестован и казнен незадолго до окончания войны.
Иностранные армии Востока
Fremde Heere Ost — Иностранные армии Востока. 12-е управление Генерального штаба германских вооруженных сил, отвечавшее за ведение военной разведки на восточном (русском) фронте в годы Второй мировой войны. Образовано 10 ноября 1938 года.
Как и иностранные армии Запада (3-е управление), 12-е управление вело разведку по самым различным направлениям, получая информацию многих источников: агентура, радиоперехват и дешифрование сообщений, допросы военнопленных, воздушная разведка, наблюдатели с переднего края и так далее. Подобной же работой занимался и абвер, но у него имелись в распоряжении свои источники (агенты) и оперативные возможности.
Когда в сентябре 1939 года на европейском театре военных действий вспыхнули первые бои, Иностранные армии Востока квартировались в Цоссене, что в 30 с лишним километрах к югу от Берлина. Там же размещался Генштаб. Но после нападения Германии на Советский Союз в июне 1941 года Иностранные армии Востока перевели вместе с другими структурами Генерального штаба в ставку фюрера в Восточной Пруссии, около озера Мауэрзи (теперь озеро Мамры на территории Польши).
Иностранные армии Востока, особенно под началом полковника Рейнхарда Гелена, поставленного во главе этого управления в апреле 1942 года, провели большую и успешную работу по выявлению, установлению численности и дислокации советских войск, брошенных на отражение германского нападения. Историк разведки Дэвид Кан в своей книге «Гитлеровские шпионы» («Hitler’s Spies», 1978) отмечает:
«Тщательность и точность Гелена, во-первых, способствовали усилению его авторитета, а во-вторых, изменили традиционно негативное отношение германского военного руководства к разведке. Действовала также умно поставленная пропаганда. А однажды Гелен выпустил брошюру, в которой, как утверждалось, сумел «точно предугадать намерения противника, в некоторых случаях на несколько месяцев вперед». Третьим фактором была благоприятная для Гелена обстановка. Немцы перешли после зимы 1942/43 годов к обороне и в этих условиях больше нуждались в информации о противнике, чем если бы они наступали. К тому же силы их на Восточном фронте уже начинали постепенно иссякать, а поскольку точные разведданные в значительной степени компенсировали понесенные потери, немецкие генералы с благодарностью принимали помощь Гелена».
Но Иностранные армии Востока также повинны и в некоторых крупных просчетах. Порой составленная ими неверная оценка советских планов и намерений приводила к весьма плачевным результатам. Так, 22 июня 1944 года, в третью годовщину начала войны на Восточном фронте советские войска (численность которых была эквивалентна четырем армейским группам) обрушились в центр немецкой обороны как раз в том месте, где, по прикидкам Гелена, наступления можно было не опасаться. Немцы дрогнули, были смяты и, прежде чем они успели опомниться, откатились назад на несколько сотен километров.
Спецслужбы СССР
В октябре 1917 года большевики захватили власть сначала в Петрограде, а затем в Москве и некоторых других городах. Ряд бывших царских генералов и верные им войска не подчинились воле большевиков, и страшная революция переросла в еще более страшную гражданскую войну, в которой красные (революционеры) противостояли белым. Если первые требовали установления так называемой «диктатуры пролетариата», то вторые в своем большинстве — реставрации в России монархического строя. И, надо сказать, что белые вскоре нашли себе зарубежных союзников.
Англичане, которым необходимо было во что бы то ни стало удержать Россию в войне против Германии, поручили Рейли и другим своим тайным агентам найти какой-нибудь способ свержения установившегося в стране большевистского режима. Рейли и Брюс Локкарт (британский разведчик и дипломат) оказались замешанными в неудавшемся заговоре. На Ленина было совершено покушение, и он был тяжело ранен. Красные свалили ответственность за это покушение — и, возможно, небезосновательно — на англичан, активно поддерживавших контрреволюционные силы в России. Одно время Рейли утверждал, что под его началом находилось до 60000 человек, готовых выступить против. В такой сложной для красных обстановке, на волне заговоров, контрреволюции и всевозможных тайных интриг, Ленин создал ЧК — полицейскую организацию, призванную бороться с противниками режима и карать «шпионов, изменников, заговорщиков, бандитов, спекулянтов, фальшивомонетчиков, поджигателей, вражеских агитаторов, саботажников, классовых врагов и других паразитов».
ЧК возглавил Феликс Дзержинский. «Мы выступаем за организованный террор, — говорил он после того, как занял кресло председателя ЧК. — Террор есть абсолютная необходимость во время революции… ЧК обязана защищать революцию и карать врагов, даже если при этом ее меч порой случайно и опустится на головы безвинных».
ЧК быстро превратилась в сильную и беспощадную организацию, возглавившую кровавую охоту за «врагами народа». Иностранный отдел ЧК занялся выявлением контрреволюционеров, действовавших за пределами России, особенно в среде бывших царских офицеров и чиновников, а также белых, эмигрировавших после поражения в гражданской войне, главным образом в Берлин и Париж. Среди самых успешных шагов ЧК того времени следует отметить операцию «Трест». Чекисты создали подставную организацию, якобы монархического толка. Поверив в то, что «Тресту» под силу реставрировать самодержавие, некоторые русские вернулись в Россию, где были немедленно схвачены. Одних ждала тюрьма, других расстрел.
Переименование ЧК в ГПУ положило начало целой череде переименований, которую пришлось претерпеть советской службе государственной безопасности за все годы существования СССР. Неофициальное же название у нее всегда было одно — органы.
Но вне зависимости от названия, будь то ЧК или КГБ, задачи у этой организации, с годами не менялись: защита советского политического руководства от всевозможных врагов, как внутренних, так и внешних. Из всех вождей СССР карательные возможности организации наиболее широко использовал Иосиф Сталин, поднявшийся на политический небосклон России в 1924 году после смерти Ленина, одолев всех тех, кто рвался в преемники последнего. Чтобы удержаться у власти, особенно в первые годы своей диктатуры, Сталин использовал органы госбезопасности в качестве личного карательного инструмента. Одним из главных его подручных в этом был Генрих Ягода, фармацевт по профессии.
Начало чисток
1 декабря 1934 года бывшим чекистом был убит один из руководителей большевиков Сергей Киров. Сталин использовал это убийство как предлог для начала в стране массовых репрессий. Ягода, стоявший тогда во главе НКВД, взял расследование убийства Кирова под свой личный контроль и дал санкции на производство массовых арестов подозреваемых.
В сентябре 1936 года на пост шефа НКВД был назначен бывший политкомиссар Красной Армии Николай Ежов. При нем практика репрессий продолжалась со все возрастающей силой, и к жертвам ее из числа политических деятелей присоединились еще и военные. Ежов удержался во главе карающих органов до 1938 года. Прозванный в народе «кровожадным карликом», он успел за это время посадить за решетку такое количество людей, что многочисленные тюрьмы и лагеря НКВД вконец переполнились.
Чекисты арестовали и расстреляли тысячи высших командиров армии и флота разных рангов. Три тысячи высокопоставленных сотрудников НКВД были заклеймены как бывшие царские осведомители, воры или растратчики и тоже казнены.
Преемником Ежова стал Лаврентий Берия, руководивший до этого службой госбезопасности в родной Сталину Грузии. Вскоре после своего назначения Берия был введен (в качестве кандидата) в состав руководящего органа партии и всей страны — Политбюро. В то время в состав Политбюро входили десять полноправных членов с правом голоса, среди них Сталин и Хрущев.
На посту руководителя НКВД Берия прославился своей жестокостью, распущенностью и развратом. При нем резко усилилась слежка за немногими из оставшихся к тому времени в живых «старых большевиков», в том числе проживавших за границей. Главный удар Берия нацелил на извечного политического оппонента Сталина Льва Троцкого. Убийцы, посланные Берия, прикончили Троцкого в Мексике в августе 1940 года.
Своего предшественника Ежова (который одно время хотел арестовать Берия) он отправил в психиатрическую клинику, где того вскоре нашли повесившимся на окне.[2] Подручные Берия организовали новые массовые чистки в НКВД, вырезав многих из тех, кто служил еще при Ягоде и Ежове. Некоторые, не дожидаясь ареста, покончили с собой.
Особенно пострадала советская внешняя разведка. Сотрудников, работавших за пределами СССР, отзывали в Москву, после чего сразу следовали арест и расстрел. Среди тех, кого не миновала чаша сия, был и Ян Берзин, один из основателей и первых руководителей советской военной разведки. Тех же, кто отказывался приезжать, выслеживали за границей и убивали. Резидент НКВД в Голландии Вальтер Кривицкий бежал в Соединенные Штаты, но убийцы нашли его и там. Резидент НКВД в Турции попытался укрыться в Бельгии, но его постигла та же участь. Но были и те, кому повезло. Так, резидент советской разведки на Дальнем Востоке бежал в Маньчжурию под защиту японской Квантунской армии. Александр Орлов, отозванный в Москву из Испании, где бушевала гражданская война, отказался приехать, предпочел эмигрировать в Соединенные Штаты и уцелел.
Карл Рамм, друг видного советского разведчика Рихарда Зорге, работавший в Шанхае, откликнулся на вызов из Москвы и поехал в СССР навстречу своей смерти. А Зорге отказался приехать. Как разведчик он блестяще действовал в Японии, правда, в конце концов был арестован и казнен японцами.
Массовые репрессии в СССР с неослабевающей силой продолжались вплоть до нападения Германии 22 июня 1941 года.
Вторая мировая война
Когда началась война, Берия стал одним из самых главных помощников Сталина. Задачи НКВД в области внутренней безопасности расширились: обеспечение охраны кремлевских вождей и верности советских вооруженных сил, противостоявших германскому вермахту. Берия также усилил внешнюю разведку, направив кадровых сотрудников НКВД в советские дипломатические представительства в Великобританию, Канаду и Соединенные Штаты.
В США была открыта советская закупочная комиссия, ведавшая вопросами поставок в СССР американского оружия и продовольствия. Как и прежняя (все еще продолжавшая действовать) торговая компания Амторг, закупочная комиссия разрослась до крупных размеров (в штате ее работало свыше тысячи человек) и превратилась в гнездо советских шпионов, воровавших у Америки ее военные и промышленные секреты.
Однако приоритетным направлением деятельности советской внешней разведки при Берия являлось всемерное способствование программе создания в СССР своего атомного оружия. Продолжая оставаться руководителем спецслужб, Берия как партийный и государственный деятель также стал отвечать и за этот проект. По этому направлению на него в США, Канаде и Великобритании работала так называемая атомная шпионская группа. В начале войны НКВД обеспечивал внутреннюю безопасность Советского Союза и, в частности, преданность воюющей армии политическому руководству страны. Позже была создана новая контрразведывательная структура — СМЕРШ. Среди сотрудников НКВД, прошедших службу в СМЕРШе и поднявшихся впоследствии до высоких должностей в разведке, можно назвать генерал-полковника Ивана Серова, который перевелся в НКВД из потрепанного репрессиями ГРУ. Серов руководил подавлением антисоветских выступлений в Эстонии, Латвии и Литве и, в частности, нес персональную ответственность за Катынь.
ЧК
Сокращение, образованное от полного названия: Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Советская организация, отвечавшая за государственную безопасность с 1917 по 1922 год. В этот период была сначала переименована в ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия), а 1922–1923 годах называлась ГПУ (Государственное политическое управление). С 1923 по 1934 год была известна как ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление).
20 декабря 1917 года, спустя несколько недель после того, как центральная власть в России перешла в руки большевиков, В. И. Ленин издал декрет об образовании ЧК, организации с полицейскими и разведывательными функциями, создаваемой для защиты революции. Поначалу ЧК комплектовалась, в основном, моряками Балтфлота, являвшимися своего рода боевым авангардом большевиков. Во главе ЧК Ленин решил поставить одного из своих ближайших соратников, большевистского агитатора и выходца из семьи польских дворян Феликса Дзержинского. В октябре 1917 года Дзержинский, бывший комендантом большевистского штаба, отвечал за личную безопасность Ленина и других вождей революции.
Перед ЧК поставили три основные задачи:
1. Расследование и ликвидация последствий всех действий, имеющих отношение к контрреволюции и саботажу, по всей России.
2. Передача в революционный трибунал всех контрреволюционеров и саботажников, разработка методов их выявления и поимки.
3. Проведение только предварительного расследования, необходимого для принятия превентивных мер.
Примечательно, что ЧК никто не наделял полномочиями приводить смертные приговоры в исполнение. И тем не менее на всем протяжении гражданской войны в России, основные события которой случились в период с 1917 по 1920 год, чекисты казнили множество людей. После первого удара, нанесенного по левым эсерам 24 февраля 1918 года, в ЧК были образованы так называемые «тройки» (суды, состоявшие из трех человек и выносившие смертные приговоры). Первые казни были проведены в Петрограде, на территории Петропавловской крепости. Построенная еще в 1703 году, эта тюрьма была окрещена в народе «скотобойней».
Гражданская война, полыхавшая по всей России, стала еще более жестокой после выхода 5 сентября 1918 года печально известного декрета «О красном терроре». В этом документе содержался призыв к членам партии пополнять собой ряды ЧК, укрепить эту организацию. Этим же декретом учреждались концентрационные лагеря. Там же говорилось о необходимости расстрела всех, кто хоть как-нибудь связан с контрреволюцией (с последующим опубликованием фамилий казненных и причин, по которым им были вынесены смертные приговоры). Спустя двенадцать дней ЧК наделили полномочиями приговаривать и казнить людей без передачи дел в ревтрибуналы. Дзержинский не без гордости отмечал, что в большинстве случаев между арестом и вынесением приговора проходило не более 24-х часов. За этим следовал расстрел, который, как известно, также не отнимает много времени.
Вскоре «контрреволюционеров» стало скапливаться так много, что обычные расстрелы с помощью револьверов или винтовок перестали быть эффективными. Тогда Дзержинский распорядился вооружить расстрельные команды пулеметами. Но и это не помогало. В Петрограде приговоренных к смерти было такое количество, что в какой-то момент их стали связывать попарно, спина к спине, грузить по ночам на деревянные баржи, отвозить в Финский залив за Толбухинский маяк и топить. Западный ветер пригонял трупы в Кронштадскую гавань.
Жестокость ЧК в дни революции ярко описана в мемуарах одного из асов мирового шпионажа Сиднея Рейли, являвшегося непримиримым борцом с большевизмом и организатором контрреволюционных выступлений в России.
«Налеты чекистов отличались такой дикостью и сопровождались такими зверствами, что это просто не укладывается в голове цивилизованного человека. Однажды, когда обитатели квартиры не успели вовремя снять предохранительную цепочку с двери, солдат швырнул в щель бомбу. В другой раз на стук в дверь никто не ответил. В квартире находилась больная, прикованная к постели пожилая женщина, с которой случился удар (за год до того прямо на ее глазах красные убили ее мужа). В квартире, кроме нее, больше никого не было, и один из солдат, уставший ждать у двери, бросил под нее гранату. Та, взорвавшись, убила и покалечила пятерых солдат. Той же ночью чекисты вернулись в квартиру и убили старуху, «мстя» за своих товарищей».
Спустя месяц после основания ЧК в ней работало всего 23 человека. Через два года штат разросся уже до 37000 служащих, а к середине 1921 года ЧК насчитывала 31000 гражданских служащих, 137000 солдат внутренних войск и 94000 солдат-пограничников, что в общей сложности превышало четверть миллиона человек (по другим оценкам, эта цифра еще выше).
В марте 1920 года полномочия ЧК еще больше расширились, и чекисты получили право направлять «подозреваемых» в трудовые лагеря сроком до пяти лет в административном порядке, если в ходе расследования не было собрано «достаточно улик» для передачи дела в суд.
Оперативные отряды ЧК устраивали массовые облавы на граждан, сгоняя тысячи человек на строительство оборонительных сооружений и укреплений (война с немцами продолжалась до 1918 года, когда большевики подписали с ними сепаратный мир в обмен на значительные территориальные уступки, что фактически означало капитуляцию). Впоследствии, во время гражданской войны, ЧК использовала эту практику для строительства позиций Красной Армии, сражавшейся с белыми и их зарубежными союзниками.
20 декабря 1920 года в ЧК был образован Иностранный отдел (ИНО). Во главе его поставили Михайла Трилиссера. В обязанности ИНО входили розыск и работа против деятелей контрреволюции, эмигрировавших за пределы Советской России. В то время большевики всерьез опасались бывших царских служащих и военных, а также белоэмигрантов, действовавших главным образом в Берлине и Париже. ИНО рассылал по Европе своих агентов, ставя перед ними задачи по внедрению в эмигрантские организации и дискредитации их. Так зарождалась советская внешняя разведка, которая, в сущности, решала задачи контрразведки, но только за границей. Среди успешных мероприятий ЧК в этом направлении следует в первую очередь отметить операцию «Трест» (надо сказать, что своих агентов ЧК направляла за рубеж еще до образования ИНО, но не на постоянной основе).
Трилиссер также известен тем, что всячески поощрял добывание сведений о передовых на тот момент технологиях, например о радио. Его агенты активно занимались ведением научно-технической разведки против стран Запада. Предварительно они проходили тщательную языковую и техническую подготовку.
Дзержинский также образовал «особые отделы» ЧК для ведения контрразведки и обеспечения партийного контроля в рядах советских вооруженных сил.
6 февраля 1922 года ЧК была переименована в ГПУ (одной из причин этого стала дурная слава, которую снискали себе чекисты многочисленными злоупотреблениями властью). Организационно ГПУ подчинялось Народному комиссариату внутренних дел (НКВД), образованному также в феврале 1922 года. Дзержинский являлся одновременно шефом и НКВД, и ГПУ. В июле 1923 года ГПУ приобрело самостоятельность, став отдельным комиссариатом и поменяло название на ОГПУ. Дзержинский продолжал оставаться руководителем этой организации до самой своей смерти в 1926 году, уйдя с менее важного на тот момент поста шефа НКВД. Его первыми заместителями были Вячеслав Менжинский и Генрих Ягода.
Дзержинского в должности начальника ОГПУ сменил Менжинский, также выходец из семьи польских дворян и также остававшийся у руля этой организации вплоть до своей смерти в 1934 году. Его первым заместителем был Ягода (до 1934 года аббревиатуры ГПУ и ОГПУ применялись попеременно).
И хотя численность личного состава ЧК (ГПУ, ОГПУ) всегда была строго засекречена, есть основания предполагать, что в начале 20-х годов она составляла порядка 30000 человек.
По имеющимся данным, к 1925 году чекисты в общей сложности казнили свыше 250000 врагов большевизма (включая членов семей некоторых из них), отправили за решетку примерно 1300000 человек (в СССР на тот момент насчитывалось приблизительно 6000 тюрем). Помимо этого сотни тысяч россиян были сосланы в удаленные районы страны. Так зарождался печально знаменитый «архипелаг ГУЛАГ»: сеть концентрационных и трудовых лагерей, в которых содержались политические и уголовные преступники. Лагеря эти быстро усеяли собой малодоступные и удаленные районы Советского Союза. Официально Главное управление лагерей было создано Ягодой в 1930 году, хотя первые подобные учреждения появились еще в 1919 году.
В 20-х годах Сталин использовал ОГПУ в качестве своего главного инструмента для подавления крестьянских восстаний. С помощью Красной Армии ОГПУ обеспечило проведение массовой коллективизации крестьянских хозяйств.
10 июля 1934 года в ходе реорганизации правоохранительных органов ОГПУ прекратило свое существование, полностью растворившись в НКВД.
НКВД
С 1934 по 1953 годы НКВД (аббревиатура, образованная от полного названия: Народный комиссариат внутренних дел) и организации, пришедшие ему на смену (МВД, НКГБ и МГБ), отвечали за обеспечение внутренней безопасности государства и ведение внешней разведки, а также явились инструментом проведения массовых политических репрессий в СССР.
Террор и зверства ЧК, рожденной в дни революции 1917 года (и производных от нее организаций — ГПУ и ОГПУ), бледнеют в сравнении с методами работы НКВД, который по многим признакам держал пальму лидерства среди всех аналогичных карательно-репрессивных организаций, когда-либо создававшихся в истории человечества. Вместе с тем НКВД являлся также службой внешней разведки и контрразведки, которая выведывала секреты у западных держав и карала врагов большевизма, бежавших из СССР за границу. Со временем аппарат НКВД разросся до невероятных размеров, контролируя не только все вопросы обеспечения внутренней безопасности государства и ведения внешней разведки, но и внутренние и пограничные войска, а также различные административные учреждения, в том числе печально знаменитый ГУЛАГ (сеть концентрационных и трудовых лагерей, раскинувшаяся по всей территории Советской империи).
Создание НКВД, возможно, связано с решением Сталина избавиться от Сергея Кирова, одного из вождей большевистской революции, который в 1934 году возглавлял ленинградскую организацию большевиков, являвшуюся весьма влиятельной в советском партийном аппарате.
10 июля 1934 года ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление), отвечавшее за госбезопасность и шпионаж, влилось в преобразованный и сильно укрепившийся НКВД. Руководителем НКВД назначили Генриха Ягоду, который к тому времени уже имел репутацию ветерана органов госбезопасности и «красного террора». Британский историк и политолог Роберт Конквест отмечает в своей книге «Великий террор: Сталинские чистки тридцатых годов» («The Great Terror: Stalin’s Purges of Thirties», 1968):
«Новой организации суждено было уже в ближайшие годы продемонстрировать все свои возможности. Эмблема сотрудников НКВД, относившихся к привилегированным слоям советского общества и облеченных большой властью и влиянием, — щит и меч — была поставлена выше серпа и молота, символизировавших Коммунистическую партию. Эти люди не обходили своим вниманием никого, включая членов Политбюро. Над НКВД же был только один человек — верховный политический вождь Сталин».
Днем, 1 декабря 1934 года, в Ленинграде был убит Сергей Киров. Молодой убийца выстрелил ему в спину, когда он шел по темному коридору ленинградского обкома партии, направляясь к своему кабинету. Телохранителя, который был с Кировым неразлучен, на этот раз рядом не оказалось. Убийство, скоре всего, было спланировано Ягодой. Сталин, по-видимому, не нашел другого способа найти выход из сложной политической ситуации кроме как физически устранить своего главного соперника, а затем под предлогом расследование преступления сокрушить политическую оппозицию, существовавшую в стране на тот момент.
НКВД под руководством Ягоды тут же начал следствие, пошли аресты. Убийца и еще 116 человек, обвиненных в причастности к заговору, были расстреляны. Таким образом, Сталин избавился от своих прямых оппонентов.
Тем временем Ягода реорганизовывал и укреплял подчиненный ему аппарат НКВД. Сотрудники НКВД — за цвет головных уборов и петлиц на мундирах их прозвали «синими фуражками» — быстро превратились в элиту советского общества. Конквест в связи с этим пишет:
«Их считали одними из основных представителей нового привилегированного социального слоя, народившегося в результате сталинской антиэгалитарной политики. Была принята новая, более претенциозная форма одежды. Сотрудников НКВД учили хорошим манерам. Многие из них женились на красивых образованных девушках из достойных семейств, которые занимают свою почетную социальную нишу при любом государственном устройстве. Родственные узы с работниками НКВД к тому же обеспечивали таким семьям дополнительную безопасность. Дети сотрудников НКВД посещали специализированные школы, по окончании которых, как правило, шли по стопам своих высокопоставленных отцов».
Для себя Ягода выбрал громкий титул главного комиссара госбезопасности (ранг, эквивалентный званию Маршала Советского Союза) и повелел сшить соответствующий парадный мундир. Но этот человек, фактически создавший организацию, не дожил до дней ее истинного расцвета. Николай Ежов, председатель комиссии партийного контроля, курировавшей НКВД, постепенно стал все больше распространять свою власть на это ведомство. В результате 30 сентября 1936 года Ягода был смещен со своего поста, и новым шефом НКВД назначили Ежова. А 18 марта 1937 года на коллегии НКВД в штаб-квартире этой организации на Лубянке Ежов официально объявил Ягоду врагом народа (того показательно судили и приговорили к расстрелу).
После этого пошли повальные аресты высокопоставленных работников НКВД по всей стране. Их брали днем и ночью, дома, на работе, а то и по дороге домой или на работу. Некоторые, не дожидаясь ареста, совершали самоубийства (пулю в висок или прыжок из окна), рассчитывая тем самым уберечь от расправы членов своих семей. В общей сложности, по некоторым данным, в 1937 году погибло более 3000 бывших коллег и подчиненных Ягоды.
Великий террор
Тем временем в стране были, развязаны массовые репрессии. Первыми жертвами стали советские военачальники, потенциальные оппоненты Сталина. 11 июня 1937 года было объявлено, что восемь человек из числа высших командиров Красной Армии арестованы и им предъявлено обвинение в измене. На следующий день все они были расстреляны. Еще один командир, также обвиненный в участии в заговоре, совершил самоубийство. После этого прокатилась волна новых арестов среди военнослужащих, которых отправляли в подвалы Лубянки, в дом № 11 по улице Дзержинского, в камеры смертников вместительной Лефортовской тюрьмы и в десятки других тюремных учреждений: НКВД по всей стране. Всего было расстреляно 3 из 5 маршалов, 14 из 16 командиров, 60 из 67 комкоров, 136 из 199 комдивов, 221 из 397 комбригов и тысячи других офицеров.
Репрессии не обошли стороной и военно-морской флот, несмотря на то что партийный надзор за этим видом вооруженных сил не ослабевал со времени Кронштадтского мятежа 1921 года. Все восемь «флагманов» (адмиралов) были расстреляны, как и тысячи других моряков. В августе 1938 года главным комиссаром флота был назначен М. П. Фриновский, бывший заместитель руководителя НКВД. Номинально он возглавлял ВМФ СССР до марта 1939 года.
НКВД развязал по всей стране настоящий террор. Партийные и государственные деятели на местах арестовывались прямо на улицах, их вытаскивали по ночам из постели. Тяжелый удар пришелся по интеллигенции. Повсюду проходили судебные процессы над писателями, учеными, артистами, инженерами, учителями. Никто не был застрахован от того, чтобы однажды не оказаться в «черном вороне», тюремном фургоне, на которых разъезжали команды НКВД.
Вскоре Сталин, похоже, устал от этих бесконечных чисток, а возможно, осознал, что если так продолжать и дальше, то можно вконец подорвать советскую общественную, промышленную и военную систему. Власть Ежова стала таять на глазах. Начались разговоры о многочисленных злоупотреблениях во время допросов арестованных. Ходили слухи о том, что Ежов лично расстрелял нескольких крупных военачальников. Кончилось все тем, что 8 Декабря 1938 года он был освобожден от руководства НКВД и временно переведен на менее ответственную работу, а в начале 1939 года и вовсе бесследно исчез. В отличие от его предшественника показательного суда над ним не было.
Его преемник Лаврентий Берия стал самым доверенным помощником Сталина (если по отношению к последнему вообще уместно слово «доверенный»). Эпоха террора при Берия продолжилась, только теперь карательные органы принялись за советскую разведку. Агентов НКВД и ГРУ (военная разведка) отзывали в Москву, «судили» и расстреливали. Те, кто не хотел возвращаться, пытались укрыться на Западе. Некоторым это удалось. Других выслеживали убийцы, посланные из Москвы. «Целью № 1» был Лев Троцкий, «старый большевик», противостоявший Сталину в 20-х годах в споре за власть над Россией и позже высланный из СССР. В 1940 году, когда до него добрался убийца из НКВД, Троцкий проживал в Мексике. Спустя год смерть нашла и первого высокопоставленного сотрудника советских спецслужб, бежавшего на Запад, генерал-майора Вальтера Кривицкого. Он был найден мертвым в отеле «Бэльвю» на Капитолийском холме в Вашингтоне.
Но не всех «предателей» казнили. Для тех, кто избежал этой участи, существовал мощный ГУЛАГ — сеть концентрационных и трудовых лагерей, — в котором перемалывались жизни тысяч и тысяч мужчин и женщин. Там содержались и настоящие преступники, уголовники, и политические заключенные, а также те, кому просто не повезло и они попали в запланированную «квоту» врагов народа, существовавшую в эпоху великого террора. Несмотря на очень высокую смертность из-за непосильного труда, скудных пищевых рационов, жестокости охранников и лютости сибирских зим, всего на момент вступления СССР во Вторую мировую войну в июне 1941 года в советских лагерях содержалось около восьми миллионов человек (еще до миллиона сидело по тюрьмам).
В лагерях заключенные (будь то мужчины или женщины) работали обычно по 10, а то и по 12 или даже по 16 часов в день. Они строили дамбы, возводили каналы, укладывали тысячи километров железнодорожных путей, валили лес (в 1951 году вышел официальный запрет на использование женской рабочей силы на лесозаготовках), добывали золото, а позже и уран. За труд им не платили, а кормили впроголодь. Все это ярко описано в книге А И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» (М.: Сов. писатель, 1989. Т. 1–3).
Помимо тюрем и лагерей ГУЛАГа в распоряжении НКВД имелись и другие «исправительные» учреждения. Так, научно-технический центр на одной из московских окраин, описанный в книге Солженицына «В круге первом» (М.: Худож. лит., 1990), был полностью укомплектован заключенными. НКВД также контролировал несколько авиационных конструкторских бюро, в которых трудились арестанты. Многие инженеры и конструкторы, попав под пресс репрессий (порой даже приговоренные к смерти), продолжали работать по специальности в подобных заведениях. Некоторые осужденные авиаконструкторы отбывали наказание на государственном авиазаводе № 39 в Москве, других направляли в КБ (конструкторское бюро). Арестованный Владимир Петляков возглавлял КБ № 100, Владимир Мясищев — КБ № 102, а Андрей Туполев работал в КБ № 103.
Ведущий советский авиаконструктор Туполев (с одобрения советского правительства) побывал в 1936 году в служебных командировках в Соединенных Штатах и Германии, а в 1938 году он был арестован и обвинен в «саботаже». Получив срок, он продолжал конструировать самолеты. «…Я провел пять лет в тюрьме. Я единственный в мире авиаконструктор, который создал четырехмоторный бомбардировщик, находясь под домашним арестом», — рассказывал он впоследствии одному журналисту (его освободили из-под стражи в 1943 году).
НКВД также курировал деятельность конструкторского бюро, в котором создавались новые модели подводных лодок и торпедных катеров.
Внешняя разведка
Одержимость вопросами обеспечения внутренней безопасности и массовыми репрессиями отнюдь не означала, что НКВД не проявлял интереса к шпионской деятельности за пределами СССР. Работа велась против большинства западных держав, но, конечно, в первую очередь против Великобритании и Соединенных Штатов. Причем если Великобритания традиционно рассматривалась в качестве врага еще со времен гражданской войны в России, то в США просто получили развитие те отрасли промышленности и технологии, которые Сталин хотел иметь во что бы то ни стало.
На ниве внешней разведки НКВД удалось создать одну из самых эффективных агентурных шпионских сетей всех времен — «кембриджскую пятерку». На протяжении более десятка лет ее члены, некоторые из них занимали высокие посты в британском Форин-офисе (министерстве иностранных дел) и «Сикрет Интеллидженс Сервис» (МИ6), успешно выведывали государственные секреты Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Когда один из кембриджских шпионов Джон Кернкросс сообщил, что английские ученые-атомщики начали работы по созданию нового «супероружия», Берия тут же приказал своим агентам, действующим в Великобритании и США, сколотить «атомную шпионскую группу» для добывания секретной информации по атому.
А в июне 1941 года, когда Германия напала на Советский Союз, Сталин неожиданно превратился в союзника англичан и американцев. Такая перемена в отношениях между странами привела к укреплению взаимных связей и увеличению численности работников дипломатических, торговых и военных представительств СССР на Западе. Одновременно увеличилось и количество сотрудников НКВД и ГРУ в этих представительствах.
Тем временем мощные войска НКВД стали все больше задействоваться в чисто военных операциях против немцев. Армии, дивизии и корпуса НКВД принимали активное участие в отражении германского нападения. Появились в НКВД и так называемые «заградительные отряды», которые расставлялись позади траншей советских войск на тех участках фронта, где складывалась особенно тяжелая ситуация, чтобы не допустить возможного отступления своих. В 1943 году особые звания работников органов госбезопасности были заменены на обычные военные, что объяснялось желанием Сталина интегрировать ненавистную карательную организацию в вооруженные силы.
Вскоре обстановка потребовала создания новой специализированной организации военной контрразведки, и в 1941 году Берия основал при НКВД службу СМЕРШ.
Тем временем воинские части НКВД принимали участие (и зачастую весьма достойное) в битвах за Москву, Сталинград, Ленинград и Северный Кавказ (внутренние войска НКВД не воевали, их использовали для борьбы со шпионами и диверсантами; и примерно еще 250 000 солдат НКВД охраняли лагеря ГУЛАГа, тюрьмы, а также специальные эшелоны, на которых перевозились по стране заключенные).
Нельзя не упомянуть о том, что НКВД несет ответственность за одно из самых страшных преступлений времен Второй мировой войны: Катынь. В конце 1939 года, когда Советский Союз присоединился к агрессии Германии против Польши, русские захватили в плен около 200000 польских военнослужащих. Приблизительно 15000 человек (из которых 8700 были офицеры) так никогда и не вернулись на родину и бесследно исчезли. Они были ликвидированы расстрельными командами НКВД, в Катынском лесу.
Из прочих направлений деятельности советской «тайной полиции» в военное время следует отметить работу над созданием в СССР своей атомной бомбы. Узнав об англо-американских изысканиях в этой области, Сталин поручил разработку советской атомной программы (в том числе атомный шпионаж) Берия.
Реорганизации
В 1941 году Сталин реорганизовал органы госбезопасности. С декабря 1938 по февраль 1941 года Берия одновременно занимал пост народного комиссара внутренних дел (НКВД) и начальника Главного управления государственной безопасности (ГУГБ), ведомства, подчиненного НКВД.
На короткий промежуток времени, с февраля по июль 1941 года, Сталин развел эти две службы. Он создал Народный комиссариат государственной безопасности (НКГБ), назначил его начальником Всеволода Меркулова и поставил перед НКГБ задачи по обеспечению госбезопасности и ведению внешней разведки. В то же время Сталин оставил прежний НКВД под началом Берия, сохранив за этой организацией сферу обеспечения внутренней безопасности. Меркулов считался членом бериевской «грузинской мафии», поскольку (так же как сам Берия и многие другие его подручные) был выходцем из советской Грузии.
Аналитик американских спецслужб Джон Дж. Дзиак отмечает в своей книге «Чекисты: история КГБ» («Chekisty: A History of the KGB», 1988): «Этим структурным изменениям… так и не было дано исчерпывающего объяснения, но, возможно, они были вызваны присоединением к СССР новых земель и групп населения». Имеются в виду Эстония, Латвия, Литва, часть Польши, а также румынская Бессарабия и Северная Буковина. «Аресты, депортации, казни и лагеря — все это резко увеличилось и потребовало реорганизации и усиления спецслужб».
Однако, пишет Дзиак, «…шок, испытанный в результате германского нападения, привел в июле 1941 года к возникновению центростремительных тенденций, и два ведомства были вновь слиты в составе единого НКВД, руководимого Берия».
Такое положение сохранялось без изменений до 14 апреля 1943 года, а затем Сталин вновь развел две службы и вновь оставил НКВД Берия, а Меркулова поставил во главе НКГБ. «…Победа в Сталинградской битве и связанное с ней наступление советских войск обозначили перспективу возвращения в лоно империи ранее утраченных земель и населения. Отсюда и новое разделение на НКВД и НКГБ».
Новое положение вещей в структуре советских органов госбезопасности сохранялось до 16 марта 1946 года. Затем СМЕРШ влили в новое Министерство государственной безопасности (МГБ) на правах 3-го Главного управления, отвечающего за контрразведку в армии. Руководителем МГБ был назначен Меркулов. Одновременно НКВД (внутренняя безопасность) преобразовали в Министерство внутренних дел (МВД).
СМЕРШ
Советская военная служба безопасности и контрразведки, задуманная лично Иосифом Сталиным. Он же дал ей название-акроним, образованное от популярного в годы Второй мировой войны в СССР лозунга: «Смерть шпионам!»
СМЕРШ охотился за предателями, дезертирами, расстреливал отступавших без приказа солдат и офицеров, осуществлял проверку бежавших из германского плена. Юрисдикция СМЕРШа распространялась не только на армию, флот и военно-воздушные силы, но также на воинские части и образования НКВД. В распоряжении СМЕРШа имелась целая сеть информаторов в вооруженных силах. СМЕРШ также помогал партизанам, действовавшим в тылу у немцев.
До того как был учрежден СМЕРШ, контрразведка в вооруженных силах находилась в ведении Особых отделов НКВД. СМЕРШ был создан в 1941 году Берия в составе того же НКВД. Первым начальником СМЕРШа назначили комиссара госбезопасности 3-го ранга Василия Васильевича Чернышева.
С 14 апреля 1943 по 16 марта 1946 года СМЕРШ функционировал как самостоятельное ведомство, подотчетное напрямую Государственному комитету обороны (ГКО) под председательством Сталина. Впервые в СССР контрразведывательный орган находился в подчинении военного органа (пусть и возглавляемого Сталиным), а не спецслужбы. Примечательно, что в соответствии с правилами субординации сотрудники СМЕРШа находились на ступеньку выше сотрудников НКВД. В этот период временной независимости от НКВД СМЕРШем руководил помощник и протеже Берия, генерал-полковник В. С. Абакумов (первый заместитель главного комиссара госбезопасности). В те же годы во главе отдела СМЕРШа на флоте был поставлен П. А. Гладков. Впрочем, общее руководство этим отделом осуществлял тот же Абакумов. Чернышев же, получив звание генерал-полковника, оставался заместителем начальника СМЕРШа вплоть до 1946 года, после чего стал заместителем министра в только что образованном МГБ.
В СМЕРШе имелись следующие главные подразделения:
Первое управление — представительство СМЕРШа во всех частях и соединениях Красной Армии вплоть до уровня батальонов и рот, представители которого вели наблюдение за офицерами и солдатами, а также руководили сетью информаторов.
Второе управление — операции (включая помощь партизанам и осуществление военно-полицейских функций), связь с НКВД и НКГБ, спецчасти для охраны штабов и высших командиров (обычно по роте на армию и по батальону на фронт).
Третье управление — получение, хранение и распространение разведданных.
Четвертое управление — дознания и расследования в отношении военнослужащих (или гражданских лиц, проживающих в зоне боевых действий), подозреваемых в антисоветской деятельности.
Пятое управление — военные «тройки» из сотрудников СМЕРШа для суда над подозреваемыми.
Личный состав СМЕРШа набирался преимущественно из опытных работников Особых отделов и НКВД, тем самым была соблюдена профессиональная «преемственность» в деле выявления и нейтрализации шпионов. Все сотрудники СМЕРШа поголовно — от высшего начальства до секретарш-машинисток — имели офицерские звания.
Представители СМЕРШа находились в вооруженных силах на всех уровнях от высших до низших. Бывший сотрудник этого ведомства А. И. Романов пишет в своей автобиографической книге «Там самые длинные ночи» («Nights Are Longest There», 1972), что даже Маршал Советского Союза Георгий Жуков, которого во многом следует признать самым крупным военачальником Красной Армии того времени, «…как высший командир был со всех сторон окружен генералами-чекистами… Чем выше звание и власть были у человека, тем более плотно его опекали органы госбезопасности». Начальником отдела СМЕРШ у Жукова был генерал-лейтенант А. И. Вадис.
Одной из тысяч жертв, пострадавших от СМЕРШа во время и сразу после окончания войны, был офицер-артиллерист и писатель Александр Солженицын.
В конце войны отряды СМЕРШа вступили на территорию Германии позади наступавших частей Советской Армии. Перед ними поставили задачи по поиску и аресту деятелей нацистской партии и Третьего рейха.
В книге Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» есть, в частности, такие строки, относящиеся к СМЕРШу: «…ты, простой лейтенант, являешься представителем СМЕРШа в армии. Но солидный пожилой полковник, командир воинской части, вскакивает, как только ты входишь в комнату, пытается льстить тебе, заигрывать с тобой. Он же не может пропустить по стаканчику вместе со своим начштаба, не пригласив тебя присоединиться к ним. А то, что у тебя на погоне всего две маленькие звездочки, ничего не значит. Даже забавно. Твои звездочки, внешне не отличимые от звездочек других офицеров, имеют совершенно иной вес и значение. Порой, при выполнении спецзадания, ты даже можешь нацепить знаки различия майора. В твоей власти весь личный состав этой части или военного завода, или военного округа. И власть твоя несоизмеримо выше, чем власть командира, директора или секретаря местной партийной ячейки».
В 1946 году функции СМЕРШа перешли в ведение только что образованного МГБ. СМЕРШ превратился в Третье Главное управление этого министерства (контрразведка).
ГРУ
Главное разведывательное управление Генерального штаба, Советская (российская) служба военной разведки, известная также как 4-е управление Генерального штаба и «ВЧ № 44388». В постсоветское время, когда численный состав и возможности КГБ (и ведомств, пришедших ему на смену) резко сократились, важность и значение ГРУ как службы внешней разведки, несомненно, возросли.
ГРУ было образовано 21 октября 1918 года В. И. Лениным по настоянию комиссара Льва Троцкого и первоначально называлось Регистрационное управление Рабоче-Крестьянской Красной Армии (обозначение «ГРУ» официально было принято только в июне 1942 года, но неформально применялось и раньше). Новая организация создавалась вовсе не для того, чтобы подменить собой уже существовавшие к тому времени разведслужбы фронтов и армий, но чтобы координировать их усилия и готовить для главного штаба Красной Армии общие сводки об обстановке.
Помимо ведения стратегической и оперативной разведки ГРУ с самого начала озаботилось работой по добыванию военно-технической информации, сведений о передовых научных достижениях в военной области.
С самого начала предполагалось, что ГРУ будет заниматься внешней разведкой. В отличие от ЧК и организаций, пришедших ей на смену, которые, помимо разведывательной деятельности, ведали и широкими полицейскими функциями, ГРУ никогда не занималось последними. Единственное исключение относится к концу 30-х годов, когда ГРУ использовали в качестве инструмента массовых репрессий против НКВД, и в 1953 году, когда оно действовало против сотрудников НКВД, отвечавших за внутреннюю безопасность.
Надо сказать, что функции и задачи ГРУ зачастую пересекались с функциями и задачами НКВД, КГБ и т. д., но эта ситуация никогда не рассматривалась как недостаток. В сфере разведки такие понятия, как экономность в выборе средств и «рентабельность» спецслужб, никогда не принимались в СССР в расчет. Русские всегда считали, что чем больше поступает информации, тем лучше. И когда два ведомства фактически начинают подменять друг друга, это тоже идет на пользу, ибо тем самым их деятельность автоматически подвергается перепроверке.
Но имелась и другая сторона медали. Ведущий на Западе специалист по советской военно-политической истории Джон Эриксон замечает в своей работе «Советское главное командование» («The Soviet High Command», 1962): «Армия и тайная полиция столкнулись в затянувшемся роковом противостоянии, и это схватка не на жизнь, а на смерть!»
В первые годы своего существования ГРУ подвергалось «чистке», или «кровопусканию», что стало своего рода первым звонком, предупреждающим о жутких массовых репрессиях в вооруженных силах, которые грянули в эпоху правления Сталина. Первые чистки в ГРУ состоялись в ноябре 1920 года, когда Ленин приказал расстрелять несколько сотен сотрудников этого ведомства за их неверную оценку обстановки, сложившейся в Польше.
ГРУ сумело быстро оправиться от удара, а в 1926 году в результате проведенной в вооруженных силах реформы оно было преобразовано в Четвертое управление штаба Красной Армии (остальные: Оперативное, Организационно-мобилизационное управления и Управление связи). Новый высокий статус придал ГРУ уверенности в своих силах, и в 20-30-х годах оно сумело добиться ряда крупных успехов на ниве внешней разведки (главным образом, в области добывания секретной военной информации в Германии, Великобритании и Соединенных Штатах Америки).
Сталинские репрессии
В 1929–1930 годах Сталин организовал в СССР кампанию против так называемых «правых». Было репрессировано несколько крупных военачальников, но в целом «чистки» еще нельзя было назвать масштабными. Арестам подверглись лишь около 5 процентов военного руководства (в других государственных структурах эта цифра была более чем вдвое выше), а ГРУ и вовсе не тронули. Когда же в 1935 году начала раскручиваться пружина настоящих сталинских репрессий, то на первых порах удар был нанесен по НКВД и, в первую очередь, по тем его сотрудникам, которые работали за пределами Советского Союза. Начальник ГРУ Ян Берзин вместе с группой верных помощников выехал из Москвы на Дальний Восток, получив задание ликвидировать нескольких действовавших там сотрудников НКВД (во время своего пребывания в Азии, а затем и в Испании Берзин номинально продолжал оставаться начальником ГРУ, а в Москве его обязанности исполняли сначала И. С. Уншлихт, потом СТ. Урицкий).
Вторая волна репрессий прокатилась по советским вооруженным силам по инициативе того же Сталина в 1937 году. Сотни офицеров были расстреляны, тысячи угодили за решетку. Исполняющий обязанности начальника ГРУ Урицкий был арестован и казнен. Сотрудники НКВД выезжали в другие страны для расправы с работавшими там нелегалами ГРУ, а также с сотрудниками разведки (ГРУ и НКВД), которые отказывались возвращаться в Советский Союз. То есть ситуация 1935 года повторилась с точностью до наоборот! Тогда люди Берзина уничтожали работников НКВД, а теперь работники НКВД стали уничтожать людей Берзина. Одним из палачей НКВД был молодой И. А. Серов, незадолго до этого переведенный из армии. Впоследствии он работал на посту председателя КГБ и ГРУ.
Репрессии 1937 года не просто подкосили, но фактически уничтожили ГРУ. По словам Виктора Суворова, взятым из его книги «Внутри советской военной разведки» («Inside Soviet Military Intelligence», 1984), «в ходе чисток 1937 года ГРУ было уничтожено полностью, вплоть до уборщиц туалетов и поварих».
И хоту ГРУ удалось восстановиться в течение одного года, летом 1938 года на него обрушился новый удар огромной силы. На сей раз волна репрессий против Красной Армии была поднята арестом и расстрелом талантливого советского военачальника, маршала М. Н. Тухачевского. Десятки тысяч офицеров были казнены или брошены в тюрьмы. Генеральный штаб был уничтожен, а вместе с ним и все руководство ГРУ.
Бывший начальник ГРУ Берзин, который отправился в Испанию и фактически командовал там войсками республиканцев во время гражданской войны в этой стране, был расстрелян 29 июля 1938 года, сразу после возвращения в Москву. Террор, продолжавшийся трое суток, перемолол в своих жерновах огромное количество высокопоставленных военных. В момент кульминации репрессий военную разведку возглавил было шеф НКВД Николай Ежов, но и он вскоре был смещен.
Короткая, но вместе с тем неожиданно тяжелая финская кампания Красной Армии в 1939–1940 годах, видимо, убедила Сталина в необходимости возродить недавно им же уничтоженный Генеральный штаб. А это означало, что новую жизнь подарили и ГРУ. Во главе военной разведки поставили Ф. И. Голикова. Одним из провалов войны с Финляндией стала операция группы специального назначения ГРУ численностью в 50 человек, которой командовал Хаджи-Хмар Мамсуров. Во время гражданской войны в Испании он успешно атаковал со своими людьми транспортные коммуникации и склады мятежной армии Франко, но с Финляндией этот номер не прошел. Мамсуров пытался брать «языков» из числа финских солдат, но безуспешно. И все же эти операции очертили новую сферу деятельности ГРУ на будущее.
Накануне германского нападения на Советский Союз 22 июня 1941 года ГРУ сумело поставить в известность советское руководство о грядущей войне, однако эта информация не была, принята Сталиным во внимание. Осенью 1941 года ГРУ разделили на два управления: руководство закордонным аппаратом перешло в ведение нового разведывательного управления при Верховном Главнокомандовании. Начальник управления был напрямую подотчетен Сталину. Вопросы же стратегической и оперативной разведки остались в ведении ГРУ, начальник которого был подотчетен Генеральному штабу.
Вторая мировая война
В это тяжелое для страны время советская военная разведка действовала относительно эффективно. Правда, из-за внезапности нападения Германии 22 июня 1941 года тактические и фронтовые разведуправления русских были практически уничтожены, поэтому в первый год Великой Отечественной войны ГРУ пришлось особенно нелегко. Триумфальное возвращение этого ведомства состоялось во время битвы за Сталинград 1942–1943 годов. Полковник Дэвид Гланц, ведущий американский военный эксперт по разведке Красной Армии, писал в этой связи:
«И хотя определяющим фактором победы явилось многократное численное превосходство советских войск над германской группировкой, обеспечение скрытности накопления этого самого превосходства следует поставить в заслугу именно советской военной разведке. Русские сумели оперативно и точно определить дислокацию немецких войск, а с началом контрнаступления обеспечить сохранение инициативы в своих руках. Этим, в частности, объясняется необычная глубина советского наступления…
(…)
Русские по традиции многое замалчивали (имеется в виду роль военной разведки в войне), поэтому информацию приходилось черпать только из немецких архивов. Без них могло создаться впечатление, что русская разведка действовала хорошо. С ними стало ясно, что она действовала просто отлично. Вполне вероятно, что, если бы в распоряжении появились советские архивы, выяснилось бы, что она действовала еще лучше».
В годы войны агенты ГРУ сумели внедриться в германский Генеральный штаб (операция «Дора»), действуя из Швейцарии, и получить доступ к атомным секретам, действуя через Канаду. ГРУ также направляло деятельность легендарного советского разведчика Рихарда Зорге, действовавшего в Японии. Что же касается более открытых методов разведывательной деятельности, то советские военные атташе в Соединенных Штатах и Великобритании передавали в Центр буквально тонны материалов о военных планах и вооружениях этих держав (это не считая военного снаряжения в виде американских и английских боевых самолетов, кораблей и танков, переданных Советскому Союзу по ленд-лизу в годы войны). За заслуги в военное время 121 сотрудник и агент ГРУ были удостоены высшей награды Героя Советского Союза.
Надо сказать, что ГРУ не отвечало за контрразведку в вооруженных силах, эти функции выполняли органы госбезопасности, так называемые «особые отделы», созданные еще в декабре 1918 года и действовавшие в Красной Армии и на флоте. Лишь на короткий промежуток времени, с февраля по июль 1941 года, Сталин позволил военным заниматься контрразведкой в своих собственных рядах, но затем все вернулось на круги своя.
В 1947 году Сталин лишил армию и МГБ права на ведение внешней разведки, передав его новой организации — КИ (Комитет информации), подчинявшейся народному комиссару иностранных дел В. М. Молотову. Эта структура просуществовала до 1951 года, хотя уже в середине 1948 года ГРУ удалось вернуть себе функции службы внешней разведки.
Примечательный факт. Генерал армии С.М. Штеменко, начальник ГРУ с 1946 по 1948 год, в конце 1948 года получил повышение и стал начальником Генерального штаба, но позже попал в опалу. В 1956–1957 годах он опять возглавлял ГРУ, снова был понижен и в конце концов в третий раз вернул себе высокий ранг!
Очень часто на должность начальника ГРУ приходил высокопоставленный сотрудник органов госбезопасности (НКВД, КГБ и т. д.). Например, с 1958 по 1962 год ГРУ возглавлял генерал-полковник Серов, ветеран СМЕРШа и бывший председатель КГБ. При Серове в ГРУ пышным цветом расцвели коррупция и мздоимство. Генерал армии Петр Иванович Ивашутин, бывший сотрудник НКВД/КГБ, находился на посту начальника ГРУ 24 года (с 1963 по 1987). При нем взяточничество и моральное разложение в ГРУ достигли беспрецедентного уровня, а несколько высокопоставленных сотрудников сбежали на Запад.
По материалам книги «Энциклопедия шпионажа» (Пер. с англ. М.: Крон-пресс, 1999).
Разведка и Сталин
Вышел в свет третий том «Очерков истории российской внешней разведки» (М.: Междунар. отношения, 1997), пожалуй, наиболее актуальный (годы 1933–1941 говорят сами за себя). Каждый очерк — это повествование о героизме советских разведчиков в различных странах Европы, Америки, Азии с риском для жизни добывавших политическую, экономическую, военную, научно-техническую информацию для своей страны во имя высоких идеалов служения Родине. Ничего кроме как о восхищении их повседневным рискованным трудом сказать нельзя. Однако это об их работе, но не о судьбах.
Для иллюстрации приведу один пример. В очерке «Брайтенбах» (с. 338–349) повествуется о работе с 1929 года на советскую внешнюю разведку сотрудника полиции Вилли Лемана, с 1933 года офицера 4-го управления (гестапо), всего сотрудничавшего в течение 12 лет (!), по декабрь 1942 года. Сведения, которые он предоставлял нам, — это фантастика: начиная с почти всего о гестапо, о слежке за нашими сотрудниками и за руководством ЦК КПГ, докладов типа «О советской подрывной деятельности против Германии» и т. п., о НСДАП, вермахте и вплоть до ракетных полигонов в лесах Германии, образцах вооружения (к примеру, цельнометаллических самолетах), личности Вернера фон Брауна; тогда еще совсем молоденького. Провалили его к декабрю 1942 года, и, как в большинстве случаев, по вине органа с гордым названием Центр. Лемана гестаповцы расстреляли.
Таких очерков в томе — 47, одни повествуют о конкретных лицах, другие — о группах сотрудников резидентур, преимущественно о героях. Но имеются очерки и о предателях — на ошибках надо учиться. Тем не менее хотелось бы узнать, а почему в «Очерках…» почти не упоминается военная разведка? Сколько же будет продолжаться ведомственная отчужденность? Мы же вместе работали всю жизнь. Или военная разведка это не внешняя разведка?
В газете «Новости разведки и контрразведки» (1977. № 22) напечатано интервью с главным консультантом Службы внешней разведки России, заместителем главного редактора «Очерков…» генерал-лейтенантом В. А. Кирпиченко под названием «Это, конечно, был подвиг». Согласен, это был подвиг, которого не знала история тайных войн. Но у меня сразу возник вопрос: почему оценку труда дает зам. редактора этого труда? Больше некому или так надежней? Какие-то белые нитки не вылезут? Ну как-то бестактно это интервью, самому о себе и о своем коллективе писать. Что, мало высших офицеров разведки осталось, ведь взгляд со стороны — он всегда посвежей и объективней.
В. А. Кирпиченко обосновывает, и не без резона, построение каждого тома: вначале предисловие с изложением внешнеполитической доктрины нашего государства в тот или иной период, затем очерки о разведдеятельности. Это логично. Но я бы хотел внести ряд корректив с понятием Центр. Центр сообщил Сталину то-то, Центр дал указание берлинской или Нью-Йоркской резидентурам о том-то. Центр, центр, центр… И было два Центра: ИНО и ГРУ. Звучит все это гордо и великолепно. Но Центры допускали столько ошибок, ляпов, провалов закордонных операций, агентов, сотрудников, что я лично поменял бы этот обязывающий термин на нечто другое, необязывающее («трест», «директорат», «комбинат», «артель» и. т. п.). Обидно? Но они этого заслужили.[3] Но Центр в общем-то был обескровлен, бывало и так, что в отделах оставалось по несколько человек и сообщение Сталину некому было подписать…
Почему же так происходило? Я постараюсь развить эту тему подробно ниже, а сейчас коснусь первого поставленного мною вопроса — о внешнеполитических мероприятиях советского правительства в 1933–1941 годах.
Если внимательно прочитать предисловие к третьему тому, то складывается впечатление, что вся довоенная внешняя политика СССР была исключительно верной, безошибочной и последовательной. Но это не совсем так.
Единственной постоянной величиной выступало стремление к коллективной безопасности, ибо СССР находился в состоянии такой глубокой международной изоляции, что выбраться из нее из-за бескомпромиссности Сталина, его болезненной подозрительности, если инициативы исходили от кого-то другого, — являлось делом безнадежным. Да, во второй половине 20-х годов. Советский Союз признали 13 государств, в конце 1933 года в их числе уже были США, а к 1936 году дипотношения с СССР установили 36 стран, но все это тем не менее не могло привести к выходу из изоляции.
Безусловно, антифашистские силы в мире, либеральная интеллигенция, русская прогрессивная эмиграция тянулись к Советскому Союзу, видели в нем оплот борьбы с фашизмом, но и до них потихоньку доходили страшные вести о массовых казнях и репрессиях в первой стране Советов.
Наши отбивались как умели. Шла в ход сталинская теория «усиления классовой борьбы по мере продвижения к социализму», все громче гремели вопли о зловредных троцкистах (это отчетливо просматривается и в предисловии, и в очерках, и в интервью В. А. Кирпиченко). Из троцкистов делали страшную силу, способную подорвать устои страны, хотя в мире их было всего-то несколько сот человек, в основном молодых иностранцев-идеалистов, а в СССР они сидели в лагерях по 2–3 срока, до смерти (Правда, иногда их вытягивали на московские процессы для дачи выбитых ложных показаний. К примеру, как Пятаков «летал» в Осло на свидание с Троцким в гостинице. Оказалось, что ни полетов тогда не было, ни такой гостиницы не существовало…)
Возня вокруг троцкистов давала возможность получать ордена, привилегии, а уж за ликвидацию Троцкого (подчеркиваю — за ликвидацию, а не за убийство; как фашисты говорили: не убийство евреев, а окончательное решение еврейского вопроса), киллер — Рамон Меркадер получил звание Героя Советского Союза, когда вышел из мексиканской тюрьмы, где провел 20 лет. Сталин повелел убить Троцкого в конце 30-х годов, операция готовилась 2 года, убили его в августе 1940 года. Об этом имеется очерк «Операция» Утка». Насколько я знаю, ни один из агентов-иностранцев такого звания не получил.
Итак, возвращаясь к пункту темы, Сталин был в глубокой изоляции: он еще в 1934–1935 годах давал задание наркому Ежову выйти на представителей рода Гогенцоллернов, родственников кайзера Вильгельма II, и от них на г-на Гитлера. Поручили это дело резиденту во Франции Игнатию Рейссу-Порецкому, кавалеру ордена Красного Знамени. Тот никуда не вышел, со Сталиным порвал, написав ему открытое письмо о разрыве, поскольку тот предал революцию и работает мясником, приложив к письму свой орден. Через короткое время его убили в Швейцарии. Портрет одного из убийц красуется в «Очерках…». П. А. Судоплатов называет имена киллеров: Афанасьев и Правдин, он их встречал после убийства в Москве, обласкал, их наградили орденами.
После Рейсса Сталин поручил установить контакт с Гитлером торговому атташе в Германии Канделаки, своему соплеменнику. Но Гитлер плел свои интриги и строил планы захватов: Саар, Австрия, Чехословакия и пошло-поехало — Тройственный пакт держав «оси», подготовка к аннексии Европы. Сталин бросился к западным демократиям, прежде всего к Англии и Франции, но у тех был свой пасьянс с Германией — и сначала направление удара на Восток, на СССР.
Работая за границей, мне приходилось слышать от хорошо информированных источников, что ловушку, в которую попались маршал Тухачевский и другие руководители Красной Армии, сочинили в Лондоне, в английской разведке и через своего верного друга и агента адмирала Канариса подбросили Гитлеру. Суть такова: оппозиционное руководство красных связано с немецким генералитетом и готовит военный переворот (необходимо снять ограниченного Ворошилова и его сподвижников).
Ставка была на патологическую подозрительность Сталина. Он казнит псевдозаговорщиков, руководящий состав армии, последняя — обескровлена, слаба. Ловушка англичан срабатывает. Гитлер убеждается в том, что теперь-то он с Советами расправится и переориентируется в нападении на Восток. От Англии удар откатывается, и та вздыхает с облегчением. Эта диспозиция движущих европейских сил — векторов — всегда существовала в воспаленном мозгу усатого человека с трубкой; Англию он никогда не переваривал, ее лидерам не верил и всегда ждал от нее подвоха. Опять следует поворот штурвала на сто восемьдесят градусов: Максим Максимович Литвинов, опытнейший дипломат, владеющий европейскими языками, свой человек в Лиге Наций, сторонник союза с европейскими демократиями, прежде всего с Англией и Францией, с работы наркома иностранных дел отстраняется и заменяется бесцветным аппаратчиком, тенью Сталина — В. М. Молотовым. В НКИДе происходят погром, аресты сотрудников, тотальная смена послов. В 1951 году Литвинов погибает в автокатастрофе при странных обстоятельствах.
Сталин ищет сближения с Гитлером. Медовые месяцы летят один за другим. Но все-таки чем черт не шутит… Перед самым подписанием договора с Гитлером 23 августа 1939 года в Москву является англо-французская военная делегация. Как в нашей историографии ее не поносили! И ранги не те, и вояж совершали на теплоходе, а не на самолете, и полноценных мандатов на подписание чего-то важного не имели. Я думаю, что правительства Англии и Франции знали, на что шли. Разведслужбы предоставили им информацию о Советском Союзе, о разгроме в Красной Армии, о маховике репрессий в стране. На серьезные разговоры западники предрасположены не были, да еще с советской стороны главой делегации выступал К. Ворошилов, один из двух оставшихся в живых маршалов. Вторым был С. Буденный. (Хорошо, что того за стол переговоров не посадили.) Всего их было пять, первых маршалов, но Тухачевский, Егоров, Блюхер уже были погребены в земле сырой, и где — неизвестно. Я представляю, как англичане и французы обменивались мнениями: «И с ними иметь какой-то пакт; против Германии? Да он их сомнет, у них от армии ничего не осталось». А наши все хорохорились: «Вот, аристократы, буржуи, «представители гнилой олигархии» (выражение Гитлера), фюрер покажет вам». Так ни с чем и разошлись. И бац, договор с Германией. Мир ахнул. Гитлеру нужна была Польша, а без сталинских гарантий он не мог на нее напасть, столкновение с СССР в 1939 году в его планы не входило. И договорились полюбовно. Молотов на сессии парламента заявил: «Польское государство перестало существовать». (Бурные аплодисменты.) «Четвертый раздел Польши» произошел: «Гитлеру — все государство, Сталину — Западная Украина и Западная Белоруссия», и вскоре оттуда потянулись эшелоны с высылаемыми в архипелаг ГУЛАГ, а два десятка тысяч польских офицеров — в Катынь на расстрел. Об этом, равно как и о сталинско-гитлеровских играх в таком ракурсе, как описано выше, в предисловии к «Очеркам…» — ни слова, ни звука. Правда, в предисловии уже в тысячный раз, как в наших книгах, подчеркивается, что «…границы СССР были отодвинуты на несколько сот километров на Запад от жизненно важных административных и промышленных центров». То же самое всегда мусолится и в отношении границ при вступлении Красной Армии в Прибалтику, на год позже. Но ведь это обман несведущего читателя: во-первых, 200–300 км на танках, автомашинах по шоссе преодолевалось тогда за 4–6 часов; во-вторых, укреплений-то на новых границах никаких не было; в-третьих, Гитлер выходил на рубеж границы непосредственного соприкосновения Германия-СССР без каких-то третьих стран между ними; в-четвертых, он-то уже знал, что через год-два отыграет все эти территории Польши и Прибалтику. А пока пусть Сталин понадувает щеки, «мол, как я надул Гитлера» — писал Н. С. Хрущев в своих мемуарах. На самом деле Сталин привел к худшему варианту оперативную и политическую обстановку.
Идя по стопам Гитлера, Сталин тоже решил хапнуть небольшую страну. Но Финляндия не оказалась Чехословакией. Финны дрались обреченно, но не сдавались, СССР исключили из Лиги Наций. Еще одна пощечина. Но потери на войне для Сталина были лишь пушечным мясом. Его у нас всегда было вдоволь.
И вот предвоенные месяцы. Разведка выкладывала все новые сведения о подготовке гитлеровской агрессии. Сколько их было — реальных предупреждений о начале нападения? Я не знаю. Сто? Двести? Не исключено.
Я опускаю здесь известные в литературе предупреждения. Но пару малоизвестных и не вписывающиеся ни в какие рамки по своей нахальной визуальности — приведу. Да дело, в конце концов, не в их числе, а в тупости человека с трубкой. Сравните, когда У. Черчилль или Ф. Рузвельт имели по одному предупреждению о передислокации нескольких фашистских дивизий поближе к границам СССР, они били в набат и обязывали сообщить об этом своих послов или мидовцев советским официальным лицам. Сталин имел массу предупреждений, «но клал на все это с прибором». (Условно-литературное выражение поэта Н. Тихонова по Сергею Довлатову. Улыбнитесь, а то все пишу в духе пессимизма.)
Итак, на сообщение о том, что на урезанной территории Польши на границе с СССР сосредоточено восемь германских армий (!) общей численностью в 2 миллиона человека (!), надо было реагировать или как? Да никак! А об этом все на Западе знали. Два миллиона не скроешь.
Резидент советской разведки в Финляндии Елисей Синицын пишет в своих мемуарах о том, что в августе 1940 года в посольстве в Хельсинки отмечали годовщину «Пакта о ненападении» с Германией (Синицын Е. Резидент свидетельствует. М.: ТОО «Гея», 1996. С. 93–94). Немецкий посол Блюхер представил Синицыну своего личного друга полковника фон Бонина и, оставив их вдвоем, удалился. Фон Бонин рассказал, что 4 года проработал военным атташе в Москве, сейчас приехал из Берлин на с тем, чтобы встретить кого-то из руководства советского посольства и рассказать, что близится нападение Гитлера. В Берлине такие контакты с советскими дипломатами опасны. Фон Бонин а также добавил, что после поражения Красной Армии в Финляндии, Гитлер поручил Генштабу начинать разработку плана подготовки Германии на случай войны с Советским Союзом. В тот же день Синицын отправил шифровку в Центр с просьбой доложить Берия. Ответа не последовало.
11 июня 1941 года Синицына вызвал на встречу агент Монах и сообщил, что утром этого дня в Хельсинки подписано соглашение между Германией и Финляндией об участии последней в войне Германии против Советского Союза, которая начнется 22 июня, т. е. через 12 дней. Источник этой информации присутствовал при подписании соглашения. Тут же «молнией» резидент сообщил о начале войны в Москву Берия. Пришло подтверждение о вручении телеграммы адресату. Реакции никакой (Там же. С. 117–118). Вот вам отношение к достоверным сообщениям разведки.
В. А. Кирпиченко утверждает в своем интервью раза три или больше, что основным пороком при получении предупреждений о войне было отсутствие в системе разведки информационно-аналитического подразделения, которое бы отделяло, так сказать, «зерна от плевел», вылущивало бы дезинформацию, отбрасывало бы второстепенное от главного и т. п. (Такое подразделение было создано только в 1943.) Теоретически, с колокольни 2000 года, он, безусловно, прав, но практически… Речь шла об одном: готовит ли Гитлер войну и когда ее начало. Создай тогда хоть три таких подразделения, Сталин верил бы тому, во что он желал верить: кроме себя он не верил никому. Кирпиченко заверяет в интервью: «Но в целом с учетом предисловия и материалов очерков создается достаточно полная, рельефная картина того, чем занималась разведка в тот или иной период нашей истории. Мы считаем, что в таком виде она нужна нашим сотрудникам, всей службе, общественности, которая интересуется деятельностью отечественной разведки, в том числе ее историей».
Я бы назвал это резюме чрезвычайно самодовольным (или самоуверенным) и обязывающим. Единственное, что в нем бесспорно, на мой взгляд, это очерки о работе разведчиков, отдавших Родине свои лучшие годы и стране-мачехе свои горестные судьбы. Во всей остальной риторической дефиниции я сомневаюсь и некоторые ее моменты не принимаю. О предисловии я высказался: оно стереотипно и аналогично образчикам, рисующим сталинскую внешнюю политику в 30-50-е, отчасти 60-е годы. Эти положения мертвы, засушены, заминированы в банках с плотными крышками и искажают истинные дела и просчеты автора государственного переворота 1929 года Сталина. Будь он человеком, способным думать на перспективу, прозорливым стратегом, то не привел бы страну к войне в таком виде, в котором она явилась миру: обескровленная, с разбитыми военными кадрами, ГУЛАГом, технической слабостью и т. д. Итог: на одного немецкого солдата в войне мы теряли чуть больше тринадцати наших советских солдат.
Рельефной картины, чем занималась разведка, мы, уважаемый Кирпиченко, тоже не имеем. Она работала на пределе или вне пределов человеческих сил, зализывала свои раны, восполняла потери, приобретала со значительными затратами моральных сил и бездарно теряла агентов (когда отзывались в неизвестность сотрудники), вновь восстанавливалась, и вновь ее бросали на смерть в омуты грязной сталинской внутренней ханжеской трясины.
Сотрудники Службы, общественность, да В. А. Кирпиченко, рациональное зерно из «Очерков…» почерпнут. Безо всякого сомнения. А вот теперь о разведке.
Почему авторский коллектив отдельной главой не обрисовал уничтожение кадров разведки (это было бы, действительно, рельефно), почему о наших потерях разведчиков от собственной власти говорится бравурной скороговоркой, а о невозвращенцах в эдакой плотной дымовой завесе: то ли они порвали со Сталиным на принципиальной основе (А. Орлов, И. Рейсе, В. Кривицкий и др.), то ли они полупредатели или как их любят до сих пор причислять к троцкистам. Ведь в Москве сохранились уголовные дела на жертвы произвола, пусть и тощенькие, и протоколы их допросов, и материалы реабилитации и другие документы. Об этом нужно знать нашим сотрудникам, Службе, общественности. Сейчас выходят сборники таких работ о жертвах из числа писателей, людей науки, членах еврейского антифашистского комитета и т. д. А о судьбе разведчиков-героев, могилы которых — выкопанные бульдозерами рвы — ни слова. В чем обвиняли наших разведчиков согласно вынесенным вердиктам?
Кстати, почему в третьем томе отсутствуют очерки о Я. К. Берзине, Боровиче, наконец о Зорге? Он чем проштрафился? Что его повесили японцы, а не вогнали пулю в затылок свои?
Я вернусь коротко к судьбам и Орлова, и Рейсса, и Кривицкого попозже. Не могу смолчать, тем более, что о них-то написаны объемные монографии,[4] не знаю, читало ли их руководство издания «Очерков…». В любом случае они стали невозвращенцами в 30-е годы и двое (кроме Орлова) погибли за границей до 1941 года, т. е. до временной концовки третьего тома.
Разведка — это глаза и уши государства, без нее оно существовать не может. Понимал ли это Сталин? Нет, не понимал. Для него все то, что ему докладывали наркомы НКВД, в частности Берия (о других не упоминаю, те вообще были для человека с трубкой на лагерном жаргоне — шестерками), являлось рядовыми шпаргалками: не буду по ним принимать решений — так думал хозяин. Доказательства тому кричащего свойства: не верить оригинальным документам, предупреждениям о грядущей войне, когда она уже стоит на пороге и, наконец, о чудо, подписать вечером 21 июня 1941 года директиву о приведении войск в боевую готовность (но не поддаваться на провокации), когда к нему (в который раз!) пришли нарком обороны Тимошенко и начальник генштаба Жуков с проектом директивы и сообщением, что на советскую сторону в расположении Киевского военного округа перешел перебежчик, немецкий фельдфебель, и сказал, что войска Германии занимают исходные позиции и наступление начнется в четыре часа утра 22 июня.
Увидев насупленные, усталые, нервные лица своих главных военачальников, и особенно выпяченный до предела вперед волевой подбородок Георгия Константиновича Жукова, Сталин директиву подписал. Фельдфебель перевесил на весах сто или двести предупреждений о начале войны! Но только 21 июня. Это ли интеллект вождя? Это потолок подозрительности недоучившегося православного семинариста.
В. А. Кирпиченко пишет, что плана «Барбаросса» у Сталина не было. Верно, Гитлер копии не прислал. Но в канун 1941 года — 30 декабря 1940 года начальник Разведупра Голиков (как можно изолироваться от военной разведки в этом случае?) доложил ему, что 18 декабря 1940 года Гитлер утвердил директиву № 21 верховного главнокомандования о плане войны против СССР. Да, конечно, это не безвестный фельфебель-перебежчик, которому я бы лично, были бы средства, соорудил памятник: мокрый фельдфебель вылезает из реки и Сталин тут же, на валуне, что-то подписывает… Но довольно шутовства.
И в третьем томе, и в последующих, я уверен есть и будут справедливые слова: «разведка поставленные задачи выполнила и о результатах доложила в Центр, а тот, в свою очередь, на самый верх т. Сталину и в Политбюро». Будучи мальчишкой, юношей (сейчас мне 67 лет), в моем представлении Политбюро было вроде сбора египетских жрецов. А оказалось, как у Осипа Мандельштама, это… «сонм тонкошеих вождей». Они ничегошеньки не решали, писали резолюции матерными словами, например об Якире, о Бухарине. Решал все он — Хозяин.
Но почему он уничтожил разведку, чем руководствовался, какими черными мыслями, отчего оставил в итоге не государство, черт с ним, а себя в 30 — 40-х годах в лесу международных событий, с повязкой на глазах и с ушами, заткнутыми ватой неверия ни во что, кроме как обуреваемый семинаристской догмой — англичане хотят рассорить меня с Адольфом, вот и подкидывают дезу.
И здесь мне не обойтись без экскурса в историю вызревания менталитета Кобы, его генов разума или безумия, ведь не от вечно пьяного отца-сапожника, лупцующего маленького Сосо ремнем, и не от гордой, несчастной матери он их получил, в конце-то концов?
Будучи семинаристом, Джугашвили писал общее для всех сочинение «Причины гибели Цезаря». Со слов его соученика, он выдал самое оригинальное сочинение: добросовестно изложив школьную версию гибели, добавил, что действительная причина заключается в том, что у Цезаря отсутствовал аппарат личной власти; который контролировал бы аппарат государственной (сенатской) власти (Авторханов А. Технология власти. М.: Изд-во «Слово», 1991. С. 63–64). И он создал аппарат личной власти, особенно после смерти Ф. Э. Дзержинского (1926 год), к завершению государственного переворота в 1929 году в лице ОГПУ-НКВД. Но разведка — это не НКВД, хотя она и входила в этот народный (сверхнародный!) комиссариат и долго-долго (до Ясенево) они жили под одной крышей на Лубянке.
Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Во главе разведки (как тогда значилось ИНО — иностранного отдела) стояли такие интеллекты, как Михаил (Меер) Абрамович Трилиссер (1883–1940; расстрелян), начальник ИНО с 1922 по 1929 год, затем — в Коминтерне; Артур Христианович Артузов (Фраучи) (1891–1937; расстрелян), руководил ИНО с 1930 по 1935 год; Абрам Аронович Слуцкий (1898–1938; отравлен), руководил ИНО с 1935 по 1938 год.
Этот пост на короткое время наследовали: Пасов (судьба как у всех — погиб) и Сергей Михайлович Шпигельглас (1897–1939; расстрелян). С 1939 года начальником 5-го отдела ГУГБ НКВД (б. ИНО) стал Павел Михайлович Фитин, 31 год от роду, доработал на этом посту до 1946 года.
Та же картина писалась Хозяином и в военной разведке, вначале под названием 4-го управления! Генштаба, затем ГРУ.
В 1920–1921 годах начальником был Ян Ленцман, в 1921–1924 годах Арвид Зейбод (латыши, оба расстреляны).
Ян Карлович Берзин (Берзиньш; 1889–1938), в-разведупре с 20-х годов — зам. начальника 4-го управления (1921–1924 г.), начальник (1924–1935, 1937), расстрелян.
Семен Петрович Урицкий (1895–1938, расстрелян), еврей, начальник военной разведки с 1937 года. Написал еврей, ибо по именам и отчествам вышеперечисленных это видно и так, а у Урицкого — нет, хотя он племянник М. С. Урицкого, начальника Петроградского ЧК (убит).
После Урицкого пошли дилетанты, их быстро снимали, репрессировали. Фамилий не называю, чего тревожить их покой, они не виноваты в непрофессионализме. Голиков выбился аж в маршалы, но Г. К. Жуков его не признавал ни как военачальника, тем более маршала. Заместителем Берзина был Борович (Лев Александрович Розенталь; 1896–1937; расстрелян). Другим заместителем — Александр Матвеевич Никонов (1893–1937; расстрелян).
Вот это о руководителях ИНО и разведупра до 1938 года. Все они были членами одной со Сталиным партии, занимали высочайшие должности, имели ордена, генеральские звания. Но не это главное. Они были людьми высокообразованными владели иностранными языками, работали за границей в легальных и нелегальных резидентурах, приобретали источники информации! Однако они не входили в аппарат личной власти диктатора, они не подыгрывали ему. Они выкладывали ему на стол неприукрашенную, неприлизанную информацию о положении дел в Европе, Америке, Азии, которая не соответствовала высиживаемым им в Кремле (в том числе и в туалете) постулатам собственной правоты. Они были выше его на целые порядки в интеллектуальном развитии, знали жизнь за границей, образ мышления иностранных политических деятелей, а он ничегошеньки этого не ведал. Но и это не все. Они были инородцами, евреями, вылезшими из черты оседлости, латышами, о которых до революции вообще никто не слышал, поляками и т. д. А он был антисемитом со времен своего вхождения в революционное движение. Кого он встретил в окружении В. И. Ленина, в жилах которого тоже была примесь еврейской крови? Троцкого, Каменева, Зиновьева, Свердлова, Сокольникова (Бриллиант) и др. Со всеми с ними он со временем (кроме Свердлова) расправился, убил их.
К 1938 году, как указано в третьем томе, были ликвидированы почти все нелегальные резидентуры, к началу 1939. года почти все резиденты были отозваны, репрессированы, расстреляны. В их числе (согласно этому тому) резидент легальной резидентуры в США П. Д. Гудуайт, нелегальной там же Б. Я. Базаров (Быков, Буков; настоящая фамилия Шпак — она почему-то не названа — Борис Яковлевич; 1893–1938?). Майор госбезопасности. Имеется его фотография. Он был кадровым офицером Царской армии, поручик. Воевал в Первую мировую, в — 1918-1920-х годах — в белой армии. В 20-е годы резидент советской разведки в Болгарии, Югославии, Румынии. С 1928 года возглавлял резидентуры в Германии и на Балканах. В 1934–1935 годах — начальник отделения ИНО, с 1936 года резидент в США. Доставал ценнейшую политическую и научно-техническую информацию. Всего этого В. А. Кирпиченко не написал, а говорит о рельефности изображения.
Я приведу в алфавитном порядке некоторые имена тех разведчиков, которые были отозваны и расстреляны (не по третьему тому) или работали в ИНО и в разведупре и тоже расстреляны:
Александровский (Юкельсон) Михаил Константинович (1896–1937), ст. майор госбезопасности, с 1937 года зам. начальник Разведупра;
Берман Борис Давыдович (1901–1939), в 1935 году зам. начальника ИНО;
Бортновский (Бронковский) Бронислав Брониславович (1894–1937), в 1921–1924 годах в резидентуре военной разведки в Берлине, затем зам. начальника Разведупра, в Коминтерне;
Волович Захар Ильич (1895–1937) ст. майор госбезопасности, работал в Западной Европе;
Гурский Феликс Антонович (1898–1937), майор ГБ, начальник отделения ИНО, покончил жизнь самоубийством при аресте;
Малли Теодор (1894–1938), венгр, майор госбезопасности, работал в Англии нелегальным резидентом, сменив А. Орлова, руководил Дейчем и «кембриджской пятеркой». В 1937 году был вызван в Москву. В Париже встретился с И. Рейссом и его женой Элизабет. Они его отговаривали, мол, в Москве его убьют. Он отвечал, что пусть, но если он сбежит, то его агенты здесь, в Европе, узнают будет нехорошо, а уедет, никто ничего знать не будет.
Думаю, читателей уже не удивляет, что Сталин дал команду Ежову «почистить» (любимое слово наркома-карлика, рост 159 см, рост человека с трубкой — 163 см) разведку в НКВД и Разведупре. Об этом выше говорилось. Но почему их — евреев, латышей — так много «скопилось» в разведке? Это явление историческое: они активно бросились в революцию, они в Галиции, на Западной Украине и Белоруссии, в Прибалтике знали иностранные языки с детства: польский, немецкий, румынский, чешский и др. Приведу кое-что из таблиц в статье Л. Кричевского «Евреи в аппарате ВЧК-ОГПУ в 20-е годы», (Вестник еврейского университета в Москве. 1995. № 1(8)). Итак, начсостав центрального аппарата ОГПУ в 1924 году: русских — 1670, латышей — 208, евреев — 204, поляков — 90. К 20-летию ВЧК-НКВД, т. е. к 1937 году, награждены 407 ответственных сотрудников, из них 56 евреев, 7 латышей.
Репрессии 1937–1939 годов практически смели старые кадры разведки. Их попросту не стало. В центральном аппарате и в резидентурах пора было ставить таблички: «Проверено — евреев, латышей нет».
Когда-то Виктор Некрасов, русский писатель-воин, автор правдивой книги о войне «В окопах Сталинграда», выступая на митинге в Бабьем Яру, в Киеве, сказал: «…здесь покоятся евреи…». Его перебил чей-то голос: «Здесь покоятся и убитые русские, украинцы…» Некрасов парировал: «Да, это верно, но только евреев убивали за то, что они евреи». Некрасова, гордость русской нации, выдворили за границу, он умер в Париже.
Я скажу так: только разведчиков Сталин убивал потому, что они разведчики. Здесь есть на первый взгляд какой-то плагиат по поводу некрасовского афоризма и выдача желаемого за действительное ради красивости фразы. Ведь убивали не только разведчиков, но и военных, ученых, партийные кадры и т. д. Но вдумайтесь: только разведчиков он убивал потому, что они по роду своей деятельности знали больше него, были дальновиднее, видели его просчеты, его нечистую кухню во внешних делах, были интеллигентнее его, знали о его грязном прошлом. О последнем обстоятельстве за границей писали открыто, там издавали разные книги, за которые в Союзе приговаривали к длительным срокам. Одни разоблачения Л. Троцкого чего стоили.
Сталин был полицейским агентом и отсюда его становление как вождя вне закона. Бывают Агенты с большой буквы, это такие, как Вилли Леман, Шульце-Бойзен, Л. Л. Линицкий, Д. А. Быстролетов, Эрих Такке и десятки и сотни других. Они скромны, деятельны, храбры, их девиз: «Все для общего блага». А бывают агенты-провокаторы, они предают своих, они воспитаны в духе тайного властвования над другими людьми, их судьбами. Это их предначертание. Их девиз: «Моя личная власть превыше закона». Таким был Сталин, таким Гитлер, агент военной контрразведки Евно Азеф, один из лидеров партии эсеров, агент царской охранки.
Я не буду погружаться во многочисленные факты этой сферы деятельности Кобы. Их хватает в нашей и зарубежной литературе, время от времени они «выныривают» из архивных хранилищ. К примеру, в газете «Известия» от 2 октября 1997 года появился новый документ: письмо генерала жандармерии А. Спиридовича, опубликованное доктором исторических наук Юрием Фильштинским, профессором из Бостона (США), «Еще раз о Сталине - агенте охранки».
Здесь я хотел бы отметить основные вехи развития личности Сталина.
Дерганное, униженное, нищее детство с вечно пьяным отцом-сапожником и гордой работницей матерью; однобокое религиозное воспитание в церковном училище и семинарии с самовыработкой свойственного церкви надлюдского менталитета, невысокое образование; увлечение догматической революционной литературой, пропагандирующей слом общества; отсутствие связи с интеллигенцией до и после революций; вывод о своей вечности при аппарате личной власти; организация «эксов» — нападений на казну и грабеж денег на нужды партии, тяготение к уголовному миру; бремя арестов и ссылок; шашни с царской охранкой в связке с Р. Малиновским, выдача товарищей по партии и боязнь провала в партийной среде и перед охранкой; желчный, черствый характер, равнодушие к семье, к матери, детям; нерусскость, антисемитизм, мстительность; отсутствие внимательности к партийному окружению; пренебрежение к разведке и военным кадрам — вот сумма тех надчеловеческих черт, которые не могли позволить Сталину в нормальном обществе стать во главе его. Но он стал править вне закона. Никаких норм права, морали он не соблюдал.
То ли Каменеву, то ли Бухарину Сталин говорил примерно так: «Мне нравится отомстить человеку, отправить его на тот свет, а потом спокойно идти спать». Что-то подобное Бухарин цитировал историку Б. Николаевскому в Париже в 30-е годы. Если представить внешнюю канву изысканий наших историков разведки о ее отношениях с И. В. Сталиным, то она укладывается в пионерскую триаду: товарищ Сталин отдал приказ (через Ежова ли, Берия ли), те спустили его в резидентуры, и по прошествии некоторого времени на стол вождя легло сообщение: «Задание исполнено», и рядом ухмыляющиеся рожи Ежова или Берия. Все можем, все умеем…
Однако в жизни все шло не так гладко. В среде разведчиков вызревало непонимание, раздражение, ненависть по отношению к мудростям кормчего с трубкой. Разведчики знали, что творилось на Родине, были возбуждены. А что происходило с их товарищами, друзьями, коллегами за границей: одних отзывали в Москву, других убивали тут же, на месте. Кто следующий? Куда податься от неминуемой мести и гибели? Пионерская идиллия давно канула в лету. Игнас Рейсе (Натан Маркович Рейсе не был новичком в партии: за спиной — 20 лет тяжлейшей нелегальной работы в разных странах Европы. В июле 1937 года он решил порвать с кремлевским тираном. Отправил 17 июля честное, от крытое письмо, изложил, почему не может разделять со Сталиным его бандитскую политику по отношению к старым кадрам, приложил свой орден Красного Знамени. Как рыцарь он думал, что это письмо будет опубликовано, когда достигнет адресата. Он готовился перейти в IV Интернационал, к Троцкому. Но Сталин действовал как вождь вне закона. Ах так, сволочь поганая, резидент ИНО НКВД во Франции! Убить.
Довольно сложная комбинация, Рейсса запихивают в машину с помощью дамы, которую он знал не один десяток лет, везут и расстреливают. Около Лозанны находят его труп с семью пулями, пять из них — в голову. В кулаке у Рейсса клок седых волос этой дамы. Труп Рейсса обнаружили 4 сентября, в кармане — паспорт на имя Германа Эберхарда. Рейссу-Порецкому было 37 лет… Заместитель начальника советской разведки до 1953 года (в прошлом по заданию лично Сталина убийца полковника Коновальца, одного из главарей ОУН) П. Д. Судоплатов в своей книге «Разведка и Кремль» полил слегка Рейсса помоями: связи с женщинами, денежные махинации. Бывший (недавний) начальник внешней разведки Л. В. Шебаршин (1988–1991) назвал Судоплатова одной из легенд советской разведки. Упаси нас Бог от таких легенд!
К слову. Были ли существенные выступления против человека вне закона внутри страны? Да. Вспомним Мартемьяна Рютина, секретаря Краснопресненского райкома ВКП(б) г. Москвы, основателя подпольной организации «Союз марксистов-ленинцев» со своей программой. Ему вначале впаяли срок, потом расстреляли. Интересно, как бы тут прокомментировал П. Д. Судоплатов: изнасилование сталинского учения о диктатуре (кого и чего?). Хочу сделать маленькое замечание. У нас пишут о невозвращенцах (я не имею в виду Гордиевского, Левченко и т. д., всего их около 30 - это предатели и точка) с какими-то вариациями: надо будет — усилим правомерность невозвращенчества, надо будет — дадим в мажоре тему предательства. Вот образчик. Пишет историк Александр Колпакиди, человек, безусловно, очень эрудированный в хитросплетениях вооруженной борьбы коммунистов и схваток в советской политической и военной разведках в 20-30-е годы в Европе (Колпакиди А. Послесловие / Порецки Э. Тайный агент Дзержинского. М.: Современник, 1996. С. 326–356). Итак, образчик по Колпакиди: «В той или иной степени эту тему затрагивают в своих воспоминаниях «невозвращенцы». (К чему кавычки? Т. е. уже предатели? — Ф.С.) В. Кривицкий, Г. Агабеков, А. Орлов, И. Ахмедов, а также сохранившие верность Родине И. Винаров, Р. Вернер, Л. Треппер, Ш. Радо». Первая группа (т. е. Кривицкий и др.) не сохранила верность Родине, оставшись на Западе? А как быть с многолетними эмигрантами Лениным, Зиновьевым и др.? Тоже не сохранили верности? А Сталин, выдавая охранке в московском ресторане М. И. Калинина, сохранил? Что за эквилибристика, историк А. Колпакиди? И. Винаров уехал к себе в Болгарию, Рут Вернер к себе в ГДР, а резиденты советской военной разведки Треппер и Радо (или эти имена надо опустить, В. А. Кирпиченко?) в Европе во время войны в 1945 году оказались, сохраняя верность в подвалах Лубянки, каждый из них получил по 10 лет. И отсидели полностью, и никто за них не заступился из Центров ГРУ и МГБ. Ни одна сволочь. Кстати, они летели из Парижа при посредничестве советской военной миссии. Радо, человек мудрый, резидент в Швейцарии, у которого были источники на узле оперативной связи верхмахта в Германии, поставлял информацию Сталину (приказы Гитлера, Кейтеля и т. д. о наступлении, передислокациях и подобные «мелочи») раньше, чем они доходили до германского генералитета на фронтах. Так вот Радо при посадке в Каире сбежал от Треппера и конвоиров. Но джентльмены-англичане позже выдали его советским союзникам. И по 10 лет каждому за сохранение верности Родине. В 1953 году у человека в мягких сапогах с искусно выполненными, хитрой конструкции каблуками, чтобы быть выше своих 163 см (автор каблуков — начальник его личной охраны Паукер — расстрелян), трубка окончательно погасла: в 1955 году их выпустили. Радо уехал в родную Венгрию, Треппер — в Израиль (выезжал с трудом: как же, еврей сбегает). Вальтер Кривицкий (Самуил Гершевич Гинсбург) — ровесник Рейсса, оба родились в 1899 году. Их биографии по работе в разведупре и в ИНО — схожи, но у Рейсса на счету более ответственная нелегальная деятельность в Польше, Германии, Австрии, Чехословакии. Они дружили всю жизнь. Кривицкий тоже был награжден орденом Красного Знамени. Он, например, купил чертежи новой итальянской подлодки, в Берлине заполучил ключ к японским дипломатическим шифрам. На его счету были многие отважные дела. Жил он в Голландии, в Гааге, бывал в Париже, советовался с Рейссом, предупредил того, что за ним охотятся люди из НКВД, в частности «забойщик» Шпигельглас. Так же, как и Рейсс, он порвал с режимом Сталина, объявил об этом в печати. Перебрался в Америку. 10 февраля 1941 года он был найден мертвым (выстрел в голову) в номере отеля «Бельвю» в Нью-Йорке. Убийство? Самоубийство? История была весьма запутанной и никто ею серьезно не занимался. ФБР — отказалось. На пистолете Кривицкого отпечатков его пальцев не было… О чем это говорит? И Рейсс, и Кривицкий заявили о своем переходе под знамена IV Интернационала, заграничного центра оппозиции Сталину, и этим подписали себе смертные приговоры. А куда им было бежать, в те годы коммунистам, сотрудникам политической разведки? У Троцкого и Сталина были две похожести: оба родились в один год — 1879 и состояли в одной партии, во всем остальном они разнились. Но для тех времен (30-40-е годы) вопли об угрозе троцкизма (смертельной) для дела социализма в одной, отдельно взятой стране были своего рода массовым психозом — партийным онанизмом, который опасно было прервать. А говоря по правде? В апреле 1922 года Ленин выдвинул Сталина на должность генсека, должность скорее бюрократически-техническую, как было до него, нежели руководящую. Но Сталин, по словам Ленина из так называемого «завещания», «сосредоточил в своих руках необъятную власть» и уже в декабре 1922 года, через 8 месяцев. Ленин предложил переместить Сталина на другой участок работы. Как известно, этого сделано не было. Узнал ли Ленин о шашнях Сталина с Малиновским, с охранкой? А почему бы и нет? Он мог вспомнить о событиях на Пражской конференции, да и товарищи могли подсказать. Бухарин всегда, я подчеркиваю, всегда утверждал, что Малиновский провокатор, а Ильич не верил, но в конце-то концов вынужден был поверить после работы комиссии Временного правительства и приговора ревтрибунала о расстреле провокатора в 1918 году. Но Ленин нигде не упоминал, заметьте никогда, о перемещении Троцкого. И стоило ему умереть в 1924 году, как Сталин уже в 1925 году сместил Троцкого с должностей председателя РВС и наркомвоенмора. Армия перешла под полный контроль генсека, а после 1926 года (смерть Дзержинского) у него в руках оказался и аппарат личной власти — ГПУ.
Как я понимаю, троцкизм и сталинизм — две ветви одной партии и ничего здесь удивительного или постыдного нет. Какой-то идейной борьбы между ними во времени почти не было: Сталин уничтожил и репрессировал всех сторонников Троцкого в стране, убил его детей, внуков, наконец его самого. Заграничные группы троцкистов были напичканы агентами НКВД, председатель IV Интернационала Андреас Нин был убит в Испании. Запугивание народов СССР троцкистской опасностью — это блеф, оправдание для дальнейших репрессий, процессов и экзекуций. Через 13 лет после убийства Л. Троцкого умер и Сталин и корабль сталинизма, все больше накреняясь из-за пробоин, нанесенных ему политикой государственного террора, стал тонуть в народной памяти, оставляя на поверхности все те невзгоды, которые принесло нам уничтожение генетического фонда нации.
Александр Михайлович Орлов — настоящие имя и фамилия Лейба Лазаревич Фельбинг, в кадрах ИНО — Лев Лазаревич Никольский (1895–1973). В 1933–1937 годах был нелегальным резидентом ИНО во Франции, Австрии, Италии. Работал и в Англии, руководил «кембриджской пятеркой» до отъезда в Испанию, где в 1937–1938 годах был резидентом НКВД и советником республиканского правительства по безопасности. Сталин ему доверял, Орлов тоже был предан Хозяину, но компрометирующие материалы на него подкапливал. Сталин приказал лично Орлову вывезти золотой запас Испании, четвертый по величине в мире (подчеркнуто мною. — Ф.С.) в СССР. Запас в виде слитков, монет, ценностей, серебряных украшений стоимостью около полумиллиарда долларов (по тем ценам) под бомбежками был нагружен на четыре советских торговых судна и вывезен. Кто-то потом, задним числом пытался обвинить Орлова (как Судоплатов — живая легенда, поливал И. Рейсса), что к его рукам что-то из золота прилипло. Работали комиссии по проверке: ни одной пылинки не обнаружили.
Орлов работал в Испании в сложнейших условиях: и по части отношений с членами правительства, и по агентурной работе, и по организации партизанских групп в тылу у Франко и т. д. По воспоминаниям очевидцев, всегда выглядел эдаким джентльменом-снобом (в виде иллюстрации: на завтрак в гостинице, где он жил, ему приносили яйцо на подносе и в салфетке, чтоб, значит, тепло яичное не ушло).
За испанское золото Сталин наградил его орденом Ленина и ему было присвоено звание ст. майора госбезопасности (соответствует полковнику). Орлов был боевой офицер, с богатой интуицией, прекрасной осведомленностью о подлостях Хозяина (недаром уже в июне 1953 года в США, через два месяца после смерти вождя, он выпустил книгу «Тайная история сталинских преступлений» — краеугольный труд о вожде вне закона). Так вот, он, предчувствуя посягательство на себя и свою семью, опередил тупого Ежова и вывез жену и больную дочь с помощью и под охраной немцев-интербригадовцев на небольшую виллу на территории Франции. Вскоре пришла телеграмма от Ежова: Орлову выехать через Париж в Антверпен (Бельгия) и посетить судно «Свирь», где ему будут даны инструкции. Как будто в Испании этого нельзя было сделать. По принципу Бени Крика: «Беня знает про облаву, давай дальше», Орлов дает телеграмму, что выезжает, а сам несется к жене и дочери, хватает их, мчится в Париж в канадское посольство за визами, получает таковые, потом за билетами, на судно — и в Канаду. Переселяется в США с помощью своих тамошних дальних еврейских родственников, получает официальные американские документы на въезд. «Свирь», конечно, уплывает, на ее борту был один из руководителей ИНО С.М. Шпигельглас (расстрелян в 1939 году), специалист по похищению генерала Миллера из Парижа (руководителя РОВС — Российского общевоинского союза). «Легенда» разведки Судоплатов изображает дело так, что Шпигельглас боялся(?!) сойти на берег, поэтому ждал Орлова на борту. Надо же так лгать! Какого черта Шпигельглас пошел на «Свирь», если боялся французской и бельгийской полиции? Его же могли взять и на судне, будь бельгийцы посмелее.
В Москве о том, что Орлов в Штатах, узнали в ноябре 1938 года, дали ориентировку о его розыске во все точки разведки в мире. Но Орлов написал еще до ноября Ежову и Сталину, что если тронут его семью и мать в СССР, он опубликует имена агентуры в Европе и упомянул в письме их псевдонимы. Сталин и Ежов в штаны наделали, а пришедший на смену Ежову Берия позвал Судоплатова и велел ориентировку отозвать. Шантаж во благо, во спасение роль свою сыграл! С человеком вне закона можно было говорить только на его же языке.
Орлов часто менял места проживания в США, жил тихо, публично о своих симпатиях к Троцкому не распространялся: исход Рейсса он знал, но дважды (не открывая своего имени) известил Троцкого из третьей страны, что к нему приближается киллер. Троцкий предостережениям не внял, за что и поплатился. Орлов похоронил дочь, жил бедно, но во время войны вносил в фонд Красной Армии по 5-10 долларов. ФБР, наконец, выяснило, что у него под боком живет «генерал НКВД» (так они его называли), его начали допрашивать в ФБР, сенатских комитетах и подобных злачных местах. Он никого не назвал: ни «кембриджскую пятерку», ни Малли, ни Дейча, ни Фишера, с которым немного поработал в Англии, а теперь под фамилией Абель увидел портрет арестованного друга в газетах. Вот живая легенда советской внешней разведки! Он умер в США, в 1973 году в своей постели, не допустив ни одной оперативной ошибки. Светлая ему память!
В военной внешней разведке я не работал, состоял в политической. Но за положение военной разведки в этих «Очерках…» — переживаю. Мне ответят, что мы и не думали писать о военных разведчиках. Я задам контрвопрос: а кто вам все таки мешал, а?
Ф. Саусверд
1997 год
Провалы на невидимом фронте и вереница предателей ваялись в Центре
До 1934 года обеими разведками СССР: политической (последовательно — иностранный Отдел ОГПУ, НКВД) и военной (вначале 4-е Управление Генерального штаба, затем Главное разведывательное управление Генштаба — ГРУ) руководил Отдел международных связей Коминтерна во главе с Осипом Ароновичем Пятницким (настоящая фамилия Таршис).
Псевдоним Пятницкий, широко известный в компартиях мира, он получил от немецких социал-демократов, ибо свои встречи с ними по вопросам доставки большевистской литературы в Россию до Февральской революции всегда назначал по пятницам. Осип Пятницкий являлся одним из создателей РСДРП, ее членом с 1898 года, был личным другом В. И. Ленина. Последний ему безгранично доверял как человеку кристально честному, прекрасному организатору, бескорыстному во всем. В 1921 году Ленин лично направил О. Пятницкого на работу в Коминтерн, где под лозунгами типа «Даешь мировую революцию!» и на почве необходимости помочь иностранным компартиям царил произвол в расходовании огромных материальных ценностей (валюты, предметов искусства и т. п.), конфискованных у царской семьи, церкви, дворян и т. д. Они присваивались, транжирились партийными чиновниками. Образовалась вопиющая бесконтрольность при расходовании миллионов и миллионов в царских рублях, долларах и в иных исчислениях. О. Пятницкий железной рукой навел порядок в Коминтерне в этой области. Злостных воров предал суду.
Мое категорическое утверждение, что именно он был назначен куратором разведслужб, базируется на изучении многих источников, главным из которых является монография Владимира Пятницкого (сына Осипа) «Заговор против Сталина» (М.: Современник, 1998). По большему счету, это первая честная нелицеприятная книга по истории Коминтерна, и в частности о массовом физическом уничтожении Сталиным и НКВД лидеров компартий и целых партий мира, например польской в Советском (не поднимается рука писать слово «Совет-ский») Союзе и за его пределами.
Осип Пятницкий был членом ЦК ВКП(б), избирался делегатом многочисленных съездов партии, однако в круги, близкие лично к И. Сталину или Л. Троцкому, не входил.
Он подбирал кадры для разведок из числа латышей, поляков, русских, немцев, евреев (конечно, не по национальному признаку, а по деловым качествам, знаниям иностранных языков), создавал школы Коминтерна и разведок, тасовал кадры между Коминтером и обеими разведками, давал направления работы резидентурам за границей, ну и указания по другим профессиональным вопросам. Коминтерн и разведки опутали весь мир.
Расхожие дежурные фразы о партийном руководстве (Постановления ЦК ВКП(б) — читай Сталина) работой советской разведки я оставляю на обочине рассуждений официальной партийной историографии. Почти все эти аллилуйные призывы не по делу, натянуты.
В 1933 году к власти в Германии приходит Гитлер, в 1934 году Сталин начинает окольные шашни с ним, изыскивает пути завязывания с фюрером неформальных отношений. Вначале Сталину это плохо удается, объехать по кривой О. Пятницкого, последовательного антифашиста, ему трудно, и Сталин в 1935 году переводит его на работу подальше от разведок — в ЦК ВКП(б), заведующим политико-административным отделом, тоже немалый пост, но подконтрольный ему, Сталину! От руководства разведработой Осип Пятницкий отведен, но выпестованные им кадры зубров разведки остались. На гнилые компромиссы с фашистским привкусом они не идут. Эти люди рвут с насаждаемым Сталиным антинародным тоталитарным режимом, с ним лично, посылают в Москву и публикуют за границей обличительные для Сталина открытые письма (Рейсс-Порецкий, Кривицкий, Агабеков, Бармин, герой гражданской войны — Раскольников и др.). Большинство из них убивают там же, за границей, так называемые подвижные группы НКВД. Сталин перестает верить кому-либо из разведчиков. Их вызывают в Москву, предъявляют несусветные обвинения и затем тайно расстреливают. В чем их обвиняли — толком неизвестно, но уж в предательствах по отношению к Родине их заподозрить не было оснований.
В последние годы вышли четыре тома «Очерков истории российской внешней разведки» (В 6 т. М.: Междунар. отношения, 1996 —. (Изд. продолжается)), и нигде правдивого слова: какие же обвинения конкретно им предъявляли в Москве, кроме известных всем лживых фраз о якобы шпионаже в пользу иноразведок. Пустота, но могильная. Та же участь постигла большинство дипломатов всех рангов, начиная с послов. Центры разведок и Наркоминдел — обезлюдели. Сталин зверел в 1936–1938 годах с каждым месяцем, он развязал в стране большой террор. В июне 1937 года в Москве состоялся Пленум ЦК ВКП(б), официально посвященный вопросам семеноводства. (Вот это конспирация! А кто-то из нынешних горе-моралистов возмущается, что РСДРП пользовалась доходами от фабрики презервативов за границей, организованной небезызвестным Парвусом, соцдемом, автором теории перманентной революции, авантюристом, вхожим в германский генштаб.) А на самом деле — секретный Пленум, посвященный усилению террора в партии и стране.
На Пленуме Сталин и Ежов потребовали предоставить дополнительные полномочия Ежову, НКВД по наведению порядка в стране. Первым против этого наглого демарша выступил с трибуны Осип Пятницкий, заявив: «Вы же уничтожаете партию. Хватит репрессий». Его поддержали (не побоялись) еще пятнадцать членов и кандидатов в члены ЦК (доподлинно все их фамилии неясны: Сталин то велел стенографировать речи, то прекращал это делать). И здесь же, на Пленуме, Сталин как секретарь ЦК лично подписал постановление о передаче в НКВД дел на 45 или 49 членов Пленума — крупнейших партийных деятелей, в основном с дореволюционным стажем. Он заверил своей подписью решения-выписки о передаче судеб живых в разряд мертвых. Все они были расстреляны. Предсовнакрма Украины Панас Любченко выскользнул с территории Кремля, окруженного энкаведистами, примчался домой в Киев, убил жену, детей и застрелился сам.
В перерыве к О. Пятницкому подошли холуи вождя: Молотов, Ворошилов, Каганович. «Осип, — была их мысль, — откажись публично от своего выступления. Хозяин простит. У тебя же дети». «Нет и нет!» — последовало от Пятницкого. Его посадили под домашний арест на две недели, затем — в тюрьму. Издевались, били графином по голове, на допросы он одевал в камере все, что мог натянуть, чтобы меньше чувствовать удары. Ему было 54 года. Он ничего не подписал, никого не оклеветал. На него лили грязь сломленные пытками известные революционеры Бела Кун и Виктор Кнорин, избитые до потери сознания. Пятницкий молчал. Ничего не подписывал. Его расстреляли через год после ареста в июле 1938-го.
В четвертом томе «Очерков…» имеется глава 27 «Коминтерн-разведка», автор А. Иуков. Из содержания главы видно, что ее автор не читал «Заговор против Сталина»: ни о самом «заговоре» — июньском, 1937 года, Пленуме ЦК нет ни слова, равно как и о выступлениях на нем противников террора и их трагических судьбах. Иуков ограничился приведением ряда писем от руководителей ИНО и ГРУ в адрес Пятницкого по частным служебным вопросам: напустил тумана, утверждая, что после войны обнаружилось, как гестапо готовило фальшивки в отношении Пятницкого, что он был расстрелян «как немецкий шпион» (?!), вот такую ложь в квадрате. Из того, что нам известно, даже тогда в 1937–1938 годах никакого «немецкого следа», даже фальшивого, не просматривалось. Как и все другие авторы «Очерков…», А. Иуков благодушествует рассуждая, как партия была питательной средой разведки, удобряла ее кадрами, каким дальнозорким был Сталин, распустив Коминтерн…
О том, каким он был мудрым, восстановив его в виде Коминформа в 1947 году — не пишет. В общем, главка куцая (всего 13 страничек) и малосодержательная. А должна была быть иной — трамплином к пониманию вопроса о разгроме внешней разведки. С убийством Осипа Пятницкого, обвиненного даже в троцкизме, щупальцы Сталина и НКВД потянулись ко всему Коминтерну, к разведкам политической и военной, их резидентам за рубежом, сотрудникам как легальным, так и нелегальным. Руководители разведок репрессировались почти ежегодно. Раз в прошлом их руководитель О. Пятницкий «троцкист», то кто они? Тоже троцкисты. Естественно, он всех их знал, назначал, передвигал, а как иначе? Складывалась та же картина, как и в Красной Армии: Л. Троцкий, будучи председателем Реввоенсовета и наркомвоенмором назначал всех руководителей армии, но прошло время — их репрессировали за связь с главным врагом народа, вторым после Ленина в гражданской войне.
Сталин как близорукий руководитель страны во внешней политике (страна была в изоляции) в разведке не понимал «ни уха, ни рыла». Он не признавал, что разведка — это «глаза и уши» государства. Он не знал всемирной истории разведки, во всяком случае среди немногочисленных списков книг (зафиксированных его биографами, как им затребованных и читаемых) работ по разведке не было. Иностранными языками он не владел. С другой стороны, как бывший полицейский агент Коба был интриганом, умел плести паучьи сети мнимых заговоров, «виртуально» создавал «правотроцкистские», «левоцентристские» блоки, определял, кому из уже репрессированных какая роль в «заговорах» уготована. Коба с упоением читал сводки подслушивания и наружного наблюдения, агентурные донесения о своих политических противниках, чего обычно не делают главы нормальных государств. Это ниже их достоинства. Разрешив в 1937 году пытки (таковые были запрещены в России царем Александром I в 1801 году), разыгрывал вместе с Вышинским, Ежовым, Ульрихом (как картежник) знаменитые московские процессы с заранее решенными смертельными исходами или попросту подписывал списки на уничтожение людей (известны 383 таких списка). В этом деле равных ему не было.
С кадрами разведок, создаваемых О. Пятницким (не одним, конечно) и другими профессионалами с начала 20-х годов, Сталин покончил за 2–3 года (1937–1939 годы). Разумеется, репрессированных профессионалов Ежов и Берия заменяли новыми людьми по партийным и комсомольским призывам и мобилизациям, но разве можно было вот так, механически, заменить корифеев разведки? Интеллектуализм, ментальность, знание языков не возникают по разнарядке. Центры на Лубянке и их военных коллег захирели, были периоды времени, когда даже бумаги на имя вождя некому было подписать — кабинеты обезлюдели.
А агентура за границей, оставшаяся вне связи? К началу войны разведка являла собой кладбище умов и с большим трудом, как феникс из пепла, саморегенерировалась. Сколько было предупреждений о начале войны! Да из каких источников! Но Кобе на все было наплевать, раз это не укладывалось в его мозгу, изъеденному Катехизисом и прочими церковными догмами. Мне кажется, он поверил в разведку лишь к 1945 году, когда та на основе сведений агентов-евреев из числа ученых, бежавших из Европы в США с гарантией А. Эйнштейн перед Ф. Рузвельтом, в своем объемном коллективном клюве не принесла результатов атомного шпионажа и цвет науки в Союзе не изготовил по похищенным технологиям атомную бомбу.
А затем опять успехи стали перемежаться с провалами, основными виновниками которых были руководящие чиновники Центра. Я больше чем уверен, что будь во главе разведслужб руководители уровня О. Пятницкого, Я. Берзиня, А. Артузова и др., таких провалов и предательств, о которых пойдет речь ниже, и в помине не было бы.
Обычно принято писать о подвигах разведчиков и о прозорливом руководстве ими со стороны Центра, находящегося от них на расстоянии в тысячи две километров и все, однако, предусматривающего. Да, в общем, по идее бывало и так. Но были и позорные провалы… О них я и хочу рассказать…
Когда человек совершает преступление, он преступает закон, оказывается вне закона, за ним охотятся, ловят, допрашивают, судят, и за ним защелкиваются ворота тюрьмы.
Когда нелегал въезжает, вернее сказать, тихо «вламывается» в страну назначения, он уже преступает закон, оказывается вне закона. В случае его обнаружения за ним охотятся (иногда он является с повинной и предает своих сотоварищей), его ловят, допрашивают и за ним… (см. предыдущий абзац).
Стоп! Уже тогда, когда нелегал пересекает границу определенного для него государства, — он оказывается и вне закона, и сразу в тюрьме. Пока только без решеток и надзирателей. Но со сроком, равным длине его командировки. Сравните: он несвободен в своих действиях, живет без истинных документов, всего должен опасаться, в любом деле себя ограничивать, бояться оступиться, постоянно думать о будущей свободе на родине, терзаться разлукой с семьей, отсчитывать годы неволи в чужой стране. И врать, врать, врать. Жене, детям, товарищам дома, соседям в стране пребывания. Всем, кроме заботливого Центра, который может такую козу тебе сделать, что и в настоящую тюрьму загремишь. Предельно коротко: нелегал укорачивает свою жизнь ради выдуманной. Итак, короткая жизнь делается еще короче, пробегает мимо нелегала, как поезд дальнего следования мимо пригородной платформы электрички. И все это ради чего? Ради идеи, романтической профессии, государственных интересов, — утверждают умные головы в Центре.
На протяжении двух десятков лет или более, читая различные серьезные материалы о Зорге (легковесных я во внимание не принимал), я так и не смог понять, так на чем же он провалился. Показания Мияги, художника, с которых официально началось уголовное дело? Или других членов группы?
Так это фон, маскировка истинных первоисточников провала — прием всех контрразведок.
В книге двух англичан, Ф. Дикина и Г. Стори «Дело Рихарда Зорге» (М.: Терра, 1996) четко сказано, что в августе-октябре 1941 года Центр повелел проводить встречи с Зорге и радистом Клаузеном сотрудникам резидентуры совпосольства в Токио (?!).
Это противоречило всем законам разведки: с нелегалами стали работать граждане СССР, за которыми, конечно же, осуществлялось наблюдение: 6 августа 1941 года сотрудник резидентуры (кличка Серж), второй секретарь посольства, явился прямо в офис Клаузена. Серж — Виктор Зайцев — встретился там и с Зорге. 18 октября Клаузена арестовали.
Москва перешла на такой способ связи еще в январе 1940 года. Однажды Клаузен передал в темном зале театра 70 микрофильмов и получил взамен деньги. Что тут скажешь? В который раз Центр предал своих людей. Морализировать на эту тему бессмысленно. Зорге и другие члены его группы были обречены…
Абель
…Абель и Хэйханен. Моцарт и Сальери нелегальной работы. Слишком высокопарно? Лучшего противопоставления сравнения я не нашел. Оно во всяком случае выражает трагедию Абеля, но не изощренность ума Хэйханена. На Сальери он не тянул. Более беспощадная судьба, чем у Абеля, была лишь у нелегалов Р. Зорге, В. Кривицкого, И. Рейсса, которых насильственно лишили жизни: первого после суда в Токио повесили японцы (Сталин не захотел сохранить ему жизнь и обменять на японских офицеров, находившихся в плену), двух последних убили в США и Швейцарии посланные туда энкаведюги, поскольку оба порвали со сталинским режимом.
Десятки нелегалов и легалов были вывезены в «я такой другой страны не знаю, где так вольно дышит человек» и уничтожены. Зафиксировано, что предатель Хэйханен ответил на суде на двести двенадцать вопросов, и наверняка на тысячу — на предварительном следствии (кто их там считал?), он вывернулся наизнанку, топя своего шефа. Ни на один вопрос по существу своего дела не ответил Абель: он вообще после ареста и первичного объяснения, что он Абель, отказался говорить. Он получил 30 лет тюрьмы. Главное, Абелем, о чем объявил, он не был. Но об этом позже. Оба они были старшими офицерами, но это ни о чем не говорит, это внешний фон, это по бумажкам: представления, звания, назначения, награды… Абель и Хэйханен прилетели в точку встречи — США из совершенно разных духовных миров. Сравним? Попытаемся. Начну я с Хэйханена, способного ездить на той самой бочке и в СССР, и в США, но не более того, причем без тайных сведений и вне связи с нелегальной работой. Как сказал о нем защитник Абеля на суде Джеймс Донован: «В армии США такой человек не стал бы даже капралом».
К 1952 году, когда Хэйханена (псевдоним Вик), направили в США на помощь Абелю (псевдоним Марк), первому было 32 года, второму — 50.
Вик родился в деревне недалеко от Ленинграда. Окончил семилетку, затем педагогический техникум, три месяца проработал в школе и стал переводчиком в НКВД, в Карелии. В 1948 году Москва подобрала его для работы в разведке. Он прошел подготовку, в том числе в Эстонии: изучал английский, технику фотографирования, радиодело, вождение и ремонт автомашин. Затем двухгодичное нелегальное пребывание в Финляндии, работа механиком, обращение в посольство США в Хельсинки за паспортом, в 1951 году женитьба втайне от Центра и вопреки запрету на финке по имени Ханна, вновь короткая подготовка в Москве и в 1952 году выезд в Штаты из Финляндии.
Если попытаться прочесть между строк историю о прямом восхождении Вика к московским и нью-йоркским высотам, то я бы сделал это так: деревенского парня с минимальным образованием (семилетка, педтехникум!), выпивавшего аккуратно и в силу этого не выгнанного ранее из НКВД Карелии, знавшего в какой-то степени финский язык, решили пока «посмотреть», т. е. не для определенной цели, не для Марка, а для легализации в Финляндии как местного гражданина. Его отдокументирование, легенда были проведены капитально, как только у нас умеют делать. Это без иронии. Он стал своего рода резервистом, нацеленным для будущей ситуации, которая подвернется или в США (въезд туда по отличной легенде у него проходил как прямой шар в лузу), или проезд через Штаты и выезд оттуда куда надо.[5] Мир лежал у ног Вика, только покоряй, и если не героизмом, то предательством. Он выбрал второе. Что о нем знали в Карелии? Да ничего. Забрали парня в Москву, запросы шли из разведуправления, ну и ладно, далеко он не пойдет, образование-то у него не очень, но для чего-то вспомогательного сгодится. А в Москве? Да тоже ничего. Внешне парень видный, на грудь взять может, в Эстонии, в Москве циклы подготовки прошел, характеристики как для себя писали: в Финляндии — закрепился, аж два года там отработал.
Ни в Карелии, ни в Москве не учуяли его бездуховности, мещанства, провинциализма, не говоря уж об алкоголизме. Да и кто мог это учуять? Начальники, погрязшие в карьерных играх? Слава богу, что Вик знал Абеля только как Марка, большего ему в Центре не сказали. Он даже не имел точных данных, где тот живет, а то продал бы его еще раньше и на «горячей» операции по связи, получению секретной документации и т. п., короче — с поличным.
К моменту ареста Марка у ФБР не было варианта к затяжной разработке: девять лет кто-то (неизвестно кто именно) резиденствовал в Нью-Йорке, прошло почти два месяца, пока вышли на него. На него ли? Свихнуться можно. Вик прибыл на новое место службы 20 октября 1952 года, Ханна присоединилась к нему в 1953 году. На родине у него осталась семья: жена и сын. Он уже их предал. Каково им было? Недаром Донован на суде говорил с адвокатской въедливостью: как можно вообще верить этому двоеженцу?
Первые одиннадцать месяцев Вик вообще ничего не делал, «входил в образ», так сказать. Затем два с половиной года Марк с Виком время от времени встречались, Вик исполнял отдельные поручения шефа. Но все это из-под палки. Английский он знал плохо, учить его не хотел, присвоил казенные деньги, буянил дома, бил молодую жену, даже полиция являлась по вызову соседей. По пьяному делу у него отобрали водительские права. Короче, все точно так же, как в Карелии, разве что в партком жена или соседи не обращались. Марк сообщал о художествах своего ведомого, и в Центре наверняка уже стали точить кинжалы, в предвкушении встречи с хитрым двоеженцем.
Далее хронология предательства по дням. 24 апреля 1957 года он отплывает в Европу. Отпуск! 1 мая встречается с сотрудником резидентуры в Париже. 2 мая — визуальный контакт с другим сотрудником, состоявшийся факт которого означал, что на следующий день, т. е. 3 мая, он отправится в Западный Берлин, перейдет в Восточный и далее — в Москву. Естественно, что из Парижа в Москву идет шифром: «Все в порядке». Но… 3 мая Вик ныряет в американское посольство в Париже, предает полковника Марка, других установочных данных у него, слава богу, нет. Правда, он примерно знает дом, где тот проживает. Марк куда-то в том микрорайончике заходил, а Вик ждал его на улице, и, получив из рук в руки фотоматериалы, они расстались. Марк не верил ему не только, как говорят наполовину, но на одну сотую долю. После своего визита в американскую резидентуру Вик пробыл в Париже еще три недели, т. е. плюс 21 день (выходит, до 25 мая). Затем был вывезен на американском военном самолете в США. Американцам нужно было время для проверки информации от Вика, для сбора данных о нем самом, в частности об обстоятельствах его въезда в США, а также попытаться определить квартиру Марка, исходя из ориентировки предателя. Они вычислили предполагаемый объект: Эмиль Голдфус, владелец студии в доме № 252 по Фултон-стрит. Но… там никого не было. Организовали круглосуточное наблюдение за районом и домом. От жильцов узнали, что хозяин уехал куда-то в конце апреля, т. е. почти одновременно с Виком.
Да, так и было. Марк после отправки своих тревожных сообщений в Центр получил совет выехать куда-нибудь на юг и быть готовым к тому, чтобы покинуть США. Он пробыл 18 дней во Флориде, получил известие, что с Виком в Париже все в порядке, с ним встречались. Марк успокоился, вернулся 17 мая в Нью-Йорк, поселился в отеле «Латам» под фамилией Коллинз, но в студию не ходил, выжидал.
Исходя из точных дат видно, что между неприбытием Вика в Восточный Берлин и в Москву (будем считать с щедрым резервом: до 7–9 мая и от этих дат далее) прошло еще две с половиной недели. Но сигнала крайней опасности (мол, уходи, не появляйся в Нью-Йорке), например в виде невинного условного объявления в определенной американской газете, которую Марк обязан был читать по утрам или в иной форме, Абель не получил. И это ЧП, провал, публично ни один начальник в Центре не признал. С другой стороны Центр знал, что Марк во Флориде, но исчезновение Вика должно было превалировать в посылке сигнала опасности. Очевидно, в глобальном виде сигнал не был отработан. Приходится только сожалеть, что оперативного предвидения и прогнозирования (в связи с негативным поведением Вика в США и с его отказом прибыть в Москву), в Центре не хватило. Речь, повторяю, шла об исчезновении не на две-три недели! Вик предполагал и боялся, что за все его похождения и прегрешения (а их, наверняка, было еще больше, чем знал Марк, который не мог не сказать об известном ему, когда был в отпуске в 1955 году в Москве) с него в Центре спустят шкуру. Времена, когда ему грозили пальцем за внеплановую женитьбу в Финляндии и говорили: «Ах, шалопай, да ты еще и шалун», прошли. И Центр знал, что Вик знает о возможном откомандировании в родную Карелию, а следовательно, возможны варианты, в том числе и бегство, но… контрразведывательного опыта для оценки парижского или западноберлинского исчезновения собственного сотрудника явно не хватило. Доминировало русское «авось»: авось найдется, авось «загулял, загулял парень молодой», авось убит уголовниками (при изменах, исчезновениях за рубежом на них грешили прежде всего, а в Индии — еще и на крокодилов, упал в реку — сожрали) и т. п.
…Нашелся для Москвы Вик позже, когда 28 мая в Нью-Йорке обнаружили Марка. Агенты ФБР зафиксировали мужчину, по приметам похожего на «полковника Марка», сидевшего на скамье рядом с домом № 252 по Фултон-стрит. Но… тот посидел, поднялся и ушел, его потеряли. Проколы бывают в наружном наблюдении не только у нас. В этом и техника ухода разведчика — не ты исчез, а тебя прозевали. Наблюдение продолжилось. И только 20 июня 1957 года, около 22 часов в окне студии загорелся на короткое время свет: Марк искал оброненную в темноте фотопленку. Он пришел, чтобы забрать хранившиеся там шпионские принадлежности, в темной соломенной шляпе с белой лентой. Нашел что надеть! Равно закладка радиомаяка! Его сопроводили, секретно сфотографировали, довели до отеля «Латам», установили личность. Фотографию показали предателю, он авторитетно промямлил: «Вы нашли его, это Марк». На следующее утро резидента арестовали…
Прервем анатомию и хронологию еще одного предательства в советской разведке и ареста его героя. В общем-то о Хэйханене сказано почти все, что хотелось. Сейчас речь пойдет об Абеле, но… Я отлично понимаю, что в каждой разведывательной операции, удачной и не очень, за кадром остаются совершенно секретные замыслы, ходы, ситуации, которые навечно сокрыты в предметных досье, лежащих уже в архивах и покрывающихся пылью. Но я никогда не пойму и не оправдаю самыми высшими интересами допустимость ареста Марка почти через два месяца после исчезновения Хэйханена, времени, достаточного для того, чтобы в порядке тревоги послать к Абелю курьера (например, из посольства или консульства в Нью-Йорке), скомандовать резиденту-нелегалу: «Покинуть страну немедленно по такому-то варианту». Надо всегда допускать худшее, если речь идет о спасении человека. До тех пор, пока Хэйханен не был обнаружен живым или мертвым, следовало полагать, что он в плену: наколот наркотиками, схвачен, сдался добровольно, раскололся, дает показания. Не думать же через почти два месяца, что он все едет в далекие края. На телеге что ли? Пушкина ссылали быстрее! Это же абсурд! Если… Если не было здесь сверхсекретного хода: допустить арест Марка-Абеля и этим проверить благонадежность старшего майора госбезопасности, что соответствовало званию генерал-майора Шведа (Орлова), бывшего резидента НКВД в период гражданской войны в Испании, бежавшего от режима Сталина из-за грядущей расправы в 1938 году из этой страны через Францию и Канаду в США и с тех пор спокойно там проживавшего, равно как и после суда над Абелем. Эту версию выдвигает многолетний домашний друг Фишера-Абеля Кирилл Хенкин в своей замечательной, однако не лишенной недостатков книге. Но об этой, на первый взгляд фантастической, версии — позже.[6]
Когда один из сотрудников ФБР, арестовывавших Марка, сказал: «Полковник, нам известно о вашей шпионской деятельности…» — арестанту стало ясно, что сведения ими получены от Хэйханена — о звании полковника больше никто не знал. Незамедлительно в энергичном, наступательном духе люди директора ФБР Гувера повели разговор о сотрудничестве с ними, избавляющем от судебного преследования.
По их мысли, подполковник или полковник, ну и что? Лишь одна звездочка разницы. Но если предал первый, дрогнет и второй, а? Однако вопрос-то был в том, что Марк, он же Вильям Генрихович Фишер, да, полковник, но разведчик по уму и призванию, а не по назначению. Он начал движение в США, в точку встречи с Хэйханеном с совершенно другого плацдарма, нежели Вик, не с посулов кадровиков и близоруких начальников о незаметных, но блестящих перспективах нелегальных прогулок мимо роскошных витрин ювелирных и автомобильных магазинов в Нью-Йорке…
Вильям Фишер родился в 1903 году в Англии, в семье Генриха Фишера (по происхождению из немцев-колонистов, живших в России со времен Екатерины II), участника «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», лично знавшего В. И. Ульянова. Генрих Фишер арестовывался царской полицией, отбывал наказание, был выслан за границу. Здесь напрашиваются параллели с происхождением другого нелегала — Рихарда Зорге, дядя которого Фридрих Зорге являлся другом Маркса и Энгельса, членом I Интернационала, а отец — Адольф — работал на нефтяных вышках в Баку. Разведка знала, в чьих колодцах черпать воду для культивирования плодородия в своей оросительной системе каналов проникновения на Запад и Восток.
Отец Вилли, большевик, занимался транспортировкой контрабандного оружия из Англии в революционизирующуюся Россию, сын бегал по его конспиративным поручениям, учился в школе, гонял в футбол, тайком курил. К способностям отца все делать своими руками Вилли добавил живопись, игру на пианино, гитаре, мандолине, радиодело. В 16 лет он сдал в Лондоне вступительный экзамен в университет, но уже через год, в 1920, Фишеры возвратились в Москву, получили советское гражданство. Вилли учился в институте востоковедения, однако его призвали на воинскую службу, он получил профессию радиста. С 1927 года Вилли стал работать в системе иностранного отдела ОГПУ, в частности был радистом резидентур в двух загранкомандировках, работал с ответственностью, привитой революционером-отцом. В 1939 году из разведки его выгнали, хорошо еще, что не репрессировали, и он больше года ходил вообще без работы, устроили его в конце концов на авиазавод. С началом войны его разыскали, предложили пойти вновь в разведку. Он согласился, стал капитаном госбезопасности. Обучал радистов, в лагерях военнопленных подбирал кандидатов на вербовку, заменял в радиоиграх попавшихся немецких радистов или присматривал за ними. Жил в Москве в паршивых бытовых условиях, ворчал, но служил великой идее выстоять и победить в антифашистской войне.
Затем его стали капитально готовить к нелегальной работе в США. Осенью 1948 года, перед выездом, его принял сам (!) В. М. Молотов, заместитель Сталина в Совете Министров, который курировал системы политической и военной разведки. Молотов дал руководящие наставления по перестройке советской разведки в США на приоритетные нелегальные рельсы с тем, чтобы законспирированным путем получать максимум информации по атомной и иной важной научной тематике, даже в условиях в то время грядущего военного столкновения двух стран. Молотов лично дал ужин в честь Вильяма Фишера, его жены и дочери. Согласитесь, что получить с семьей аудиенцию, да еще с ужином, у второго в те годы лица в стране было редчайшим случаем.
Таковы в тезисном виде жизненные вехи Вилли, а позже Вильяма Фишера до того, как 14 ноября 1948 года он прибыл на пароходе в Квебек и ступил на землю американского континента под именем Эндрю Кайотис. В 1950 году в Нью-Йорке обосновывается на жительство Эмиль Голдфус.
Инструкции Молотова о перестройке в разведке должны были быть даны раньше, гораздо раньше 1948 года, но, очевидно, не было нелегального исполнителя, отсюда и ужин в честь Вилли. Реорганизация разведки с акцентом на нелегальную основу в общем-то запоздала. Крепко запоздала. (Об уроке с арестом Р. Зорге и его группы успели забыть.) В 1950 году были арестованы источники получения атомных секретов — супруги Розенберг. ФБР разоблачило целый ряд их сообщников, в основном евреев и коммунистов. Антисоветская кампания в США не могла не начаться. Все это было издержками работы с позиций посольских, т. е. легальных резидентур, следствием примитивной конспирации и целого ряда предательств в советской и восточно-европейской разведках, результатом совершенствования работы ФБР, проникновения в систему шифров НКГБ (операция «Венона») и принятой в НКВД-МГБ практике тотальной вербовки людей, знающих друг друга десятилетиями и продолжавших ходить друг к другу в гости. К примеру, со слов Марка, который стал бывать в доме многолетних советских агентов Мориса и Лоны Коэн, связанных с Розенбергами и вовремя исчезнувших (точнее, их успели вывести в Англию незадолго до ареста Розенбергов), «Морис — участник гражданской войны в Испании, еврей и коммунист — завербовал всех, кто служил с ним в Испании». Слава богу, что Марк оказался вне поля зрения ФБР. К сожалению, в Англии супруги были позже арестованы как активные сообщники другого нашего нелегала — Лонсдейла, о котором речь пойдет ниже. Вновь они встретились с Голдфусом-Абелем-Фишером через много лет в Москве.
Я не останавливаюсь здесь подробно на деле Абеля: все это описано и в книгах Дж. Донована «Незнакомцы на мосту» (М.: Терра, 1998) и К. Хенкина «Охотник вверх ногами» (М.: Терра, 1991), причем в последней Вильям Фишер раскрыт как обаятельная человеческая личность, жившая в трагедийное время. Еще бы, кому не знать Вилли: Фишер и Хенкин дружили со времен войны и до смерти Вилли!
Фактография Хенкина уникальна, повторяюсь, его книгу надо прочитать, это интересно, но его выводы, оценки… Подчас они до предела ироничны, саркастичны, язвительны. Но, наконец, попросту поверхностны. В его оценках проступает собственная горечь, его разочарования проецируются на Вилли, которого, как мне кажется, он ревновал к «недалекой» разведке и даже к его семье. Хенкин — участник войны в Испании, в те годы идеалист коммунистического движения, — начинал работать в советской разведке во время Отечественной, поэтому и сошелся с Вилли, который дал ему полезные советы как избавиться от осточертевшей ему, Хенкину, службы. Тот прожил несладкую, сломанную жизнь, его первая жена, к примеру, следила за ним, была агентом МГБ, в конце концов он эмигрировал из СССР. Я его отлично понимаю, в его случае жизнь прошла мимо. Сочувствую. Но у нас с ним есть отличие: он пишет о разведке с точки зрения дилетанта, много почерпнувшего из разговоров с Вилли, но не почувствовавшего работу своим горбом. Я пишу с позиций тридцатилетней службы в системе безопасности. Чтобы не быть голословным о суждениях Хенкина, приведу пространную цитату из упомянутой его книги.
«…Именно Эмиль Голдфус такой, каким мне удалось его увидеть глазами его друзей и соседей по Фултон-стрит в Бруклине, неотличим для меня от Вилли Фишера, в самых лучших и человечных его проявлениях. Было у Вилли одно качество — редкое и ценное, которое всю жизнь делало его «белой вороной» в шпионской среде, качество, единственно способное противостоять инерции его «партийного мышления» и позволившее ему избежать нравственного склероза, качество, которому он позволил расцвести в Бруклине, способность к дружбе, к теплоте и искренности, к человеческим отношениям, свободным от утилитарных и корыстных соображений. Это свойство уже само по себе делало его, по сути дела, непригодным для неосторожно избранной в юности профессии. Оно в последние годы и увело его на расстояние световых лет от того, чему он напрасно отдал свою жизнь.
И произошло это потому, что, прожив несколько лет жизнью Эмиля Голдфуса, он оставаясь Вилли Фишером, вынес свою «партийность» за скобки, и она ему самому стала постепенно чуждой» (Хенкин К. Охотник вверх ногами. М.: Терра, 1991. С. 151). Как говорят теперь — конец цитаты.
Когда я прочитал этот пассаж, я вначале ничего не понял. Т. е. понял смысл сказанного, но до меня не дошло: это серьезно? Я вчитался еще и еще раз. К кому же относятся эти нормальные качества Вилли, делающие его «белой вороной»: дружба, теплота, искренность и т. д., к нему одному? Здесь К. Хенкин явно недопонимает: нормальный нелегал это более чем умный нормальный человек, причем для него самого в более сложном, чем просто нормальном обществе. Он иностранец с подложными документами, и он должен быть как все вокруг там, в чужой стране. Здесь, в этой стране в коридорах власти, раньше на Лубянке, затем в Ясенево, ходят начальники этих нелегалов или «легалов», которые и иностранными языками владеют слабо или просто плохо и никогда не смогут исполнить роль тамошнего Вилли, а такого, как он, не пустят. И его не пустили в кресло, полагающееся ему по уму.
«Солидное» рассуждение у К. Хенкина. И я на него отвечу подробнее, избегая полутонов.
Что же, все эти качества разведчику-нелегалу или «легалу» не нужны? А чем завоевывать людей?
Деньгами? Качествами наоборот? Враждою, неприязнью в противоположность дружбе? Холодностью и лицемерием взамен теплоты и искренности? Официальным, формальным отношением вместо человеческого? Меркантильностью, выгодой вместо свободы от корыстных соображений?
Эти положительные качества «…делали его… непригодным для… профессии»? Да как бы не так! Вот без них лицо и становится Хэйханеном, провокатором Азефом. Вилли неосторожно избрал профессию в юности!? Да полноте! Не он избрал, его избрали со всеми еще нераскрывшимися у него в 1927 году качествами — он согласился! В разведку у нас никогда сами не нанимались! В этом-то и парадокс жизни в разведке или контрразведке: тебя выбирают и ты должен по замыслу Бога, но не кадровиков обладать всеми теми качествами, какими обладал покойный Вилли. Однако беда, драма в том, что очень немногие владели этими качествами. Тем не менее нелегалы, да и лучшая часть «легалов» этими качествами обладают. Иначе, как работать? С чем идти к людям? Представьте себе, с другой стороны, такую фигуру одиозную, как Крючков, который занимался канцелярской работой, был секретарем у Ю. В. Андропова. Затем Юрий Владимирович сделал его, чтобы самому лично руководить разведкой, заместителем начальника разведуправления и еще через интервал — начальником такового. Крючкова по телевизору мы видели беспрерывно, вплоть до августа 1991 года. Его речи, подготовленные невидимками из КГБ, в которых он все время хотел как лучше… народ оболванить, слушали, читали и балдели. Крючков не таился — гласность, так гласность. Его все как родного узнали. О нем, как о знакомом, легче говорить. Еще бы — председатель КГБ! Фигура! И только о нас заботится: как сделать, чтоб нам лучше жилось!
Скажите — вы представляете себе, чтобы с таким, как он, в условиях повседневной зарубежности, в том же Бруклине, о чем поминает К. Хенкин, какой-нибудь иностранец, даже встречавший советских русских или евреев, пошел бы на контакт? Да от одного его выражения глаз, в которых сквозит подозрительность, веет недоброжелательностью. Он и Горбачева предал, и путч организовал. А провокации в отношении Ельцина? А статья в итальянской «Републике», а подслушивание телефонных разговоров президента России?
Нет, я не ушел в сторону от Марка-Фишера. Просто я довел действие до театра абсурда: да, Вилли — не белая ворона, он трудяга, и сейчас за границей безусловно рискуют головой такие же, как он: с умом, доброжелательностью (иначе ни к кому они в гости не попадут, никому они не будут интересны). Нет, такие как Крючков ни в разведке, ни в любой системе управления не нужны, но беда, что их — инвалидов ума, циников, извините, хитрожопых карьеристов, расчетливых накопителей — полным полно. И отсюда вопрос риторический: могут ли такие начальники отыскать и привлечь на работу в систему людей с качествами Вилли? Ответ: маловероятно или нет, не могут. Иначе бы не было столько предательств. Между прочим тех, о которых мы знаем. А неизвестных на сегодня?
Однако вернемся к июню 1957 года. После ареста Марк должен был ответить на вопрос кто он и выдать хоть какую-нибудь легенду приезда в США. Он и выдал, что жил по фальшивым документам, что он советский гражданин, что во время войны обнаружил в каком-то жилище пятьдесят тысяч долларов и переместился на Запад. В Копенгагене приобрел паспорт гражданина США и в 1948 году очутился в Нью-Йорке. Он назвал себя Рудольфом Ивановичем Абелем, попросил сообщить о себе в советское консульство. В письме Марк изложил обстоятельства своего ареста. «В полученном вскоре ответе его не признали гражданином СССР. Это было правильно с точки зрения политики Советского Союза. Другого ответа он не ждал. Но так случилось, что советский консул, — пишет в предисловии к книге «Незнакомцы на мосту» полковник в отставке Д. П. Тарасов, — не счел нужным довести содержание этого письма до сведения Центра, а просто подшил его к делу. Таким образом цели, которую преследовал Марк, достичь не удалось» (Донован Дж. Незнакомцы на мосту. М.: Терра. 1998). Мне кажется, Тарасов в концовке лукавит. И вот почему. Зная порядки в консульских отделах посольств, в отдельных консульствах, могу засвидетельствовать, что сотрудник консульской службы далеко не самостоятельная личность. О письме такого содержания в любом случае он не может не известить сотрудника резидентуры Комитета госбезопасности, а тот резидента или зама. Это при условии, если сам консульский работник не из КГБ. Дело в другом. Было принято решение откреститься от Марка-Абеля: мол, мы шпионажем не занимаемся, хотя из дела торчали не только уши, но ноги и все остальные части тела живого Хэйханена. Свалим это на ту эпоху, на 1957 год, как изящно выкручивается Д. П. Тарасов в 1992 году (хотя даты написания предисловия нет): «…это было правильно с точки зрения политики Советского Союза…». Что правильно: то, что письмо подшили к делу или не признали Абеля советским гражданином? Но ведь ответ все-таки американцам прислали о непризнании Абеля гражданином СССР, и это на основании подшитого в папке письма Абеля? Что-то не сходится. Значит, подписывал ответ американцам несчастный стрелочник-консул по распоряжению правительства и в обход резидентуры и Центра? Но такого же не бывает! И Тарасов, если он бывший сотрудник разведки, должен был это знать! Хорошо, допустим, что Тарасов написал правду, но в американских газетах появились сообщения об аресте Абеля, снабженные фотографиями… Фишера. И что? Тот же консул… не дает хода всем газетам? Их не читают в Москве? Господи, не надо спасать мою душу, спасайте своего человека! Наконец, третье обстоятельство. На странице 18 в той же книге Тарасов пишет, что после ареста перед Марком встал вопрос: за кого же себя выдавать, и он неожиданно, я подчеркиваю — неожиданно, вспомнил о своем близком покойном друге Рудольфе Ивановиче Абеле… Я в это внезапное, неожиданное просветление его ума не верю. Не из тех он, кто в последний момент влетает на подножку последнего вагона уже тронувшегося от перрона поезда.
Начну с малого. Вилли называет себя Р. И. Абелем. И все родственники, и друзья настоящего Рудольфа должны всполошиться, но тут же успокоиться увидев в иностранных газетах и услышав по радио об его аресте, тем более, что он по данным К. Хенкина умер в 1957 году и похоронен в Москве на немецком кладбище. «Ах, это не наш Рудольф, но подумайте, какое совпадение: фамилия, имя и отчество», — воскликнут близкие. Чуть увеличим значимость действий Псевдоабеля после ареста. Его жена, вступившая в переписку с американскими властями, называет себя Еленой Абель, проживающей в ГДР. Ну как в СССР?! Невозможно, из СССР — не шпионят, вот немцы — да. В письмах жены появляется и Лидия Абель, дочь Вилли, а на самом деле — дочь настоящего Рудольфа. В весточках, получаемых от жены, Вилли находил какие-то известия от своих руководителей: вокруг ключевых слов, известных ему и Центру, скомпоновывался невинный текст от жены. Были такие слова, признавался Вилли своему другу Хенкину. Следовательно, слова «Р. И. Абель», «Копенгаген», «50 тысяч долларов» или другие могли нести смысловую нагрузку для Центра. И в первую очередь присвоенная заранее (предположим, во время отпуска 1955 года) фамилия Абель. Вспомним, что будучи на отдыхе Вилли докладывал о художествах Хэйханена и вопрос о чрезвычайных способах сигналов опасности не мог не возникать. Со стороны Вилли ключевым было — «…я полковник Абель Рудольф Иванович…», о полковнике знал на американском континенте только Хэйханен, значит предал он. «Я Абель» — это сигнал опасности для всей сети Марка, ибо он арестован. Так что утверждение Тарасова о спонтанности выбора фамилии-псевдонима «Абель» для прикрытия во время ареста неверно, такие вещи не могут не отрабатываться заранее. Насколько сложной оказалась конструкция жизни Вилли, история его подбора в разведку, ухода из нее, вторичного приглашения, подготовка к засылке в США, работа там, включение в число его помощников потенциального предателя Хэйханена, промашки Центра, неспособность вывести Фишера из опасной зоны, нудное отпирательство, что Абель — это не наш гражданин, что затянуло его возвращение домой и т. п., настолько прямолинейным оказалось создание усредненного робота — Хэйханена, с одной извилиной, да и то прямой. Хэйханен погиб в автомобильной катастрофе в США через четыре года после суда. И это справедливая судьба. «Благодаря» Хэйханену и своим начальникам Вильям Фишер был вычеркнут из активной жизни: с 1957 по 1962 годы он находился в американской тюрьме, а затем почти десять лет — не у дел в Москве. В Центр его на работу не взяли, лишь консультировал, пробавлялся лекциями: ведь побывал в лапах у американцев, не так ли? О! Никто в такой закулисной мотивировке не признается, с пафосом и негодованием ее отвергнут. Но это так.[7] Я не нахожу слов для такой несправедливости. Помилуйте, ни Фишер, ни Молодый (Лонсдейл), ни Ким Филби на работу в центральный аппарат приглашены не были, а Филби не удосужились даже присвоить звание офицера — только агента. А он все-таки был то ли вторым, то ли третьим человеком в разведке Англии и тоже десятилетиями пахал на нас. Так что нелегал — это уже преступник на своей работе в стране командировки и человек, которому не стоит верить в своей стране…
Лонсдейл
В 1954 году, через шесть лет после Вилли, был послан за границу на нелегальную работу для начала в Канаду Гордон Лонсдейл (настоящее имя Конон Трофимович Молодый). Он с детства владел английским языком, поскольку начиная с семилетнего возраста, с 1929 по 1938 годы, прожил у родственников в Калифорнии. Его разведывательная подготовка, личные данные, деловые приемы на поле частного бизнеса были блестящими. Достаточно упомянуть, что позже в Англии, куда он перебрался в 1955 году, он стал одним из директоров компании по прокату игральных автоматов, которая приносила прибыль и в фонды КГБ. Хочу подчеркнуть — хватка у него была.
Не обижая Абеля, у каждого были свои задачи, я бы оценил связи Лонсдейла в Англии на порядок выше и острее, он успешно внедрился и растворился в английском обществе, в том числе проник в среду британских разведчиков на курсах по изучению китайского языка в Лондоне. Он мог в случае надобности сыграть любую роль, выйти на любого нужного человека. Москве, безусловно, все это нравилось, но… хотелось большего. Ну как же, надо выжать из успешно складывающейся ситуации максимум возможного. «Активизировать Лонсдейла надо», — хрюкнул кто-то из начальства. Но возможно, идею стали ваять и с подачи карьериста-подчиненного: «Имеется реальный шанс проникнуть на военно-морскую базу Портленда, где управление подводных вооружений занималось испытанием подводного оружия и оборудования для обнаружения подводных лодок. Это из тематики ВПК (Военно-промышленной комиссии ЦК КПСС). Перспективное дело! Там работает Шах — Гарри Хафтон. Нам все о нем известно. Что? Материалы да, у нас, в английском отделе. Не помните? Ах не знаете? Он в начале пятидесятых служил унтер-офицером в аппарате военно-морского атташе английского посольства в Варшаве… Вот досье на него…» За буквальность фразы не ручаюсь, но примерно так кто-то докладывал кому-то.
О эти досье! Эта заключенная в них фактура! Ну не ложатся факты в прогнозируемую ситуацию! Не сочетается одно с другим! Короче — не лезет! Но внутренний шепоток подсказывает: «Не лезет? Засунем. Не сочетается? Подгоним. Не ложатся? Уложим. Не надо паниковать, все утрясется».
Досье Хафтона было переполнено грязью. Выпивоха, бабник, малограмотен, в Варшаве спекулировал антибиотиками, кофе и всем чем мог на черном рынке. Наживался, накачивался спиртным, выбросил жену из дома в прямом смысле этого слова, та сломала ногу… Не выдержав всех художеств Хафтона, посольство откомандировывает его в Англию, где он первым делом разводится с женой, а поселяется в передвижном домике на колесах. Его доходы — небольшая пенсия за службу во флоте и зарплата маленького клерка. Лонсдейлу поручается: встретиться с Хафтоном, передать ему привет от знакомого по посольству США в Варшаве, выступив при этом в качестве помощника американского военно-морского атташе в Лондоне. Назвав себя Алеком Джонсоном, Лонсдейл (при его-то способностях к перевоплощениям) блестяще осуществил знакомство и стал получать секретные сведения, используя легенду: англичане не выполняют соглашения с ВМС США об обмене научно-технической информацией, ты нам это дело восполнишь в неофициальном порядке, а мы в долгу не останемся — вот денежки. Последнее обстоятельство стало решающим. Хафтон потащил документы пачками, привлек к этому свою подругу, работавшую там же. Все были довольны. Но… Хафтона перехватила контрразведка. Как она вышла на него, я не знаю. Предатель Олег Гордиевский вспоминает, что англичанам помог агент ЦРУ, сотрудник польской службы безопасности Михаил Голеневский. Может это так, а может и нет. Легенду Лонсдейла о том, что он помощник военно-морского атташе США, нельзя признать удачной, так как она камуфлировала СССР, но рассчитана была на один-два, ну три эпизода встреч и расставание, а не на долговременную основу общения. В газетах, журналах на Западе постоянно появляются снимки с дипломатических приемов. Должен ли был Хафтон увидеть, что его друга, капитана второго ранга Джонсона, попросту Алека на них нет? Почему? Болтануть об этом «удивительном рядом» он мог и своей подруге, а о знакомстве с атташе США мог трепануть своим друзьям за выпивкой в пабе. И дошло это так или иначе до адреса контрразведки. «Откуда у Хафтона такое знакомство? Да ни с кем из атташе США он не встречается, мы же всех их знаем. И Джонсон — не Джонсон (если у американцев и был Джонсон)», — так подумали английские контрразведчики, когда до них добралась история о добром Алеке, с помощью которого Хафтон вскоре приобрел настоящий домик и из вагона убрался. Хафтон в кабаках пропивал больше, чем зарабатывал, и не мог не привлечь к себе внимания. На этом погорели до него десятки агентов. Но даже и это не имеет значения. Хафтон, будь он проклят, не поставил для Лонсдейла знака опасности, не предупредил его. Более того, раскололся сразу, выложил все и вместе с подружкой «сдал» Лонсдейла контрразведке 7 января 1961 года на уличной встрече, причем любовница сунула Лонсдейлу прощальный пакет с секретными документами. Для усиления крепости доказательственной базы Шах помог сделать поверженному Лонсдейлу мат. И я уверен, что сигнал опасности у Хафтона в запасе был, но до него ли дипломированному алкашу и спекулянту? Таков был финал: для Центра — операции, для Лонсдейла — трагедии. В Москве кто-то получил ордена, Лонсдейл — 23 марта 1961 года — 25 лет тюрьмы, Хафтон и его подруга — по 15 лет. В 1964 году Молодого обменяли на английского агента Винна, как острили англичане — «русскую акулу на английскую кильку».
Так что же произошло, если отбросить все частные замечания? Ясновидящий Центр внедрил в агентурную группу Лонсдейла потенциального предателя, что было видно по досье на Хафтона со времен Польши. Гордиевский (в написанной в соавторстве с К. Эндрю книге «КГБ: История внешнеполитических операций от Ленина до Горбачева»), рассказывая о торжественной церемонии похорон Молодого в Москве в 1970 году (а он умер в 48 лет), которую посетил и Ю. В. Андропов, заканчивает так: «…Один из его современников, проработавший пятнадцать лет в Западной Германии с горечью пожаловался: «Молодый был неудачником. Дело он завалил, а вытащить его было ой как недешево. Я пятнадцать лет проработал и не попался, а про меня никто и не слышал». Гипотетически мне бы хотелось заметить этому достойному экс-нелегалу: «Но у вас-то, дорогой, Хафтона в сети не было, а то…»
…Лонсдейл знал, что идет на риск, когда устанавливал первичный контакт с Хафтоном, он мог назваться и греческим консулом (смуглым он был, но это ирония), ибо для Шаха основным было появление дядюшки с деньгами. Верил ли он в легенду невыполнения его родиной обязательств перед США? Сомневаюсь. Но за большие деньги, сидя в бедности, он сделал вид, что поверил: не поверишь — не получишь. Вся эта легенда являлась самообманом для тех, кто ее обсасывал и утверждал в Москве. Провал Лонсдейла и проживавших в предместье Лондона супругов Питера и Хелен Крогерт (исчезнувших из США Мориса и Лоры Коэн), которые технически обеспечивали Лонсдейла (у них обнаружили мощный радиопередатчик, шифроблокноты, семь паспортов и т. д.) и получивших по двадцать лет тюрьмы, — это еще одно подтверждение тому, что нельзя опираться на моральных уродов типа Хафтона. Это мины, которые имеют свойство взрываться. Но о взрыве, устроенном Хэйханеном, Центр успел забыть. Лонсдейла брали на горячем — Хафтон с подругой притащили на встречу с ним целую кучу секретных документов… Эффектная концовка партии!
Блейк
Еще одна перевернутая страница прозы, скорее нет, поэзии шпионажа XX века, — это Джордж Блейк. Он пришел по собственной инициативе к установлению контакта с советской разведкой, сделал это в 1951 году на разоренной войной земле между Севером и Югом Кореи и окончил свой путь разведчика получением в 1961 году приговора — пять сроков по 14 лет тюремного заключения каждый (три последовательных и два параллельных, а в сумме 42 года тюрьмы). Чисто английское судебное убийство: все сделано интеллигентно и без смертной казни. Блейк, естественно, бежал из тюрьмы дождливой ночью через тюремную стену с помощью друзей, веревочной лестницы и удачи, как в романах Дюма-отца, 22 октября 1966 года. Сам Блейк о причинах своего разоблачения писал так: «Много лет спустя я нашел подтверждение этому в книге Питера Райта «Ловушка для шпионов», где он рассказывает о некоем Михаиле Голеневском (кличка Снайпер), якобы заместителе шефа польской разведки, который бежал в 1959 году в Америку и сообщил ЦРУ, что у русских есть два очень опасных шпиона в Англии: один в Интеллидженс Сервис, а другой где-то в военно-морском флоте… Это заявление в итоге привело к аресту сначала Лонсдейла и его группы, а через несколько месяцев и моему. В книге я также обнаружил, что мне был присвоен шифр «Лямбда-1», а Лонсдейлу — «Лямбда-2» (Блейк Дж. Иного выбора нет. М.: Междунар. отношения, 1991. С. 215).
Что ж, очередное предательство — очередной провал. Но не будем спешить с выводами. Порассуждаем на тему: что было определяющим — Голеневский со своей наводкой или ляпсусы Центра, выявив которые англичане пришли к однозначному выводу — «да, это Блейк».
В 1967 году на курсах усовершенствования руководящего состава внешней разведки мне довелось слушать лекцию заместителя начальника главка Федора Константиновича Мортина, в которой он поделился успехом — побегом Блейка из тюрьмы, твердо намекнув, что это наших рук дело. Думаю, что он сказал правду, хотя в своей книге Блейк подробно излагает историю побега, организованного обитателями тюрьмы: во-первых, Шоном Бэрком (осужден к 8 годам за покушение на полицейского). Во-вторых, фигурировала еще одна дама, условно — Бриджит, подруга семьи одного из спасателей, социалистка (!) по взглядам, которая хотела пожертвовать наследство, полученное от тетки, на благое дело. Приятель Блейка — Майк ввел ее в курс дела, что деньги нужны для побега и отъезда Блейка. Она, чуть поколебавшись, выписала чек. Может, ее Мортин и имел в виду? Помню после лекции, обмениваясь впечатлениями, кто-то из нас изрек: «Смотрите, какой прогресс! От своего гражданина Абеля отбивались — чур-чур, не наш, а англичанина спасли и вывезли, и Новый год он уже в Москве отмечал». Мы радовались счастливому финишу сказочного побега. Еще бы, в беде своих не оставляем. Это же моральный допинг. Так в чем же поэзия шпионской одиссеи Блейка?
Он был, вероятно, последним разведчиком-идеалистом марксизма-ленинизма, работал только на идею. Врученным ему аппаратом «Минокс» снимал массивы документов в Лондоне и Берлине. Никаких денег не брал, отрицал их как таковые. Он передал огромное количество важной информации без какого-либо материального вознаграждения. Я укажу здесь лишь на две его тайных акции: он годами, с 1953 по 1961, выдавал советской стороне агентов британской, американской, западно-германской разведок, общим числом почти 400(!). Он предоставил уже на стадии планирования американцами и англичанами операцию «Золото» — рытье в Берлине уникального подземного тоннеля, нашпигованного аппаратурой для подключения к советским и восточно-германским правительственным линиям связи. Несколько лет по ним советская разведка гнала дезинформацию, а британская и другие спецслужбы с удовольствием ею пользовались. В 1956 году тоннель «официально» обнаружили, в него прошествовали связисты армий СССР и ГДР, противная сторона была в шоке, начались поиски: кто же выдал тоннель? О нем в берлинской резидентуре СИС знали резидент, его заместитель и Блейк. Последний не мог не оказаться в числе подозреваемых, так как ранее при работе в отделении «Игрек» участвовал в обсуждении плана создания тоннеля. Улики против Блейка начали накапливаться. Конечно, в конце концов не он один присутствовал при первичной дискуссии. Но это было определяющим моментом для его провала, хотя затем при отделке мозаичного панно с названием «Блейк — шпион — идеалист века» плиточка с изображением тоннеля заняла достойное место.
Так что же? Утверждают, в том числе и такой авторитет по части предательства, как О. Гордиевский, что грех лежит исключительно на Михаиле Голеневском, том самом деятеле польской безопасности, что бежал в США и дал наводку на Хафтона, а оттолкнувшись от последнего англичане выскочили на Лонсдейла. В своей книге Гордиевский пишет, что «…польский перебежчик Михаил Голеневский предоставил СИС и МИ-5 сведения о Джордже Блейке. В апреле 1961 года по указанию СИС Блейк был отозван с курсов арабского языка в Ливане и арестован».
Ну, в-третьих или в-четвертых, сразу о курсах арабского языка. У англичан не хватало арабистов? В то же время Блейк владел в совершенстве русским, а специалистов с литературным русским языком, подчеркиваю — не с магазинным русским, ни в одной разведке мира не бывает перебора. Все шло по бюрократической схеме всех разведок: его вызвал зам. начальника управления кадров Ян Кришли и предложил… Блейк на встрече с советским резидентом Коровиным (генералом Родиным) спросил как быть, тот сказал — езжай. Блейка засунули в Бейрут на эти полуторогодичные курсы в сентябре 1960 года. Причем откомандировали из русской службы разведки. О чем это говорит? Его отправили «в отстойник»: надо разобраться с поступившими на Блейка уликами, пока разрозненными, вот и послали в Ливан, чтобы взрастить будущую звезду арабистики! Как позже Гордиевского отозвали из Лондона «для консультации» и… отправили в подмосковный санаторий на 24 дня. Для чего? Для того же самого: покопаться в полученных, но слабеньких уликах. Генерал Родин в ситуации совершенно не разобрался. Это было если не началом, то серединой конца Блейка. Как не хватило коллективного ума в английском отделе советской разведки, что Блейка неспроста вытурили в Ливан, подальше от Лондона… думаете, последует «не понимаю»? Нет, я понимаю, как у нас говорят: что если к тридцати годам не нажил умишка, то потом уже безнадега. Пример Кима Филби был: после того как он попал «под колпак», английская контрразведка создала ему условия для работы тоже в Ливане, в 1956 году, где он прожил больше, чем Блейк (до 1963 года), и был вынужден бежать в Союз на пароходе «Долматов», который даже нужный груз оставил на пристани!
Причем когда Блейк, получив телеграмму из Лондона с просьбой прибыть туда, забеспокоился и вызвал на встречу своего оператора из бейрутской резидентуры КГБ, тот запросил Москву, которая как всегда ничего подозрительного — святая простота — не усмотрела, и Блейк спокойно поехал в апреле 1961 года в лондонскую мышеловку. Сам Блейк проявил настороженность при посылке его в Бейрут (правда, не слишком великую, поскольку Ближний Восток его притягивал, Восток многих привлекает) и при отзыве его из Ливана: в обоих случаях он советовался со своими операторами, не паниковал, но Центр… дело прошляпил. Как говорится: конь в этом деле не валялся или не в коня корм. Но то про коня, а не про какой другой домашний скот, в общем, генерал Коровин до маршала Конева по глубине стратегии явно не дотянул.
Сравните даты: Лонсдейла и Хафтона арестовали 7 января 1961 года, Блейка заподозрили и отправили из Лондона учиться на арабиста в сентябре 1960 года. По словам Гордиевского, Голеневский выдал сразу их обоих: и Хафтона, и Блейка. Но до ареста Хафтона должны были разрабатывать, ну хотя бы 2–3 месяца, затем устанавливать контакт, мол, ты передашь Алеку Джонсону авоську с материалами и мы вас арестуем, тебя для вида, затем отпустим. Арест состоялся в начале января 1.961 года. Блейк был арестован на четыре месяца позже. Это много для шпиона с такой степенью опасности. Имея решающее заявление от Голеневского, англичанам держать Блейка в шумном Бейруте вдалеке от Лондона целых 4–5 месяцев было опрометчиво. Он и рвануть мог на советском пароходе, как Филби. Нет, это нереальная картина. Голеневский был вторичен, не с него началось разоблачение Блейка. То есть Голеневский, предположим, рассказал об обоих одновременно, но… возможно, отвечая на наводящие вопросы. При провале Блейка дело было не в Голеневском. Да, что-то Голеневский мог знать. Но опять возникает вопрос: как же нужно конспирировать, защищать от подозрений такого уникального агента, как Блейк, чтобы о нем узнала польская «безпека», но Голеневским асы разведки с Лубянки, я уверен, прикрыли свою оперативную девственность или свое творческое бесплодие. Как хотите. Судите сами.
Прежде всего, если кто-то бежит на Запад и стучат, стучит на агентов и коллег, то это либо поляки, либо немцы, либо еще кто-то, но в основном не советские, хотя перебежчиков из числа последних всегда было больше всех. И казалось бы, от них лилась информация. Далее. Источник реализации дела в большинстве случаев камуфлируется с тем, чтобы не дай бог не уразумели истинного виновника провала. В данном случае свалить все на Голеневского — «интересная мысль». «Да нет, товарищ генерал (председатель КГБ), мы тут причем? Поляк, сволочь, предал». А теперь об истинных причинах проколов, приведших к провалу Блейка, причем за все должны были отвечать его шефы из Центра. Находясь на работе в Западном Берлине в резидентуре СИС, у Блейка и его союзников из ПГУ возник вопрос о надежных способах связи. Не было бы деления Берлина на Западный и Восточный, все дело о связи, возможно, прошло бы нормально: как в Лондоне, как в Париже. Но здесь…
Выбрали путь вроде бы оперативно оправданный, логичный: Блейк легально, с ведома своего любимого лондонского начальства, лично ведет разработку какого-то русского, встречается с ним в Западном Берлине. Такого человека, Бориса, переводчика СЭВ в ГДР (наверняка сотрудника КГБ. — Ф.С.) подобрали, он снабжал Блейка информацией, контакт их длился два года. Все были довольны: английское начальство — экономической и отчасти политической информацией, поскольку Борис использовался для сопровождения представительных советских делегаций; Блейк — поскольку его авторитет в глазах шефов возрастал… Короче все… кроме меня, автора, который через тридцать с лишним лет занялся сочинением сентенций о том, как нельзя работать.
Судите сами. Блейк руководит агентурной работой по линии политической разведки. У него имеется какой-то агентурный аппарат. Борис — не та фигура для Блейка — руководителя плюс советского агента. Зачем Блейку, особо ценному агенту-документалисту, снабжающему советскую разведку документальными материалами, какой-то «русский след», могущий бросить тень на него, компрометирующий его, т. е. два этих направления работы не должны сходиться на одном человеке. Далее. Из книги Я. Волдана «Человек из отделения «Игрек» следуют такие положения (я цитирую дословно, чтобы без кривотолков). Блейк, обращаясь к шефу: «…Сэр, разрешите предложить вам один, на мой взгляд, смелый план. План необычен, но думаю, его реализация нам во многом помогла бы. Я предлагаю провести операцию, в которой меня завербовали бы русские…» Разумеется, Джордж предпринял рискованный шаг после всесторонних консультаций с советскими друзьями… План Джорджа в общих чертах руководство Интеллидженс Сервис принимает… Руководство СИС утверждает операцию, разработанную Джорджем Блейком. А для советской стороны мастерский ход обеспечил безопасный и оперативный способ связи со своим сотрудником и на долгое время задал работу аппарату СИС» (Волдан Я. Человек из отделения «Игрек». М.: Политиздат, 1989. С. 70–71).
Дальше эта тема, в указанном сочинении тема Блейка-«двойника», не разбирается. Что сказать? Если это художественный вымысел, то не такое можно придумать. Мне лично хочется, чтоб это осталось вымыслом автора, хотя он с Блейком встречался. Если правда, то этим ходом Блейку и был подписан в черновике приговор в 42 года. Посудите сами: Голеневский дал наводку, он крикнул в лесу «ау», и тут же эхо вернуло: «Это Блейк, это он. У нас, в СИС, на всех других подозреваемых нет стольких уникальных улик, как на одного Блейка». Но это еще не все. Центр в состоянии прострации, что ли, допустил еще один прокол. Причем длительного свойства. Вспомните из юридической теории: понятие «длящееся преступление». Английское начальство Блейка велело принять ему на связь некоего Хорста Эйтнера, немца, который сотрудничал с предшественником Блейка. Дело, как говорят, рутинное. Микки (прозвище Эйтнера) работал по заданию англичан в магазине готового платья, он давал наводки на русских визитеров, там Блейк и вышел на Бориса. Микки снабжал англичан кое-какой информацией, получаемой им от друзей из ГДР, в общем, ничего особенного. Через год работы с ним Блейк узнал от советских товарищей, что Микки и его жена перевербованы другими товарищами, из ГРУ, т. е. из военной разведки. Блейк замечает в своей книге, что считал вербовку Микки совершенно бесполезной, но что он ничего не мог поделать. Это так… Ну а советские товарищи? Слушайте дальше. После отъезда Блейка в Бейрут, он передал Микки своему преемнику, а советские товарищи попросили разрешения у Микки установить в его квартире подслушивающие устройства с тем, чтобы изучать коллегу Блейка (заметьте, что при Блейке микрофонов не было, ибо ему доверяли). Затем произошла сцена ревности между Микки и его женой, та побежала в полицию и сообщила, что ее муж — русский агент. И мужа, и жену арестовали, они «раскололись». Немецкая контрразведка познакомила в декабре 1960 года с полученными материалами англичан. Вот так. Осталось высказать мораль. То что военные соседи завербовали Микки с женой — это дело хозяйское: наш Центр в конце концов не знал, что делает Центр военных. Но вот узрел, узнал, и что? Пошли в ход, наверное, совместные планы использования Голиафа-Блейка и Карлика-Микки (сравните с парами Абель-Хэйханен, Лонсдейл-Хафтон.) Но ведь Микки должны были исключить из оборота любым способом. Нет, у него после отъезда Блейка технику ставят, т. е. Блейку как своему верили, не нужны были микрофоны, а появился преемник — будем слушать. Вот этот вопрос: почему Советы решили установить «жучки» только после того, как Блейк уехал в Бейрут — ему в предарестной увертюре следствия в Лондоне и задали. «Не знаю», — ответил Блейк. А что он мог еще ответить? Если бы я вел служебное расследование, то спросил бы своих коллег, или советских товарищей Блейка: «Вы должны были предвидеть, что смена режима контроля за встречами преемника с Микки по сравнению с Блейком автоматически вела к его засвечиванию». Или, обращаясь к Коровину-Родину, генералу и резиденту в Англии: «Вам пришло в голову, что посылка русиста Блейка в Бейрут на курсы арабского языка означала его изоляцию на время завершения его разработки?» Или к тем, кого Блейк вызвал на встречу в Ливане: «Какие аргументированные доводы содержались в шифровке Центра о допустимости поездки Блейка в Лондон? Ставили ли вы вопрос в связи с опасностью, грозящей Блейку в Лондоне, о срочной переправе в Москву?» Да, много этих вопросов, Родин-Коровин назвал бы их «дурацкими»… Голеневский дал самую общую наводку, но погубили-то мы разведчика-идеалиста сами, когда в нужное время не вникали в возникающие ситуации, не принимали правильных решений по этим вопросам. О. Гордиевский вспоминает в своем совместном с К. Эндрю труде, что генерал Родин обладал высоким самомнением и весом в Центре… В этом я ему верю.
Когда читаешь книги о Рихарде Зорге, Киме Филби, Вильяме Фишере-Абеле; Джордже Блейке, Леопольде Треппере и других людях с романтичной профессией разведчиков по-нашему, или подлых шпионов по-ихнему, то постоянно натыкаешься на сравнения в превосходной степени, типа: «шпион столетия», «агент века», «операция-фантастика» и т. п. О провалах говорят очень даже скромно, начальники стараются без нужды на эти темы не вещать. Помните, в московских трамваях у окон обязательно есть надпись «Не высовываться», а в метро у дверей — «Не прислоняться»? Высунешься с откровениями не туда, прислонишься близко к правде не там, где велено, — и амба, кислород перекроют и из обоймы системы или подсистемы вылетишь. Когда у нас впервые серьезно заговорили о «Красной капелле», или «Красном оркестре», а произошло это в 1974 году, и я это связываю с именем профессора А. Бланка (Бланк А. В сердце Третьего рейха. М.: Мысль, 1974), то затем в газетах запестрело: «бесстрашные антифашисты», «герои Сопротивления», «несгибаемые борцы», «трусливые судьи: смерть героям» и т. д. По правде говоря, смерть сотен участников «Красной капеллы» предопределила только одна шифротелеграмма из Москвы, из Центра, от Директора. У меня почему-то этот вездесущий и политически всепогодный Директор ассоциируется с «паном бухгалтером» из гротескного политбюро — «Кабачка 13 стульев» Помните? Такой же путаник. В противовес условному заголовку к статье о гибели «Красной капеллы»: «Антифашисты XX века», я бы предложил — «Жертвы века социализма». Ведь вначале терроризм на одной шестой земли уничтожил то, что называли социализмом (при терроризме социализма вообще быть не может, отсюда «то, что называли»), т. е. условность отбросили, форму, название — оставили, образовался тоталитаризм. Этот монстр уничтожал все, вплоть до антифашистских иностранных борцов: вспомните гибель членов иностранных компартий в Москве, интербригадовцев из Испании, довоенную передачу НКВД «партайгеноссе» из гестапо на мосту через Буг немецких антифашистов, в том числе евреев, перебравшихся из гитлеровской Германии к родному Сталину. В результате террора человеческие ценности оказались ниже нулевой отметки, обрели знак минус, стали величиной отрицательной, поэтому человеческие жизни перестали браться в расчет: сталинский лозунг «незаменимых нет», советские концлагеря — в Гёрмании в лагерях печи для сожжения после удушения. Палачи соревновались. Между прочим, первую душегубку изобрели в Москве в УНКВД, но это так, для установления приоритетности. Образовалась философия нищеты, такого бытия, когда человек, по «гениальному» определению Сталина, стал лишь одним из элементов производительных сил, приводящим в движение орудия производства (читайте главу IV «Краткого курса»), и только. На этом его функции исчерпывались. Ну еще деторождение, конечно. Но это кому позволят дожить до рождения ребенка, а не стать лагерной пылью, по выражению Л. П. Берия. Вот эта призма восприятия людской жизни (пока работаешь — тяни, помрешь — так незаменимых у нас нет) и доминировала со времен Великого Октября, через Великую Отечественную и вплоть до Чернобыля. Это стало философией масс. Люди отучились мыслить иными категориями: запомните, что на Восточном фронте на одного павшего в боях немца приходилось четырнадцать наших ребят, и ничего, как говорили Сталин, Хрущев, Брежнев и т. д., выстояли и победили. Никто не забыт, ничто не забыто? Крылатая фраза по форме, вранье по существу. А Чернобыль? А понапиханные кругом другие атомные станции, которые еще ждут своего часа «X», когда они сыграют свои похоронные марши. Помните у А. П. Чехова: если ружье висит на стене, то в последнем акте оно выстрелит. Перефразируйте насчет атомной станции по академику Александрову: она взорвется. И все это из-за формулы, что ценность человека — величина отрицательная, и равнодушия полнейшего…
Так вот, Леопольд Треппер, резидент-нелегал военной разведки в Западной Европе, в частности во Франции, Германии и Бельгии до и во время войны, привлеченный в 30-е годы к сотрудничеству самим Яном Берзинем, в своей книге «Большая игра» рассказывает, что вначале, напав на линии активного радиообмена между Москвой и радистами «Красного оркестра» в Европе, немцы не могли расшифровать перехваченные радиограммы: они их попросту складывали, о ключе к коду — книге «Тайна профессора Вильмана» — они не знали. Но затем 17 мая 1942 года книгу обнаружили, и тогда известный математик доктор Фаук приступил к чтению ста двадцати (!) перехваченных депеш, ждущих часа открытия их интимного содержания. 14 июля 1942 года Фаук с ассистентами читает одну из телеграмм — приговор к смерти руководителям «Красной капеллы» в Берлине, подписанный паном Директором. Прочитаем текст и мы: «KLS из RTX 1010–1725 99 wds gbt от Директора Кенту. Лично. Немедленно отправляйтесь Берлин трем указанным адресам и выясните причины перебоев радиосвязи. Если перебои возобновятся, займитесь радиопередачей лично. Работа трех берлинских групп и передача сведений имеют огромное значение. Адреса: Нойвестенд, Альтенбургер аллее, 19, четвертый этаж справа, Коро. — Шарлоттенбург, Фредериция штрассе, 26-а, третий этаж слева, Вольф. — Фриденеу, Кайзерштрассе, 18, пятый этаж слева, Бауэр. Здесь напомните «Уленшпигеля». Пропуск: «Директор». Ждем сообщения до 20 октября. Новый план (повторяем новый) касается всех трех станций gbt ar KLS из RTX» (Треппер Л. Большая игра. М.: Политиздат, 1990. С. 154).
Итак, противником по войне были получены действительные адреса руководителей всей разведгруппы «Капелла»: Шульце-Бойзена, Арвида Харнака и Адама Кукхофа; а также их псевдонимы.
Я не знаю, кто был Директором в тот момент и чьей подлинной подписью была завизирована шифровка. Но то, что Директор оказался дебилом, — это точно. Не знать, что телеграммы не только шифруются, но и расшифровываются? Указать подробные адреса всех трех руководителей сразу, причем с точностью до «этаж слева», «справа» и псевдонимами адресатов?! Идиотизм полный. Гестапо в лице тогда еще штандартенфюрера Фрица Панцингера, начальника отдела IV А (за разгром «Красной капеллы» он получил звание оберфюрера) не торопилось брать троицу. За ними, как водится, выставили наружное наблюдение, организовали слуховой контроль, выявили максимум сообщников. Но… ищеек поджидал инфарктной степени удар: в службе Фаука тоже работал человек Шульце-Бойзена, математик по имени Хорст Хайльман. Он, к несчастью, узнал о расшифрованной телеграмме только 29 августа 1942 года, почти через полтора месяца, но все же сразу позвонил Шульце-Бойзену домой, а тот, как назло, отсутствовал. Хайльман предупредил, чтобы руководитель ему перезвонил. Рано утром 30 августа Шульце-Бойзен позвонил в кабинет Хайльману, а там снял трубку… сам доктор Фаук, случайно туда зашедший и услышал: «Говорит Шульце-Бойзен…» Фаук ошарашен, он бросился в отдел Панцингера, там паника: еще бы, вон куда «Красная капелла» залезла! Шульце-Бойзена забрали тотчас, с 30 августа пошли аресты, в застенках гестапо через три недели оказалось 60 человек, а к началу 1943 — уже 150 антифашистов ждали своей участи.
Треппер приводит еще целый ряд головоломных ляпсусов Центра и Директора. После невероятных испытаний, бегства из рук специально созданной в Париже «Зондеркоманды «Красный оркестр», гибели многих соратников, Л. Треппер прибыл в Москву. Куда точнее? В подвалы Лубянки, в камеры Лефортовской тюрьмы. До мая 1954 года он отбухал почти десять лет лишения свободы: Директора ведомства не могли ему простить, что уж он-то знал им цену. Они и пальцем не пошевелили, чтобы добиться его освобождения, более того, засунули туда же, на Лубянку, и Шандора Радо, своего резидента в Швейцарии, по кличке Дора (переставьте слоги и получите «Радо»), который передавал в Центр, извините, Директору, сведения аж с узла связи ОКВ (Оперативного командования Германии). Представляете? Когда Треппер в 1974 году закончил и опубликовал свою книгу «Большая игра», а еще раньше в 1967 году о «Красной капелле» написал французский юрист и публицист Жюль Перро, и Директора стали мастерить фонтаны крокодиловых слез на Лубянке и в «Аквариуме» (перебежчик, предатель из ГРУ Виктор Суворов уверяет, что у военной разведки такое устоявшееся прозвище). И вот из фонтанов заурчало и полились самые олегопоповские клоунские струи из затуманенных счастьем победы в тайной войне очей: «Ах антифашисты XX века, ох доблестные разведчики, предсказатели немецких ударов под Сталинградом и Курском. Долой фашистское правосудие! Позор фашистским палачам!» Ну и все такое, в жанре героики с нашей стороны. А вот то, что к 1941 году и позже не осталось в обеих разведках, т. е. НКГБ и ГРУ, людей, способных мыслить профессионально, ибо всех и вся репрессировали — 40 тысяч военных и 20 тысяч энкаведистов, а те, что сели на их стулья, не могли через свои прямые извилины в штанах трансформировать энергию из старых кресел прежних хозяев до своих мозгов — на это Сталину с компанией было наплевать.
Данный очерк был написан мною в 1997 году, сразу после выхода третьего тома «Очерков истории российской внешней разведки». Но история не стоит на месте. В текущем году опубликован двухтомник А. Колпакиди и Д. Прохорова «Империя ГРУ» (М., 1998). Я бы дал ему название «Кладбище ГРУ им. И. В. Сталина».
Эту работу выгодно отличает от «Очерков…» фактография жизни и гибели разведчиков, но все же это не история ГРУ, даже по объему: двухтомник не идет в сравнение с шеститомником «Очерков…». Однако была ли «империя ГРУ»? Да не было ее. Для «затравки» читателя — это броско, но по сути? …Я думаю, что авторы, собрав фактически мартиролог на сотни, если не на тысячи сотрудников ГРУ, казненных Сталиным, опровергли само понятие «империя». Уж какая тут «империя ГРУ»!? А сколько сломанных судеб агентов, казненных сотрудников осталось за воротами этого сталинского кладбища? Еще в 10–20 раз больше названного количества. Остались в живых буквально единицы!
Ф. Саусверд
2000 год