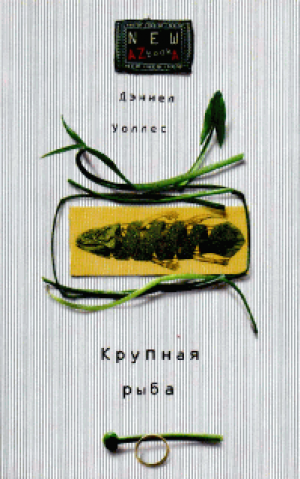
В одну из наших с отцом последних автомобильных прогулок, уже под конец его человеческой жизни, мы сделали остановку близ реки и спустились с ним к воде, где сели в тени старого дуба.
Минуту спустя отец сбросил ботинки и носки и окунул ноги в прозрачно-быструю воду, и так сидел, глядя, как вода обтекает их. Потом он прикрыл глаза и улыбнулся. Я давно не видел у него такой улыбки.
Неожиданно он глубоко вздохнул и сказал: — Это напоминает мне… — и замолчал, погрузившись в задумчивость.
Все для него тогда замедлилось, если вообще не остановилось, и я подумал, что он собирается сказать что-нибудь смешное, потому что у него всегда был наготове какой-нибудь анекдот. Или, может, рассказать историю, в которой воспевалась бы его жизнь, полная приключений и героических свершений. Я гадал, что все-таки это ему напоминает? Утку в скобяной лавке? Лошадь в баре? Мальчишку от горшка два вершка? Может, это напомнило ему о яйце динозавра, которое он как-то нашел, а потом потерял, или о стране, которой он однажды правил почти неделю?
— Это напоминает мне, — сказал он, — времена, когда я был мальчишкой.
Я взглянул на этого старика, моего старика, опустившего свои белые стариковские ноги в прозрачно-быструю воду, на эти последние из оставшихся мгновений его жизни, и неожиданно увидел его просто глазами мальчишки, ребенка, юноши, у которого еще вся жизнь впереди, почти как у меня. Никогда прежде я так не смотрел на него. И эти образы моего отца — его теперешнего и прежнего — слились воедино, и в тот миг он превратился в существо таинственное, дикое, одновременно молодое и старое, умирающее и возрожденное. Мой отец стал мифом.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
День, когда он родился
Он родился летом, самым засушливым за последние сорок лет. Солнце пережгло мягкую красную алабамскую глину в красноватую пыль, и на много миль вокруг не было воды. Еды тоже не хватало. Тем летом не уродились ни хлеб, ни томаты, ни даже тыква, все сгорело под мутным белым небом. Казалось, все перемерло: сначала передохли куры, потом кошки, потом свиньи и, наконец, собаки. Или было на последнем издыхании: и люди, и все остальное.
Один человек сошел с ума, наелся камней и умер. Десять человек потребовалось, чтобы отнести его на кладбище, такой он был тяжелый, и еще десять, чтобы вырыть могилу, такой твердой стала земля.
Люди смотрели на восток и говорили: «Помнишь, там текла река?»
Люди смотрели на запад и говорили: «Помнишь Талбертовский пруд?»
День, когда он родился, начался как всякий другой день. Солнце взошло на небе и глянуло с высоты на деревянный домишко, где жена с огромным, как земной шар, животом торопливо жарила последнее яйцо на завтрак мужу. Муж давно был в поле, вспахивал пыль вокруг черных и скрюченных корней каких-то таинственных растений. Слепяще пылало солнце. Вернувшись домой, чтобы позавтракать последним яйцом, он утер потный лоб драной голубой банданой. Отжал ее над старой оловянной чашкой. Чтобы было что пить потом.
В день, когда он родился, сердце у жены остановилось на одно мгновение, и она умерла. Потом она ожила. Она увидела над собою свою душу. И увидела сына — он сиял, сказала она. Когда ее душа воссоединилась с телом, она сказала, что чувствует тепло в животе.
Сказала:
— Уже скоро. Он скоро появится.
Она не ошиблась.
В день, когда он родился, кто-то заметил вдалеке облачко, темное пятнышко в небе. Сбежались люди. Один, двое, дважды по двое, потом сразу целых пятьдесят и даже больше, все смотрели на небо, на это крохотное облачко, приближавшееся к их выжженным и страждущим полям. Муж тоже вышел посмотреть. И вот видит: облачко. Первое настоящее облачко за многие недели.
Только один человек не вышел посмотреть на облачко, и это была жена. Она упала на пол, задыхаясь от боли. И, задыхаясь, она не могла кричать. Ей казалось, что она кричит — рот был открыт, как при крике, — но крик не вылетал. Из ее рта. Тем временем ее тело трудилось. Трудилось над ним. Он уже показался. А где был ее муж?
На улице, смотрел на облачко.
А облачко тоже становилось все ближе. Совсем не маленькое облачко, а, право слово, изрядная туча, которая росла и темнела над их иссохшими полями. Муж сошел с крыльца, снял шляпу и прищурился, чтобы получше ее рассмотреть.
Туча принесла с собой легкий ветерок. Это было хорошо. Они с облегчением ощущали нежное прикосновение ветерка к их лицам. И тут муж услышал гром — ба-бах! — именно так ему показалось. Но это был не гром, это его жена, ударив ногами, опрокинула стол. Однако и впрямь грохнуло, будто гром. Очень похоже.
Он пошел дальше, к полю.
— Муж! — во всю мочь пронзительно закричала жена. Но было поздно. Муж ушел слишком далеко и не мог услышать. Ничего не мог услышать.
В день, когда он родился, все собрались в поле за его домом, следя за тучей. Сперва маленькая, потом просто изрядная, вскоре она стала огромной, по меньшей мере размером с кита, а внутри нее мелькали белые всполохи, которые внезапно вырывались из ее нутра и воспламеняли верхушки сосен, пугая высоких мужчин в толпе; втягивая головы в плечи, они смотрели на нее и ждали.
В тот день, когда он родился, все изменилось. Муж стал Отцом, Жена стала Матерью. В тот день, когда родился Эдвард Блум, пошел дождь.
Он говорит с братьями меньшими
Мой отец имел подход к братьям меньшим, все это утверждали. Когда он был мальчишкой, еноты ели у него с руки. Птицы садились ему на плечо, когда он помогал своему отцу в поле. Однажды ночью у него под окном спал медведь, и все почему? Он умел говорить на их особом языке. Была у него такая способность.
Особенно его любили коровы и лошади. Ходили за ним как привязанные, и все такое. Терлись мордой о его плечо и фыркали, будто что хотели сказать по секрету.
Однажды курочка села на колени моему отцу и снесла яйцо — маленькое коричневое яичко. Такого еще не видали, никто.
Год, когда в Алабаме выпал снег
Зимы в Алабаме всегда бесснежные, и все же в ту зиму, когда моему отцу было девять, там выпал снег. Он валил сплошной белой стеной и становился все гуще, пока в конце концов не укрыл землю непроходимыми сугробами. Человек, застигнутый этой снежной бурей, был обречен; больше того, он едва успевал понять, что погиб.
Эдвард был сильным, спокойным мальчиком, знавшим, чего он хочет, но не из тех, кто перечит отцу, когда нужно что-то сделать по хозяйству, починить забор, отыскать и привести домой потерявшуюся телку. Когда в тот субботний вечер повалил снег и продолжал валить утром, Эдвард с отцом принялись лепить снеговиков, снежные крепости и прочее в том же роде и только позже, днем, поняли, чем грозит этот небывалый неослабевающий снегопад. Но, говорят, что мой отец слепил снеговика аж в шестнадцать футов высотой. Чтобы слепить такую громадину, он соорудил из сосновых сучьев и воротов устройство, с помощью которого мог подниматься вверх и опускаться по своему усмотрению. Вместо глаз у снеговика были колеса от старой повозки, много лет валявшиеся во дворе; вместо носа — заглушка силосной ямы, а вместо рта — улыбавшегося, будто снеговик думал о чем-то теплом и веселом, — полоса дубовой коры.
Мать в доме хлопотала у плиты. Над трубой вился серый с белым дымок и пропадал в небе. Она слышала приглушенный звук лопат, чистящих крыльцо, но не особо обращала на него внимание, потому что была слишком занята. Она даже не оглянулась, когда через полчаса ее муж и сын вошли в дом, вспотевшие на холоде.
— Плохи наши дела, — сказал муж.
— Что стряслось? — спросила она.
Тем временем снег все продолжал валить, и дверь, которую они только что откопали, опять засыпало. Отец взял лопату и снова расчистил крыльцо.
Эдвард смотрел, как отец разгребает, а снег продолжает сыпать. Отец разгребает, снег сыплет — и так до тех пор, пока крыша не затрещала под его тяжестью. Мать увидела, что в спальне уже образовался сугроб. Они решили, что пора выбираться из дома.
Но куда идти? Весь божий мир был покрыт снегом, белым и холодным. Мать завернула еду, которую приготовила, собрала одеяла.
Ночь они провели на деревьях.
На другое утро был понедельник. Снег прекратился, встало солнце. Температура была ниже ноля.
Мать сказала:
— Тебе, наверно, надо отправляться в школу, как думаешь, Эдвард?
— Думаю, надо, — ответил он, не задавая вопросов. Такой вот он был парень.
Позавтракав, он слез с дерева и пошел за шесть миль в свою маленькую сельскую школу. По дороге увидел в сугробе замерзшего человека. Сам тоже едва не замерз — однако ничего, обошлось. Добрался до школы. И даже пришел на пару минут раньше.
Его школьный учитель сидел на поленнице и читал книжку. На месте школы только флюгер торчал, саму же ее засыпал недельный снегопад.
— Здравствуй, Эдвард, — сказал учитель.
— Здравствуйте, — поздоровался Эдвард.
И тут он вспомнил, что оставил дома тетрадку с выполненным заданием.
И пошел обратно за тетрадкой. Это все истинная правда.
Он подает большие надежды
Говорят, он всегда помнил, как вас зовут, или ваше лицо, или ваш любимый цвет, и что к двадцати годам он узнавал каждого в своем родном городке по стуку башмаков.
Говорят, он рос так стремительно, что на какое-то время — несколько месяцев? почти год? — оказался прикован к постели, потому что его быстро вытягивавшиеся кости не успевали затвердевать, и когда он пробовал встать на ноги, то был похож на качающуюся виноградную лозу и мешком валился на пол.
Эдвард Блум тратил время с умом, он читал книги. Он прочел чуть ли не все книги в Эшленде. Тысячи книг — кое-кто утверждает, что целых десять тысяч. По истории, искусству, философии. Горацио Элджера{Горацио Элджер (1832–1898) — популярный автор ста с лишним книг для мальчиков, как правило посвященных теме «из грязи да в князи»; воплощение американской мечты.}. Читал все подряд. Без разбора. Даже телефонный справочник.
Говорят, что в конце концов он стал знать больше всех, даже больше мистера Пинкуотера, библиотекаря.
Уже тогда он был крупной рыбой.
Смерть моего отца. Дубль 1
Вот как это происходит. Старый доктор Беннет, наш семейный доктор, шаркая ногами, появляется из комнаты для гостей и тихо прикрывает за собой дверь. Старее старого, с лицом обрюзгшим и морщинистым, доктор Беннет всю жизнь был нашим семейным доктором. Он принимал у моей матери роды, перерезал мне пуповину и протянул ей мое красное сморщенное тельце. Доктор Беннет вылечил нас от болезней, которых мы перенесли, должно быть, не одну дюжину, и сделал это с заботой и тактом лекаря прошлого столетия, каков он, в сущности, и есть. Этот же человек провожает моего отца в иной мир и сейчас выходит из комнаты, где тот лежит, освобождает свои старые уши от стетоскопа и смотрит на нас, мою мать и меня, и качает головой.
— Я бессилен что-либо сделать, — говорит он своим скрипучим голосом. Он хочет в отчаянии воздеть руки к небу, но у него это не получается, слишком он стар для подобных жестов. — Мне жаль. Очень жаль. Если хотите проститься с Эдвардом или что-нибудь сказать ему, советую сделать это сейчас.
Мы ожидали этого. Мать стискивает мне руки и вымученно улыбается. Конечно, ей пришлось нелегко. За последние месяцы она сильно сдала и пала духом, продолжая жить, но как бы в стороне от жизни. Не замечая ее. Я смотрю сейчас на нее: вид потерянный, словно она забыла, кто она, где находится. Наша жизнь так изменилась с тех пор, как отец вернулся домой умирать. Его постепенное умирание понемногу убивало всех нас. Как если бы он, вместо того чтобы ходить на работу, каждый день шел копать себе могилу за бассейном позади дома. И копал ее не всю сразу, а по дюйму, по два за день. Как если бы именно от этого он так уставал, от этого ложились круги у него под глазами, а не от, как постоянно твердила мать, его «рентгенотерапии». Как если бы он каждый вечер возвращался, ногти черные от набившейся под них земли, и, усевшись с газетой в кресло, говорил: «Продвигается помаленьку. Сегодня углубил еще на дюйм». И мать бы кричала мне: «Ты слышал, Уильям? Твой отец сегодня углубился еще на дюйм». А я бы отвечал: «Замечательно, отец, замечательно. Если нужна моя помощь, только дай знать».
— Мам, — говорю я.
— Я пойду первой, — приходит она в себя. — А если что…
Если увидит, что он вот-вот умрет, она позовет меня. Так мы разговариваем. В стране смерти говорят намеками, там понимают, что человек имеет в виду.
С этими словами она встает и входит к отцу. Доктор Беннет качает головой, снимает очки и протирает их кончиком галстука в сине-красную полоску. Я гляжу на него, объятый ужасом. Он такой старый, такой невероятно старый: почему мой отец умирает раньше него?
— Эдвард Блум! — говорит он, ни к кому не обращаясь. — Кто бы мог подумать?
Действительно, кто? Смерть — самое худшее, что могло случиться с моим отцом. Знаю, что вы подумали, — это худшее, что случается с большинством из нас, но для него это было особенно ужасно, прежде всего те последние несколько лет, когда усиливающиеся страдания выключили его из этой жизни, видимо готовя к жизни иной.
Еще хуже то, что это вынудило его сидеть дома. Он ненавидел каждое утро просыпаться в той же комнате, видеть одни и те же лица, делать одно и то же. Прежде дом для него служил заправочной станцией. Для него, скитальца, дом был остановкой на пути к какой-то цели, неясной ему самому. Что гнало его, не давало сидеть на месте? Не деньги; денег нам хватало. У нас был хороший дом, несколько автомобилей и бассейн на заднем дворе; пожалуй, не было ничего, что мы никак не могли позволить себе. И не соображения карьеры — он имел собственный бизнес. Это было нечто большее, но что именно — я не мог сказать. Он жил словно в постоянной погоне за чем-то: достичь цели было не главное; это была битва, за которой следовала новая битва, и его война никогда не кончалась. Так он и метался, не зная устали. Он внезапно уезжал куда-нибудь, в Нью-Йорк, или в Европу, или в Японию, и возвращался в какое-то странное время, скажем в девять вечера, наливал себе стаканчик и вновь занимал свое кресло и положение главы семейства. И всегда после этих своих отлучек он рассказывал какую-нибудь невероятную историю.
— В Нагое, — сказал он в один из таких вечеров, мать сидела в своем кресле, он в своем, а я на полу у его ног, — я видел женщину о двух головах. Клянусь вам. Хорошенькую двухголовую японку, которая проводила чайную церемонию так изящно и красиво. Ни за что нельзя было решить, какая из ее голов симпатичней.
— Не бывает женщин с двумя головами, — сказал я.
— Разве? — сказал он, скосив на меня взгляд. — Ну, мистер Молокосос-Всюду-Побывавший-И-Все-Повидавший, большое спасибо, что поправил отца. Приму к сведению.
— Неужели правда? — спросил я. — С двумя головами?
— И до кончиков ногтей настоящая леди, — ответил он. — Гейша, между прочим. Большую часть жизни провела вдали от общества, изучая древнюю науку чайных церемоний и редко появляясь на людях, — что, конечно же, объясняет твой скептицизм. Мне очень повезло, что я получил доступ в это чайное святилище, в чем мне помогли деловые друзья и контакты в правительстве. Разумеется, пришлось сделать вид, что я ни капли не удивился, увидев ее; если б я хотя бы бровью повел, это сочли бы за оскорбление исторического масштаба. Я просто принял из ее рук чашку, как все остальные, и негромко сказал «домо», что по-японски значит «спасибо».
Во всем он был необычен.
Когда он бывал дома, магия его отсутствия отступала перед заурядностью его присутствия. Он начинал слегка выпивать. Не то чтобы раздражался по поводу и без повода, но становился несчастным и потерянным, словно мучился от безысходности. В первые вечера после возвращения его глаза так сияли, что можно было поклясться, что они светятся во тьме, но потом, несколько дней спустя, взгляд его вновь потухал. Казалось, он начинал чувствовать себя как рыба, вынутая из воды, и страдал от этого. Итак, он не был главным кандидатом на смерть; и от этого домашнее заточение было для него еще мучительней. В первое время он пытался мужественно переносить это, звоня людям в самые странные места по всему миру, но вскоре его самочувствие настолько ухудшилось, что он не мог делать даже этого. Он стал просто человеком, человеком, не занятым делом, не рассказывающим невероятных историй, человеком, который, как я понял, оставался загадкой для меня.
— Знаешь, что было бы сейчас здорово? — говорит он мне, и вид у него относительно бодрый для человека, которого я, по словам доктора Беннета, могу больше не увидеть живым. — Выпить воды. Ты не принесешь?
— Конечно принесу.
Я приношу ему стакан воды, и он делает глоток или два, пока я поддерживаю стакан под донышко, чтобы вода не пролилась. Я улыбаюсь этому человеку, который теперь выглядит не как мой отец, а его двойник, один из многих, похожий, но иной, и во многих отношениях явно хуже оригинала. Тяжело было смотреть на него, на те изменения, которые с ним происходили, но теперь я привык. Пусть у него совсем не осталось волос и кожа покрылась пятнами и отслаивалась, я привык.
— Не знаю, рассказывал я тебе или нет, — говорит он, переводя дух. — Был один нищий, который останавливал меня каждое утро, когда я выходил из кафе рядом с офисом. Каждый день я давал ему четвертак. Каждый день. То есть это настолько вошло у меня в привычку, что нищий даже не трудился просить подать ему — я просто совал ему четвертак и шел дальше. Потом я заболел и не появлялся недели две, а когда появился, знаешь, что он сказал мне?
— Что, папа?
— Он сказал: «Ты мне должен три с полтиной».
— Забавно, — говорю я.
— Да, смех — лучшее лекарство, — отвечает он, хотя никто из нас не смеется. Никто из нас даже не улыбается.
Он просто смотрит на меня, и в его глазах появляется печаль, иногда бывает, что настроение у него резко меняется, как у наркоманов, вколовших дозу.
— Думаю, это правильно, — говорит он. — То, что я лежу в комнате для гостей.
— Почему? — спрашиваю я, хотя знаю ответ. Это не первый раз, когда он упоминает об этом, даром что это было его решение — перебраться сюда из их с матерью спальни.
— Не хочу, чтобы после того, как я уйду, она, ложась спать, каждый раз смотрела на мое место в кровати и вздрагивала, если понимаешь, о чем я.
Почему-то он придает своей изоляции здесь эмблематическое значение.
— Правильно, поскольку я вроде гостя, — говорит он, обводя взглядом на удивление безликую комнату. Моя мать всегда считала, что гости должны жить именно в такой обстановке, поэтому постаралась, чтобы комната, насколько возможно, походила на номер в гостинице. Тут вы имели свое креслице, свой ночной столик, безобидные копии неких старых мастеров над комодом. — Видишь ли, я и в самом деле нечасто здесь бывал. В смысле, дома. Не так часто, как всем нам хотелось бы. Взять вот хоть тебя, ты уже взрослый человек, а я — я совсем не заметил, как ты вырос. — Он сглотнул, что для него было настоящим испытанием. — Для тебя я что был, что не был, да, сын?
— Нет, — отвечаю я, может, чересчур быстро, но со всей сердечностью, какую только можно вложить в это слово.
— Эй, — говорит он, справившись с приступом кашля. — Не лукавь, и вообще, только потому, что я… ну, сам знаешь.
— Будь спокоен.
— Только правда и ничего, кроме правды.
— Да поможет мне… Бог. Фред. Кто угодно.
Он сделал еще маленький глоток. Похоже, он не столько хочет пить, сколько истосковался по воде, жаждет ощутить ее на языке, на губах: он любит ее стихию. Когда-то давным-давно он плавал.
— Но ты знаешь, мой отец тоже часто покидал дом, — продолжает он с тихой хрипотцой. — Так что мне известно, что это такое. Мой отец был фермером. Я тебе это уже говорил, да? Помню, как однажды он куда-то отправился, чтобы добыть какие-то особые семена для сева. Вскочил в товарняк и уехал. Сказал, что вернется вечером. Что-то там такое случилось, и он не мог спрыгнуть с товарняка. Тот завез его аж в Калифорнию. Отец отсутствовал почти всю весну. Время сева пришло и ушло. Но когда он вернулся, он привез самые чудесные семена на свете.
— Давай, я угадаю, что было дальше, — говорю я. — Он посадил их, и выросла огромная лоза, которая доставала до облаков, а на облаках стоял замок, в котором жил великан.
— Как ты догадался?
— А еще там наверняка была женщина с двумя головами, которая подавала ему чай.
И тут отец щиплет себе брови и улыбается, на мгновение очень довольный.
— Надо же, помнишь, — говорит он.
— Конечно!
— Если люди помнят чьи-то истории, такой человек становится бессмертным, ты это знал?
Я отрицательно покачал головой.
— Это так. Хотя в эту историю ты не верил, так ведь?
— Разве это имеет значение?
Он смотрит на меня.
— Не имеет, — отвечает он. Потом: — Имеет. Не знаю. По крайней мере ты запомнил. Главное, думаю, главное — это то, что я старался больше бывать дома. Но случалось всякое. Природные катаклизмы. Однажды земля разверзлась, а несколько раз — и небеса. Иногда я сам не понимал, как остался жив.
Его рука, покрытая старческими пятнами, ползет по одеялу, чтобы коснуться моего колена. Пальцы белые, ногти потрескавшиеся и тусклые, как старое серебро.
— Я бы сказал, что мне не хватало тебя, — говорю я, — если бы знал, чего я лишился.
— Я скажу тебе, в чем было дело, — говорит он, поднимая руку с моего колена и делая знак нагнуться к нему поближе. И я повинуюсь. Я хочу слышать, что он скажет. Это может быть его последним словом.
— Я хотел быть великим человеком, — шепчет он.
— Правда? — спрашиваю я, как будто для меня это в некотором роде неожиданность.
— Правда, — отвечает он. Он выговаривает слова медленно, слабым голосом, но они звучат твердо и, чувствуется, выстраданы. — Можешь ты в это поверить? Я думал, что меня ждет особая судьба. Быть крупной рыбой и плавать в океане — вот чего я хотел. Хотел с тех пор, как помню себя. Я начал с малого. Долгое время работал на других. Потом открыл собственное дело. Приобрел формы и отливал свечи дома в подвале. Этот бизнес не удался. Поставлял подмаренник цветочным магазинам. Тоже не слишком преуспел. Наконец занялся импортом-экспортом, и все пошло как по маслу. Однажды, Уильям, я даже обедал с премьер-министром. С премьер-министром! Можешь себе представить, парень из Эшленда обедает в одном зале с… Нет такого континента, на котором бы я не побывал. Ни единого. А их целых семь, правильно? Я начинаю забывать, на котором я… а, ерунда. Теперь все это кажется таким малозначащим, понимаешь? То есть теперь я даже не знаю уже, что такое великий человек, какие для этого требуются, как это, предпосылки. А ты, Уильям?
— Что — я?
— Знаешь? — переспрашивает он. — Знаешь, что делает человека великим?
Я надолго задумываюсь, втайне надеясь, что он забудет, о чем вообще спрашивал. Ему сейчас трудно сосредоточиться, но что-то в его взгляде говорит мне, что в данный момент он все помнит, что эта мысль крепко засела ему в голову и он ждет ответа. Я не знаю, что делает человека великим. Никогда раньше не думал об этом. Но в такой момент нельзя ответить просто «не знаю». Это тот случай, когда нужно оказаться на высоте, и поэтому я стараюсь, насколько возможно, сбросить груз тяжких мыслей и жду вдохновения.
— Думаю, — говорю я немного погодя, подыскивая верные слова, — если о человеке можно сказать, что сын любил его, тогда, думаю, такой человек достоин считаться великим.
Это единственное, что в моей власти, — подарить отцу величие, которое он искал в необъятном мире, но которое, как неожиданно оказалось, все время ждало его здесь, дома.
— Ах вот как, — запинаясь, говорит он, как-то внезапно слабея. — Никогда не приходило в голову посмотреть на это с подобной стороны, никогда. Хотя сейчас, я имею в виду в данных обстоятельствах, очень особых обстоятельствах, моих…
— Да, — говорю я. — Отныне и вовеки веков ты — мой отец, Эдвард Блум, Самый Великий Человек. Да поможет тебе Фред.
И вместо меча я касаюсь легонько его плеча рукой.
Он, видимо, устал и хочет отдохнуть. Глаза его закрываются, устало и с жутковатой бесповоротностью, и я решаю, что он начинает отходить. Когда шторы на окне расходятся, словно сами по себе, мне на мгновение представляется, что это его душа улетает из здешнего мира в иной. Но это всего-навсего струя воздуха от кондиционера колышет шторы.
— Насчет той женщины с двумя головами, — бормочет он с закрытыми глазами, словно засыпая.
— Я уже слышал о женщине с двумя головами, — говорю я, осторожно тряся его за плечо. — Больше не хочу ничего о ней слышать, папа. Договорились?
— Я не собирался рассказывать тебе о женщине с двумя головами, мистер Остряк-самоучка, — бормочет он.
— Нет?
— Я собирался рассказать о ее сестре.
— У нее была сестра?!
— Эй! — говорит он и открывает глаза, обретя второе дыхание. — Я когда-нибудь дурачил тебя, рассказывая о таких вещах?
Девушка в реке
На берегах Блю-ривер рос старый дуб, под которым мой отец обычно любил отдыхать. Дерево широко раскинуло свои ветви, отбрасывая тень, а землю у его подножия покрывал мягкий прохладный зеленый мох, на который отец клал голову и иногда засыпал — ровный шум реки действовал на него успокаивающе. Здесь он однажды, погружаясь в дремоту, очнулся и увидел красивую молодую женщину, купающуюся в реке. Ее длинные волосы сияли, как само золото, и волнами спадали на обнаженные плечи. Груди у нее были маленькие и округлые. Она пригоршнями плескала на себя холодную воду, которая стекала по ее лицу и груди обратно в реку.
Эдвард старался оставаться спокойным. Он повторял себе: «Не шевелись. Если двинешься хотя бы на дюйм, она тебя заметит». Он не хотел напугать ее. А если честно, он еще ни разу не видел женщину такой, какою ее создала природа, и хотел получше рассмотреть ее, пока она не ушла.
И в этот миг он увидел змею. Наверно, водяного щитомордника. Змея скользила в воде, почти не тревожа речную гладь, и маленькая головка рептилии целилась в человеческое тело. Трудно поверить, что такая небольшая змея способна убить человека, но она способна. Такая вот змейка убила Кельвина Брайанта. Укусила его в лодыжку, и через несколько секунд он умер. А Кельвин Брайант был в два раза больше девушки.
Раздумывать, что предпринять, было некогда. Мой отец положился на инстинкт и, головой вперед и вытянув руки, бросился в реку как раз в то мгновение, когда щитомордник готов был вонзить два своих небольших ядовитых зуба ей в талию. Она, понятное дело, завизжала. Еще бы, мужчина бросается на вас, ныряя в воду, — как не завизжать. Он вынырнул из воды, держа в руках извивающуюся змею, которая разевала пасть, ища, во что впиться, и девушка завизжала в другой раз. Наконец ему удалось замотать змею в свою рубашку. Убивать ее он не стал, этого мой отец не любил. А отнес приятелю, который увлекался змеями.
А теперь представьте себе сцену: молодой мужчина и молодая женщина стоят по пояс в реке, без рубашек, и смотрят друг на друга. Солнце пронизывает листву, и там, где его лучи падают на воду, она искрится и сверкает. Но эти двое почти целиком в тени. Рассматривают друг друга. Вокруг покой, только природа живет своей жизнью. Им трудно заговорить, потому что не знаешь, что сказать. Ведь не скажешь: «Меня зовут Эдвард, а тебя?» Нет, конечно. Скажешь то, что сказала она, едва придя в себя:
— Ты спас мне жизнь.
И ведь верно, разве не так? Ее чуть не укусила ядовитая змея, и он спас ее. К тому же сделал это, рискуя собственной жизнью. Хотя ни один из них не упоминал об этом. Не было необходимости. Оба и так это знали.
— Ты храбрый, — сказала она.
— Нет, мэм, — ответил он, хотя она вряд ли была намного старше его. — Просто я увидал вас, и увидал змею, и… и прыгнул.
— Как тебя зовут?
— Эдвард, — сказал он.
— Хорошо, Эдвард. Отныне и навсегда это твое место. Мы будем называть его… Эдвардова роща. Дерево, эту часть реки, эту воду — всё. И если ты будешь неважно себя чувствовать или понадобится, чтобы тебе в чем-то повезло, приходи сюда, ляг отдохнуть и думай об этом.
— Ладно, — согласился он, правда в те времена он соглашался со всем, что бы ему ни говорили. Ему казалось, будто он на короткое время перенесся в иной мир. Он еще не возвратился на землю.
Она улыбнулась.
— А теперь отвернись, — сказала она, — я оденусь.
— Ладно.
И он отвернулся, и покраснел, так ему стало хорошо. До того хорошо, что почти невыносимо. Как будто он заново родился, стал лучше и совершенно другим.
Он не знал, сколько женщине может понадобиться времени, чтобы одеться, поэтому дал ей целых пять минут. А когда повернулся, ее не было — исчезла. Он даже не услышал, как она ушла. Он мог бы позвать ее — и хотел было, — да не знал ее имени. Теперь бы он спросил, первым делом.
Ветер шелестел листьями дуба, бежала, как прежде, река. А ее нигде не было. И в рубашке у него не оказалось никакой змеи, только сучок. Маленький коричневый сучок.
Правда, он был похож на змейку — точь-в-точь. Особенно когда отец швырнул его в реку и смотрел, как тот плывет.
Говорят, он обладал особым обаянием, был немногословен, внезапно впадал в задумчивость. В общем — застенчив. И тем не менее девушки в нем, моем отце, души не чаяли, видно находили что-то такое. Назовем это скромным обаянием. К тому же он был неплох собой, хотя никогда не придавал этому никакого значения. Он дружил со всеми, и все дружили с ним.
Его скромное обаяние
Говорят, он был забавник уже в то время. Говорят, знал несколько отличных анекдотов. Не в большой компании, где он держался особняком, а перехвати его одного — что многие особы женского пола в Эшленде явно норовили сделать! — и он точно мог рассмешить. Говорят, можно было слышать, как они смеются среди ночи, мой отец и те хорошенькие юные девушки у него на крыльце, просто заливаются, можно было слышать, как их смех разносится по ночному городку. Эшлендцы любили засыпать под звук смеха. Так оно было. В те давние времена.
Как он усмирил великана
Мой отец совершил множество подвигов, о которых доныне ходит бессчетно историй. Но, наверно, самой трудной задачей было сладить с Великаном Карлом, потому что тут он рисковал самой своей жизнью. Карл был высоченный, в два человеческих роста, обхватом — как трое человек, а силой — как целых десять. Лицо и руки у него были сплошь покрыты шрамами оттого, что жил он суровой жизнью, больше похожей на жизнь зверя, а не человека. И вел себя соответственно. Говорят, Карл родился от женщины, как всякий смертный, но скоро стало ясно, что тут что-то не так. Просто он был слишком огромный. Мать утром покупала ему одежду, а уже днем швы расползались, так быстро росло его тело. Вечером он ложился в кровать, сделанную под него плотником, а утром его ноги свисали, не умещаясь на ней. А еще он беспрерывно ел! Сколько бы еды она ни покупала или ни приносила с поля, к вечеру во всех шкафах было шаром покати, а он продолжал жаловаться, что в животе у него пусто. Он стучал огромным кулаком по столу, требуя еды. «Еще, хочу еще! — вопил он. — Мать, еще хочу!» Четырнадцать лет она терпела, но в конце концов однажды, когда он пожирал оленью ногу и не смотрел на нее, она собрала пожитки и выскользнула из дому через заднюю дверь, чтобы больше никогда не возвращаться; он и не заметил, что она ушла, пока не покончил с олениной. Тогда его охватили горе и злость — и пуще всего голод.
И вот теперь он пришел в Эшленд. Ночью, когда обитатели местечка спали, Карл тайком обшарил сады и огороды, ища, чем подкрепиться. Сначала он брал только то, что жители Эшленда там выращивали; наступило утро, и они обнаружили, что их поля опустошены, на яблонях не осталось ни одного яблока, в водонапорной башне нет воды. Никто не знал, что делать. Карл, которому его дом стал слишком мал, ушел в горы, окружавшие Эшленд. А кому хотелось сходиться с ним лицом к лицу в горах? Да и что они могли сделать, эти люди, с тем ужасным чудовищем, каким стал Карл?
Так и продолжался этот грабеж какое-то время, пока однажды не пропало полдюжины собак. Казалось, опасность нависла над всем, что есть живого в городке. Нужно было что-то делать — но что?
Мой отец придумал план. План был опасный, но ничего другого не оставалось, и в одно прекрасное летнее утро мой отец отправился в путь, благословленный всеми обитателями Эшленда. Он направился в горы, где знал одну пещеру. В ней-то, как он догадывался, и жил Карл.
Пещеру скрывали сосны и огромная груда камней, а мой отец знал о ней, потому что много лет назад вывел оттуда молодую девушку, которая заблудилась в ее глубинах. Он остановился у пещеры и крикнул:
— Карл!
В ответ он услышал эхо собственного голоса, отразившееся от дальнего конца пещеры.
— Выйди на свет, Карл! Я знаю, что ты здесь. Я пришел передать тебе требование наших горожан.
Несколько минут ничто не нарушало тишину глухого леса, наконец мой отец услышал шум и почувствовал, как затряслась земля. Из тьмы пещеры появился Карл. Отцу и в страшном сне не могло привидеться, что он такой огромный. И ох как страшен видом! Весь в царапинах и синяках от жизни в диком горном лесу — и оттого, что иногда, просто не в силах терпеть голод, не мог дождаться, когда его добыча умрет, и впивался в нее еще живую, царапающуюся и кусающуюся. У него были сальные длинные черные волосы, в густой спутанной бородище застряли кусочки пищи и ползали всяческие букашки, которые ими питались.
Увидев моего отца, он расхохотался.
— Чего тебе надобно, человечишка? — спросил он с ужасной ухмылкой.
— Ты не должен больше приходить в Эшленд за пищей, — сказал мой отец. — Ты лишаешь наших фермеров урожая, а детей — их любимых собак.
— Что? И ты задумал меня остановить? — сказал Карл, его громовый голос прокатился по долинам и наверняка был слышен аж в самом Эшленде. — Да я могу переломить тебя, как ветку! — И чтобы показать, как он это сделает, отломил сук от соседней сосны и растер пальцами в пыль. — Да я, — продолжал он, — могу съесть тебя в один момент и не поперхнуться! Могу!
— Для этого я и пришел, — сказал мой отец. Лицо у Карла скривилось то ли в замешательстве, то ли оттого, что одна из букашек выползла из его бороды и поползла по щеке.
— Что это значит «для этого ты и пришел»?
— Чтобы ты съел меня, — ответил отец. — Я буду первой жертвой.
— Первой… жертвой?
— Тебе, о великий Карл! Мы покоряемся твоему могуществу. И мы поняли, что для спасения многих надо пожертвовать немногими. Так что я твой… завтрак, наверное?
Слова моего отца сбили Карла с толку. Он замотал головой, чтобы в мозгах прояснилось, и полчища тварей, ползающих у него в бороде, посыпались на землю. Он затрясся всем телом, и мгновение казалось, что он сейчас упадет, и, чтобы устоять на ногах, он прислонился к скале.
Такое было впечатление, что его поразило какое-то оружие. Такое было впечатление, что его ранило в сражении.
— Я… — проговорил он очень тихо и даже печально. — Я не хочу тебя есть.
— Не хочешь? — сказал отец с большим облегчением.
— Нет, — ответил Карл. — Я никого не хочу есть. — И огромная слеза покатилась по его заскорузлому лицу. — Просто мне очень голодно живется, — сказал он. — Моя мать всегда так замечательно готовила, но потом она оставила меня одного, и я не знал, что делать. Собаки… простите меня за собак. Простите меня за все.
— Понимаю, — сказал отец.
— Я не знаю, что мне теперь делать, — пожаловался Карл. — Посмотри на меня — я огромный. Мне нужно есть, чтобы жить. Но я остался совсем один, и не знаю, что…
— Готовить еду, — сказал отец. — Растить урожай. Ходить за скотиной.
— Ну конечно! — вздохнул Карл. — Думаю, мне надо забиться подальше в пещеру и никогда не выходить на свет. Я причинил вам слишком много неприятностей.
— Мы можем научить тебя, — сказал мой отец. Карл не понял его.
— Чему научить?
— Готовить еду, растить урожай. Земли тут предостаточно.
— Ты хочешь сказать, что я мог бы стать фермером?
— Да, — ответил мой отец. — Мог бы.
Все было в точности так, как я рассказываю. Карл стал самым знаменитым фермером в Эшленде, но моего отца легенды сделали еще знаменитей. Рассказывали, будто он может заворожить кого угодно, просто пройдя по комнате. Будто он наделен особой силой. Но мой отец был человек скромный и говорил, что ничего такого за ним не водится. Он всего лишь любит людей, а люди любят его. Все очень просто, говорил он.
Он отправляется ловить рыбу
В ту пору случился в наших местах потоп, но что я могу добавить к тому, что об этом уже написано? Ливни, один за другим, беспрерывно. Ручьи превратились в реки, реки в озера, а все озера вышли из берегов и слились в одно огромное — глазом не обведешь. Однако Эшленд — большая его часть — каким-то образом уцелел. Кое-кто говорит, удачное расположение горной гряды разделило воды, и они обтекли его с двух сторон. Правда, один конец Эшленда, дома и все остальное, до сих пор остается на дне того, что теперь называется — и вполне подходяще, если не чересчур уж художественно, — Великим Озером, и по сию пору летней ночью можно услышать, как стонут призраки тех, кто утонул в тот потоп. Но самое примечательное в этом озере — зубатка, которая живет в нем. Зубатка величиной с человека, говорят — даже еще больше. Враз ногу отхватит, если нырнешь слишком глубоко. Ногу, а то и больше, если зазеваешься.
Только простак или герой мог попытаться поймать такую громадную рыбу, а мой отец, как вам сказать… думаю, он был немножко и то, и другое.
Однажды на рассвете он отправился один на берег, сел в лодку и отплыл на середину Великого Озера, где самая глубина. Какая у него была наживка? Дохлая мышь, которую он нашел в ларе, где хранилось зерно. Он нацепил ее на крючок и закинул удочку. Целых пять минут потребовалось, чтобы наживка опустилась на дно, и тогда он стал медленно поднимать ее. Вскоре он почувствовал удар. Рыба рванула так сильно, что сорвала мышь вместе с крючком и оборвала лесу, удилище согнулось, лодка закачалась на воде. Тогда он попробовал снова. На сей раз взял крючок побольше, лесу потолще, дохлую мышь поаппетитней и забросил удочку. Вода заволновалась, закипела и запузырилась, пошли волны, будто сам дух озера всплывал на поверхность. Эдвард продолжал себе удить как ни в чем не бывало. Хотя, наверно, не следовало ему этого делать, видя, какие небывалые вещи творятся. И жуткие. Наверно, лучше бы ему было вытащить свою мышку и плыть домой. «Так и быть, отправлюсь-ка я домой», — решил он. Только, сматывая лесу, он увидел, что не столько она сматывается, сколько лодка движется. Вперед. И чем быстрей он мотает, тем быстрей движется лодка. Он знает, что надо делать в таких случаях: выпустить из рук удилище. Отпустить его! Бросить и распрощаться с ним навсегда. Кто его знает, что там такое, на другом конце лесы, что тащит лодку? Но он не может бросить удилище. Не может, и все тут. Больше того, у него такое чувство, будто руки приросли к удилищу. Тогда он делает второе, что лучше всего делать в таких случаях, — прекращает мотать лесу, но и это не помогает: лодка все равно плывет вперед, Эдвард плывет, и все быстрей и быстрей. Значит, это не затонувшее бревно, правильно? Его тащит существо, живое существо — зубатка. Похожая на дельфина: он видит, как она изгибается, выпрыгивая из воды, и сверкает на солнце, прекрасная, исполинская, ужасная, — шесть, семь футов в длину? — и, вновь погружаясь, увлекает Эдварда за собой, выдергивает его из лодки и тащит под воду, в глубину, на подводное кладбище Великого Озера. И там он видит дома и фермы, поля и дороги — тот уголок Эшленда, который затопило в потоп. И людей он тоже видит: тут и Гомер Киттридж со своей женой Марлой. И Берн Тэлбот и Кэрол Смит. Гомер несет бадью с овсом, кормить своих лошадей, а Кэрол обсуждает с Марлой виды на урожай. Берн работает на тракторе. Глубоко-глубоко под сумрачной толщей воды они двигаются, как при замедленной съемке, и, когда они разговаривают, изо рта у них вырываются пузырьки и поднимаются на поверхность. Зубатка быстро тащит Эдварда мимо них, и Гомер улыбается и машет ему — Эдвард и Гомер знали друг друга, — но не успевает Гомер опустить руку, как они, человек и рыба, устремляются прочь, вновь вверх, и неожиданно выскакивают из воды, Эдвард шлепается на берег, уже без удилища.
Он никому не рассказывал об этом. Не мог. Потому что кто бы поверил ему? Когда его спрашивали, как он потерял удилище и лодку, Эдвард говорил, что заснул на берегу Великого Озера и они просто… уплыли.
День когда он покинул Эшленд
Наконец Эдвард Блум стал взрослым, и случилось это примерно так. Он был здоровым и сильным, и родители окружали его любовью. А еще он заканчивал школу. Он бегал с товарищами по зеленым полям, окружавшим Эшленд, с аппетитом ел и пил. Жизнь проходила как во сне. Только вот однажды утром он проснулся и сердцем понял, что должен покинуть родительский дом, и сказал об этом матери с отцом, и они не пытались его отговаривать. Только переглянулись с дурным предчувствием, поскольку знали, что из Эшленда ведет одна-единственная дорога и отправиться по ней значило пройти через городок, не имевший названия. Те, кто намеревался покинуть Эшленд, проходили через него целыми и невредимыми, те же, у кого не было в мыслях уходить навсегда, не могли ни пройти этот городок, ни вернуться назад. Поэтому родители попрощались с Эдвардом, зная, что ни они, может, никогда больше не увидят его, ни он их.
Утро того дня, когда он покинул свой дом, было солнечным, но когда он подошел к городку, который не имел названия, кругом потемнело, низко опустились небеса, и густой туман окутал его со всех сторон. Скоро он вошел в этот городок, очень похожий на его Эшленд, хотя и очень отличался от него. На Главной улице тут были банк, «Аптека Коула», магазин «Христианская книга», Тэлботовский магазин низких цен, «Лавка Прикетта», «Ювелирные изделия и часы», кафе «Добрая еда», бильярдная, кинотеатр, пустая автостоянка, а еще скобяная лавка и бакалейная, полки последней были забиты товаром, которому было больше лет, чем Эдварду. Кое-какие подобные магазинчики имелись и в Эшленде, но в здешних было пусто и темно, их витрины разбиты, а хозяева с унылым видом стояли в дверях своих заведений. Но, завидев моего отца, они заулыбались. Заулыбались и замахали ему, приглашая зайти. Подумали: «Покупатель!» Был на Главной улице и публичный дом, в самом конце, но не такой, как в большом городе. Это был просто дом, в котором жила проститутка.
Только он появился в городке, тут же сбежались люди, и все глядели на его красивые руки.
— Уходишь? — спрашивали его. — Из Эшленда уходишь?
Это был странный народ. Один человек был сухорукий. Правая его рука безвольно болталась, высохшая от плеча до локтя. Кисть выглядывала из рукава, как кошачья голова из бумажного пакета. Однажды летом год тому назад он ехал в машине и высунул руку из окна под встречный ветер. Но он ехал слишком близко к обочине дороги, и вместо ветра он вдруг ощутил удар телеграфного провода. Кости предплечья были раздроблены. Теперь его рука висела, ни на что не годная, усыхая все больше и больше. Он приветливо улыбнулся Эдварду.
Еще там была женщина лет пятидесяти, которая почти во всех отношениях была совершенно нормальной. Но вот какая история: во многих отношениях нормальные, все эти люди имели какую-нибудь одну особенность, ужасную особенность. Несколько лет назад эта женщина пришла домой с работы и увидела, что ее муж повесился на водопроводной трубе в подвале. От потрясения ее хватил удар, вследствие чего у нее парализовало левую сторону лица: искривленные губы навсегда застыли в злобном выражении, глаз перекосило. Эта сторона лица так и осталась неподвижна, и поэтому, когда она говорила, шевелилась лишь правая сторона губ, а ее голос звучал откуда-то из глубины горла. Слова с большими мучениями пытались вырваться наружу. После того, как это случилось, она ушла из Эшленда, но дошла только досюда.
Были и другие, которые просто родились с изъяном, чье рождение было главным, и худшим, несчастьем, происшедшим с ними. Один — гидроцефал по имени Берт; он работал подметальщиком. Повсюду таскал с собой метлу. Он был сыном проститутки и головной болью мужчин городка: большинство из них захаживали к той проститутке, и любой мог быть отцом парня. Что до нее, то она считала: они все его отцы. Она никогда не хотела быть проституткой. Но городку нужна была проститутка, ее заставили занять это место, и с годами она ожесточилась. Стала ненавидеть своих клиентов, особенно после рождения сына. Он был ее большой радостью, но и тяжким бременем. У него начисто отсутствовала память. Он часто спрашивал ее: «Где мой папа?» — и она показывала в окно на первого проходящего мужчину. «Вот твой папа», — говорила она. Берт выбегал на улицу и бросался мужчине на шею. На другой день он уже ничего не помнил, спрашивал: «Где мой папа?» И все повторялось снова.
Наконец мой отец встретил человека, которого звали Уилли. Тот сидел на скамейке и, когда отец поравнялся с ним, встал, как будто поджидал его. Края губ у него были пересохшие и потрескавшиеся. Волосы — седые и торчали, как щетина, глазки — маленькие и черные. У него не было трех пальцев (двух на одной руке и одного — на другой), и он был стар. Так стар, что, казалось, уже прошел до конца дорогу жизни, назначенную человеку, и, поскольку все еще был жив, пустился в обратный путь. Начал усыхать. Становился маленьким, как ребенок. Он двигался медленно, словно шагал по колено в воде, и смотрел на моего отца с неприятной улыбкой.
— Добро пожаловать в наш город, — сказал Уилли дружелюбно, разве что несколько устало. — Если не возражаешь, я покажу тебе наши достопримечательности.
— Я не могу задерживаться, — ответил мой отец. — Я тут мимоходом.
— Все так говорят, — возразил Уилли, взял моего отца за руку, и дальше они пошли вместе.
— Во всяком случае, — продолжал Уилли, — куда тебе спешить? Стоит хотя бы взглянуть на все, что мы имеем предложить. Вот лавка, славная лавка, а там, чуть подальше, можно погонять шары, если хочешь. То есть бильярдная. Тебе понравится.
— Спасибо, — вежливо ответил Эдвард, потому что не хотел рассердить Уилли или кого-нибудь из других людей, которые наблюдали за ними. Они уже собрались в небольшую толпу из трех-четырех человек и следовали за ними по пустынным улицам, держась на расстоянии, но не спуская с них алчных взглядов. — Большое спасибо.
Уилли сильней стиснул ему руку и показал на аптеку, «Христианскую книгу» и, лукаво подмигнув, на дом, в котором жила проститутка.
— Сладкая бабенка, не вру, — сказал Уилли, и, будто вспомнив что-то не совсем приятное, добавил: — Иногда.
Небо потемнело, пошел дождь. Уилли задрал голову и подставил лицо под льющиеся струи. Мой отец утер лицо и поморщился.
— Дожди у нас — частое дело, — сказал Уилли, — но ты привыкнешь.
— Тут все какое-то… унылое, — сказал мой отец.
Уилли бросил на него косой взгляд:
— Привыкнешь. Такое уж это место, Эдвард. Ко всему привыкаешь.
— Но я не хочу, — ответил мой отец.
— И к этому тоже. К этому тоже привыкнешь.
Они молча шли дальше сквозь туман, который сгустился у их ног, сквозь дождь, тихо падавший на их головы и плечи, сквозь похожее на сумерки утро этого странного города. На углах собирались люди, чтобы посмотреть на них, некоторые присоединялись к небольшой толпе, следовавшей за ними. Эдвард поймал на себе взгляд изможденного человека в потрепанном черном костюме и узнал его. Это был Нортер Уинслоу, поэт. Несколько лет назад он покинул Эшленд, чтобы отправиться в Париж творить. Он стоял, глядя на Эдварда, и как будто улыбался, но тут Эдвард обратил внимание, что у него не хватает двух пальцев на правой руке, и лицо Нортера сразу стало мертвенно-бледным, он прижал искалеченную руку к груди и скрылся за углом. Люди возлагали большие надежды на Нортера.
— Разумеется, — сказал Уилли, видя, что произошло. — Сюда постоянно приходят люди вроде тебя.
— Кого ты имеешь в виду? — спросил мой отец.
— Нормальных людей, — сплюнув, ответил Уилли, который вызывал у моего отца чувство отвращения. — Нормальных людей и их планы. Этот дождь, эта сырость — нечто вроде остатка. Того, что осталось от мечты. Точней, от мечтаний множества людей. От моей мечты, и его, и твоей.
— Только не от моей, — сказал Эдвард.
— Да, пока еще не от твоей.
Тогда-то они и увидели пса. Он двигался смутным темным пятном в тумане, а потом появился перед ними. Он был черный, за исключением белого пятна на груди и коричневых — у кончиков лап, с короткой жесткой шерстью, и, похоже, беспородный. Просто пес, в котором смешалось много кровей. Он приближался к нему, медленно, но решительно, даже не останавливаясь, чтобы обнюхать пожарный гидрант или столб. Этот пес шел не куда попало. У него была цель: мой отец.
— Что это такое? — удивился Эдвард.
Уилли ухмыльнулся.
— Пес, — сказал он. — Раньше или позже, но обычно раньше, он появляется и проверяет каждого. Он у нас вроде стража, если понимаешь, что я имею в виду.
— Нет, — сказал мой отец, — я не понимаю, что ты имеешь в виду.
— Поймешь. Еще поймешь. Позови его.
— Позвать? А как его зовут?
— Никак. Он всегда был ничей, поэтому не имеет клички. Зови его просто Пес.
— Пес?
— Ну да, Пес.
Вот мой отец опустился на корточки и хлопнул в ладоши и голосом как можно более ласковым позвал:
— Поди ко мне, Песик! Ну же, приятель! Давай! Иди!
И Пес, который издалека шел прямо к нему, застыл на месте и долгое время смотрел на моего отца, во всяком случае долгое для собаки. Целых полминуты. Шерсть у него на загривке стала дыбом. Он не отрываясь смотрел в глаза отцу. Потом свирепо оскалил клыки. Он стоял в десяти футах и злобно рычал.
— Может, мне нужно уступить ему дорогу? — спросил мой отец. — Не думаю, что я ему нравлюсь.
— Протяни руку, — сказал Уилли.
— Что? — переспросил отец. Рычание пса стало громче.
— Протяни руку, и пусть он ее обнюхает.
— Уилли, не думаю…
— Протяни руку, — повторил тот.
Мой отец осторожно вытянул руку. Пес медленно подошел, тихо рыча, готовый вонзить в нее зубы. Но, едва коснувшись носом пальцев, заскулил и принялся лизать руку отца. Пес вилял хвостом. Сердце у моего отца колотилось.
Огорченный Уилли скорбно смотрел на происходящее, словно его предали.
— Это означает, что я могу идти? — спросил мой отец, вставая, пес же терся о его ноги.
— Нет еще, — ответил Уилли, снова впившись пальцами в руку моего отца. — Прежде ты захочешь выпить кофе.
Кафе «Добрая еда» состояло из одной большой комнаты, вдоль стен которой располагались зеленые кабинки из пластика и пластиковые же, в золотистую крапинку, столики. На столиках лежали бумажные салфетки вместо скатертей, тонкие серебряные ложки и вилки с засохшими остатками пищи на них. Свет едва проникал в зал, где царил плотный полумрак, и, хотя почти все столики были заняты, казалось, настоящая жизнь здесь отсутствует, никакого намека на нетерпение голода, ждущего удовлетворения. Но едва Уилли и мой отец вошли в зал, все подняли на них глаза и заулыбались, словно появились официанты с подносами.
Уилли и отец сели за столик и тут же молчаливая официантка, даже не спрашивая, подала им кофе. Черную дымящуюся жидкость. Уилли пристально посмотрел в свою чашку и покачал головой.
— Ты думаешь, все позади, не так ли, сынок? — Уилли улыбнулся, поднося чашку ко рту. — Думаешь, ты крупная рыба. Но мы тут и не таких видали. Посмотри на Джимми Эдвардса, вон там. Футбольная звезда. Студент из первых. Хотел стать бизнесменом в большом городе, разбогатеть и все такое. Но так и остался здесь. Кишка тонка оказалась, понимаешь ли. — Он наклонился к отцу через столик. — Пес отхватил у этого малого указательный палец на левой руке.
Мой отец оглянулся и увидел, что это действительно так. Джимми медленно убрал руку со стола, сунул в карман и отвернулся. Мой отец оглядел остальных в зале, которые смотрели на него, и увидел, что у всех то же самое. Никто не мог похвастать целой рукой, у всех не хватало пальца, а то и нескольких. Мой отец взглянул на Уилли, желая спросить о причине. Но Уилли словно читал его мысли.
— Много раз они пытались уйти, — сказал он. — Или дальше отсюда, или обратно туда, откуда пришли. Но этот пес, — он посмотрел на собственную руку, — шутить не любит.
Затем медленно, словно повинуясь звуку, слышному только им одним, люди, сидевшие за соседними столиками, встали и столпились у их кабинки, глядя на него и улыбаясь. Некоторых он помнил по именам еще с детских лет в Эшленде. Седрик Фоулкс, Салли Дюма, Бен Лайтфут. Но теперь они стали другими. Он видел их чуть ли не насквозь, вроде того, но потом что-то произошло, и их фигуры стали нечеткими, словно вышли из фокуса.
Он перевел взгляд на дверь кафе — там сидел Пес. Сидел неподвижно и пристально смотрел в зал, и мой отец потер руки, спрашивая себя, чего он ждет; если ему повезло, что Пес в первый раз не укусил его, то теперь может быть иначе.
Возле их кабинки стояла женщина, которую звали Розмари Уилкокс. Она влюбилась в человека из большого города и хотела убежать с ним, но только он один смог это сделать. У нее были темные, глубоко посаженные глаза на том, что когда-то было прелестным личиком. Она помнила моего отца еще маленьким и сказала ему, как ей приятно видеть его теперь таким большим, высоким и красивым.
Толпа вокруг кабинки выросла и придвинулась совсем вплотную, так что мой отец не мог пошевелиться. Негде было. Общим напором к нему притиснуло старика еще более древнего, чем Уилли. Старик был похож на живую мумию. Кожа высохла и плотно обтянула его кости, а синие вены казались холодными, как замерзшая река.
— Я… я бы не стал доверять этой собаке, — медленно проговорил старик. — Я бы даже не стал и пробовать, сынок. В прошлый раз обошлось, но никогда не знаешь, как будет в другой. Совершенно непредсказуемый пес. Так что сиди, не двигайся и расскажи нам все о мире, куда собрался идти и чего хочешь там найти.
И старик прикрыл глаза, то же самое сделал и Уилли, и все остальные, приготовясь услышать о ярком мире, который, как знал мой отец, ждет его сразу за поворотом, на другом краю этого сумрачного места. И вот он стал рассказывать, а когда закончил, все благодарили его и улыбались. И старик сказал:
— Это было прекрасно.
— А можно завтра повторить? — попросил кто-то.
— Давай повторим это завтра, — прошептал другой.
— Хорошо, что ты с нами, — сказал моему отцу третий. — Хорошо, что ты с нами.
— Я знаю очень милую девушку, — сказала Розмари. — К тому же она красивая. Совсем молоденькая. Я бы с радостью свела вас, если понимаешь, что я имею в виду.
— Извините, — сказал мой отец, переводя взгляд с одного на другого. — Вы ошиблись. Я не собираюсь здесь оставаться.
— Вижу, что не ошиблись, — сказал Бен Лайтфут, глядя на моего отца с глубокой ненавистью.
— Но мы не можем тебя отпустить, — ласково проговорила Розмари.
— Я должен идти, — ответил отец и попытался встать. Но не мог, так плотно они окружили его.
— Хотя бы недолго побудь с нами, — попросил Уилли. — Хотя бы несколько дней.
— Узнаешь нас получше, — сказала Розмари, страшной изуродованной рукой отводя волосы, лезущие ей в глаза. — И забудешь обо всем.
Но вдруг позади мужчин и женщин, окруживших его, раздался шорох, а следом вопль и рычание, и люди расступились, как по волшебству. Это был Пес. Он злобно рычал на них и скалил свои ужасные зубы, и они попятились назад от разъяренного чудовища, прижимая руки к груди. Мой отец воспользовался моментом, бросился в образовавшийся проход и помчался без оглядки прочь. Он бежал через сумрак, пока не выбежал снова на свет, и мир вокруг стал зеленым и прекрасным. Асфальт сменился гравием, гравий — проселочной дорогой, и дивный волшебный мир казался совсем близким. Когда проселочная дорога кончилась, он остановился, чтобы перевести дыхание, и увидел, что Пес, свесив язык, бежит за ним. Подбежав к моему отцу, Пес потерся горячим боком о его ноги. Вокруг стояла тишина, только ветер шумел в кронах деревьев да звучали их шаги по проторенной тропинке. А потом лес вдруг расступился, и глазам отца предстало озеро, огромное озеро с зеленой водой, уходящее вдаль, насколько хватал глаз, а у берега — маленькая деревянная пристань, вздрагивавшая под ударами волн, которые поднимал ветер. Они спустились к пристани, и, как только ступили на нее, Пес рухнул, словно лишившись последних сил. Мой отец огляделся вокруг, счастливый, посмотрел, как солнце садится за лес, и вздохнул полной грудью, и запустил пальцы в густую шерсть на загривке у Пса, и ласково гладил его теплую шею, словно гладил собственное сердце, и Пес урчал от своего собачьего счастья. Солнце село, и взошла луна, и вода в озере покрылась легкой рябью, и тогда в белом свете луны он увидел девушку, ее голова вынырнула в отдалении, вода стекала с ее волос обратно в озеро, и она улыбалась. Она улыбалась, и мой отец тоже. Потом она помахала ему. Она махала моему отцу, а он ей.
— Эй, — крикнул он, махая ей. — До свидания!
Он вступает в новый мир
Историю о первом из дней, которые мой отец прожил в новом мире, наверно, лучше всего рассказывал человек, который работал с ним, Джаспер «Бадди» Бэррон. Бадди был вице-президентом «Блум инкорпорейтед» и стал у ее руля, сменив моего отца, когда тот покинул свой пост.
Бадди был щеголем. Носил ярко-желтый галстук, дорогой темно-синий в тонкую полоску костюм и обтягивающие, тонкие, почти прозрачные, носки в тон костюму из тех, что кончаются чуть ли не под коленом. Из нагрудного кармана ручной мышкой выглядывал уголок шелкового платочка. И он был первым и единственным человеком с настоящими «седеющими висками», как выражаются в книжках. Вообще же у него были прекрасные волосы, темные и густые, разделенные ровной ниточкой розоватой кожи, этакой полевой тропинкой через голову.
Он любил, рассказывая эту свою историю, с улыбкой откинуться в кресле.
— Было это в году тысячадевятьсоттакомто или вроде того, — начинал он. — Так давно, что и помнить не хочется. Эдвард только что ушел из дому. Ему семнадцать. Первый раз в жизни он оказался один, но волновало ли его это? Нет, не волновало: мать дала ему несколько долларов на прожитье — десять, может, двенадцать, — во всяком случае, в жизни у него еще не было столько денег. И у него были мечты. Мечты, Уильям, — это то, что движет человеком, а твой отец уже мечтал завоевать мир. Но если бы ты посмотрел на него в тот день, когда он покинул городок, где он родился, ты бы увидел всего лишь красивого молодого парня с тощим узелком на спине и в дырявых башмаках. Может, дырок в подошвах и не было заметно, но они были, Уильям; дырки были.
В тот первый день он прошагал тридцать миль. В ту первую ночь он спал под звездами на ложе из сосновой хвои. И той ночью рука судьбы туго затянула ему пояс. Ибо, когда он спал, на него напали лесные разбойники, избили до полусмерти и забрали у него все до последнего доллара. Он едва выжил, и все же тридцать лет спустя, когда он впервые поведал мне эту историю, — и в этом для меня весь Эдвард Блум, человек невероятный, — он сказал, что встреть он когда-нибудь снова тех людей, тех двоих разбойников, которые избили его до полусмерти и забрали последний доллар, он поблагодарил бы их — поблагодарил бы, — потому что, в известном смысле, они определили всю его дальнейшую жизнь.
Но тогда, умирая в незнакомом ночном лесу, он, конечно, не испытывал к ним чувства благодарности. К утру он хорошо отдохнул и, хотя продолжала течь кровь из многочисленных ран, пошел дальше, уже не зная, куда идет, да и не особо заботясь об этом, просто шел и шел, вперед и вперед, готовый ко всему, что уготовили ему Жизнь и Судьба, — как вдруг увидел старую сельскую лавку, а перед ней старика, качавшегося в кресле-качалке, туда-сюда, сюда-туда, который живо повернулся и с тревогой смотрел на приближающегося окровавленного человека. Он позвал жену, та позвала дочь, и не прошло и полминуты, как у них уже был и горшок горячей воды, и чем смыть с него кровь, и перевязать, для этого они порвали на полоски простыню и стояли наготове, пока Эдвард ковылял к ним. Они были готовы спасти жизнь этого незнакомца. Даже больше, чем готовы: полны решимости.
Но он, конечно, не позволил им. Не позволил спасать его жизнь. Ни один человек, будучи такой цельной личностью, как твой отец, — а таких мало, Уильям, очень мало, и они редко встречаются, — не принял бы подобную помощь, даже если речь шла бы о жизни и смерти. Потому что как бы он тогда мог жить в мире с самим собой, если, конечно, вообще остался бы жив, зная, что своей жизнью навечно обязан другим, зная, что не принадлежит себе?
И вот, продолжая истекать кровью и волоча сломанную в двух местах ногу, Эдвард нашел метлу и принялся подметать лавку. Затем взял швабру и ведро, потому что в спешке совершенно забыл о своих открытых ранах, из которых обильно текла кровь, и не видел, пока не закончил подметать, что по всей лавке остались следы крови. И он принялся отмывать их. Отчищать. Стал на колени и тряпкой оттирал следы, а старик, его жена и маленькая дочка смотрели на него. Смотрели с ужасом. Благоговейным ужасом. Смотрели на человека, который старается оттереть пятна собственной крови на сосновом полу. Пятна не поддавались, не поддавались — но он продолжал тереть. Вот что главное, Уильям: он продолжал и продолжал тереть, пока силы у него не кончились, и тогда он упал лицом вниз, не выпуская из рук тряпку, — замертво.
По крайней мере так они подумали. Они думали, что он умер. Они бросились к телу: в нем еще теплилась жизнь. И представь себе сцену, как твой отец описывал ее, мне она всегда почему-то напоминает Микеланджелову «Пьету»: мать, сильная женщина, приподняла его и, положив себе на колени голову этого юноши, умирающего, молится за его жизнь. Казалось, надежд не осталось. Но, когда остальные в тревоге окружили его, он открыл глаза и сказал, может, последнее свое слово в жизни, он сказал старику, в чьей лавке, как Эдвард сразу это понял, не было ни единого покупателя, сказал, может, на последнем издыхании: «Рекламируй».
Бадди помолчал, слушая, как разносится по комнате эхо этого слова.
— То, что произошло дальше, как говорится, вошло в историю.
Твой отец поправился. Скоро он вновь был полон сил. Он пахал поля, следил за садом и огородом, помогал в лавке. Ходил по окрестностям и вывешивал небольшие объявления, приглашая всех в Деревенскую Лавку Бена Джимсона. Между прочим, это была его идея — назвать лавку «деревенской». Он считал, что так звучит более по-свойски, более привлекательно, чем просто «лавка», и был прав. Тогда же твой отец придумал рекламный слоган «Покупаешь одну вещь, вторая бесплатно». Всего пять слов, Уильям, однако они сделали Бена Джимсона богатым человеком.
Он оставался у Джимсонов почти год, заработал небольшую сумму, тем самым заложив основу своего будущего благосостояния. Мир раскрылся перед ним, как прекрасный цветок. И как можешь видеть, — говорил он, обводя рукой золотое и кожаное роскошество своего кабинета и легко кивая в мою сторону, словно и я тоже был не более чем следствием легендарного отцовского трудолюбия, — для парня из Эшленда, штат Алабама, он многого добился.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Старая женщина и глаз
Покинув Джимсонов, мой отец отправился на юг, переходя от деревни к деревне, от городка к городку, и в этих странствиях пережил множество приключений и повстречал множество интересных и невероятных людей. Но у тех его странствий была цель, умысел, как во всем, что бы он ни делал. За прошедший год жизнь многому его научила, и теперь он надеялся еще больше узнать о природе мира, поступив в колледж. Он слышал о городе, называвшемся Оберн, в котором был такой колледж. В этот город он и держал путь.
Он прибыл туда под вечер, усталый и голодный, и нашел комнату в доме одной старой женщины, которая пускала постояльцев. Она накормила его и уложила спать. Он проспал три дня и три ночи, а проснувшись, вновь почувствовал себя полным сил, свежим и отдохнувшим. Он поблагодарил старую женщину за приют и в ответ предложил помочь ей всем, чем может.
Случилось так, что у этой женщины был только один глаз. Другой, стеклянный, она каждый вечер вынимала перед сном и клала в чашку с водой, которую ставила на тумбочку возле кровати.
А дело было в том, что за несколько дней до того, как мой отец постучался к ней, ватага юнцов ворвалась в дом старой женщины и украла ее глаз, и вот она сказала отцу, что будет очень благодарна, если он только сможет найти и вернуть ей ее глаз. Мой отец тут же поклялся, что исполнит ее просьбу, и тем же утром отправился на поиски глаза.
День был прохладный и ясный; мой отец шагал вдохновленный надеждой.
Город Оберн получил свое название от поэмы[1] и был в те времена великим средоточием учености. Молодые люди, стремящиеся познать тайны мира, заполняли его тесные аудитории, затаив дыхание внимали словам заезжего профессора. Эдвард жаждал оказаться в их числе.
Но, с другой стороны, многие приехали сюда валять дурака и объединились в большие компании с единственной целью: искать развлечений. Моему отцу не понадобилось много времени, чтобы узнать, что именно одна из таких компаний ворвалась в дом старой женщины и украла ее глаз.
Больше того, о глазе шла дурная слава, и определенные личности, в доверие которым Эдвард Блум втерся, не таясь и с особым трепетом обсуждали глаз.
Говорили, что глаз обладает волшебной силой.
Говорили, что он может видеть.
Говорили, что человека ждет несчастье, если он посмотрит прямо в глаз, потому что тогда старуха узнает о тебе и темной ночью выследит, поймает и сделает с ним такое, что и словом не сказать.
Глаз никогда не оставался в одном месте дважды. Каждый вечер его передавали другому парню в совершение обряда посвящения. Он был обязан бережно обращаться с глазом, чтобы ни в коем случае не повредить. Получивший его должен был не спать всю ночь; разрешалось только смотреть на глаз. Глаз был завернут в мягкую красную ткань и хранился в маленькой деревянной шкатулке. Утром глаз возвращался главарю, который расспрашивал парня, проверял глаз и пускал его дальше по кругу.
За короткое время Эдвард разузнал обо всем этом.
Он понял: чтобы вернуть глаз старой женщине, ему надо стать одним из тех, которые получают глаз на ночь. И он стал искать способ, как осуществить свой план.
Своему новому приятелю Эдвард выразил желание присоединиться к этой компании, и тот, недолго поколебавшись, велел ему той же ночью прийти одному к амбару, который находился в нескольких милях от города.
Амбар был черным и полуразвалившимся от старости, ворота леденяще заскрипели, когда Эдвард толкнул их. На стенах горели свечи в подсвечниках из черной жести, по углам шевелились тени.
В глубине амбара полукругом сидело шесть фигур в темно-коричневых балахонах с капюшонами, пошитых, похоже, из джутовых мешков.
На столике перед ними лежал глаз старой женщины. Лежал на красной шелковой подушечке, как какой-нибудь драгоценный камень.
Эдвард бесстрашно подошел к ним.
— Приветствуем тебя, — сказал тот, что в центре, видимо главный среди них. — Присаживайся.
— Но ни в коем случае, — довольно зловеще добавил другой, — не смотри на глаз.
Мой отец опустился на землю и молча ждал, что будет дальше. На глаз он не смотрел. Главный снова заговорил.
— Что тебя привело к нам? — спросил он.
— Глаз, — ответил Эдвард. — Я пришел за глазом.
— Глаз позвал тебя прийти сюда, разве не так? Разве ты не слышал, как глаз зовет тебя?
— Слышал, — сказал мой отец. — Я слышал, как глаз зовет меня.
— Тогда возьми его, и положи в шкатулку, и сиди перед ним всю ночь, а утром принеси обратно сюда. Если с глазом что-то случится…
Тут он смолк, и другие что-то мрачно забормотали.
— Если с глазом что-то случится, — продолжал главный, — если потеряешь его или разобьешь…
Он снова смолк и пристально посмотрел на моего отца сквозь прорези капюшона.
— То заплатишь собственным глазом, — закончил он.
Шесть капюшонов кивнули как один.
— Понимаю, — сказал мой отец, который до этого не знал о таком очень суровом условии.
— Тогда до завтра, — сказал главный.
— Да, — ответил мой отец. — До завтра.
Выйдя из амбара в темень деревенской ночи, Эдвард в глубокой задумчивости направился к светившимся вдалеке огням Оберна. Он не знал, что ему делать. Неужели они и правда заберут его глаз, если он не сумеет вернуть им завтра стеклянный? В странную историю он попал. Шагая к городу, он, сжимал шкатулку в правой руке, а левой касался своих глаз, одного и другого, раздумывая, каково это — остаться с одним глазом и что, если он сдержит клятву, данную старой женщине, его подстерегает такая опасность. Он понимал, что, возможно, те люди в капюшонах не собирались лишать его глаза, но все же, если есть хотя бы десять шансов против ста или даже один, что это случится, стоит ли так рисковать? В конце концов, его глаз настоящий, живой, а глаз старой женщины всего лишь стеклянный…
Он просидел возле глаза всю ночь, глядя в его блестящую голубизну, пока утреннее солнце не поднялось над макушками деревьев, показавшись ему сияющим глазом какого-то забытого бога.
При дневном свете амбар выглядел иначе — не таким страшным. Обыкновенный старый амбар с дырявыми стенами — дыры заткнуты клоками сена, вылезающими наружу, как перо из подушки. Рядом коровы, щиплющие траву, старая гнедая лошадь, привязанная к изгороди. Эдвард нерешительно остановился у ворот амбара, потом толкнул их, на сей раз они заскрипели не так жутко.
— Ты опоздал, — раздался голос.
Эдвард посмотрел в глубь амбара, но не увидел никаких фигур в капюшонах — только шестерых студентов колледжа, приблизительно его возраста и похоже одетых: мокасины, штаны цвета хаки, легкие голубые хлопчатые рубашки.
— Ты опоздал, — прозвучало снова, и Эдвард узнал вчерашний голос. Это был голос сидевшего в середине, главного. Эдвард долгим взглядом посмотрел на него.
— Извини, — сказал Эдвард. — Нужно было навестить кое-кого.
— Где глаз? — спросил главный.
— Здесь, — ответил Эдвард.
— Тогда давай его сюда.
Эдвард протянул главному шкатулку, и тот, когда остальные сгрудились вокруг него, открыл ее.
Они заглянули внутрь и надолго замерли, потом все разом повернулись к Эдварду.
— Его тут нет, — сказал главный, понизив голос чуть ли не до шепота, его лицо побагровело от ярости. — Глаза тут нет! — завопил он.
Все одновременно бросились к нему, но тут Эдвард поднял руки и крикнул:
— Я сказал, что глаз здесь. Но не говорил, что он в шкатулке.
Все шестеро замерли на месте, испугавшись, что глаз где-то у моего отца, и если они станут его бить, то могут заодно повредить и спрятанный глаз.
— Отдай его! — крикнул главный. — Не имеешь права! Этот глаз принадлежит нам.
— Разве?
В этот момент ворота амбара, тихо скрипнув, приоткрылись, и все, обернувшись, увидели старую женщину — глаз вновь на своем месте, — направляющуюся к ним. Шестерка парней уставилась на нее, ничего не понимая.
— Что… — пробормотал один, поворачиваясь к остальным. — Кто…
— Я же говорил, — сказал мой отец, — что глаз здесь.
И когда старая женщина подошла ближе, они увидели, что и правда глаз здесь, только не в шкатулке, а на своем месте, в глазнице старой женщины. И хотя они с радостью бы убежали, но не могли двинуться с места. И хотя они с радостью бы отвернулись, но не могли этого сделать, потому что она смотрела на них, на каждого, и каждый как зачарованный смотрел в ее глаз и, как говорили, каждый из них увидел в нем свое будущее. И один закричал оттого, что в нем увидел, другой заплакал, а третий просто недоуменно посмотрел в глаз, потом повернулся к моему отцу и ошарашенно уставился на него, словно видел его в первый раз.
Наконец она отвела взгляд, и они гурьбой бросились из амбара на утренний свет.
Так началось короткое пребывание Эдварда в Оберне, и с тех пор редко кто когда досаждал ему, потому что считалось, что он находится под защитой старой женщины и ее всевидящего глаза. Он начал посещать занятия в колледже и учился на «отлично». У него была прекрасная память. Он помнил все, что читал, все, что видел. И он запомнил лицо главного из тех, что были в тот день в амбаре, а главный запомнил лицо Эдварда.
Это было лицо человека, за которого моя мать едва не вышла замуж.
Смерть моего отца. Дубль 2
Вот как это происходит. Старый доктор Беннет, наш семейный доктор, появляется из комнаты для гостей и тихо прикрывает за собой дверь. Он старее старого и похож на серединку яблока, долго пролежавшую на солнце. Он присутствовал при моем рождении и уже тогда был стар. Мы с матерью сидим в гостиной и ждем его приговора. Вынув стетоскоп из ушей, он смотрит на нас.
— Я бессилен что-либо сделать, — говорит он. — Очень сожалею. Если хотите проститься с Эдвардом или что-нибудь сказать ему, сейчас, пожалуй, самое… — Он что-то неслышно бормочет.
Мы ожидали чего-то подобного, такого окончательного приговора. Мы с ней вздыхаем, испытывая одновременно скорбь и облегчение, чувствуя, как тело расслабляется, и обмениваемся одинаковым взглядом, тем единственным в жизни взглядом. Я слегка поражен тем, что этот день наконец пришел, поскольку, хотя доктор Беннет около года назад давал ему год жизни, он умирал так долго, что мне стало казаться, что это будет продолжаться вечно.
— Наверно, я должна зайти первой, — говорит мать. Вид у нее разбитый и измученный, улыбка безжизненная и какая-то спокойная. — Если не возражаешь.
— Нет, — говорю я. — Иди ты, а потом…
— Если что-нибудь…
— Хорошо. Просто дай знать.
Она вздыхает, встает и заходит, как лунатик, к нему, оставляя дверь приоткрытой. Доктор Беннет, чуть сгорбившись, словно его кости размягчились к старости, с безучастным видом стоит посредине гостиной в мрачном изумлении перед силами жизни и смерти. Через несколько минут мать возвращается, вытирает слезы на щеках и обнимает доктора Беннета. Думаю, она знает его дольше, чем я. Она тоже в годах, но по сравнению с ним кажется вечно молодой. Она выглядит молодой женщиной, которой предстоит стать вдовой.
— Уильям, — говорит она.
И вот я вхожу. В комнате стоит полумрак, полутьма дневного сна, хотя видно, как сквозь шторы снаружи пытается пробиться яркий свет. В этой комнате обычно ночевали мои друзья, пока мы не закончили школу и все такое, а теперь в ней умирает, почти умер, мой отец. Он встречает мое появление улыбкой. Перед смертью взгляд у него стал таким, какой иногда появляется у людей, находящихся при смерти, счастливый и печальный, усталый и одухотворенный, все вместе. Когда умирает главный герой, он до самого конца остается бодр духом, давая слабеющим голосом последние наставления семье, выказывая фальшивый оптимизм относительно своей смертельной болезни и обычно вызывая у людей слезы тем, что так прекрасно держится. Но у моего отца все иначе. Он не старается бодриться и не питает ложных надежд. Больше того, он любит повторять: «Почему я еще жив? Я давным-давно должен был умереть».
Он и выглядит соответствующе. Его тело, тело еще не старого человека, выглядит так, словно его только что извлекли из земли и оживили только затем, чтобы снова похоронить, и хотя он никогда не мог похвастать густой шевелюрой — причесываясь, он проявлял чудеса мастерства, — те немногие волосы, что у него были, окончательно выпали, а его кожа до того неестественно белая, что, когда я гляжу на него, мне приходит в голову слово оледенелый.
Мой отец оледенел.
— Знаешь, — говорит он мне в тот день. — Знаешь, чего бы мне хотелось?
— Чего, папа?
— Стакан воды, — отвечает он. — Стакан воды — это то, что мне сейчас надо.
— Будет сделано, — говорю я и приношу ему стакан воды, который он дрожащей рукой подносит к губам, вода тонкой струйкой течет по подбородку, и он глядит на меня такими глазами, словно хочет сказать, что мог бы жить еще долго — или во всяком случае дольше, чем ему осталось, — без того, чтобы заставлять меня видеть, как вода течет у него по подбородку.
— Виноват, — извиняется он.
— Не волнуйся, — говорю я. — Не так уж много ты и пролил.
— И не собираюсь волноваться, — отвечает он, бросая на меня страдальческий взгляд.
— Ладно, извинения приняты, — говорю я. — Но знаешь, ты вообще геройски перенес все это. Мы с мамой по-настоящему гордимся тобой.
На это он ничего не отвечает, потому что, хотя он и умирает, он остается моим отцом и ему не по душе, когда с ним говорят как со школьником. В прошедшем году мы поменялись местами: я стал отцом, а он — болезненным сыном, которого я хвалю за то, как он держится в его тяжелейшем положении.
— Да, — говорит он слабым голосом, словно что-то пришло ему в голову. — О чем это мы только что говорили?
— О воде, — подсказываю я, и он кивает, вспоминая, и делает еще глоточек.
Потом он улыбается.
— Что тебя развеселило? — интересуюсь я.
— Я просто подумал, — говорит он, — что меня вынесут из этой комнаты как раз к приезду гостей.
Он смеется, точней, издает звуки, означающие в эти дни смех, то есть натужный хрип. Это было его решение, принятое некоторое время назад: перебраться в комнату для гостей. Хотя он хотел умереть дома, чтобы мы были с ним, он не желал умирать в спальне, которую делил с матерью последние несколько десятилетий, поскольку чувствовал, что впоследствии это будет действовать на нее угнетающе. Умереть и освободить комнату к моменту приезда на его похороны родственников, живущих за городом, — эту шутку он частенько повторял в последние недели и всякий раз, словно только что придумал ее. Думаю, что так оно и есть. Он всегда говорит это с таким удовольствием, что я не могу не улыбнуться его стараниям продолжать острить.
Мы замолкаем, не зная, о чем еще говорить, с улыбками, застывшими на лицах, как два идиота. И что тут скажешь, в чем еще нужно искать примирение в последние минуты последнего дня, который пройдет разделительной чертою между до и после в твоей жизни, дня, который все изменит для вас обоих, живущего и умершего? Десять минут четвертого. За окном — лето. Этим утром я задумал пойти вечером в кино с приятелем, который приехал домой из колледжа на каникулы. Мать собралась приготовить на обед баклажанную запеканку. Она уже разложила на кухонном столе продукты, потребные для этого. Перед тем, как доктор Беннет вышел от отца со своей новостью, я было решил пойти искупаться в бассейне за домом, до последнего времени отец практически жил в нем, плавание было единственной физической нагрузкой, на которую он был способен. Бассейн как раз под окном комнаты для гостей. Мать думала, что я, плещась в нем, иногда бужу отца, но он любит слушать, как я ныряю. Говорит, что, слыша плеск воды, он как будто ощущает кожей ее свежесть.
Идиотская улыбка постепенно сползает с наших лиц, и мы смотрим друг на друга, не скрывая своих чувств.
— Эй, — говорит мой отец, — я буду скучать по тебе.
— А я по тебе.
— Правда?
— Конечно, папа. Я-то как раз…
— Стоп! — обрывает он меня. — Получается, что ты-то как раз и будешь скучать.
— Ты, — слова помимо моей воли рвутся наружу, — ты веришь?…
Я смолкаю. В моей семье существует молчаливый уговор не заводить с моим отцом разговор о религии или политике, стараться этого избегать. Когда затрагивается тема религии, он вообще умолкает, когда речь заходит о политике — его невозможно остановить. Впрочем, с ним трудно говорить о большинстве вещей. Я имею в виду суть вещей, вещей важных, имеющих значение. Так или иначе, ему это просто-напросто сложно, и, может, он немного боится попасть впросак, что неприятно для этого очень умного человека, который забыл больше из географии, математики и истории, чем я усвоил за свою учебу (он знал столицы всех пятидесяти штатов и докуда можно долететь, если отправиться из Нью-Йорка прямо на юг). Так что я тщательно слежу за тем, что собираюсь сказать. Но порой у меня вылетает какое-нибудь неосторожное слово.
— Верю во что? — спрашивает он, и его небольшие голубые глаза впиваются в меня.
— В Царство Небесное, — отвечаю я.
— Верю ли я в Царство Небесное?
— И в Бога, и все такое прочее, — говорю я, потому что не знаю. Я не знаю, верит ли он в Бога, в жизнь после смерти, в возможность для всех нас вернуться кем-то или чем-то еще. Я не знаю и того, верит он в ад, или в ангелов, или в рай, или в лох-несское чудовище. Когда он был здоров, мы с ним никогда не говорили о подобных вещах, а после того, как он слег, только о его болезни да спортивных командах, за игрой которых он больше не мог следить, потому что засыпал в ту же секунду, когда включали телевизор, и о том, как справиться с болью. И я ожидаю, что и сейчас он проигнорирует мой вопрос. Но неожиданно его глаза становятся шире, взгляд как бы проясняется, словно его захватила перспектива того, что его ожидает после смерти, — нечто иное, чем пустая комната для гостей. Словно подобная мысль впервые пришла ему в голову.
— Что за вопрос, — говорит он, и голос его крепнет. — Не знаю, право, смогу ли выразить это словами. Но это напоминает мне — останови меня, если уже это слышал, — о дне, когда Иисус подменял святого Петра у ворот. В общем, стоит однажды Иисус на страже и видит, как к воротам приближается какой-то старик.
«Что ты сделал для того, чтобы попасть в Царство Небесное?» — спрашивает его Иисус.
И старик отвечает: «Увы, не слишком много. Я — простой плотник, проживший тихую жизнь. Единственное, что было замечательного в моей жизни, — это мой сын».
«Твой сын?» — с любопытством спрашивает Иисус.
«Да, это был прекрасный сын, — отвечает старик. — Его рожденье было совершенно необыкновенным, а позже он чудесным образом преобразился. А еще он стал известен на весь мир, и до сих пор многие люди любят его».
Христос смотрит на него и, крепко обняв, восклицает: «Отец, отец!»
И старик тоже стискивает его в объятиях и говорит: «Это ты, Пиноккио?»
Он хрипло смеется, а я улыбаюсь, качая головой.
— Я уже слышал эту историю.
— Надо было остановить меня, — говорит он, рассказ явно отнял у него много сил. — Сколько мне еще осталось сделать вздохов! Ты ведь не хочешь, чтобы я тратил их на старый анекдот?
— Не похоже, чтобы за последнее время ты узнал что-нибудь новенькое, — говорю я. — Но все равно этот — один из твоих лучших. Компиляция. «Собрание анекдотов Эдварда Блума». Они все очень смешные, папа, не волнуйся. Но ты не ответил на мой вопрос.
— Какой вопрос?
Я не знаю, смеяться мне или плакать. Всю свою жизнь он прожил как черепаха, внутри непроницаемого панциря: нет абсолютно никакой возможности добраться до его чувствительного нутра. Я надеюсь, что в эти последние мгновения жизни он откроет мне уязвимое и нежное подбрюшье своей души, но этого не происходит, увы, и я глупец, что рассчитывал на это. Так повелось с самого начала: всякий раз, как мы подходим к важному, серьезному или щекотливому вопросу, он отделывается шуткой, анекдотом. Никогда не скажет прямо: «А ты как думаешь, по-моему, в этом смысл жизни».
— Почему так происходит, как считаешь? — спрашиваю я вслух, словно он может слышать мои мысли.
И он, похоже, их слышит.
— Всегда было как-то не по себе с апломбом рассуждать о подобных вещах, — говорит он, беспокойно двигаясь под простынями. — Разве можно тут быть в чем-то уверенным? Доказательств никаких. Поэтому сегодня я думаю так, завтра иначе. А еще когда — ни так, ни эдак. Есть ли Бог? Иногда я действительно верю, что он есть, иногда — уже не очень уверен. В моем отнюдь не идеальном состоянии хорошая шутка кажется более подходящей. По крайней мере можно посмеяться.
— Что такое шутка? — возражаю я. — Минуту-другую смешно, и все. Потом остаешься ни с чем. Даже если ты каждый день меняешь свое мнение, я бы предпочел… мне бы хотелось, чтобы ты поделился со мной своими мыслями о некоторых из этих вещей. Даже твои сомнения все же лучше, чем постоянные шутки.
— Ты прав, — говорит он, тяжело откидываясь на подушки и глядя на потолок, словно не может поверить, что я выбрал такой момент, чтобы поставить ему подобную задачу. Это тяжкое бремя, и я вижу, как оно гнетет его, буквально выдавливая из него жизнь, и сам потрясен, что я это сделал, сказал такое.
— Все равно, — говорит он, — если я и поделился бы с тобой своими сомнениями — относительно Бога, и жизни, и смерти, то ты бы с этим и остался: с массой сомнений. А так, понимаешь, у тебя есть все эти прекрасные шутки.
— Они вовсе не такие уж прекрасные, — говорю я.
Жужжит кондиционер, и шторы расходятся внизу у пола. Солнце пробивается сквозь жалюзи, и в его лучах плавают пылинки. В комнате стоит легкий смрад, к которому, мне казалось, я уже привык, но нет, не привык. Меня всегда поташнивает от него, а теперь мне кажется, что запах становится сильней. Или это и впрямь так, или виной тому неудача моей попытки за последние секунды узнать о моем отце больше, чем смог узнать за всю предшествующую жизнь.
Его глаза закрыты, и я пугаюсь, сердце скачет у меня в груди, чувствую, надо, наверно, позвать мать, но только я собрался сделать шаг к двери, как он легко сжимает мою руку.
— Я был хорошим отцом, — говорит он.
Не столь уж неопровержимое утверждение повисает в воздухе, словно ждет, чтобы я подтвердил его. Я смотрю на него, смотрю на отца.
— Ты и теперь хороший отец, — говорю я. Спасибо. — Его веки едва заметно дрожат, будто он услышал то, что должен был услышать. А назначение его последних слов вот каково: это ключ к жизни после смерти. Не последние слова, а пароль, и как только они произнесены — врата отворяются пред тобой.
— И все-таки. Как насчет сегодня, папа?
— Что «насчет сегодня?» — полусонно спрашивает он.
— Бог, небо и прочее. Как думаешь: есть они или нет? Я понимаю, может быть, завтра ты будешь думать иначе. Но сегодня, сейчас, что ты думаешь? Я очень хочу знать, папа. Папа? — окликаю я его, потому что он как будто уплывает от меня в самый глубокий из снов. — Папа?
И он открывает глаза, обращая на меня их бледную детскую синеву, внезапно наливающуюся упорством, и говорит, говорит мне, его сыну, сидящему у его смертного ложа и ожидающему его последнего вздоха, он говорит:
— Это ты, Пиноккио?
Его первая великая любовь
Огромной радостью и несчастьем для моего отца было влюбиться в самую красивую женщину Оберна, а может, и всего штата Алабама, мисс Сандру Кей Темплтон.
Почему несчастьем? Потому что он был не один такой в Оберне, а может, и во всем штате Алабама, кто влюбился в нее. Он получил номер и занял место в конце очереди.
Ее красота уже была воспета в куплетах, которые сочинил один ее талантливый поклонник:
Ну и дальше в том же роде.
Чтобы завоевать ее сердце, устраивались дуэли, автомобильные гонки, молодые люди уходили в запой, устраивали кулачные бои, ее именем назвали по крайней мере одну собаку, а могли бы и больше.
Сандре вовсе не хотелось быть такой красивой. Она не жаждала, чтобы ее любило столько мужчин, — вполне достаточно было бы одного. Но что она могла поделать со своей красотой, которой восхищались все вокруг, и едва она отвечала отказом какому-то из поклонников, как на его месте тут же возникал другой, с цветами, песенками в честь ее красоты и готовностью сражаться за нее. Так что она была просто сама по себе, а ее поклонники — сами по себе и образовали очередь, настоящий клуб, наподобие братства питающих надежду или разбитых сердец.
Эдвард песенок не сочинял. Долгое время он вообще ничего не делал. Разве что заглядывался на нее, это, конечно, было. Не мог не любоваться ею, когда она шла мимо; стоило ей появиться, и его охватывало неизъяснимое волнение. Она как будто светилась изнутри, потому что, куда бы ни шла, она озаряла собой все вокруг.
Эдвард любил изредка ловить это сияние.
Его легендарные ноги
Эдвард был так резв, что не успевал он подумать, как оказывался в том месте, куда хотел попасть. Он не столько бежал, сколько летел, его ноги, казалось, не касаются земли, а движутся в воздухе. Он никогда никого не вызывал бежать с ним наперегонки, но его многие вызывали, и хотя он старался отговорить их, бывало, что насмешки и издевки какого-нибудь парня, бросавшего вызов, выводили его из себя. Дело неизменно кончалось тем, что он разувался — потому что никогда не бегал в обуви — и ждал, когда его самоуверенный противник приготовится. И тогда они начинали бег — или, вернее, заканчивали, потому что ни о каком состязании не приходилось и говорить. Прежде чем парень, которому так не терпелось поспорить в быстроте с моим отцом, успевал сделать хотя бы шаг, смутная фигура того, кого он надеялся перегнать, уже маячила на финише.
Он начинает действовать
Короче говоря, скоро ему стало мало только видеть ее. Хотелось подойти к ней, поболтать, прикоснуться.
Какое-то время он всюду следовал за ней по пятам. То есть на переменах в школе, в коридорах. Задевал, как бы случайно. В кафетерии касался ее руки. И всегда при этом говорил:
— Извини, это я нечаянно.
Он только о ней и думал, сходил по ней с ума. Однажды он смотрел, как она чинит карандаш. На ее нежные ручки, которые держали длинную желтую палочку карандаша. Потом подобрал с полу стружку и долго тер между большим и указательным пальцами.
Как-то он заметил, что она болтает с парнем, показавшимся ему знакомым. Прежде он никогда не видал, чтобы она кому-нибудь так улыбалась. Он несколько минут наблюдал, как они болтают и смеются, а потом сердце у него упало, когда у него на глазах она оглянулась, нет ли кого поблизости, и медленно подставила губы для поцелуя. Увидев это, он едва не решил больше не думать о ней, но тут вспомнил это лицо. Парень из амбара! Тот самый, который украл глаз у старой женщины. Звали его Дон Прайс.
Мой отец был уверен, что если он справился с ним один раз, то справится и в другой.
Такой случай представился на следующий же день. Его тело готово было взорваться от желания. Крови было тесно в жилах. Требовалось как-то снять напряжение. В школьном коридоре он увидел Сандру.
— Сандра, — сказал он, хотя момент был не слишком подходящий — он остановил ее, как раз когда входила в женский туалет. — Ты не знаешь меня. Может, никогда раньше и не видела. Но я хотел предложить, то есть если тебя это заинтересует, ну так вот, мы могли бы сходить куда-нибудь вместе в эту пятницу. Если хочешь.
Неудивительно, что она мгновенно почувствовала то же, что и он: тело было готово взорваться, крови стало тесно в жилах, и нужно было снять напряжение.
— Я не против, — ответила она, не особо задумываясь. — Пятница меня устраивает. — И так же быстро скрылась за дверью туалета.
Она согласилась, несмотря на то что в этот же день утром Дон Прайс предложил ей выйти за него замуж. Тогда в первый момент она тоже едва не сказала «да», но словно некий голос велел ей подождать несколько дней и подумать, как будто до нее долетел шепот надежды, посланный моим отцом.
Схватка
Эдвард Блум не был драчуном. Он слишком ценил радости нормальной человеческой беседы, чтобы прибегать к такому примитивному, а частенько и болезненному способу улаживания споров. Но он умел защитить себя, когда его вынуждали, как в тот вечер, когда он повез Сандру Кей Темплтон кататься в машине по шоссе на Пайни-Маунтин.
С их первого свидания прошло три недели, и за это время между Эдвардом и Сандрой было сказано много слов. Они вместе ходили в кино, распили пару бутылочек пива, он даже рассказал ей одну-другую смешную историю. Просто оставаясь таким, каким он был, — не больше, но и не меньше, — он завоевал сердце моей матери. Дело приобретало серьезный оборот: когда он касался ее руки, ее лицо вспыхивало. Она начинала фразу и замолкала, забывая, о чем хотела сказать. Она не влюбилась в моего отца, пока еще. Но видела, что это может произойти.
Наверно, ей нужно было еще как следует подумать.
Эта ночь повлияет на ее думание самым решительным образом. Ночь Автомобильной Прогулки. Они просто ехали вперед и вперед и наконец оказались в конце какой-то проселочной дороги, одни среди темного леса, и, когда их обступила тишина, он качнулся к ней, она — незаметно к нему, и они слились в поцелуе. И тут мой отец увидел в зеркальце заднего вида свет фар, поначалу далекий, но быстро приближавшийся к ним по узкой и извилистой дороге на Пайни-Маунтин. Эдвард не знал, что это Дон Прайс. Он знал только, что это машина, которая приближается к ним на опасной скорости, и потому он поехал помедленней, соображая, что предпринять в случае каких-то неприятностей.
Вдруг неизвестная машина оказалась прямо позади них, ее фары ослепительно горели в зеркальце. Эдвард опустил стекло и жестом показал, что пропускает ее вперед, но машина ударила его в заднее крыло. Сандра охнула, и мой отец, успокаивая ее, коснулся ее ноги.
— Не волнуйся, — сказал он. — Наверно, просто какой-нибудь подвыпивший парень.
— Нет, это Дон.
И мой отец понял. Без дальнейших объяснений ситуация стала ясной: так произошло бы сто лет назад в каком-нибудь городке на Диком Западе и Дон встречал бы его посреди пыльной улицы, держа руку на кобуре. Это был вызов.
Раздался новый удар по заднему крылу, и мой отец вдавил педаль газа. Эдвард должен был доказать, что если Дон Прайс хочет испытать его бесстрашие, то он может быть бесстрашным, и, будучи бесстрашным, он на полной скорости прошел следующий поворот, оставив Дона Прайса далеко позади. Однако тот в несколько секунд снова нагнал Эдварда, но уже не бил сзади, а несся сбоку рядом; обе машины заняли всю ширину дороги, на полной скорости преодолевая холмы и крутые повороты, которые заставили бы более робкие натуры немедленно остановиться и прекратить гонку. Дон Прайс прижимал свою машину к машине отца, стараясь столкнуть его с дороги, отец отвечал тем же, и так они мчались, со скрежетом задевая друг друга дверцами. Мой отец знал, что может нестись по этой дороге столько, сколько будет необходимо, но не был уверен, способен ли на это Дон Прайс, чье лицо он мельком увидел, когда их машины летели бок о бок вперед, сотрясаясь от взаимных ударов. Парень явно был пьян.
Отец до упора выжал педаль газа, вырвался вперед и резко вывернул руль, перегородив дорогу. Дон Прайс едва успел затормозить, остановившись в футе от него, оба мгновенно выскочили из машин и стали друг против друга.
— Она моя, — сказал Дон Прайс.
Он был такой же высокий, как Эдвард, и даже шире его в плечах. Его отец владел компанией, занимавшейся автоперевозками, и Дон работал у него в летние каникулы, грузя и разгружая тягачи с прицепами, что было видно по его мускулатуре.
— Не знал, что она чья-то собственность, — ответил мой отец.
— Теперь будешь знать, деревенщина, — сказал Дон.
Он посмотрел на нее, по-прежнему сидевшую в машине, и позвал:
— Сандра!
Но Сандра не двинулась с места. Просто сидела и думала.
— Мы собираемся пожениться, — сказал Дон моему отцу. — Я попросил ее выйти за меня, деревенщина. Или она тебе этого не говорила?
— Вопрос в том, что она тебе ответила.
Дон Прайс промолчал, лишь засопел и прищурился, как собирающийся наброситься бык.
— Да я могу тебя на кусочки разорвать, как бумажную куклу, — наконец пригрозил он.
— Вроде бы не за что, — ответил мой отец.
— Будет за что, — сказал Дон Прайс. — Если только Сэнди не пересядет в мою машину. Немедленно.
— Она не собирается пересаживаться, Дон.
Дон Прайс рассмеялся:
— Кто ты, к черту, такой, чтобы отвечать за нее?
— Ты пьян, Дон, — сказал мой отец. — Я отвезу ее с горы вниз, а дальше она сможет ехать с тобой, если захочет. Ну как, договорились?
Но Дон Прайс только еще громче засмеялся. Хотя он и помнил, что увидел в стеклянном глазу старой женщины несколько недель назад, он все равно смеялся.
— Спасибо за предложение, деревенщина, — сказал он. — Спасибо, но так не пойдет.
Дон Прайс бросился на моего отца, как бешеный бык, но мой отец был еще сильней, и какое-то время они дрались, не жалея друг друга. Их лица были в крови, которая текла из разбитых носов и губ, но в конце концов Дон Прайс рухнул наземь и не поднимался, а мой отец с победоносным видом стоял над ним. Затем он втащил обмякшее и болящее тело поверженного соперника на заднее сиденье своей машины и повез Дона Прайса и мою мать обратно в город. Он довез ее до дома и остановился во тьме глубокой ночи, а на заднем сиденье продолжал тихо стонать Дон Прайс.
Отец и мать долго сидели, не говоря ни слова. Тишина стояла такая, что они могли слышать мысли друг друга. Потом мой отец сказал:
— Он просил твоей руки, Сэнди?
— Да, — ответила моя мать. — Просил.
— И что же ты ему ответила?
— Я ответила, что мне надо подумать.
— И?
— И, подумав, я решила, — сказала она, беря в свои ладони окровавленную руку моего отца.
И они слились в поцелуе.
Знакомство с ее родителями
Как рассказывал мой отец, у ее отца не было ни единого волоска на всем теле. Он имел ферму за городом, где жил со своей женой, к тому времени прикованной к постели уже десять лет и не способной говорить и есть самостоятельно; он ездил на огромной лошади, огромной, как все лошади в тех местах, вороной, с белыми отметинами на всех четырех ногах чуть выше копыт.
Он обожал мою мать, свою дочь. Когда она была маленькой, он рассказывал ей невероятные истории, в которые теперь, страдая на старости лет забывчивостью, похоже, начал верить сам.
Он думал, что это она повесила на небо луну. Время от времени он действительно верил в это. Думал, что раньше луны там не было, но она ее там повесила. Он верил, что звезды — это желания и в один прекрасный день они сбудутся. Те, которые загадала она, его дочь. Он говорил ей это, чтобы она чувствовала себя счастливой, когда была маленькой, и теперь, состарившись, сам поверил в это, потому что это делало его счастливым и еще потому, что был таким старым.
Его не позвали на бракосочетание. А почему, очень просто: никого не позвали. Бракосочетание было больше похоже на судебную процедуру в Обернском городском суде, с незнакомыми людьми в качестве свидетелей и дряхлым судьей вместо священника, слабым голосом объявившим, при этом у него в уголках губ проступили белые пузырьки слюны, что отныне и впредь они муж и жена, покуда смерть не разлучит их и так далее. Вот так это и свершилось.
Предстояло поставить в известность мистера Темплтона — задача непростая, но мой отец хотел все же попробовать это сделать. Он подъехал к воротам фермы, на которых висела доска с надписью: «НЕ СИГНАЛИТЬ», и так совпало, что в этот момент отец его молодой жены оказался поблизости, верхом на лошади, невероятно огромной, и он подозрительно смотрел на длинный автомобиль, из которого ему застенчиво махала дочь. Он открыл ворота, вытащив толстую жердь из шестидюймовой прорези в столбе, и мой отец медленно, чтобы не напугать лошадь, въехал во двор.
Он направил машину к дому, а мистер Темплтон следовал позади на своей лошади. Мои отец и мать были спокойны. Он посмотрел на нее и улыбнулся.
— Тебе не о чем беспокоиться, — сказал он.
— А кто беспокоится? — засмеялась она в ответ.
Хотя оба чувствовали себя не слишком уверенно.
— Папа, — сказала она, едва войдя в дом, — я хочу познакомить тебя с Эдвардом Блумом. Эдвард, Сет Темплтон. Теперь пожмите друг другу руку.
Что они и сделали.
Мистер Темплтон посмотрел на дочь и спросил:
— Почему я должен это делать?
— Делать что?
— Пожимать ему руку?
— Потому что он мой муж, — ответила она. — Мы поженились, папочка.
Он еще раз потряс Эдварду руку, пристально глядя ему в глаза. Потом рассмеялся — оглушительно, словно шутиха взорвалась.
— Поженились! — сказал он и направился в комнаты. Молодожены последовали за ним.
Он принес им из холодильника пару баночек кока-колы, и они уселись в гостиной, где мистер Темплтон набил трубку с черенком из слоновой кости дешевым табаком и закурил, отчего вся комната сразу наполнилась дымом, который тонким слоем повис прямо над их головами.
— Так о чем идет речь? — спросил он, выпуская дым и кашляя.
Вопрос был из тех, на которые не просто ответить, поэтому они промолчали. Только улыбались. Эдвард досмотрел на его гладкую, как яйцо, голову, потом ему в глаза и сказал:
— Я люблю вашу дочь, мистер Темплтон. И буду любить ее и заботиться о ней, покуда живу.
Мой отец долго размышлял над тем, что ему сказать, и наконец нашел эти простые, но проникновенные слова. Он решил, что они выражают все, что должно быть сказано в такой момент, и надеялся, что мистер Темплтон останется доволен.
— Так, говорите, Блум? — покосился мистер Темплтон на Эдварда. — Знавал я когда-то человека с такой фамилией. Вместе служили. В восемнадцатом году, в девятнадцатом, в кавалерии. Квартировали в Йеллоустоне. В те времена водились бандиты. Вы, может, этого не представляете. В основном мексиканцы. Конокрады и просто обычные воры. Мы гонялись за ними, Блум и я. Вместе с другими, конечно. С Роджерсоном, Мейберри, Стимсоном. До самой Мексики и через границу. Да. Такая была наша служба. Преследовали их до мексиканской границы и дальше, мистер Блум. Аж в Мексике.
Мой отец кивнул, улыбнулся, глотнул кока-колы. Мистер Темплтон не расслышал, что он сказал.
— Славная у вас лошадь, — повторил мой отец.
— Так вы знаете толк в лошадях? — спросил мистер Темплтон и снова засмеялся — отрывисто и хмуро. — Ты нашла человека, который знает толк в лошадях, да, дорогая?
— Думаю, что да, — ответила она.
— Это хорошо, — кивнул он. — Это очень хорошо.
Вот так прошел весь день. Мистер Темплтон рассказывал истории из своего кавалерийского прошлого, хохотал, а затем разговор свернул на религию и Иисуса — любимую тему мистера Темплтона, убежденного в особенной подлости распятия и рассуждавшего о Понтии Пилате и Иисусе так, будто они были товарищами по общежитию в Оксфорде. Если так на это смотреть, то Пилат действительно сыграл злую шутку с Иисусом. Во все остальное время о женитьбе больше не поминали — мистер Темплтон, по правде сказать, забыл, зачем они вообще приехали, — и, когда стемнело, пришла пора прощаться.
Все трое встали, мужчины снова пожали друг другу руку, и они направились к дверям, задержавшись у закрытой двери в спальню. Сандра взглянула на своего отца, но тот покачал головой.
— Сегодня неважный день, — сказал он. — Лучше ее не беспокоить.
И они вышли из дому, моя мать и мой отец, на прощание махая старику в сгущавшихся сумерках, и он махал им в ответ и с детским восторгом показывал на звезды, высыпавшие на небе.
Он справляется с тремя задачами
Мои родители переехали в Бирмингем, штат Алабама, полные надежд, потому что это был огромный город. Слава о невероятной силе моего отца, его уме и упорстве достигла даже этих мест, и все же он был еще слишком молод и понимал, что придется немало потрудиться, прежде чем он добьется положения, которого достоин.
С первой задачей он справился, работая помощником ветеринара. На этой работе главной его обязанностью было чистить собачьи и кошачьи клетки. Каждое утро, когда он приходил, клетки были все загажены. Экскременты лежали на бумаге, которую он стелил накануне вечером перед уходом, но большая часть бывала размазана по стенкам, перепачканы были и сами животные. Каждое утро и вечер мой отец убирал эту гадость. Чистил клетки, пока они не начинали блестеть, а на полу можно было есть, такой он становился чистый — ни единого пятнышка. Но всего через несколько секунд клетки снова были грязные: псина мог глядеть тебе в глаза, пока ты закрывал его в только что вычищенной до блеска клетке, и одновременно гадить, — тут не выдержал бы и Сизиф.
Со второй задачей он справился, работая продавцом в отделе дамского белья одного универмага, расположенного в центре города и называвшегося «Смитс». То, что его направили в этот отдел, казалось жестокой шуткой, и действительно, он очень страдал от насмешек продавцов-мужчин из других отделов — особенно из отдела спортивной одежды. Но он держался стойко и в конце концов завоевал доверие женщин, которые регулярно захаживали в универмаг и, более того, стали отдавать предпочтение ему перед его коллегами продавщицами. Они ценили его тонкий вкус.
Но была одна дама, которая никак не желала признать в моем отце продавца. Звали ее Мюриел Рейнуотер. Всю свою жизнь она прожила в Бирмингеме, успела похоронить двух мужей, детей у нее не было, а денег имела столько, что до самой смерти не истратить. В то время ей было под восемьдесят и, прямо как дерево, она с каждым годом становилась толще в обхвате, пока не превратилась и настоящую глыбу; тем не менее она была особой кичливой. Не прилагая усилий к тому, чтобы похудеть, она, разумеется, желала выглядеть стройной и потому часто заходила в отдел дамского белья за корсетами последних моделей.
И вот каждый месяц миссис Рейнуотер шагала в универмаг, усаживалась в одно из огромных мягких кресел для покупательниц и, не говоря ни слова, кивала продавщице, и продавщица немедленно приносила ей наиновейшую модель корсета. Но она никогда не прибегала к услугам Эдварда Блума.
Так она выказывала свое откровенное презрение к нему. Но дело в том, что Эдвард тоже не особенно любил миссис Рейнуотер. И никто не любил — запах нафталинных шариков, исходящий от еe ног, ее волосы, похожие на горелую тряпку, ее толстые, подрагивавшие, как желе, руки, указывавшие на приглянувшуюся вещь. Но то, что она упорно не позволяла ему обслужить себя, сделало ее для Эдварда самой желанной клиенткой. Так что он поставил себе цель положить этому конец.
Он проследил, когда пришла новая партия корсетов, и спрятал ее в углу склада, где никто, кроме него, не смог бы ее найти. Миссис Рейнуотер появилась буквально на следующий день. Она расселась в мягком кресле и ткнула пальцем в одну из девушек-продавщиц.
— Ты! — скомандовала она. — Принеси мне корсет!
Девушка засуетилась, потому что боялась миссис Рейнуотер.
— Корсет? Но мы еще не получили новых!
— Как не получили! — воскликнула миссис Рейнуотер, и ее рот в изумлении широко открылся, как пещера. — Получили! Я знаю! Ты! — ткнула она пальцем в другую продавщицу, обвислая плоть руки колыхалась, как шар с водой. — Если она не может обслужить меня, тогда ты обслужи. Принеси мне корсет!
Девушка с плачем выбежала из отдела. Следующая продавщица упала на колени перед миссис Рейнуотер прежде, чем та произнесла хотя бы слово.
Наконец не в кого стало тыкать пальцем, кроме моего отца. Он стоял в дальнем углу демонстрационного зала, высокий и гордый. Она заметила его, но прикидывалась, будто не видит. Будто его там вообще нет.
— Может кто-нибудь помочь мне, пожалуйста? — завопила она. — Я хочу посмотреть новый корсет! Может кто-нибудь, пожалуйста…
Мой отец направился к ней через весь зал и остановился рядом.
— Что вы хотите? — спросила она.
— Я готов помочь вам, миссис Рейнуотер.
Миссис Рейнуотер помотала головой и наклонилась, словно собираясь плюнуть.
— Мужчинам не пристало работать в этом отделе! — закричала она.
— И тем не менее, — сказал он, — я перед вами. И один я знаю, где находятся новые корсеты. Один я могу помочь вам.
— Нет! — затрясла она головой, не веря своим ушам, по ее лошадиным глазам видно было, как она шокирована. — Этого не может быть… Я, я…
— Я буду счастлив услужить вам, миссис Рейнуотер. Более чем счастлив.
— Так и быть! — сказала она, в уголках губ у нее пузырилась слюна. — Принесите мне корсет!
И он принес его. Миссис Рейнуотер выбралась из кресла. Заковыляла в примерочную, где на табурете лежал корсет. Со стуком захлопнула за собой дверь. Моему отцу слышно было, как она бормочет, стонет, щелкает застежками и пыхтит, затягиваясь, и наконец, несколько минут спустя, она вышла из примерочной.
И это была уже не прежняя миссис Рейнуотер. Она совершенно преобразилась. Корсет сделал из нее, этой китоподобной женщины, сущую красотку. У нее появились пышный бюст и соблазнительный зад, вся фигура приобрела приятную округлость, она даже выглядела моложе, и добрее, и счастливей, чем прежде.
Она посмотрела на моего отца, как на бога.
— Наконец-то! — закричала она, но теперь ее голос звучал мелодично, певуче. — Такой корсет я ждала всю свою жизнь! И только подумать, что вы… вы… я была так несправедлива к вам! Сможете ли вы когда-нибудь простить меня? — Она повернулась к зеркалу и в восторге любовалась своей новой фигурой. — О да! — восклицала она. — О, боже мой, да! Именно так мне хотелось выглядеть. С такой фигурой я, чего доброго, найду себе нового мужа. Никогда не думала, что корсет может так все сразу изменить! Нет, вы только взгляните на меня! Только взгляните!
Она повернулась к моему отцу и одарила его восхищенным взглядом.
— Вы далеко пойдете, молодой человек.
Третьей и последней задачей, с которой справился Эдвард Блум, было усмирение дикой собаки. После того как его очень скоро повысили в должности, переведя из продавцов в менеджеры, мои мать и отец переехали в маленький белый домик через улицу от начальной школы. Они были лишь второй семьей, которая жила в этом доме. Построил его Амос Коллоуэй шестьдесят лет назад и со своей женой вырастил в нем своих детей, которые, став взрослыми, разъехались кто куда. Миссис Коллоуэй умерла много лет назад, а когда и мистер Коллоуэй отдал душу богу, все соседи полагали, что кто-нибудь из их замечательных детей вернется и станет жить в этом доме. Но никто из них не вернулся. У них была своя жизнь, они успели пустить корни в далеких больших и маленьких городах и, похоронив отца, тут же выставили дом на продажу, и Блумы были счастливы, приобретя его.
Но им не были рады — пусть бы жили где угодно, только не в доме Амоса Коллоуэя. Амос Коллоуэй так прочно ассоциировался со своим домом, что, когда он умер, некоторые из соседей предложили снести его и на его месте устроить детскую площадку. Раз его дети уехали, то, может быть, и дому здесь нечего делать. А то, что какая-то новая супружеская пара въехала и живет в его доме, это похоже… это похоже на то, как если б они пытались втиснуться в гроб Амоса Коллоуэя, куда только что положили его тело. Короче говоря, все не слишком благоволили к Блумам.
Мои мать и отец изо всех сил старались изменить такое к ним отношение. Мать узнала, что миссис Коллоуэй давала приют бездомным кошкам, и делала то же самое. Отец продолжал подстригать азалии перед домом, придавая им форму букв алфавита, чем Амос был знаменит среди местных жителей. Все напрасно. По выходным мать с отцом работали на участке, как их соседи, но все смотрели сквозь них, словно они были невидимками. И в каком-то смысле так оно и было. Чтобы пережить потерю Амоса Коллоуэя, соседи предпочли не замечать присутствия Блумов.
Так продолжалось до тех пор, пока в квартал не нагрянула стая одичавших собак. Кто знает, откуда они появились. Шесть или восемь, кто говорил, даже десять — они разбрасывали содержимое мусорных баков по ночам, рыли глубокие ямы в садах. Рвали бархатное покрывало сна своим ужасным воем и злобным рычанием. Соседских собак, которые осмеливались вступить с ними в схватку, утром находили мертвыми или они исчезали без следа. Детям не разрешали выходить из дому с наступлением темноты, а кое-кто из мужчин, направляясь куда-нибудь, брал с собой оружие. В конце концов город призвал к решительным действиям Государственное бюро по контролю за животными, и в одну кровавую ночь все одичавшие собаки были или перебиты, или переловлены.
То есть все, кроме одного пса. И это был самый свирепый, самый ужасный из стаи. Черный как смоль, он сливался с ночной тьмой. Говорили, что он двигался так бесшумно, что человек далее не подозревал, что пес рядом, — пока он не оскаливал сверкающих зубов. И этот пес был не просто дикий: он был сумасшедший, бешеный, и почти по-человечески мстителен. Одна семья за большие деньги обнесла свой участок изгородью, по которой был пропущен ток. Однажды ночью они посмотрели в окно и увидели, как пес подошел к изгороди. Удар тока оглушил его и отбросил назад, но не причинил особого вреда. После этого пес почти все время ходил вокруг их участка и в результате, по крайней мере в темное время дня, никто не мог ни прийти к ним, ни уйти от них. Получилось, что вместо ограждения от собаки они построили тюрьму для себя.
Мой отец мог бы в любое время усмирить пса и отвести обратно в холмы, откуда он появился: он умел обращаться с животными. И все же он этого не сделал. Почему? Потому что на сей раз не мог. Невзгоды новой жизни ослабили его. Это не было нежелание применить данную ему от рождения физическую и духовную силу; он, видно, просто потерял их.
И пес продолжал бы мародерствовать, если бы Судьба слегка не подтолкнула моего отца в спину, заставив однажды вечером выйти из дому прогуляться. На улицах Эджвуда, конечно, не было ни души: кто бы осмелился появиться на этих улицах после захода солнца, зная, а все это знали, что где-то поблизости бродит Адский пес (так его прозвали горожане)? Впрочем, мой отец мало думал о псе; он был не из тех, у кого вся жизнь изменилась из-за страха перед псиными клыками. Или, может, мой отец был посланцем некой высшей силы. Все, что известно наверняка, — это то, что однажды вечером он отправился погулять и спас жизнь ребенку.
Ребенок — трехлетняя Дженнифер Морган, которая жила всего через две двери от дома старого Коллоуэя, как его все еще называли, — вышел через кухонную дверь на улицу, пока родители чистили туалет в хозяйской спальне. Дженнифер так много слышала о псе, который одиноко бродит по улицам, что не могла справиться с желанием пойти и приласкать его. Когда мой отец увидел ее, она подходила к свирепому черному псу, протягивая ему кусок хлеба и зовя: «Ко мне, песик. На, песик».
Адский пес медленно приближался к ней, не веря в неожиданную удачу. Ему еще никогда не приходилось есть маленьких девочек, но он слышал, что они вкусны. Во всяком случае, вкуснее маленьких мальчиков и почти так же хороши, как цыплята.
Однако в этот момент вмешался Эдвард Блум, охладив восторг кровожадного гурмана. Он подхватил девочку на руки, а псу швырнул хлеб, на который тот даже не посмотрел и продолжал приближаться. В любое другое время легендарная власть моего отца над животными заставила бы пса покориться. Но огромный черный Адский пес был очень зол. Эдвард бесцеремонно помешал ему полакомиться такой вкусной едой.
Пес в ярости бросился на них. Одной рукой прижимая к себе девочку, Блум схватил пса за шею и с силой ударил оземь. Пес завизжал, но снова вскочил и ужасно зарычал. Он с ошеломительной быстротой мотал головой; на мгновение показалось даже, что у него две головы, рычащих, разинувших две розовые пасти со сверкающими зубами.
К этому времени Морганы обнаружили, что их дочка пропала, выскочили на улицу и помчались на жуткий собачий вой. Они подоспели как раз в тот момент, когда пес вторично бросился на отца и едва не впился ему в горло: отец ощутил его горячее влажное дыхание и брызги слюны на щеке. Промах оказался для пса роковым: взвившись в высоком прыжке, он открыл Эдварду Блуму свое брюхо, и мой отец вонзил руку сквозь густую шерсть и шкуру прямо в его тело и вырвал его тяжелое бьющееся сердце. Отец крепко прижимал к себе девочку, спрятавшуюся на его широкой груди, чтобы избавить ее от этого кровавого зрелища. Пес рухнул наземь, отец отшвырнул его сердце, протянул девочку родителям и продолжил свою вечернюю прогулку.
Так Эдвард Блум справился с тремя задачами.
Он идет на войну
Он не был ни генералом, ни капитаном, ни вообще офицером. Он не был ни врачом, ни поэтом, ни циником, ни влюбленным, ни радистом. Он был, конечно, матросом. По пенному морю он плавал с сотнями других таких же, как он, на неуязвимом корабле, который назывался «Нереида». Корабль был огромный, величиной с его родной городок — даже огромней. Людей на корабле было уж точно больше, чем жителей в Эшленде, хоть этот городок давно остался где-то очень-очень далеко. С тех пор как он покинул его, он совершил много великих дел, а теперь участвовал в самом великом деле из всех: защищал свободный мир. Он испытывал странное чувство, будто держит весь мир на своих плечах. Будто, хотя он был простым матросом, не имевшим даже медали и вообще никаких наград, исход всей борьбы каким-то образом зависел от его стойкости. Хорошо было чувствовать себя частью экипажа этого неуязвимого корабля, скользящего по винноцветному морю. Окруженный со всех сторон водой, смыкающейся, куда ни посмотришь, с небом, он задумывался об огромном мире, лежащем за морем, и о возможностях, которые он сулит ему. Окруженный со всех сторон водой, он чувствовал себя спокойно и в полной безопасности.
Так он чувствовал себя и когда в корабль попала торпеда. Корабль содрогнулся, словно налетел на мель, Эдвард пролетел по палубе и упал на четвереньки. Корабль начал крениться на борт.
— Все наверх! — раздалась по громкоговорителю команда капитана. — Надеть спасательные жилеты!
Мой отец — какая-то часть его существа была потрясена, а в голове пронеслось: «Не может этого быть!» — нашел свой жилет и закрепил его у себя на шее и вокруг пояса. Он с беспокойством огляделся, продолжая мысленно повторять: «Не может этого быть!» — но паники он не испытывал. И никто вокруг не думал паниковать. Все действовали поразительно хладнокровно, словно это была учебная тревога. Но «Нереида» заваливалась на левый борт.
Снова по громкоговорителю прозвучала команда капитана:
— Все наверх. Приготовиться покинуть корабль.
Но по-прежнему никакого смятения, никакой суеты. Те, кто был на верхней палубе, двигались к сходному трапу, ведущему на шканцы. Без толкотни, спокойно. Эдвард улыбнулся друзьям, они улыбнулись в ответ, хотя их корабль шел ко дну.
На нижней палубе ему открылась вся трагичность происходящего. Люди швыряли за борт надувные плоты, какие-то доски, спасательные жилеты, скамейки — все, за что можно было бы держаться в воде. Затем прыгали в море сами. Но корабль уже сильно накренился, и многие, не рассчитав расстояние, ударялись о борт и соскальзывали в море. Кругом люди бросались в воду. Сотни голов, как живые буйки, качались на волнах. Винт еще продолжал вращаться, и нескольких человек затянуло под его острые лопасти. Эдвард сел на край борта и достал последнее письмо от жены. «Ни дня не проходит, чтобы я не думала о тебе. Я даже молюсь — недавно начала. И чувствую себя лучше. Надеюсь, это как-то поможет». Он улыбнулся, сложил письмо и спрятал его обратно в карман. Потом разулся, снял носки, скатал их и засунул в башмаки. Рядом с ним матрос прыгнул вниз, но упал прямо на голову другому, и оба исчезли под водой. «Я не хочу прыгнуть на кого-нибудь», — подумал он и осмотрелся в поисках места, где никого бы не было. Но море внизу покрывал слой разлившегося мазута, а в мазут ему прыгать тоже не хотелось. Поэтому он долго смотрел, пока не заметил пятно чистой воды, и тогда заставил себя поверить, что сможет прыгнуть с борта корабля прямо в это пятно.
Чудесным образом это ему удалось. Он прыгнул на двадцать футов от борта тонущего корабля, попав точно в пятно чистой воды, погрузился на глубину и не всплывал. Он висел футах в тридцати, может, сорока от поверхности, как муха в янтаре. Ему было видно, как идет ко дну накренившийся корабль, а над ним сотни и сотни ног его товарищей моряков, как огромная многоножка, плывущая в море. Он думал, что теперь должен утонуть, но он не тонул. Больше того, он, кажется, дышал. Не ртом, но телом. Он сам не понял, как это у него получалось, но он дышал и решил, что уже умер.
Но в этот момент в стороне от корабля он увидел юную девушку, машущую ему. Он вспомнил ее, ту самую девушку из далекого прошлого, мимолетное видение на реке. Она с улыбкой манила его к себе, словно поджидала его. Он поплыл к ней. Действительно, она. Ставшая чуть старше, как и он. Но та же самая. Он плыл к ней, а она отплывала дальше, продолжая манить его к себе. Он не помнил, сколько времени находился под водой, плывя за ней, но дольше, чем может выдержать человек. Он плыл до тех пор, пока сквозь мазут, покрывавший море, не пробился луч солнца, и он посмотрел наверх и увидел, что мазута больше нет, а над ним разливается чистая синева. И он оглянулся, ища девушку — молодую женщину, поправил он себя, — но она тоже исчезла. И он вдруг почувствовал, что ему необходим глоток свежего воздуха. Он стал подниматься наверх к солнечному свету неожиданно быстрый и легкий, как воздушный пузырек, и, когда выскочил из воды в сияющий мир, увидел, как далеко он находится от остальных. А они двигались медленно, с трудом в слое мазута. Но, заметив Эдварда, машущего им, как девушка махала ему, они почувствовали, что их усилия не напрасны, у них даже появилась надежда, и те, кто видел моего отца, изо всех сил поплыли к нему. Сотни людей медленно плыли к нему сквозь слой мазута. Но некоторые оставались на месте. Даже некоторые из тех, кто видел его, не двигались. И этих людей «Нереида» увлекла за собой, когда наконец скрылась под волнами. Даже будучи далеко от корабля, Эдвард чувствовал, что корабль тщетно пытается утащить его с собой обратно на глубину. Но он не хотел возвращаться туда. Он хотел вернуться домой.
Смерть моего отца Дубль 3
Вот как это происходит. Старый доктор Беннет, наш семейный доктор, выходит из комнаты для гостей и тихо прикрывает за собой дверь. Старее старого, доктор Беннет всегда был частью нашей жизни, он даже принимал у моей матери роды, когда я появился на свет, а уже в то время наша местная медицинская комиссия предлагала ему поскорей уйти на заслуженный покой, — вот какой он старый. Сейчас доктор Беннет слишком стар почти для всего. Он не столько ходит, сколько волочит ноги, не столько дышит, сколько задыхается. И видимо, состояние умирающего пациента приводит его в полную растерянность. Выйдя из комнаты для гостей, в которой мой отец лежит последние несколько недель, доктор Беннет разражается бурными слезами и какое-то время не в силах сказать ни слова, его плечи сотрясаются от рыданий, морщинистые ладони прижаты к глазам.
Наконец, сделав над собой усилие, он поднимает глаза и шумно вздыхает. У него вид потерявшегося ребенка, и он говорит моей матери и мне, которые приготовились услышать самое худшее:
— Не знаю… я в самом деле не знаю, что происходит. Больше ничего не могу сказать. Но, похоже, он совсем плох. Лучше вам пойти и взглянуть самим.
Моя мать смотрит на меня взглядом, в котором я вижу полное смирение и готовность ко всему, что бы ни ждало ее за дверью, ко всему тяжелому или ужасному. Она готова. Она стискивает мою руку, потом встает и идет в комнату для гостей. Доктор Беннет падает в кресло моего отца и затихает как-то уж совсем безжизненно. На какое-то мгновение мне приходит мысль, что он умер. Что Смерть явилась в наш дом, не нашла моего отца и решила взамен взять жизнь доктора. Но нет. Смерть явилась за моим отцом. Доктор Беннет открывает глаза и глядит в дикую, далекую пустоту перед собой, и я могу предположить, о чем он сейчас думает: «Эдвард Блум! Кто бы мог подумать! Человек мира! Импортер-экспортер. Нам всем казалось, что ты будешь жить вечно. Хотя другие опадали, как листья с дерева, и если, думали мы, кто способен противостоять грядущим суровым зимам и цепляться за жизнь, так это ты». Как если б он был бог. Так мы стали смотреть на моего отца. Хотя мы видели его в боксерских трусах по утрам, а поздним вечером заснувшим перед телевизором, когда уже все передачи завершились, с открытым ртом, с бледно-голубым отсветом, как саваном, на лице, мы верили, что он божественного происхождения, бог, бог смеха, бог, который всякий разговор начинает неизменным: «Один человек…» Или, может, лишь частично бог, порождение смертной женщины и некой высшей сущности, сошедший в этот мир, чтобы превратить его в такое место, где люди больше бы смеялись и, приходя в хорошее настроение, больше покупали бы у него, чтобы им жилось лучше, и ему тоже, и таким образом всем стало бы жить лучше. Он смеется и богатеет, что может быть лучше? Он смеется даже над смертью, смеется над моими слезами. Я слышу его смех, когда моя мать, качая головой, выходит из его комнаты.
— Неисправимый человек, — говорит она. — Совершенно и окончательно неисправимый.
Одновременно она плачет, но это не слезы горя или скорби, те слезы давно выплаканы. Это слезы отчаяния, потому что она жива и одинока, когда мой отец умирает в комнате для гостей и умирает не так, как следует. Я вопросительно смотрю на нее: «Стоит мне заходить?» И она пожимает плечами, словно говоря: «Тебе решать, иди, если хочешь», — а сама как будто на грани смеха, словно из ее глаз не льются слезы, и едва владея лицом.
Доктор Беннет, кажется, уснул в кресле моего отца.
Я встаю, подхожу к полуоткрытой двери и заглядываю в комнату. Отец неподвижно сидит, обложенный подушками и глядя в никуда, словно кто нажал кнопку «пауза» и он ждет, когда кто-то или что-то включат его снова. Мое появление включает его. Увидев меня, он улыбается.
— Заходи, Уильям, — зовет он.
— Ну, ты, кажется, чувствуешь себя получше, — говорю я, усаживаясь в кресло, стоящее возле его кровати, кресло, в котором я сидел каждый день в течение последних нескольких недель. С него я наблюдаю за приближением моего отца к концу жизни.
— Да, получше, — кивает он и делает глубокий вдох, как бы подтверждая свои слова. — Думаю, что получше.
Но только сегодня, только в эти минуты. Теперь для моего отца нет возврата. Теперь для улучшения потребовалось бы нечто большее, чем просто чудо; потребовалось бы письменное прощение от самого Зевса в трех копиях и за его подписью, спущенное всем остальным богам, могущим претендовать на измученные тело и душу моего отца.
Он, я думаю, уже частично мертв, если такие вещи возможны; он настолько изменился, что невозможно было бы поверить, не видь я этого собственными глазами. Во-первых, на руках и ногах появились небольшие язвочки. Их лечили, но без особого успеха. В конце концов они как будто зажили сами по себе — однако же не так, как мы ожидали и надеялись. Его мягкая белая кожа, из которой росли длинные черные волосы, как шелковистые нити кукурузной метелки, его кожа стала жесткой и блестящей и, больше того, слегка отслаивалась, как вторая кожа. Смотреть на него было не так больно, пока ты не выходил из комнаты и не видел его фотографию на каминной полке. Снимок был сделан на пляже в Калифорнии шесть или семь лет назад, и, глядя на карточку, ты видел — человека. Теперь он не тот человек, что раньше. Он — что-то совершенно иное.
— Правда, неплохо, — говорит он, оглядывая себя. — Не сказал бы, что хорошо. Но лучше.
— Я просто хотел узнать, что так взволновало доктора Беннета, — объясняю я. — Он выглядел по-настоящему обеспокоенным, когда вышел от тебя.
Отец кивнул.
— Если честно, — говорит он доверительно, — думаю, это мои шуточки его довели.
— Твои шуточки?
— Да, анекдоты о врачах. Думаю, я переборщил. — И мой отец начал бесконечную серию анекдотов с длиннющей бородой:
Доктор, доктор! Мне осталось жить только пятьдесят девять секунд. — Подождите у телефона, через минуту освобожусь.
Доктор, доктор! Мне все время кажется, что я — будильник. — Да полноте, не трезвоньте.
Доктор, доктор! Моя сестра думает, что она в лифте. — Пригласите ее зайти. — Не могу. Она не останавливается на этом этаже.
Доктор, доктор! Мне чудится, что я козел. — Ну зачем же так упираться рогом.
Доктор, доктор! Мне кажется, я все время уменьшаюсь. — Да что вы как маленький!
— У меня их миллион, — хвастается отец.
— Ничуть не сомневаюсь.
— Каждый раз, как доктор Беннет заходит ко мне, я рассказываю ему парочку. Но… наверно, перестарался. Во всяком случае, думаю, ему не хватает чувства юмора. Как большинству врачей.
— Или, может, ему просто хочется, чтобы ты был с ним честным, — говорю я.
— Честным?
— Ну да, откровенным. Просто веди себя как нормальный человек и расскажи, что тебя беспокоит, где болит.
— А-а! — протягивает отец. — Понимаю. Как в том анекдоте: «Доктор, доктор! Я умираю, пожалуйста, вылечите меня». Так, да?
— Так. Примерно так, но…
— Но мы с тобой знаем, что моя болезнь неизлечима, — говорит он, его улыбка гаснет, тело глубже уходит в постель, и к нему возвращается прежняя слабость. — Это напоминает мне Великий Мор тридцать третьего года. Никто не знал ни что это такое, ни откуда пришло. Сегодня все прекрасно, а назавтра пошло косить — причем даже самых крепких людей в Эшленде. Умирали прямо за завтраком. Труп окоченевал так быстро, что человек застывал прямо сидя за столом на кухне, не донеся ложку ко рту. А следом еще дюжина за час. Меня почему-то не брало. Я смотрел, как соседи падают наземь, будто душа неожиданно и навсегда покидала их тело, будто…
— Папа! — повторил я несколько раз и, когда он наконец замолчал, взял его тонкую хрупкую руку. — Хватит, больше никаких историй. Хорошо? Никаких дурацких анекдотов.
— Они дурацкие?
— Дурацкие не в плохом, а в самом положительном смысле.
— Спасибо.
— Давай хотя бы немного поговорим как мужчина с мужчиной, — попросил я, — как отец с сыном. Хватит небылиц.
— Небылиц? Ты думаешь, я все сочиняю? Не хочешь верить в истории, которые мне, бывало, рассказывал мой отец? Думаешь, я рассказываю тебе истории; вот когда я был мальчишкой, я слушал истории так истории. Отец будил меня среди ночи, чтобы рассказать историю. Это было ужасно.
— Но даже сейчас ты сочиняешь, папа. Я не верю ни единому твоему слову.
— Необязательно верить мне, — говорит он слабым голосом. — Просто верь, что это правда. Это — как метафора.
— Забыл. Что такое метафора?
— Всесожжение Господу в основном. — Его лицо слегка искажается от боли.
— Вот видишь? — говорю я. — Даже когда ты серьезен, и то не можешь удержаться от шутки. Бесполезно с тобой говорить. Ты держишь меня на расстоянии. Как будто боишься меня или чего-то такого.
— Боюсь тебя? — говорит он, вращая глазами. — Я умираю и, по-твоему, боюсь тебя?
— Боишься сблизиться.
Он задумывается, мой старик, отводит глаза и смотрит куда-то вдаль, в свое прошлое.
— В какой-то степени тут, должно быть, виноват мой отец, — говорит он. — Мой отец был пьяница. Я не рассказывал тебе об этом, нет? Запойный, пил страшно. Иногда бывал слишком пьян, чтобы самому сходить за новой порцией. Какое-то время заставлял бегать меня, но потом я перестал, отказался. В конце концов он натаскал на это дело своего пса, Джина. Тот с пустой корзинкой в зубах бежал в кабак на углу, там корзинку загружали пивом, и пес тащил ее отцу. Чтобы расплатиться, отец засовывал псу под ошейник долларовую бумажку. Как-то раз доллара не нашлось, и он засунул под ошейник пятерку. Пес домой не вернулся. Хоть и пьяный, отец добрался до кабака и увидел, что его псина сидит у стойки и пьет двойной мартини. Отца это забрало. «Раньше ты никогда так не поступал», — говорит он Джину, а тот отвечает: «Так раньше ты всегда давал мне денег в обрез».
Отец смотрит на меня — и ни капли раскаяния.
— Просто не можешь без этого, да? — не выдерживаю я и скриплю зубами.
— Конечно могу, — отвечает он.
— Хорошо, — говорю я. — Попытайся. Расскажи что-нибудь. Расскажи о том месте, откуда ты родом.
— Из Эшленда, — говорит он, облизывая губы.
— Так, из Эшленда. Какой он?
— Маленький, — отец переносится мыслями в родной городок, — очень маленький.
— Ну какой маленький?
— Он был такой маленький, что, когда ты включал электробритву, уличные фонари чуть не гасли.
— Неплохое начало, — говорю я.
— Народ там был такой прижимистый, — продолжает он, — что сидел на одних бобах, чтобы сэкономить на пену для ванны.
— Я люблю тебя, папа, — говорю я, придвигаясь ближе. — Мы заслуживаем лучшего. Но к тебе так трудно пробиться. Помоги мне, хотя бы сейчас. Расскажи, какой ты был в детстве?
— Я был толстый, — начинает он. — Никто со мной не играл. Я был такой толстый, что мог играть только в прятки. Вот какой я был толстый, — говорит он, — такой толстый, что приходилось делать передышку, чтобы выйти из дому на улицу, — говорит без улыбки, потому что на сей раз не старается рассмешить, а просто остается самим собой, чем-то, чем не может не быть. Под одной внешней оболочкой — другая, под ней — третья, а под третьей — больное темное место, его жизнь, что-то такое, чего никто из нас не понимает. Все, что я могу сказать, — это:
— Попытайся еще раз. Я дам тебе шанс, а потом ухожу, так я сделаю и не знаю, приду ли опять. Больше не хочу быть простаком-напарником рыжего клоуна.
И он говорит, мой отец, мой родной отец, который лежит передо мной на смертном одре, хотя и выглядит сегодня неплохо для человека в его состоянии, говорит мне:
— Сын, ты сегодня не в себе, — говорит что твой Граучо Маркс,[2] еще и подмигивая на всякий случай, — и это огромное достижение.
Но я отказываюсь принимать его шутку; мой отец — трудный случай. Я встаю, чтобы уйти, но он хватает меня за руку, удерживая с такой силой, какой, я думал, в нем уже не осталось. Я гляжу на него.
— Я знаю, когда придет мой последний час, — говорит он, пристально глядя мне в глаза. — Я это видел. Знаю, когда и как все произойдет, и это будет не сегодня, так что не волнуйся.
Он совершенно серьезен, и я верю ему. Действительно верю. Он это понимает. Тысячи мыслей проносятся в моей голове, но я не могу высказать ни одной. Мы неотрывно глядим в глаза друг другу, и я в полном изумлении. Он это понимает.
— Как ты… каким образом?…
— Я всегда это знал, — мягко говорит он, — всегда обладал такой силой, способностью к видениям. С детских лет. Когда я был мальчишкой, я видел вещие сны. С криком просыпался. В первую ночь отец подошел ко мне и спросил, что случилось, и я рассказал ему. Рассказал, что мне приснилось, будто тетя Стейси умерла. Он меня успокоил, мол, с тетей Стейси все хорошо, и я лег обратно в постель. Но на другой день она умерла. Примерно неделю спустя это повторилось. Новый сон, и я опять с криком проснулся. Он вошел ко мне в комнату и спросил, что случилось. Я сказал, что мне приснилось, будто Грэмпс умер. Он, как в первый раз, сказал — хотя, может, и слегка обеспокоено, — что Грэмпс в полном порядке, и я уснул. И конечно же, на другой день Грэмпс умер. Несколько недель мне ничего не снилось. Но потом опять новый сон. Отец вошел ко мне и спросил, что мне приснилось, и я сказал, что видел, будто умер мой отец. Он, разумеется, уверил меня, что отлично себя чувствует и пусть я не думаю об этом, но я видел, как он испугался, и слышал, как он ходил всю ночь из угла в угол, а на другой день был не в себе, и вид у него был такой, будто он ждет, что что-нибудь упадет ему на голову, и рано утром он отправился в город и долго не возвращался. Когда он наконец появился, то выглядел ужасно, будто весь день ждал, что ему на голову упадет топор.
«Боже правый! — сказал он моей матери, когда увидел ее. — Такого кошмарного дня у меня не было во всю мою жизнь!»
«Ты думаешь, что это у тебя был плохой день? — ответила она ему. — Этим утром молочник замертво свалился у нас на крыльце!»
Я вышел, хлопнув дверью, надеясь, что его хватит инфаркт, и он мгновенно умрет, и все наконец кончится. Я даже заранее начал скорбеть.
— Эй! — услышал я из-за двери его голос. — Где твое чувство юмора? Если и не юмора, то хотя бы сострадания? Вернись! — зовет он меня. — Дай мне шанс, пожалуйста! Я тут умираю!
День когда родился я
В день, когда я родился, Эдвард Блум слушал трансляцию футбольного матча по транзистору, который он засунул в карман рубашки. А еще он толкал перед собой газонокосилку и дымил сигаретой. Лето было дождливым, и трава вымахала высокая, но в тот день солнце жарило моего отца и отцовскую лужайку, живо напоминая старые добрые времена, когда и солнце было жарче, да и все в мире — или жарче, или больше, или лучше, или проще, чем нынче. Плечи у него уже были как красные яблоки, но он не замечал этого, потому что слушал трансляцию самого важного матча в году, матча, в котором команда его колледжа в Оберне сошлась со своим извечным противником из Алабамы, неизменно побеждавшим в этом противостоянии.
Он коротко подумал о моей матери, которая была в доме, просматривала счет за электричество. В доме было холодно, как в холодильнике, но она все равно обливалась потом.
Она сидела на кухонном столе, уставясь в счет, когда почувствовала, как я энергично задвигался, принимая стартовую позицию.
«Скоро, — подумала она, быстро делая глубокий вдох, но не слезла со стола и даже не перестала смотреть на счет. Только мысленно повторяла одно слово: — Скоро».
Мой отец продолжал косить лужайку, и было похоже, что Оберну ничего не светит. Как всегда. Каждый раз происходило одно и то же: ты начинал следить за игрой, веря, что уж в этом году наконец-то придет победа, но она никогда не приходила.
Дело шло к перерыву, а Оберн уже проигрывал десять очков.
В день, когда я родился, мой отец закончил подстригать лужайку перед домом и, вновь исполнившись оптимизма, двинулся на задний двор. Во втором тайме Оберн сразу бросился в атаку и опустил мяч за линией. Теперь они проигрывали только три очка, еще не все было потеряно.
Алабама тут же отыграла потерю, а потом, не мешкая, увеличила отрыв.
Моя мать положила счет за электричество на стол и прижала его обеими руками, словно пытаясь разгладить. Она еще не знала, что неутомимый труд и упорство моего отца, всего лишь через несколько дней будут с лихвой вознаграждены и ей больше никогда не придется беспокоиться о счетах за электричество. Сейчас же мир, все планеты Солнечной системы, казалось, вращаются вокруг этого счета в сорок два доллара и двадцать семь центов. Но было необходимо поддерживать прохладу в доме. Она носила такую тяжесть. Она всегда была худенькая, но сейчас, нося меня в себе, стала огромной, как дом. И ей хотелось прохлады.
Она слышала, как мой отец на улице косит лужайку. Ее глаза расширились: я готов был ринуться вперед. «Уже». Я уже готов был ринуться вперед.
Время шло. Она спокойно собирала вещи для роддома. Оберн владел мячом, но играть оставалось считанные секунды. Только на то, чтобы забить с поля.
В день, когда я родился, мой отец замер, перестав косить лужайку, и слушал голос комментатора, доносившийся из приемника. Он, как статуя, стоял у себя на заднем дворе, наполовину подстриженном, наполовину нет. Он знал, что они проиграют.
В день, когда я родился, мир стал маленьким и полным радости.
Моя мать закричала, мой отец закричал.
В день, когда я родился, они победили.
Каким я виделся ему
Поначалу я не производил впечатления: крохотный и розовый, беспомощный, не умевший толком говорить. Даже переворачиваться не мог. Когда отец был мальчишкой, ребенком, младенцем, он был больше приспособлен к этому миру, чем я. Времена тогда были другие, и от всех требовалось больше, даже от младенцев. Даже младенцы должны были нести свою часть ноши.
Но мне не пришлось быть младенцем в те трудные времена. Родившись в настоящем роддоме, где моей матери были обеспечены лучшее лечение и любые лекарства, я просто не знал, каково было появляться на свет в прежние времена. Хотя это ничего не меняло: Эдвард любил меня. Действительно любил. Он всегда хотел мальчика, и пожалуйста, вот он я. Он, конечно, ожидал большего. Что я появлюсь, источая неяркий свет, сияние, может быть даже с подобием нимба вокруг головы. Пробуждая в нем мистическое чувство, что вот наконец свершилось. Но ничего такого не было. Был просто младенец, такой, как все младенцы, — разве что, разумеется, я принадлежал ему, и это делало меня особым. Я много кричал и много спал, и это было основное мое занятие; мой репертуар был очень ограниченным, хотя бывали моменты тихой ясности и радости, когда я смотрел на моего отца, лежа у него на коленях, и мои глаза сияли, будто видели бога, кем он, в определенном смысле, и был. Или, во всяком случае, подобным богу, ибо сотворил эту жизнь, посеяв волшебное семя. В такие моменты он мог видеть, какой я шустрый, какой смышленый, мог представить, как далеко я пойду. Возможности безграничные.
Но потом я снова принимался орать, или нужно было менять пеленку, и приходилось передавать меня моей матери, которая успокаивала, и пеленала, и кормила меня, а Эдвард беспомощно смотрел на нас со своего кресла, внезапно чувствуя, как он устал, мучительно устал от крика, бессонных ночей, запаха. Устал от своей усталой жены. Так что порой он скучал по прежней жизни, по свободе, когда хватало времени просто посидеть, подумать, — но разве этим он отличался от любого другого мужчины? С женщинами все иначе, они созданы, чтобы растить детей, на то им даны заботливость и внимательность. Мужчины должны покидать дом и отправляться работать, так повелось от веку, и так оно идет от времен охотников-собирателей до наших дней. Так существо мужчин было расколото; им приходилось раздваиваться: одна их половина была дома, другая на работе, тогда как назначение матери — быть всегда цельной.
В те первые несколько недель он относился к своим обязанностям отца очень ответственно. Все обратили внимание: Эдвард изменился. Он стал задумчивей, основательней, философичней. Пока мать занималась повседневными делами, он придал своим мечтаниям о моем будущем вид конкретной задачи. Он составил список добродетелей, которыми сам обладал и хотел передать мне:
Записал на обороте бумажного пакета. Добродетелями, которые ему предстояло обнаружить у себя, он мог поделиться со мной, бескорыстно. Неожиданно он понял, какой великолепный случай ему представился, что, пришедший в этот мир с пустыми руками, я для него — настоящее благословение. Заглядывая мне в глаза, он видел в них совершенную пустоту, желание, чтобы эту пустоту заполнили. И это станет его делом: наполнять меня до краев.
Чем он и занимался по выходным. На неделе он не слишком часто появлялся дома, потому что был в дороге, торговал, зашибал деньгу — работал, одним словом. Учил на личном примере. Существовала ли другая работа, чтобы мужчина мог обеспечить семью без того, чтобы отрывать свою задницу от стула и таскаться по городам и весям, ночуя в гостиницах, питаясь всухомятку возле груза, готового к отправке? Возможно. Но она его не устраивала. Одна только мысль, что придется каждый божий день в одно и то же время возвращаться домой, вызывала у него легкую тошноту. Хоть он и любил свою жену, своего сына, такое количество любви ему трудно было выдержать. Оставаться одному было одиноко, но порой среди множества людей, постоянно от него что-то хотевших, он чувствовал еще большее одиночество. Ему нужна была перемена обстановки.
Возвращаясь домой, он чувствовал себя чужим. Все было незнакомым. Жена сделала перестановку в гостиной, купила себе новое платье, завела новых друзей, читала странные книги, которые держала напоказ на тумбочке возле кровати. И я рос так быстро. Жена этого не замечала, но ему сразу бросалось в глаза. Возвращаясь, он видел, как невероятно я вырос, и, видя это, понимал, что сам он при этом, говоря условно, уменьшился. В определенном смысле так и было: по мере того как я становился больше, он сжимался. И, согласно этой логике, однажды я стану великаном, а он — невидимой частичкой мира.
Но пока это не произошло, пока он не исчез, он был отцом и делал все, что положено делать отцу. Он играл со мной в мячик, он купил мне велосипед. Собирал в корзину еду для пикника на горе, возвышавшейся над городом, великим городом нескончаемых надежд, откуда мог разглядеть то место, где он сперва занимался одним, потом другим, а вон там совершил первую свою сделку, а там поцеловал ту хорошенькую женщину, — и все остальные места торжества и славы его короткой жизни. Это он видел, когда поднимался на гору, — не здания, не линию горизонта, не рощи деревьев или клинику, к которой пристраивали новое крыло. Нет, это была его история, история его взрослой жизни, лежащая перед ним в образе пейзажа, и он брал меня с собой туда и поднимал на руках, чтобы мне было видно, и говорил:
— Однажды, сын, все это будет твоим.
Как он спас мне жизнь
Эдвард Блум спас мне жизнь дважды, я это знаю.
В первый раз это случилось, когда мне было пять лет и я играл в овраге позади нашего дома. Отец постоянно твердил мне: «Не подходи к оврагу, Уильям». Он повторял мне это снова и снова, будто знал: что-то может случиться, и ему придется в один прекрасный день спасать мне жизнь. Я представлял себе, что это не овраг, а древнее, наполовину высохшее русло реки, полное доисторических камушков, плоских и гладких, обточенных водой, века струившейся над ними. Сейчас по дну оврага тек лишь не пересыхавший, хотя и почти незаметный ручеек, такой слабый, что не мог унести и прутик.
Там я и играл, съезжая вниз по красному глиняному склону, иногда спустя всего несколько минут после того, как отец говорил мне: «Не подходи к оврагу, Уильям». Стоило мне представить себя одного в окружении прохладных красных стен, и я не мог удержаться от того, чтобы нарушить запрет. В своем убежище я садился на корточки, переворачивал камушек за камушком и лучшие — белые и блестящие черные с белыми крапинками — прятал в карман. В тот день я так увлекся, что не заметил стену воды, стремительно несущуюся по оврагу, словно цель ее была подхватить меня и унести с собой. Я не видел ее и не слышал. Сидел на корточках спиной к ней и рассматривал камушки. И если бы не мой отец, который каким-то образом понял, что происходит, еще до того, как это произошло, меня бы точно унесло потоком. Но он был тут как тут, схватил меня за нижний край рубашки и вытащил из оврага, и мы стояли наверху, глядя, как мчится река там, где прежде не было никакой реки, на пенящийся поток, достававший аж до наших ботинок. Наконец он посмотрел на меня:
— Я говорил тебе, не подходи к оврагу.
— Какому оврагу?
Второй раз мой отец спас мне жизнь, когда мы только что переехали жить в новый дом на Мэйфер-драйв. От прежних хозяев во дворе остались качели, и пока носильщики затаскивали в дом наши старые кушетки, и кресла, и обеденный стол, мне загорелось проверить, как высоко раскачивался тот ребенок. Я раскачивался изо всех сил, так что качели сотрясались. К несчастью, прежний хозяин не закрепил задние стойки качелей; он только собирался это сделать. Так что сзади качели свободно опирались на цементную подушку, и чем выше я взлетал, тем сильней раскачивалась рама, пока в тот момент, когда я достиг высшей точки своего полета, не наклонилась резко вперед и, словно катапульта, швырнула меня по невероятной траектории прямо на белый забор из штакетника, на который я, несомненно, напоролся бы. Неожиданно я почувствовал рядом отца; он как будто тоже летел, и мы с ним падали вместе. Он обхватил меня, крепко прижав к себе, и я опустился на землю рядом с ним. Он поймал меня в Небе и благополучно опустил на Землю.
Его бессмертие
Мой отец рано дал мне понять, что будет жить вечно.
Однажды он упал с крыши. Садовник очищал водосточный желоб от палой листвы и ушел домой, не докончив дела, оставив лестницу прислоненной к стене. Мой отец вернулся с работы, увидел лестницу и взобрался на крышу. Хотел посмотреть, какой с нее открывается вид. Как он потом сказал, ему было любопытно, сможет ли он увидеть высокое здание его конторы с крыши нашего дома.
Мне тогда было девять, и я понимал, что это опасно. Я попросил его не делать этого. Сказал, что это опасно. Он долго смотрел на меня, а потом подмигнул, и его подмигивание могло означать, черт возьми, все, что угодно, по твоему желанию.
И полез по лестнице. Он, наверно, уж десять лет не лазил по лестнице, но это лишь мое предположение. Может быть, он постоянно лазил по лестницам. Откуда мне было знать.
Взобравшись на крышу, он стоял у трубы и глядел вокруг, поворачиваясь на юг, север, восток и запад, ища здание своего офиса. Он смотрелся великолепно, стоя там в своем черном костюме и сияющих черных туфлях. Казалось, он нашел наконец место, где смотрится наиболее выгодно: на крыше дома в два этажа высотой. Он расхаживал — прогуливался — взад и вперед высоко надо мной, приложив ладонь козырьком к глазам, как капитан корабля, высматривающий, не появилась ли земля. Но не видел. Здания его офиса не было видно сквозь даль.
И вдруг он упал, а я, я смотрел, как он падает. Смотрел, как мой отец падает с крыши собственного дома. Это случилось так быстро, не знаю, споткнулся он, или поскользнулся, или что — он мог и спрыгнуть, насколько я его знаю, — но он пролетел два этажа и рухнул в заросли кустарника. До последнего мгновения я все ждал, что у него вырастут крылья, а когда этого не произошло, когда крылья у него так и не появились, я понял, что это падение убило его. Я был настолько уверен, что он мертв, что даже не бросился к нему посмотреть, нельзя ли его спасти, оживить, может быть.
Я медленно подошел к телу. Он лежал совершенно неподвижно, не дыша. На его лице было то выражение блаженного покоя, которое ассоциируется с освобождением от всего земного. Приятное выражение. Я смотрел на него, запоминая, — моего отца, лицо моего отца в смерти, — когда вдруг оно ожило, отец подмигнул мне, засмеялся и сказал:
— А ты уж и поверил, правда?
Его величайшая способность
Когда Эдвард Блум покинул Эшленд, он дал себе обещание увидеть мир, и вот почему казалось, что он вечно в дороге и никогда не задерживается подолгу на одном месте. Не было такого континента, куда бы ни ступала его нога, ни одной страны, где бы он ни побывал, ни одного крупного города, где бы он не мог найти друга. Настоящий гражданин мира. Он редко появлялся дома, и это были яркие, даже эпические эпизоды в моей жизни, спасал меня, когда мог, побуждал быстрей взрослеть. Однако силы, которым он не мог противостоять, звали его в дорогу; говоря его словами, он оседлал тигра.
Но он любил, чтобы мы расставались смеясь. Он хотел, чтобы таким мы запомнили его, а он — нас. Изо всех его невероятных способностей самой невероятной была эта: в любое время, нежданно-негаданно, он мог рассмешить меня до коликов.
Одному человеку — назовем его Роджер — нужно было уехать из города по делам, поэтому он доверил соседу заботу о своем коте. Итак, этот человек любил своего кота, любил больше всего на свете, настолько, что вечером в тот же день, как уехал, он позвонил соседу, желая узнать о здоровье и настроении своего дражайшего мурлыки. И вот он спрашивает соседа:
— Как там мой дорогой любимый драгоценный котик? Скажи мне, пожалуйста, сосед.
И сосед отвечает:
— Сожалею, что вынужден огорчить тебя, Роджер. Но твой кот сдох. Его переехала машина. Насмерть. Сочувствую тебе.
Роджер был потрясен! И не только известием о том, что его кот почил — как будто этого было недостаточно! — но и тем, как ему об этом сообщили.
И он сказал, он сказал:
— Нельзя сообщать человеку о подобных ужасных вещах в такой манере! Когда случается что-нибудь подобное, не говори сразу, смягчи удар. Подготовь его! Например. Когда я сегодня позвонил, тебе следовало сказать: твой кот на крыше. В другой раз, когда я позвонил бы, ты б ответил: кот до сих пор сидит на крыше, не хочет спускаться, и вид у него очень больной. В следующий раз можно было бы сказать, что кот свалился с крыши и сейчас находится в лечебнице с повреждением внутренних органов. А потом, когда я бы снова позвонил, ты бы сказал — дрожащим голосом, взволнованно, — что он скончался. Усвоил?
— Усвоил, — ответил сосед. — Виноват.
И вот спустя три дня Роджер снова позвонил соседу, потому что сосед продолжал присматривать за его домом, вынимать почту из ящика и тому подобное, и Роджер хотел узнать, не случилось ли за это время чего серьезного. И сосед сказал:
— Случилось. По правде говоря, случилось. Кое-что серьезное.
— И что же? — спросил Роджер.
— Ну, — ответил сосед, — это связано с твоим отцом.
— С моим отцом! — воскликнул Роджер. — Что с моим отцом?
— Твой отец на крыше…
Мой отец на крыше. Таким я иногда люблю вспоминать его. Элегантный в своем черном костюме и сияющих скользких туфлях, он смотрит налево, смотрит направо, вглядывается вдаль. Потом, посмотрев вниз, он видит меня и, начиная падать, улыбается и подмигивает мне. И все время, пока падает, он смотрит на меня — улыбающаяся, таинственная, мифическая, неведомая личность: мой отец.
Он видит сон
Моему умирающему отцу снится, что он умирает. И в то же время это сон обо мне. Вот этот сон: когда распространилась весть о болезни моего отца, во дворе начали собираться скорбящие, сперва было лишь несколько человек, но вскоре их стало много, дюжина, потом две, потом полсотни, все толпились во дворе, топча кусты, цветы, набивались под навес для машин, когда припускал дождь. В отцовском сне они стояли плечом к плечу, раскачиваясь и стеная, ожидая объявление о его выздоровлении. Конец этому положило мимолетное видение отца в окне ванной комнаты, когда он промелькнул в нем, что вызвало неистовые и радостные вопли. Мы с матерью наблюдали за ними в окно гостиной, не зная, что делать. Вид у некоторых из собравшихся был бедный. Одежда на них была старая и драная, лица заросли волосом. Мать чувствовала себя неловко; глядя, как они устремляют скорбные взоры на окна второго этажа, она теребила пуговички на своей блузке. Но были там и другие, которые выглядели так, словно им пришлось оторваться от очень важных дел, чтобы прийти сюда оплакивать моего отца. Они сняли свои галстуки и засунули в карманы, на ранты их начищенных туфель налипла земля, у некоторых были при себе мобильные телефоны, по которым они сообщали о происходящем тем, кто не смог прийти. Мужчины и женщины, старые и молодые, — все застыли в ожидании, глядя вверх на освещенное окно моего отца. Долгое время все оставалось по-прежнему, никаких серьезных изменений. Я хочу сказать, они стали частью нашей жизни — люди во дворе. Но в конце концов мы не выдержали, и через несколько недель мать попросила меня предложить им разойтись.
Я так и сделал. Но к этому времени они уже прочно обосновались на своей позиции. Под магнолией устроили импровизированный буфет, где были хлеб, чили и пареная брокколи. Они все время надоедали матери, прося вилки и ложки, которые возвращали испачканными застывшим чили, который было непросто отмывать. На лужайке, где я привык играть в футбол с соседскими ребятами, появился небольшой палаточный городок, и даже поговаривали, что там родился ребенок. Один из бизнесменов, имевших при себе мобильный телефон, устроил на пне своеобразный информационный центр, и желавшие послать весточку своим далеким любимым или узнать, есть ли какие новости о состоянии моего отца, шли к нему.
Но в центре двора восседал в плетеном кресле старик, надзиравший за всем происходившим. Прежде, насколько знаю, я его никогда не видел (или так думал во сне отец), но почему-то он казался мне знакомым — посторонний, но не чужой мне. Время от времени кто-нибудь подходил к нему и что-то говорил на ухо. Он внимательно выслушивал, секунду размышлял над услышанным, а потом или кивал, или отрицательно мотал головой. У него была густая белая борода и очки, на голове рыбацкая шапочка, в которую было воткнуто несколько самодельных искусственных мух. И поскольку он выглядел главным во всей той компании, я первым делом направился к нему.
Когда я подошел, человек рядом зашептал ему на ухо, и только я открыл рот — старик поднял руку, останавливая меня. Связной закончил, старик покачал головой, и тот поспешил прочь. Старик опустил голову и взглянул на меня.
— Здравствуйте! — сказал я. — Я…
— Я знаю, кто ты, — проговорил он голосом одновременно ласковым и низким, теплым и сдержанным. — Ты его сын.
— Верно.
Мы смотрели друг на друга, и я пытался вспомнить, как его зовут, потому что мы, несомненно, где-то встречались прежде.
— Тебя послали что-то нам сказать?
Он смотрел на меня с восторженным вниманием, почти гипнотизируя своим взглядом. Как говорил мне отец, он производил сильнейшее впечатление.
— Вовсе нет, — ответил я. — То есть у него все по-прежнему, так мне кажется.
— По-прежнему, — повторил он, тщательно взвешивая мои слова, словно стараясь обнаружить в них некий особый смысл. — Значит, он еще плавает?
— Да. Каждый день. Он очень любит плавать.
— Это хорошо, — сказал он. И неожиданно громко прокричал: — Он еще плавает!
Толпа ликующе завопила. Лицо старика излучало радость. Некоторое время он делал глубокие вдохи носом, как будто что-то обдумывая. Потом опять взглянул на меня:
— Но ты пришел сказать нам что-то еще, так?
— Так, — подтвердил я. — Понимаете, я знаю, вы желаете нам только добра, и вы все такие хорошие. Но…
— Мы должны уйти, — спокойно сказал старик. — Вы желаете, чтобы мы убрались.
— Да, — сказал я. — К сожалению, это так.
Старик все понял. Легонько кивнул, как будто взволнованный новостью. Такую картину мой отец видел во сне, словно, сказал он, со стороны, как если бы он уже умер.
— Трудно будет уйти, — проговорил старик. — Все эти люди действительно переживают. Они будут чувствовать себя потерянными. Не долго, конечно. Живые находят способ успокоиться. Но в ближайшее время это будет трудно сделать. Твоя мать…
— Ее это заставляет нервничать, — перебил я. — Все эти люди во дворе, день и ночь напролет. Ее можно понять.
— Конечно, — согласился он. — Да к тому же еще и весь этот беспорядок. Мы окончательно вытоптали лужайку перед домом, посадки.
— Не без этого.
— Не о чем беспокоиться, — сказал он тоном, заставившим меня поверить ему. — Мы оставим все таким, как было до нашего прихода.
— Она будет довольна.
Тут ко мне подбежала женщина, схватила меня за рубашку и прижалась к ней заплаканным лицом, словно желая убедиться, что я настоящий и не грежусь ей.
— Уильям Блум? — закричала она. — Ведь ты Уильям Блум, да?
— Да, — ответил я, отступая назад, но она не отпускала меня. — Это я.
— Передай это отцу. — И она сунула мне в руки маленькую шелковую подушечку. — В ней целебные травы, — сказала она. — Я сама ее сшила. Травы могут ему помочь.
— Спасибо, — поблагодарил я. — Обязательно передам.
— Знаешь, он спас мне жизнь, — говорила она. — Случился ужасный пожар. Он рисковал жизнью, спасая меня. И вот сегодня я здесь.
— Но не надолго, — сказал старик. — Он попросил нас уйти.
— Эдвард? Эдвард Блум попросил нас уйти?
— Нет, — ответил старик. — Его жена и сын.
Она покорно кивнула:
— Как ты и говорил. Придет сын и попросит нас уйти. Все, как ты говорил.
— Мама попросила меня об этом, — стал я, начиная уставать от этого загадочного разговора. — Мне это не доставляет особой радости.
Неожиданно раздался громкий общий вздох. Взгляды всех были устремлены на окна второго этажа, где стоял мой отец и махал людям, которые ему снились. На нем был желтый купальный халат, он улыбался им и, узнавая кого-нибудь в толпе, поднимал брови и приветствовал его: «У тебя все в порядке? Рад видеть тебя!» — прежде чем перейти к другому. Все махали ему, кричали, радовались, а потом, после того что походило на очень короткое явление вождя народу, махнул напоследок, повернулся и скрылся в полутьме комнаты.
— Ну, — сияя, сказал старик, — это было нечто, правда? Он выглядел неплохо. Очень даже неплохо.
— Вы хорошо за ним ухаживаете, — сказала женщина.
— Продолжайте свое великое дело!
— Я всем обязан твоему отцу! — крикнул мне кто-то из расположившихся под магнолией, и следом раздался хор голосов, люди наперебой кричали об Эдварде Блуме и его благородных деяниях. Я чувствовал себя как под перекрестным огнем, они кричали все разом, пока старик не поднял руку, заставив их умолкнуть.
— Вот видишь, — сказал старик, обращаясь ко мне. — Каждый из нас может рассказать свою историю, связанную с твоим отцом, точно так же как и ты. Как он принимал в нас участие, помогал нам, давал работу, ссужал деньгами, отпускал товар по оптовым ценам. Множество историй, невероятных и обыкновенных. В них весь он. В них итог его жизни. Вот почему мы здесь, Уильям. Мы — частицы него, того, какой он есть, точно так же как он — частица нас. Ты, вижу, еще не понимаешь?
Я не понимал. Но, когда наши взгляды сошлись на долгое мгновение, я, снящийся моему отцу, вспомнил, где мы прежде встречались.
— А что мой отец сделал для вас? — спросил я, и старик улыбнулся.
— Он меня рассмешил, — ответил старик.
И я это знал. Во сне, который рассказал мне отец, я это знал. И с этим знанием я пошел по дорожке обратно в тепло и свет моего дома.
— Для чего у слона хобот?
И, закрывая за собой дверь, я услышал позади мощный бас старика. И проговорил вместе с ним:
— Он у него вместо «бардачка».
Следом раздался гомерический хохот.
Так кончается сон моего умирающего отца о его смерти.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Он приобретает город и кое-что в придачу
Эта история встает как тень из тумана. В результате напряженной работы, везения и удачных вложений мой отец становится состоятельным человеком. Мы переезжаем в дом побольше, на улицу посимпатичней, и моя мать сидит дома со мной, а пока я расту, отец работает так же много, как прежде. Иногда он уезжает на несколько недель и возвращается домой усталый и грустный, почти ничего не говорит, кроме того, что очень скучал без нас.
Итак, хотя он добился успеха, все мы не чувствуем себя счастливыми. Ни мать, ни я, ни, конечно же, отец. Даже заходит разговор о том, чтобы разойтись, потому что такая семья не семья. Но этого не происходит. Иногда подобная угроза служит лишь укреплению семьи. Мои родители решают вместе пережить трудные времена.
В этот-то период, в середине семидесятых, мой отец и начинает тратить деньги на непредсказуемые вещи. В один прекрасный день ему становится ясно, что в его жизни чего-то не хватает. Или речь, скорей, идет о чувстве, которое с возрастом — он только что разменял четвертый десяток — все больше овладевало им и однажды окончательно овладело, когда, в силу совершенно случайных обстоятельств, он застрял. В маленьком городке, называвшемся Спектер,[3] где-то в глубинке — в Алабаме, или Миссисипи, или Джорджии. Застрял там, потому что в машине что-то такое сломалось. Он оставляет ее у механика и, пока тот занимается ремонтом, решает пройтись по городку.
Спектер, что неудивительно, оказывается красивым маленьким городком. Белые домики с крылечками и качелями под огромными тенистыми деревьями. Там и тут цветочные ящики и клумбы, а в дополнение к радующей глаз Главной улице — приятное чередование грунтовых, гравийных и асфальтированных дорог, по которым по всем так приятно ездить. Мой отец, гуляя, обращает особое внимание на эти дороги, потому что любит это больше всего. То есть ездить. Ездить и смотреть по сторонам. Сесть в машину и ехать по стране, по миру, ехать с самой медленной скоростью, которую дозволяют правила движения, хотя правила, особенно в том что касается ограничения скорости, Эдвард Блум не соблюдает: двадцать километров в городе — это для него слишком большая скорость; на шоссе вообще царит безумие. Как можно увидеть мир, мчась на таких скоростях? Куда людям нужно так гнать, что они не могут понять того, что у них рядом, за окном машины? Мой отец помнит времена, когда машин не было вообще. Он помнит времена, когда привычно было ходить пешком. И он тоже так делает — то есть ходит пешком, — но еще он любит ощущение езды, шум мотора, шорох шин, картину жизни в раме передних, задних и боковых окон. Машина — это волшебный ковер моего отца.
Она не только доставляет его куда нужно, но и показывает ему разные места. Машина… он ведет ее, она везет его, так медленно и так долго от одного места до другого, что некоторые его важные сделки совершаются прямо в ней. Те, кто договаривается с ним о встрече, делают так: узнают, где он сейчас находится, и, принимая во внимание его скорость, рассчитывают, где приблизительно будет в следующие несколько дней недели, потом летят самолетом до ближайшего к тому месту аэропорта и там берут машину напрокат. Выезжают на нужное шоссе и едут, пока не догонят его. Поравнявшись с ним, сигналят и машут ему, и мой отец медленно поворачивает голову — так повернул бы медленно голову Авраам Линкольн, если бы он водил машину, потому что в моем сознании, в воспоминании, которое вошло в мое сознание и невозмутимо осталось в нем, мой отец напоминает Авраама Линкольна, человека с длинными руками, и бездонными карманами, и темными глазами, — и машет в ответ, и съезжает на обочину, и человек, желающий с ним поговорить, пересаживается к отцу на пассажирское место, а его помощники или адвокаты — на заднее сиденье, и, пока машина продолжает путь по этим живописным и извилистым дорогам, они совершают свою сделку. И как знать? Может быть, в дороге у него даже случаются романтические встречи, он заводит романы с прекрасными женщинами, знаменитыми актрисами. Вечерами они сидят за маленьким столиком, устланным белой скатертью, и при свете свечи едят и пьют и произносят фривольные тосты за будущее…
И вот прогуливается мой отец по Спектеру. Денек чудесный — золотая осень. Он ласково улыбается всему и всем вокруг, и всё и всяк ласково улыбаются ему. Прогуливается, заложив руки за спину, одобрительно поглядывая на витрины, на узкие улочки и уже проникаясь особым чувством к яркому солнцу, которое в ответ блещет еще ярче, отчего мой отец становится еще добрей, еще чутче, чем всегда: сейчас он добрей и чутче, чем представляется — всегда — каждому, кто бы с ним ни встречался. И он влюбляется в этот городок, такой изумительно скромный, полный естественного очарования, в людей, здоровающихся с ним, продающих ему кока-колу и, приветливо улыбаясь, машущих ему, сидя в прохладной тени на своих крылечках, когда он проходит мимо.
Мой отец решает купить этот городок. В жизни Спектера чувствуется какая-то унылость, говорит он себе, мало отличающаяся от жизни под водой, что он способен оценить. Это печальное место, по-настоящему печальное, и оно уже много лет такое, с тех пор как закрыли железную дорогу. Или угольные шахты, выработав пласты. Или как будто попросту забыли, как будто мир идет мимо, не обращая на него внимания. И хотя мир больше не видел пользы в Спектере, он был достаточно хорош, чтобы быть со всем миром, чтобы его позвали с собой.
Вот в эту его особенность и влюбляется мой отец, но этой причине приобретает в собственность.
Первое, что он делает, — это скупает всю прилегающую к Спектеру землю на тот случай, если какой-нибудь другой одинокий богач ненароком наткнется на городок и захочет провести через него шоссе. Он даже не смотрит, какая там земля; он знает только одно: она покрыта сосновыми лесами, и он хочет, чтобы она оставалась такой, хочет, по сути, сохранить нетронутой замкнутую экосистему. И он добивается этого. Никто не знает, что один человек скупает сотни крохотных участков, выставленных на продажу, как никто не знает и того, что по прошествии пяти или шести лет каждый дом, каждый магазин в городке, один за другим, оказываются скуплены кем-то, кого никто из них еще не знает. Пока во всяком случае. Люди разоряются, покидают городок, так что нетрудно приобрести их дома, лавки или мастерские, те же, кому нравится жить как живут и кто хочет остаться, получают письма. В них им предлагается продать свою землю со всем, что на ней находится, за хорошую цену. Их не просят съезжать, платить за аренду или что-то менять, кроме одного: имени владельца дома, каждого дома, и лавки — каждой лавки.
И вот таким способом, медленно, но верно, мой отец скупает Спектер. Каждый его квадратный дюйм.
Представляю себе отца, довольного такой деловой операцией.
Поскольку, как он и обещал, в городке ничего не меняется, ничего не происходит, кроме неожиданного и неожиданно обыденного появления моего отца, Эдварда Блума. Он не предупреждает заранее о своем приезде, да я и не верю, что он хотя бы знает, когда намерен вернуться сюда, но в один прекрасный день кто-то обратит внимание на одинокую фигуру в лугах или человека, идущего по Девятой улице засунув руки в карманы. Он заходит в магазинчики, которые теперь принадлежат ему, взимает доллар-другой, но управлять ими оставляет мужчин и женщин Спектера, которых он спросит своим мягким, по-отечески заботливым голосом: «Как дела? Как жена, детишки?»
Видно, что он очень любит городок и всех его жителей и они отвечают ему любовью, потому что невозможно не любить моего отца. Невозможно. Во всяком случае мне так кажется: невозможно не любить моего отца.
«Прекрасно, мистер Блум. Все просто прекрасно. Последний месяц дела шли хорошо. Желаете посмотреть бухгалтерские книги?» Но он качает головой — нет. «Уверен, у вас тут все в полном порядке. Заглянул, только чтобы поздороваться. До свидания! Передавайте от меня привет жене, хорошо?»
Его, его одинокую темную сухощавую фигуру в костюме-тройке, можно увидеть и на трибуне стадиона, когда команда школьников Спектера сражается в бейсбол с командой соседнего городка, — наблюдающего за игрой с чувством отстраненной гордости, с какой наблюдал за тем, как я расту.
Каждый раз, приезжая в Спектер, он останавливается в другом доме. Никто не знает, у кого он остановится в следующий свой приезд или когда это случится, но всегда для него наготове комната, когда бы он ни попросился на ночлег, и он всегда просит позволения, словно чужой человек одолжения. «Пожалуйста, если вас это не слишком обеспокоит». И он ужинает вместе с приютившей его семьей, ночует в отведенной ему комнате, а утром снова отправляется в дорогу. И обязательно убирает за собой постель.
— Думаю, мистер Блум не откажется от содовой в такую-то жарынь, — говорит ему однажды Эл. — Позвольте, я принесу вам бутылочку, мистер Блум?
— Спасибо, Эл, — отвечает отец. — Право, это будет кстати. Выпить содовой.
Он праздно сидит на скамье перед Деревенской Лавкой Эла. Он улыбается вывеске — Деревенская Лавка Эла — и старается охладиться в тени навеса. Слепящее летнее солнце жжет только кончики его черных туфель. Эл приносит ему содовую. Рядом сидит старик Уайли и, грызя кончик карандаша, смотрит, как мой отец пьет воду. Одно время Уайли был шерифом в Спектере, потом пастором. Побыв пастором, он стал бакалейщиком, но в настоящее время, когда он болтает с моим отцом перед Деревенской Лавкой Эла, он ничего не делает. Отошел от всяких дел кроме болтовни.
— Знаю, мистер Блум, — кивает Уайли, — я уже это говорил. Знаю. Но повторю опять. Невероятно, сколько вы сделали для этого города.
Мой отец улыбается:
— Ничего я не сделал для этого города, Уайли.
— Именно что сделали! — говорит Уайли и смеется, Эл и мой отец тоже смеются. — Мы считаем, что это просто невероятно.
— Как содовая, мистер Блум?
— Освежает, — отвечает мой отец. — Очень освежает, Эл. Спасибо.
Ферма Уайли расположена в миле от городка. Это одна из первых никчемных вещей, которые когда-либо покупал мой отец.
— Должен поддержать Уайли, — говорит Эл. — Не всякий может прийти и купить целый город только потому, что он ему понравился.
Глаза у отца почти закрыты; уже недолго осталось до того дня, когда он не сможет выходить на улицу без очень темных очков, его глаза становятся такими чувствительными к яркому свету. Но он живо откликается на приятные слова.
— Спасибо, Эл, — говорит он. — Когда я увидел Спектер, то понял, что должен купить его. Не знаю зачем, просто должен — и все. Купить его целиком. Думаю, отчасти это связано с ощущением замкнутого круга, единого целого. Очень трудно человеку вроде меня довольствоваться частью чего-то. Если часть хороша, то целое может быть только еще лучше. Что касается Спектера, то это как раз такой случай. Купить его целиком…
— Но вы этого не сделали, — перебил его Уайли, все так же грызя карандаш, и перевел взгляд с Эла на моего отца.
— Уайли! — говорит Эл.
— Но это же правда! — не унимается Уайли. — Что поделаешь, если так оно и есть.
Отец медленно поворачивается к Уайли, потому что мой отец обладает особым даром: просто глядя на человека, он может сказать, что побуждает его говорить те или иные вещи, честен ли он и правдив, или пытается пустить пыль в глаза. В этом его сила, которая, среди прочего, помогла ему стать таким богатым.
И сейчас он может сказать, что Уайли уверен, что говорит правду.
— Такого не может быть, Уайли, — качает он головой. — То есть насколько я знаю. Я каждый дюйм этого города или пешком прошел, или проехал на машине, или осмотрел с воздуха и не сомневаюсь, что купил его весь. Целиком и полностью. С потрохами. Замкнул круг.
— Прекрасно, — говорит Уайли, — тогда забудем о клочке земли с хижиной на нем, что в том месте, где кончается дорога и начинается озеро, до которого, может, просто трудно добраться пешком или на машине или заметить его с воздуха и которого, может, просто нет ни на какой карте, или что у человека, владеющего им, есть бумага, какой вы никогда не видали, и на ней не ваша подпись, мистер Блум. Вы же с Элом считаете, что во всем правы. Небось невдомек, о чем я толкую. Мои извинения, раз вы лучше меня все знаете.
Уайли настолько добр, что рассказывает отцу, как добраться туда, и что только кажется, будто дорога там кончается и начинается озеро, на самом деле все не так, и насколько трудно придется всякому, кто захочет отыскать это странное место: болото. Хижину на болоте. И вот мой отец доезжает до места, где дорога как будто кончается, но, когда выходит из машины, ему становится ясно, что за деревьями, и лианами, и грязью, и травой дорога продолжается. Природа — воды озера, поднявшись выше своего обычного уровня, — отвоевала у людей небольшое пространство. В трех дюймах застойной болотной воды над дорогой больше жизни, чем в целом океане; у ее края, где густеет и преет ил, начинается сама жизнь. Он ступает в нее. Туфли утопают в болотной жиже. Но он идет дальше. Вода становится выше, уже и брюки погружаются в тину. Ощущение приятнейшее.
Он продолжает идти, тускнеющий свет не скрывает в себе никакой опасности. И вдруг он видит дом впереди — дом! Он не верит своим глазам, не верит, что такое сооружение может стоять прямо, не уйти в мягкую почву, но вот оно, перед ним, и не какая-то хибара, а настоящий дом, небольшой, но явно крепкий, с четырьмя прочными стенами и дымком, вьющимся над трубой. По мере того как он подходит ближе, вода отступает, почва становится тверже, и перед ним открывается тропинка. И он, улыбаясь, думает, как это мудро и как похоже на жизнь: тропинка возникает в самый последний момент, когда человеку нужно протянуть соломинку. По одну сторону дома — огород, по другую — поленница высотой в его рост. Снаружи у окна, в ящике, желтые цветы.
Он подходит к двери и стучится.
— Эй! — зовет он. — Есть кто дома?
— Конечно есть, — откликается молодой женский голос.
— Можно войти?
Молчание, потом тот же голос отвечает:
— Прежде вытрите ноги о половик.
Мой отец так и делает. Потом тихо открывает дверь и застывает на пороге, ошеломленный невообразимой чистотой и порядком: посреди чернейшей болотной воды он видит теплую, чистую, уютную комнату. Первым делом он видит огонь в очаге, быстро переводит взгляд на полку над очагом, на которой попарно расставлены синие стеклянные кувшины, потом оглядывает почти голые стены.
В комнате небольшая кушетка, два кресла, перед очагом — коричневый коврик.
В дверях, ведущих в другую комнату, стоит девушка. У нее черные волосы, заплетенные в косу, и спокойные синие глаза. Ей не больше двадцати. Он ожидал, что, живя на болоте, она будет грязной, как сам он сейчас, но ее белая кожа и ситцевое платье сияют чистотой, разве только на щеке полоска сажи.
— Эдвард Блум, — говорит она. — Вы Эдвард Блум, верно?
— Да, — отвечает он. — Откуда вы это знаете?
— Догадалась. Я хочу сказать, кто бы еще мог здесь появиться?
Он кивает и извиняется за беспокойство, доставленное ей и ее семье, но он пришел по делу. Он хотел бы поговорить с хозяином дома — ее отцом, матерью? — о земле, на которой стоит дом.
Она отвечает, что он может говорить.
— Простите, не понял?
— Все это принадлежит мне.
— Вам? — удивляется он. — Но вы ведь…
— Женщина, — кивает она. — Почти совершеннолетняя.
— Виноват, — отвечает мой отец. — Я не имею в виду…
— Дело, мистер Блум, — говорит она с легкой улыбкой. — Вы сказали о каком-то деле.
— Ах да.
И он рассказывает ей все: как он приехал в Спектер, как влюбился в этот городок и что просто хочет получить его в полную собственность. Можете назвать это глупой прихотью, но он желает, чтобы город принадлежал ему, весь без остатка, однако есть участок, который он, видимо, пропустил и теперь не прочь купить его у нее, если она не станет возражать, и что ничего не изменится, все останется как прежде, она вольна жить здесь вечно, если на то будет ее воля, он же лишь хочет называть город своим.
И она отвечает:
— Давайте начистоту. Вы купите у меня это болото, но я останусь здесь. Вы будете владеть домом, но он пo-прежнему будет моим. Я буду жить здесь, а вы сможете приходить и уходить когда заблагорассудится, как вы это делаете, потому что есть у вас такая прихоть. Верно я это себе представляю? — И когда он подтверждает, что в основном верно, она говорит: — Тогда я против, мистер Блум. Если вы не собираетесь ничего менять, я бы хотела, чтобы не менялось и положение вещей, существовавшее здесь всегда.
— Но вы не понимаете, — говорит он. — В сущности, вы ничего не потеряете. На деле все только приобретают. Разве не видите? Можете спросить любого в Спектере. Я не принес ничего, кроме пользы. Мое присутствие в Спектере так или иначе приносит людям прибыль.
— Пусть их получают прибыль.
— Да, это не самое главное. Я бы хотел, чтобы вы переменили свое мнение. — Он уже готов был вспылить или уйти, опечаленный. — Я всем хочу лишь блага.
— Особенно себе, — говорит она.
— Всем, в том числе и себе.
Она смотрит долго, смотрит на моего отца и качает головой, взгляд ее синих глаз спокоен и тверд.
— Я одна на свете, мистер Блум, — говорит она. — Мои родители давно умерли. — Она холодно и отчужденно смотрит на него. — Мне было хорошо тут. Я знаю жизнь — вы, наверно, удивились бы, как много всего я повидала. Не похоже, что чек на крупную сумму что-нибудь изменит для меня. Деньги — они мне попросту не нужны. Мне ничего не нужно, мистер Блум. Я и так счастлива.
Мой отец недоверчиво смотрит на нее и спрашивает:
— Девушка, как тебя зовут?
— Дженни, — тихо отвечает она, и в ее голосе слышится что-то такое, чего в нем не было прежде. — Меня зовут Дженни Хилл.
И происходит вот что: сначала он влюбляется в Спектер, а потом влюбляется в Дженни Хилл.
Любовь — непостижимая вещь. Что заставляет женщину вроде Дженни Хилл вдруг решить, что мой отец — мужчина ее жизни? Чем он пленяет ее? Или дело в его легендарном обаянии? Или Дженни Хилл и Эдвард Блум созданы друг для друга? А может, мой отец ждал сорок лет, а Дженни — двадцать, чтобы наконец найти любовь всей своей жизни?
Не знаю.
Он на плечах переносит Дженни через болото, и они едут в город в его машине. Временами он едет так медленно, что вполне можно идти рядом с машиной быстрым шагом и разговаривать с ним или, как происходит сегодня, ибо весь Спектер выстроился вдоль тротуаров, чтобы посмотреть, кто это с ним в машине, увидеть, что это прекрасная Дженни Хилл.
С самого первого появления в Спектере мой отец держал за собой маленький белый домик с черными ставнями, что стоит неподалеку от городского парка, на чудесной, как весна, улице, перед домиком — лужайка с мягкой зеленой травой, по одну сторону — розарий, по другую — старый сарай, переделанный под гараж. Высоко на белом заборе торчит красная деревянная птица, которая машет крыльями, когда дует ветер, а на переднем крыльце лежит соломенная циновка, на которой выведено — «Мой Дом».
И все же он никогда не останавливается в нем. За все пять лет с тех пор, как он влюбился в Спектер, он ни разу не ночует в единственном в городе доме, где никто не живет. Пока не приводит в него Дженни с болота, он всегда ночует у других. Но теперь, когда Дженни устраивается в маленьком белом домике с мягкой зеленой лужайкой перед ним, что неподалеку от городского парка, он остается с ней. Он больше не беспокоит жителей Спектера застенчивым стуком в дверь по вечерам («Мистер Блум!» — вопят дети и скачут вокруг него, словно вокруг давно не навещавшего их дядюшки). У него теперь есть свой настоящий дом, и, хотя поначалу это задевает чьи-то чувства и некоторые сомневаются, насколько прилична подобная ситуация, очень скоро все видят, как это мудро: жить с женщиной, которую любишь, в городе, который любишь. «Мудрый» — так они думали о моем отце с самого начала. Мудрый человек, хороший, добрый. Если он делает что-то, что кажется странным — например, идет на болото купить землю, а вместо этого находит женщину, — то просто потому, что остальные не так мудры, и добры, и хороши, как он. И вот очень скоро уже никто не думает плохо о Дженни Хилл, то есть даже никакой задней мысли не имеет, а больше только поражается, как она выдерживает, когда Эдвард уезжает, что, как вынуждены будут признать даже самые снисходительные к нему жители Спектера, случается постоянно.
Они спрашивают себя: «Неужели ей не одиноко? Что она делает, оставаясь одна?» И все в таком роде.
Впрочем, Дженни принимает участие в жизни городка. Помогает устраивать всякие мероприятия в школе и танцы на ежегодной городской ярмарке. После долгой жизни на болоте для нее не составляет труда следить за тем, чтобы ее лужайка всегда была красивой и зеленой, а сад так просто похорошел под ее заботливыми руками. Но бывают ночи, когда соседи слышат, как душа ее жалуется, и, словно он тоже слышит ее, на другой день или, может, через день появляется в городе, медленно проезжает по улицам, приветствуя встречных, и наконец сворачивает к маленькому домику и машет женщине, которую он любит и которая выходит на крыльцо, вытирая руки о фартук, на милом лице сияет, как солнце, улыбка, и она только слегка качает головой и тихо говорит: «Привет!» — почти как если бы он вовсе не уезжал.
Как, между прочим, и все горожане, которые вскоре заходят повидаться с ним. Столько воды утекло с тех пор, как он купил первые участки земли на окраине городка, с тех пор, как стал настолько привычен здесь, что жители начали считать его своим. Его появление в Спектере, невероятное в первый день, на следующий превратилось в естественное. Он владеет каждым дюймом земли в городке и везде в нем чувствует себя как дома. Он ночевал в каждом доме и побывал в каждом заведении; он помнит имя каждого жителя, кличку каждой их собаки, и сколько лет их детям, и когда у кого день рождения. Конечно, дети, которые растут, постоянно видя перед собой Эдварда, первыми принимают его, как они принимают всякое природное явление, всякую постоянную вещь, и это передается взрослым. Пройдет месяц без него, и вот опять придет день, и с ним явится Эдвард. Его старая медленная машина — какое зрелище! «Привет, Эдвард! Скоро зайдем к вам! Наилучшие пожелания Дженни! Заглядывай в наш магазин». Так это длится много лет, и его присутствие в городке становится таким обычным и ожидаемым, что в конце концов кажется, что он не то чтобы никогда не уезжал, но будто вовсе и не было его первого появления, а он был тут всегда. Каждому в этом чудесном крохотном городке, от самых маленьких мальчишек и девчонок до глубочайших стариков, кажется, что Эдвард Блум жил здесь всю жизнь.
В Спектере история превращается в небылицу. Люди смешивают все события, забывают, а вспоминают то, чего не было. То, что остается в их памяти, — сплошной вымысел. Хотя они так и не поженились, Дженни становится его молодой женой, а сам Эдвард — кем-то вроде коммивояжера. Людям нравится сочинять, как они должны были познакомиться. В тот день много лет назад он проезжал через город и увидел ее — где? — с матерью на рынке? «Эдвард не мог отвести от нее глаз» Или нет, не так, это была женщина — маленькая девочка? — которая попросила позволить ей помыть за пять центов его машину и с того дня говорила всем, кто готов был ее слушать: «Он мой. Как только мне исполнится двадцать, я заставлю его жениться на мне». И правда, в день, когда ей исполнилось двадцать, она нашла Эдварда Блума на веранде сельской лавки, где он, и Уиллард, и Уайли, и остальные покачивались в креслах, и, хотя они даже еще ни о чем не договаривались, ей достаточно было протянуть ему руку, и он взял ее, и они ушли вместе, а в следующий раз, когда их увидели, они уже были мужем и женой, мужем и женой, и как раз собирались поселиться в прекрасном маленьком домике с садом, что неподалеку от парка. А может быть…
Это не важно; история их знакомства постоянно меняется. Как все истории. Поскольку ни в одном из вариантов нет ни капли правды, воспоминания горожан обрастают причудливыми деталями, они громко спорят по утрам, когда за ночь вспоминают что-то еще, чего никогда не было, достаточно интересное, чтобы поделиться с другими, и история получает новый поворот, с каждым днем разрастается. Жарким летним утром Уиллард, например, рассказывает о том дне — кто может забыть такое? — когда Эдварду было всего десять и река (которая пропала, высохла, которой больше нет, если посмотрите вокруг) поднялась так высоко, что все испугались: еще капля с черного неба, и город смоет, еще капля дождя упадет в эту обезумевшую реку, и Спектера поминай как звали. Никому не забыть, как Эдвард запел — у него был высокий, замечательный голос — и пошел, запел и пошел из города и как дождь ушел за ним. Как больше ни одной капли не упало в реку, потому что тучи ушли за ним. Он околдовал небесные воды, и появилось солнце, а Эдвард не возвратился, пока дождь не ушел аж к Теннесси, и Спектер был спасен. Кто забудет такое?
Кто-то может предложить новую тему: «А есть ли человек, который добрей к животным, чем Эдвард Блум?» «Если есть такой, покажите его мне; хочу посмотреть на него. Вот я помню, каким добрым был Эдвард к животным еще мальчишкой, ко всем без исключения…»
Эдвард, конечно, не слишком часто бывает в Спектере; в лучшем случае приезжает раз в месяц на пару дней. И пусть на деле их новый богатый хозяин появился в городе как-то под вечер на разбитой машине, под такой же вот вечер, когда миновали сорок лет его жизни, горожане занимаются тем, чем всегда занимались, — рассказывают всяческие байки, но теперь вместо незатейливых рыбацких историй, которыми они довольствовались прежде, это история жизни Эдварда Блума за пределами Спектера, она занимает их, о такой они мечтают для себя, и ею-то он наконец начинает жить в их сознании: Эдвард Блум дал им новую жизнь, они — ему.
И кажется, он считает, что это отличная идея.
То есть не похоже, чтобы он был против.
Но это другая история. В этой же у Дженни не все так хорошо. Так и должно было случиться, не правда ли? Молодой женщине, только недавно покинувшей болото, красивой как никто и никогда, приходится подолгу оставаться одной. О, эти черные дни, когда проходит ее молодость! Она любит Эдварда Блума — и кто сможет осудить ее за это? Нет человека, который не любил бы его. Но он, Эдвард, владеет ключом от ее сердца и, когда уезжает, увозит его с собой.
Что-то немного странное происходит с Дженни, все начинают это замечать. Как она теперь сидит день и ночь у окошка и смотрит вдаль. Люди идут мимо и машут ей, но она их не видит. То, на что она смотрит, где-то очень далеко. Ее глаза горят. Не моргают. И на сей раз Эдвард отсутствует долго, дольше, чем прежде. Все скучают по нему, но особенно Дженни. Дженни скучает по нему больше всех, а потом происходят невероятнейшие вещи.
Кто-нибудь мог бы сказать Эдварду кое о чем, когда он привел ее с болота, о ее странности. Но, похоже, никто не знал Дженни Хилл или ее родителей. Хотя как она двадцать лет жила на болоте и ни единая душа не знала об этом? Может ли быть такое?
Нет, не может. Ну а если никто ничего не говорил Эдварду потому, что это все походило на выдумку? Он был так счастлив. Она в то время казалась милой молодой женщиной. Да она и вправду была очень милая.
Но теперь это осталось в прошлом. Никто из тех, кто видел Дженни Хилл, сидящую с безучастным и угрюмым видом у окошка, не говорил себе: «Какая милая женщина». Нет, люди говорили: «У этой женщины дурное настроение». А глаза у нее горели. Право слово! Люди, которые проходили в сумерках мимо ее дома, клялись, что видели слабые желтые огоньки в окошке, два огонька, ее глаза, горевшие на ее лице. И им становилось жутковато.
Сад, конечно, скоро начинает дичать. Сорняки и ползучие растения заглушают кусты роз, которые в конце концов сохнут. Нестриженая лужайка зарастает травой, становящейся все выше и наконец ложащейся под собственной тяжестью. Сосед хочет помочь ей в саду и во дворе, но когда стучится к ней в дверь, она не отвечает.
Дальше все происходит слишком быстро, чтобы кто-нибудь успел что-то сделать, поскольку все загипнотизированы отчаянием, исходящим от маленького белого домика. В считанные дни разросшиеся лианы укрывают его со всех сторон так, что и не догадаешься, что в их гуще вообще что-то есть.
Потом начинается дождь. Он идет не прекращаясь много дней. Озеро переполняется, плотина, того гляди, прорвется, и во дворе вокруг домика Дженни собирается вода. Сначала это небольшие лужицы, которые соединяются, растут и наконец заполняют все, вокруг нее одна сплошная вода. Она течет на улицу и подступает к дому по соседству. Водяные змеи обнаруживают заводь и поселяются в ней, деревья, чьи корни не могут держаться за размокшую землю, падают. На упавшие деревья вылезают отдохнуть черепахи, и стволы покрываются мхом. Прилетают птицы, каких здесь никогда прежде не видели, и вьют гнезда в трубе домика Дженни, а по ночам из густых темных зарослей доносятся крики неведомых зверей, заставляя горожан дрожать в своих постелях.
Достигнув определенных размеров, когда дом оказывается окруженным со всех сторон пространством глубокой, темной воды, болото перестает расти вширь. Наконец возвращается мой отец и видит, что произошло, но к этому времени болото уже слишком глубокое, дом стоит слишком далеко, и хотя он видит ее горящие глаза, добраться до нее он не может и едет обратно, домой, к жене и сыну. Странствующий герой возвращается, он всегда возвращается к нам. Но когда он снова уезжает по делам, то каждый раз по-прежнему едет сюда, он зовет ее, но она не отвечает. Он больше не может быть с ней и вот почему выглядит таким печальным и усталым, когда возвращается домой, и почему так мало рассказывает о своих поездках.
Начало конца
Смерть всегда является неожиданно. Даже меня ее приближение застало врасплох. Я был на кухне, делал себе бутерброд с арахисовым маслом и джемом. Мать стирала пыль с верха оконной рамы, ту пыль, которую никогда не видишь, пока не влезешь на стремянку и не заглянешь туда, чем она и занималась, и я помню, как подумал, что за несчастная и ужасная у нее жизнь, если даже в тот момент, когда возвращается мой отец, ей приходится вытирать пыль с рамы, где ее вообще незаметно. Он вернулся днем, часа в четыре, что странно, потому что я не мог припомнить, когда последний раз видел, чтобы он приезжал до захода солнца, и, взглянув на него при дневном свете, я понял, в чем дело: он выглядел неважно. Больше того, он выглядел ужасно. Он бросил что-то на стол в столовой и пошел на кухню, жесткие подошвы его туфель стучали по свеженадраенному полу. Мать слышала его шаги и, когда он вошел в кухню, осторожно спустилась со стремянки, бросила тряпку на кухонный стол рядом с хлебной корзинкой, повернулась и взглянула на него с выражением отчаяния, не могу назвать это иначе. Она знала, что он собирается сказать ей, сказать нам. Она знала, что он проходил все те тесты, биопсию, и они в своей мудрости считали лучше скрывать это от меня, пока не получат окончательного ответа, и сегодня ответ стал известен. Потому-то она и вытирала пыль, скопившуюся на верху оконной рамы, потому что сегодня станет известен результат, и она не хотела думать об этом, не хотела сидеть и думать только об одном — что именно узнает сегодня.
Итак, она узнала.
— Он везде, — сказал отец. — Вот так-то. Везде, — сказал он и пошел из кухни, мать поспешила за ним, оставив меня гадать, что, в конце концов, происходит и почему родители так встревожены. Но недолго я гадал.
Я все понял еще до того, как они мне рассказали.
Однако он не умер. Пока. Вместо того чтобы умирать, он начал плавать. У нас давно был бассейн, но отец никогда особенно не увлекался плаванием. Теперь, когда он все время сидел дома и нуждался в физических упражнениях, он почти не вылезал из бассейна, словно родился в воде, словно вода его родная стихия. Он плавал так, что залюбуешься. Скользил, почти не подымая брызг. Его длинное розовое тело, покрытое шрамами, чешуйками отмершей кожи, синяками и ссадинами, блестело, отражаясь в зеркальной глади воды. Он так проникновенно загребал воду, словно ласкал ее, а не использовал ее сопротивление, чтобы плыть вперед. Ноги двигались по-лягушачьи равномерно и четко, а лицо погружалось в воду, словно целуя ее. Это продолжалось часами. От долгого пребывания в воде кожа отмокала и мягчела, становилась белой в складках; однажды я видел, как он медленно, методично отдирал слои этой комковатой отмершей кожи, как у змеи в линьку. Почти все остальное время он спал. Когда же не спал, я, бывало, ловил его напряженный взгляд, устремленный в неведомое, словно ему открылась некая тайна. Наблюдая за ним, я видел, как с каждым днем растет его отчужденность, и не только по отношению ко мне, но и по отношению к этому месту и времени. Видел, как западают его глаза, утратившие огонь и страсть. Как усыхает и увядает его тело. Как он будто прислушивается к голосу, слышимому ему одному.
Я находил некоторое утешение в том факте, что все это происходит ему во благо, что все каким-то образом завершится счастливо и что даже эта его болезнь — метафора чего-то еще: это означало, что он устал от мира. Все стало таким обыкновенным и понятным. Никаких больше великанов, ни всевидящих стеклянных глаз, ни речных девушек, которым он мог спасти жизнь и которые могли появиться потом, чтобы спасти жизнь ему. Он стал всего лишь Эдвардом Блумом: Человеком. Я увидел его, когда он переживал трудный момент. И в этом не было его вины. Просто мир утратил ту магию, которая сообщала такую грандиозность его жизни.
Болезнь была его пропуском в лучший мир.
Теперь я это знаю.
Тем не менее для нас это было лучшее, что могло произойти, это странствие, из которого не возвращаются. Ну, может, не лучшее, но, с учетом всех обстоятельств, не самое плохое. Я видел его каждый божий вечер — чаще, чем до болезни. Но он был все тем же, прежним моим отцом, даже теперь. Чувство юмора ничуть не пострадало. Не знаю, почему это кажется мне важным, но это было важно. Думаю, в некоторых случаях это указывает на определенную жизнестойкость, силу воли, неукротимость духа.
Говорил человек с кузнечиком. Человек сказал: «Знаешь, есть напиток, названный в честь тебя». И кузнечик спросил: «Ты имеешь в виду, что есть напиток, который называется Говард?»
Или вот, например. Человек зашел в ресторан и заказал чашку кофе без сливок. Через несколько минут официант вернулся и говорит, что, к сожалению, сливки кончились. Но есть кофе без молока, не желаете?
Но теперь эти анекдоты даже не очень смешили. Мы просто ждали, когда придет последний день. Пересказывали старые, затертые анекдоты в ожидании, когда наступит конец. Он все больше слабел. Иногда посреди анекдота он забывал его или завершал ударной концовкой — в которой вся соль шутки, но концовкой совершенно другого анекдота.
Бассейн стал приходить в негодность. Мы скоро перестали следить за ним, парализованные ожиданием смерти отца. Никто не чистил его, не добавлял специальных химикатов, чтобы вода оставалась голубой, и на его стенах появились водоросли, а вода стала густо-зеленого цвета. Но папа продолжал плавать в нем до самого конца. Даже когда он стал больше похожим на пруд, чем на бассейн, отец продолжал плавать. Однажды, выйдя проверить, как он там, я, могу поклясться, увидел рыбу — окунь с крохотным ртом, подумал я, — которая выпрыгнула из воды за мухой. Я был в этом уверен.
— Папа? — позвал я. — Ты видел?
Он замер на середине гребка и плыл по инерции.
— Ты видел ту рыбу?
Но тут я рассмеялся, потому что взглянул на моего отца, рассказчика анекдотов, вечного комика, и увидел, какой смешной у него вид. Именно так я подумал, глядел на него и думал: «Какой смешной у него вид». Но конечно же, он вовсе не замирал на середине гребка. Он потерял сознание, и его легкие наполнились водой. Я вытащил его из бассейна и вызвал «скорую». Потом надавил ему на живот, и вода хлынула из него, как из крана. Я ждал, что он откроет глаза, подмигнет и засмеется, обратит этот реальный случай во что-то небывалое, что-то по-настоящему ужасное и забавное, что-то, на что можно оглянуться, чтобы посмеяться над этим. Я держал его за руку и ждал.
Ждал долго.
Смерть моего отца. Дубль 4
Итак, вот как это наконец произошло. Остановите меня, если буду повторяться. Мой отец умирал. Его тело внутри кислородной палатки в Мемориальном госпитале Джефферсона, его маленькое усохшее тело казалось холодным и прозрачным, будто он уже был призрак. Мать ждала со мной, но сейчас отошла, то ли поговорить с врачами, то ли пройтись, потому что у нее болела спина, и я остался с отцом один, временами брал его за руку и ждал.
Врачи, которых многие, упоминая их, называли «командой», выглядели мрачными, даже оставившими всякую надежду. Это были доктор Ноулз, доктор Миллхаузер, доктор Винчетти. Каждый — светило в своей области. Каждый наблюдал отца в соответствии со своей специальностью и сообщал о результатах доктору Беннету, нашему старому семейному врачу, который, как капитан команды, был универсалом. Он сводил воедино детали их постоянных отчетов, заполнял пробелы, после чего представлял нам Общую Картину. Иногда при этом, переоценивая наши познания в медицине, он употреблял термины, которых набрался во времена учебы: почечная недостаточность, например, или хроническая гемофилическая анемия. Эта последняя, анемия, как он объяснял, особенно ослабляла сопротивляемость организма, поскольку при ней в нем поддерживалось избыточное количество железа, что создавало потребность в периодическом переливании крови, приводило к неспособности усваивать побочные продукты кроветворения, обесцвечиванию кожи и чрезвычайной чувствительности к свету. По этой причине, несмотря на то что мой отец находился в глубокой коме, в его палате всегда стояла полутьма: боялись, что, если он вдруг выйдет из комы, шок от яркого света убьет его.
У доктора Беннета было старое, усталое лицо. Круги под глазами походили на коричневые колеи на проселочной дороге. Он много лет был нашим доктором, даже не знаю сколько. Но он был хорошим доктором, и мы ему доверяли.
— Не буду ничего скрывать от вас, — сказал он нам в тот вечер, положив руку мне на плечо: мы стали еще ближе за то время, что наблюдали за ухудшающимся состоянием отца. — Хочу все высказать теперь со всей откровенностью.
Он посмотрел на меня, потом на маму и как будто снова задумался.
— В этот раз мистер Блум может не выкарабкаться.
И мать, и я сказали почти в унисон:
— Понимаем.
— Есть пара вещей, — продолжал он, — которые мы хотим попытаться сделать, мы не теряем надежды, ни в коем случае. Но мне уже приходилось встречаться с подобным. Это печально, я… я знал Эдварда Блума четверть века. Я больше не чувствую себя его врачом. Я чувствую себя его другом, понимаете? Другом, который хотел бы ему помочь. Но без аппаратов… — Доктор Беннет печально покачал головой, не договорив роковых слов.
Я повернулся и пошел прочь, а он продолжал разговаривать с матерью. Я вошел в палату отца и сел возле его койки. Я сидел там, ждал — сам не зная чего — и смотрел на те невероятные аппараты. Это, конечно, была не жизнь. Только поддержка искры жизни в организме. Это была придуманная медицинским миром замена чистилища. Я мог видеть на мониторе, с какой частотой он дышит. Лихорадочную синусоиду сердца. И еще пару волнистых линий и цифры, и, не имея никакого представления, что они означают, я тем не менее следил и за ними. По правде сказать, скоро я уже смотрел только на эти аппараты, а не на отца. Они стали им. Они рассказывали мне его историю.
Что напоминает мне один из его анекдотов. Я всегда буду помнить его анекдоты, но этот буду помнить особенно. Это фамильная ценность. Я до сих пор пересказываю его вслух, будучи один, так, как он мне его рассказывал, его словами, я начинаю: один человек… Один человек живет в большой бедности, но ему нужен новый костюм. Нужен новый костюм, а он не может позволить себе купить его, и тут он видит такой костюм на распродаже в магазине, и цена подходящая, и костюм такой, какой ему хочется, красивый темно-синий костюм в тонкую полоску, — и он покупает его. Он покупает его и надевает прямо в магазине, и галстук в тон, и все такое, но юмор — наверно, стоило упомянуть об этом раньше — юмор в том, что костюм ему не подходит. Совсем не подходит. Он просто слишком велик. Но это его костюм, правильно? Это его костюм. И чтобы было не так заметно, что он ему велик, ему приходится прижимать локоть к телу, вот так, а другую руку вытягивать, вот так, и идти ему приходится приволакивая одну ногу, чтобы отвороты не подметали асфальт, — этому худенькому коротышке в огромном костюме, — в котором, как я сказал, он выходит из магазина, выходит на улицу. И он думает про себя: «Какой прекрасный костюм я купил!» — и идет по улице, руки вот так — отец показывает, как именно, — и волоча одну ногу, и улыбается как идиот, радуясь удачной покупке, — костюм! на распродаже! — и встречает двух старушек, там, на авеню. Они смотрят на него, и одна качает головой и говорит другой: «Какой несчастный, несчастный человек!» И та отвечает: «Да, но какой прекрасный на нем костюм!»
И это конец анекдота.
Но у меня не получается рассказывать так, как рассказывал отец. Не получается приволакивать ногу, как он это делал, и, хотя это самый смешной анекдот, какой я слышал в жизни, я не смеюсь. Не могу. Даже когда старушка говорит: «Да, но какой прекрасный на нем костюм!» — я не смеюсь. Не могу смеяться.
Я делаю другое.
Думаю, от этого он и очнулся, вернулся ненадолго в мир, подумав, что самое время подбодрить меня шуткой.
Господи, ничего себе шутка!
Я смотрю на него, он смотрит на меня.
— Воды, — говорит он. — Дай мне воды.
Он просит воды!
И голос — его прежний голос, низкий и рокочущий, заботливый и нежный. Мама, слава Богу, все еще в коридоре, разговаривает с доктором. Я подаю ему воду, и он подзывает меня к койке, единственного своего сына, меня, единственного своего ребенка, и хлопает по краю койки, чтобы я сел рядом, да? Я сажусь на краешек. На приветствия да «как вы с матерью поживаете» нет времени, и мы оба это понимаем. Он оживает и смотрит на меня, сидящего рядом на стуле, и хлопает по краю койки, чтобы я сел рядом. Я сажусь, и он говорит, прежде сделав крохотный глоток из пластиковой чашки.
— Сын, — говорит он, — я обеспокоен.
И он говорит это таким слабым голосом, что мне становится ясно, не спрашивайте, каким образом, но мне ясно, что, с аппаратами или без, это последний раз, когда я вижу его живым. Завтра он умрет.
И я спрашиваю:
— Что тебя беспокоит, папа? То, что будет там?
А он говорит:
— Нет, чучело. Меня беспокоишь ты.
Говорит:
— Ты идиот. Ты даже в полицию не сможешь угодить без моей помощи.
Но я не обижаюсь: он пытается шутить. Он пытается шутить, и это лучшее, что он может сделать! Теперь я знаю — он обречен.
И я говорю:
— Не беспокойся обо мне, папа. Со мной все будет в порядке. Все у меня будет хорошо.
На что он говорит:
— Я отец, я не могу не беспокоиться. Отец всегда беспокоится. А я твой отец, — повторяет он, чтобы я наверняка понял, — и, как отец, я старался научить тебя кое-чему. Действительно старался. Может, я не слишком часто бывал дома, но когда бывал, старался тебя научить. И вот что я сейчас хочу знать — как считаешь, у меня получилось? — И только я собираюсь ответить, он просит: — Погоди! Не отвечай! — просит он и изо всех сил пытается улыбнуться. Но у него не слишком-то получается. Он больше не в состоянии улыбаться. Поэтому он говорит, он говорит мне, умирая на своей койке передо мной, этот человек — мой отец — говорит: — Ох, ладно, продолжай. Скажи мне, пока я не умер. Просто расскажи, чему я тебя научил. Расскажи все, что узнал о жизни благодаря мне, чтобы я мог спокойно умереть, чтобы мне не надо было так беспокоиться. Просто… скажи что-нибудь.
Я смотрю в его серо-голубые умирающие глаза. Мы смотрим друг на друга, запоминаем взгляд, лицо, которые унесем с собой в вечность, и я думаю: как бы мне хотелось, чтобы я знал его лучше, как бы хотелось, чтобы мы жили вместе, чтобы отец не был для меня такой совершенной и полной проклятой тайной…
— Один человек… — говорю я. — Один человек живет в большой бедности, и ему нужен новый костюм, но…
Крупная рыба
И он улыбается. Потом обводит взглядом палату и подмигивает мне. Подмигивает!
— Давай выбираться отсюда, — говорит он хриплым шепотом.
— Выбираться отсюда? Папа, но ты не в состоянии…
— Там, в ванной комнате, стоит сложенная каталка, — говорит он. — Укутай меня в одеяло. Как только проскочим холл, окажемся на свободе. Но времени у нас мало. Поспеши, сын!
Я сделал, как он просил, сам не знаю почему. Зашел в ванную комнату и увидел, что он прав. За дверью стояла каталка, сложенная, как детская прогулочная коляска. Я разложил ее и подкатил к его койке, завернул его в бледно-коричневое одеяло, накинув на голову угол, как монашеский капюшон. Поднял его, ужасающе легкого, и переложил в каталку. Я вряд ли стал сильней за несколько последних месяцев, но он очень похудел.
— Вперед! — скомандовал он.
Я приотворил дверь и выглянул в коридор. Мать стояла у столика дежурной сестры и слушала доктора Беннета, кивая и утирая слезы платочком. Я повез отца в противоположную сторону. Я не смел оглянуться, чтобы проверить, не заметили ли они нас. Просто шел быстрым шагом, толкая перед собой каталку и надеясь на лучшее, и, дойдя до конца коридора, свернул за угол. Только тогда я позволил себе бросить взгляд назад.
Никого.
Пока все шло хорошо.
— Ну, куда теперь? — спросил я, переводя дыхание.
— К лифтам, — сказал он глухим голосом из-под одеяла. — И вниз, к выходу. Машину припарковал у главного входа?
— Да.
— Тогда вези меня туда, — сказал он. — Скорей. У нас мало времени.
Подошел лифт, и я затолкал его внутрь. Дверь закрылась за нами, а когда снова открылась, я выкатил его из лифта и с бесшабашным видом ринулся мимо толпы врачей в зеленых и белых халатах, мимо медсестер с историями болезней, бросавших на нас подозрительные взгляды, а потом останавливавшихся, глядя нам вослед. Все в вестибюле застыли и смотрели на нас, чувствуя, что-то тут не то, но я уже мчался с бешеной скоростью, и никто не успел ничего сообразить и остановить нас. Они просто смотрели на нас, словно увидели что-то невероятное, — и так оно и было, даже еще более невероятное, чем им казалось. Мы выскочили на улицу и помчались к машине сквозь прохладный весенний ветер.
— Отличная работа, — сказал он.
— Спасибо.
— Тем не менее нужно спешить, Уилл, — сказал он. — Мне нужна вода. Нужна позарез.
— В машине есть, — успокоил я его. — Полный термос.
— Этого мало, — сказал он и засмеялся.
— Устроим и больше.
— Знаю, ты устроишь, сын, — сказал он. — Я это знаю.
Домчавшись до машины, я поднял его и усадил на переднее сиденье. Сложил каталку и бросил назад.
— Она нам не понадобится, — сказал он.
— Не понадобится?
— Нет, там, куда мы едем. — Мне послышалось, будто снова раздался его смех.
Но он не сказал мне, куда мы едем, во всяком случае не сразу. Я просто ехал подальше от всего: госпиталя, его старого офиса, от дома. Я посмотрел на него, ожидая, что он скажет, куда ехать, но он молчал, закутавшись в одеяло. Минуту спустя он спросил:
— Где твой термос?
— Ох, забыл, — сказал я. — Держи.
Термос стоял на сиденье у меня под боком. Я отвинтил крышку и протянул его ему. Из-под складок одеяла появилась дрожащая чешуйчатая рука и забрала термос. Но вместо того, чтобы пить, он вылил воду на себя. Одеяло все намокло.
— Ах, хорошо, — вздохнул он. — То, что нужно.
Но одеяло не стал снимать.
— Поезжай на север, на шоссе номер один, — велел он, но мне пришлось напрячь слух, чтобы расслышать его. Одеяло заглушало его голос, звучавший словно издалека.
— На север, на шоссе номер один? — переспросил я.
— Там есть местечко, — сказал он. — Река. Местечко у реки.
— Эдвардова роща, — чуть слышно пробормотал я.
— Ты что-то сказал? — переспросил он.
— Нет.
Я проехал город, окраины, где над крышами домов и верхушками деревьев вставало солнце, и наконец мы вырвались за город, на зеленый, дивный простор. Он распахнулся перед нами, окружил нас: деревья, и фермы, и коровы, и лазурное небо — жилище облаков и случайных птиц. Когда-то я уже ехал этой дорогой.
— Далеко еще? — спросил я его.
— Думаю, мили две, — ответил он. — Надеюсь, не больше. А то я неважно себя чувствую.
— А что там? — спросил я, но вместо ответа увидел, как затрепетало мокрое одеяло и оттуда донесся булькающий, стонущий звук, словно ему было очень больно.
— Ты как? — спросил я.
— Бывало и лучше, — ответил он. — Я чувствую себя как тот парень…
Который заходит в бар, на голове у него сидит лягушка, на плече — птица, а сбоку — кенгуру, и бармен говорит: «Привет, не так уж часто к нам заходят кенгуру». И кенгуру говорит: «А что ты хочешь, при таких ценах, как у тебя, ты их вообще можешь больше не увидеть!»
А потом он говорит, чуть ли не вопит:
— Здесь!
Я съехал с дороги.
Это место не было Эдвардовой рощей, насколько я знаю, а может, и было. Там был твой старый дуб, раскинувший корни в темной и влажной земле. Были твои рододендроны. Твой кролик, который лениво скакал прочь, оглядываясь на нас. И была твоя река, чистая быстрая река, каких, казалось тебе, больше нет на свете, бегущая, омывая камни величиной с небольшую, машину, бурля на порогах, прозрачная, как воздух, голубая, как небо, белопенная, как облака.
Не знаю, как он увидел ее через одеяло.
— Неси меня к воде, — сказал он, или мне так послышалось, его голос был теперь так слаб, что приходилось догадываться, что он говорит. Он сказал: «Неси меня к воде», и: «Не представляешь, как я благодарен тебе за это», и: «Когда увидишь свою мать… когда увидишь свою мать, попрощайся с ней за меня». Итак, я вынул его из машины, спустился по мшистому берегу к реке и стоял там, держа его на руках. И я знал, что должен сделать дальше, но не мог. Я просто стоял там, на берегах этой реки, держа его тело, завернутое в одеяло, пока он не сказал: «Сейчас тебе, наверно, захочется отвернуться», — а потом: «Пожалуйста!» — и внезапно я почувствовал, как в моих руках бьется жизнь, фантастическая, неистовая, которую невозможно удержать, даже если бы я захотел, а я хотел. Но в следующий миг в руках у меня осталось лишь пустое одеяло, потому что мой отец прыгнул в реку. И только тогда я понял, что мой отец вовсе не был при смерти. Он просто менялся, превращался во что-то новое и иное, чтобы начать другую жизнь.
Все это время мой отец превращался в рыбу.
Я видел, как он метнулся в одну сторону, в другую — серебристый, сверкающий, блистающий — и скрылся в темной глубине, куда уходит крупная рыба, и с тех пор я его больше не видел — хотя другие видели. Я уже слышал истории о спасенных жизнях и исполненных желаниях, о детях, которых он катал на спине, о рыбаках в разных океанах и реках от Бофорта до Хайанниса, которые оказывались в воде, когда их лодку опрокидывала озорная рыба, и такой крупной рыбы они никогда не видали, и они рассказывают свои истории всем, кто готов их слушать.
Но никто не верит им. Ни единому их слову.