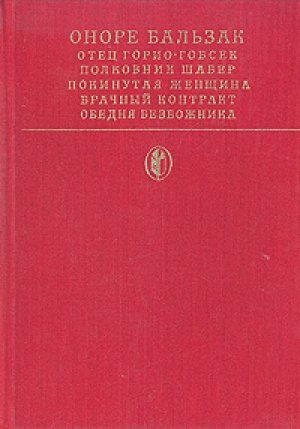
Герцогине д'Абрантес
преданный слуга Оноре де Бальзак
Ранней весной 1822 года парижские врачи отправили в Нижнюю Нормандию одного молодого человека, только что поднявшегося после тяжелой болезни, вызванной переутомлением — то ли от усиленных занятий, то ли от бурной жизни. Для восстановления здоровья ему был необходим полный покой, легкая, здоровая пища, прохладный климат и полное отсутствие сильных впечатлений. Плодородные поля Бессена и бесцветная провинциальная жизнь несомненно должны были помочь его выздоровлению. Он приехал в Байе, хорошенький городок, расположенный в двух лье от моря, к одной из своих кузин, принявшей его с особым радушием, свойственным людям, которые привыкли жить уединенно и для которых приезд родственника или друга — счастливое событие.
Все маленькие города, если не считать кое-каких мелочей обихода, похожи один на другой. И вот после нескольких вечеров, проведенных у своей кузины, г-жи де Сент-Север, и у знакомых, составлявших ее общество, молодой парижанин барон Гастон де Нюэйль вполне изучил этих людей, олицетворявших весь город во мнении их собственного замкнутого круга. Таким образом, он увидел неизменный подбор действующих лиц, какой проезжие наблюдатели всегда находят в многочисленных столицах бывших государств, из которых встарь состояла Франция.
Первое место тут занимает некая семья, чья родовитость, — пусть об этом ничего не известно, едва отъедешь на пятьдесят лье, — в пределах департамента считается бесспорной и возводится к древнейшим временам. Такая королевская династия в миниатюре своими родственными отношениями, хотя никто этого и не подозревает, соприкасается с Наварренами и Гранлье, примыкает к Кадиньянам и связана с Бламонами-Шоври. Глава этого прославленного рода — непременно заядлый охотник. Человек дурно воспитанный, он всех подавляет знатностью своего имени; он лишь с трудом терпит супрефекта, скрепя сердце платит налоги, не признает никаких новых властей, созданных девятнадцатым веком; для него то обстоятельство, что первый министр не дворянин, — политическая несообразность. Его жена говорит резким тоном и не допускает возражений; в прошлом были у нее поклонники, но она женщина набожная; дочерей своих воспитывает плохо, считая, что родовитость — достаточное для них приданое. Ни муж, ни жена не имеют представления о современной роскоши: ливреи слуг, серебро, мебель, кареты — все у них старинного фасона, они старомодны как в укладе жизни, так и в языке. А приверженность к старине к тому же прекрасно сочетается с провинциальной бережливостью. Словом, это все то же дворянство былых времен, но без вассальных податей, без гончих, без шитых золотом кафтанов; все они кичатся друг перед другом, все преданы королевскому дому, однако при дворе не бывают. Эта безвестная историческая фамилия своеобразна наподобие старинного гобелена. В семье непременно доживает свой век какой-нибудь дядюшка или брат, генерал-лейтенант, кавалер орденов, придворный, который сопутствовал маршалу Ришелье в Ганновер, — вы его найдете здесь, как находите случайно сохранившийся обрывок старого памфлета времен Людовика XV.
С этими ископаемыми соперничает другая семья, более богатая, но менее родовитая. Муж и жена проводят два зимних месяца в Париже, откуда привозят легкомысленное расположение духа и воспоминания о мимолетных увлечениях. Жена любит наряжаться, жеманится и всегда отстает от столичных дам. Однако ж она подсмеивается над провинциальной косностью своих соседей; у нее модное серебро, она держит грумов, лакеев-негров, камердинера. У старшего сына есть тильбюри, он бездельничает: он наследует майорат; младший состоит аудитором в государственном совете. Главе семьи подробно известны все министерские интриги, он рассказывает анекдоты о Людовике XVIII и мадам дю Кэля; свой капитал он помещает из пяти годовых, избегает разговоров о сидре, но порой им овладевает страсть к подсчету чужих состояний; он член генерального совета, одевается в Париже и носит крест Почетного легиона. Словом, этот дворянин понял дух Реставрации и извлекает выгоду из палаты, но его роялизм менее бескорыстен, чем роялизм семейства, с которым он соперничает. Он получает «Газетт» и «Деба». Первая семья читает только «Котидьен».
Епископ, бывший старший викарий, лавирует между обоими могущественными семействами, воздающими должное его сану, хотя временами они дают ему почувствовать мораль басни славного Лафонтена «Осел, нагруженный священными реликвиями». Монсеньор — не дворянского рода.
Затем следуют звезды второй величины: дворяне, имеющие ренту в десять — двенадцать тысяч ливров; в прошлом это были или морские капитаны, или ротмистры, или же попросту никто. Теперь они верхом разъезжают по дорогам, наподобие то ли приходского священника, везущего святые дары, то ли сборщика податей. Почти все они состояли в пажах или мушкетерах, а теперь мирно доживают свой век, выкачивая доходы из имения, и больше интересуются порубкой леса и сидром, чем монархией. Но любят поговорить о хартии и либералах между двумя робберами виста или во время партии в триктрак, после того как подсчитают, какое приданое дают за такой-то невестой, и всех переженят в соответствии с родословными, которые они знают наизусть. Их жены важничают и с видом придворных дам восседают в своих плетеных кабриолетах; закутавшись в шаль и надев чепчик, они мнят себя очень нарядными; они покупают после долгих обсуждений две шляпы в год и получают их из Парижа с оказией, Обычно они болтливы и добродетельны.
При этих главных представителях аристократической породы состоит еще несколько старых дев благородного происхождения, разрешивших проблему обращения человеческого существа в окаменелость. Они как бы вросли в те дома, где вы их встречаете; их лица, наряды слились с домашней обстановкой, с городом, с провинцией; они хранители местных традиций, происшествий, общественного мнения. Они чопорны и величавы, умеют кстати улыбнуться или покачать головой, иногда произнести словцо, которое почитается остроумным.
Несколько богатых буржуа благодаря своим аристократическим воззрениям или состоянию проникли в это подобие Сен-Жерменского предместья. Несмотря на то, что им лет под сорок, о них говорят: «У этого молодого человека неплохая голова», — и делают их депутатами. Обычно им покровительствуют старые девы, что, разумеется, вызывает пересуды. Наконец в это избранное общество допущены некоторые духовные лица — одни из уважения к их сану, другие за свой ум; наскучив обществом друг друга, знать вводит к себе в гостиные буржуазию, как булочник кладет в тесто дрожжи.
Воззрения, скопившиеся во всех этих головах, составились из некоторого количества старинных понятий, к ним примешались кое-какие новые, и эта жвачка сообща пережевывается каждый вечер. Подобно воде в маленькой бухте, фразы, выражающие их мысли, совершенно однообразны в своем постоянном движении, в своем ежедневном приливе и отливе; тот, кто раз услышал пустое звучание их разговора, будет слышать его и завтра, и через год, и во веки веков. Их суждения о делах житейских составляют некую нерушимую научную систему, к которой ни один человек не властен добавить хотя бы крупицу сознательной мысли. Жизнь этих рутинеров ограничена кругом привычек, столь же неизменных, как их религиозные, политические, моральные и литературные взгляды.
Если какой-либо посторонний человек будет допущен в этот сплоченный кружок, каждый не без иронии скажет ему: «Вы у нас не найдете блеска вашего парижского света!» — и каждый осудит образ жизни своих соседей, давая понять, что он один является исключением в этом обществе и безуспешно пытался внести в него живую струю. Но если, на беду свою, этот посторонний подтвердит каким-нибудь замечанием то мнение, которого они держатся друг о друге, он сейчас же прослывет злым человеком, без стыда и совести, настоящим парижанином, развращенным, как и вообще все парижане.
Когда Гастон де Нюэйль попал в этот светский мирок, где строго соблюдался этикет, где жизнь текла размеренно и каждый был осведомлен о делах другого, где родовитость и богатство котировались как биржевые ценности, упоминаемые на последних страницах газет, он заранее получил оценку при помощи точных весов местного общественного мнения. Его кузина, г-жа де Сент-Север, уже сообщила о размерах его состояния, о видах на наследство, родословной, превозносила его связи, вежливость и скромность. Ему был оказан именно тот прием, на который он мог рассчитывать, его приняли как человека родовитого, но запросто, потому что ему было только двадцать три года; однако иные молодые особы и некоторые мамаши сразу же стали строить ему куры. Его владения в долине Ож приносили восемнадцать тысяч ливров дохода, а рано или поздно отец должен был оставить ему в наследство замок Манервиль со всеми угодьями. Образование, возможность политической карьеры, личные достоинства и таланты — это никого не интересовало. В его владениях земля была плодородна, арендная плата хорошо обеспечена, насаждения были в превосходном состоянии, всякого рода починки и уплата налогов были возложены на фермеров, яблоням насчитывалось тридцать восемь лет; отец вел переговоры о покупке двухсот арпанов леса, примыкающего к его парку, и собирался все обнести оградой, — никакая известность, никакая министерская карьера не могли конкурировать с такими преимуществами. То ли из коварства, то ли из расчета, г-жа де Сент-Север умолчала о старшем брате, и Гастон тоже не упоминал о нем. Впрочем, брат этот страдал болезнью легких; можно было ожидать, что его скоро похоронят, погорюют и забудут о нем. Гастона де Нюэйля сначала забавляли все эти персонажи; он без прикрас как бы зарисовал в своем альбоме их морщинистые топорные лица, крючковатые носы, причудливые костюмы и ужимки; позабавился их особым нормандским говором, безыскусственностью их мыслей и характеров. Но, втянувшись в эту жизнь, столь похожую на верчение белки в колесе, он ощутил всю монотонность этого раз навсегда налаженного распорядка, точно у монахов в монастырях, и у него наступил перелом — он еще не дошел до скуки или отвращения, но, во всяком случае, был уже близок к этому. Претерпев такую болезненную пересадку, живой организм начинает приживаться на чужой почве, сулящей ему только жалкое прозябание. И если ничто не вырвет человека из этой среды, он незаметно усвоит ее привычки и примирится с ее бессодержательностью, которая засосет и обезличит его, Гастон уже привык дышать этим воздухом. Он испытывал почти что удовольствие от растительной жизни, дни его текли без мыслей и забот; он уже стал забывать то брожение жизненных соков, то наблюдаемое вокруг зарождение все новых и новых мыслей, с которым сжился душою в Париже; он стал превращаться в окаменелость среди этих окаменелостей; он уже готов был остаться так навсегда, подобно спутникам Улисса, и был доволен своим животным благополучием.
Однажды вечером Гастон де Нюэйль сидел в обществе пожилой дамы и одного из старших викариев епархии в гостиной с серыми панелями, со светлым плиточным полом, с несколькими фамильными портретами на стенах, с четырьмя карточными столами, вокруг которых расположились шестнадцать человек и, беседуя, играли в вист. Тут, бездумно предаваясь пищеварению после изысканного обеда — главного события дня в провинциальной жизни, он поймал себя на том, что начинает примиряться с местными привычками. Он больше не удивлялся тому, что эти люди пользуются колодами карт, не раз бывшими в употреблении, и тасуют их на столах с потертым сукном, не следят за своей одеждой ни ради себя, ни ради окружающих. Он усматривал какую-то мудрость в однообразном течении провинциальной жизни, в размеренном спокойствии привычек и пренебрежении ко всему изящному. Он уже готов был согласиться, что роскошь не нужна. Париж с его страстями, бурями, удовольствиями уже стал для него как бы воспоминанием детства. Он теперь искренне любовался красными руками, робким и скромным видом какой-нибудь молодой особы, меж тем как по первому впечатлению лицо ее показалось ему преглупым, манеры лишенными грации, весь облик отталкивающим и смехотворным. Он был человек конченый. Если бы не случайная фраза, услышанная им и приведшая его в волнение, подобное тому, какое вызывает необычный мотив, ворвавшийся в музыку скучной оперы, Гастон де Нюэйль, провинциал, переселившийся в Париж, готов был уже позабыть его лихорадочную жизнь и вернуться к бессмысленному провинциальному существованию.
— Вы, кажется, были вчера у госпожи де Босеан? — спросила пожилая дама у главы знатнейшей в этих краях фамилии.
— Я был у нее сегодня утром, — ответил он. — Госпожа де Босеан была так грустна и так плохо себя чувствовала, что я не мог уговорить ее отобедать у нас завтра.
— Как! Вместе с госпожой де Шампиньель? — удивленно спросила почтенная вдова.
— Да, с моей женой, — спокойно ответил маркиз. — Не забудьте, что госпожа де Босеан принадлежит к Бургундскому дому, — правда, по женской линии; но, как бы то ни было, это имя все оправдывает. Моя жена любит виконтессу, и бедняжка так давно живет в одиночестве, что…
Сказав последние слова, маркиз де Шампиньель окинул спокойным, холодным взглядом окружающих, которые прислушивались, испытующе глядя на него; трудно угадать, были ли продиктованы эти слова маркиза состраданием к несчастью виконтессы или же преклонением перед ее знатным родом, было ли ему лестно принимать ее, или хотелось из гордости заставить провинциальных дворян и их жен встречаться с ней.
Дамы переглянулись, как бы советуясь друг с другом; затем в гостиной все внезапно смолкло, и молчание это можно было истолковать как знак неодобрения.
— Уж не та ли это госпожа де Босеан, о которой было так много толков в связи с маркизом д'Ажуда-Пинто? — спросил барон де Нюэйль у своей соседки.
— Та самая. Она поселилась в Курселе после женитьбы маркиза д'Ажуда; у нас здесь ее не принимают. Впрочем, она очень умна и, отлично сознавая, насколько ложно ее положение, сама ни с кем не искала встреч. Господин де Шампиньель и еще несколько мужчин отправились к ней с визитом, но она приняла только господина де Шампиньеля, — может быть потому, что он состоит в родстве с семьей де Босеанов. Ее свекор, маркиз де Босеан, был женат на одной из Шампиньелей старшей линии. Хотя считается, что виконтесса де Босеан происходит из Бургундского дома, вы понимаете, что мы не могли принять в свой круг женщину, которая разошлась с мужем. Это старые устои, но мы еще имеем глупость их придерживаться. Виконтесса тем более заслуживает порицания за свои эскапады, что господин де Босеан — человек благородный, истый придворный: он нашел бы выход из положения. Но его жена так безрассудна…
Гастон де Нюэйль слышал голос своей собеседницы, но не слушал ее. Он погрузился в мир бесконечных мечтаний. Существует ли другое слово, чтобы выразить всю прелесть романтического приключения в тот миг, когда оно только улыбается воображению, в тот миг, когда в душе зарождаются неясные надежды, предчувствие неизъяснимого блаженства, тревожные сомнения, рисуются разнообразные события, но ничто еще не дает пищи и определенности причудам фантазии! Мысль порхает тогда, рождая несбыточные мечты, где в зародыше скрыты все упоения страсти. Но, может быть, зародыш страсти заключает в себе всю страсть целиком, как семя заключает в себе цветок со всем его ароматом и богатством красок! Гастон де Нюэйль не знал, что г-жа де Босеан уединилась в Нормандии после скандала, который вызывает осуждение и зависть большинства женщин, в особенности когда очарование молодости и красоты почти оправдывает ошибку, вызвавшую такой шум. Есть какая-то непостижимая притягательная сила в любой славе, какова бы та ни была. Кажется, о женщинах, так же как о некоторых древних родах, можно сказать, что слава их преступления заставляет забывать о его позоре. Подобно тому как знатная семья гордится своими казненными предками, так и красивая молодая женщина бывает еще привлекательнее благодаря роковой известности, которую дала ей счастливая любовь или жестокая измена. Женщина вызывает тем больше сочувствия, чем прискорбнее ее ошибка. Мы беспощадны только к заурядным делам, чувствам и похождениям. Привлекая к себе взоры, мы кажемся значительными. И действительно, чтобы быть замеченным, надо чем-то выделиться. Толпа невольно уважает всякого, кто над ней возвысился, и не задумывается над тем, какими средствами это достигнуто. В ту минуту Гастон де Нюэйль почувствовал, что его влечет к г-же де Босеан, — может быть, неосознанное воздействие этих причин, а может быть, и любопытство или потребность внести нечто новое в свою жизнь, или, наконец, стечение тех неизъяснимых обстоятельств, которые часто называются роком. Г-жа де Босеан вдруг возникла перед его взором в сопровождении чарующих видений: она для него была новым миром; быть может, она заставит его трепетать, надеяться, бороться и побеждать. Она должна отличаться от тех людей, которые окружают его в этой пошлой гостиной; ведь она поистине женщина, а он еще не видел ни одной настоящей женщины в этом бездушном обществе, где расчет заменял чувства, где вежливость была только обязанностью, где высказать или одобрить самое простое суждение было уже дерзостью. Г-жа де Босеан пробуждала в его душе воспоминание о юношеских мечтах и пылкие страсти, на время уснувшие в нем. До конца вечера Гастон де Нюэйль был рассеян. Он изыскивал способ проникнуть к г-же де Босеан и понимал, что это невозможно. О ней говорили, что она чрезвычайно умна. Но если умные женщины ценят своеобразие и тонкость чувств, то тем они требовательнее и проницательнее. В трудной задаче им понравиться возможностей преуспеть не больше, чем потерпеть фиаско. То положение, в каком находилась виконтесса, заставляло ее быть высокомерной, а ее имя повелевало ей держать себя с достоинством. Полное одиночество, в котором она жила, казалось, было еще наименьшей преградой, воздвигнутой между нею и светом. Незнакомцу, хотя и благородного происхождения, невозможно было проникнуть к ней. Тем не менее на следующее утро Гастон де Нюэйль отправился на прогулку в сторону усадьбы Курсель и несколько раз обошел вокруг ограды. Поддавшись мечтам, столь свойственным его возрасту, он то заглядывал в пролом ограды, то смотрел поверх ее, пытался проникнуть взором сквозь решетчатые ставни или же заглянуть в открытые окна. Он надеялся на какой-нибудь необычайный случай, уже обдумывал, как воспользоваться им, чтобы попасть в дом к незнакомке, не сознавая всей нелепости своих планов. Несколько дней подряд каждое утро ходил он в Курсель, но все напрасно; после каждой такой прогулки эта женщина, осужденная светом, жертва любви, как бы погребенная в уединении, все больше занимала его мысли, заполняла его душу. И сердце Гастона билось от радостной надежды, когда, бывало, шагая вдоль стен Курселя, он слышал тяжелые шаги садовника.
Он решил написать г-же де Босеан; но что сказать женщине, которую ты никогда не видел и которая тебя не знает? Кроме того, Гастон был не уверен в себе и, подобно всем молодым людям, еще не утратившим иллюзий, пуще смерти боялся презрительного молчания, дрожал при мысли, что его первое любовное письмо будет брошено в камин. Тысячи противоречивых мыслей одолевали его и боролись в нем. Создавая один фантастический проект за другим, сочиняя целые романы, он, изрядно поломав себе голову, в конце концов, как это всегда бывает при подобных упорных поисках, набрел на счастливый способ показать женщине, пусть даже самой целомудренной, всю силу страсти, внушенной ею. Часто между женщиной и ее возлюбленным встает столько действительных препятствий, созданных условностями общества, что самые причудливые вымыслы, которыми восточные поэты украшают свои сказки, почти не кажутся преувеличением. В нашем мире, так же как и в мире фей, женщина всегда должна принадлежать тому, кто умеет пробиться к ней и освободить ее от страданий. Нищий дервиш, влюбленный в дочь калифа, без сомнения, не был дальше от нее, чем Гастон от г-жи де Босеан. Виконтесса и не подозревала об осаде, подготовляемой Гастоном де Нюэйлем; его любовь росла от возникавших перед ним препятствий: они придавали его нежданной возлюбленной ту прелесть, какой обладает все недосягаемое.
И вот, уповая на свое вдохновение, он во всем положился на любовь, которую виконтесса прочтет в его глазах. Убежденный, что разговор всегда красноречивее письма, полного самых страстных излияний, и рассчитывая на женское любопытство, он отправился к г-ну де Шампиньелю искать у него помощи в задуманном им деле. Гастон сказал г-ну де Шампиньелю, что у него есть важное и весьма деликатное поручение к г-же де Босеан, однако он не уверен, пожелает ли она читать письмо, написанное незнакомой рукой, и оказать доверие неизвестному ей человеку, поэтому он просит г-на де Шампиньеля узнать у виконтессы при первом же свидании, соблаговолит ли она принять его. Взяв с г-на де Шампиньеля слово сохранить все в тайне в случае отказа, он весьма остроумно внушил маркизу, какие привести доводы, чтобы повлиять на решение виконтессы. Ведь маркиз — человек честный, благородный, он не способен потворствовать чему-либо бестактному, а тем более неблагопристойному! Высокомерный аристократ, польщенный в мелком своем самолюбии, был обманут этими уловками, ибо любовь придает молодому человеку спокойную уверенность и скрытность опытного дипломата. Маркиз старался разгадать секрет Гастона, но тот, не зная, что сказать, уклончиво отвечал на хитро поставленные вопросы де Шампиньеля, который, как истый французский рыцарь, похвалил его за скромность.
Господин де Шампиньель поспешил в Курсель с величайшей готовностью, какую обычно проявляют пожилые люди, оказывая услугу красивым молодым женщинам. Жизненные обстоятельства виконтессы де Босеан были таковы, что это поручение не могло не возбудить ее любопытства. Хотя, порывшись в своей памяти, она не нашла никаких оснований для посещения Гастона де Нюэйля, но вместе с тем не видела причин для отказа, — после того как предусмотрительно осведомилась о его положении в свете. Однако виконтесса начала с отказа; затем обсудила с г-ном де Шампиньелем эту просьбу с точки зрения этикета, стараясь при расспросах уловить, известны ли ему самому причины предполагаемого визита; наконец дала согласие. Эти разговоры и вынужденные умолчания маркиза еще сильнее возбудили ее любопытство.
Маркиз де Шампиньель не желал попасть в смешное положение и вел себя как человек, посвященный в тайну, но скромный, полагая, что виконтессе, вероятно, известна причина визита, тогда как виконтесса тщетно старалась угадать ее. Г-жа де Босеан в своем представлении связывала г-на де Нюэйля с людьми, которых он даже не знал, терялась в нелепых догадках и задавала себе вопрос, видела ли она его когда-нибудь. Самое искреннее или самое искусное письмо любви не могло произвести того впечатления, какое произвела эта своеобразная неразрешимая загадка, к которой то и дело возвращались мысли г-жи де Босеан.
Узнав о согласии виконтессы принять его, Гастон пришел в восторг от того, что так быстро добился страстно желаемого счастья, но был сильно смущен, не зная, как завершить свой маневр.
— Ах, только бы увидеть ее, — повторял он, одеваясь. — Увидеть ее — это самое главное!
Гастон надеялся, что, перешагнув порог Курселя, он найдет способ развязать гордиев узел, завязанный им самим. Он принадлежал к тем людям, которые, веря во всемогущество случая, всегда идут вперед и в последнюю минуту, очутившись лицом к лицу с опасностью, вдохновляются ею и находят в себе силы преодолеть ее. Он решил одеться особенно тщательно. По обыкновению молодых людей, он воображал, будто его успех зависит от того, как лежит завиток волос, не зная, что в юноше все чарует и привлекает. Впрочем, незаурядных женщин, подобных г-же де Босеан, можно пленить только чарами ума и благородством характера. Возвышенный характер приятен для их самолюбия, сулит возвышенную страсть и кажется способным удовлетворить запросам их сердца. Ум в мужчине доставляет им развлечение, отвечает вкусам их изысканной натуры, — им кажется, что они поняты. Разве не все женщины желают, чтобы их занимали, понимали и обожали? Но только хорошо зная жизнь, усвоишь, что высшее кокетство — не щеголять при первой встрече ни своим нарядом, ни своим умом. Когда мы становимся достаточно проницательны и могли бы действовать как тонкие политики, мы уже слишком стары, чтобы воспользоваться нашим опытом. Гастон, не надеясь на обаяние своего ума, старался произвести впечатление внешностью, да и г-жа де Босеан тоже инстинктивно внесла особую изысканность в свой туалет и, заботливо укладывая волосы, оправдывалась перед собой: «Все же незачем быть пугалом».
На всем облике, складе ума и манерах Гастона лежал отпечаток какой-то своеобразной наивности, — она придавала особую прелесть и самым обыденным его движениям и мыслям, позволяла ему безнаказанно высказывать все, что угодно. Он был образован, проницателен, у него было приятное и подвижное лицо, отражавшее впечатлительную душу. Живой, чистосердечный взгляд его был исполнен непритворной нежности и страсти. Решение, которое он принял, переступив порог Курселя, вполне гармонировало с его открытым характером и пылким воображением. Хотя любовь придает смелости, сердце у него трепетало, когда, пройдя через внутренний двор, где был разбит английский сад, он вошел в зал и слуга, спросив его имя, пошел доложить, а затем вернулся за ним.
— Барон де Нюэйль!
Гастон вошел медленно, но довольно непринужденно, что особенно трудно, когда в гостиной не двадцать женщин, а только одна. В уголке, где пылал, несмотря на летнее время, яркий огонь и с камина два канделябра проливали мягкий свет, он увидел молодую женщину в модном кресле с очень высокой спинкой и низким сиденьем, позволявшим ей принимать разнообразные грациозные и изящные позы: то опускать голову, то склонять ее набок или медлительно подымать, словно под тяжестью большого бремени; скрещивать ножки, слегка показывать их и снова прятать под складками длинного черного платья. Виконтесса протянула руку, чтобы положить на круглый столик книгу, которую читала, но так как при этом она повернула голову в сторону Гастона де Нюэйля, то книга, положенная на край стола, соскользнула и упала между столом и креслом. Не обратив внимания на книгу, молодая женщина выпрямилась и едва заметно, почти не приподымаясь с кресла, в котором она утопала, ответила на поклон гостя. Она наклонилась к огню и быстро помешала угли; потом подняла перчатку, небрежно надела ее на левую руку, бросила было взгляд в поисках второй перчатки, но не нашла, и белоснежной правой рукой, почти прозрачной, без колец, хрупкой, с удлиненными пальцами и розовыми ногтями безупречной овальной формы, она указала незнакомому посетителю на стул, приглашая сесть. Когда Гастон сел, она с неописуемым изяществом, кокетливо и вопросительно повернула голову в его сторону; этот поворот головы, выражавший благосклонность, был одним из тех грациозных, хотя и заученных движений, которые вырабатываются благодаря воспитанию и привычке к жизни, полной изящества. Гамма непрерывных и плавных движений очаровала Гастона тем оттенком изысканной небрежности, какой красивая женщина придает аристократическим манерам высшего круга. Г-жа де Босеан так отличалась от тех мумий, среди которых ему пришлось больше двух месяцев прожить изгнанником в глуши Нормандии, что она мгновенно стала олицетворением его мечтаний; да и всех женщин, встречавшихся ему прежде, она затмила своим несравненным совершенством. Эта женщина и эта гостиная, убранная, как гостиные Сен-Жерменского предместья, полная дорогих безделушек, разбросанных по столам, полная книг и цветов, вновь вернули его в Париж. Его ноги погружались в настоящий парижский ковер, он снова видел перед собою знакомый облик хрупкой парижанки, ее пленительную грацию, чуждую надуманных поз, которые так невыгодно отличают провинциалок.
Виконтесса де Босеан была блондинкой с темными глазами и ослепительно белой кожей, какая бывает только у блондинок. Она смело являла миру свое чело, благородное чело падшего ангела, гордого своей греховностью и не желающего прощения. Пышные косы были уложены высоко над двумя полукружиями волос, окаймлявшими лоб, и придавали ей еще большую величавость. Этот венец золотых кос воображение отождествляло с короной бургундских герцогов, а в сверкающих глазах этой знатной дамы чувствовалась смелость ее славного рода, смелость женщины, отвечающей презрением на оскорбление и вместе с тем чуткой к нежным порывам души. Маленькая голова была чудесно посажена на гибкой белой шее, тонкие черты подвижного лица, нежно очерченные губы носили отпечаток очаровательной скрытности, легкой нарочитой иронии, в которой сквозило лукавство и дерзость. Легко было простить ей эти женские грехи, вспомнив о ее несчастьях, о той страсти, которая едва не стоила ей жизни, что подтверждали морщины, часто набегавшие на ее лоб, и выразительная печаль ее прекрасных, нередко обращенных к небу глаз. Какое внушительное зрелище, еще дополненное воображением, являла эта женщина в огромном безмолвном зале, женщина, отказавшаяся от всего мира и жившая уже три года в тиши маленькой долины, вдали от города, наедине с воспоминаниями о своей блестящей молодости, полной радостей и страсти, поклонения и празднеств, меж тем как теперь ее уделом стало небытие. Улыбка этой женщины свидетельствовала, что она сознает свое достоинство. Она не была ни матерью, ни супругой, была отвергнута светом, лишена той единственной любви, на которую без стыда могла отвечать; и ее раненая душа оказалась без опоры, силу для жизни ей нужно было черпать в себе самой, замкнуться в своем одиночестве, ждать от будущего только того, что лишь одно остается покинутой женщине: во цвете лет думать о смерти, молить о том, чтобы она пришла скорее. Чувствовать себя рожденной для счастья и гибнуть, не получая и не давая его… какое страдание для женщины! Все эти мысли с быстротою молнии пронеслись в голове Гастона, и он почувствовал себя таким ничтожным перед этой женщиной, жизнь которой была овеяна самой высокой поэзией. Под тройным обаянием — ее красоты, ее скорби, ее благородства — он, не находя слов, застыл перед виконтессой в мечтательном восторге.
Госпожа де Босеан, польщенная произведенным впечатлением, приветливо, но властно протянула ему руку, а затем, как бы повинуясь женской природе, призвала улыбку на бледные свои уста и сказала:
— Господин де Шампиньель сообщил мне, что вы любезно согласились передать мне поручение. Вероятно, оно от…?
Услышав эти роковые слова, Гастон еще сильнее ощутил, в какое неловкое положение поставил себя, как бестактно и бессовестно он поступил с такой благородной, такой несчастной женщиной. Он покраснел. Его глаза, отражавшие тысячи мыслей, выдавали его смущение. Но вдруг он овладел собой, — юные души умеют черпать силы в признании своих ошибок, — и, прервав г-жу де Босеан жестом, полным покорности, он взволнованно ответил ей:
— Сударыня, я не заслуживаю счастья видеть вас; я вас недостойно обманул. Как бы ни было велико мое чувство, оно не может оправдать презренный обман, к которому я прибег, чтобы к вам проникнуть. Но, сударыня, может быть, вы разрешите сказать вам…
Виконтесса гордо и презрительно посмотрела на Гастона, подняла руку к шнуру звонка и позвонила; вошел камердинер, она сказала ему, с достоинством глядя на молодого человека:
— Жак, осветите барону лестницу.
Она встала, надменно поклонилась Гастону и нагнулась, чтобы поднять упавшую книгу. Насколько грациозно и мягко приветствовала она Гастона, настолько же сухо и холодно держалась она теперь. Г-н де Нюэйль поднялся, но не уходил. Г-жа де Босеан снова посмотрела на него, как бы говоря: «Вы еще здесь?»
В ее глазах была такая язвительная насмешка, что Гастон побледнел, точно был близок к обмороку. Однако, сдержав набежавшие слезы, осушив их огнем отчаяния и стыда, он бросил на г-жу де Босеан даже несколько гордый взгляд, в котором готовность подчиниться сочеталась с чувством собственного достоинства: виконтесса имела право наказать его, но так ли это было необходимо? Он вышел. Когда он уже был почти у самой лестницы, осторожность и обостренная страстью сообразительность открыли ему всю опасность положения.
«Если я сейчас покину этот дом, — подумал он, — я больше никогда не вернусь сюда; в глазах виконтессы я навсегда останусь глупцом. Каждая женщина — а она настоящая женщина! — всегда угадывает, что она любима; может быть, у нее закралось смутное и невольное сожаление, что она так резко отказала мне от дома; но ей самой уже нельзя, невозможно изменить свое решение; мое дело — угадать ее волю».
При этой мысли Гастон остановился на лестнице и, как бы спохватившись, воскликнул:
— Ах, я позабыл у виконтессы…
Он пошел назад в гостиную в сопровождении камердинера, который привык уважать титулы и священное право собственности и был введен в заблуждение непринужденным тоном Гастона. Барон де Нюэйль вошел тихо, без доклада. Когда виконтесса подняла голову, очевидно, предполагая, что вошел камердинер, перед ней стоял Гастон.
— Жак осветил мне все, — произнес он, улыбаясь.
Эти слова сопровождались прелестной, слегка грустной улыбкой и прозвучали совсем не шутливо, а задушевно.
Госпожа де Босеан была обезоружена.
— Садитесь, — произнесла она.
Гастон с радостной поспешностью придвинул стул. Его взор сиял счастьем, и г-жа де Босеан невольно опустила глаза в книгу, предаваясь неизменно новому наслаждению быть источником блаженства для мужчины, — чувство, никогда не покидающее женщину. Гастон верно угадал ее желание. Женщина всегда благодарна тому, кто понимает логику ее своенравного сердца, противоречивый с виду ход мыслей, прихотливую стыдливость чувств, то робких, то смелых, удивительное сочетание кокетства и наивности.
— Сударыня, — тихо произнес Гастон, — вы знаете, в чем мой проступок, но вам неизвестны мои преступления. О, каким счастьем для меня было…
— Берегитесь, — сказала виконтесса, в знак предостережения поднося палец к своему носику, и тут же протянула другую руку к шнуру звонка.
Этот прелестный жест, эта грациозная угроза, вероятно, вдруг пробудили в ней печальные воспоминания, мысли о счастливой жизни, о тех днях, когда все в ней могло радовать и чаровать, когда счастье оправдывало любые причуды ее души и наделяло особой привлекательностью самые незначительные движения. Она нахмурила брови; ее лицо, так мягко освещенное свечами, приняло мрачное выражение; она серьезно, хотя и не сурово, посмотрела на г-на де Нюэйля и сказала с глубочайшей убежденностью:
— Все это только смешно! Прошло то время, когда я имела право быть безрассудно веселой, когда я могла бы посмеяться вместе с вами и принимать вас без опасений; теперь моя жизнь совсем переменилась, я больше не могу жить, как мне хочется, я должна обдумывать каждый свой поступок. Каким чувством вызвано ваше посещение? Любопытством? Тогда я слишком дорого плачу за ваше мимолетное удовольствие. Ведь не могли же вы страстно полюбить женщину, если вы никогда ее не видели, а все вокруг только злословили о ней! Значит, ваши чувства были подсказаны неуважением ко мне, моей ошибкой, которой суждено было получить широкую огласку.
В досаде она бросила книгу на стол.
— Что же это? — воскликнула она, метнув на Гастона грозный взгляд. — Если я раз поддалась слабости, свет думает, что так будет и впредь? Это чудовищно, унизительно. Быть может, вы явились пожалеть меня? Но вы слишком молоды, чтобы сочувствовать душевным страданиям. И знайте, сударь, я уж скорей предпочту презрение, нежели жалость: соболезнования мне не нужны.
Наступило молчание.
— Итак, вы видите, сударь, — сказала она, приподняв голову и спокойными, печальными глазами посмотрев на Гастона, — каковы бы ни были мотивы, которые побудили вас так необдуманно проникнуть в мое уединение, вы оскорбили меня. Вы слишком молоды, чтобы в душе вашей угасли все добрые чувства, вы поймете, как недостойно вы поступили; я вас прощаю и говорю с вами без горечи. Не правда ли, вы больше не придете сюда? Я прошу вас об этом, а могла бы приказать. Если вы снова посетите меня, весь город заподозрит здесь любовную историю, — не в вашей и не в моей власти будет разуверить его, и к моим огорчениям вы добавите еще новое глубокое огорчение. Надеюсь, вы этого не желаете.
Она замолкла, посмотрев на него с таким неподражаемым достоинством, что он смутился.
— Я виноват, — ответил он сокрушенно, — но пылкость чувств, безрассудство, жажда счастья — это и сильные и слабые стороны моего возраста. Теперь-то я понял, что не должен был добиваться возможности увидеть вас, — продолжал он, — но желание мое было вполне естественно…
Вкладывая в свои слова больше чувства, нежели рассудка, он попытался описать ей ту горькую участь, на которую его обрекло вынужденное изгнание. Он обрисовал душевное состояние молодого человека, когда ничто не питает его жарких чувств, и стремился внушить ей, что он заслуживает нежной любви, а между тем никогда не знал любовных радостей, какие может дать красивая молодая женщина с возвышенной душой и утонченным вкусом. Отнюдь не пытаясь оправдаться, он вместе с тем объяснил ей, как это случилось, что он нарушил правила приличия. Г-же де Босеан не могли не польстить его уверения, что она воплотила в себе тот идеал возлюбленной, о котором постоянно, но тщетно мечтает большинство юношей. Потом, рассказывая о своих утренних прогулках вокруг Курселя и о непокорных мыслях, осаждавших его, когда он смотрел на дом, куда наконец проник, он добился того непостижимого снисхождения, которое женщины находят в своем сердце к безрассудствам, внушенным ими. Его голос звучал страстью, врываясь в эту ничем не согретую, одинокую жизнь, внося в нее горячую юношескую воодушевленность и тонкую прелесть мысли, свидетельствовавшую об изысканном воспитании. Г-жа де Босеан слишком долго была лишена того душевного волнения, какое вызывается искренним чувством, высказанным в красивых словах, — и она упивалась ими. Выразительное лицо Гастона невольно привлекало ее взгляд, она восхищалась его верой в жизнь, еще не уничтоженной жестокими уроками света, не убитой вечными расчетами тщеславия и честолюбия. Гастон был в самом расцвете молодости, в нем чувствовался человек с твердым характером, еще не осознавший своего высокого назначения. Итак, оба, таясь друг от друга и от самих себя, предались размышлениям, чреватым опасностью для их душевного покоя.
Гастон де Нюэйль видел в виконтессе одну из тех редкостных женщин, которые всегда являются жертвами своего совершенства и своей неиссякаемой нежности; женщин, чья пленительная красота — еще наименьшее их очарование для того, кому они открывают свою душу, где чувства беспредельны и чисты, где любовь, в чем бы только она ни проявлялась, соединяется со стремлением к прекрасному, одухотворяя само сладострастие и превращая его чуть ли не в святыню, — дивный секрет женщины, чудесный и редкий дар природы. Со своей стороны, виконтесса, тронутая искренностью Гастона, рассказывавшего о злоключениях своей юности, угадывала, какие муки причиняет застенчивость взрослым двадцатипятилетним младенцам, если занятия наукой охранили их от развращенности и общения со светскими людьми, рассудочная опытность которых разъедает прекрасные свойства юноши. Гастон олицетворял для нее мечту всех женщин — мужчину, еще не ограничившего свои интересы семейным эгоизмом и заботами о семейном благосостоянии, свободного и от себялюбия, которое готово убить в зародыше самоотверженность, честь, способность жертвовать собою, уважение к себе, обречь на безвременное увядание все цветы души, что смолоду украшают жизнь нежными, но сильными чувствами и поддерживают в человеке чистоту сердца. Блуждая по необъятным просторам чувства, оба мысленно зашли очень далеко, стараясь взаимно проникнуть в самую глубину души, проверить искренность друг друга. Это испытание, безотчетное у Гастона, было обдуманным у г-жи де Босеан. Пользуясь природной гибкостью своего ума и своим жизненным опытом, она, желая испытать Гастона, не бросив, однако, на себя тени, нарочно высказывала мнения, ничуть не отвечавшие ее собственным. Она была так остроумна, так мила, так непринужденна в своей беседе с молодым человеком, которого уже не опасалась, не предполагая больше встречаться с ним, что Гастон в ответ на одно из ее блестящих замечаний простодушно воскликнул:
— Сударыня, как возможно было покинуть вас!
Виконтесса не ответила ни слова. Гастон покраснел, испугавшись, не оскорбил ли он ее. А между тем эта женщина была охвачена настоящей, глубокой радостью — впервые со дня своего несчастья. Самый опытный светский соблазнитель, призвав на помощь все свое искусство, не добился бы большего успеха, чем достиг его Гастон своим невольным восклицанием. Это восклицание, плод юношеского чистосердечия, снимало с нее вину, опровергало приговор света, обвиняло того, кто ее покинул, объясняло то упорное уединение, в котором она томилась. Оправдание в глазах света, сердечное сочувствие, уважение общества — все, чего она так желала и в чем ей было отказано, — словом, все то, о чем она мечтала в глубине души, было выражено в этом возгласе, в котором сочетались чары невольной тонкой лести и восхищения, неизменно любезные женскому сердцу. Ее поняли, ее оценили; Гастон де Нюэйль дал ей возможность возвеличиться в своем падении. Она взглянула на часы.
— Сударыня, — взмолился Гастон, — не наказывайте меня за некстати вырвавшееся слово. Если уж вы согласились подарить мне один-единственный вечер, так прошу вас — не отнимайте его.
В ответ на пылкую речь она улыбнулась.
— Так как мы никогда впредь не увидимся, не все ли равно — одним мгновением больше или меньше, — сказала она. — Если бы вы увлеклись мною, это было бы несчастьем.
— Несчастье уже случилось, — печально произнес он.
— Не говорите так, — строго сказала она. — Если бы моя жизнь сложилась иначе, я охотно принимала бы вас. Буду с вами откровенна, вы поймете, почему я не хочу и не могу вас принимать. Я верю, вы человек с душой возвышенной, вы должны понять, что я для всех стану презренной, пошлой женщиной, ничем не отличающейся от всех остальных, если на меня падет хотя бы подозрение, что я оступилась вторично. Только чистая, ничем не запятнанная жизнь возвысит меня. Я слишком горда, чтобы не стараться жить обособленно в обществе, где я стала жертвой закона — из-за своего брака, жертвой людей — из-за любви. Живи я иначе, я бы действительно заслужила те порицания, какими меня преследуют, я потеряла бы уважение к себе самой. Я не обладала той высокой общественной добродетелью, которая велит принадлежать нелюбимому человеку. Я нарушила предписания закона, порвав узы брака. Это было ошибкой, преступлением, всем, чем хотите, но для меня этот союз был подобен смерти. А я хотела жить. Если бы я была матерью, быть может, я нашла бы в себе силы переносить пытку брака, чтобы соблюсти приличия. В восемнадцать лет мы, несчастные девушки, не понимаем того, к чему нас принуждают. Я нарушила законы света, и свет наказал меня; мы оба были правы — и я и свет. Я искала счастья. Разве это не закон нашей природы — желать его? Я была молода, я была хороша. Мне казалось, что я встретила человека, в котором любовь так же сильна, как страсть. И какое-то время он действительно любил меня…
Она умолкла, затем продолжала:
— Я верила, что никогда мужчина не покинет женщину в том положении, в каком я была. Но он покинул меня; значит, я перестала ему нравиться. Вероятно, я нарушила какой-то закон природы: может быть, любила слишком сильно, слишком многим жертвовала или была слишком требовательна — не знаю. Несчастье многому меня научило. Сперва я обвиняла, но теперь я готова признать одну себя преступной. Приняв вину на себя, я простила того, кого обвиняла. Я не сумела удержать его, и судьба жестоко наказала меня за это. Я умею только любить: разве можно думать о себе, когда любишь? Я была рабыней, а мне надо было стать тираном. Тот, кто поймет меня, может меня осудить, но не откажет мне в уважении. Страдания научили меня: я не хочу еще раз быть покинутой. Не понимаю, как я еще жива, как я могла перенести все муки первой недели после такого крушения, самого ужасного в жизни женщины. Нужно было прожить три года в одиночестве, чтобы обрести силы говорить о моем горе, как я сейчас говорю с вами. Агония обычно кончается смертью, а это была настоящая агония, сударь, только она не привела к могиле. Да, я немало выстрадала!
Виконтесса подняла свои прекрасные глаза к карнизу, которому, несомненно, доверила то, что не полагалось слышать постороннему человеку. Карниз — это самый кроткий, самый преданный, самый дружественный наперсник, какого только может найти женщина, когда она не смеет взглянуть на своего собеседника. Карниз будуара имеет весьма серьезное назначение. Разве это не исповедальня — только что без духовника? В ту минуту г-жа де Босеан была красноречива и прекрасна, — следовало бы сказать, кокетлива, если бы уместно было подобное выражение. Возводя между собой и любовью неодолимые преграды, доказывая их необходимость, она тревожила все чувства мужчины; чем недоступней становилась цель, тем желанней она была. Наконец г-жа де Босеан перевела взгляд на Гастона, погасив блеск в глазах, вызванный памятью о пережитых страданиях.
— Согласитесь, что я должна оставаться равнодушной и одинокой, — спокойно заключила она.
Гастон де Нюэйль почувствовал непреодолимое желание упасть к ногам этой женщины, прекрасной в своем благоразумном безрассудстве, но он боялся показаться смешным; он обуздал свои восторги и отогнал свои мысли, он опасался, что не сумеет выразить их, да еще и встретит жестокий отказ или насмешку, боязнь которой леденит самые пылкие души. Борьба чувств, которые он сдерживал, когда они так и рвались из его сердца, вызвала у него глубокую боль, хорошо знакомую людям застенчивым и честолюбцам, всем, кто часто принужден подавлять свои порывы. Однако он не мог побороть себя и нарушил молчание, произнеся дрожащим голосом:
— Разрешите мне, сударыня, дать волю самому большому чувству, какое я испытывал в своей жизни, признаться в том, что вы заставили меня пережить. Вы возвысили мою душу! У меня одно желание — посвятить вам всю свою жизнь, чтобы вы забыли свои несчастья, любить вас за всех тех, кто вас ненавидел или оскорблял. Но мое сердечное излияние так внезапно, что вы вправе быть недоверчивой, и я должен был бы…
— Довольно, сударь, — прервала его г-жа де Босеан. — Мы оба зашли слишком далеко. Я хотела смягчить мой вынужденный отказ, хотела объяснить вам его печальные причины и вовсе не добивалась вашего поклонения. Кокетство пристало только счастливой женщине. Верьте мне, мы должны остаться друг другу чужими. Потом вы поймете, что нельзя связывать себя узами, которые неизбежно когда-нибудь оборвутся.
Она слегка вздохнула, лоб ее прорезала морщина, но тотчас же он снова стал безупречно ясным.
— Какие страдания испытывает женщина, — продолжала она, — которая не может сопутствовать любимому человеку на жизненном пути! И разве эта глубокая печаль не отзовется болезненно в сердце мужчины, если он действительно любит? Разве это не двойное несчастье?
Наступило минутное молчание, а затем, поднимаясь в знак того, что гостю пора уходить, она сказала с улыбкой:
— Собираясь в Курсель, вы, вероятно, не ожидали услышать проповедь?
И Гастон сразу почувствовал, что эта необычайная женщина стала еще более далека от него, чем в первую минуту встречи. Приписывая очарование этого восхитительного часа тому, что виконтесса, как хозяйка дома, захотела щегольнуть блеском своего ума, он холодно поклонился ей и вышел совершенно обескураженный. По дороге домой барон старался уяснить себе истинный характер этой женщины, гибкий и крепкий, как пружина; но перед ним промелькнуло столько оттенков ее настроений, что он не мог составить себе правильное суждение о ней. В ушах звенели все интонации ее голоса, в воспоминании еще прелестней казались ее движения, поворот головы, игра глаз, и, размышляя о ней, он еще сильнее увлекся ею. Красота виконтессы все еще сияла перед ним, и в темноте, полученные впечатления вставали, как бы притягиваемые одно другим, чтобы вновь обольщать его, открывая ему новые, не замеченные им прелестные оттенки ее женского обаяния, ее ума. Им овладело одно из тех смутных настроений, когда самые ясные мысли сталкиваются между собой, разбиваются одна о другую и на миг повергают душу в бездну безумия. Только тот, кто сам молод, способен испытать и понять этот восторг, когда душу осаждают и самые здравые и самые безумные мысли, и по воле неведомых сил она подчиняется наконец либо мысли, рождающей надежду, либо мысли, несущей отчаяние. В возрасте двадцати трех лет в мужчине преобладает чувство скромности; чисто девическая застенчивость и робость овладевают им, он страшится неумело выразить свою любовь, во всем видит только трудности, пугается их, он боится не понравиться, — он был бы смелым, если бы не любил так сильно; чем выше он ценит счастье, которое могла бы ему дать женщина, тем меньше надеется его добиться; кроме того, может быть, он сам слишком полно отдается наслаждению и боится не дать его возлюбленной; если, по несчастью, его кумир недоступен, он тайно, издали поклоняется ему; если его любовь не разгадана, она угасает. Часто эта мимолетная страсть, погибшая в молодом сердце, остается в нем яркой мечтой. У кого нет этих невинных воспоминаний, которые впоследствии встают все пленительней и пленительней и претворяются в образ совершенного счастья, — воспоминаний, похожих на детей, умерших в столь нежном возрасте, что родители помнят только их улыбки. Гастон де Нюэйль вернулся из Курселя во власти чувств, подсказывавших ему решения, от которых должна была перемениться вся его жизнь. Без г-жи де Босеан он уже не мыслил своего существования; он предпочитал умереть, чем жить без нее. Он был настолько молод, что мог всецело поддаться жестокому обаянию, которым прекрасная женщина покоряет девственные и страстные души, и ему пришлось провести одну из тех бурных ночей, когда мечты о счастье чередуются с мыслями о самоубийстве, когда юноши упиваются всей радостью жизни и засыпают в изнеможении. Величайшее несчастье — проснуться философом после такой роковой ночи. Гастон де Нюэйль, слишком влюбленный, чтобы уснуть, встал и начал писать письма, но ни одно его не удовлетворило, он сжег все, что написал.
На следующий день он пошел бродить вокруг ограды Курселя, но лишь когда уже стемнело, чтобы виконтесса не увидела его. Чувства, которым он при этом повиновался, принадлежат к столь загадочным движениям души, что надо быть юношей или самому находиться в подобном положении, чтобы понять все их прихоти, всю их тайную сладость; счастливцы, склонные видеть в жизни одну лишь позитивную сторону, только пожмут плечами. После мучительных колебаний Гастон написал г-же де Босеан письмо, — оно может служить образцом стиля, свойственного влюбленным, и напоминает те картинки, какие под большим секретом рисуют дети ко дню рождения родителей, — подношения, которые всем кажутся жалкой мазней, за исключением тех, кто их получает.
«Сударыня!
Вы так завладели моим сердцем, моей душой, всем моим существом, что с этого дня судьба моя всецело зависит от Вас. Не бросайте в камин мое письмо. Будьте ко мне благосклонны и прочтите его. Может быть, Вы простите мне первую фразу моего письма, поняв, что это не пошлое и обдуманное признание, а выражение неподдельного чувства. Может быть, Вас тронет скромность моих просьб, моя покорность, внушенная Вашим превосходством, и то, что вся моя жизнь зависит от Вашего решения. Я так молод, что умею только любить, я не знаю, что может нравиться женщине, чем ее можно привлечь; но сердце мое полно опьяняющего обожания. Меня непреодолимо влечет к Вам, при Вас я полон безмерной радости, я думаю о Вас непрестанно, — это себялюбивое чувство, ибо Вы для меня источник жизни. Я не считаю себя достойным Вас. Нет, нет, я слишком молод, застенчив, не искушен в жизни для того, чтобы дать Вам хотя бы тысячную долю того счастья, какое я испытывал, когда слышал Ваш голос, когда видел Вас. Для меня Вы единственная в мире. Не представляя себе жизни без Вас, я решил покинуть Францию и сложить свою голову, участвуя в каком-нибудь опасном предприятии в Индии, в Африке, все равно где. Ведь победить свою безмерную любовь я могу только чем-то необычайным. Но если Вы оставите мне надежду, — не принадлежать Вам, нет, а лишь добиться Вашей дружбы, — я не уеду. Разрешите мне проводить подле Вас, — хоть изредка, если уж нельзя иначе, — несколько часов, подобных тем, которые я у Вас похитил. Этого мимолетного счастья, которое Вы вправе отнять у меня при первом пылком слове, достаточно мне, чтобы смирять жар в крови. Но не слишком ли я рассчитываю на Ваше великодушие, умоляя Вас терпеть отношения, столь желанные для меня, столь неугодные Вам? Впрочем, Вы сумеете показать свету, — которому Вы так много приносите в жертву, — что я для Вас ничто. Вы так умны и так горды! Чего Вам опасаться? Как бы я хотел открыть Вам свое сердце и уверить Вас, что в моей смиренной просьбе не кроется никакой затаенной мысли! Я не стал бы говорить Вам о своей безграничной любви, когда просил Вас подарить мне Вашу дружбу, если бы надеялся, что Вы когда-нибудь разделите глубокое чувство, похороненное в моей душе. Нет, нет, я согласен быть для Вас кем хотите, только лишь быть подле Вас. Если Вы мне откажете, — а это в Вашей власти, — я не буду роптать, я уеду. Если когда-нибудь другая женщина займет какое-то место в моей жизни, тогда окажется, что Вы были правы; но если я умру верным своей любви, может быть, Вы почувствуете сожаление! Надежда на это сожаление смягчит мои муки, — другой мести не нужно будет моему непонятому сердцу…»
Тот, кто не познал сам всех пленительных горестей юношеских лет, тот, чье горячее воображение не уносила ввысь, сверкая белизной, четверокрылая прекраснобедрая химера, — тот не поймет терзаний Гастона де Нюэйля, когда он подумал, что его первый ультиматум уже находится в руках г-жи де Босеан. Он представил себе виконтессу холодной, насмешливой, издевающейся над любовью, как это делают люди, которые больше не верят в нее. Он хотел бы взять письмо обратно, — оно казалось ему теперь нелепым, ему приходили на ум тысяча и одна мысль, гораздо более удачные, слова, гораздо более трогательные, чем эти проклятые натянутые фразы, хитросплетенные, мудреные, вычурные фразы, — к счастью, с очень плохой пунктуацией и написанные вкривь и вкось. Он пытался не думать, не чувствовать, но он думал, чувствовал, мучился. Если бы ему было тридцать лет, он чем-нибудь одурманил бы себя, но он был наивным юношей, не познавшим еще услад опия и других даров высшей цивилизации. Рядом с ним не было ни одного из тех добрых парижских друзей, которые умеют так кстати сказать: «Paete, non dolet»[1], — протягивая бутылку шампанского или увлекая на бесшабашный кутеж, — чтобы усыпить все муки неизвестности. Чудесные друзья! Когда вы богаты — они обязательно разорились, когда вы в них нуждаетесь — они непременно где-нибудь на водах, когда вы просите взаймы — они, оказывается, проиграли последний луидор; зато у них всегда наготове лошадь с изъяном, которую они стараются вам сбыть; зато они самые добрые малые на свете и всегда готовы отправиться с вами в путь, чтобы вместе катить под гору, растрачивая время, и душу, и жизнь.
Наконец Гастон де Нюэйль получил из рук Жака письмо, написанное на листочках веленевой бумаги, запечатанное благоуханной печатью с гербом Бургундии, — письмо, от которого веяло очарованием красивой женщины.
Гастон заперся у себя, чтобы читать и перечитывать ее письмо.
«Вы, сударь, строго наказали меня за доброе желание смягчить суровость отказа и за то, что я поддалась неотразимому для меня обаянию ума… Я поверила в благородство юности, но Вы обманули меня. А между тем хотя я и не открыла всего своего сердца, что было бы смешно, но все же говорила с Вами искренне; я объяснила Вам свое положение, чтобы моя холодность стала понятна Вашей молодой душе. Вы не были мне безразличны, — но тем сильнее боль, которую Вы мне причинили. От природы во мне есть доброта и мягкость, но жизнь ожесточила меня. Всякая другая женщина сожгла бы, не читая, Ваше письмо; я его прочла и отвечаю на него. Мои слова докажут Вам, что хоть я и не осталась равнодушна к чувству, которое невольно вызвала, но отнюдь не разделяю его, и мое поведение еще лучше докажет Вам мою искренность. Затем я желала бы один только раз, ради Вашего блага, воспользоваться той властью над Вашей жизнью, которой Вы облекаете меня, и снять пелену с Ваших глаз.
Мне скоро минет тридцать лет, сударь, а Вам никак не больше двадцати двух. Вам самому неизвестно, каковы будут Ваши стремления, когда Вы достигнете моего возраста. Все Ваши клятвы, которые Вы с такой легкостью даете сегодня, позднее могут Вам показаться обременительными. Я верю, что сейчас Вы без сожаления отдали бы мне свою жизнь, Вы даже согласились бы умереть за недолгое счастье; но в тридцать лет, отрезвленный жизненным опытом, Вы сами стали бы тяготиться ежедневными жертвами, а мне было бы оскорбительно принимать их. Придет день, когда все, даже сама природа, повелит Вам покинуть меня; я уже сказала Вам: я предпочитаю умереть, чем быть покинутой. Вы видите, несчастье научило меня расчету. Я рассудительна, страсть мне чужда. Вы принуждаете меня сказать Вам, что я не люблю Вас, не должна, не хочу и не могу любить. Для меня миновала та пора жизни, когда женщины поддаются необдуманным движениям сердца, мне уже никогда не быть такой возлюбленной, о которой Вы мечтаете. Утешения, сударь, я жду от бога, а не от людей. К тому же я слишком ясно читаю в сердцах при печальном свете обманутой любви и не могу принять дружбу, которую Вы предлагаете мне, как не могу подарить Вам свою. Вы хотите обмануть самого себя, а в глубине души больше надеетесь на мою слабость, чем на свою стойкость. Но это все делается инстинктивно. Я прощаю Вам Ваши детские уловки, пока еще не умышленные. Я приказываю Вам во имя этой преходящей любви, во имя Вашей жизни, во имя моего покоя остаться на родине, не отказываться от прекрасной и достойной жизни, которая Вас ожидает здесь, ради мечты, заведомо осужденной на то, чтобы угаснуть. Позже, когда Вы будете жить, как назначено Вам судьбой, и в Вас расцветут все чувства, заложенные в человеке, Вы оцените мой ответ, который сейчас, может быть, покажется Вам слишком сухим. Тогда Вам доставит удовольствие встреча со старой женщиной, чья дружба будет для Вас приятна и дорога: такая дружба останется свободной от всех превратностей страсти и разочарований жизни; благородные религиозные убеждения сохранят ее чистой и безгрешной. Прощайте, сударь, исполните мою волю, зная, что вести о Ваших успехах доставят мне радость в моем уединении, и вспоминайте обо мне, как вспоминают о тех, кого уж с нами нет».
В ответ на это письмо Гастон де Нюэйль тотчас же написал:
«Сударыня, если бы я перестал Вас любить и, как Вы мне советуете, предпочел преимущества жизни человека заурядного, я заслужил бы свою судьбу, признайте это! Нет, я не послушаюсь Вас, я клянусь Вам в верности, которую нарушит только смерть. Возьмите мою жизнь, если не хотите омрачить свою жизнь угрызениями совести…»
Когда слуга вернулся из Курселя, Гастон спросил его:
— Кому ты передал мое письмо?
— Госпоже виконтессе лично; я застал ее уже в карете, перед самым отъездом.
— Она уехала в город?
— Не думаю, сударь, — в карету госпожи виконтессы были запряжены почтовые лошади.
— Ах, она совсем уезжает?! — сказал барон.
— Да, сударь, — ответил камердинер.
Тотчас же Гастон приказал готовиться к отъезду, чтобы следовать за г-жой де Босеан; так они доехали до Женевы, а она и не знала, что де Нюэйль сопровождает ее. Тысячи мыслей осаждали его во время этого путешествия, но главной была мысль: «Почему она уехала?» Этот вопрос был поводом для всевозможных предположений, среди которых он, конечно, выбрал самое лестное, а именно следующее: «Если виконтесса меня любит, то, как женщина умная, она, несомненно, предпочтет жить в Швейцарии, где никто нас не знает, а не оставаться во Франции, где она не укроется от строгих судей».
Некоторые мужчины, живущие чувствами и искушенные в них, не полюбили бы женщины, слишком осмотрительной при выборе места встречи. Впрочем, ничто не подтверждало догадки Гастона.
Виконтесса сняла домик на берегу озера. После того, как она там устроилась, Гастон однажды вечером, когда стемнело, явился к ней. Жак, камердинер, аристократичный до мозга костей, ничуть не удивился, увидев г-на де Нюэйля, и доложил о нем, как слуга, привыкший все понимать. Услышав это имя и увидев молодого человека, г-жа де Босеан выронила из рук книгу; воспользовавшись этой минутой замешательства, Гастон подошел к виконтессе и произнес голосом, очаровавшим ее:
— С каким удовольствием я брал лошадей, которые вас везли!
Так угадать ее тайные желания! Какая женщина не сдалась бы после этого? Некая итальянка, одно из тех божественных созданий, чья душа совершенно противоположна душе парижанки, женщина, которую по сю сторону Альп сочли бы глубоко безнравственной, говорила, читая французские романы: «Я не понимаю, почему эти бедные влюбленные теряют столько времени, улаживая то, на что достаточно одного утра». Почему бы рассказчику не последовать примеру милой итальянки и не обременять ни читателей, ни повествование.
Правда, приятно было бы зарисовать иные сценки очаровательной игры, прелестного промедления, которым виконтесса де Босеан пожелала отдалить счастье Гастона, чтобы потом пасть горделиво, как девы древности, а может быть, чтобы полнее насладиться целомудренной страстью первой любви, доведя ее до экстаза. Гастон де Нюэйль был еще в том возрасте, когда мужчина легко становится покорною игрушкой этого кокетства, этих капризов, увлекающих женщину, которая любит затягивать их для того, чтобы поставить свои условия или дольше наслаждаться своей властью, инстинктивно угадывая, что та скоро пойдет на убыль. Но эти коротенькие протоколы будуарных церемоний, все же менее многочисленные, чем протоколы дипломатической конференции, занимают так мало места в истории истинной страсти, что о них не стоит упоминать.
Виконтесса и барон де Нюэйль прожили три года на вилле, снятой г-жой де Босеан на берегу Женевского озера. Ни с кем не встречаясь, ни в ком не возбуждая любопытства, жили они здесь одни, катались на лодке, вставали поздно, — они были так счастливы, как все мы мечтаем быть счастливыми. Дом был простенький, с зелеными ставнями, вокруг всего дома шли широкие балконы, защищенные тентами; то был настоящий приют влюбленных: там были белые диваны, ковры, заглушавшие шаги, светлые обои, и все там сияло радостью. Из каждого окна можно было любоваться озером в самых разнообразных видах; в отдалении виднелись горы в летучем, причудливо расцвеченном облачном одеянии, над головами влюбленных синело небо, а перед их взорами стлалась широкая, капризная, изменчивая пелена вод! Все вокруг как будто бы мечтало вместе с ними, улыбалось им.
Важные дела отозвали Гастона де Нюэйля во Францию: умерли его отец и брат; приходилось покинуть Женеву. Любовники купили виллу, в которой они жили; им хотелось бы разрушить горы и выпустить воду из озера, чтобы ничего здесь не оставить после себя. Г-жа де Босеан последовала за бароном де Нюэйлем. Она обратила в деньги свое имущество, приобрела рядом с Манервилем крупное поместье, примыкавшее к владениям Гастона, и там они поселились вместе. Гастон де Нюэйль весьма любезно предоставил матери доходы с Манервиля и право пользования манервильскими угодьями в обмен на разрешение жить холостяком. Владения г-жи де Босеан были расположены близ маленького городка в одном из самых живописных мест Ожской долины. Там любовники воздвигли между собой и миром стену, наглухо отгородившую их и от людей и от веяний времени, и снова обрели то счастье, которое сопутствовало им в Швейцарии. В течение девяти лет они испытывали блаженство, которое нельзя описать. Развязка этого романа сделает, может быть, понятными их радости для тех, у кого душа способна воспринять поэзию и молитву во всем их многообразии.
Тем временем супруг г-жи де Босеан, теперь уже маркиз (его отец и старший брат умерли), благополучно здравствовал. Ничто так не помогает нам продлевать нашу жизнь, как уверенность в том, что наша смерть кого-то осчастливит. Г-н де Босеан был одним из тех упрямых и иронически настроенных людей, которые, подобно обладателям пожизненной ренты, получают, в сравнении с другими людьми, еще дополнительное удовольствие оттого, что встают каждое утро в добром здравии. Впрочем, он был человек вполне порядочный, хотя и немного педантичный, церемонный, расчетливый, способный объясниться женщине в любви с тем спокойствием, с каким лакей объявляет: «Сударыня, кушать подано».
Эта краткая биографическая заметка о маркизе де Босеан имеет целью показать всю невозможность для маркизы сочетаться браком с Гастоном де Нюэйлем.
Итак, после девяти счастливых лет, пока действовало отраднейшее из всех соглашений, в которые женщине когда-либо приходилось вступать, г-н де Нюэйль и г-жа де Босеан опять оказались в таком же естественном и вместе с тем ложном положении, что и в начале их романа; но именно потому и неизбежен был роковой перелом, который немыслимо объяснить, хотя срок его может быть определен с математической точностью.
Графиня де Нюэйль, мать Гастона, раз и навсегда отказалась принимать г-жу де Босеан. У этой особы был крутой нрав и целомудренные взгляды, в свое время она вполне законно увенчала счастье г-на де Нюэйля, отца Гастона. Г-жа де Босеан поняла, что эта почтенная вдова — ее враг и что она будет стараться вернуть Гастона на путь нравственности и религии. Маркиза охотно продала бы поместье и вернулась с Гастоном в Женеву. Но этим она выразила бы свое недоверие Гастону, на что была неспособна. Да к тому же он очень пристрастился к новому поместью Вальруа, где производил обширные насаждения и расширял пахотные земли. Отъезд положил бы конец безобидным развлечениям, которых женщины всегда желают для своих мужей и даже для любовников. В их края в то время приехала некая девица де ла Родьер, двадцати двух лет от роду, имевшая сорок тысяч ливров дохода. Гастон встречал эту богатую наследницу в Манервиле всякий раз, когда сыновние обязанности призывали его туда. Все эти персонажи занимали свои места с той же точностью, с какой располагаются числа в арифметической пропорции; следующее письмо, написанное и переданное однажды утром в руки Гастона, покажет, какую страшную задачу в течение месяца пыталась разрешить г-жа де Босеан.
«Мой ангел, писать тебе, когда мы живем сердце к сердцу, когда ничто не разъединяет нас, когда наши ласки так часто заменяют нам слова, а слова для нас — те же ласки, разве это не противно смыслу? И все же нет, любовь моя! Есть такие обстоятельства, о которых женщина не может говорить в лицо своему возлюбленному; одна только мысль о них лишает ее голоса, вся кровь приливает к сердцу, она теряет силы и разум. Как мне тяжело жить рядом с тобой, испытывая эти муки, а я их часто теперь испытываю! Я чувствую, что мое сердце должно быть всегда открыто для тебя, я не должна таить от тебя ни одной мысли, хотя бы даже самой мимолетной; я слишком ценю эту милую мне непринужденность, которая так соответствует моему характеру, я не могу оставаться дольше замкнутой и скованной. И потому я хочу поверить тебе свою душевную муку, — да, это настоящая мука!.. Выслушай меня, не произнося своего обычного та-та-та… которым ты всегда заставлял меня умолкнуть пред своей милой дерзостью, — милой для меня, как все в тебе для меня мило. Дорогой супруг мой, дарованный мне небом, разреши сказать тебе, что ты изгладил все печальные воспоминания, под тяжестью которых я некогда изнемогала. Любовь я познала только с тобой. Чтобы женщина требовательная могла удовлетворить стремления своего сердца, нужна была твоя чарующая юность, чистота твоей большой души. Друг мой, я часто трепетала от радости, когда думала, что в течение этих девяти лет, таких быстротечных и таких долгих, ни разу не просыпалась моя ревность. Я одна впивала в себя весь аромат твоей души, все твои мысли. На нашем небе не было никогда ни одного даже самого легкого облачка, мы не знали, что такое жертва, мы всегда были послушны только порывам наших сердец. Я наслаждалась счастьем, безграничным для женщины. Слезы, что оросили эту страницу, откроют ли тебе всю мою признательность? Я хотела бы на коленях писать тебе это письмо. И что же! — это счастье заставило меня познать пытку более страшную, чем мучения женщины покинутой. Дорогой, в женском сердце так много глубоких тайников: я сама до сегодняшнего дня не измерила своего сердца, как не ведала меры своей любви. Самые большие беды, которые могут нас постигнуть, легче перенести, чем одну только мысль о страдании того, кого мы любим. А если мы причина этого страдания, тогда нам ничего не остается, как умереть! Вот мысль, которая гнетет меня. Но она влечет за собой и другую, гораздо более тяжкую; эта мысль гасит сияние любви, убивает ее, превращает в унижение, которое навсегда омрачает жизнь. Тебе тридцать лет, а мне сорок. Какой ужас внушает эта разница лет любящей женщине! Ты, может быть, сначала невольно, а затем и вполне сознательно обращался мыслью к жертвам, которые принес, отказавшись из-за меня от всего на свете. Ты, может быть, думал о своем будущем положении в обществе, об этой женитьбе, которая должна была бы увеличить твое состояние, дала бы тебе возможность не прятать от людей свое счастье, иметь детей, передать им свои владения, снова появиться в обществе, с честью заняв в нем подобающее место. Но ты, вероятно, отгонял эти мысли, ты был счастлив тем, что, ничего мне не сказав, пожертвовал ради меня богатой невестой, состоянием, блестящим будущим. С великодушием молодости ты решил остаться верным тем клятвам, которыми мы связаны только перед лицом бога. Мои прошлые страдания предстали перед тобой, и меня спасло то несчастье, от которого ты меня избавил. Но знать, что любовь твоя рождена жалостью, — эта мысль для меня еще ужаснее, чем даже страх, что твоя жизнь будет испорчена из-за меня. Тот, кто способен поразить кинжалом любовницу, милосерден, если он убивает ее, когда она счастлива, невинна, полна иллюзий… Да, я предпочитаю смерть тем мыслям, которые вот уже несколько дней тайно меня печалят. Когда ты вчера так нежно спросил меня: «Что с тобой?» — я вздрогнула при звуке твоего голоса. Я решила, что ты по-прежнему читаешь в моей душе, и я ждала твоих признаний, вообразив, что мои предчувствия были правильны, что я угадала расчеты твоего рассудка. Тут мне припомнились кое-какие проявления твоего внимания, — в них не было ничего непривычного, но мне почудилась в них та нарочитость, которая показывает, что оставаться верным стало для мужчины тягостно. В эту минуту я дорого заплатила за свое счастье, я поняла, что природа всегда требует расплаты за сокровища любви. И в самом деле, разве судьба не разъединила нас? Ты, вероятно, сказал себе: «Рано или поздно я должен буду покинуть бедную Клару, почему бы нам не расстаться вовремя?» Эти слова я прочла в твоих глазах. Я ушла, чтобы поплакать вдали от тебя. Таить от тебя мои слезы! Эти горькие слезы — первые за девять лет, и ты не увидишь их, я слишком горда; но я не винила тебя. Да, ты прав, я не должна себялюбиво допустить, чтобы твоя блестящая и долгая жизнь была связана с моей жизнью, которая близится к закату. Но, может быть, я ошиблась? Может быть, это просто была у тебя нежная грусть, без всяких тайных расчетов? Мой ангел, не оставляй меня в неизвестности, — накажи свою ревнивую супругу, но верни мне уверенность в нашей взаимной любви: для женщины вся жизнь в этом чувстве, которое все освещает. Со времени приезда твоей матери и с тех пор, как ты у нее встретился с мадемуазель де ла Родьер, я во власти сомнений, которые для нас с тобой позорны. Я готова страдать, но только не быть обманутой: я хочу знать все — и что говорит твоя мать и что об этом думаешь ты. Если ты колеблешься в выборе между мной и кем-то еще, я возвращаю тебе свободу… Свою судьбу я утаю от тебя, слез моих ты не увидишь; но только я не хочу больше видеть тебя… Я не могу писать, сердце мое разрывается…
Несколько минут я сидела в каком-то мрачном оцепенении. Друг мой, перед тобой во мне нет самолюбия, — ты так добр, так прямодушен! Ты не можешь оскорбить или обмануть меня; ты скажешь мне правду, какой бы жестокой она ни была. Хочешь, я облегчу твои признания? Итак, любимый мой, меня утешает чисто женское чувство. Разве я не обладала юным, целомудренным существом, нежным, прекрасным и чутким, тем Гастоном, которым ни одна женщина больше не будет обладать и который дал мне такое изысканное наслаждение? Нет, ты больше не будешь любить, как любил, как любишь меня; соперницы у меня быть не может. В моих воспоминаниях о нашей любви не будет горечи, а эти воспоминания — моя жизнь. Уже не в твоей власти впредь восхищать женщин детскими шалостями, юными проказами юного сердца, игрою чувства, очарованием тела, порывами разделенной страсти, всеми прелестными спутниками юношеской любви. Теперь ты уже мужчина и с расчетом будешь следовать своей участи. У тебя будут дела, заботы, честолюбивые мечты, тревоги… нет, она не будет видеть той постоянной, неизменной улыбки, что для меня всегда украшала твои уста. Твой голос, для меня всегда полный ласки, зазвучит порой сердито. Твои глаза, беспрестанно загоравшиеся божественным огнем при виде меня, нередко будут меркнуть, глядя на нее. Да и любить тебя, как я люблю, невозможно, вот почему эта женщина не может тебе нравиться, как нравилась я. Она не будет постоянно стараться сохранить себя желанной и прекрасной, как это делала я, не будет непрестанно вникать, как это делала я, во все, что необходимо для твоего счастья. Этот человек, это сердце, эта душа — все, что знала я, — больше существовать не будут; я схороню их в своем воспоминании, чтобы наслаждаться ими, и буду жить счастливым прошлым, не ведомым никому, кроме нас.
Но если, мое сокровище, ты и не помышлял о свободе, если любовь моя не тяготит тебя, если страхи мои — только плод моего воображения, если я для тебя еще твоя Ева, единственная женщина на свете, то, прочтя это мое письмо, — приди, прилети! В тот миг я буду любить тебя больше и сильнее, чем все наши девять лет. После всех ненужных мук подозрения, в котором я винюсь, каждый новый день нашей любви — да, каждый новый день! — будет целой жизнью, полной счастья. Говори же! Будь откровенен, не обманывай меня, это было бы преступлением. Скажи, желаешь ты свободы? Размышлял ли ты о твоей будущности? Сожалеешь ли ты о чем-нибудь? Быть причиной твоих сожалений! Лучше умереть. Я уже говорила тебе: моя любовь настолько сильна, что я предпочту твое счастье своему, за твою жизнь я отдам свою. Если можешь, отбрось все бесчисленные воспоминания о нашем девятилетнем счастье, чтобы они не влияли на твое решение, но отвечай мне! Я покорна тебе, как покорна богу, единственному утешителю, который у меня останется, если ты покинешь меня».
Когда г-жа де Босеан узнала, что письмо ее уже в руках Гастона, она почувствовала полное изнеможение, ее мозг обессилел от множества мыслей, и она как бы впала в забытье. Она испытывала те безмерные страдания, какие могут выпасть на долю только женщины, хотя нередко, казалось бы, они превышают ее силы. Пока несчастная маркиза ждала решения своей судьбы, г-н де Нюэйль, читая ее письмо, был в большом затруднении, как любят выражаться в подобных трудных обстоятельствах молодые люди. Он уже почти поддался уговорам матери и чарам мадемуазель де ла Родьер, заурядной молоденькой девушки, прямой, как тополь, бело-розовой и, как это предписано всем девушкам на выданье, молчаливой; за нее достаточно красноречиво говорили сорок тысяч ливров дохода с земельных владений. Г-жа де Нюэйль, движимая искренней материнской любовью, старалась вернуть сына на путь добродетели. Она внушала ему, насколько лестно для него предпочтение со стороны молодой девушки, у которой не было недостатка в богатых женихах; уже давно следовало подумать о своей судьбе, а такой редкий случай может больше не представиться; со временем он будет получать восемьдесят тысяч ливров с недвижимого имущества, богатство утешит его во всем; если г-жа де Босеан любит его самоотверженно, она первая должна убедить его жениться; словом, эта добрая мать не пренебрегала ни одним из тех средств, при помощи которых женщины умеют влиять на решение мужчины. Она достигла своего, сын начал колебаться. Письмо г-жи де Босеан пришло в ту минуту, когда любовь Гастона боролась со всеми соблазнами, какими его манила жизнь, устроенная надлежащим образом, согласно с предписаниями света; письмо определило исход борьбы. Гастон решил покинуть маркизу и жениться.
— В жизни надо уметь быть мужчиной! — заключил он.
Потом он представил себе, какие страдания принесет возлюбленной его решение. Мужское тщеславие и порядочность любовника даже преувеличивали эти страдания, он искренне жалел ее. Он вдруг почувствовал всю беспредельность ее несчастья и счел необходимым из милосердия ослабить боль смертельного удара. Он надеялся, что как-нибудь успокоит г-жу де Босеан, постепенно приучит ее к мысли, что им необходимо расстаться, и устроит так, чтобы она сама предписала ему эту жестокую измену: мадемуазель де ла Родьер будет стоять между ними, как призрак, и он, сделав вид, что жертвует ею, в конце концов осуществит свой замысел, якобы лишь уступая настояниям маркизы. В своих сердобольных намерениях он дошел до того, что готов был играть на благородстве маркизы, на ее гордости, на всех прекрасных качествах ее души. Он написал ей ответ, рассчитывая усыпить ее подозрения. Ответил письменно! Женщина, сочетающая интуицию подлинной любви с тонким женским умом, не могла не понять, что письменный ответ сам по себе был уже ее приговором. И потому, когда вошел Жак и передал г-же де Босеан сложенную треугольником бумагу, она затрепетала, как пойманная ласточка. Какой-то холод охватил ее с ног до головы ледяным саваном. Он не бросился перед ней на колени, не поспешил к ней в слезах, бледный, влюбленный, — этим все было сказано. Но у любящей женщины сердце всегда полно надежд; чтобы убить их, нужен не один удар кинжалом, она любит до последней капли крови.
— Сударыня, не угодно ли вам приказать что-либо? — тихо спросил Жак, уходя.
— Нет, — ответила г-жа де Босеан.
«Он все понимает, — подумала она, вытирая слезу. — Он, простой слуга!»
Она прочла: «Любимая моя, ты терзаешь себя химерами…» При первых же словах густая пелена застлала ей глаза. Тайный голос сердца подсказал ей: «Он лжет». Вмиг пробежала она первую страницу с жадной зоркостью страсти и в конце ее прочла: «Еще ничего не решено». Судорожно перевернув страницу, она ясно поняла мысль, продиктовавшую эти запутанные фразы, где не было и следа живого чувства; она смяла письмо, она комкала, рвала его, раздирала его зубами и наконец бросила в огонь, воскликнув:
— Бесчестный! Мы были близки, когда он уже разлюбил меня!
Почти без чувств она упала на диван.
Господин де Нюэйль, ответив на письмо, вышел из дому. Вернувшись, он в дверях увидел Жака, тот передал ему какой-то конверт и сообщил:
— Госпожа маркиза уехала из замка.
Удивленный Гастон разорвал конверт и прочел:
«Сударыня, если бы я перестал Вас любить и, как Вы мне советуете, предпочел преимущества жизни человека заурядного, я заслужил бы свою судьбу, признайте это! Нет, я не послушаюсь Вас, я клянусь Вам в верности, которую нарушит только смерть. Возьмите мою жизнь, если не хотите омрачить свою жизнь угрызениями совести…»
Это было письмо, которое он послал маркизе, когда она уезжала в Женеву. Внизу Клара Бургундская приписала: «Сударь, вы свободны».
Господин де Нюэйль отправился к матери в Манервиль. Через три недели он женился на Стефани де ла Родьер.
Если бы рассказанная здесь обыденно правдивая история так и закончилась, это было бы похоже на мистификацию. Кто из мужчин не мог бы припомнить истории и поинтереснее этой? Но защитой от нареканий, быть может, послужат для повествователя необычайность развязки, к несчастью, слишком правдивой, и воспоминания, которые она пробудит в сердце у тех, кто познал неземное счастье беспредельной страсти и разбил его сам или же утратил его по воле жестокой судьбы.
Маркиза де Босеан вовсе не покинула своего поместья Вальруа после того, как рассталась с Гастоном де Нюэйлем. По бесчисленным причинам, которых не будем доискиваться в глубинах женского сердца (предоставив каждой читательнице угадать ту причину, какая близка ей), Клара продолжала там жить после женитьбы г-на де Нюэйля. Она замкнулась в таком уединении, что даже слуги, за исключением горничной и Жака, не видели ее. Она требовала вокруг полной тишины, из своих апартаментов выходила только в свою часовню, куда каждое утро являлся соседний священник служить для маркизы мессу.
Через несколько дней после своей свадьбы граф де Нюэйль впал в какую-то апатию; глядя на него, нельзя было определить, счастлив ли он или несчастлив.
Его мать говорила всем:
— Мой сын очень счастлив.
Жена Гастона де Нюэйля, несколько бесцветная, тихая, терпеливая, ничем не отличалась от большинства молодых женщин; она забеременела через месяц после свадьбы. Все шло, как полагается. Гастон де Нюэйль хорошо относился к ней, но только, — месяца через два после того как расстался с маркизой, — стал чрезвычайно задумчив и рассеян. Впрочем, как говорила его мать, он всегда был серьезным.
Это пресное благополучие тянулось уже около семи месяцев, когда произошли события, с виду малозначащие, но допускающие такие обширные толкования и свидетельствующие о таком душевном смятении, что можно только отметить их, предоставив каждому толковать их по-своему. Как-то раз г-н де Нюэйль охотился в лесах Манервиля и Вальруа и, возвращаясь через парк г-жи де Босеан, послал за Жаком; когда камердинер пришел, Гастон спросил его:
— А что, маркиза по-прежнему любит дичь?
Получив утвердительный ответ, он под благовидным предлогом вручил Жаку довольно крупную сумму и попросил оказать небольшую услугу — взять для стола маркизы убитую им дичь. Жаку показалось маловажным, скушает ли его хозяйка куропатку, подстреленную ее лесником или же г-ном де Нюэйлем, — к тому же выразившим желание, чтобы маркиза не узнала, кем доставлена дичь.
— Я застрелил ее во владениях маркизы, — объяснил граф.
В течение нескольких дней Жак участвовал в этом невинном обмане. Г-н де Нюэйль утром уходил на охоту и возвращался только к обеду, не принося с собою ни одной птицы. Так прошла целая неделя. Гастон набрался смелости, написал и послал маркизе длинное письмо. Оно было ему возвращено нераспечатанным. Уже было темно, когда камердинер маркизы принес его. Граф поспешно покинул гостиную, где он делал вид, будто слушает каприччио Герольда, которое разыгрывала жена, немилосердно терзая фортепьяно, и поспешил к маркизе, как спешат на свидание. Проникнув в парк через знакомый ему пролом в ограде и вступив в аллею, он замедлил шаги, то и дело останавливаясь, как бы затем, чтобы успокоить гулкие удары сердца; подойдя к замку, он прислушался к заглушенным звукам и решил, что все слуги ужинают. Он дошел до апартаментов г-жи де Босеан. Маркиза никогда не покидала своей спальни. Гастону удалось бесшумно добраться до двери. При свете двух свечей он увидел маркизу, худую и бледную; она сидела в большом кресле и, склонив голову, уронив руки, смотрела в одну точку, казалось, невидящим взором. Это была олицетворенная скорбь. Такая скорбь вселяла в него смутную надежду, но было непонятно, видела ли Клара Бургундская перед собой могилу или же свое прошлое. Может быть, слезы Гастона, блеснувшие в темноте, или его дыхание, или же его невольная дрожь подсказали ей, что он здесь, а может быть, об этом сказало ей то особое чувство взаимопроникновения, что составляет и счастье и торжество истинной любви. Г-жа де Босеан медленно повернула голову к двери и увидела того, кто был ее возлюбленным. Тогда Гастон де Нюэйль шагнул к ней.
— Еще один шаг, сударь, — крикнула маркиза, побледнев, — и я брошусь из окна!..
Она подбежала к окну, открыла задвижку, занесла ногу на внешний выступ окна и, держась рукой за решетку, крикнула, обернувшись лицом к Гастону:
— Уйдите, сейчас же уйдите, или я брошусь вниз!
При этом ужасном крике, от которого в доме уже всполошились слуги, Гастон де Нюэйль скрылся, как злоумышленник.
Возвратившись домой, Гастон написал несколько слов, поручил своему камердинеру отдать письмо г-же де Босеан и сказать ей при этом, что дело идет о его жизни или смерти. Когда посланный ушел, г-н де Нюэйль вернулся в гостиную, где его жена продолжала разбирать все то же каприччио. Он сел в ожидании ответа. Прошел час, жена Гастона кончила играть, молчаливые супруги сидели друг против друга у камина, — и вот наконец камердинер вернулся из Вальруа и принес Гастону нераспечатанным его письмо. Гастон де Нюэйль ушел в соседнюю комнату, где, возвратившись с охоты, оставил ружье, и застрелился.
Эта решительная и роковая развязка, чуждая нравам современной Франции, вполне естественна.
Тот, кому довелось наблюдать или кому выпало счастье самому испытать такую страсть, при которой происходит полное слияние человеческих существ, поймет это самоубийство. Не сразу женщина постигает, не сразу умеет угадывать все изгибы внушенной ею страсти. Страсть, этот редкий цветок, требует самого искусного ухода; только время и сродство душ откроют все ее возможности, породят ее нежные, утонченные восторги, к которым мы относимся с суеверным чувством, считая их неотделимыми от той, чье сердце так щедро нас оделяет радостями. Это чудесное слияние, эта святая вера, животворная уверенность в редкостном, беспредельном наслаждении с возлюбленной отчасти составляют тайну длительной привязанности и долго не угасающей страсти. Если женщина поистине женственна, любовь к ней никогда не переходит в привычку, ласки возлюбленной так очаровательны, так разнообразны, она исполнена такого ума и вместе с тем нежности, она вносит столько игры в настоящее чувство и столько настоящего чувства в игру, что воспоминания о ней владеют вами с той же силой, с какой когда-то она сама владела вами. Рядом с ней блекнут все другие женщины. Чтобы узнать цену этой огромной, сияющей любви, нужно испытать страх перед ее утратой или самое утрату. Но если мужчина познал такую любовь и отверг ее ради брака по расчету; если он надеялся познать такое же счастье с другой женщиной, а доводы, скрытые в тайниках супружеской жизни, убедили его, что прежние радости никогда не оживут; если его уста еще ощущают божественную сладость любви, а он смертельно ранил свою истинную супругу в угоду суетным мечтам о благополучии, — тогда надо умереть или принять ту корыстную, себялюбивую, холодную философию, которая так омерзительна для страстных душ.
Госпожа де Босеан, по всей вероятности, не думала, что отчаяние может довести ее возлюбленного до самоубийства, полагая, что свежесть чувства уже им утрачена после девяти лет их любви. Может быть, ей думалось, что страдать будет только она одна. К тому же она была вправе отвергнуть этот дележ, самый отвратительный, какой только можно себе представить; жена соглашается его терпеть во имя требований света, но любовнице он должен быть нестерпим, потому что для нее в чистоте любви все оправдание.
Ангулем, сентябрь 1832 г.