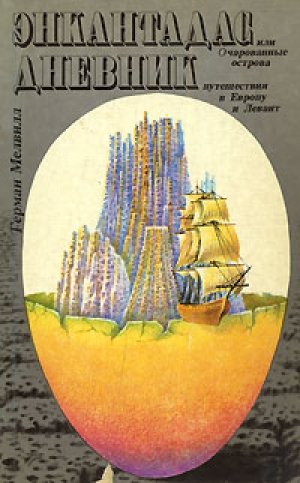
НАБРОСОК ПЕРВЫЙ. Панорама островов
— Не может быть, — Паромщик тут сказал. —
Коль скоро нам не улыбнулся случай.
Ведь эти острова не твердь земли и скал,
А просто хлябь в морской дали текучей.
Иль призраки, что мечутся в пахучей.
Те острова Блуждающими звать.
Не мало душ они повергли в горе.
Поэтому их надо избегать.
Кому пришлось на берег их ступать.
Тому спасенья не дано узнать.
Несчастные весь век по ним бродили
И выхода из пут не находили.
Темны, ужасны, жадны, как могила.
Что столько бренных жизней поглотила.
На их вершинах лишь сова гнездится
И крик ее пронзительною силой
Отпугивает радостную птицу,
Да призраки бредут вопящей вереницей.
Возьмите двадцать пять куч печной золы, разбросанных там и сям на городской свалке, мысленно увеличьте часть из них до размеров гор, а свалку
— до величины моря, и вы получите вполне верное представление о том, как выглядят Энкантадас, или Очарованные острова. Скорее группы потухших вулканов, чем острова, — таким мог бы оказаться наш мир после предания искупительному огню.
Весьма сомнительно, чтобы какое-то иное место на земле могло сравниться с ними по запустению.
Заброшенные старинные кладбища, руины древних городов представляют собой меланхолическое зрелище, но, как всякое сущее, хоть однажды соприкасавшееся с людьми, все же вызывают в нас сочувственные мысли, какими бы печальными они ни были. Ведь даже Мертвому морю при всей скудости навеваемых им эмоций временами удается расшевелить в душе пилигрима более приятные ощущения.
Что касается одиночества, то огромные северные леса, морские просторы, не посещаемые кораблями, ледяные поля Гренландии являют человеческому глазу его выразительнейшие подобия; и все же магическое величие перемен, приносимых либо движением вод, либо временами года, смягчает их ужас — дремучие леса посещает май, отдаленнейшие поверхности моря, подобно озеру Эри, отражают знакомые нам звезды, а в чистом воздухе ясного полярного дня искрящийся лазурный лед кажется прекрасным малахитом.
Особое, если можно так выразиться, проклятие, тяготеющее над Энкантадас и ставящее их по запустению неизмеримо ниже Идумеи и Полюса, заключается в полном отсутствии перемен, ибо времена года и настроения остаются там неизменными. Рассеченные экватором, Энкантадас не знают осени, не знают весны; они подобны бренным останкам пожранного пламенем, и едва ли можно что-либо прибавить к картине всеобщего опустошения. Ливни освежают лустыни, но на эти острова не было пролито ни капли дождя. Подобно расколотым сирийским тыквам, оставленным вялиться на солнце, они покрылись трещинами под воздействием вечной засухи, посылаемой раскаленными небесами. «Яви милость свою, — взывает страждущий дух Энкантадас, — и ниспошли Лазаря, дабы он увлажнил палец свой в прохладной воде и оросил язык мой, ибо пламень этот мучит меня».
Другая особенность островов — их невероятная необитаемость. Шакал, обреченный на прозябание в зарослях сорной травы среди развалин Вавилона, представляется нам наглядным примером отщепенца, изгнанного отовсюду; но Энкантадас отказывают в убежище даже париям животного мира. Они в равной мере не принадлежат ни волку, ни человеку. Пожалуй, только рептилии подают там признаки жизни: черепахи, ящерицы, змеи и странная аномалия диковинной природы — игуана, а также огромные пауки. На этих островах вы не услышите ни голоса, ни мычания, ни воя; единственный звук, который издает там жизнь, — это шипение.
На большинстве островов, где вообще может быть найдена хоть какая-нибудь растительность, она более неблагодарна, чем скудость Атакамы. Непролазные чащи похожего на проволоку кустарника без плодов и названия заполняют глубокие расселины в известковых скалах, предательски скрывая их. Безмолвно томятся под солнцем заросли безобразно искривленных кактусов.
Во многих местах побережье загромождено скалами или, точнее, застывшей лавой. Беспорядочные нагромождения бурой, зеленоватой массы, напоминающей спекшиеся на колосниках угли, образуют то здесь, то там темные впадины и пещеры, куда неутомимо вливает свою пенную злобу океан, завешивая берег клубами серой, необузданной мглы, в которой мечутся стаи неземных птиц, дополняющих угрюмый грохот своими пронзительными криками. Каким бы спокойным ни было море, для этих скал и для этой зыби отдохновения нет — они бичуют друг друга даже тогда, когда океан пребывает в состоянии полного умиротворения. По ненастным же, облачным дням, столь обычным для этой части водного экватора, мрачные, стекловидные глыбы, вздымающиеся посреди белых бурунов и водоворотов в отдаленных и губительных местах мористее побережья, являют собой поистине Плутоново зрелище. Только в падшем и никакой ином мире могут существовать подобные земли.
Участки берега, свободные от следов огня, простираются широкими, ровными полосами пляжей, образованных бесчисленными ракушками, и местами усеяны гнилыми кусками сахарного тростника, бамбука, кокосовых орехов, принесенных к побережью этого мрачного мира от прекрасных пальмовых островов, расположенных к западу и югу (истинный путь из рая к вратам преисподней!); в то же время вы заметите там куски обгорелого дерева и трухлявые обломки корабельных шпангоутов, лежащие вперемешку с названными реликвиями далекой красоты.
Все это не вызовет удивления у того, кто знаком с завихряющимися течениями, борющимися между собой почти во всех широких проливах архипелага. Причудливость перемещений ветров вполне соответствует капризности морских течений. Нигде больше, как на Энкантадас, ветры не обладают таким непостоянством и не бывают такими неблагоприятными, ненадежными во всех отношениях и склонными к совершенно изумляющим штилям.
Одно судно затратило почти месяц на переход между двумя соседними островами, хотя расстояние между ними не превышало девяноста миль. Дело в том, что из-за сильного течения шлюпкам, спущенным для буксирования, едва удается удерживать судно от стремительного навала на утесы, не говоря уж о тщетности помочь его продвижению вперед. Иногда судно, пришедшее издалека, совершенно не в состоянии зацепиться за архипелаг, если только не были приняты солидные поправки на снос сразу же при появлении островов в виду впередсмотрящего. Вместе с тем временами там действует какое-то таинственное притягательное течение, неумолимо влекущее к островам проходящий мимо корабль, хотя тот вовсе не собирался с ними встречаться.
Правда, одно время, как, впрочем, и в наши дни, целые флотилии китобойных судов в поисках спермацетового кита бороздили обширный участок моря, прозванный моряками Очарованной Банкой; но она, как будет сказано в соответствующем месте, находится мористее большого острова Албемарл на свободной воде, в стороне от путаницы маленьких островов, и, вследствие этого, к ней не целиком относятся отмеченные выше достопримечательности; однако даже и там порой течение обретает необычайную силу и меняет направление, подчиняясь такому же своеобразному капризу.
Действительно, в определенное время года ужасающие течения, совершенно непредсказуемые, хозяйничают на значительном расстоянии от берега вокруг всего архипелага. Они способны изменить курс корабля, идущего со скоростью четырех-пяти миль в час, в направлении, прямо противоположном борту, в сторону которого положено перо руля. Ошибки в навигационном счислении, вызванные этими причинами, совокупно с непостоянными переменчивыми ветрами долгое время питали ложное представление о существовании на одной параллели двух групп островов, отстоящих друг от друга на сотню лиг. Так думали первые посетители этих мест — пираты, и вплоть до 1750 года карты этой части Тихого океана находились в полном соответствии с бытовавшими заблуждениями. Кажущаяся неуловимость и неопределенность местоположения островов, вероятнее всего, и подсказали испанцам их название — Энкантадас, или Очарованный архипелаг.
Поскольку в наши дни, по единодушному мнению, существование островов воочию установлено, современный путешественник скорее всего будет склонен предположить, что такое название возникло благодаря явно ощутимому духу немой пустоты, который царствует над ними. И действительно, едва ли что-нибудь иное сможет создать лучшее представление о некогда одушевленных вещах, по злому умыслу низведенных от цветущей свежести до состояния пепла.
Содомские яблоки, обратившиеся во прах после прикосновения к ним, — вот чем кажутся эти острова. Каким бы призрачным ни представлялось их местоположение, на наблюдателя, находящегося на берегу, они производят впечатление неизменной одинаковости — они будто навечно прикованы к мертвому телу самой смерти.
Нельзя сказать чтобы название «Очарованные» не было применимо к ним и в другом смысле. Тут мы касаемся одного из обитателей этих окраин, принадлежащего к классу рептилий, присутствие которого на островах дало им другое испанское название — Галапагос. Так вот, что касается живущих там че— репах, то на их счет в кругу моряков долгое время сохранялось поверье, не столь ужасающее, сколь карикатурное: матросы были серьезно убеждены, что все морские офицеры, особенно командоры и капитаны, обладавшие дурным нравом, после смерти (а иногда и до нее) превращались в черепах и становились единственными хозяевами этих раскаленных пустырей, напоминающих окрестности Мертвого моря.
Вне всякого сомнения, столь печальные мысли были первоначально вызваны необычайно унылым ландшафтом, но, быть может, в еще большей степени и самими черепахами. Ибо кроме чисто физических очертаний в их внешнем облике заключается нечто до странности проникнутое самоосуждением. Ни в каком ином одушевленном теле извечная печаль и безнадежность не выражены с такой унизительной наглядностью, а сведения об их удивительном многолетии только усиливают это впечатление.
Подвергая себя риску прослыть человеком, до абсурдности верящим во всякие чудеса, я не могу удержаться от признания, что иногда, даже сейчас, покинув многолюдный город, чтобы пробродяжничать июль и август в горах Адирондак подальше от городской суеты, поближе к притягательным таинствам природы, там, когда случается мне присесть на мшистое ложе какой-нибудь глубокой лесной лощины в окружении распростертых на земле стволов сосен, подточенных временем и насекомыми, я припоминаю, будто во сне, свои другие, более дальние странствия в самом сердце заколдованных островов, испепеленных солнцем; в памяти оживают призраки темных панцирей и безлистных чащоб с торчащими там и сям вялыми черепашьими шеями; и снова возникают перед глазами застывшие стекловидные камни, истертые временем и изборожденные глубокими канавами, которые проточили в них черепахи, медленно, из века в век ползающие по островам в поисках скудных лужиц воды; и тогда я начинаю понимать, что в свое время мне действительно довелось преклонять голову на земле, околдованной злыми чарами.
Мало того, живость моих воспоминаний либо склонность воображения ко всему таинственному такова, что я не решаюсь утверждать, будто не являюсь случайной жертвой оптического обмана, вызванного Галапагосами. Довольно часто в кругу веселой компании, и особенно на пирушках при зажженных свечах в каком-нибудь старомодном особняке, где отдаленные углы просторной прямоугольной комнаты плотно завешаны тенями, напоминающими о призрачных порослях пустынных лесов, я вдруг привлекаю внимание друзей своим неподвижным взглядом и внезапной сменой настроения; в то время сам я отчетливо вижу медленно выползающий из воображаемой чащобы и тяжело волочащийся по полу призрак гигантской черепахи с надписью: «Momento…», горящей огненными буквами на ее спине.
НАБРОСОК ВТОРОЙ. Две стороны черепахи
Ужасны лики и обличья странны…
Природу в дрожь бросает от тоски
Ведь вышли безобразные изъяны
Из-под ее искуснейшей руки —
Все эти грубые, нелепые куски…
Не удивительно — страшат они людей,
И наши жупелы из сумрачных сеней —
Всего жуки, чтоб постращать детей
В сравненьи с нечистью тех островных страстей
«Не бойтесь, — молвил Палмер просвещенный. —
Чудовища на деле не страшны,
Лишь в мерзостные формы облачены».
И меткий свой гарпун высоко поднимая,
В грудь чудищу он глубоко вонзает,
Чтоб вышла Тефия, красой морей блистая.
Ввиду приведенного описания возможно ли вообще веселье на Энкантадас? Несомненно! Найдите повод, и можете веселиться. Берусь утверждать, что эти острова, сшитые из дерюги и густо посыпанные пеплом, вовсе не представляют одно беспросветное уныние, хотя никто не может отказать им в суеверном и благоговейнейшем почтении; и даже самое твердое расположение духа не уберегает меня от созерцания черепахи-призрака, выползающей на свет божий из своего сумрачного тайника. Несмотря на все это, сама черепаха, со спины столь темная и меланхолическая, обладает и более светлыми достоинствами — ее филейная часть и костяной нагрудник носят иногда мягкий, желтовато-золотистый оттенок. Кроме того, каждому известно — морские и сухопутные черепахи устроены так хитро, что, опрокинутые на спину, выставляют напоказ только яркую часть тела и, не имея возможности без посторонней помощи вернуться в первоначальное положение, тем самым не могут обратить внимание на свои теневые стороны. Но раз уж черепаха перевернута, поскольку такое случилось, не следует уверять себя, что в ней не сохранилось ничего темного. Наслаждайтесь желтизной ее брюха, держите ее в таком положении хоть целую вечность, но оставайтесь честными до конца и не отрицайте противоположного цвета. И пусть тот, кто не сумел вывести черепаху, словно октябрьскую тыкву, греющуюся на солнышке, из ее естественного положения, с целью скрыть все мрачное и пролить свет только на приятное не должен по этой причине утверждать, что данное существо являет собой сплошную чернильную кляксу — ведь белое и черное постоянно сочетаются в нем. Однако перейдем к частностям.
За несколько месяцев до моей первой высадки на острова наше судно некоторое время совершало плавание в пределах их видимости. Однажды в полдень мы оказались мористее острова Албемарл, совсем недалеко от его южной оконечности. То ли по воле случая, то ли оттого, что мы увидели землю с такими странными очертаниями, на берег была послана шлюпка с людьми, чтобы разведать окрестности и, между прочим, доставить на борт посильное количество черепах.
Искатели приключений вернулись только после захода солнца. Я посмотрел вниз, перегнувшись через высокий борт, словно через крайтлубокого колодца, и едва разглядел мокрую шлюпку, отягченную необычным грузом. Завели тросы, и вскоре три огромных, допотопного вида существа с превеликим трудом были подняты на палубу. Казалось, они произошли не от семени земного. Уже пять долгих месяцев нас носило по водной хляби — отрезок времени более чем достаточный для того, чтобы любой предмет, имеющий отношение к земной тверди, приобрел почти мифическую значимость для мечтательной головы. Случись тогда трем служителям испанской таможни ступить на борт, едва ли я стал бы разглядывать их с таким же любопытством, испытал бы к ним нечто похожее на привязанность и ласкал бы с нежностью дикаря, принимающего цивилизованных гостей. Но вместо трех таможенных офицеров я таращил глаза на самых настоящих, диковинных черепах, совсем непохожих на жалких тварей цвета грязи, которыми забавляются школьники. Черепахи были черны, как вдовий траур, и тяжелы, как сундуки со столовым серебром. Ил огромные панцири, украшенные медальонами, своим изгибом напоминали боевые щиты и, словно боевые щиты, не раз принимавшие удары врага, были испещрены зазубринами и покрыты ссадинами. Местами они поросли косматым темно-зеленым мхом и были слизистыми от налета морской пены. Эти мистические создания, внезапно перенесенные из своих безмолвных угодий на нашу многолюдную палубу, произвели на меня впечатление, нелегко поддающееся описанию. Казалось, они выползли к людям из-под самого фундамента мироздания. Я невольно отождествлял их с чудовищами, на которых индусы возложили вселенскую сферу. Взяв в руки фонарь, я тщательно исследовал черепах. Какое благоговейное и умилительное зрелище!
Чего стоит одна эта удивительно мягкая, словно мех, зеленая мантия, исцеляющая трещины и скрывающая щербины изуродованных панцирей! Я видел уже не черепах. Они внезапно выросли до невероятных размеров и преобразились. Передо мной вздымались три римских Колизея во всем величии своего упадка.
— Эй, вы, старожилы островов! — воскликнул я. — Заклинаю вас, даруйте мне стойкость трех таких крепостей!
Черепахи внушали грандиозное ощущение глубокой старости — бесконечного, неограниченного временем терпения. Я никогда уже не поверю, что какие-нибудь твари могут жить и дышать на этой земле так же долго, как черепахи с Очарованных островов. Обратите внимание, что я еще ни словом не обмолвился об их известной способности сберегать в себе жизнь, обходясь без пищи в течение целого года, и не напомнил о неуязвимой броне их природных доспехов. Какое еще создание во плоти владеет такой цитаделью, в которой можно выдержать любую осаду времени?
Подсвечивая фонарем, я соскабливал ногтями мох и рассматривал застарелые шрамы — следы ужасных ушибов, полученных во время гулких падений в известковых горах острова, — то страшно расширенные, вспухшие, то наполовину стертые и такие же безобразные, как наросты на коре очень старых деревьев. Я чувствовал себя археологом, собирателем древностей, изучающим следы птиц или таинственные знаки на плитах, выкопанных из земли, исхоженной невиданными животными, самые призраки которых давным-давно вымерли.
В ту ночь, лежа в гамаке, я слышал над головой звуки неторопливой, монотонной возни тяжеловесных незнакомок на загроможденной палубе. Их глупость либо упорство были настолько велики, что никак не позволяли им обходить препятствия, попадавшиеся на дороге. В полночь, как раз перед сменой вахт, одна из черепах утихомирилась. Утром я нашел ее упершейся, словно атакующий таран, в неподвижное основание фок-мачты. Она все еще силилась во что бы то ни стало проложить себе путь, ставший для нее невозможным. То, что черепахи являются жертвами искупительного, злоумышленного, а может быть, и чисто дьявольского колдовства, чаще всего выражается в их одержимом стремлении слепо выполнять самую бесполезную работу. Мне приходилось видеть, как они во время своих путешествий героически таранили попавшиеся на пути скалы — подолгу упирались в них, пытаясь сдвинуть с места, пыжились, тужились, пыхтели и ни за что не хотели изменять избранного направления. Думается, эта тяжелая потребность действовать прямолинейно в хитросплетениях нашего мира и есть их главное проклятие.
Черепахи, не остановленные препонами, подобными той, что задержали их приятельницу, попросту натыкались на незначительные помехи — ведра, блоки, свободные концы такелажа, свернутые в бухты, и, преодолевая эти препятствия, время от времени шлепались о палубу с ужасающим грохотом. Прислушиваясь к толчкам и сотрясениям, я размышлял о том логове, из которого они появились. Я думал об островах, изборожденных отливающими металлом разломами и провалами, затерявшимися в бездонном сердце ущелистых гор и на многие мили покрытыми непроходимыми чащами. Затем моему воображению начали рисоваться три черных, как кузнецы, упрямых чудовища, которые веками корчились в этом царстве теней, влачась так медленно и натужно, что не только грибы-поганки и прочая губчатая растительность успевала взойти под ними, но и спины их покрывались мхом, словно налетом сажи. С ними я затерялся в этом вулканическом лабиринте, проламывая дорогу сквозь чащу подгнивших сучьев, пока наконец уже во сне не увидел себя сидящим по-турецки на горбу самой крупной черепахи. Напротив меня восседали два брамина, и, вместе взятые, своими лбами мы образовывали треножник, на котором покоился вселенский свод.
Таково было кошмарное видение, порожденное первым впечатлением от встречи с обитателями Очарованных островов. Но, как это ни странно, на следующий день вечером я преспокойно сидел в кругу своих товарищей за веселой трапезой, наслаждаясь бифштексами и жарким из черепах. После ужина в ход пошли ножи — я помог превратить мощные панцири в три затейливо вогнутые суповые миски и тщательно полировал плоские желтоватые днища, из которых получились великолепные подносы.
НАБРОСОК ТРЕТИЙ. Скала Родондо
Зовется среди них скалой Дурной Упрек.
Ужасно здесь — сам дьявол заскучает.
Из рыб и птиц никто в то место не ходок —
Там только вопль гагар и грубый покрик чаек,
Да кармаран родню пернатых привечает.
Они кричат, присев на жуткий тот утес.
И вторит им прибой, чей голос ветр принес,
И бьется о массив незыблемой скалы,
И волны вверх летят, как капли слез,
И мрачные слова угроз несут валы.
И лодочник тогда легонько подгребает
И той мелодии немыслимой внимает.
И стая страшных птиц над головой взлетела,
Ударом крепких крыл касаясь тела,
И заслонила свет, и ночь весь мир одела,
И ощупью они брели в ее пределах,
Фатальных птиц семья вокруг галдела.
Восхождение на высокую каменную башню — не только само по себе достойное занятие, но и прекрасный способ разобраться в прилегающих окрестностях. Лучше, если она стоит обособленно и одиноко, подобно таинственной башне в Нью-Порте, или является единственным сооружением, сохранившимся от разрушенного замка.
Что касается Очарованных островов, то там мы осчастливлены присутствием величественного наблюдательного пункта в виде скалы, которая благодаря особенностям очертания издревле прозывалась испанцами Родондо, или Круглая. Она поднимается вверх на двести пятьдесят футов от поверхности моря, в десяти милях от берега, оставляя к востоку и к югу группу гористых островов, и в увеличенном виде воспроизводит расположение известной Кампанилы, звонницы святого Марка, возвышающейся среди кучки ветхих зданий, беспорядочно сгрудившихся вокруг.
Однако не торопитесь насладиться панорамой Энкантадас, потому что Родондо, эта морская башня, сама заслуживает внимания. Видимая с расстояния тридцати миль, она добросовестно вносит свою лепту в создание атмосферы очарованности, витающей над островами, поскольку издалека неизменно принимается за парус. С дистанции четырех лиг в полдень, подернутая золотистой дымкой, она напоминает испанский адмиральский корабль, сверху донизу увешанный сверкающей парусиной. Парус! Парус! Парус! — одновременно доносится тогда со всех трех мачт. Но стоит подойти поближе — и призрачный фрегат быстро превращается в сторожевую башню.
Я нанес первый визит в это примечательное место рано поутру. Чтобы наловить рыбы, мы спустили три шлюпки и, пройдя на веслах около двух миль, перед самым рассветом оказались в полосе лунной тени, отбрасываемой Родондо. Вид скалы был ужасен, однако несколько смягчен странным двойным освещением этого утреннего часа. Огромная полная луна светила низко на западе наподобие меркнущего маяка, который разливает по поверхности моря мягкие, насыщенные блики, похожие на отблески догорающих углей в полночном камине; одновременно весь восток был охвачен бледным предвестным сиянием еще невидимого солнца. Легкий ветерок апатично шевелил волны, звезды едва мерцали, природа казалась выбившейся из сил после длительной ночной вахты и неподвижно застывшей в изнурительном ожидании солнца. Был тот самый час, когда Родондо пребывает в наилучшем настроении. Сумеречного освещения как раз хватало на то, чтобы глазу открылись поразительные подробности, но осталось нетронутым туманное облачение таинственности.
От разрушенного ступенчатого пьедестала, омываемого волнами, др гладко выбритой вершины башня вздымается ввысь антаблементами геологических пластов. Эти однородные слои, составляющие громаду, и придают ее очертаниям своеобразие. Строго по линиям соприкосновения они выступают наружу в виде массивных округлых полок, возвышающихся одна над другой единообразными сериями от основания до вершины. Словно стрехи какого-нибудь старого амбара или аббатства, оживляемые ласточками, эти каменные уступы заселены несметным количеством морской птицы. Карниз за карнизом, гнездо на гнезде. Сверху донизу башня испачкана длинными, призрачно-белыми полосами птичьего помета, что отчасти и придает ей издали вид парусного корабля. Она могла бы пребывать в состоянии ничем не нарушаемого колдовского покоя, если бы не демонический гомон пернатых. Не только карнизы — все небо над головой затянуто крылатым, постоянно перемещающимся кишащим балдахином. На сотни лиг вокруг скала служит убежищем водоплавающим. К северу, востоку и западу простирается только открытый океан, так что любой воинственный ястреб, летящий от побережья Северной Америки, Полинезии или Перу, первую остановку делает обязательно на Родондо. Круглая скала тterra firma, однако птицы тверди земной не опускались на нее никогда. Вообразите, что там поселилась малиновка или канарейка! Она оказалась бы в лапах филистимлян, случись бедной певунье попасть в окружение стай сильных птиц, птиц-бандитов, многочисленных, как саранча, и вооруженных длинными клювами, острыми как кинжалы.
Я не знаю, где еще, кроме Родондо, можно с таким успехом изучать естественную историю самых любопытных образчиков морских пернатых. Это птичник Тихого океана. Там приземляются птицы, ни разу не касавшиеся лапками мачты или дерева, птицы-отшельники, живущие особняком, заоблачные птицы, знакомые с недосягаемыми высотами атмосферы…
Однако начнем наше обозрение с самого нижнего карниза — наиболее широкого и часто заливаемого волнами в полную воду. Что это там за диковинные существа? Они держатся вертикально, словно люди, но не так симметричны; существа эти расположились вокруг скалы на манер скульптурных кариатид, как бы поддерживая нависающий над ними свод. Они выглядят карикатурно — короткие клювы, ступни ног растут прямо из нижней части туловища, а члены, расположенные по бокам, не назовешь ни плавниками, ни крыльями, ни руками. Воистину, пингвин — не рыба, не мясо и не дичь и как съестное не устраивает ни масленицу, ни великий пост. Таким образом, это самые двусмысленные и наименее удачные из созданий, открытых человеком. С претензией на принадлежность ко всем трем стихиям и действительно обладая в этом отношении некоторыми элементарными правами, они не чувствуют себя дома ни в одной из них. Они беспомощно ковыляют по земле, в воде гребут крыльями, словно веслами, и судорожно бьют крыльями по воздуху. Будто устыдившись неудачи, природа-мать прячет подальше свое некрасивое дитя в укромные уголки земли, вроде Магелланова пролива, или на самом нижнем ярусе скалы Родондо.
А теперь посмотрите чуть выше, туда, где выстроились целые полки удрученных горем созданий. Что за странные шеренги? Может быть, там собрались братья Ордена морских францисканцев? Это пеликаны. Тонкие вытянутые клювы и тяжелые кожаные сумки, подвешенные к ним, придают пеликанам выражение опечаленности. Задумчивое племя, они часами простаивают совершенно неподвижно. Скучное пепельное оперение имеет такой вид, будто его присыпали сверху печной золой. Эта окаянная птица недаром наведывается на каменистые берега Энкантадас, где вполне мог бы восседать мучимый Иов, раздирая грудь горшечными черепками.
Еще выше мы замечаем гоуни, или, как его неправильно называют, серого альбатроса-птицу, которая совсем не смотрится и начисто лишена поэтичности, не в пример своему прославленному сородичу — белоснежному призраку заколдованных мысов Горн и Доброй Надежды.
Если мы продолжим подъем с карниза на карниз, то будем находить обитателей башни расквартированными в строгом соответствии с общественным положением каждой персоны — глупышей, черных и пятнистых альбатросов, морских соек, курочек, олушей и всевозможных чаек. Целые княжества, державы, династии, господствующие одна над другой, разместились там словно по сенаторскому списку.
А над ними, подобно непрерывно повторяющемуся изображению мухи, вкрапленному в огромное вышитое полотно, мелькает буревестник, или, иначе, курочка Мамы Кэри, трубными возгласами бросая всем вызов и сея тревогу. Этот таинственный колибри океанских просторов, будь его оперение поярче, благодаря живости перемещений в воздухе мог бы прозываться морской бабочкой, но тем не менее его клекот за кормой корабля звучит для моряков так же зловеще, как для крестьянина скрип жука-точильщика за камином. Так вот, то обстоятельство, что буревестник в своих скитаниях не минует Энкантадас, придает их ужасному очарованию еще большую убедительность в воображении мореплавателей.
С приближением дня разноголосый гам усиливается. Криками, раздирающими уши, вся эта птичья компания празднует наступление утра. Каждый миг целые стаи срываются со стен башни, вступая в воздушный хор, в то время как освободившиеся места внизу стремительно заполняются мириадами других птиц. Но тут, сквозь этот хаотический гомон, до меня доносятся чистые, серебряные звуки рожка. Они спускаются сверху непрерывно, будто косые нити быстро падающего дождя на фоне каскадов ливня. Я пристально всматриваюсь в высоту и узнаю белоснежное, ангелоподобное тело с длинным, копьеобразным пером, торчащим позади. Это веселый, воодушевляющий шантэклер океана — прекрасная птица, метко прозванная за свой энергичный, музыкальный и призывный посвист Помощником боцмана.
Пернатая жизнь, облаком окружающая Родондо, имеет достойного антипода — морских хозяев скалы, которые заселяют воды у ее основания. Ниже ватерлинии скала, наподобие пчелиных сот, изрыта гротами, образующими запутанный лабиринт удобных ходов и убежищ для несметного количества сказочных рыбок, которые весьма необычны, а многие чрезвычайно красивы и своим присутствием сделали бы честь самому дорогому аквариуму. Поражает полнейшая новизна многих индивидуумов — здесь можно увидеть оттенки, ни разу не воспроизводившиеся на полотне, и найти формы, не воссозданные резцом.
Чтобы показать многочисленность, жадность, неслыханное бесстрашие и доверчивость этих тварей, позвольте мне рассказать следующее: сквозь прозрачную толщу воды, которая на время успокаивается в тех местах, где у самой поверхности быстро кружатся мелкие рыбки, наши рыболовы замечали лениво плавающих на глубине рыб покрупнее и поосторожнее и пытались, бывало, закинуть свои снасти, чтобы выловить их. Напрасно! Пройти верхнюю зону оказывалось совершенно невозможным. Не успевала леска коснуться воды, как сотня безумцев начинала бороться за право быть пойманным на крючок. Глупые рыбки Родондо! Жертвенная доверчивость приобщает вас к тем, кто, пребывая в неведении, неосмотрительно полагается на человеческую натуру…
Рассвет обращается в погожий день. Стая за стаей птицы отлетают, чтобы добыть себе пропитание над глубинами моря. На время башня пустеет, за исключением подводных пещер у подножия. Полосы птичьего помета сверкают в золотых лучах, словно побелка высокого маяка или величественные паруса фрегата. И в этот миг, когда перед вашим взором предстает мертвая, безжизненная скала, другие путешественники, смотрящие из дали моря, готовы утверждать, что видят радостный, многолюдный корабль.
Но возьмемся же снова за канат и продолжим подъем. Однако не торопитесь, задача эта не из легких…
НАБРОСОК ЧЕТВЕРТЫЙ. Вид со скалы Родондо, уподобленной горе Писга[1]
Затем ведет на высочайшую вершину,
Откуда раскрывает перед ним…
Если вы намерены взойти на вершину Родондо, примите во внимание прежде следующее предписание: сходите разика три вокруг света марсовым матросом, нанявшись на фрегат с самыми высокими мачтами; затем годика два прослужите учеником гида, сопровождающего иностранцев на вершину пика Тенериф; столько же — учеником канатоходца, индийского фокусника и, наконец, серны. Проделав все это, приходите — и вы будете вознаграждены видом, открывающимся с нашей башни. Как мы попадем на вершину — пусть это останется между нами. Расскажи мы другим — едва ли они поумнеют. Хватит с нас и того, что мы оба, я и вы, стоим на вершине. Едва ли воздухоплавателю либо человеку, которого занесло на луну, открываются более богатые возможности для обозрения пространства. Можно предположить, что именно такой выглядит Вселенная, если посмотреть на нее с высоты небесных замков Мильтона. Какой-то безбрежный штат Кентукки, целиком залитый водой. Дэниел Бун[2] пребывал бы здесь в состоянии полнейшего умиротворения.
Глядя с этой высоты, можно на время пренебречь некогда сгоревшим участком под названием Энкантадас. Обратите свой взор дальше, в южном направлении, минуя эти острова. Вы говорите, что ничего особенного не замечаете, — тогда позвольте указать вам направление, если не точное местоположение некоторых интересных объектов в океане, который, облобызав подножие нашей башни, разворачивается необозримым свитком в сторону Южного полюса.
Мы находимся в десяти милях от экватора. Там, на востоке, в шестистах милях лежит континент, и Кито располагается почти на одной параллели с нашей скалой.
Обратите внимание на другую подробность. Мы стоим над одной из трех групп необитаемых островов, которые, будучи расположенными примерно на одинаковом расстоянии от материка и довольно далеко друг от друга, словно часовые, охраняют побережье Южной Америки. В некотором роде именно на этих островах сходят на нет характерные особенности южноамериканского континента. Изо всех бесчисленных архипелагов Полинезии ни одному не пришлось разделить участи Галапагосских островов, или Энкантадас, островов Сан-Феликс и СанАмброзио, Хуан-Фернандес и Мас-а-Фуера. О первых не стоит и говорить. Вторые лежат чуть южнее тропика Козерога. Это высокие, негостеприимные и пустынные скалы, причем одна из них состоит из двух круглых холмов, соединенных низким рифовым барьером, и похожа на артиллерийский снаряд, изготовленный из двух ядер, скованных железной цепью. Третьи лежат на широте 33o-высокие, дикие и расчлененные надвое. Хуан-Фернандес пользуется достаточной известностью и не требует дополнительного описания. Мас-а-Фуера — испанское название, выразительно удостоверяющее тот факт, что остров, носящий это наименование, находится как бы «вне», то есть лежит чуточку дальше от материка, чем его сосед Хуан. Мас-а-Фуера располагает внушительной наружностью, особенно с расстояния восьми-десяти миль. Если приближаться к острову, постоянно придерживаясь одного направления, его махина, нависающая над морем, резко очерченный контур и своеобразный уклон вершин в пасмурную погоду подскажут нашему воображению картину огромного айсберга, дрейфующего с невозмутимым спокойствием. Его бока изобилуют темными пещерообразными нишами, словно древний собор — мрачными встроенными часовнями. Если после долгого плавания вам случится подходить к одной из этих ниш со стороны моря и увидеть вдруг обтрепанного, давно порвавшего с законом отщепенца, спускающегося навстречу по камням с посохом в руке, то это обстоятельство, окажись вы любителем острых ощущений, способно вызвать целую гамму эмоций самого странного свойства.
В качестве члена артели судовых рыболовов я имел счастье побывать на всех перечисленных островах. Каждому новичку, подгребающему на веслах под навес этих угрюмых утесов, они обязательно внушат впечатление, будто он является их первооткрывателем — таковы нерушимый покой и одиночество, царящие вокруг. Тут будет вполне уместно пролить свет на некоторые обстоятельства открытия островов европейцами, особенно принимая во внимание, что сказанное далее в равной мере будет относиться и к нашим Энкантадас.
До наступления 1563 года плавания, совершаемые испанскими кораблями между Перу и Чили, были сопряжены с невероятными трудностями. Ветры, преимущественно с юга, преобладают вдоль этого побережья; и непреложный обычай, основанный на суеверном фантазировании, заставлял испанцев во время морских переходов держаться вплотную к земле из опасения оказаться подхваченными вечным пассатом и быть унесенными в безбрежные просторы, откуда уже нет возврата. Здесь, запутавшись в извилинах многочисленных мысов и полуостровов, попав в окружение мелей и рифов, сражаясь с постоянно дующими противными ветрами, часто меняющими направление, погружаясь в полнейшие штили, которые длятся сутками или целыми неделями, тамошние суда подвергались ужасным тяготам на переходах, прокладывать которые в наши дни было бы совершеннейшей бессмыслицей. В анналах морских катастроф особое место занимает случай, происшедший с одним из таких кораблей. Он отправлялся в плавание, которое должно было длиться всего десять суток, но на самом деле, проведя в море четыре месяца, так и не вошел в гавань, потому что в конце концов пропал без вести. Как ни странно, этот ковчег не встретил на пути ни одного шторма, зато оказался послушной игрушкой словно бы предумышленных штилей и коварных течений. Всякий раз оказываясь без провизии, он трижды возвращался в промежуточный порт и снова пускался в путь для того, чтобы вернуться назад. Туманы окутывали его так часто, что определения местоположения стали невозможными, и однажды, когда команда находилась в состоянии радостного возбуждения, предвкушая вот-вот узреть порт назначения, рассеявшийся туман, увы, открыл взорам моряков гористое побережье, от которого они начали свое путешествие. В конце концов эти обманчивые испарения завлекли судно на риф, и результатом явились бедствия, слишком печальные для того, чтобы о них рассказывать.
Только Хуану Фернандесу — известному мореплавателю, чье имя увековечено в названии открытого им острова, удалось положить конец этим мытарствам. Подобно да Гаме, смело оторвавшемуся от берегов Европы, он пустился в рискованное предприятие, направив свое судно в открытый океан. Там он нашел ветры, благоприятные для плавания в южном направлении, а повернув на запад, за пределы влияния пассатов, без всякого труда достиг нужного побережья. Таким образом, пусть даже и окольным путем, он проделал переход, сэкономивший больше времени, чем плавание напрямик. Именно следуя такими маршрутами, примерно в 1670 году португальцы открыли Очарованные острова и все остальные из так называемой сторожевой группы. Хотя мне ни разу не попадались отчеты экспедиций, ясно указывающие на необитаемость островов, можно с полным основанием заключить, что они испокон веков являли образчики одиночества. Но вернемся к скале Родондо.
К юго-западу от нашей башни, в сотнях лиг, простирается Полинезия, а на западе, следуя строго по параллели, вы не встретите никакой земли до тех пор, пока форштевень вашего судна не упрется в остров Кингсмилз — в общем-то небольшая прогулка под парусом — миль эдак тысяч в пять.
Получив наше относительное место в океане с помощью таких неблизких объектов, то есть воспользовавшись единственно возможным способом определения, приемлемым для Родондо, рассмотрим теперь предметы не столь отдаленные.
Вглядитесь в угрюмые и обугленные Энкантадас. Тот мыс, в форме кратера, — часть острова Албемарл, самого крупного в архипелаге. Остров имеет шестьдесят миль в длину и пятнадцать в ширину. Приходилось ли вам когда-нибудь глазеть на настоящий, неподдельный экватор? Доводилось ли, в настоящем смысле этого слова, попирать ногами эту линию? В таком случае позвольте подсказать вам, что этот кратер, покрытый желтой лавой, разрезан экватором пополам с точностью, с какой острый нож рассекает центр пирога, начиненного тыквой. Если бы ваше зрение оказалось настолько острым, чтобы вы смогли видеть еще дальше, то чуть в стороне от этого мыса, за низкой, дайковой полоской земли, вы бы заметили остров Нарборо, самый высокий изо всех островов архипелага. Его нельзя отнести к разряду земли — от вершины до основания это сплошной сгусток лавы, изобилующий пещерами, черными, как кузницы. Словно чугунные плиты, гудят под ногами его берега, отливающие металлом, а высокие вулканы, стоящие отдельной, обособленной группой, похожи на дымовые трубы.
Нарборо и Албемарл состоят в соседстве довольно любопытного свойства. Известный печатный знак, опрокинутый по направлению движения часовой стрелки, наглядно представит вам их странное взаимоположение.
Отсеките каналом от основного тела буквы среднюю засечку, и она станет Нарборо, а все остальное — Албемарлем. Вулканический Нарборо торчит из черных, стиснутых челюстей Албемарля, словно красный язык из разверстой волчьей пасти.
Если вы хотите получить представление о населении Албемарля, я постараюсь предложить вашему вниманию, в округленных цифрах, некоторые статистические данные, которые с достаточной точностью были собраны мной прямо на месте:
Люди нет Муравьеды неизвестно Человеконенавистники неизвестно Ящерицы 500 тысяч Змеи 500 тысяч Пауки 10 миллионов Саламандры неизвестно Черти некоторое количество
Общий баланс составляет 11 миллионов плюс не поддающееся подсчету воинство демонов, муравьедов, мизантропов и саламандр.
Албемарл держит свою пасть открытой на заход солнца. Его разжатые челюсти образуют большой залив, который разделен Нарборо, этим языком, на две половины — Наветренную и Подветренную бухты. Два полуострова вулканического происхождения, оконечности острова прозываются Северным и Южным мысами. Я особо подчеркиваю это, потому что описываемые места достойно отмечены в летописях китобойного промысла. В определенное время года киты заходят в эти бухты, чтобы дать жизнь своему потомству. Рассказывают, что первые китобои, промышлявшие в этих водах, бывало, блокировали вход в Подветренную бухту своими судами, в то время как их вельботы, следуя Наветренной бухтой, входили в пролив Нарборо и, таким образом, накрепко запирали левиафанов в этом огромном загоне.
В тот самый день, когда мы ловили рыбу у подножия Круглой скалы, дул устойчивый ветер, и наше судно, обогнув мыс Северный, столкнулось с достойнейшим зрелищем, которое когда-либо приходилось видеть предприимчивому мореходу. Около тридцати парусников, выстроившись в ряд, словно эскадра, боролись со встречным ветром — славное, гармоническое согласие стремительных штевней. Все тридцать килей, словно тридцать арфовых струн, напряженно звенели, сообразно вытянувшись по воде, и дружно чертили идеально параллельные линии кильватеров. Однако в данном случае охотников оказалось гораздо больше, чем дичи. Флот распался, и все суда, каждый своей дорогой, постепенно скрылись из виду. На месте остались только наше судно и два аккуратных джентльмена из Лондона. Но они, как и другие, потерпев неудачу, вскоре исчезли. Подветренная бухта со всеми своими достопримечательностями за неимением претендентов перешла в нашу собственность.
Судовождение в этом месте осуществляется следующим образом: вы вертитесь у входа в залив, ложась с одного галса на другой. Причем временами, именно временами, а не постоянно, как у других островов, течение со скоростью скаковой лошади пересекает вам путь. Вследствие этого, неся всю массу парусов, приходится закладывать галсы с величайшей осторожностью. Как часто при восходе солнца, стоя на макушке фок-мачты, в то время как нос судна терпеливо нацеливался в разрез между островами, мне приходилось напряженно всматриваться в эту землю, сложенную отнюдь не из глины, а из расплавленных камней и сформированную не ручейками искрящейся воды, а запруженными потоками бурлящей лавы.
Когда судно спешит к острову со стороны открытого океана, Нарборо подставляет ему свой бок в виде сплошной, темной и нависающей громады, вздымающейся на пять-шесть тысяч футов, а еще выше скрытой капюшоном тяжелых облаков, нижний контур которых прорисовывается на фоне скал так же четко, как граница снегов в Андах. И там, в столь возвышенной темноте, происходят страшные вещи. Там трудятся демоны огня, которые время от времени высвечивают ночь странной, таинственной иллюминацией на многие мили вокруг, что, впрочем, не сопровождается никакими другими демонстрациями; но иногда, совершенно неожиданно, они заявляют о себе ужаснейшими толчками и разыгрывающейся затем драмой вулканического извержения. Чем темнее облака днем, тем ярче освещены эти представления ночью. Китобои нередко оказывались вблизи докрасна раскаленной горы, сияющей словно бальная зала. Стекольным заводом — вот как еще можно назвать этот стеклообразный остров, оснащенный высоченными трубами.
Отсюда, где мы стоим, то есть с вершины Родондо, не видно других островов, но наше место достаточно удобно для того, чтобы указать, где они расположены. Вон там, к примеру, на норд-осте, я замечаю вдалеке темную гряду. Это остров Абингдон — один из самых северных островов архипелага. Он такой отдаленный, одинокий и пустынный, что вызывает в памяти остров Ноу-Мэнз-Лэнд, лежащий мористее нашего северного побережья. Я сомневаюсь, чтобы два человеческих существа одновременно когда-либо прогуливались по его берегам. Поэтому применительно к Абингдону Адам и миллиарды его потомков пока что пребывают в небытии.
Вытянувшийся к югу от Абингдона и совершенно невидимый за длинным хребтом Албемарля стоит остров Джемса, названный так еще первыми флибустьерами в честь неудачливого Стюарта — герцога Йоркского. Кстати, обратите внимание, что, за исключением островов, окрещенных сравнительно не— давно и главным образом в память именитых адмиралов, Энкантадас впервые были отличены друг от друга испанцами; однако в середине семнадцатого столетия пираты стерли со своих карт испанские названия, заменив их именами английских королей и вельмож. Мы скоро коснемся этих джентльменов, преданных короне, и прочих вещей, которые связывают их имена с Энкантадас. Вот, кстати, один небольшой эпизод: между островами Джемса и Албемарлем существует фантастический островок, известный как Очарованный остров Коули. Поскольку околдованным является весь архипелаг, следует объяснить особую причину наложения чар, которая явственно проглядывает в столь исключительном названии, данном самим Коули, блестящим пиратом, при первом же посещении острова. Он так рассказывает об этом в публикации, посвященной своему путешествию: «Я назвал его Очарованным островом Коули, повинуясь воображению. С различных румбов он представал перед нами всякий раз по-иному: то принимал вид разрушенной крепости, то большого города и т. д.». Это не вызывает удивления, потому что посреди Очарованного архипелага можно действительно наблюдать различного рода миражи и оптические обманы. Тем не менее связь, установившаяся между именем Коули и островом-оборотнем, вызывает предположение, что, по-видимому, остров как-то подсказал воображению пирата его собственный созерцательный образ. По крайней мере если сей мореплаватель состоял в каком-то родстве со склонным к неторопливому раздумью и самоанализу поэтом Коули, что вполне возможно, поскольку он жил примерно в то же самое время, то этот пример тщеславия не покажется нам слишком необоснованным. Дело в том, что подобные вещи вроде присвоения собственного имени острову заключены в крови и одинаково часто встречаются как среди пиратов, так и среди поэтов.
Еще южнее острова Джемса располагаются острова Джервис, Дункан, Крое мен, Врэттл, Вудс, Чатем и другие, поменьше, — целый архипелаг пустырей, лишенных населения, истории и всякой надежды когда-нибудь их приобрести. Однако неподалеку от них находятся и довольно примечательные острова Баррингтон. Чарльз, Норфолк и Худ. Следующая глава подведет некоторые основания под их особенности.
НАБРОСОК ПЯТЫЙ. Фрегат и неуловимый корабль
Я вдаль, в открытый океан взглянул —
Там дерзостный корабль свой пенный след оставил.
На мачте яркий флаг цветным крылом взмахнул,
И весело сквозь шторм он путь упрямый правил.
Прежде чем спуститься с Родондо, давайте припом1 ним, как в 1813 году американский фрегат «Эссекс» под командованием капитана Дэвида Портера чуть было не украсил скалу своими обломками. Однажды утром при полном безветрии, когда корабль совершенно беспомощно двигался, подхваченный сильным течением, несшим его к скале, моряки вдруг заметили удивительный парусник, который, казалось, кренился вовсе не по прихоти местной нечистой силы, а под напором настоящего ураганного ветра, в то время как паруса фрегата безжизненно висели словно зачарованные. Вскоре поднялся ветерок, все паруса были мигом приведены в готовность, и началась погоня за неприятелем, поскольку возникло предположение, что незнакомец — английское китобойное судно. Однако течение напирало настолько сильно, что фрегат не смог его превозмочь и вскоре потерял из виду противника, а к полудню, несмотря на попытки зацепиться за грунт якорями, сдрейфовал почти под самые утесы Родондо, окаймленные пеной, так что некоторое время казалось, что все надежды на спасение погибли. В конце концов легкий бриз помог «Эссексу» выкрутиться из затруднительного положения, хотя избавление, пришедшее в столь критический момент, казалось чудом.
Спасшись таким образом от катастрофы, фрегат поспешил воспользоваться везением, чтобы как можно скорее погубить другое судно. Возобновив погоню в том направлении, где скрылся предполагаемый англичанин, он настиг его на следующее утро.
Будучи обнаруженным, тот поднял американский флаг и стал уходить от «Эссекса». Снова воцарился штиль, когда Портер, уверенный, что незнакомец все же англичанин, выслал к нему катер — не с целью взять противника на абордаж, а чтобы заставить поднять буксирующие его шлюпки. Это удалось. Немедленно вдогонку были спущены другие катера, чтобы наконец-то овладеть неприятелем, тем более что тот вдруг снова оказался уже не под американским, а под британским флагом. Когда посланным с фрегата шлюпкам оставалось совсем немного до вожделенного приза, очередной порыв ветра наполнил паруса противника, и он быстро удалился к западу, а к наступлению ночи весь корпус британца провалился за горизонт на виду у «Эссекса», который пролежал все это время, словно парализованный.
Эта загадочная посудина, бывшая утром под американским флагом, а вечером под английским, с парусами, улавливающими ветер в штиль, исчезла на— всегда. Без всякого сомнения, то был корабль-призрак. Так по крайней мере считали моряки.
Крейсирование «Эссекса» в Тихом океане во время войны 1812 года вошло в историю флота Соединенных Штатов как необычайное и волнующее плавание. «Эссексу» удалось захватить многие приблудные вражеские суда, посетить отдаленнейшие моря и земли, пришлось томиться в притягательной близости Очарованного архипелага и, наконец, в безнадежном бою уступить двум английским фрегатам в бухте Вальпараисо. «Эссекс» по праву заслуживает упоминания наравне с кораблями пиратов. Имя его тесно связано с Энкантадас. Он долгое время крейсировал среди этих островов, команда его охотилась на черепах и проводила здесь исследования.
Остается только добавить, что мы имеем пока три свидетельских показания относительно Очарованных островов, заслуживающих упоминания: пирата Коули (1684), Колнетта — исследователя и китобоя (1793), Портера — капитана военного флота (1813). Другие свидетельства, находящиеся в нашем распоряжении, представляют собой бледные, бесполезные ссылки, оставленные случайными путешественниками и компиляторами.
НАБРОСОК ШЕСТОЙ. Остров Баррингтон и пираты
Покорность низкую презренью предадим;
Сыны земли, которой нет предела,
Наследие отцов поделим смело.
Для каждого — гони достойный куш,
Владенье скаредов сиятельных разрушь,
Тех, что сокровища в своих руках зажали!
Мы — лорды мира, наш удел — свобода,
Никто нам не указ под небосводом!
Как смело мы зажили, как весело и бесстрашно, как близко от первопрестольного наследия, как далеко от мелочных забот!
Около двух столетий тому назад остров Баррингтон был убежищем известной ветви пиратов — выходцев из Вест-Индии, которые после изгнания из вод Кубы ушли за Дарьенский перешеек, грабили Тихоокеанское побережье испанских колоний и регулярно, с аккуратностью современной почтовой службы, подстерегали королевские корабли с казной, курсировавшие между Манилой и Акапулько. После тягот разбойного ремесла они приходили сюда, чтобы помолиться богу, вдоволь повеселиться, извлечь для дележа из захваченных бочонков пиастры и дублоны и измерить азиатские шелка толедскими клинками, отлично сходившими за аршин.
В то время трудно было сыскать место, более годное для того, чтобы служить одновременно удобным пристанищем и надежным тайником. Острова, которые могли отогнать любого заблудившегося мореплавателя одним только своим негостеприимным видом и которые окружены со всех сторон необозримым, молчаливым и безлюдным морем, тем не менее находились всего в нескольких сутках перехода под парусом от цветущих стран. Страны эти были их жертвами, а морские разбойники обрели на Энкантадас безмятежное спокойствие, которого, увы, совершенно лишились все цивилизованные гавани Тихого океана. Если этим мародерам океанских просторов случалось выбиться из сил в единоборстве со стихией или получить иногда основательную трепку от рук мстительных и жестоких врагов, они с трудом ускользали с богатой добычей от быстрой погони, безбоязненно входили сюда и вольготно располагались на этих берегах. Острова сулили не только тишину, спокойствие и полную чашу удовольствий, но и отлично подходили для других дел.
Остров Баррингтон во многих отношениях исключительно удобен для килевания, ремонта судов и прочих морских работ, а также для пополнения запасов провианта. Он предлагает не только удобную якорную стоянку с хорошей глубиной под килем и надежно защищенную от ветров высокой громадой Албемарля, но и является самым плодородным изо всех островов архипелага. Он изобилует черепахами — прекрасным продовольствием, деревьями — превосходным топливом и высокой травой, пригодной для изготовления постельных принадлежностей. Кроме того, здесь есть небольшие естественные пастбища, а ландшафт, местами, приятен для глаза. Действительно, хотя географически Баррингтон и принадлежит к Очарованным островам, он настолько своеобразен, что едва ли можно признать между ним и соседями какое-либо родство.
«Однажды я высадился на его западном берегу, — пишет сентиментальный путешественник прежних дней, — в том месте, где он обращен к черным контрфорсам Албемарля. Я прошелся под кронами деревьев — не очень высоких и не похожих ни на пальмы, ни на апельсиновые либо персиковые деревья; однако после морского плавания гулять под ними было приятно, хотя они не могли предложить никаких плодов. И здесь, на тихих прогалинах и на вершинах тенистых склонов, откуда открывались приятные перспективы, я увидел такое, о чем и подумать было невозможно. Я увидел настоящие ложа, на которых могли восседать только брамины либо президенты общества умиротворения. Благородные, древние останки сооружений, бывших когда-то симметрично расположенными скамьями из дерна и камня. Они несли следы больших затрат человеческого труда и времени. Несомненно, эти скамьи были устроены пиратами. Одна из них походила на длинный диван со спинкой и подлокотниками. Возможно, именно на такое ложе любил опускаться когда-то поэт Грэй с томиком Crebillon в руке».
«Хотя пираты месяцами смолили здесь корпуса кораблей и пользовались островом как складом запасного рангоута и бочонков, маловероятно, чтобы они когда-нибудь возводили жилища. Едва ли они задерживались на острове дольше, чем их суда, и поэтому, скорее всего, спали на борту. Я говорю об этом, потому что ловлю себя на мысли о единственно возможных мотивах создания таких романтических мест отдыха. Их создание могло быть продиктовано только непогрешимым миролюбием и стремлением слиться воедино с природой. Правда и то, что пираты творили самые гнусные преступления, верно, что некоторые из них были обыкновенными головорезами, однако в их толпе появились Дампир, Вафер, Коули и подобные им. В упрек этим скитальцам можно поставить только их собственные отчаянные судьбы. Мы говорим о тех, кого из христианского мира вытеснили преследования, несчастья, тайные и неотмщенные обиды, которые вынудили их искать забвения в меланхолическом уединении или в преступном морском разбое. Во всяком случае, пока на Баррингтоне сохранятся эти руины, останутся незыблемыми единственные в своем роде монументальные свидетельства факта, что далеко не все пираты были закоснелыми чудовищами».
«Однако, скитаясь по острову, я очень скоро наткнулся на следы вещей, имевших прямое отношение к диким деяниям, справедливо приписываемым пиратам. Подбери я обрывки истлевшей парусины или ржавые обручи, я имел бы право подумать о корабельном плотнике или бондаре. Я же нашел старые тесаки и кинжалы, ставшие ржавым железом, которым в свое время доводилось щекотать испанцев меж ребер. Эти следы оставили убийцы и грабители. Бражники тоже позаботились о том, чтобы напомнить о себе потомкам. Там и сям по всему пляжу вперемешку с раковинами валялись осколки кувшинов, точно таких же, какие и по сей день употребляются на испанском побережье для винаиписко».
«С обломком ржавого кинжала в одной руке, с осколком винного кувшина в другой я присел на разрушенную зеленую скамью, о которой уже говорил, и снова погрузился в раздумье — возможно ли, чтобы эти люди, грабя и убивая сегодня, предаваясь оргиям на следующий день, на третий вдруг приходили в себя и превращались в строителей таких сидений, в философов, мыслителей и поэтов, воспевающих природу? В конце концов не так уж невероятно. Вспомните, сколь непостоянен человек; и я, как это ни странно, склонен придерживаться снисходительной точки зрения, а именно — среди этих авантюристов встречались все же благородные, отзывчивые души, способные на проявление истинного миролюбия и добродетели».
НАБРОСОК СЕДЬМОЙ. Остров Чарльза и «собачий король»
Раздался тут истошный крик,
Злодеев тысячи, пред ним затеяв свалку,
Спешат со скал, в пещерах щерят лик —
Ублюдки, дрань и рвань, кого прибить не жалко.
Все смертию грозят. Кто тыкал грубой палкой,
Кто потрясал копьем, кто ржавый нож держал,
И приближались угрожающе вразвалку.
Мы не хотим трудиться и работать,
Пусть подлые вассалы платят подать,
Копаются в грязи и гнут свой горб за хлеб,
Коль нет мозгов — не жди иных судеб.
К юго-западу от Баррингтона расположен остров Чарльза. С ним связана история, которую мне довольно давно рассказал судовой приятель, хорошо осведомленный о подробностях заморской жизни.
Во время успешного выступления испанских провинций против своей матери Испании на стороне Перу сражался некий авантюрист, креол по происхождению, выходец с острова Куба. Благодаря личной храбрости и некоторому везению он добился довольно высокого чина в патриотической армии. По окончании войны в Перу многие отважные джентльмены оказались достаточно свободными и независимыми, но, как говорится, без гроша в кармане. Другими словами, государство не располагало необходимыми средствами для того, чтобы расплатиться с войсками. Наш креол, чье имя я успел позабыть, вызвался получить свое вознаграждение в виде надела земли. Посему было сказано, что он волен сделать выбор на Энкантадас, которые тогда, как, впрочем, и в наши дни, относились к Перу.
Без лишних слов старый солдат садится на корабль, объезжает все острова, возвращается в Кальяо и заявляет, что согласен на остров Чарльза. Мало того, он просит, чтобы в контракт на право владения было включено условие, по которому остров отныне не только становится его неоспоримой собственностью, но и навсегда отделяется от Перу, как само Перу от Испании. Короче говоря, этот авантюрист фактически производит себя в ранг Верховного правителя острова, стоящего на одном уровне с кровными, державными принцами нашей планеты.[3] Затем он издает прокламацию, приглашающую всех желающих стать подданными его еще необитаемого королевства. Откликнулось около восьмидесяти душ-мужчин и женщин. Снабженные своим предводителем всем необходимым снаряжением и орудиями труда, прихватив несколько голов крупного рогатого скота и коз, они отправились морем, чтобы заселить обещанную землю. Последним на борт корабля перед самым отплытием прибыл креол в сопровождении, как ни странно говорить об этом, вымуштрованного кавалерийского эскадрона — своры огромных псов весьма зловещего вида. Последние, как было всеми замечено, отказали иммигрантам в каком-либо общении во время перехода и жались к ногам своего господина на возвышенной корме корабля наподобие аристократической свиты, бросая презрительные взгляды на толпу, недостойную внимания и теснившуюся под ними (точно так гарнизонные солдаты с высоты крепостного вала разглядывают посрамленных граждан завоеванного города, которых отныне они поставлены держать в повиновении).
Остров Чарльза не только напоминает остров Баррингтон, будучи пригодным для заселения более чем остальные острова архипелага, но и вдвое превосходит его по площади. Он имеет длину по окружности около сорока — пятидесяти миль.
Благополучно высадившись на берег, компания приступила к строительству столичного города под руководством своего хозяина и покровителя. Они добились значительных успехов по части возведения стен и выкладки полов из туфа, которые обильно присыпали золой. На холмах, менее лысых, чем остальные, они начали пасти скот; и козлы, предприимчивые от природы, занялись обследованием самых заброшенных уголков острова в поисках скудного пропитания, которое составляла высокая местная трава. В то же время обилие рыбы и черепах удовлетворяло нужду в продовольствии самих иммигрантов.
Беспорядки, в общем-то происходящие во всех вновь осваиваемых областях, в данном случае возникали из-за исключительного своенравия некоторых пилигримов. В конце концов его величество был вынужден ввести военное положение, заняться охотой на своих мятежных подданных и пристрелить некоторых из них собственной рукой, потому что те посмели тайно удалиться на поселение в глубь острова, откуда крадучись выходили по ночам, чтобы по-воровски, на цыпочках бродить до утра под стенами туфового дворца. Следует заметить, что до принятия таких крутых мер среди мужской части населения были тщательно отобраны люди, составившие пешую гвардию, которая, однако, находилась в подчинении собачьих кавалергардов. Можно себе представить состояние внутриполитических дел этой несчастной страны, если принять во внимание, что всякий, кто не попал в число гвардейцев, рассматривался как самый злоумышленный заговорщик и низкий предатель. Вскоре, по молчаливому согласию сторон, смертная казнь была все же упразднена благодаря своевременному осмыслению того обстоятельства, при котором король Нимрод остался бы почти без дичи либо вовсе ее лишился, позволь он охотничьим приемам отправления правосудия свободно распространиться среди подданных. В результате людская часть телохранителей была распущена и приставлена к работе по обработке земли и выращиванию картофеля, от регулярной же армии сохранился только собачий полк. Псы, как мне рассказали, обладали удивительно злобным нравом, но, пройдя в прошлом суровую школу, верно служили своему хозяину. Теперь наш креол прохаживался по стране вооруженный до зубов и в окружении янычар, ужасающий лай которых заменял солдатские штыки, применяемые для пресечения всяких попыток поднять мятеж или восстание.
Однако его величество начала сильно беспокоить численность населения, сократившаяся в результате всего происшедшего и невосполняемая за счет добровольных матримониальных наборов. Но так или иначе население должно увеличиваться. Время от времени иностранные китобои заходили на остров Чарльза, чтобы пополнить запасы продовольствия и пресной воды и, кстати, полюбоваться бесхитростными пейзажами. Его величество не преминул обложить капитанов портовыми сборами, что немало способствовало росту его благосостояния. Теперь же в голове креола зрели еще и другие планы. Владея искусством коварства, он изредка обхаживал некоторых гостей, увещевая их дезертировать со своих судов, чтобы затем встать под его знамена. Обнаружив пропажу, капитаны умоляли разрешить поиски, на что его величество, хорошенько припрятав беглецов, охотно соглашался. В результате правонарушители, естественно, никогда не отыскивались, и корабли уходили в море без них.
Таким образом, благодаря двуличной политике этого ловкого монарха некоторые иностранные державы недосчитались подданных, зато число его людей значительно возросло. Он особенно холил и лелеял этих ренегатов-иностранцев. Но, увы, сколь тщетны попытки честолюбивых принцев осуществить далеко идущие планы и сколь непрочен кичливый ореол славы! Будто преторианцы чужеземного происхождения, необдуманно внедренные в римское государство и тем более необдуманно сделанные фаворитами императора, который вскоре был ими же оскорблен и сброшен с престола, эти матросы, ставшие вне закона, с помощью бывших гвардейцев и остального населения подняли буйный мятеж и отказались повиноваться своему господину. Он выступил против них со всеми псами одновременно. Тут же, на пляже, разыгралась смертельная битва. Она продолжалась около трех часов — собаки сражались с завидной храбростью, а моряки не уступали им в решимости добиться победы. На поле боя остались лежать мертвыми трое матросов и тринадцать псов, а сам король обратился в бегство с остатками собачьего полка. Враг преследовал их по пятам, забрасывая камнями, пока не загнал в непролазную чащу посреди острова. Прекратив погоню, победители вернулись в деревню на берег моря, проломили днища у бочек со спиртным и провозгласили республику. Павшие в бою были преданы земле со всеми подобающими воинскими почестями, а дохлые псы с позором полетели в море. В конце концов под воздействием суровых обстоятельств беглый король спустился с холмов и предложил начать мирные переговоры. Мятежники отказали ему во всем, кроме сдачи на условиях безоговорочной капитуляции. Соответственно следующее же судно, навестившее остров, унесло развенчанную королевскую особу в Перу.
История властителя с острова Чарльза наглядно показывает, насколько трудно колонизировать голые острова с такими беспринципными пилигримами.
Ссыльный же монарх, задумчиво погруженный теперь в занятия сельским хозяйством на территории Перу, чье правительство предоставило ему безопасное политическое убежище, еще долгое время следил за каждым прибывшим с Энкантадас, надеясь услышать вести о падении республики и мольбы населения о возвращении законного правителя. Он не сомневался, что этот несчастный эксперимент с республикой должен скоро лопнуть. Но не тут-то было — инсургенты избрали такой тип демократии, который не походил ни на греческий, ни на римский, ни на американский. В сущности то была вовсе не демократия, а постоянно действующая бунтократия, которая процветала, избрав своим единственным законом беззаконие. Вскоре ряды бунтовщиков просто раздулись от притока всякого рода мерзавцев, бежавших теперь с любого корабля, прибывающего на остров, тем более что дезертирам предлагались всевозможные завлекательные приманки. Остров Чарльза был объявлен политическим убежищем для угнетенных всех флотов мира. Каждый удравший матрос превозносился до небес как страдалец за дело свободы и немедленно принимался в число оборванных граждан этой вселенской нации. Напрасно капитаны пытались вернуть скрывающихся моряков. За каждого из них новые соотечественники были только рады навешать любое количество фонарей под глазом кому угодно. Следует отметить, что при всей малочисленности местной артиллерии с их крепкими кулаками нельзя было не считаться. Наконец, дела зашли настолько далеко, что ни одно судно, мало-мальски знакомое с обычаями этой страны, не осмеливалось приближаться к ее пределам, какой бы сильной ни была нужда в провианте. Остров сделался анафемой, морской Альзатией, неприступным убежищем всевозможных сорвиголов, которые во имя свободы творили все, что им только заблагорассудится. Их количество постоянно колебалось. Моряки, дезертировавшие на другие острова или удравшие с судов на шлюпках, толпами правили к острову Чарльза, словно к родному дому; одновременно толпы других, кому надоела островная жизнь, время от времени переправлялись на соседние острова и там, прикинувшись перед неискушенными капитанами жертвами кораблекрушения, частенько умудрялись наняться на суда, отходящие на континент, не отказываясь по прибытии туда от небольшой суммы, предлагаемой им из сострадания.
Однажды теплой ночью, во время моего первого плавания на острова, когда наше судно лежало на своем курсе, окруженное томной тишиной, на баке кто-то закричал: «Вижу огонь!» Мы начали всматриваться в темноту и увидели примерно по траверзу маяк, горящий на каком-то смутно очерченном берегу. Наш третий помощник, мало знакомый с этими краями, подошел к капитану и сказал: «Должно быть, это потерпевшие кораблекрушение, сэр. Позвольте сходить за ними на шлюпке».
Капитан мрачно рассмеялся, погрозил кулаком в сторону маяка, крепко выругался и произнес: «Ну нет, дорогие мои. Будь проклята эта ночь, но вам не удастся сманить мою шлюпку. Неплохо придумали, мошенники, но, впрочем, благодарю за предупреждение. Ваш остров, как опасная мель, вполне заслуживает сигнала. Ни один человек, повидавший виды, не станет совать нос в ваши дела и постарается держаться подальше. Это остров Чарльза! Вызовите людей на брасы, господин помощник, и приведите огонь на корму».
НАБРОСОК ВОСЬМОЙ. Остров Норфолк и вдова чоло
И вот увидели сидящей на песке
У края вод пристойную девицу.
Она металась в горе и тоске,
Звала людей на помощь торопиться.
И воплям жалобным, казалось, не излиться
Очи ноченьки чернее,
Шея всех снегов белее,
Щеки зореньки алее,
Нет студенее постели.
Умер милый —
Над могилой Кактус-дерево растет.
Тоска твой образ воссоздаст,
Слезою должною помянет.
И Смерть не разлучает нас,
И Скорбь скорбеть не перестанет.
Далеко на северо-восток от острова Чарльза, словно отколовшийся от остального архипелага, лежит остров Норфолк. Каким бы малоинтересным ни казался юн путешественникам, в моем сочувственном воображении этот одинокий остров уподобился святому месту благодаря тяжким испытаниям, которым подверглась на его берегах человеческая природа.
Это случилось во время моего первого визита на Энкантадас. Мы провели на суше два дня, охотясь на черепах, и, поскольку не располагали большим временем для продолжения этого занятия, на третьи сутки, в полдень, приступили к постановке парусов. Мы были готовы вот-вот тронуться в путь-якорь, оторванный от грунта, еще не вышел из воды и плавно раскачивался на канате где-то глубоко внизу, а наше добротное судно, накренившись, начало медленно поворачиваться, приводя остров на корму. В этот момент матрос, работавший со мной в паре на шпиле, внезапно остановился и обратил наше внимание на какой-то движущийся предмет на берегу, мелькавший не у кромки воды, а несколько далее, на возвышенности в глубине острова. Чтобы лучше уяснить смысл этого повествования, следует рассказать, каким образом такое крохотное пятнышко, никем более не замеченное, все же привлекло внимание моего товарища. Дело в том, что, пока остальные матросы, и я в том числе, занятые подъемом якоря, упирались в вымбовки, этот приятель, находившийся в необычайно возбужденном состоянии, словно подстегнутый, вдруг вскочил на макушку шпиля, который с каждым оборотом преломлял напряжение наших мускулов в вертикально действующую подъемную силу, и застыл там в каком-то восторженном порыве, впившись глазами в медленно отступающий берег. Оказавшись таким образом вознесенным над нами, он поэтому и разглядел этот предмет, совершенно недосягаемый для нашего зрения. Возвышение точки наблюдения моего приятеля явилось следствием возвышенного состояния души, по правде говоря находившейся под сильным влиянием перуанского писко из бочонка, тайно предоставленного в его распоряжение нашим стюартом-мулатом в награду за некую услугу. Конечно, писко творит гораздо больше зла в этом мире, но тем не менее в данном случае оно оказалось тем средством, пускай даже косвенным, с помощью которого человеческая жизнь была спасена от ужасной судьбы. Имея это в виду, не следует ли, на всякий случай, отметить, что иногда писко способно принести и добро?
Взглянув в указанном направлении, я увидел что-то белое на отдаленной скале, примерно в полумиле от берега.
«Это птица, птица с белыми крыльями, а может… нет, это… это платок!»
«Точно, платок!» — эхом откликнулся приятель и своим громким возгласом довел этот факт до слуха капитана.
Теперь уже быстро, словно на учении по приготовлению орудия к бою, на высокий ют из каюты была вынесена длинная подзорная труба и просунута сквозь такелаж бизань-мачты. В трубе ясно обозначилась человеческая фигура, неистово машущая платком в нашу сторону.
Капитан был неплохой человек и легок на подъем. Бросив трубу, он живо обернулся, сделал несколько быстрых шагов вперед и скомандовал снова отдать якорь, а затем приготовить и спустить шлюпку.
В течение получаса шлюпка обернулась туда и обратно. На ней отправилось шесть человек, а вернулось семеро, и седьмой была женщина.
Дело тут вовсе не в писательской беспомощности, но я сожалел, что не владею техникой рисования пастелью, потому что женщина являла самое трогательное зрелище и только пастель своими мягкими, меланхолическими линиями смогла бы передать трагический образ смуглолицей чоло.
Она рассказала всю историю на странном наречии, но тем не менее была немедленно понята, потому что капитан, давно уже занимавшийся коммерческими сделками на чилийском побережье, прекрасно изъяснялся по-испански.
Хунилла была чолой, то есть полукровной индейской женщиной из Пайяты в Перу. Три года тому назад вместе со своим молодым мужем Фелиппом, с которым только обвенчалась и в чьих жилах текла чистая кастильская кровь, а также с единственным братом-индейцем Трухильо она села на французское китобойное судно, отправлявшееся под командованием жизнерадостного капитана в какой-то отдаленный район промысла. Судно должно было пройти совсем близко от Энкантадас. Маленькая экспедиция ставила себе целью заняться там выгонкой черепахового масла — жидкости настолько чистой и обладающей таким тонким привкусом, что высоко ценится повсюду, где только известна, особенно вдоль всей восточной части Тихоокеанского побережья. Хунилла и ее спутники благополучно высадились в избранном месте со всеми пожитками: платяным сундуком, инструментами, кухонной утварью, примитивным аппаратом для топления масла, несколькими бочонками сухарей и прочим имуществом, включая двух любимых собак, которых чоло просто обожают. Француз же, согласно контракту, подписанному перед отплытием, обязался подобрать их на обратном пути по возвращении из четырехмесячного плавания в западных водах — этот отрезок времени рассматривался нашими искателями приключений как более чем достаточный для осуществления своих намерений.
Там же, на пустынном пляже, они расплатились серебром за доставку, то есть выполнили условие, без которого китобой вообще не соглашался принять их на борт, хотя в дальнейшем обещал всячески до конца выполнить все обязательства. Фелипп с жаром старался добиться отсрочки платежа до возвращения судна, но тщетно. Тем не менее они были уверены, что француз сдержит слово. Оплату обратного проезда было оговорено произвести не серебром, а черепахами-сотня животных должна была стать собственностью капитана. Добытчики собирались их поймать после окончания основной работы, ко времени вероятного возвращения китобойца. Ввиду такой перспективы эти черепахи, тогда еще преспокойно бродившие в глубине острова, как бы превратились в сотню заложников. Однако хватит об этом. Корабль уплыл. Трое людей, не сводивших с него глаз, криками ответили на развеселое матросское шанти, и до наступления сумерек корпус судна погрузился в океан, а затем его мачты превратились в три едва различимые черточки, которые на глазах Хуниллы вскоре растворились в воздухе.
Французский капитан надавал радужных обещаний и закрепил их клятвами с такой же уверенностью, с какой ставил на якорь свой китобоец. Однако как сами клятвы, так и якоря оказываются одинаково ненадежными — зыбкая почва не может удержать ничего, кроме несбыточных мечтаний. То ли противные ветры, посланные неустойчивыми небесами, то ли непостоянство капитанских намерений, то ли кораблекрушение или внезапная смерть посреди водной пустыни послужили тому причиной, но, какой бы она ни была, разудалый китобой исчез навеки.
Однако, несмотря на ужасные испытания, которые были им уготованы, вплоть до наступления этих испытаний никакие опасения не закрадывались в головы чоло, усердно занятых своим хлопотливым делом, приведшем их в эти края. К тому же по спешному приговору, вынесенному злым роком, нагрянувшим словно ночной тать, на исходе седьмой недели двое из нашей троицы были L навсегда освобождены как от земных, так и от морских треволнений. Этим двоим не пришлось больше со страхом и надеждой лихорадочно заглядывать за земной горизонт, потому что их безгласые души сами отплыли к более дальним берегам. После упорного труда под палящим солнцем Фелиппу и Трухильо удалось накопить около хижины немалое число черепах и вытопить из них масло. Чрезвычайно довольные своими успехами, они решили вознаградить себя за труды: поспешно, на скорую руку, соорудили катамаран — индейское суденышко, популярное на испанском побережье. На этой скорлупке отправились ловить рыбу как раз напротив длинного пилообразного рифа, расположенного параллельно берегу, в полумиле от него. То ли из-за неблагоприятного течения, то ли чисто случайно либо по небрежности, часто сопутствующей слишком веселому настроению (судя по их жестам, поскольку услышать их на таком расстоянии было невозможно, они распевали во все горло), так или иначе катамаран, прижатый на глубокой воде к железной ограде рифа, опрокинулся и развалился на части. Оба авантюриста, швыряемые широкогрудой зыбью между обломками судна и острыми каменными зубьями, погибли на глазах Хуниллы.
Да, они утонули у нее на глазах! Это скорбное событие разыгралось перед ней, словно сцена из дурной трагедии. Хунилла сидела в примитивной беседке, образованной густыми ветвями сухого кустарника, венчавшего высокий утес, нависавший над пляжем. Эти ветки торчали таким образом, что, глядя сквозь них на море, она как бы смотрела с высокого решетчатого балкона. В тот самый день, о котором идет речь, она раздвинула кусты, чтобы лучше видеть деяния двух родственных душ, составлявших предмет ее неустанной любви. Ветки кустарника согнулись наподобие овальной рамы, в которую была вправлена, словно написанная маслом, безграничная, волнующаяся голубизна моря. Внезапно невидимый живописец изобразил перед Хуниллой расчлененный и пляшущий на волнах кораблик, его бревна, ставшие торчком, на манер наклоненных мачт, и четыре едва различимые руки, цеплявшиеся за обломки, а затем все это погрузилось в гладкие маслянистые волны, лениво толкавшие перед собой жалкие останки катамарана. И с начала до самого конца — ни единого звука. Сцена немой смерти, кошмарный сон… Такими исчезающими формами может дразнить только мираж.
Эта изящно исполненная картина оказала настолько парализующее воздействие, сцена была разыграна настолько быстро, все случилось так далеко от проклятой беседки, что Хунилла неотрывно смотрела и смотрела, не пошевелив пальцем и не испуская крика. Сидеть в оцепенении, бессмысленно созерцая немое представление, или суетиться — все едино. Не могли же ее зачарованные руки вытянуться на полмили, чтобы помочь тем, схваченным судьбой. Даль есть даль, а времени — всего несколько песчинок. Какой дурак, увидев молнию, станет дожидаться грома? Труп Фелиппа был вынесен на берег, тело Трухильо — никогда. Только его лихая, украшенная орнаментом шляпа из золотистой соломы (этим подсолнухом он помахал ей, когда столкнул катамаран в воду), оставаясь галантной до конца, и сейчас приветствовала Хуниллу. Тело Фелиппа плавало у кромки песка — одна рука была откинута в сторону и согнута дугой. Накрепко запертый в пасти угрюмой смерти, муж-любовник нежно обнимал свою подругу, верный ей даже в последнем сне. О небо, неужели при виде такой исключительной преданности ты оставишь ту, которая была причиной?! Ибо сдержавший слово, уже не нарушит его.
Не стоит и говорить, какое не поддающееся описанию отчаяние охватило одинокую вдову! Рассказывая собственную историю, она поведала все это, механически перечисляя события. Можно было как угодно истолковывать выражения ее лица, но из простых слов женщины едва ли удалось бы уяснить, что она сама героиня повествования. Однако не этим она иссушила наши слезы. Ибо, когда видишь горе храброго, кровью обливается сердце.
Хунилла только показала нам ведущую в глубину души дверцу. Странные знаки были вырезаны на ней, а содержимое души было сокрыто с горделивой застенчивостью. Лишь единственный раз, протянув маленькую оливковую руку к капитану, она самым печальным и тихим голосом, как это только возможно по-испански, произнесла: «Сеньор, я похоронила его». Затем помолчала, вздрогнула, будто освобождаясь от объятий змеи, вся сжалась и, резко выпрямившись, повторила с давно выстраданной болью: «Я похоронила его-свою жизнь, свою душу!»
Можно себе представить, какими наполовину бессознательными, механическими движениями рук, с каким отягченным сердцем это существо оказало Фелиппу последнюю услугу и водрузило примитивный крест из сухих веток — даже зеленых ему не досталось — в изголовье одинокой могилы, где, обретя мир и покой, безропотно почил тот, кого низвергли неумолимые волны.
Теперь несчастную Хуниллу преследовали смутные видения другого тела, также долженствующего быть преданным земле, и другого креста, долженствующего освящать еще одну, пока не вырытую могилу, — гнетущее беспокойство и боль по своему пропавшему брату. Не отряхая рук от свежей могильной земли, она приплелась на берег и долго бродила там без ясно осознанной цели, не отрывая глаз от неугомонного моря. Но оно так ничего и не принесло ей, кроме погребальных стонов; и мысль об убийце, оплакивающем свою жертву, лишала Хуниллу рассудка. С течением времени происшедшее все явственнее обозначалось в ее мозгу; незыблемые каноны ее романской веры, придающей особенное значение освященным урнам, подсказали ей, по мере пробуждения, продолжать жалкие поиски, начатые будто в сомнамбулическом сне. День за днем, неделя за неделей меряла она шагами пепельно-серый песок, пока наконец еще одна цель не удвоила остроту ее зрения.
Теперь уже с равным рвением разыскивала она глазами и мертвого, и живого — брата и капитана, погибшего и пропавшего. Обуреваемая подобными страстями, Хунилла едва ли была в состоянии вести аккуратный счет времени — ведь очень немногое из того, что существовало вне ее, могло служить календарем или циферблатом. Подобно тому как ни один вещий колокол не сообщал прошествия недель и месяцев злосчастному Робинзону, оказавшемуся в тех же морях, так и для Хуниллы каждый день оставался обезличенным— ни один петух не возглашал наступления знойных зорь, ни одно стадо не брело домой с наступлением удушливой ночи. Из числа обыкновенных, привычных нашему слуху звуков, связываемых с человеком или адресованных человеку, только один будил жаркое оцепенение-вой собак; кроме них лишь монотонный, все заглушающий рокот волн вторгался в эту тишину, и для вдовы он был более чем ненавистен.
Ничего нет удивительного в том, что теперь, когда ее мысли, снова и снова отбрасывавшие ее назад, все чаще устремлялись к кораблю, который никак не возвращался, одна надежда громоздилась на другую в душе Хуниллы. Надежда обладала такой силой, что в конце концов чоло сказала себе в отчаянии: «Нет еще, нет, мое глупое сердечко слишком спешит». И она принудила себя запастись терпением на будущее.
Для тех же, кому земля раскрыла свои притягательные объятия, терпение и нетерпение — одно и то же.
Теперь Хунилла старалась уже с точностью до часа установить, сколько времени утекло с тех пор, как отплыло судно, и какое временное пространство осталось еще преодолеть до его возвращения. Последнее оказалось невозможным. Время обернулось лабиринтом, в котором она окончательно заблудилась.
Дальше произошло следующее…
В этом месте, вопреки моему желанию, напрашивается пауза. Кто знает, должно ли молчать тому, кто оказался посвященным в известные обстоятельства? По крайней мере весьма сомнительно, чтобы одобрялось их разглашение. Если некоторые книги прокляты, а продажа их запрещена, то как же быть с ужасающими фактами, которые пострашнее неких грез впадающих в детство людей? Те, кого задевают такие книги, ничего не могут противопоставить событиям. Не книги — события нужно запрещать. Однако человек сеет только ветер, который дует туда, куда пожелает — к счастью ли, к несчастью — человеку знать не дано. Как часто зло исходит из добра, а добро от зла.
Когда Хунилла…
Какой-нибудь шелковистый зверек, долго забавляющийся золотистой ящерицей, прежде чем сожрать ее, представляет ужасное зрелище. Еще ужаснее видеть, как судьба играет человеческим существом и с помощью волшебства, непередаваемого словами, заставляет человека отвергать трезвое отчаяние и призывать надежду, которая в подобном случае является обыкновенным безумием. Невольно я и сам проделываю подобную кошачью шутку с сердцем читателя; если же он не чувствует этого, то читает зря.
«Корабль приплывет сегодня, именно сегодня, — в конце концов сказала себе Хунилла. — Это даст мне немного времени, чтобы выстоять; разуверившись, я сойду с ума. В слепом неведении я только то и делала, что надеялась. Теперь же, твердо зная, я буду терпеливо ждать. Теперь я стану жить и уже не погибну от душевной смуты. Пресвятая дева, помоги мне! Я знаю, ты пришлешь за мной корабль. О, после утомительной бесконечности стольких недель — ведь все проходит — я обрела наконец уверенность сегодняшнего дня!»
Подобно тому как мореходы, заброшенные бурей на неведомый клочок земли, сколачивают лодку из обломков своего корабля и пускаются в путь по воле все тех же волн, так и Хунилла, эта одинокая душа, потерпевшая кораблекрушение, построила веру из обломков судьбы. Человечество, ты — крепость, но я боготворю тебя не в лице победителя, увенчанного лаврами, а в лице поверженного, как эта женщина.
Поистине, в этой борьбе Хунилла полагалась на тростинку — и это не метафора — на самую настоящую бамбуковую палку. Это был кусок тростника, полого изнутри, приплывший по волнам с неведомых островов. Он валялся на пляже. Его некогда расщепленные концы сгладились, словно обработанные наждачной бумагой, а золотистый глянец начисто стерся. Обкатанная временем между сушей и морем, перемолотая твердыми камнями, тростинка потеряла свой лакированный покров, ободранный до мяса, и была заново отполирована в процессе такой продолжительной агонии.
Шесть круговых надрезов разделяли ее поверхность на неравные части. Первая часть несла на себе зарубки по числу прошедших дней, причем каждый десятый был отмечен зарубкой поглубже и подлиннее; на второй велся счет птичьим яйцам, которые собирались из гнезд в скалах и необходимы для поддержания жизни; на третьей отсчитывались рыбы, пойманные у берега; на четвертой — черепашки, найденные в глубине острова; на пятой — солнечные дни; на шестой — дни ненастья. Из двух последних эта часть палки была наибольшей. По ночам, заполненным скрупулезными подсчетами — горькой математикой отчаяния, с трудом успокаивалась истерзанная бессонницей душа Хуниллы. Сон так и не шел к ней.
Зарубки, обозначавшие дни, особенно десятые, были почти стерты, словно буквы в алфавите для слепых. Тысячи раз тоскующая вдова ощупывала пальцами бамбук-немую флейту, играя на которой нельзя было извлечь ни звука; с таким же успехом можно было подсчитывать птиц в небесах, надеясь, что это заставит черепах острова двигаться хоть немного быстрее.
Мы насчитали сто восемьдесят зарубок, и ни одной больше. Последняя оказалась настолько слабой, едва заметной, насколько резкой и глубокой была первая.
— Но ведь прошло больше дней, — сказал капитан, — гораздо больше… Почему же ты перестала отмечать их, Хунилла?
— Не спрашивайте, сеньор.
— Кстати, неужели другие суда не подходили к острову?
— Нет, сеньор… но…
— Не хочешь говорить… А все же, Хунилла?
— Не спрашивайте, сеньор.
— Ты видела, как проходили суда, ты махала им, но они не замечали, так ведь, Хунилла?
— Пусть так, если Вам будет угодно, сеньор.
Укрепившись против несчастья духом, Хунилла ни за что не хотела и не осмеливалась довериться слабости языка. Затем, когда капитан спросил ее что— то о китобойных вельботах…
Однако довольно. Стоит ли заводить полное досье на эти вещи для того, чтобы доставить злым языкам удовольствие цитировать из него, извратив все на свете? Поэтому добрая половина будет здесь недосказана. Те два случая, приключившиеся с Хуниллой на этом острове, пусть останутся между ней и господом богом. Как в природе, так и в судебной практике некоторые правдивые обстоятельства не предаются огласке из опасения, что они могут быть превратно поняты.
Прежде чем последует продолжение, необходимо пояснить, как же так получилось, что единственный обитатель острова узнал о нашем присутствии только в момент отплытия, хотя судно довольно долго стояло на якоре вблизи берега, и за бее это время ни разу не поинтересовался, что же происходит в одном из пустынных и отдаленных уголков.
Место, где французский капитан высадил маленькую экспедицию, находилось далеко от нас, на противоположном конце острова. Именно там впоследствии было выстроено жилище. Кроме того, пребывая в одиночестве, вдова не решалась покинуть участок, где жила вместе со своими любимцами и где спал непробудным сном самый дорогой для нее из этой двойки — тот, кого не могли разбудить ее отчаянные стенания и кто при жизни был преданнейшим из мужей…
К тому же противоположные оконечности острова разделяет холмистая и сильно пересеченная местность, поэтому судно, стоящее на якоре в одной стороне, нельзя увидеть с другой. Остров не настолько уж мал — довольно многочисленная компания может целыми сутками бродить в зарослях по соседству и оставаться незамеченней; и даже ауканья могут быть не услышаны тем, кто предпочитает держаться в стороне от шумного общества. Вот так и Хунилла, которая, совершенно естественно, связывала возможное появление судов только со своей частью острова, до сих пор оставалась в полном неведении относительно нашего появления, если бы не таинственное предчувствие, снизошедшее на нее, как утверждали наши матросы, не без посредничества местного заколдованного воздуха. По крайней мере ответ, данный вдовой на соответствующий вопрос, не сумел их в этом разубедить.
— Как же ты решилась пересечь остров сегодня утром, Хунилла? — спросил капитан.
— Сеньор, что-то пролетело мимо, коснувшись моей щеки, и проникло внутрь.
— О чем ты говоришь, Хунилла?
— Я говорю, что это пришло по воз духу.
Шанс был один из тысячи. Когда Хунилла вскарабкалась на центральную возвышенность, тогда, должно быть, она и увидела наши мачты, тотчас же заметила, что команда уже ставит паруса; возможно, она даже услышала разносимое эхом хоровое пение матросов, выбирающих якорь. Незнакомое судно уходило, а она снова оставалась одна. Со всей поспешностью бросилась она вниз по склону и вскоре потеряла судно из виду, очутившись в прибрежных зарослях. Хунилла продиралась сквозь непролазную чащу, которая, казалось, делала все возможное, чтобы не пропустить ее, пока наконец не выбралась на ту одинокую скалу, от которой до берега оставалось еще сравнительно далеко. Но и теперь, выбившаяся из сил, Хунилла не потеряла мужества. Уже не было времени на то, чтобы спуститься с этой головокружительной площадки; ей пришлось задержаться там, где она стояла, и предпринять последнее, что еще было возможно, — сорвать с головы тюрбан и начать размахивать им над джунглями, чтобы привлечь наше внимание.
Моряки слушали рассказ, затаив дыхание, тесным кольцом окружив Хуниллу и капитана; и, когда наконец раздалась команда изготовить самую ходкую шлюпку, чтобы обогнуть остров и доставить на борт пожитки Хуниллы и черепаховое масло, исполнительность, проявленную экипажем с таким веселым оживлением и печальной покорностью одновременно, мне редко приходилось видеть. Все обошлось без суеты. Якорь давно уже отправили обратно на грунт, и судно спокойно покачивалось на месте.
Хунилла настояла, чтобы самой в качестве лоцмана, услуги которого в данном случае были просто необходимы, сопровождать шлюпку к своему потаенному обиталищу. Подкрепившись тем, что ей приготовил стюард, она отправилась с нами. Даже женам знаменитых адмиралов, путешествующим на баркасах своих мужей, никогда не оказывалось столько молчаливо-почтительного внимания, сколько было проявлено командой нашей шлюпки по отношению к бедной Хунилле.
Обогнув множество стекловидных мысов и утесов, часа через два мы прорвались сквозь злополучный риф, проскочили в секретную бухточку и, скользнув взглядами вверх, вдоль зеленой зубчатой стены, увидели одинокое жилище.
Оно прилепилось к подножию утеса, угрожающе нависавшего над ним; с обеих сторон к домику подступали густые заросли, а его фасад был наполовину скрыт от наших глаз площадками грубой естественной лестницы, карабкающейся почти отвесно вверх от самой воды. Построенная из тростника, хижина была покрыта пучками длинной травы, пораженной милдью. Она напоминала стог сена, заброшенный хозяевами потому, что их самих уже не было на свете. Карниз крыши, наклоненной в одну сторону, оканчивался в двух футах от земли. Под ним находилось простейшее приспособление для сбора влаги или, точнее говоря, дважды дистиллируемых и мелко просеиваемых дождевых капель, которые то ли из сострадания, то ли в насмешку ночное небо изредка сбрасывает на эти задыхающиеся острова. Приспособление состояло из простыни неопределенного цвета, замызганной в результате постоянного нахождения на открытом воздухе и растянутой между вертикальными колышками, вбитыми в мелкий песок. Небольшой осколок туфа, положенный в центре, оттягивал простыню книзу, образуя воронку, на дне которой и скапливалась вода, просачиваясь затем в подставленный сосуд из тыквы. Этот сосуд и снабжал поселенцев питьевой водой. Хунилла рассказала, что иногда, не слишком-то часто, за ночь сосуд наполнялся до половины. Его емкость составляла примерно шесть кварт. «Мы привыкли к жажде, — говорила она, — на песчаной Пайяте, откуда я родом, воду привозят на мулах из долин».
Около двадцати черепах, издающих тяжкие стоны, были привязаны в кустах неподалеку и являлись единственным запасом продовольствия Хуниллы. Вокруг на земле валялись огромные черные панцири, раздробленные на куски и напоминавшие разбитые надгробные плиты, сдвинутые со своих мест. Это были останки черепах, из которых Фелипп и Трухильо изготовляли драгоценное масло. Им были до краев заполнены несколько больших тыквенных сосудов и два объемистых бочонка. Тут же, в глиняном горшке, содержалась какая-то спекшаяся масса, обреченная на высыхание. «Они хотели процедить ее на следующий день», — сказала Хунилла, отвернувшись в сторону.
Я забыл упомянуть самое примечательное — рассказать о тех существах, которые первыми приветствовали наше появление.
С десяток красивых перуанских собачек, покрытых мягкой шерстью, завивающейся крупными кольцами, устроили радостный концерт, когда мы подходили к берегу. Некоторые из них родились уже во время вдовства Хуниллы и были прямым потомством той пары, которую привезли из Пайяты. После гибели самой любимой собаки (что послужило для Хуниллы предостережением) она не позволяла больше этим деликатным созданиям сопровождать ее во время восхождений на скалы для сбора яиц и в других странствиях из-за всевозможных опасностей, Подстерегающих путешественника внутри острова: каменистых круч, волчьих ям, колючих кустарников, скрытых расселин и тому подобного. Поэтому в результате выработанной привычки в то утро ни одна из собак не последовала за Хуниллой, когда та вышла из дому, чтобы отправиться на другой конец острова. Кроме того, душевное состояние и занятость своими мыслями помешали ей позаботиться о них. Она так привязалась к этим созданиям, что в дополнение к той влаге, которую они слизывали по утрам из небольших углублений в скал ах, позволяла им разделять с ней содержимое тыквенного сосуда, никогда не располагая сколько-нибудь значительным запасом воды на случай продолжительной засухи, которая временами так беспощадно поражает эти острова.
После того как по нашей просьбе Хунилла указала, что бы она хотела захватить с собой — сундук, масло, не забыв про пять живых черепах, предназначенных в благодарственный подарок нашему капитану, мы немедленно принялись за работу и начали стаскивать все вниз по крутым покатым ступеням, накрытым густой тенью. В то время как мои товарищи занимались погрузкой, я оглянулся и заметил, что Хунилла исчезла.
Простое любопытство здесь ни при чем — нечто большее подсказало мне опустить на землю черепаху, которую я нес в руках, и еще раз внимательно осмотреться. Я вспомнил мужа Хуниллы, которого она похоронила собственными руками. Узкая тропка вела в самую гущу зарослей. Я пошел по ней, словно по узкому коридору лабиринта, и вскоре очутился на краю небольшой открытой площадки, вырубленной в чаще.
Посередине возвышался Могильный холмик — голая кучка чистейшего песка, совершенно не тронутого растительностью, похожая на конус, образующийся на дне песочных часов, только что отмеривших положенную им порцию времени. В изголовье возвышался крест, сделанный из голых сучьев, на которых все еще болтались совершенно высохшие остатки коры. Его поперечная крестовина, подвязанная веревкой, молчаливо реяла в неподвижном воздухе.
Хунилла полулежала, распростершись на могиле. Голова была низко опущена и терялась в массе длинных распущенных волос индианки; руки, протянутые к подножию креста, сжимали маленькое бронзовое распятие. Распятие, почти потерявшее форму, напоминало старинный гравированный дверной молоток, которым напрасно стучали в дверь. Хунилла не видела меня, и я, стараясь действовать бесшумно, подался назад и вернулся к дому.
Хунилла появилась, когда мы были уже готовы к отплытию. Я посмотрел ей в глаза, но не увидел слез. Весь ее облик был проникнут каким-то странным высокомерием, хотя именно оно и выражало глубокие душевные переживания. Горе испанца или индейца не допускает внешнего проявления. Чувство собственного достоинства, брошенное оземь с высот, даже на дыбе утверждает свое превосходство над земной мукой.
Маленькие шелковистые собачонки, словно пажи, стайкой окружали Хуниллу, пока она медленно спускалась к берегу. Она взяла на руки двух самых настойчивых и, лаская их, спросила, сколько мы можем захватить с собой.
Помощник капитана, командовавший шлюпкой, не был черствым человеком, но во всех своих проявлениях, которые касались разрешения различных житейских проблем вплоть до мелочей, неизменно придерживался чисто практической точки зрения.
«Мы не можем забрать всех, Хунилла, — наши запасы на исходе, а на погоду не очень-то можно положиться. Возможно, пройдет немало дней, прежде чем мы доберемся до Тумбеса. Возьми тех, что у тебя на руках, но не больше».
Она вошла в шлюпку. Гребцы уже разместились на банках, за исключением одного, который стоял наготове, чтобы оттолкнуть шлюпку, а затем прыгнуть самому. С догадливостью, присущей своему роду, собаки, казалось, поняли, что их собираются оставить одних на этом голом берегу. Шлюпка была с высокими бортами, а ее нос сильно задирался кверху, поэтому животные, инстинктивно избегая воды, сами никак не могли забраться в суденышко. Их неутомимые лапки отчаянно скребли обшивку, словно она была дверью фермерского дома и не пускала их внутрь, чтобы укрыться от непогоды. Суетливая агония тревоги. Собаки не скулили, не визжали — они просились в шлюпку почти человеческими голосами.
«Оттолкнуться от берега! Живо!» — заорал помощник. Шлюпка тяжело заскрипела по песку, закачалась, быстро отошла, развернулась и начала удаляться в море. Собачонки с громким лаем побежали вдоль кромки воды, время от времени останавливаясь, чтобы посмотреть на уходящую шлюпку, и снова бежали вдоль берега. Если бы они превратились в человеческие существа, то и тогда едва ли смогли бы лучше выразить свое отчаяние. Весла ритмично взлетали в воздух, будто перья пары согласных крыльев. Никто не проронил ни слова. Я посмотрел на берег, потом на Хуниллу, но на ее лице не было написано ничего, кроме твердого и сумрачного спокойствия. Собаки, примостившиеся у нее на коленях, тщетно лизали ее словно окаменевшие руки. Она ни разу не обернулась и сидела совершенно неподвижно до тех пор, пока мы не завернули за выступ берега и не оставили позади это зрелище и его звуки. Хунилла, казалось, принадлежала к натурам, которые, пережив самую острую изо всех смертных болей, остаются вполне довольными тем, что отныне судьбе будет угодно обрывать одну за одной только более мелкие сердечные струны. Страдания стали для нее необходимостью, поэтому мучения других существ, ставших частицей ее души, благодаря привязанности или простой симпатии тут же отзывались болью в ее сердце. Милосердие, заключенное в стальную оправу. Душа, преисполненная земных скорбей, умеряемая хладом, нисходящим с небес.
Немногое остается добавить в продолжение этой истории. После длительного перехода, мучимые то безветрием, то противными ветрами, мы в конце концов добрались до небольшого перуанского порта Тумбес. Там капитан собирался нанять новых матросов. Пайята была неподалеку. Капитан продал черепаховое масло местному торговцу и, добавив к вырученному серебру кое-какие средства, собранные командой, передал все это нашей молчаливой спутнице, которая даже не подозревала, что сделали для нее моряки.
В последний раз одинокую Хуниллу видели, когда она отправлялась в Пайяту. Она ехала верхом на маленьком сером ослике и пристально всматривалась в бесформенное бронзовое распятие, лежавшее перед ней на плечах животного.
НАБРОСОК ДЕВЯТЫЙ. Остров Худс и отшельник Оберлус
В пещере мрачной той увидели, войдя,
Что на земле сидит проклятьем отягченный,
И мысли горькие рассудок бередят,
И патлы дикие, как ил грязны и черны,
На плечи свесились завесой непокорной,
Лицо скрывая; лишь одни глаза
Из темноты глазниц глядят ошеломленно.
К зубам прилипших губ бедняк не отверзал,
Как будто голод век его терзал.
Одет в дранье и жалкое тряпье,
Залатанное с помощью репьев,
Не в силах тело скрыть тщедушное свое.
К юго-востоку от острова Кросмен расположился остров Худс, или, иначе, Туманный остров Маккейна. С южной стороны в него врезается небольшая бухточка, стиснутая стекловидными скалами, примечательностью которой является широкая и плоская полоса берега, покрытая черной, грубо истолченной лавой. Место называется Черным пляжем, или Пристанью Оберлуса, хотя ее вполне можно было бы окрестить Пристанью Харона.
Эта часть бухточки именуется подобным образом в честь одичавшего белокожего существа, проведшего там долгие годы и в лице европейца продемонстрировавшего нецивилизованной округе такие дьявольские замашки, какие невозможно сыскать даже в окружающем каннибальском мире.
Около полувека тому назад Оберлус дезертировал с корабля и очутился на острове, упомянутом выше, который был тогда, как, впрочем, и в наши дни, совершенно необитаемым. Примерно в миле от Пристани, впоследствии получившей его имя, на дне долины или, вернее, широкой расщелины, где среди нагромождения скал нашлось около двух акров довольно сносной почвы, пригодной для примитивного земледелия, он выстроил себе берлогу из камней и осколков лавы. Пожалуй, долина была единственным местом на острове, еще пригодным для подобного применения. Оберлус преуспел в выращивании каких-то вырождающихся сортов картофеля и тыквы, которые время от времени выменивал на доллары или спиртное у не слишком-то разборчивых залетных китобоев.
Судя по рассказам, внешность его сильно пострадала от злобного навета какой-то колдуньи; казалось, он приложился к кубку Цирцеи — настолько зверо— подобным выглядело его тело, едва прикрытое рубищем. Кожа, обильно усеянная веснушками, была вся сожжена и постоянно лупилась от непрерывного воздействия солнечных лучей. Приплюснутый нос сильно искажал и без того безобразные черты землистого лица. Густые волосы и борода напоминали какую-то дикую, ядовито-рыжую растительность. Он поражал незнакомцев своим видом, будто был созданием вулкана, он казался выброшенным на поверхность тем же извержением, которое изрыгнуло на свет божий весь этот рстров. Когда, свернувшись калачиком, он спал в своем уединенном лагере, затерянном в горах, то, по словам очевидцев, его фигура, вся словно сшитая из лоскутков, сильно смахивала на ворох осенних листьев, сорванных с деревьев и сметенных в кучу в каком-нибудь укромном уголке завихрением пронизывающего ночного ветра, который, на время иссякнув, вскоре снова принимается мести, чтобы уже в другом месте повторить свой причудливый каприз. По некоторым сообщениям, наиболее странное зрелище этот самый Оберлус представлял душным и облачным утром, когда, спрятавшись под невообразимо ветхую черную брезентовую шляпу, занимала окучиванием картофеля на своем лавовом огороде. Его необычная фигура была настолько кривой и верткой, что, казалось, ее свойства постепенно передались через руки мотыжному черенку, который со временем, странно исказившись и выгнувшись замысловатым коленцем, превратился в безобразную суковатую палку, скорее похожую на боевую дубину дикаря, чем на рукоятку цивилизованного орудия труда. Увидев кого-нибудь впервые, Оберлус неизменно выказывал привычку с таинственным видом поворачиваться к незнакомцу спиной, скорее всего, потому, что это была наивыгоднейшая его поза, поскольку скрывала многие изъяны. Если таковой встрече суждено было состояться на огороде, что иногда и случалось, причем иной вновь прибывший следовал, бывало, от берега моря прямиком через горловину ущелья, чтобы наверняка застать необычного бакалейщика, по слухам орудовавшего в этих местах, Оберлус, завидев гостя, некоторое время продолжал мотыжить землю, не разгибая спины и не обращая никакого внимания на приветствия, какими бы вежливыми и дружелюбными они ни были. Причем, по мере того как посетитель старался зайти с фронта, чтобы заглянуть ему в лицо. Оберлус все так же, не выпуская из рук мотыги, старательно отворачивался, угрюмо вращаясь вокруг картофельного кустика. Это касательно окучивания. Когда же Оберлус занимался посадкой картофеля, весь его облик излучал такое злорадство, а движения рук были проникнуты такой таинственностью и действовали так незаметно, что казалось, будто он швыряет в лунки не клубни, а яд, совершая акт отравления колодца. Однако среди его мелких и не столь вредных чудачеств выделялась одна навязчивая идея, с которой он носился постоянно. Он был убежден, что посетители приходят к нему не только за овощами или в поисках какого ни есть общества на этом пустынном острове, а равно и для того, чтобы удовлетворить свое страстное желание увидеть воочию могущественного отшельника Оберлуса в его прямо-таки царственном уединении. Тщеславие подобного существа кажется невероятным — мизантропы самонадеянны, — но он действительно холил и лелеял это ужасное самомнение и порой напускал на себя такое величие, что не мог не позабавить некоторых заезжих капитанов. Нечто подобное, как известно, происходит и с определенным сортом заключенных, гордых тем, что всеобщие ненависть и презрение приносят им известность. Временами на него находила другая прихоть — тогда он подолгу укрывался от визитеров за каменными углами своей хибары либо, словно осторожный медведь, ускользал в горы потаенными тропами, наотрез отказываясь видеть человеческие лица.
За исключением редких посетителей, которых приносило море, единственными сотоварищами Оберлуса подолгу оставались одни черепахи. Казалось, он деградировал даже ниже их уровня — его желания не выходили за пределы их запросов, если не считать потребности доводить себя до состояния полного одурения при помощи алкоголя. Однако, несмотря на это очевидное падение, где-то в глубине его, прячась до поры до времени, таилось еще одно дарование, дожидаясь только удобного случая для полного проявления. Действительно, Оберлус лишь тем превосходил черепах, что обладал большими возможностями для деградации и, даже более того, каким-то сознательным стремлением, направленным в эту сторону. Сказанное далее, возможно, покажет, насколько эгоистическое честолюбие или, другими словами, жажда власти ради самой власти (что у людей с благородным складом ума вовсе не проявляется) может завладеть существом, начисто лишенным мозга. Никакие другие земные твари, кроме скотов, не обладают настолько сильно развитой склонностью к эгоизму и тирании. Я думаю, что со мной согласится каждый, кому хоть изредка доводилось наблюдать жизнь некоторых обитателей пастбищ.
«Именем моей матери Сикоракс этот остров мой», — сказал сам себе Оберлус, окидывая взором пустошь. Посредством воровства либо обмена (корабли изредка все же подходили к Пристани) он обзавелся старинным мушкетом, снабженным несколькими зарядами пороха и пуль. Заполучив в руки оружие, он тем самым обрел стимул для проявления предприимчивости, подобно тигренку, почувствовавшему, что у него отрасли когти. Многолетняя привычка единовластно подчинять себе все окружающее; почти никем не нарушаемое одиночество; довольно редкое общение с другими людьми исключительно на основе мизантропической независимости либо меркантильной ловкости — все это, вместе взятое, постепенно вселило в него смутное представление о себе как о персоне большой важности и выработало к остальной части Вселенной презрение, присущее только животным.
Даже злосчастный креол, который сравнительно недолго упивался королевской властью на острове Чарльза, возможно, действовал, исходя не из таких уж низких побуждений, которыми руководствуются некоторые авантюристы, увлекая за собой колонистов в отдаленные земли и там отстаивая прерогативу политического преобладания над ними. Экзекуция, которую он учинил некоторым перуанцам, вполне простительна, учитывая, с какими отчаянными головами ему пришлось иметь дело, а решение дать бой обандитившимся мятежникам при сложившихся обстоятельствах кажется совершенно оправданным. Что же касается короля Оберлуса и того, что будет сказано далее, то тут даже тень снисхождения не находит себе места. По качествам, унаследованным с молоком своей матери Сикоракс, он вершил дела, исходя из простого удовольствия творить жестокости и осуществлять тиранию. Итак, вооруженный теперь ужасным мушкетоном, крепко убежденный в своем исключительном праве на обладание островом, он не находит себе места в ожидании случая доказать свое могущество любому представителю человеческого рода, которому рано или поздно суждено будет попасть безоружным в его лапы.
Ждать пришлось недолго. Однажды он высмотрел шлюпку, вытащенную на берег, и одинокого негра, стоявшего возле нее. В некотором отдалении от берега виднелось судно, и Оберлус мгновенно сообразил что к чему. Судно подошло к острову, чтобы запастись топливом, и матросы бродили где-то в зарослях, собирая дрова. Выбрав местечко поудобнее, Оберлус установил наблюдение. Вскоре из леса показалась беспечная компания моряков, нагруженных поленьями. Сбросив их на песок, сорванцы снова углубились в чащу, а негр принялся загружать шлюпку.
Со всей поспешностью Оберлус выскакивает на негра, который, увидев в этой дикой пустыне живое существо да такой страшной наружности, немедленно приходит в ужас и поддается панике, никак не уменьшаемой медвежьей обходительностью Оберлуса, предлагающего свою помощь. Негр остается стоять столбом, держа на плечах поленья, а Оберлус, тая на груди обрывок веревки, с приторной услужливостью принимается укладывать остальные дрова в лодку. Проделывая все это, он старается зайти негру в тыл, а тот, догадываясь в свою очередь о его намерениях, делает отчаянные попытки не терять его из виду. Оберлус настойчиво маневрирует, но наконец отказывается от бесполезной попытки осуществить свои коварные замыслы. Опасаясь оказаться застигнутым врасплох командой шлюпки, он бросается в заросли кустарника, приволакивает мушкетон и приказывает негру прекратить работу и следовать за ним. Тот отказывается наотрез. Тогда, изготовив орудие, Оберлус спускает курок. К счастью, происходит осечка, но этого оказывается достаточно для того, чтобы негр, перепуганный до смерти, получив вторичное и неумолимое приглашение бросил дрова, сдался на милость победителя и последовал за ним. Узкой тропой, известной только ему одному, Оберлус поспешно удаляется подальше от берега моря.
По дороге в горы он с ликованием объявляет пленнику, что отныне тот становится рабом и будет на него работать. Обращение же будет зависеть полностью от поведения последнего в будущем. Однако Оберлус, обманутый первой, инстинктивной трусостью черномазого, в злосчастный момент все же ослабляет бдительность. Когда оба проходят там, где тропа сильно суживается, негр — мощный малый, заметив, что хозяин зазевался, неожиданно обхватывает его руками, бросает на землю, вырывает мушкетон, связывает чудовищу руки его же веревкой, взваливает на плечи и возвращается обратно. Когда появляются остальные моряки, Оберлуса отвозят на судно, как оказалось принадлежащее английским контрабандистам, то есть посудину, порядки которой не отличаются излишним милосердием. Оберлуса жестоко высекли, затем, со связанными руками, снова отвезли на берег, вынудили показать дорогу к своему обиталищу и предъявить собственность. Все тыквы, картофель, черепахи и кучка долларов, накопленных в результате торговых операций, были захвачены на месте. Однако, пока мстительные контрабандисты были увлечены уничтожением хижины и огорода, Оберлус умудряется удрать в горы и спрятаться там в укромном уголке до отплытия судна. Затем он отваживается высунуть наружу нос и при помощи старой пилы, закрепленной в расщелине дерева, освобождает руки от стягивающих их пут.
Предаваясь раздумьям над руинами своего жилища, посреди пустынных скал и потухших вулканов этого богом забытого острова он намечает планы достойного наказания человечества, но до поры скрывает свои намерения. Суда продолжают изредка заходить в бухточку, и Оберлус умудряется кое-как снабжать их овощами.
Настороженный неудачей, которую он потерпел при похищении иностранца, Оберлус теперь действует по-другому. Когда моряки высаживаются на берег, он прикидывается закадычным другом, приглашает к себе и со всем радушием, которое только способна изобразить его свирепая рыжая физиономия, угощает их спиртным из своих запасов и предлагает располагаться как у себя дома. Да гости и не дожидаются особого приглашения; но вскоре, после того как напьются до бесчувствия, связанные по рукам и ногам, оказываются запрятанными среди камней, где и томятся до самого отплытия судна, а затем, обнаружив, что находятся в полнейшей зависимости от Оберлуса, ошеломленные происшедшей с ним переменой, дикими угрозами и напуганные внушительным мушкетоном, они поспешно соглашаются признать его власть и становятся жалкими рабами, а Оберлус — свирепейшим из тиранов. В процессе такого приобщения к новой жизни двое или трое несчастных погибают. Четырех оставшихся Оберлус приставляет к работе по взламыванию спекшейся почвы. Они перетаскивают на своих спинах землю, которую удается наскрести в сырых горных расщелинах. Он содержит их на самом скудном пропитании, угрожает оружием при малейшем непослушании — одним словом, обращает их в рептилий, пресмыкающихся у его ног, — в плебейских ужей перед ее величеством Анакондой.
В дальнейшем Оберлус ухитряется пополнить свой арсенал четырьмя ржавыми абордажными саблями и увеличить запас пороха и пуль для своего громобоя. Значительно облегчив трудовую повинность рабов, он тем самым проявляет себя как человек или, скорее всего, дьявол большого дарования, способный льстиво увещевать и принуждать других покорно соглашаться со своими намерениями, какое бы отвращение они поначалу ни вызывали у его пленников. К тому же не слишком согласовавшееся с законом прошлое пленников подготовило несчастных к различным превратностям судьбы — бродячая жизнь этих ковбоев моря растворила в них остатки человеческой совести до такой степени, что теперь их души готовы были закоснеть по подобию любого навязанного шаблона подлости. Их мужество сгнило на корню в результате жалкого существования на острове. Привыкшие раболепствовать перед господином — самым низким из рабов, они деградировали до его уровня. Он обходился с ними как с тварями, принадлежащими к низшей расе; короче говоря, он дрессирует этих четырех животных и делает из них убийц, умело обращая трусов в наемных бандитов.
Теперь неважно, что, меч или кинжал, вложенные в человеческие руки, начинает играть роль искусственных когтей либо клыков, подобных фальшивым шпорам на ногах бойцового петуха. Итак, я повторяю, Оберлус — царь острова — натаскивает на добычу своих подданных: вкладывает им в руки ржавые тесаки в целях достижения славы. Подобно любому самодержцу, теперь он становится во главе благородной армии.
Можно подумать, что далее неизбежно последует восстание рабов. Оружие в руках угнетенных? Какая неосмотрительность со стороны императора Оберлуса! Ничего страшного — у них были только тесаки, не более опасные, чем ржавые косы, он же владел огнестрельным оружием, извергающим булыжники, куски лавы и прочие осколки, способные истребить четырех мятежников одним махом, словно голубей. Кроме того, Оберлус даже не ночевал в своем привычном жилище. При свете багряных лучей заходящего солнца его можно было видеть направляющим стопы в самое сердце ущелий, чтобы укрыться там до рассвета в каком-нибудь провале, пахнущем серой и недосягаемом для остальной шайки. Вскоре, сочтя это слишком утомительным, он каждый вечер припрятывает сабли, спутывает руки и ноги рабам, вталкивает их в барак, закрывает дверь и, улегшись тут же, у порога, под грубым специально пристроенным навесом, коротает ночь, сжимая в руке верный мушкетон.
Предполагают, что, не удовлетворившись каждодневными парадами своей блестящей армии на шлаковой пустыне, Оберлус с той поры обмозговывает самые злокозненные планы, скорее всего намереваясь захватить врасплох команду какого-нибудь судна, посетившего его владения, перебить всех до единого и отбыть в неведомые края. Пока эти планы переваривались у него в голове, два судна подошли к острову одновременно со стороны, противоположной его дому; как раз в этот момент его замысел внезапно изменился.
Судам понадобилась зелень, которую Оберлус обещает в изобилии при условии, что к Пристани будут посланы шлюпки, дабы матросы могли нарвать овощей на огороде. В то же время Оберлус сообщает обоим капитанам, что его негодяи — рабы и солдаты — настолько разленились и стали такими бездельниками, что у него нет сил заставить их что-либо делать обычными средствами, а для принятия строгих мер у него слишком доброе сердце.
Ударили по рукам, шлюпки были посланы и соответственно вытащены на берег. Люди направились к хижине, но, к величайшему удивлению, никого там не застали. Подождав до тех пор, пока не лопнуло терпение, они возвратились обратно. Боже мой, казалось, там прошествовал некто отнюдь не из числа милосердных самаритян. Три шлюпки были изрублены в куски, а четвертая исчезла. Испытывая невероятные трудности, несколько моряков сумели проделать путь сквозь горы и скалы и достичь противоположного берега, где стояли на якоре суда. Новые шлюпки были направлены на помощь оставшейся части этой незадачливой экспедиции.
Изумленные коварством Оберлуса, опасаясь новых и еще более таинственных злодеяний, почти убежденные, что тут не обошлось без участия колдовства, связываемого с этими островами, оба капитана не нашли иного способа обеспечить безопасность своим судам, как спастись бегством, оставив Оберлуса и его армию в преступном обладании украденной шлюпкой.
Накануне отплытия они положили в бочонок письмо, в котором оповестили Тихий океан о происшедшем, а сам бочонок поставили на якорь посреди бухты. Через некоторое время его распечатал другой капитан, но уже после того, как успел отправить к Пристани Оберлуса шлюпку. Легко догадаться, сколько волнения испытал он, прежде чем дождался ее возвращения. С ней ему было доставлено другое письмо, в котором оказалась версия тех же событий, данная самим Оберлусом. Этот бесценный документ, покрытый плесенью, был найден пришпиленным к лавовой стене заброшенной и пахнущей серой хижины. Послание бесспорно доказывало, что Оберлус был не только грубым дикарем, но, кроме того, и довольно умелым писателем, способным на самое меланхолическое красноречие.
«Сэр, я — самый несчастный джентельмен на свете. Жизнь скверно обошлась со мной. Я — патриот, оторванный от Родины жестокой рукой тирании.
Сосланный на Очарованные острова, я снова и снова умолял капитанов продать мне шлюпку, но всякий раз получал отказ, хотя взамен предлагал кругленькую сумму в мексиканских долларах. Наконец, мне представилась возможность вступить в обладание таковой, и я не упустил ее.
Долгие годы страдая в полном одиночестве, я старался тяжким трудом скопить кое-что для облегчения добродетельной, хотя и печальной старости. Однако в разное время подвергался грабежу и побоям со стороны людей, исповедующих христианство.
Сегодня я отплываю с Энкантадас на доброй лодке, названной мной «Милосердие», к островам Фиджи.
Сирота Оберлус
«P. S. За камнями у печки Вы найдете пожилую птицу. Не убивайте ее, будьте милосердны — я посадил ее высиживать яйца. Если выведутся цыплята, я предоставляю их Вам, кем бы Вы ни были. Все же цыплят по осени считают».
Птица оказалась заморенным до смерти петухом, низведенным до сидячего положения обыкновенным худосочием.
Оберлус объявляет, что направляется на Фиджи только для того, чтобы пустить преследователей по ложному следу, а сам, по прошествии времени, прибывает в открытой лодке и совершенно один в Гуаякиль. Поскольку никто и никогда не видел больше на острове Худе остальных злодеев, полагают, что они погибли от жажды во время перехода в Гуаякиль либо, что настолько же вероятно, оказались выброшенными за борт самим Оберлусом, когда тот заметил угрожающую нехватку питьевой воды.
Из Гуаякиля Оберлус отправился в Пайяту и там с помощью колдовского очарования, не имеющего себе названия и часто присущего самым безобразным созданиям, снискал обожание некой дамочки с дубленым лицом, убеждая ее последовать за ним на Очарованные острова, которые, вне всякого сомнения, расписал как цветущий рай, а не каменную преисподнюю.
Однако, к несчастью для дела колонизации острова Худс необычная и дьявольская наружность Оберлуса показалась жителям Пайяты слишком подозрительной. Однажды ночью его нашли со спичками в кармане под корпусом небольшого судна, готового к спуску, схватили и бросили в тюрьму.
Большинство городских тюрем в Южной Америке — места, малопригодные для поправки здоровья. Выстроенные из огромных, обожженных на солнце кирпичей, они состоят только из одной камеры, лишены окон и двора, имеют дверь, заделанную решеткой из толстых деревянных брусьев, и представляют самое мрачное зрелище как изнутри, так и снаружи.
Являясь публичными зданиями, они обязательно занимают приметное место в городе, располагаясь обычно посреди раскаленной и пыльной центральной площади, и сквозь решетку показывают всем желающим своих отвратительных и безнадежных обитателей, копошащихся внутри во всевозможных состояниях трагического убожества. И вот там-то долгое время видели Оберлуса — главную фигуру этого сборища ублюдков и убийц, существо, презрение к которому — чувство вполне религиозное, так как ненависть к мизантропу — филантропия.
Примечание: тем, кто, вполне возможно, будет предрасположен сомневаться в вероятности существования личности, описанной выше, можно рекомендовать для прочтения второй том «Путешествия в Тихий океан» Портера. Там они найдут много фраз, которые ради удобства и быстроты изложения были целиком перенесены в это повествование. Основное различие между обоими отчетами — за исключением нескольких попутных размышлений — состоит в том, что настоящий автор дополнил факты, освещенные Портером, некоторыми сведениями, собранными в Тихом океане из достоверных источников. Там, где они противоречат друг другу, автор, естественно, отдавал предпочтение собственному мнению. Так, например, своей властью он поселяет Оберлуса на остров Худе, Портер-на Чарльза. Письмо, найденное в хижине, тоже несколько противоречиво. На Энкантадас автор узнал, что оно содержало не только определенные свидетельства о знании Оберлусом эпистолярного стиля, но и было насыщено примерами беспардонной сатиры самого странного свойства, что не совсем видно из версии, представленной Портером. Соответственно, я несколько изменил текст письма, чтобы как-то приспособить содержание к характеру его автора.
НАБРОСОК ДЕСЯТЫЙ. Беглецы, заблудшие, отшельники, могильные камни и т. п
Вокруг корявые колоды и пеньки,
Не знавшие ни листьев, ни плодов.
Здесь в крепкие объятия пеньки
Попало множество отчаянных голов.
Развалины хижины Оберлуса и по сей день украшают вход в лавовую долину. Путешественники, которые ныне бродят по другим островам архипелага, иногда натыкаются на подобные же заброшенные обиталища, предоставленные теперь ящерицам и черепахам. Едва ли какому-нибудь иному уголку земного шара доводилось давать приют такому количеству отщепенцев. Причины этого понятны. Острова расположены в отдаленных водах. А корабли, изредка их посещающие, в основном занимаются китобойным промыслом либо совершают длительные плавания; и то и другое слишком далеко и надолго выводит их из сферы действия проницательного и злопамятного закона. Натуры некоторых командиров и их подчиненных таковы, что иногда в несчастливых обстоятельствах между ними обязательно происходят разногласия и возникает неудовлетворенность друг другом. Угрюмая ненависть к судну-тирану временами так овладевает матросом, что он с радостью готов променять его на остров, где жизнь, хотя и отравленная каким-нибудь неутомимым сирокко или пронизывающим бризом, все же сулит надежное убежище в лабиринтах утробы островов, недосягаемой для преследователей. Улизнуть с судна в портах Перу или Чили, даже самых маленьких и задрипанных, означает подвергнуть себя риску оказаться арестованным, не говоря уже о ягуарах сельвы. Обещанная награда в каких-нибудь пять песо немедленно поднимет на ноги с полсотни подлых испанцев, которые, вооружившись своими длинными ножами, станут с неутомимым рвением денно и нощно рыскать по окрестным лесам, каждый надеясь овладеть желанной добычей. В общем-то не менее трудно уйти от погони и на островах Полинезии. Там, где оставила следы цивилизация, беглецы встречают те же трудности, что и в перуанских портах, потому что туземцы оказываются такими же кровожадными и падкими до ножей и погони, как и испанцы. В то же время благодаря дурной репутации, которой пользуются европейцы у аборигенов, дезертирство и попытка остаться среди полинезийцев оставляют очень слабую надежду на успех такого предприятия. Потомуто Энкантадас и превратились в место добровольного изгнания всякого рода беглецов, и многие из них вскоре пришли к печальному выводу, что сам факт освобождения от тирании еще не обеспечивает полной безопасности и тем более безоблачной жизни.
Кроме того, нередко случалось так, что человек оставался на островах благодаря всевозможным неожиданностям, связанным с охотой на черепах. Тру дно доступность внутренних районов, покрытых непроходимыми чащами, едва поддается описанию… Зной и духота вызывают невыносимую жажду, но, чтобы утолить ее, вы не найдете в окрестностях ни единого журчащего ручейка. Горе тому, кто заблудится на Энкантадас, — несколько часов, проведенных под палящими лучами экваториального солнца, доводят человека до состояния полнейшего изнеможения. Протяженность почти всех островов такова, что на розыски пропавшего могут уйти недели. День, от силы два ожидает нетерпеливый капитан. Затем, поскольку человек не объявляется, на берегу устанавливают шест с письмом, выражающим сожаление. К шесту привязывают пару бочонков — один с сухарями, другой с водой, и судно продолжает свой путь.
Известно немало случаев, когда посещение островов давало возможность некоторым бесчеловечным капитанам безнаказанно отомстить матросам, умудрившимся во время плавания нанести чувствительные удары их капризному самолюбию. Выброшенные на берег, на раскаленный мергель, такие моряки неминуемо гибли, если только не проявляли исключительной настойчивости в поисках нескольких драгоценных капель влаги, просочившихся сквозь камни или застоявшихся в скальных выбоинах.
Я знавал человека, который заблудился на острове Нарборо и был доведен жаждой до такого состояния, что в конце концов спас свою жизнь, взяв взамен жизнь другого существа. На берег выполз большой сивуч. Мой знакомый бросился на него, ударил его в шею ножом, а затем, припав к трепещущему телу, жадными глотками напился из свежей раны. Сердце умирающего животного, сокращаясь, последними толчками влило жизнь в страждущего.
Другой моряк, выброшенный в шлюпке на совершенно стерильный остров, вообще не посещаемый судами из-за многочисленных мелей, окружающих его, откуда не видны даже другие острова архипелага, сообразил, что оставаться на месте — смерти подобно и ничего страшнее смерти не ожидает его, если он попытается спастись. Убив двух тюленей и содрав с них кожу, он соорудил что-то вроде поплавка, с помощью которого перебрался на остров Чарльза и там присоединился к республике.
Люди, не обладающие мужеством, необходимым для подобных отчаянных предприятий, находят выход из положения в поисках любых источников пресной воды, какими бы случайными и скудными они ни оказались. Затем строят жилище, ловят птиц и черепах и во всех отношениях приготавливаются к жизни отшельника, пока приливы, время либо проходящее судно не снимут их с мели.
На дне ущелий многих островов можно найти небольшие грубо сработанные углубления в камнях, частично заполненные истлевшим мусором, сгнившей зеленью и поросшие буйной растительностью. Иногда их дно слегка смочено влагой. При более пристальном рассмотрении поблизости можно найти остатки самодельных инструментов, предназначенных для углубления впадин. Этими инструментами пользовались бедняги-отшельники либо куда более несчастные беглецы. Эти крохотные резервуары изготовлялись в местах, где можно было рассчитывать на выпадение нескольких капель росы из трещин наверху.
Остатки хижин и каменных сосудов — не единственные следы былого присутствия человека. Любопытно отметить, что такое место, как почта, особенно оживленное в других обитаемых общинах, на Энкантадас выглядит просто ужасно. И хотя вообще очень странно говорить о почтовой службе на этих голых берегах, тем не менее почтовые отделения попадаются изредка и там. Они состоят из шеста и бутылки. Письма запечатываются, опускаются в бутылку, и она затыкается пробкой. Обычно письма оставляют капитаны судов из Нантакета в адрес рыболовных артелей, высаживающихся на остров, и содержат чаще всего сведения касательно добытых китов или пойманных черепах. Однако очень часто месяц следует за месяцем, проходят годы, а корреспонденция остается невостребованной. Шест подгнивает и падает, представляя теперь не слишком-то воодушевляющее зрелище.
Для полноты описания островов хочется добавить кое-что о надгробиях или, вернее, могильных досках, которые изредка попадаются путешественникам.
На берегу острова Джемса долгие годы виднелся грубый столб с указателем, нацеленным в сторону гор. Его можно было принять за указатель некоего центра гостеприимства-места проживания какого-нибудь отшельника, готового поделиться со странником чем-нибудь съестным со своей кленовой тарелки. Последовав по указанному направлению, незнакомец пойдет, бывало, по тропе и вскоре обнаружит, что его ожидает привет мертвеца — надпись над его могилой: «Здесь в 1813 г. рано поутру погиб на дуэли в возрасте 21 года лейтенант фрегата США „Эссекс“, посмертно достигнув совершеннолетия».
Вполне законно, что, подобно великим монашеским организациям Европы, члены которых погребаются в стенах своих обителей, Энкантадас хоронит своих мертвецов точно так же, следуя в этом крупнейшим монастырям мира.
Известно, что предание тела морю — простая необходимость мореходной жизни — совершается только тогда, когда земля остается далеко за кормой и не слишком отчетливо видна по носу. Следовательно, для судов, крейсирующих в непосредственной близости от Энкантадас, они предлагают вполне удобный погост. Процедура закончена, и какой-нибудь добряк — палубный поэт и художник — хватается за кисть и запечатлевает на грубой доске незамысловатую эпитафию. Когда через некоторое время другие такие же добродушные моряки появляются на этом месте, они, как правило, пользуются могильным холмиком как столом и поднимают над ним кружки за упокой души усопшего.
В качестве образчика такой эпитафии прочтите строки, найденные в голом угрюмом ущелье на острове Чатем.