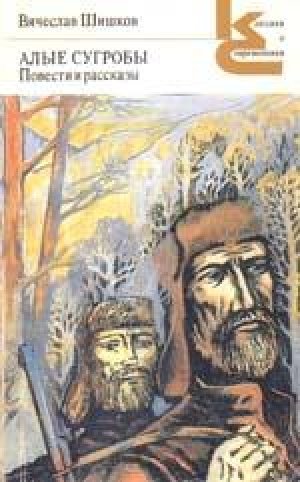
Естъ на свете такая диковинная страна, называется она — Беловодье. И в песнях про нее поется, и в сказках сказывается. В Сибири она, за Сибирью ли или еще где-то. Скрозь надо пройти степи, горы, вековечную тайгу, все на восход, к солнцу, путь свой править, и, если счастье от рождения тебе дадено, увидишь Беловодье самолично. Земли в ней тучные, дожди теплые, солнышко благодатное, пшеница сама собою круглый год растет — ни пахать, ни сеять, — яблоки, арбузы, виноград, а в цветистом большетравье без конца, без счету стада пасутся — бери, владей. И эта страна никому не принадлежит, в ней вся воля, вся правда искони живет, эта страна — диковинная.
Молола бабка Афимья — безрукий солдат при медалях ей быдто сказывал: «Беловодье под индийским царем живет».
Врет бабка Афимья, врет солдат: Беловодье — ничье, Беловодье — божье.
I
Когда-то, и не так давно, жили в селе Недокрытове два закадычных друга, Афоня Недокрытов да Степан Недокрытов, так по селу и прозывались. Оба в самом прыску, молодые, только по обличью не схожи.
Афоня — мужик как мужик, обыкновенный: запах от него крепкий, речь нескладная, весь он какой-то белесый, точно из крупчатки с мякиной сляпан. Степан же — угрюмый, черный, присадистый, голосом груб, взором грозен. Афоня тихий, задумчивый, весь в мечте, весь в сказке. Степан — черту брат: повстречается медведь-стервятник — хвать ножом, как пить даст. Степан самый заправский охотник, медвежатник, Афоня же с дудочкой соловьев любил ловить, а ружья боялся.
И этих-то разных по виду людей судьба скрутила вместе в тугой аркан, вывела в чистое поле и, завязав глаза, стегнула кнутом мечты и отваги — «иди!».
Дело случилось так.
— Ну, так вот, с богом, ребята, со Христом, — сказало все согласье села Недокрытова. — Не жизнь нам здесь, а гроб. Эвот, поглядите-ка, что покойников-то на погосте: крестов, что в лесу деревьев, сами понимать должны. А земля наша — сквозь песок. А дождей который год нету, сами знаете… Чистая смерть, господи помилуй…
— Еще вот что, ребята, — сказал староста Нефед, ласково посматривая на Афоню со Степаном из-под широкополой жеваной шляпы. — Ежели найдете Беловодье, век не забудем вас. Ей-бо… переселимся и работать не дозволим: сидите себе дома на печи, милуйтесь с хозяйками да малину с медом кушайте. Ей-бо!
Поклонились путники всему согласию в ноги, помолились на церковь, на родительские могилы, вскочили в седла и — в дорогу.
Степан еще раз попросил мужиков:
— Не забывайте баб-то наших. В случае чего так…
— С богом! Езжай без сумленья. Сказано — поможем.
Их жены разливались слезами, выли ребятишки.
Мать Афони, сморщенная, маленькая, прытко бежала за сыном, заглядывала в лицо ему, стараясь улыбаться, но глаза захлебывались горем, в глазах качался, вянул белый свет.
— Буди благословение мое… буди благословение…
— Не плачь, мамушка, брось… Ох, и сказок я тебе расчудесных привезу.
Долго крестила иссохшая старая рука взвившуюся на дороге пыль. Поворот, пригорок — и всадников не стало.
II
Сначала в седле тряслись, потом на пароходе Волгой плыли — вот так река! До чугунки добрались — как пошли отмахивать да как пошли крутить, Урал — вот так это горы! А там и Сибирь — плоская, ровная, а дальше опять река, да не река, речища — Обь… А за речищей опять горы начались, не горы, а горищи — сам Алтай! Господи помилуй, господи помилуй, этакие чудеса на свете есть.
— Куда же это ваш путь принадлежит? — спросил их в селе Алтайском дядя сибиряк-чалдон.
— Правильную землю ищем, Беловодье, — робким Афоня ответил голосом.
— Беловодье? — переспросил сибиряк и насмешливо присвистнул, нахлобучивая картуз на брови. — Это сказки. Старухи на печи сказывают. Беловодья, братцы, нет. А езжайте-ка вы, братцы, вот куда… Езжайте вы прямым трактом в Онгудай, такое село есть. А там покажут — куда. Много вашего брата, самоходов, в тот край прет.
Долго ли, коротко ли ехали — горы, речки, луга, калмыки — и всех встречных спрашивали:
— А скоро ль Возгудай-то?
— Какой Возгудай?
— А этот самый… как его…
Юрты, деревушки, церковка. Цветы, трава, дикий козел ревел на сопке поутру. А ночью в густо-синем небе — звезды. Афоня весь в порыве, в трепете: вспорхнуть бы, облетать бы, а крыльев нет.
— Степан, господи Сусе… Степан? Глянь-кось, глянь-кось.
Степан едет передом в седле, угрюмый, гложет на ходу баранью кость.
— Степан!
Но всему бывает свой черед: за рекой Урсул засерело на пригорке Онгудай-село. В Онгудае их снова опахнули холодом.
— Где это видано, чтоб такая земля была: реки молочные, берега кисельные. Эх вы, лапотоны! Ничего вы, лапотоны, не смыслите. Эх, Расея-матушка!
Афоня было в спор, турусы начал разводить. Степан же отсек сразу:
— Киселей нам не надо никаких. Мы добрую землю ищем.
— Так и толкуй, — сказали сибиряки-чалдоны. — Добрую землю мы вам покажем. Это надо за Кемчик идти, в Урянхайский край.
— Чей же это край? — спросил Степан.
— Не то китайский, не то наш. Попросту сказать — ничей.
— Слава те Христу, — перекрестился Афоня. — Его-то нам и надо. Это самое Беловодье-то и есть. Оно!
Прожили в Онгудае путники целую неделю. От Онгудая через горы, сказывают, суток шесть пути; они заготовили провианта вдвое: сухарей, крупы, масла, пару хороших коней достали, выносливых, калмыцких, их и ковать не надо: сталь, а не копыта.
Хозяйственный Степан суров, смекалист, быстр. Афоня же так… все про пустяковину: а красива ли дорога? а какого, мол, цвета горы? а какие распевают там птицы, громко ли грохочет гром в горах? Даже о том спросил Афоня, не водится ли в тех местах летучий змей с хвостом, — сказывала, мол, бабушка Афимья.
Только на прощанье по-серьезному проговорил Афоня:
— Ну, а ежели заблудимся да погибать начнем?
Ему ответили:
— Тогда — аминь. Кругом безлюдье.
— Ни-ичего, — бодро протянул Степан. — Несчастья бояться — счастья не видать.
Выехали в солнечный воскресный день. Через первые хребты провожал их бывалый зверолов Иннокентий. Солнце блестело вот как. На перевал вздымались целый день. Солнце ниже, ниже, они все вверх, гнались за солнцем, не спускали с солнца глаз. Вот зацепилось оно за сопку, еще чуть-чуть — и нет его. Степан как гикнет: «Айда!» — как вытянет коня нагайкой: гоп, гоп! Глядь — солнце опять над сопкой, снова светлый день.
Долго гнались за солнцем, долго не давали ему пасть на дно.
Остановились на ночлег в горах.
— Вот так это горы! — радостно, таинственно говорил Афоня, сидя у костра.
— Настоящих-то гор еще и не нюхали, — возразил провожающий Иннокентий. — Что буде завтра.
Утром выбрались путники на самый перевал. Глянул Афоня — и все внутри его заплясало: весь Алтай всколебался перед ним. Горы, как хребты страшных чудовищ, высились над землей: ближние — в ярко-зеленой щетине леса, на ободранных боках кровавые подтеки; а там — черные ребра обнажились, там — осыпь серых камней — курум. Дальше же яркая зелень блекла, голубой закрывались горы завесой, гуще, гуще завеса, и уж в правую руку, куда летел очарованный Афонин взор, — было синим-сине. Налево лежали хребты нагие, словно звериные спины облысели от времени или словно вся шкура была содрана с чудовищных хребтов до самого до мяса.
Все они вздымались серой массой, с черными впадинами балок и ущелий. Какие-то легкие тени скользили по освещенным солнцем склонам. Афоня догадался, что это тени плывущих в небе одиноких облаков.
А небо было голубое, спокойное, солнце недавно поднялось из-за хребтов и… что это там впереди блестит — больно глазами глядеть?
— Снег! — вскричал Афоня. — Гляди-ка, Степан, снег!
— Это вечные снега, вечные льды. Спокон веку так, — внушительно сказал Иннокентий. — По-нашему называется — белки.
Весь горизонт уставлен белыми хребтами, только ниже склоны голубели в сизой дымке, а вершины гор хлестали глаз резкой белизной.
— Через эти снега вам придется идти. Ничего, не бойтесь. Вот эту сопочку-то видите, — эвот, эвот чернеет?..
Иннокентий толковал им целый час, все обсказал подробно, куда идти, в какой балке ночевать, какие речки вброд переходить, а там вот то-то будет, а там вот это-то. Ну прямо отпечатал.
— Самое трудное вам — до белков добраться, — сказал сибиряк. — Как белки перевалите, близехонько и Беловодье ваше.
— До этих белков мы, поди, завтра же и доползем, чего тут, — проговорил Афоня, поглядывая из-под ладони козырьком на четко видневшийся снеговой хребет. — Рукой подать.
Сибиряк с презрением посмотрел на него, — он видел в нем человека никудышного, — сказал:
— Нет, паря, дай бог на четвертые сутки подойти к белкам-то. Поболе сотни верст до них.
— Да ты сдурел! — крикнул Афоня.
Действительно, хребты казались совсем близко. Афоня поднял камень, раскорячился, швырнул.
— Нет, паря, не докинешь.
Афоня стал сибиряка просить:
— Иннокентий, проводи нас, чего тебе.
Тот сверкнул глазами, как ожег:
— Каждого провожать — подохнешь. Поди, хозяйство у меня. Эт ты, лапотон, чего сказал. Башка с затылком!
Степан сурово тряхнул головой.
— Не хнычь! Найдем и сами. Не в таких местах хаживали.
Афоня сразу поверил в силу друга, знал Афоня — в разных переделках бывал Степан, жизнь Степана для Афони сказка, Афоня поверил другу, и весь испуг его прошел.
III
К следующему утру друзья осиротели. Они в глубокой котловине. Каменные стены окружили их со всех сторон так плотно, что, казалось, некуда идти: вот залегла едва приметным стежком их узкая тропа, а там упрется в стену и — шабаш. Громады каменных хребтов, клок неба сверху. В небе плавает орел. Зорко видит: две козявки еле движутся внизу. Ринуться камнем, ударить грудью, выклевать глаза? Зачем? Орлу — простор и высь, и нет ему дела до земных козявок. Солнце, воля!
А в глубокой котловине сырой, обманный сумрак, остатки ночи еще не ушли отсюда, и жар-птица только к полдню вздымет над козявками свой палящий ослепительный костер.
Афоня видит и орла в выси, мечтает о жар-птице за хребтами. Но главная дума там, в Беловодье, по ту сторону белков.
— Степан! А где же белые-то хребты? Со снегом-то? Ой, сбились мы с тобой.
Степан только улыбнулся.
— Настоящий ты Афоня.
Действительно, в их сегодняшней тюрьме взгляд упирался в стены, и только орлиным взорам был не заказан мрак и свет.
— Он ви-ди-ит, — улыбнулся и Афоня, подморгнул парящему в выси орлу.
Афонин чалый конь след в след шел за конем Степана. Степан сидел в седле прямо и уверенно, был с круторебрым конем своим одно. Он внимательным взглядом щупал все кругом, он чутьем охотника угадывал, куда вильнет тропа и что таится вот за тем зубчатым черным мысом, будет ли завтрашний день ясен и погож. За широкими плечами — наискосок ружье, переметные кожаные сумы набиты туго, конь гриваст.
Афоня же сидит мешком, ссутулился и будто дремлет. Он сорвал травинку, жует ее, рассеянно поплевывает, мечтает. Новизна поражает его ежечасно. Вот перед ним райское место, глаз не оторвать. Но стегнула тропка крутым взлетом вверх и вправо — ахнула душа Афони: все не узнать, все стало по-новому, занятней, краше.
И кричит Афоня:
— Степан! Степан! Чего это?
Отдаленный шумливый гул вдруг проник в тенистое ущелье, где ехали путники. Все креп и надвигался этот гул, все мрачней, непроходимей становилось ущелье. Афоня недоуменно прислушивается, стараясь задержать дыхание. Но вот кони вынеслись на залитую солнцем равнину, всадники враз повернули вправо головы и остолбенели: с поднебесной высоты возле самых путников грохотал осатанелый водопад. Падучая вода яростно била в камни, вся дробилась в облачную пыль, пыль взлетала туманными крыльями: вот один, вот другой крылатый призрак отделяются, тихо плывут под легким ветром, протягивают к путникам седые ласковые руки, плавно повертывают в сторону и манят за собой куда-то вдаль, в волшебную долину между гор. И вновь, и вновь без конца встают из грохота и дыма белоснежные видения, их зрак и все кругом в тумане, крутая радуга мягким кольцом обхватила все, призраки преклоняют головы с разметавшимися волосами, осторожно опускают крылья, чтоб не коснуться самоцветной радуги, плывут в неведомую даль и исчезают.
Водопад кропил всадников золотой, в блестках солнца, пылью; их лица были мокры, алмазный бисер горел на траве, на иглах беззвучно шумевшего кедра. Суровым грохотом был оглушен весь свет, от земли до солнца. От грохота колыхались горы, и, казалось Афоне, тряслась земля.
— Степан, голубчик! — что есть силы заорал он. — Вот так чудо!
Но голос его умер, грохот сдавил горло, запечатал слух. Афоня перекрестился.
— Ой, ты, чудо-то какое, — бормотал он. — Вот так диво!
Он не мог и не пытался понять, что в нем творится, он весь во власти этого дьявольского грохота, этих невиданных чудес, ему хотелось и хохотать и плакать, точно он распался надвое и обезумел. Торопливо и словно во сне, он крестился, крутил головой, сморкался в подол рубахи, взглядывал сквозь радугу на живую сказку, и вновь его душу охватывал непереносимый трепет, тяжкая радость мешала ему дышать.
— Ой, смерть! Ой, поедем скорей, господи! — карабкался он на коня.
И долго озирался на радугу, на встающие в тумане уплывающие призраки; грохот глуше, глуше, и, когда уткнулись путники в стену гор, было совсем тихо, безмолвная стояла ночь.
IV
Прошло три дня. Конь Афони рассек камнем ногу, стал хромать. Степан встревожился. Афоне нипочем. Он все мечтал о Беловодье, о радуге, рассуждал сам с собой, по привычке размахивая руками, иногда крестился и шептал молитвы. Степан был хмур: запасы убывали, дичь не попадалась на пути, а главное, чем ближе подъезжали путники к снеговому перевалу, тем дальше, казалось, отодвигался он.
Теперь ехать поневоле приходилось шагом. Да и тропа стала капризной, озорной: как будто нарочно, играючи, она заманивала человека вдаль, крутилась меж огромных камней, подпрыгивала вверх, на уступ скалы, чтоб вновь упасть в бездну и там где-то схорониться в серых россыпях курума.
Путники поняли, что началась опасность, что горный дух Алтая — человеку враг.
— Ну, Афоня, теперича держись.
— Держусь.
Конец четвертых суток караулил их. У Афони с утра щемило сердце, лицо бледное, напряженное, взгляд растерянный и странный.
Солнце в горах садится рано: горный дух Алтая любит прохладу, одиночество и мрак.
Солнце садилось. Гребни гор обрамлялись золотой чертой заката. Стало вдруг холодно. Тропа предательски манила путников на высокую скалу. Они послушно поддавались. Тропа шла обрывистым карнизом, бомом. Внизу гремела речонка. Вода в ней кипела белой пеной. Из ущелий к речке выползал туман.
— Степан, чего-то боюсь я.
Путники были на большой высоте.
— Гляди мне в спину, не гляди вниз, — не поворачивая головы, проговорил Степан.
Горы на западе стали черными, туман поседел, обозначился резче. Солнце скрылось, и лишь световые мечи рыхлыми пучками шли от него из-за гор в пространство. Сумрак вырастал со дна, поднимал свой горб — вот выпрямится, встанет и растопырит над Алтаем расшитую звездами хламиду.
Скала, по откосу которой карабкались лошади, почти отвесно падала в невидимую речку. Тропа лепилась сбоку, как карниз, по случайным, созданным природой, выступам, а скала вздымалась над тропой и уходила вверх, в хмурую глубь небес. Иногда ширина тропы была в сажень и больше — кони шли вольготно; то она суживалась до аршина: тогда даже Степана кидало в оторопь, сердце же Афони обмирало, он холодел, дрожал. Чтоб не загреметь в пропасть, кони в опасных местах шли в наклон, норовя прижаться к скале. Всадники помнили наказ сибиряка — сиди, не шелохнись, не мешай коню; всадники сидели смирно, Афоня чуть дышал. Кони отрывисто всхрапывали, бока дрожали; напряженный шаг их осторожен, точен. А тропа забирала выше, выше.
— Повернем назад, — слезно взмолил Афоня.
— Дурак, — ответил Степан. Голос его сердит, безжалостен. — Как же назад, ежели коню не оборотиться?
Афоня понял, что обратно повернуть нельзя.
Кони всхрапывали все чаще, в горах переливался, прыгал ответный храп. Копыта цокали о камень резко. Резко цокали в ответ копыта где-то там, в пространстве. И в пространстве, за хребтами, уже зачиналась ночь.
Афоня боялся глянуть вниз, но круча под ногами с правой стороны тянула неотразимо. Афоня вскидывал голову, искал в небе звезды, ощупывал глазами широкую спину Степана, но все нутро кричало, орало: взгляни вниз! — и не было мочи противиться. Афоня видел внизу серую мглу: то наползали на речку туманы. И еще он видел, не глазами, а чем-то другим — видел такое, что…
— Ой, Степан, я слезу… Я пешком пойду.
Степан молчал. Степан сам был не в себе. Темнота сгущалась, а где конец тропы?
Конь его идет ощупью, дрожит, прядет ушами. Ступь все медленней, все осторожней. Сорвался из-под копыт камень, гулко покатился вниз, задняя нога коня скользнула. Степан ахнул и враз облился холодным потом, едва удерживаясь в седле. Он быстро обхватил коня за шею. Коню передался ужас всадника, он всхрапнул и, остановившись, привалился боком к скале. Степан не знал, что делать. Охваченное мраком пространство как бы исчезло: стало совсем темно. А сзади молил Афоня:
— Степан, голубчик! Погибель наша.
— Стой, дожидай! В потемках куда, — дрожащим голосом проговорил Степан.
Афоня вплотную подъехал к нему, но тот боялся повернуть голову: ухнешь с конем в пропасть.
Впервые в жизни Степан почувствовал полную беспомощность. Он ясно понял, что весь его жизненный опыт, отвага, сила — ничто. Может налететь ночная птица, может сверху оборваться камень — конь вздрогнет, неверный шаг и — смерть. Конь стоял смирно. Степан не смел понукать его. Но как же быть? Дожидаться до утра в седле? Задремлешь. Слезть с коня? Опасно: тропа в этом месте так узка, что четыре лошадиных ноги едва умещаются на ней. Степан терял присутствие духа.
Он уже ничего не мог различить перед собою: горы сгрудились вместе, враждебно придвинулись к путникам, черные, немые. Обложенное облаками небо мрачно. Слева едва серела скала, в холодный гранит которой упирался дрожащий локоть Степана. Мысль работала напряженно, она вся без остатка увязала в этой тьме, выхода не было, и Степан, зло сопя, скрипел зубами:
— Будь оно проклято, это дьявольское Беловодье.
И неизвестно, шло или остановилось время. Степан перестал чувствовать коня под собою, не ощущал земли, не знал, жив он или нет. Мрак убил его, он как в могиле, весь холодный, недвижимый. Грудь переставала дышать, мысль пресеклась, он — мертвец.
«Фу ты, леший… Неужто смерть?» — вдруг вздрагивала вся его душа.
Степана бросало в мгновенный жар, волосы на голове шевелились, сердце ударяло полной силой. Степану тогда представлялось, что кругом пусто: ни земли, ни неба, одна тьма, и что он среди этой тьмы подвешен на гнилой веревке, в пустоте. Один, совсем один. Веревка вытягивается, потрескивает, еще минута — и веревка лопнет: враз засвистит в ушах ветер, обомрет дух, а тело будет падать, падать, падать — хрясь!
— Ох, ты…
Вот раздался грубый трубный звук. Тьма откликнулась и замерла. Это ревет горный козел. На душе стало легче — не умер, жив.
Афоня хныкал, бормотал:
— Экие страсти, батюшки мои… Голова чего-то у меня кружится.
— Ну?..
— Тово гляди сорвусь.
— Держись. А то костей не соберешь.
— Пресвятая ты моя богородица… Заступница…
Вдруг облака стали серебриться.
— Никак месяц, — радостно сказал Степан.
Из-за хребтов взнялась луна, облака разорвались, пространство посерело, потом вдруг наполнилось ровным голубоватым светом. Столпившиеся горы враз отпрянули на свои места, внизу засверкала серебристым шнуром речка, из мрачных провалищ плыл туман.
— Батюшка Степан… Сорвусь!
— Завяжи глаза.
— Страшно шевельнуться.
Степана покоробило. Он чувствовал, что Афоня вот-вот опрокинется в пропасть, и не было силы помочь ему. Степан шевельнул повод, лошадь вздохнула и осторожно двинулась вперед.
— Поезжай полегоньку. Ежели страшно — защурься! — крикнул Степан и привычным ухом поймал, как сзади цокают о камень копыта.
Тропа быстро пошла книзу, стала шире, от сердца Степана отлегло. Облака то наплывали на луну, то разлетались. Тропа чуть поднялась вверх и круто стала спускаться. Речка здесь разлилась широко, была молчалива и тиха: рухнувшие скалы подпирали ее течение. При лунном свете Степан ясно различал над ее поверхностью мокрые, блестящие лысины камней.
«Слава богу, выбираемся», — облегченно вздохнул он.
Но вот его лошадь приостановилась, подобрала все четыре ноги в одну точку и скакнула вниз. Степан едва усидел, схватившись за шапку.
Еще прыжок — Степану больно стукнуло ружье о спину.
— Эй, держись! — закричал он Афоне.
Но в этот миг что-то загрохотало сзади. Степан круто обернулся, обмер: лошадь Афони сплоховала — всхрапывая и цепляясь передними ногами о край скалы, она грузно сползает задом в пропасть.
— Афоня! Афоня!
Еще мгновенье — и, высекая копытами искры, лошадь со ржанием покатилась вниз.
— Афоня!! — чужой, отчаянный крик вылетел из груди Степана. Он соскочил с коня и бросился к краю пропасти. — Афоня, где ты? Эй!
Лунный сумрак молчал. Только разрывало сердце смертельное лошадиное ржанье внизу, сменявшееся тяжким кряхтеньем и почти человеческими ее стонами. Конь Степана тревожно ржал в ответ и бил копытом о камни.
— Степан, умираю… Степан… — слабо раздавалось возле Степана, немного ниже, во тьме.
Степан, как лунатик, стал осторожно переступать с карниза на карниз. Он не думал об опасности, его кто-то вел, указывал, куда ступить, он сделался легким, бездумным, странным, ноги враз прозрели, руки к скале — магнит к железу, крылья опасности поддерживали его над бездной, страх вел книзу бесстрашным для души путем.
— Помоги… Ради Христа.
Степан склонился над Афоней. Тот завяз в расселине скалы. Степан догадался: на том проклятом месте Афоня не усидел, упал и этим сразу нарушил точно рассчитанный прыжок коня.
— Руки, ноги целы? — спросил Степан, ощупывая старавшегося приподняться товарища.
— Кажись, целы… Ведь я не высоко летел, сажени с две… Бок зашиб, голову.
— Сиди. Дожидай…
Степан, так же по-кошачьи карабкаясь, стал быстро спускаться к лошади.
Он не знал, долго ли и как спускался, — он был не свой, не здешний, он спустился в пропасть, широко открыл глаза. И содрогнулся. Чалая лошадь Афони, падая с огромной высоты, напоролась животом на остро торчавший ствол сломленного крепкого деревца. Она упиралась в камни передними ногами, зад же лошади, подпертый пронзившим ее стволом, висел в воздухе. Она ржала мучительно, с смертельной тоской, била задними копытами по воздуху и крутилась, стараясь освободиться. Но крепкое острие все глубже уходило в распоротый живот. Рот ее был оскален и покрыт пеной, голова бессильно моталась во все стороны. Степан с маху ссек топором лесину, лошадь стала на все четыре ноги — и зашаталась. Степан потянул из живота ствол — вместе с хлынувшей кровью вывалились внутренности, как кольчатые змеи. Лошадь протяжно охнула, опустила голову и застонала по-человечьи; задние ноги ее отказывались служить, подгибались, словно она собиралась сесть. Степан засопел. Лошадь повалилась на бок. Шатаясь и скривив рот, Степан зашел спереди, опустился на колени и обнял лошадь за шею.
— Миленькая моя… Лошадушка… Детишка моя, лошадушка… Лошадушка!
Он целовал ей глаза и лоб. Глаза ее были влажны и под луной блестели умоляюще. Она вся затихла, чего-то ожидала покорно.
— Миленькая, лошадушка.
Степан глухо крякнул, перекрестил ее, вскинул ружье и выстрелил ей в ухо.
Глухо, перекидисто загрохотал в горах выстрел, долго перебрасывался от горы к горе, и последние отзвуки его где-то зарылись в туманах.
V
Теперь приятели плелись пешком, Степанов конь тащил на себе весь груз. Торбы с хлебом и сухарями стали тощи, а сказочное Беловодье не подавало о себе никакого голоса. Путники приуныли. Афоня шел с обмотанной головой, припадая на правую ногу. Тяжкая дорога и ушибы мешали ему молитвенно настроиться, но он все же молился молча и за убившуюся вчера лошадь и за свое спасенье. Шли ровными лугами, блестело утреннее солнце, красовались цветы в траве, от самоцветных гор веяло теплым, смолистым запахом. Вчерашний ужас еще не иссяк в глазах Афони, бледное, постное лицо его сосредоточенно, все думы его там, среди мрака ночи, и слух наполнен липкими звуками предсмертного ржанья. Он не видел солнца, не замечал росистых трав кругом.
— Хоть бы черт повстречался, — буркнул Степан.
— Что ты такое слово вымолвил! — ответил Афоня и взглянул в хмурое, озлобленное лицо Степана.
Степан сказал укорчиво:
— У тебя ведь душа коротка. Ты все над землей привык порхать, по-птичьи. Сказки бы тебе бабьи слушать, а не… Я знаю, о чем ты думаешь… Вот ужо тебя богородица или андел божий на крыльях прямо в Беловодье, к кисельным берегам. Нате, кушайте, Афанасий Митрич. Хы! А своими ногами не хочешь пошагать?
— Вовсе даже не об этом я думаю, — печально молвил Афоня и, помолчав, спросил: — Степан, отчего Чалка так ржала? Сердце за нее болит. Это я сгубил ее.
— Ничего не ржала. Тебе погрезилось… Сразу насмерть зашиблась.
— Пошто ты выстрел дал? Пристрелил?
— Ничего не пристрелил. Козла увидал, да промазал.
Афоня вздохнул, испытующе посматривал в притихшие глаза друга.
Обедали у ручья, в тени густого кедра. Степан набрал грибов, хлёбово было вкусное. Афоня повеселел, взор вновь окрылился сказкой, мысли отлетели от земли. Но Степан отрезвил его:
— По расчету, вчера на месте должны быть, а еще и белков не видно. Шестые сутки путаемся. Поколеешь тут.
— В Беловодье отдохнем.
— Плохой ты товарищ. Беловодье… Кажись, сказано тебе ясно, что Беловодья на свете нет! — отрубил Степан.
— Куда же оно девалось? Есть. Мне видение было, сон. Вот уснем в беде, а проснемся у молочных рек.
Степан насупил брови и махнул рукой.
Тропа опять ударилась в горы. Шли каменистыми россыпями. Путь труден, неподатлив. У коня из сбитых ног сочилась кровь.
Вдруг на повороте внезапно вырос всадник. За ним шла в поводу свободная, незаседланная лошадь.
Мрачные морщины на лбу Степана разлетелись, лицо ожило. «Ну, теперя доберемся, — подумал он, с надеждой посматривая на приближавшегося всадника. — Кровь пролью, а лошадь будет наша».
— Куда? В Урянхай, что ли? — зычно спросил всадник, поравнявшись. — За хребты?
Путники рассказали ему все. Афоня захлебывался от радости, умильно посматривая в свинячьи глазки великана всадника, и юлил перед ним, как повстречавшая хозяина заблудившаяся собака.
Всадник пудовой горстью огладил круглую бороду, сказал:
— Вертайте, самоходы, назад. В белках вам крышка.
— Выберемся, — возразил Степан, оглядывая огромную фигуру мужика. — Взад оглобли поворачивать не рука нам.
— За смертью идете, — угрюмо проговорил мужик. — Вьюга была, путь в снегах перемело.
— Продай, пожалуйста, коня, выручи нас, — стал просить Степан, чувствуя, как в сердце закипает неприязнь.
— Ты умен, — раздраженно ответил всадник. — Для себя его купил, эвот какую путину сломал.
— Продай! — решительно отсек Степан, глаза его сверкнули. — У тебя два коня… на одном доедешь.
Мужик, не ответив, тронул коня.
— Продай! — с отчаянием заорал Степан, хватаясь за ружье.
Мужик обернулся и, вмиг сорвавшись с седла, в два прыжка был за выступом скалы. Щелкнул затвор ружья, дуло нащупало Степанов лоб.
— Бросай ружье, язви тебя! Убью!!! — взревел из-за скалы медвежий голос.
Афоня пал на колени, взмолился:
— Дядя! Дядя!!
Степан подался назад, заскрипел зубами и покорно повесил ружье за плечи. Его била дрожь. Лицо налилось желчью и подергивалось.
Мужик вперевалку подошел к Степану и спокойно сказал:
— Мой совет — назад. Упреждаю. Было бы сказано. Садись на мою лошадь — и айда… А промежду прочим… Знаете дорогу?
И опять подробно рассказал им, как идти. Сел в седло и, не оборачиваясь, поехал.
Афоня кричал ему вслед:
— Ежели погибнем, на тебе ответ перед богом!
— Всяк сам за себя ответчик! — гулко бросил тот.
Степан с ненасытной злобой сек взглядом широкую удалявшуюся спину, руки чесались пустить вдогонку пулю, но мощь и звериное бесстрашие всадника были защитой ему.
— Ну и дьявол… — скрипел Степан зубами.
Афоня проговорил:
— Господь с ним.
— А подь ты к праху, фаля! Тьфу!!
VI
На следующее утро, пробудившись, Афоня закричал спавшему товарищу:
— Степан, Степан! Глянь-ко, белки!
Степан приподнялся из-под шубы. Перед ними, совсем близко, высились громады гор, их подол и взлобки опущены густым лесом, выше — полоса леса обрывалась, обнажая серые, исчерченные черными ущельями склоны, а вершина хребта придавлена пластами снега, приветливо розовевшего в нежных потоках утренней зари.
Афоня был в одной рубахе. Не чувствуя холода, он дивился на вознесенные к облакам снега. Все гуще алели снежные вершины, все голубей становились сугробы на обрывах и кручах, в ребристых же гранях снег до боли глаз блестел расплавленным стеклом.
Афоня сложил молитвенно руки и шептал, умиляясь:
— Господи, господи, снег-то какой… красный… Так бы и погулял там.
— Может, там смерть наша сидит, — сурово сказал Степан, разжигая костер.
Но Афоня не слышал, не замечал его. Афоня опустился на колени и гнусаво, по-старушечьи, запел:
— «Заступница усердная, матерь господа выщая».
— Выщая, выщая, — брюзжал Степан и крикнул: — Где у тя чайник-то? Ишь замерзла в нем вода-то. Оболокись, заколеешь!
Степан знал, что эта видимая близость белков — прямой обман, дай бог хоть на вторые сутки дойти до снегового перевала. Сегодня путникам придется пересекать топкое болото, отделявшее их от грани лесных трущоб, и сегодня же последний сухарь будет съеден.
Степан угрюм и молчалив, Афоня радостен.
— Ты не беспокойся. Вот помяни мое слово: как в лес вступим, живность найдем — рябков либо зайчишек…
— Мерблюда на сосне, — буркнул Степан и почувствовал, что желудок его пуст.
Шли каменистым болотом целый день. Ноги вихлялись на кочках и проваливались по колено в воду. Сапоги текли, промокшие ноги зябли. Болото местами покрыто вереском, баданом, клюквой и брусникой: для куропаток — рай. Степан держал ружье наготове, но — странное дело — кругом мертво.
Тропа то пропадала, то оборачивалась снова, были видны следы лошадиных ног, путники двигались уверенно. К вечеру тропа исчезла. Искали, искали — не нашли. Решили ночевать на сухом взлобке: что скажет утро. Разделили остатки сухарей, пустые мешки разорвали на онучи. Афоня целую шапку прошлогодней клюквы набрал:
— Птица век ягодой кормится.
— А ты птица, что ль? — возразил Степан. — Сдохнешь… — Голос звучал печально, как ни старался бодриться Степан.
— А ты верь, ты верь! — выкрикнул Афоня, ударяя себя сухим кулаком в грудь; голубые глаза его вспыхивали, и белая бороденка, хохолком, тряслась. — Тогда, Степанушка, все будет хорошо.
Степан поднял на Афоню тяжелый взгляд, собираясь ударить друга злобным словом, но чувство нежности, поднимавшейся от самого сердца, останавливало его. Он только вздыхал, дивясь беспечности товарища.
Утром моросил дождь, и белки задернулись тучей, голодные путники вновь принялись отыскивать тропу. Все выползали, вынюхивали — нет.
Степан сел верхом и взад-вперед ездил по опушке леса — нет. Поиски длились очень долго, неудача злила Степана, плевки и ругань летели из его уст.
Весь мокрый, от неудачи позеленевший, Степан подъехал к Афоне. Тот приподнято сказал ему:
— Идем! Я знаю. Идем скорей.
Тайга разинула колючую пасть и поглотила их. И в яркий-то день в тайге живет сумрак, теперь же все небо в тучах: путники подвигались наугад, вслепую. Степан то и дело припадал к земле, шарил мох, пушистый и мокрый, — не было никаких следов.
Прошел вечер, прошла ночь.
Кружили еще целый следующий день тайгой и закружились окончательно: снеговые хребты пропали. Дождь все моросил.
— Надо солнца ждать. А то… — не докончил Степан и, отвернувшись, засопел.
Сделали шалаш из хвои. Лежали рядом с закрытыми глазами. Не спалось. Думали каждый о своем. Глухая ночь.
— Ты спишь? — спросил Афоня.
— Нет.
— Я все думаю. Деды-прадеды эту землю-то праведную спокон веку, сказывают, искали — не нашли. Вот уж, кажись, тут и есть, уж звоны слышны колокольные. Только бы выйти — ан нет, лукавый сомустил: грех вышел, перегрызлись деды, и — прощай, земля святая! Идут назад ни с чем.
Помедлив немного, говорит Степан:
— Я звонов твоих колокольных не ищу.
— А что же ты ищешь?
— Чернозем. Да всякое угодье чтобы… Пущай мужики на землю крепко сядут. Отъедятся хоть.
— Эх, брат, брат… Ты все о брюхе…
— О чем же еще?
— А ты о душе бы…
— Душа попу нужна.
— Ведь в той земле живут народы без греха, по правде. А у нас как? Сердечушко во мне все изболелось. Бывало, уйдешь по весне в бор соловьев ловить, да и думаешь… Я люблю думать по ночам…
— Ночью спят, днем работают, — попыхивал трубкой Степан, — а ты все в розмыслах каких-то бабьих… Анхимандрит…
Афоня вздохнул и проговорил негромко в нос:
— Какие вы все обидчики!
VII
День был пасмурный, накрапывал дождь. Степан тщетно искал с ружьем добычи, принес к обеду только двух малых дятлов. Тайга на всем пространстве покрыта мохом и лишайником, бока у лошади от бескормицы ввалились.
Беспокойство в душе Степана все нарастало, сердце ныло нехорошим предчувствием. Ослабевший Афоня дремал в шалаше и сквозь дрему посматривал на друга, как больной ребенок на отца.
Степан начал перебирать вещи в мешке. Ему нужна коробка с пистонами и пороховница. Сначала движенья его были неторопливы и уверенны, потом стали быстрей и суетливей, потом… Дрожащие руки его судорожно хватались за тряпье, как за раскаленное железо: трепал, встряхивал, швырял, обшарил все карманы, вытряс сапоги, шапку, сорвал с себя и перетряс всю одежду, вновь кинулся к мешку. Лицо сделалось мертвенно-бледно, волосы прилипли к запавшим вискам, в глазах безумный страх.
— Что ищешь? — тоскливо спросил Афоня.
— Ножик, маленький такой, — помедля, дрожащим голосом проговорил Степан.
— А эвот он, эвот…
Степан сел на пень, под морду лошади, обхватил колени и весь согнулся. Долго глядел в землю, потом сердито плюнул, кого-то ругнул сплеча и завалился спать. Сон его был глубок и крепок.
Афоня охал, бредил, звал мать с женой.
На другое утро засияло солнце.
Степан поднялся нехотя. Глаза его были потерянны, пусты, но рассеянный Афоня не прочел в них ничего.
— Жрать, Афоня, жрать, — хриплым басом буркнул Степан в бороду и приподнялся, большой и крепкий, как медведь.
— Нету, — уныло вымолвил Афоня. — Вот заячьей капустки, травки кисленькой пожуй.
Молчаливо, отчаянно пили пустой чай. В животе бурлило.
Пошли на восход, чуть левее солнца.
— Солнышко красное, укажи путину верную, — приговаривал Афоня.
Шли прямиком. Попадались огромные, скатившиеся с гор обломки скал и в три обхвата валежины. Ругаясь, обходили. Сапоги истрепались вдрызг, одежда о сучки трык да трык — в клочья.
Начался пологий подъем — тянигус. Афоня охал, хватался за бок, отставал. Он весь сделался каким-то шершавым, взъерошенным, согнулся и походил на старика.
Степан бодрым, но вкрадчивым голосом спросил:
— А не попала ли к тебе коробочка с пистонами? Да порох еще?
— Куда мне? Не брал.
Ну да, дело ясно, значит, обронили на прежних стоянках. Только чудо могло спасти их теперь. Но Степан в чудеса не верил. В усах и бороде его едва промелькнула язвительная улыбка.
— Да, Афоня, любезный друг, — начал он тихо и подавленно. Его поджигало брякнуть сразу всю страшную правду, чтоб ошеломить Афоню, но опять кто-то заградил уста, и сердце Степана облилось последней любовью к другу. — Теперича мы, Афоня, оживем… лишь бы снега перевалить.
— Бог поможет. Только бы вот маленечко поесть, — откликнулся Афоня и тяжело вздохнул.
Вдруг Степан бросил повод:
— Козел… — и быстро пал за валежину, взводя курок.
Афоня взметнул глазом на высокую, торчавшую поверх сосен скалу. На остряке прямо и неподвижно стоял круторогий зверь, подставляя грудь. Степан волновался. Решалась судьба. Руки дрожали.
— Не торопись, промажешь, — шепнул Афоня. Устремленное к скале лицо его вытянулось и застыло.
Раскатился выстрел, хохочущий, нахальный. Козел подпрыгнул и кувыркнулся рогами вниз.
— Готов, готов! — закричал Афоня и, забыв про ушибленную ногу, побежал к скале.
Степан же сердито поднялся, сорвал с головы шапку и бросил оземь. Лицо озверело, рот плевался и шипел:
— Анафема. Пропастина… Змей.
Он видел: пуля ударила возле козла в скалу, от камня брызнула мелкая пыль осколков. Остался единственный дробовой заряд. И неизвестно, для чего теперь его беречь.
«Для себя. В рот», — без всякой жалости подумалось.
Афоня возвращался медленной, вихлястой походкой, сгорбившись, обхватив живот.
— Сам видел, как он мякнулся. Все обползал — нету, — сказал Афоня скрипучим, задыхающимся голосом.
— Целехонек. На рога пал, да и умчался. Они завсегда на рога кидаются.
Афоня лег на траву и прикрыл глаза рукою.
— Измаялся я, Степанушка… Тяжелехонько мне.
— Пойдем, валяться некогда.
На ходу Степан поддерживал его. Голод морил их, высасывал соки, как жоркий клещ. Афоня опустил голову, шагал нетвердо, враскачку.
— Трое суток не ели мы с тобой.
VIII
Лишь к позднему вечеру истомленные путники выбрались на край тайги, к густому большетравью. Впереди было мрачно, взор упирался в серый склон хребта, заслонявшего почти все небо.
Вот он, хребет со снеговой спиною: перевали его — и вступишь в теплый, безмятежный край. Надо бы радостно кричать и целовать камни, скатившиеся с заоблачных высот, но путники угрюмыми, почти враждебными взорами встретили эту мрачную твердыню: в них все приникло, ослабело, съежилось.
Степан лениво и вяло, двигаясь как во сне, стал разводить костер. Афоня в бессилии лег, укрылся шубой, у него звенело в ушах, ныла грудь, дрябло трепыхалось сердце. Хотелось напиться холодного, кислого. Он взглянул в сторону хребта и порывисто повернулся к нему спиною, как к врагу.
Думы Степана были тяжелы и черны. Ему казалось, что смерть ходит по пятам за ним. Но кто же накликал ее? Он — Степан.
Он так загряз в этих думах, что, обрубая сучья, ударил себя топором по руке и долго сосал липкую кровь из пальца. Афоня застонал. Степан покосился на него.
«Афоня, друг… Желанный мой…» — мысленно прошептал Степан и засопел. Он подошел к спящему товарищу, пощупал его голову: голова пылала.
— Сидеть бы тебе дома, с бабой, а я, черт, дурак, сманил тебя — пойдем, мол, чужие края усматривать… Да в могилу и завел, — вслух думал он. — Э-эх!
Едва нашел воды, вскипятил чаю, а в другом котелке сварил какую-то бурдомагу: ягода, трава, неизвестные коренья и грибы. Есть хотелось неимоверно. «Аж от голодухи пупок к спине присох». За эти дни он очень исхудал, плотно пригнанная к его фигуре синяя поддевка висела мешком, ноги дрожали, руки обессилели, и весь он одрях, словно разбитый хворью старец.
«Хоть бы ломоть хлеба черствого, покрытого плесенью! Неужели больше не суждено досыта наесться? Мяса бы, мяса вареного, с желтым жиром!»
Степан сплюнул и вытер рукавом свисавшие в бороду усы.
— Нет, врешь, — бодрясь, шептал он, помешивая бурдомагу. — Авось фартанёт. Жизнь — шутка темная, словно лес в ночи.
Но сердце не верило обману слов, сердце мучительно сжималось, и Степан рычал, как раненый зверь, уносящий в себе пулю.
«Вот и обед, ха-ха! Будить иль не будить?»
Афоня подал голос:
— Я кусочек съел бы. Дай мясца. Горяченького. Козлятинки…
— Нету, браток, нету, милячок.
— А? — поднялся на локтях Афоня. — Ты чего, Степанушка, сказал?
— Нету, мол. Какая козлятина? Вот суп без круп.
Афоня сбросил шубу, сел:
— А козел? Я нашел. Я притащил. И спереди и сзади по башке… А рога в сапогах… Э-эвот какие!..
Он снова повалился, почавкал пересохшим ртом, сказал:
— Пить…
Степан вытаращил глаза и на четвереньках подполз к нему.
— Ой, ты… Никак огневица. Заговаривается… Афоня, Афоня!
Больной лежал с закрытыми глазами, будто спал, на пылавшем лице улыбка, губы шевелились, вытягивались, искали чего-то. Льняные волосы нависли шапкой на белый потный лоб.
— Вот грех… — горько сказал Степан, вздыхая.
Потом помочил в холодной воде утиральник, обмотал голову товарища.
Бурдомага была отвратительна. Но Степан жадно пожирал, по-волчьи, горькие коренья и грибы глотал целиком. Достал бутылку с водкой и, разглядывая, повертывал ее перед пламенем костра. Водки было немного, она искрилась желтым и синим.
— Чертово пойло… А?
Он берег ее для перевала через снега, но соблазн огромен: скулящая тоска и голод требовали дурмана. Степан задрал вверх голову и, не отрываясь, выпил. Последний глоток долго задерживал во рту: было жаль расстаться. Зажал в горсть бороду, искоса посматривал на костер, не видя его, и прислушивался к себе, ждал волшебства. Как будто стало легче, веселей, но эта веселость не настоящая, она обуяла лишь голову, а там, на сердце, в исподе, все так же одиноко, мрачно.
— Только разбередила… Тьфу!
Где-то надрывно стонала выпь, поухивал филин. Над головой теплились звезды, крупные, четкие. Выплыл месяц. Склоны хребта стали видимы сквозь сизую мглу ночи, от каменистых гребней и деревьев пала густая тень.
Степану показалось, что воздух вдруг похолодел, а жаркое дыхание костра ослабло. Он уставился на месяц и начал вслух думать, роняя бессвязные слова:
— Эвот ты куда взобрался, месяц-батюшка, какую высь. Поди, и деревню нашу видишь? Известно. Вот и скажи, крикни нашим-то, ведь рот у тебя, и глаза, и нос… Усмотрел, мол, я человека у костра, прозывается Степан Недокрытов, не вашей ли деревни он?
Степан помахал месяцу шапкой, силился улыбнуться, но улыбка вышла жалкая, плаксивая, язык заплетался, в отуманенной голове пляс и чехарда.
— Да ты ничего, понимаешь, такого не сказывай. Эй, месяц! Все, мол, честь честью… очень примечательно… Любови Офросимовне скажи, хозяйке моей… Сидит, мол, твой супруг, Степан Недокрытов, у костра, жив, здоров, и таковы ли радостные думы у него во всех мозгах… очень даже радостно у него на кипучем сердечушке… Так все чередом, брат, и обскажи… Могилкам тоже посвети, батюшке с матушкой. Пускай не дожидаются гостя во сыру землю, пускай одни полеживают… вот, вот… А ты зубы-то не скаль, знай слушай!
Степан огляделся кругом и зябко повел плечами: ему почудилось — живая тень бродит меж деревьев, прячется. Не медведь ли стервятник? Пусть, Степан не струсит. А может, леший-лесовой?
— Эй! — вскочил Степан, в сердце его бурлило. — Черт! Леший! Бери душу! Продаю! Отрекаюсь! Себя не жаль, товарища жаль… Бери! Только укажи дорогу. Брось водить. Не озоруй… Бери душу! Черт, сатана с хвостом! Кажи харрю! Эй!!! — И Степан по-цыгански свистнул.
— Степан, Степан! — резкий раздался Афонин голос. — Какие слова мелешь… Окстись!
Степан покачнулся. Словно проснувшись, он сразу отрезвел, пнул ногой пустую бутылку, подошел к Афоне и присел возле него на корточки.
— Тяжело чего-то стало, — тоскливо сказал он. — У души ноги ослабели, Афонюшка, не держат, в шат пошли.
В голубоватых зыбких далях посвистывало, пересмеивалось, пискливо завывало.
Афоня заохал, с боязнью перекрестился.
— Ну, как? — спросил Степан.
— Плохо. Порешился я весь.
Степан долго не мог заснуть. Месяц укатился за горы, Сохатый[1] перекинулся вправо. Степан лежал у потухшего костра, не смыкая глаз. Чертово гуканье затихло, тягучая настала тишина. Степан ворочался, приподымался, жадно затягивался трубкой, валился вновь. Он не находил себе покоя. Все внутри ныло, тосковало страшно. Хотелось схватить нож и разом покончить неодолимую тоску. Такого душевного состояния он сроду не знавал. Впрочем, года три назад его мучил сгнивший зуб. Степан бросался тогда от боли на стену, брал в рот ледяную воду, — боль вдруг стихала, но через мгновенье с удесятеренной силой валила его с ног. Потом, помнит, загнул железный гвоздь, вбил его под корень зуба и вырвал наболевшую гниль вместе с куском десны. Страдание кончилось.
— Ничего не остается, — сказал сам себе Степан, и рука его крепко сжала нож.
«Не смей», — ясно отпечаталось в самых ушах его.
Он боднул головой и стал напряженно вслушиваться. Было тихо. Над лесом тянули птицы, крылья их торопливо свистели в ночном воздухе. Отфыркивался конь.
— Матушка, матушка… Родимые мои детушки… Женушка ненаглядная, — шептал из-под шубы Афоня.
Степан различил ухом, как Афоня плачет, и настороженная рука Степана выронила жадный до крови нож.
IX
Утро было теплое, яркое, веселое. Степан встал бодрый. Отчаянье перегорело в нем и провалилось вместе с ночью в тартар. Он верил в настоящий день — будет удача; в жилах гуляет взбудораженная кровь, в небе горит солнце. Светло, тепло. День будет удачный, верный.
Степан выпил ледяной воды, взял ружье с последним зарядом дроби и, посматривая на сверкавшие снега перевала, уверенно зашагал сквозь лес. Он сейчас принесет козленка, либо зайца, либо большую птицу.
Последний выстрел будет смертелен.
Чтоб не заблудиться, он делает на деревьях затесы топором. Вот только мучает голод, подтянуло живот. Ничего, сейчас. Горячее варево, парное мясо. А пока он обламывает молодые нежные верхушки у приземистых елок, очищает их и с аппетитом ест.
Полянка, мох. Степан бросил взгляд в можжевеловый, облитый солнцем куст и замер. Под кустом кормилась крупная тетеря с цыпленком. Сердце заработало безостановочно, буйно. В глазах замелькали мухи, по пищеводу прокатилась судорожная волна, рот наполнился слюною.
«Афоня, Афонюшка, голубчик». И, припав к земле, Степан, как ящер, стал красться к добыче. Тетеря совсем близко. От нее наносит ветерком вкусный дух. Так, так. Сейчас зажарят и съедят.
Хрустнул под коленкой сук, тетеря сорвалась, заклохтала и, описав круг, вновь села к тетеревенку. Сзади чуфыркнул тетерев-черныш, тетеря чуть растопырила крылья и завертела головой. Степан, вновь вминаясь в мох и не дыша, ползет все ближе, ближе. Осталось шагов десять… Пора.
Цыпленку захотелось поразмяться: он вытянул одну ногу, потом другую и весь встряхнулся, как молодой щенок. Тетеря позвала его: «Клу, клу», — и клюнула ветку с кровавыми ягодами.
В Степане ожил голодный хищник, но от волнения, от бессонной ночи руки тряслись, и направленное в тетерю ружье ходило, как солома в ветер. С пихты, под которой притаился Степан, вдруг посыпалась хвоя: над самой головой его предупреждающе крикнул подлетевший тетерев. Тетеря тотчас отозвалась и приготовилась сорваться.
«А ну!»
Степан спустил курок и вместе с грохотом кинулся вперед. Тетеря снялась с места и полетела низом, в чащу, маня за собой тетеревенка. Тот с испуганным гвалтом носился меж кустов, удирая от настигавшего его врага.
«Врешь, не уйдешь!.. Стегнуло!»
Степан пал на него, он выскочил, понесся, Степан за ним.
«Ага! Папороток перешиблен!.. Папороток!»
Тетеревенок взлетел на сук, отдышался и, перепархивая с дерева на дерево, улетел на зов матери.
Степан, сжав кулаки, долго смотрел им вслед. Рот его был полуоткрыт. Потом свирепыми прыжками бросился к ружью, сгреб его в обе руки и, рыча, со всех сил стал бить им о дерево. Ложе — вдребезги, ствол изогнулся в колесо. Он отшвырнул изувеченную сталь и привалился плечом к сосне. Закрыл ладонями свое крупное бородатое лицо, ссутулил широкую спину, съежился и стал жалок видом. Крепкий, своевольный мужик не мог сдержать малодушного язвительного стона. Чтоб заглушить его, Степан до боли стиснул зубы, тогда из ноздрей вырвалось звериное мычанье. Степан хрипел, плевался. И вдруг сразу захотелось выкричать все, что накопилось внутри за сорокалетнюю жизнь его.
Тут представилась вся его каторжная участь, с малых лет и до последнего месяца, вся русская мужичья жизнь. Безземелье, голод, нищета. А кругом: болезни, смерть, тяжкий, черный труд впустую, из-за корки хлеба. И единая радость — царев кабак. И единая радость — на шею петля. Для чего ж родился, для чего он жил, слепой и темный? Ведь вот другие люди, в городах, — те все знают, им многое дано, вся мудрость жизни у них как на ладони.
«А мы кто? Ни зверье, ни люди… Эх! Скотинка, тварь…»
И лишь одна особая мысль кружилась над сердцем Степана. Издали, намеками, она хотела ему открыться — и не открывалась, не могла: так ласточка среди бушующего океана безнадежно ищет, куда присесть.
«Жалеючи шел. Для миру старался. Мужиков жалел…» — скользнуло было в сознании и пропало. Самое главное, огромное. И не осенило большим светом, и не оправдало: слишком темна была ночь в душе.
И вновь на маленькое, ничтожное, внутрь себя, внутрь своей личной жизни: тетеря, потерянная коробка с пистонами и порохом, неудачи.
Ноги его подгибались, плечо скользило по древесному стволу, он присел к самым корням и, стиснув голову руками, выл. Вой был темный, страшный, необузданный: все человеческое, все вечное тонуло в нем, оставалась одна земля, один допотопный зверь.
Потом быстро встал, вздохнул, отмахнулся рукой — разом все свалилось с крутых плеч — и твердым шагом пошел к костру. Был в душе холод, мрак, яркая ненависть к самому себе. Будь что будет, но он расквитается с собой. Он отрубит свою проклятую, предавшую его руку, он выткнет себе оба глаза. Он… О, погоди, погоди!
Афоня лежал с открытыми глазами.
— Что, милячок, каков? — спросил Степан ласково.
— Неможется мне.
— Ничего, как-нибудь. Недалечко теперь. Да и солнышко…
— Степанушка, мне плохо.
Губы Афони белы, лицо желтое, скуластое, щеки ввалились.
— Ничего, как-нибудь, — утешал его Степан, свернул шубы в торока и навьючил лошадь. — Пойдем.
— Не выдюжить мне… Я бы тут подождал тебя.
— Пойдем!
Афоня повиновался. Степан взял его под руку, Афоня пошатывался, охал. Степан ощущал через свою рубаху, как от тела друга пышет жаром.
— Как же мы с тобой в снегах-то поплетемся? Афоня, друг…
— Не знаю. Заслабел я шибко.
— А там, за хребтом, — кисельные берега, радуги, петухи индейские, калачи крупичатые на березах…
Степан говорил, как сказку сказывал, улыбаясь, заглядывал в его глаза. Афоня не говорил ни слова. Степан недоумевал: почему Афоня не спросит — где ружье?
Вот луга кончились, пошел крутой подъем, усеянный обломками скал и крупными откатными камнями. Начинался взъем хребта. Афоня едва переставлял ноги. Степан выбивался из последних сил, в глазах от голода темнело, голова кружилась, позванивало в ушах.
По пути в полугоре одинокая приземистая сосна. Она словно вышла из лесу прогуляться, да тут и расселась лениво: крут подъем. Афоня со стонами повалился в ее тень.
— Не пойду… Хоть зарежь… — и заплакал.
Солнце палило. С хребта струились по склонам ручейки — дозорные вечных снегов. Над разогревшимися камнями дрожал, переливался воздух. Под ногами Степана прошмыгнула зеленая ящерица. На соседний камень вскочила маленькая зверушка и посвистывала. Ей откликались другие свистунки.
Вверху, под бледно-голубым небом, кружился орел. Он видел холодные снега, тайгу, край неба, еще видел за хребтами — вот тут и есть, рукой подать — жилища людей, табуны, зеленое приволье. А вот и эти две серые, припавшие к земле козявки… живы! Раскидистым винтом, плавно орел спускался, орлиный клекот слетел к земле. Свистунчики стремглав, вниз головой, — за камни.
— Орел, — сказал Степан, подымая к небу взгляд.
Афоня молча лежал с открытыми мокрыми глазами.
— Как же быть, Афонюшка? Надо идти.
— Силушка кончилась. Нету силушки.
— Ты сам посуди, милячок: назад идти — об одном коне, без корму, ближний ли свет? И помыслить страшно. Нежить кругом, безлюдье.
— Ку-у-да тут, — уныло протянул Афоня.
— А тут, может, два шага — и жительство. Сказывал крестьянин, снега не широко лежат. Авось как ни то… А может, и повстречается человек какой, как знать?
— Может, и повстречается.
Степан говорил ровным голосом, улыбался через силу: хорошо он знал, что снеговой путь — убойный и человека встретить — не придется. Степан понимал, что с полумертвым другом далеко не уйдешь, что их жизнь оборвется скоро. Но не лечь же под сосну, вот тут, да скрестить на груди руки, ждать конца. Нет. Степан со смертью еще поспорит.
И вдруг:
«Убить коня».
Лицо его сразу прояснилось, глаза загорелись. Вот оно! Отъедятся, отдохнут, а там разыщут путь: с сытым брюхом куда угодно: вперед, назад.
— Посади ты меня на лошадь, — скрипуче заохал Афоня, — может, усижу.
— Дело, — согласился Степан, и мечта его камнем в омут.
«Нет, действительно не гоже… Назад без коня — голод замучит, вперед пешком — прямая смерть в снегах».
Едва хватило сил посадить в седло безжизненного Афоню. Степан задохнулся от натуги, присел на камень, обливаясь холодным потом. Мучил голод, ни на что бы не смотрел. Заморенный в тайге конь тоже обессилел: велик ли груз — высохший Афоня, а коню в тягость.
Подъем делался все круче, израненные ноги лошади отказывались служить. Пойдет, пойдет да станет… Степан понукает — стоит, дерет — стоит, только глазами говорит Степану: «Пожалей».
— Зарезать падину, съесть! — кричит Степан…
— Да я лучше на осине удавлюсь… Что я, турка, что ли? Тьфу!
Согнувшись в три погибели, обхватив лошадь за шею, Афоня был как мертвый, голова моталась.
— Привяжи! Свалюсь я… Ой, смерть… — как сквозь сон, тянул Афоня.
Становилось холодно, из балки, по которой подвигались, несло зимой.
Измученное тело Степана тоже требовало покоя, но, пока солнце высоко, надо залезть на хребты: авось сверху что-нибудь и досмотрит глаз. Авось…
X
Вот и снега. Белый, ослепительно сияющий погост. Степан щурится, едва перенося резкий свет, у Афони глаза прикрыты тряпкой. Вначале, по северному склону, плотный наст снега вздымал коня, но лишь перешли на солнце, конь сразу увяз по брюхо. Больших трудов стоило освободить его. Степан стал искать твердого места, но и сам провалился: снег раздрязг от солнца. На Степана напало равнодушие и желание все это разом кончить. Ему припомнилось предостережение мужика — не сворачивать с тропы: путь опасен, в ледниках встречаются огромные трещины, обманно перекрытые снегом: шагнешь — могила. Уж если сбились, надо друг с другом связаться веревкой, идти гуськом. Где она, тропа? Где веревка? Скорей бы провалиться.
А солнце снижалось, может быть, ночью станет твердый наст, но разве можно дожидаться ночи? Куда во тьме пойдешь, как заночуешь без огня?
Афоня совсем стал плох. Он стонал, хныкал, валился с лошади.
— Погубитель, погубитель… Что ты со мной делаешь? Куда завел? — бессвязно шептал он и, сорвав с глаз повязку, позвал шагавшего рядом Степана. — Степанушка, где ты? Не давай ему, не давай…
Степан шел, увязая вместе с лошадью, безжалостно хлестал ее по глазам плетью и не откликался. Лошадь вдруг ухнула передними ногами, с маху ударившись мордой о камень. Из рассеченной губы лилась кровь, лошадь вылизнула два выбитых зуба. Степан изозлился, исстегал ее. Выдираясь из густо рассеянных, прикрытых снегом камней, она оборвала себе все копыта, щурила поврежденный плетью глаз, поджимала больные ноги. Степан плюнул, бросил плетку, сел. В душе пустота: ни одного желания, ни одной мысли. Лицо его вспыхивало и бледнело, белки глаз покрывались желтым налетом. Он перестал себя чувствовать, обратился в пень: дерево срублено, пень будет торчать серой кочкой, пока метель не навеет над ним сугроб.
Афоня сполз с лошади и, скрючившись, валялся возле, прямо на снегу.
Вечерело. Лучи солнца косо ударяли в снег. Все заалело кругом. От грудастых сугробов и неровностей по алому полю ложились голубые тени, алмазы горели в снегу огоньками. Разливался зимний холод. Лошадь дрожала, от нее клубился пар. А позади, внизу, было лето, зеленела тайга, шумели травы.
— Мороз на дворе, зима… На печку бы…
Это Афоню мучила хворь, он бредил. Рука его самовольно поддевала снег, прикладывала к горячему лбу.
— Степан, — тихо позвал он, очнувшись. — Поди ко мне…
Степан взглянул на солнце.
— Ого! Фу ты, черт… Вечер! — и подошел к Афоне.
Афоня дрожал, глаза были возбужденные, большие, в темных кругах.
— Вот и отходили мы с тобой, Степанушка. Беловодью конец. Умираю. Трудно. Дух сперло.
«Баба… — подумал Степан. — Из-за тебя гибну», — и колючим взглядом в Афоню, как стрелой. Потом сказал, кривя губы:
— А ты верь. Что же ты хнычешь?
— Верю.
— Верь, верь. Авось бог валенки тебе пришлет, ангелы в баню поведут: парься! Эх, дура!
Молчание. Потом тусклый, рыхлый, как вата, голос:
— Смерть так смерть… Когда-нибудь надо же… За мир старались.
Трудно. Больной замолк, глаза закрылись, дышал тяжело, прерывисто.
Степан стоял в одеревенении.
— Жене моей кланяйся, батюшке кланяйся… — Афоня замотал головой.
— Отец твой давно померши. И жена также.
— Все равно кланяйся.
Степана что-то ударило в сердце.
— Скажи им, скажи…
Тут полились у Афони слезы, и лицо его исказилось.
Степан сказал:
— Пойдем.
— Закрой шубой, перекрести… Ступай.
— Пойдешь или нет?
Афоня молчал. Алые снега и небо вслушивались в человеческую речь, но были спокойны, холодны.
— Коня бросим. Я тебя поведу, пойдем. Я тебя, Афоня, на закукрах. Слышишь? Солнце закатится. Слышишь?!
Афоня заметался:
— Домой, домой! Я вперед тебя… Ковер какой — жар-птица… А ты верь, Петрованушка. Петрович… Ваня…
Степан снял с себя полушубок и сел перед умирающим на корточки. От Афони шел жар, дыханье вылетало хриплое, горячее. Степан укрыл товарища своим полушубком, огляделся вправо, влево и в одной рубахе неторопливо пошел вперед.
Идти было недалеко: громадная трещина саженной ширины пресекла путь. Она удалялась от Степана в обе стороны, и не видно ей конца-краю. Снег тут сдуло, обнажился темный лед. Острые, словно обсеченные, грани льда отвесно спускались в бездну, они отливали зеленоватым цветом, как бутылочное стекло.
Степан боялся подойти к обрыву: скользко. Он стал ползти. Заглянул в провалище. Бездонная тьма. Сделал руки козырьком, смотрел вниз пристально, долго. Тьма. Стало жутко. Вздрогнул и — ползком назад. Руки закоченели. Всего облепило холодом, сжало, заморозило. Степан взмахнул несколько раз руками, подпрыгивая и стараясь ударить себя по спине, чтобы согреться. Из груди мужика помимо его воли рванулся какой-то лающий, скулящий крик. Еще и еще. Зубы стучали. Степану ясно: это он скулит, его замерзающее тело мечется, требует: спаси, спаси. Вдруг как-то все ожило, все, что было позади, все вспомнилось. Назад бы, в жизнь бы! Глаза Степана расширились: «Помоги-и-те!» И другая, в левое ухо, кровь огнем кричит: «Так тебе, черту, так… Торчмя башкой… Ну!»
— Помоги-и-те!!
Резкий, отчаянный голос упал тут же, в ноги, и подхлестнул и взвил душу. Напряг Степан всю силу, какая еще оставалась в нем, какая была в этих алых сугробах, в морозе, в полумгле. Он решительно повернул назад и на бегу, не чувствуя пути, твердил одно и то же:
— Сам сдохну, а тебя, Афоня, выручу… Выручу, выручу, выручу…
Подбежав, он выхватил нож и полоснул в горло дремавшую лошадь. Рухнула, задрыгала ногами и, вывалив язык, грызла снег. Перерезанное горло ее хрипело, хлестала кровь в подставленные ковшом пляшущие пригоршни Степана. Жадно глотал кровь, захлебываясь и урча. И все закровенилось: лицо, борода, рубаха. Глаза пьянели, разжигались. В них быстро нарастала буйная, звериная мощь.
Степан перевел дыхание: «Сыт».
Афоня лежал под двумя шубами недвижимо.
— Афонюшка, товарищ… Повремени чуть-чуть, запри дух… Выручу, не умирай.
Осторожно стащил с него свой полушубок, оделся, плюнул в пригоршню теплой кровью, ударил ладонь в ладонь:
— Айда! Ррррработай!
И, не оглядываясь, только борода тряслась, ударился бежать вперед. Он знает: вот и край перевала. Увидит внизу: дым, огонь, жилище. Он будет звать на помощь, он скатится с кручи к жителям. «Братцы, спасайте человека! Человек замерзает, Афоня… Братцы!..» И чувствует, как коченеет, замерзает сам. Руки совсем зашлись, грудь едва дышит от усталости. Опять та проклятая щель. Как попасть? Волку не перепрыгнуть, широка… Дьявол!
И видит: там, за провалищем, на посеревшем небе, четко маячит всадник.
— Эй!.. — не веря глазам своим, радостно закричал Степан.
Но всадник не остановился.
— Эй! Стой! Стой!
Откуда-то пронесся ветер, взметнул снега, готовил к ночи вьюгу. Степан бросился вдоль бесконечной черной щели, отыскивал узкое место, чтоб перескочить.
— Стой!.. Стой!.. Стой!..
Ветер еще раз ударил вихрем, и не понять: сюда идет или удаляется всадник. Уходит. Ага! Вот, кажется, здесь поуже. Надо перескочить… Уйдет, уйдет…
Вся кровь ударила разом в голову, огонь метнул в глазах: «Спасай». Вложил пальцы в рот, свистнул оглушительно: «Сто-о-ой!!» — перекрестился.
— Эх, пропадай, душа… — и взвился над провалищем.
Страшный, смертный крик пронесся к всаднику. Всадник враз остановил коня.
XI
Сугробы алели.
Афоня подходил к нездешней, райской земле. Он шел по облакам, по тучам.
Пастухи попадались, гнали овец, шерсть на овцах серебряная. «Куда?» — «Туда». А тут медведь с исправником в орлянку бьются. «Поддайся, мишка, я исправник». И Афоня: «Поддайся». Глядит: медведь знакомый, — в третьем годе валенки ему, Афоне, подшил. «Маши крыльями, маши!» — кричит орел. «А скоро?» — «Бог даст, к вечеру».
Поля, поля… Будто все выжжено. Саранчи много на нивы пало, надлетают, ударяют Афоню в лоб. Афонин лоб звенит, как колокол: ба-а-ам. Мир поет: «Радуйся, Афоня, великий чудотво-о-рец»! — «А я ведь земли-то, братцы, не нашел… Сугроб нашел». Тут его схватили, начали трясти, бить, ругать. «Пустите! Эй, посторонитесь!» — взрявкал медведь.
В это время стало так темно, так одиноко. Кой-где, кой-где огоньки.
XII
— Нишяво, нишяво, лежи…
Было тепло и чисто. На столе шумел самовар, горы белых лепешек с творогом, кринки, мед. Против Афони, свернув ноги калачиком, сидел на полу татарин в тюбетейке, ласково смотрел на него.
— Помогать надо друг дружке, жалеть надо.
— А где товарищ мой, Степан?
— Какой товарищ? Нету товарища.
Едва шевеля языком, Афоня объяснил.
— Яман дело… Совсем наплевать… Уж десять дней притащил тебя… Давно… Нишяво, нишяво, лежи. Мой пойдет искать. Соседа забирал, шабра, с ним пойдем. Яман дело.
— Он за меня душу положил. Степан-то мой, — проникновенно, горестно сказал Афоня. — Сам загинул, а я живой… Собака я. — Он прикрыл глаза ладонью и всхлипнул.
— Который за людей сдохла, эвот-эвот какой большой, шибко якши, — дружески сплюнул татарин. — Шибко хорош, ой, какой хорош!..
— Из-за меня он… Собака я… — замотал головой Афоня. — Сидеть бы мне, собаке, дома.
Татарин опять сплюнул и сказал:
— Земля шибко якши тут… А-яй, какой земля, самый хорош. Работать мало-мало можна, денга колотить можна.
Афоня слушал, то закрывая, то открывая глаза. Хотелось повалиться в ноги этому черномазому скуластому человеку, что спас ему жизнь, и плакать, плакать.
— Нишяво, ладно. Конь твой кидать надо, махан, мало-мало помрил, горлам резал. Двух коней тебе дам: все равно зверь, все равно ветер… Вот какой. На! Денга не надо… Помогать надо. Вот-вот.
Афоня увидел на окне пороховницу Степана и коробочку с пистонами… Как?! Значит, они были у него, у Афони?! А где ж ружье? Но не спросил.
Опять вспомнился Степан, вспомнился белый погост в горах. Но волна ликующей радости, все побеждая, гулко била в берега.
1925