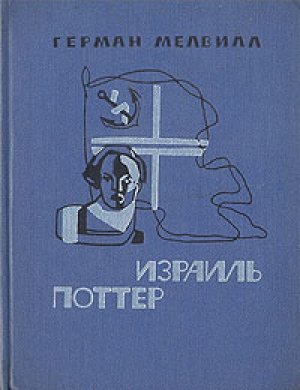
ПОСВЯЩЕНИЕ ЕГО ВЫСОЧЕСТВУ МОНУМЕНТУ НА БАНКЕР-ХИЛЛЕ,[1] [2]
Биография в самой чистой своей форме, когда описывается уже окончившаяся жизнь честных и храбрых людей, порой может явиться высшей наградой за добродетель, наградой и даваемой, и получаемой без всякой корысти, ибо ни биограф не может надеяться на благодарность того, о ком он пишет, ни тот, о ком пишет биограф, не может извлечь пользы из возданной ему хвалы.
Израиль Поттер вполне достоин этой дани уважения — сражавшийся при Банкер-Хилле рядовой, который за верную службу уже много лет назад был удостоен своих двух ярдов земли и посмертной пенсии (как не получавший ее при жизни), каковая ежегодно выплачивается ему весной через обновление травы и мха.
Я с тем большей надеждой осмеливаюсь сложить этот труд к ногам Вашего Высочества, что Оно само (если только изменить грамматическое число) хранит почти точную копию жизнеописания Израиля Поттера. Вскоре после того, как он дряхлым стариком вернулся на родину, краткая история его приключений, скверно напечатанная на рыхлой серой бумаге, появилась на лотках разносчиков, написанная, возможно, не им самим, а кем-то, кто выслушал эту историю из его уст. Но эта скромная хроника, как отпечатки костылей безногого у Светлых Врат,[3] бесследно стерлась из памяти людской. Рассыпавшаяся по листочкам книжечка, лишь случайно спасенная от рук мусорщиков, послужила основой для нижеследующего рассказа, который, если исключить несколько подробностей и добавлений как исторического, так и личного характера и одно-два изменения места действия, может, пожалуй, с полным на то правом считаться чем-то вроде реставрации старой могильной плиты.
Отлично понимая, что этот труд окажется достоин внимания Вашего Высочества, только если в нем будет соблюдена строгая верность оригиналу в главном и существенном, я нигде не пытался смягчить тяготы, выпавшие на долю моего героя; и особенно в конце, где я, хотя мне и нелегко было преодолеть искушение, все же не посмел заменить назначенную Провидением судьбу на измышленную во имя поэтической справедливости награду за страдания. Вот почему я первым готов оплакивать чрезмерную мрачность заключительных глав, вышедших из-под моего пера.
Таков труд и таков человек, которых я имею честь представить Вашему Высочеству. То, что его имя нельзя отыскать ни в одном из томов Спаркса,[4] может послужить, а может и не послужить поводом для удивления, однако Израиль Поттер как будто намеренно выжидал этого часа, чтобы предстать перед глазами публики под нынешним высочайшим покровительством, ибо Ваше Высочество, согласно вышеприведенному определению, может быть названо в самом благородном смысле этого слова Великим Биографом — национальным хранителем памяти тех неведомых солдат 17 июня 1775 года, которые, наверное, не получили иного воздаяния, кроме весомой награды, заключенной в Вашем граните.
Ваше Высочество простит меня, если я возьму на себя смелость присоединить к самым жарким хвалам по поводу столь знаменательного события также и мои сердечнейшие поздравления с годовщиной дня, который мы чествуем, и пожелать Вашему Высочеству (хоть Ваше Высочество и кажется безвременно седым) еще многих таких праздников — и пусть в каждый из этих дней летнее солнце сияет на Вашем челе столь же ярко, как легко ложится зимний снег на могилу Израиля Поттера.
Вашего Высочества
преданнейший и смиреннейший слуга
издатель.
17 июня 1854 года
Глава I
РОДИНА ИЗРАИЛЯ
Путешественник, который и в наши дни согласен путешествовать старым добрым азиатским способом, без помощи стремительного локомотива или неторопливой почтовой кареты, который охотно удовлетворяется ночлегом на уединенных фермах, вместо того чтобы оплачивать счета гостиниц, который не боится долгого одиночества и не отступает перед самыми трудными тропами или самыми суровыми горами, — такой путешественник мог бы найти обильную пищу для поэтических размышлений, созерцая поразительные ландшафты восточного Беркшира, что в штате Массачусетс, — края, из-за своей гористости и удаленности от всех путей сообщения столь же мало известного обыкновенным туристам, как, скажем, внутренние области Богемии.
К северу от городка Отис дорога на протяжении двадцати-тридцати миль пролегает по скалистому кряжу, который Зеленые горы[5] Вермонта протянули в Массачусетс. Пока вы едете там, вас все время не оставляет ощущение, будто вы очутились на одном из плоскогорий Луны. И кажется, что нет на свете ни плодородных низменностей, ни равнин, а может быть, и самой Земли. Изредка дорога внезапно ныряет в узкое ущелье, но потом впереди вновь возникают бесконечные гребни и склоны диких гор, а далеко-далеко внизу, под вашими ногами, лежит и сопутствует вам прекрасная долина Хусатоника.[6] И порой, когда ваш конь, поднявшись на широкий и ровный, как стол, уступ, устремляется веселой рысцой по пустынной, давно заброшенной дороге и ваш восхищенный взор охватывает расстилающиеся внизу просторы, вам вдруг кажется, что вы — Возничий, движущийся в небесной выси. А вокруг видны только леса и пастбища, и лишь редко-редко покажется среди них картофельное поле. Лошади, рогатый скот да овцы — вот главные обитатели здешних гор. Но весь год напролет над лесами курятся дымки, выдавая присутствие угольщика, этого отшельника наших дней, а ранней весной новые спирали дыма возвещают о том, что настало время варить кленовый сахар. Настоящим же земледелием здесь почти не занимаются. Во всяком случае, того, кто обрабатывает эту бесплодную каменистую почву, не ждет богатство, ибо все орошаемые земли тут истощены уже давным-давно.
Однако в те дни, когда страна еще только заселялась, этот край нельзя было назвать неплодородным. Именно здесь обосновывались первые поселенцы, руководствуясь соображением, которое, как хорошо известно, было для них решающим при выборе места жительства, а именно — всегда предпочитать нагорье низине, так как цветущие долины и речные поймы грозили вредоносными миазмами тем, кто нарушал их извечный покой. И все же постепенно они стали покидать надежный приют этих суровых высот и пренебрегать опасностями, которые таила более жирная земля низин. И вот теперь, в наши дни, немало этих горных селений являет вид горестного запустения. Их уделом всегда были лишь мир и здоровье, но в некоторых, хотя и не в главных, отношениях они сходны с областями, опустошенными моровой язвой и войной. Каждые две-три мили на вашем пути нет-нет да и попадется давно покинутое жилье. Эти добротно построенные старинные дома упорно сопротивляются разрушительному действию времени. Побуревшие и позеленевшие бревна словно вновь обросли корой и вносят свою лепту в живописность окружающего пейзажа. По сравнению с нынешними фермами эти дома кажутся огромными. И у всех них есть одна общая особенность: над серединой крыши, словно башня, поднимается печная труба, сложенная из светло-серого камня.
Везде вокруг можно заметить следы былого прилежного труда. Горы тут изобилуют строительным камнем, и поэтому изгороди чаще сооружались не из дерева, а именно из этого материала — столь же доступного, но гораздо более прочного. И до сих пор повсюду виднеются каменные стены, сложенные на диво ладно и надежно.
Однако количество и длина этих изгородей не более поразительны, чем размеры некоторых замурованных в них камней. Кажется, что тут работали могучие титаны. Если задуматься над тщанием, с каким горстка первых поселенцев (а их, конечно, могла быть здесь лишь горстка) огораживала столь неблагодарную землю, над этими поистине геркулесовскими подвигами, совершаемыми почти без всякой надежды на достойную награду, то в какой-то мере можно постигнуть дух людей эпохи нашей революции.
Трудно отыскать более достойную родину, чем этот суровый край, для столь несгибаемого патриота, каким был Израиль Поттер.
И в наши дни лучшие каменщики, как и лучшие лесорубы, выходят именно из здешних глухих горных селений, где обитает закаленное племя высоких силачей, которые владеют топором так же искусно, как индейцы томагавком, и ворочают камни с упорством Сизифа и мощью Самсона.[7]
В погожие июньские дни одетые цветами горы неописуемо красивы. Весна, достигающая этих высот уже перед самым своим уходом, изливает на них, подобно закату, самые чудные свои чары. Каждый кустик травы средь камней струит благоухание, словно пышный букет. Веет душистый ветерок, как будто медленно покачивается кадильница. Взгляд на длину орлиного полета охватывает змеящуюся цепь гор, которая протянулась от величественного лилового купола Таконика на юге — собора Святого Петра среди здешних гор — до двуглавой вершины Сэддлбека на севере, этой готической церкви Беркшира, воздвигнутой самой природой; а далеко внизу, на западе, Хусатоник вышивает свой причудливый узор среди живописных лугов, которые купаются в солнечном блеске, отраженном склонами гор вокруг. В это время года дорога не покажется вам пустынной, потому что все вокруг дышит красотой. И будь у вас власть населить этот край, вы не воспользовались бы ею. Когда все чувства блаженно впивают подобную прелесть, сердце не ищет иного собеседника, кроме природы.
С каким восторгом замечаете вы застывшего над глубоким ущельем или медлительно плывущего в небесной бездне над долиной Хусатоника одинокого величавого орла, которому с его недосягаемой вышины равно открыты и равнины, и горы! Или, быть может, с какого-нибудь утеса бросается на добычу ястреб, словно немецкий барон, выезжавший в старину на разбой из своего замка на берегах Рейна. Но порой, когда этот безжалостный хищник начинает описывать ленивые круги над ровной долиной, на него нападает ворона и с дерзкой смелостью принимается бить его клювом, и, как бы он ни храбрился, ему в конце концов приходится спасаться от нее в своем неприступном убежище. Никого не боящийся злодей, и достигнув предела доступной ему высоты, не в силах противиться этому угольно-черному символу смерти. Нет здесь недостатка и в других птицах, не таких больших и прославленных, но зато украшающих и без того красивый пейзаж, пусть и не прибавляя ему величия. Там и сям, словно крылатые маки, порхают щеглы, синяя сойка в траве кажется купой фиалок, а возвращающийся с луга в рощу красный реполов[8] мелькает среди деревьев, словно факел поджигателя. Воздух звенит от их трелей, и ваша душа радуется общей радости. И как пришелец, заслышавший дружный хор, вы уже не можете удержаться и не запеть, когда кругом звучит такая сладостная осанна.
Однако осенью веселые северяне-птицы возвращаются в свои южные владения. Унылая суровость одевает горы. Сырая мгла окутывает их глухим безмолвием. Густые туманы подстерегают путника на опасной тропе. Он ненадолго выбирается из них и видит перед собой серый опустевший дом, где у покинутого порога колышутся клубы облаков, — так колышутся они вокруг одиноких горных пиков, если смотреть на них с равнины. Или, спешившись, он берет под уздцы своего испуганного коня и осторожно сводит его в какую-нибудь мрачную расселину, где дорога внезапно ныряет под темные скалы только для того, чтобы тут же вновь взбежать вверх по крутому склону, и пока он опасливо выбирает путь, невольно испуганный угрюмостью окружающего пейзажа, вдруг перед ним у самой дороги вырисовывается в тумане призрачное пятно, и, приблизившись, он видит грубо отесанную плиту с корявой надписью и узнает, что лет пятьдесят-шестьдесят назад на этом месте опрокинулись сани с бревнами, насмерть придавив возницу.
Зимой этот край погребают снега. Непроходимые, недоступные, эти глухие, безлюдные тропы, которые к августу зарастают высокой травой, в декабре лежат глубоко под белым небесным руном. Словно океан отделяет жилье от жилья, на долгие недели отрезая их от всего мира.
Такой стала теперь родина нашего героя, которого его родители, достойные пуритане,[9] пророчески нарекли Израилем,[10] ибо более сорока лет бедняга Поттер был обречен бродить по бесплодной пустыне самых беспощадных зол и бед, какие только знает мир.
Разыскивая заблудившуюся отцовскую корову среди холмов Новой Англии, он не предвидел, что настанет день, когда его самого, беглого мятежника, будут разыскивать, как затравленного зверя, по градам и весям Старой Англии. И, блуждая осенью в горном тумане, он не догадывался, что куда более тяжкие испытания ждут его в трех тысячах миль отсюда, за морем, когда он, одинокий отщепенец, будет бродить в дымной мгле Лондона. Но так было решено судьбой. Этому маленькому мальчику, родившемуся и выросшему среди гор неподалеку от прозрачного Хусатоника, суждено было провести большую часть своей жизни пленником и нищим на грязных берегах Темзы.
Глава II
СОБЫТИЯ ЮНОСТИ ИЗРАИЛЯ
Воображение читателя без труда набросает картину детских лет Израиля, протекших на ферме. Так перейдем же сразу к периоду его возмужания.
По-видимому, Израиль начал свои странствия очень рано; ибо прежде, чем с полным на то правом сбросить иго своего короля, он вынужден был порвать путы родительской власти, что также вполне оправдывалось обстоятельствами. До восемнадцати лет он был покорным и почтительным сыном, но тут воспылал нежным чувством к дочери соседа, которую его отец по той или иной причине не считал подходящей для него невестой, так что после сурового нагоняя ему было строго-настрого приказано не видеться с ней больше под угрозой постыдного наказания. Однако девушка была не только красива, но и добра (хотя, как покажет дальнейшее, не отличалась твердостью характера) и происходила из вполне почтенной, хотя, к несчастью, и очень бедной семьи, так что Израиль счел требование отца жестоким самодурством. Он еще больше укрепился в этом мнении после того, как выяснилось, что отец тайно принял меры, чтобы поссорить его если не с самой девушкой, то с ее близкими и тем самым сделать в будущем их брак невозможным — ибо Израиль вовсе не намеревался жениться немедленно, но откладывал этот шаг до той поры, когда его можно будет назвать во всех отношениях благоразумным.
И вот отчаявшийся юноша принимает решение покинуть тирана отца и слабодушную возлюбленную и пуститься на поиски иного дома и новых друзей.
В воскресенье, когда его родные отправились в церковь, помещавшуюся в доме соседа-фермера, он завязал в платок кое-какую одежду и, взяв еще съестных припасов, спрятал все это в лесочке за домом. Вернувшись, он до девяти часов продолжал заниматься обычными делами, а потом сказал, что идет спать, тихонько выскользнул через черный ход и бросился в лесок за своим узлом.
Была душная июньская ночь; желая сберечь силы для следующего дня, Израиль улегся под сосной и уснул. Проснулся он только за час до рассвета и услышал тихие пророческие стоны сосны, разбуженной первым дыханием утра. И подобно ее вечнозеленой хвое, все фибры его сердца затрепетали, из его глаз полились слезы. Но он вспомнил суровую черствость отца, поведение своей возлюбленной, которое казалось ему предательством, и, вскинув узелок на плечо, зашагал вперед.
Израиль решил направить свой путь в малообжитой край, лежавший между голландскими поселениями на Гудзоне[11] и поселениями янки на Хусатонике. Так он рассчитывал сбить с толку своих преследователей. По той же причине первые десять-двенадцать миль он шел не по дороге, а напрямик через леса — он не сомневался, что дома его скоро хватятся и за ним будет послана погоня.
Его предприятие увенчалось успехом; месяц он батрачил у фермера, а когда урожай был убран, ушел из долины Гудзона к берегам Коннектикута. Познакомившись там с путешественником, который намеревался исследовать неведомые области у истоков этой реки, Израиль отправился с ним и много миль то усердно греб, то тянул лодку бечевой. Потом он вновь нанялся в батраки на три месяца, чтобы в конце этого срока получить вместо платы участок в двести акров в Нью-Гемпшире. Такая дешевизна земли объяснялась не только необжитостью этого края, но и опасностями, которыми он изобиловал. Тамошние глухие леса кишели хищными зверями, но не только они внушали страх немногочисленным поселенцам, знавшим, что стоит им забыть осторожность, как их могут убить или увести в плен канадские индейцы, которые со времен Французской войны[12] пользовались каждым удобным случаем, чтобы совершить набег на беззащитную пограничную область.
Однако хозяин Израиля не отдал ему обещанного участка, и, понимая, что ему нечего искать помощи у закона, Израиль (который, несмотря на всю свою храбрость — в минуты опасности даже бесшабашную, — много раз на протяжении жизни проявлял редкостное терпение и кротость) был вынужден отказаться от надежды расчистить среди лесов поле и построить себе там жилище и отправился искать иных средств пропитания. Как раз в это время отряд королевских топографов снимал карту верховий Коннектикута, и Израиль нанялся за пятнадцать шиллингов в месяц носить за ними мерные цепи, не подозревая, что настанет день, когда ему придется бряцать королевскими цепями в темнице, а не таскать их по доброй воле в родных лесах. Была уже середина зимы, и отряд передвигался на лыжах. К вечеру они разжигали костры из сухих сосновых сучьев, строили шалаш, готовили ужин и ложились спать.
Получив по окончании работ свою плату, Израиль купил ружье, порох и свинец и стал охотником. Оленей, бобров и всякого другого зверя водилось тут в изобилии. За два-три месяца Израиль добыл немало шкур. Я полагаю, ему и в голову не приходило, что таким образом он учится метко бить не красную дичь, а людей. Однако именно так приобретали сноровку те замечательные стрелки, чьи пули косили врагов при Банкер-Хилле, те охотники-солдаты, которым Путнем велел выжидать, пока они не различат белки вражеских глаз.[13]
На выручку со своей охотничьей добычи Израиль купил участок в сто акров ниже по реке, в местах, заселенных уже довольно давно, построил хижину и за два лета собственными руками расчистил тридцать акров под пашню. Зимой он охотился и ставил ловушки на пушного зверя. Через два года он продал свой участок, уже хорошо обработанный, прежнему владельцу, и эта сделка принесла ему пятьдесят фунтов чистой прибыли. Захватив всю свою наличность и меха, он отправился в Чарлстаун на Коннектикуте (называемый иногда «Четвертым номером»)[14] и превратил их в индейские одеяла, краски и разные яркие предметы, пригодные для торговли с дикарями. К этому времени вновь наступила зима. Уложив свой товар на санки, Израиль пешком направился к канадской границе — коробейник диких лесов, останавливающийся перед вигвамами, а не перед крестьянскими домиками. Будь это летом, Израиль погрузил бы свои товары в тачку и катил бы ее через дремучие чащи с тем же равнодушным спокойствием, с каким городской носильщик катит свою тачку по булыжной мостовой. Вот так наши предки обретали ту уверенность в себе и тот независимый дух, которые помогли им завоевать свободу для родной страны.
Это его канадское предприятие оказалось чрезвычайно удачным. Продавая свои пестрые товары с большой наценкой, Израиль брал взамен дорогие шкуры и меха с соответствующей скидкой. Возвратившись в Чарлстаун, он весьма прибыльно продал этот обратный груз. А затем с легким сердцем и тяжелым кошельком отправился навестить невесту и родителей, о которых три года не имел никаких известий.
Когда они его увидели, их радость могла сравниться только с их удивлением — ведь Израиля уже давно считали мертвым. Однако его возлюбленная по-прежнему была робка и боязлива: она как будто и соглашалась, и в то же время почему-то уклонялась от решительного ответа. Былые интриги начались вновь. Израиль скоро открыл, что его отец, хоть он и очень обрадовался возвращению блудного сына (как не преминули назвать Израиля соседи), по-прежнему и слышать не желал об этом браке и по-прежнему тайно препятствовал ухаживаниям молодого человека. Израиль печально смирился с этой, как ему казалось, роковой неизбежностью и вновь принял решение уйти отсюда, покинуть голубые горы ради синих волн морских — ему легче было самому пойти навстречу опасности, нежели навлечь ее на других, попытавшись настоять на тех правах, которые давало ему совершеннолетие (ему уже исполнился двадцать один год).
Черствый мизантроп укрывается в лесной хижине отшельника, благородные же натуры в печали ищут приюта на койке моряка. Океан исполнен такого горя и несчастий, что в этой водной необъятности ужасов горе одного человека теряется подобно капле.
Добравшись пешком до порта Провиденс в Род-Айленде, Израиль нанялся матросом на шхуну, которая направлялась к островам Вест-Индии с грузом извести. На десятый день плаванья судно загорелось, потому что в известь проникла вода. Потушить пожар не удалось. Спустили шлюпку, но от долгого пребывания под лучами солнца она рассохлась, и из нее все время приходилось вычерпывать воду. В шлюпку успели погрузить только ящик масла и небольшой бочонок с пресной водой. И вот с такими-то запасами восемь человек команды доверили свою жизнь дырявой посудине и волнам — ведь ближайший берег находился от них на расстоянии многих миль. Когда шлюпка проходила под пылающим бушпритом, Израиль успел ухватить кусок кливера — этот парус сорвался со своего леера, потому что фал перегорел над самой палубой. Покрытый сажей, обугленный по краям кусок парусины сослужил им в пути хорошую службу. Впрочем, Провидение сжалилось над ними, и на второй день их подобрал голландский корабль, державший путь из Юстейшии[15] в Голландию. С потерпевшими крушение обошлись очень приветливо и снабдили их всем необходимым. А в конце недели, когда простодушный Израиль, устроившись на грот-марсе, раздумывал о том, что ожидает его в Голландии, и прикидывал, хороша ли охота на оленей и бобров в этой дикой, необжитой стране, на горизонте вдруг показался американский бриг, направлявшийся из Пискатакуа[16] в Антигуа.[17] Американец взял их на борт и благополучно доставил в порт своего назначения. Там Израиль устроился на судно, шедшее в Порто-Рико, а оттуда отплыл в Юстейшию.
Одно плаванье следовало за другим; наконец он нанялся на нантакетскую шхуну и в течение шестнадцати месяцев охотился на китов у Западных островов[18] и у африканского побережья. В Нантакет[19] они вернулись с полным трюмом. На этом острове Израиль перешел на другое китобойное судно, отправлявшееся в Южный океан.[20] Там произведенный в гарпунеры Израиль продолжал упражнять приобретенные на охоте зоркость глаза и твердость руки, по-прежнему неведомо для себя готовясь к сражению при Банкер-Хилле.
За время этого последнего плавания нашему искателю приключений довелось испить полную чашу невзгод и лишений, которые терпит китобой в отдаленных и свирепых морях, — невзгод и лишений, забытых в наши дни, когда наука десятками способов смягчила страдания моряков и облегчила их труд. По горло сытый океаном и стосковавшийся по лесам Израиль взял по возвращении в Нантакет полный расчет и поспешил в свои родные горы.
Но если он возвращался на крыльях надежды, мечтая наконец назвать любимую своей, то этой надежде не было суждено сбыться. Она не дождалась его, она стала женой другого.
Глава III
ИЗРАИЛЬ ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА ВОЙНУ; И, ПОПАВ НА БАНКЕР-ХИЛЛ КАК РАЗ ВОВРЕМЯ, ЧТОБЫ ОКАЗАТЬСЯ ТАМ ПОЛЕЗНЫМ, ВСКОРЕ ВЫНУЖДЕН ОТПРАВИТЬСЯ ЗА МОРЕ ВО ВРАЖЕСКУЮ СТРАНУ
Если бы Израиль предался теперь бесплодным сетованиям, глубокие борозды пролегли бы по его челу. Но он подавил сердечную боль и предпочел сам прокладывать борозды, идя за плугом. Крестьянский труд рассеивает печали. Это мирное занятие сочетается лишь с мирными размышлениями. А кроме того, засевая матерь-землю, человек пожинает урожай — не так, как на других поприщах, где молодые всходы нередко бывают безжалостно вырваны с корнем. Однако если блуждания по лесной глуши и странствия по водам, если расчистка полей, охота, кораблекрушение, погоня за китами и все другие его приключения не смогли излечить беднягу Израиля от любви, ставшей отныне безнадежной, то теперь уже надвигались события, которым суждено было бесследно ее поглотить.
Шел 1774 год. Давние нелады между колониями и Англией сменились открытой враждой. Вот-вот должна была вспыхнуть война. Американцы неустанно готовились к ней. Почти во всех городах Новой Англии формировались отряды добровольцев, которых называли «минитменами» — «мгновенными», потому что они обязывались выступить в поход по первому зову, не теряя ни мгновения. Израиль, последние полтора года работавший на ферме в Виндзоре, записался в отряд полковника Джона Паттерсона из Леннокса — впоследствии генерала Паттерсона.
Девятнадцатого апреля 1775 года произошла битва при Лексингтоне;[21] известие о ней достигло графства Беркшир двадцатого около полудня. На заре следующего дня Израиль надел ранец, вскинул на плечо мушкет и явился в свой отряд, который вскоре уже направлялся форсированным маршем к Бостону.
Как и Путнем,[22] Израиль услышал тревожную весть, когда шел за плугом. Однако, хотя ему не меньше Путнема хотелось тут же устремиться в бой, он прикинул, что неконченой осталась только одна полоска, стегнул быков и допахал клин. Он не мог последовать призыву нового долга, пока прежний оставался невыполненным, и, перед тем как задать таску англичанам, практики ради начал со своих быков. И с мирного поля земледельца он поспешил на поле брани, где струилась кровь, а не пот. Мы прославляем шелка и бархат, но вспомним, скольким мы обязаны грубому сукну!
Несколько дней полк Израиля вместе с отрядами из других мест провел в лагере под Чарлстауном.[23] Семнадцатого июня тысячу американцев, включая полк Паттерсона, послали укреплять возвышенность Банкер-Хилл. Они работали всю ночь напролет, и перед зарей редут был уже закончен. Однако подробности этой битвы известны всем. Здесь достаточно будет упомянуть только, что Израиль был среди тех стрелков, которых Путнем призвал ждать, пока враг не подойдет совсем близко. Израиль был кроток и терпелив со своим тираном отцом и неверной возлюбленной, никогда не перечил хозяину на ферме, но в сражении при Банкер-Хилле он превратился в совсем другого человека. Путнем приказал своим стрелкам целиться в офицеров — и Израиль целился между золотых эполет, как в бытность свою охотником он целился между рогов оленя. Английские гренадеры, выказывая упрямое пренебрежение к врагу, поднимались по склону с хмурой медлительностью, беспечно подставляя себя под мушкеты, которыми щетинился редут. Скромный Израиль впоследствии говаривал, что ему, как бывалому охотнику, не к лицу было бы оказаться плохим стрелком, и намекал, что каждый выстрел, который он делал по гренадерам в золотых эполетах, при других обстоятельствах приносил бы ему оленью шкуру. И подобно раненым оленям, безрассудно храбрые англичане бежали, не выдержав меткого огня. Однако порох у стрелков кончился, и началась рукопашная. На двадцать американских мушкетов едва ли нашелся бы и один штык. Но грозные фермеры, скинув куртки и шляпы, пролагали себе путь сквозь толпу гренадеров в меховых шапках прикладами, словно охотники за тюленями, которые глушат свою добычу дубинами на прибрежных песках. В гуще схватки Израиль, стараясь вырвать свой схваченный врагом мушкет, вдруг заметил, что у самой земли его щиколоткам угрожает узкое стальное лезвие. Полагая, что какой-нибудь смертельно раненный англичанин пытается из последних сил нанести ему удар, он выпустил мушкет и вырвал шпагу, но тут же обнаружил, что доблестная рука, сжимавшая ее, уже никогда не будет владеть никаким оружием. Эта рука, как свидетельствовала кружевная манжета, была отделена от плеча какого-то английского офицера в самый разгар схватки, но пальцы ее продолжали крепко сжимать шпагу. В это мгновение голову Израиля чуть было не поразила шпага другого — живого — офицера. Однако родственная сталь успела отбить удар, и офицер пал от братского оружия, служившего теперь врагу. Но Израиль также не вышел из боя целым и невредимым. Рана над правым локтем, глубокий порез, который шпага офицера оставила на его груди, мушкетная пуля в бедре и вторая огнестрельная рана в лодыжке той же ноги — таковы были свидетельства неустрашимости, которые наш Сициний Дентат[24] вынес из этого достопамятного сражения. Тем не менее он сумел вместе с товарищами добраться до Проспект-Хилла и оттуда был отправлен в лазарет, находившийся в Кеймбридже.[25] Хирург извлек пулю из бедра, перевязал остальные, не столь опасные раны, и Израиль, хотя он сильно страдал из-за разбитой лодыжки (хирург вынул из раны несколько осколков кости), все же довольно быстро поправился, благодаря могучему здоровью и хорошей крестьянской крови, так что смог вернуться в свой отряд, который строил редуты на Проспект-Хилле. Банкер-Хилл находился теперь во власти англичан, в свою очередь возводивших на нем укрепления.
Третьего июля с юга прибыл Вашингтон[26] и принял команду над войсками. Израиль был свидетелем радостного приема, который оказали генералу все отряды, оглушительно кричавшие «ура!»
Осажденные в Бостоне англичане испытывали большой недостаток продовольствия. И Вашингтон принимал все меры, чтобы не дать им пополнить свои запасы. Отрезать подвоз по суше было простым делом. А чтобы они не получили помощи с моря от сторонников короля и других недовольных, генерал снарядил три вооруженных капера,[27] которым было приказано перехватывать все подозрительные суда. Одним из каперов, десятипушечной бригантиной «Вашингтон», командовал капитан Мартиндейл. У него не хватало матросов. Решено было набрать добровольцев среди солдат. Израиль сразу же вызвался пойти служить на бригантину, считая, что, как опытный моряк, он не имеет права уклониться, хотя эта новая служба была ему вовсе не по вкусу.
Через три дня у входа в Бостонский порт бригантину захватил вражеский двадцатипушечный корабль «Фой». Израиль попал в плен вместе с остальной командой и был доставлен на борт фрегата «Тартар», немедленно отплывшего в Англию.
На нем находилось семьдесят два пленных. Когда «Тартар» вышел в море, пленные, которых возглавил Израиль, замыслили захватить корабль, однако их выдал ренегат-англичанин. Израиля, как зачинщика, заковали в цепи и не сняли их даже, когда фрегат стал на якорь в Портсмуте. Там его вывели на палубу, и, возможно, его постигла бы ужасная судьба, если бы во время расследования не выяснилось, что англичанин не только предал свою названую родину, но прежде дезертировал из армии своей настоящей родины. Израиля освободили от оков и отправили в морской госпиталь на берегу, где почти все пленники вскоре заразились оспой, скосившей треть из них. Стоит ли говорить о Яффе![28]
Тех, кто остался в живых, увезли в Спитхед и поместили на понтон. И там, в темном брюхе корабля, погруженном в свинцовое море, наш Израиль томился целый месяц, словно Иона в чреве китовом.[29]
Но вдруг в одно прекрасное утро Израиля требуют на палубу. На командирском катере заболел гребец, и бывшему моряку предстоит его заменить.
Офицеры сходят на берег, и кто-то из гребцов — а все они, как на подбор, веселые молодцы англичане — предлагает отправиться в соседний кабак и выпить кружку-другую доброго эля в приятной компании. На том и порешили. Они идут в кабак, и с ними — Израиль. У самых дверей наш пленник вдруг ощущает потребность еще более настоятельную. Ему верят и разрешают на минуту уединиться. Но Израиль, едва увидев, что его спутники скрылись в кабаке, пускается бежать во весь дух и пробегает четыре мили (так он впоследствии утверждал), ни разу не остановившись. Он решает направиться в Лондон, мудро рассудив, что в толчее столицы его невозможно будет разыскать.
Когда Израиль, по его расчетам, удалился от кабака, где расстался с гребцами, на полных десять миль, он уже не торопясь проходит мимо придорожной харчевни в небольшой деревушке, полагая себя в полной безопасности, как вдруг… что он слышит?
— Эй, матрос!
— Ошибка! — отвечает Израиль и прибавляет шагу.
— Стой!
— Если ты займешься своими делами, я попробую заняться моими, — отвечает Израиль невозмутимо. И тут же вновь припускает во весь дух, мчась со скоростью тридцать миль в час или только чуть-чуть меньше.
— Держи вора! — раздается позади него. Из домов на дорогу высыпают люди. Затравленный олень пробегает еще милю, но тут его ловят.
Решив, что притворством делу не поможешь, Израиль смело признается в том, что он — военнопленный. Офицер (добрая душа, как оказалось) приказывает отвести его назад в харчевню, а там говорит хозяину, что это, несомненно, янки самых чистых кровей, и требует горячительных напитков, чтобы Израиль мог освежиться после своей пробежки. Затем он приставляет к нему двух солдат. Дело уже идет к вечеру, и до самой ночи в харчевне толпятся любопытные, явившиеся поглазеть на мятежного янки, как они учтиво его именуют. Эти честные поселяне, по-видимому, воображали, что янки — это какое-то лесное зверье, вроде опоссумов или кенгуру. Однако Израиль держится с ними самым дружеским образом. Возможно, вино, которое он получил из рук своего преследователя, пробудило в нем теплые чувства и ко всем остальным его врагам. И все же это, пожалуй, не совсем так. Мы еще узнаем. Во всяком случае, мысли его заняты только одним — как бы ускользнуть. И шутки, и оскорбления зевак он пропускает мимо ушей. А сам обдумывает хитрый план.
Добрый офицер — столь же верный королю, своему господину, сколь и снисходительный к пленнику, которого он лишил свободы, как того требовал его долг, — перед уходом распорядился, чтобы Израилю подавали в этот вечер столько вина, сколько он захочет. И вот Израиль заказывает кувшин за кувшином, приглашая своих стражей пить и веселиться. Потом какой-то местный шутник заявляет, что Израилю следует позабавить честную компанию и сплясать джигу: он (шутник) слыхал, что янки — редкостные танцоры. Приносят скрипку, и бедняга Израиль выходит на середину комнаты. Его возмущает черствость этих людей, потешающихся над несчастным пленником, и, выделывая всякие коленца, он продолжает обдумывать свой план, твердо решив вскоре показать своим врагам, что янки знают такие танцы, какие им в их простодушной мудрости и не снились. Они же требовали, чтобы он плясал, не останавливаясь, пока наконец пот не закапал даже с кончиков льняных прядей его жестких волос. Однако, хотя Израиль в избытке обладал кротостью голубя, не был он обойден и мудростью змеи. И, с удовольствием глядя на пенящиеся кружки, он радуется тому, что из него вместе с испариной вышел весь хмель.
Компания расходится чуть ли не в полночь. На пленника надевают наручники и стелят ему одеяло возле кровати, на которой предстоит почивать его двум стражам. Израиль смиренно благодарит за одеяло и с притворной беззаботностью укладывается на него. Проходит час, за ним другой. Деревушка давно затихла.
Теперь настала решающая минута. Израиль ясно понимал, что, если не воспользоваться этим удобным случаем, второго, наверное, уже не представится. Если ничего не случится, завтра же утром солдаты отведут его назад в Спитхед, и он останется в этой плавучей тюрьме до самого конца войны — быть может, на долгие-долгие годы. Стоило Израилю вспомнить гнусный понтон, и он преисполнился решимости бежать во что бы то ни стало. Однако для этого требовалось не только бесстрашие, но и осторожность. Солдаты легли спать, совсем охмелев. Это обстоятельство внушало Израилю надежду. Но с другой стороны, это были рослые молодцы, а ему мешали наручники. Поэтому он решил сперва прибегнуть к хитрости, а силу пустить в ход только в случае неудачи. Он лежал, жадно прислушиваясь. Один из пьяных солдат начал бормотать во сне — сперва тихо, а потом все громче и громче: «Держи их! Хватай! Навались! А-а, ножи! На, получай, не будешь больше бегать!»
— Чего это ты, Фил? — икнув, спросил второй солдат, еще не успевший заснуть. — Закрой пасть, а? Тут тебе не Фонтенуа.[30]
— Пленный сбежал, слышишь? Держи его, держи!
— Чудится тебе спьяну невесть что! — И, еще раз икнув, его товарищ принялся расталкивать спящего. — Меру надо знать, понял?
Вскоре первый солдат оглушительно захрапел. Но по дыханию второго Израиль догадывался, что тому не спится. Несколько минут он размышлял, как поступить, и в конце концов решил испробовать прежнюю уловку. Окликнув своих стражей, он сообщил им, что ему необходимо немедленно удалиться на двор.
— Да проснись же, Фил! — рявкнул бодрствовавший солдат. — Этот молодчик просится по нужде. Черт бы побрал всех янки! Невежи, одно слово — посередь ночи вскакивать по естественной надобности. Ничего тут естественного нет; совсем даже неестественно. Сукин ты сын, янки, и не стыдно тебе?
И, продолжая всячески укорять Израиля, солдаты кое-как поднялись на ноги, уцепились за своего пленника и повели его по лестнице вниз, а потом по длинному коридору к черному ходу. Но едва солдат, шедший впереди, отодвигает засовы, как скованный Израиль вырывается из рук второго солдата, ударяет его головой в живот, так что он отлетает в глубь коридора, затем бросается вперед — и первый солдат летит кувырком на землю, а Израиль перепрыгивает через него и слепо кидается в ночной мрак. Еще миг — и он у забора. Темень такая, что разглядеть, где тут калитка, невозможно. Однако возле забора растет яблоня. Как ни мешают ему наручники, Израиль вскарабкивается на нее, перебирается на забор, даже не осмотревшись, спрыгивает на другую сторону и в который раз припускается во весь дух. Тем временем два одураченных пьяницы, громко вопя и шатаясь, обыскивают сад за харчевней.
Пробежав две-три мили и не слыша позади шума погони, Израиль останавливается, чтобы избавиться от наручников, которые очень его стесняют. В конце концов, после долгих мучений, это ему удается. Затем он вновь бросается бежать, а занявшаяся заря льет свои первые лучи на ровно подстриженные изгороди и на весь прелестный пейзаж, который дышит безмятежным покоем и уже разубран свежими красками ранней весны — весны 1776 года.
«Ах ты, батюшки! — подумал Израиль, задрожав. — Теперь уж мне не спастись. Угораздило же меня забраться в парк какого-то вельможи!»
Однако через несколько минут он вышел на проезжую дорогу и понял, что, несмотря на всю эту красоту и аккуратность, перед ним обычная сельская местность, каких много в Англии, этом обширном ухоженном парке, обнесенном оградой из волн морских. На деревьях возле дороги лопались почки. Каждый еще не развернувшийся листок как раз вырывался из своей тюрьмы. Израиль поглядел на новорожденные листочки, опустил глаза на новорожденную травку, бросил взгляд на новорожденную зарю — все это дышало таким весельем, а его угнетала такая печаль, что он разрыдался как дитя, и воспоминания о родных горах нахлынули на него могучим потоком. Однако, справившись со своими чувствами, он продолжил путь и вскоре поравнялся с полем, на котором виднелись две фигуры. Израиль заметил розовые щеки, короткие сильные ноги в синих чулках, открытые чуть ли не до колена, грубые белые балахоны и широкополые соломенные шляпы, заслонявшие от него почти все лицо.
— Простите, сударыни, — не без галантности начал Израиль, сдергивая шапку. — Скажите, пожалуйста, ведет ли эта дорога в Лондон?
При этом приветствии фигуры повернулись в тупой растерянности, которая немедленно отразилась и на лице Израиля, так как ему стало ясно, что перед ним не женщины, а мужчины. Его сбили с толку балахоны, скрывавшие короткие, до колен, штаны, которые эти крестьяне носили вместо привычных ему длинных панталон.
— Прошу прощения, сударыни, но я принял вас не за то, что вы есть, — объяснил Израиль.
Снова на него уставились две пары угрюмых, недоумевающих глаз.
— Эта дорога ведет в Лондон, господа?
— Господа… Ишь ты! — воскликнул один из крестьян.
— Ишь ты! — повторил его товарищ.
Воткнув мотыги в землю, они принялись неторопливо рассматривать Израиля и скрести затылки под соломенными шляпами.
— Так как же, господа? Ведет она в Лондон? Сделайте такую милость, ответьте бедному человеку.
— Тебе, значит, в Лондон нужно, так, что ли? Ну вот и иди себе, иди.
И без дальнейших разговоров два вола в человечьем обличье, чье деревенское любопытство было теперь полностью удовлетворено, с неподражаемой флегмой снова взялись за свои мотыги, нимало не сомневаясь, что сообщили незнакомцу все требуемые сведения.
Вскоре после этого Израиль миновал старинную темную часовенку с обомшелыми стенами. На крыше ее лежал слой сырых пожухлых листьев, которые прошлой осенью осыпались с могучих ветвей старых корявых деревьев, росших позади нее. Минуту спустя Израиль очутился в деревне. Ее еще одевала тишина раннего утра. Но кое-где уже мелькали человеческие фигуры. Заглянув в окно пока еще безмолвного кабака, Израиль разглядел стол, заставленный пустыми кружками и кувшинами, между которыми виднелись кучки табачного пепла и трубки с длинными мундштуками — некоторые были сломаны.
Задержавшись там на мгновенье, он пошел дальше и вдруг заметил, что на противоположной стороне улицы стоит какой-то человек и пристально на него смотрит. Тут Израиль сообразил, что до сих пор разгуливает в одежде английского матроса и это не может не привлекать к нему внимания. Отлично понимая, какой бедой грозит ему этот наряд, Израиль ускорил шаги, чтобы побыстрее уйти из деревни. Он твердо решил при первой же к тому возможности сменить платье. Примерно в миле от деревни он встретил на пустынной дороге старика землекопа, который брел к месту своей работы, пошатываясь под тяжестью мотыги, кирки и лопаты — сущее воплощение беспросветной нужды и горя. Одет он был в жалкие лохмотья.
Поравнявшись со стариком, Израиль пожелал ему доброго утра и спросил, не согласится ли он поменяться с ним платьем. Его собственный костюм по сравнению с одеянием землекопа казался поистине княжеским, и Израиль рассудил, что из корысти старик промолчит об этой сделке, какой бы подозрительной она ему ни показалась. Итак, они укрылись за изгородью, и вскоре Израиль появился из-за нее самым жалким оборванцем, а старый землекоп заковылял в противоположном направлении, облаченный в одежду, которая могла бы показаться вполне благопристойной, если бы не сидела на нем столь нелепо: широченные штанины матросских брюк плескались вокруг его тощих ног, а в куртке он просто тонул. Но Израиль! Какой плачевный, надрывающий душу вид! Он и не подозревал, что эти гнусные лохмотья как нельзя более подходили для ожидавших его бесконечных и тягостных лишений: краткие месяцы приключений и странствий и сорок мертвящих лет нищеты. Куртка состояла из сплошных заплат. И ни одна заплата не была похожа на другую, и ни одна не совпадала по цвету с материей, из которой некогда была сшита куртка. Ветхие штаны зияли прорехой на колене; у длинных шерстяных чулок был такой вид, будто им не раз пришлось послужить на своем веку мишенью. Израиль, казалось, во мгновение ока превратился из молодого человека в дряхлого старца; ему можно было дать теперь восемьдесят лет. Впрочем, впереди его ждала тяжкая, неизбывная беда, а истинная старость приходит с бедой, постигает ли она человека в восемнадцать лет или в восемьдесят. И для подобной судьбы наряд этот был самым подходящим.
От своего нового приятеля-землекопа Израиль узнал прямую дорогу к Лондону, до которого теперь оставалось около семидесяти пяти миль. Старик сообщил ему, кроме того, что в округе полно солдат, усердно разыскивающих дезертиров из армии и флота, потому что за их поимку полагалась награда, точь-в-точь как в тогдашнем Массачусетсе — за каждого убитого медведя.
Взяв со старика клятву ничего не говорить, если у него вдруг начнут выспрашивать, не встречал ли он такого вот человека, наш искатель приключений бодро зашагал дальше, немного повеселев, так как после переодевания он почувствовал себя в сравнительной безопасности.
За этот день Израиль прошел тридцать миль. Ночью он забрался в сарай, рассчитывая устроить себе постель из сена или соломы. Но была весна, и в сарае не осталось ни клочка сена. Пошарив в темноте, он обрадовался, что наткнулся хотя бы на недубленую овчину. Замерзший, голодный, усталый Израиль то и дело просыпался от боли в стертых ногах и мечтал только об одном — чтобы скорее настало утро.
Едва в щели просочился рассвет, как он снова отправился в путь. Завидев впереди довольно большую деревню, Израиль, чтобы усыпить возможные подозрения, соорудил себе клюку и побрел по улице, старательно притворяясь хромым. За ним немедленно увязалась назойливая собачонка и провожала его до конца деревни, злобно тявкая. Израилю очень хотелось огреть ее клюкой, но он рассудил, что бедному старому калеке такая вспыльчивость не к лицу.
Через две-три мили показалась новая деревня. Когда он, по-прежнему хромая, брел по ее главной улице, его вдруг остановил настоящий калека, тоже одетый в лохмотья, и сочувственно спросил, почему он стал колченогим.
— Костоеда, — объяснил Израиль.
— Вот и у меня та же болесть, — просипел калека. — Да только ты хромаешь пожалуй что и посильнее моего, — с печальным удовольствием добавил он, оценив критическим оком хромоту Израиля, когда тот поспешно заковылял прочь. — Да погоди, приятель, куда это ты торопишься?
— В Лондон, — ответил Израиль, оборачиваясь и от души желая, чтобы старик очутился где-нибудь подальше.
— Так на одной ноге и поскачешь до самого Лондона? Ну что же, помогай тебе бог.
— И вам тоже, сэр, — вежливо ответил Израиль.
В самом конце деревни счастье ему улыбнулось: из проулка на большую дорогу выехал громоздкий фургон и повернул в сторону Лондона. Израиль тут же принимается хромать самым жалостным образом и смиренно просит возницу подвезти несчастного калеку. Он забирается в фургон; но проходит не так уж много времени, и, обнаружив, что слоноподобные битюги шагают с томительной неторопливостью, Израиль просит разрешения сойти, отбрасывает клюку и удаляется твердым и быстрым шагом, к немалому удивлению честного возницы.
От этой поездки в фургоне, по крайней мере, была одна польза: когда они достигли третьей деревни (расположенной совсем близко от второй), Израиль не преминул лечь на дно фургона, так что его никто там не видел.
Его очень удивляло такое большое число деревень и их близкое соседство — у себя на родине ему ничего подобного видеть не приходилось. Отлично понимая, что в деревне его скорее могут схватить, Израиль теперь, едва завидев впереди селение, сворачивал в поля. Это не только удлиняло путь, но и сильно замедляло его передвижение, так как ему то и дело приходилось преодолевать всякие неожиданные препятствия: изгороди, канавы и ручьи.
Через полчаса после того, как он бросил клюку, ему пришлось перепрыгнуть через канаву в десять футов шириной, наполненную жидкой грязью, глубина которой, к счастью, осталась ему неизвестной. «Теперь небось старый калека не сказал бы, что я хромаю сильнее его», — подумал Израиль, благополучно очутившись на другой стороне.
Глава IV
ДАЛЬНЕЙШИЕ СТРАНСТВИЯ БЕГЛЕЦА И НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОБРОМ БРЕНТФОРДСКОМ ПОМЕЩИКЕ, КОТОРЫЙ ЕГО ПРИЮТИЛ
К вечеру третьего дня Израиля отделяло от Лондона не более шестнадцати миль. Он снова решил переночевать в сарае. На этот раз там нашлось немного сена, и, зарывшись в него, Израиль провел сносную ночь.
На заре он проснулся освеженный и с радостью вспомнил, что уже к полудню, вероятно, доберется до цели своих странствий. Считая, что теперь ему можно не опасаться погони, Израиль забыл про осторожность и в десять часов, проходя через городок Стейнс, внезапно столкнулся с тремя солдатами. К несчастью, меняясь одеждой с землекопом, он не смог заставить себя расстаться и с рубахой — английской матросской рубахой. Правда, до сих пор он старательно прятал синий воротник под куртку, но, как оказалось теперь, прикрыт воротник был плохо. Во всяком случае, солдаты, старательно высматривавшие дезертиров и подстегиваемые мыслью о награде, разглядели роковой воротник и поспешили схватить беглеца.
— Постой-ка, парень! — сказал ему капрал. — Ты ведь из моряков его величества! А ну, пошли с нами.
Израиль, который ничего не мог толком возразить, был тут же арестован и вскоре уже сидел в наручниках и под замком в местной каталажке — тюрьме, предназначенной для дезертиров и мелких преступников. Он провел в этом томительном заключении день, не получив ни обеда, ни ужина, а потом наступила ночь.
Израиль не ел уже три дня, если не считать краюхи, которую он купил за два пенса. Муки голода становились все нестерпимее, и он начал утрачивать бодрость духа, до сих пор придававшую ему силы. Снова ввергнутый в узилище, когда желанная цель была уже совсем близка, Израиль едва не впал в отчаяние. Однако он справился с собой, рассудил, что сетованиями горю не поможешь, и, гоня от себя уныние, с упрямым терпением попробовал свыкнуться с мыслью о своем несчастье. Он сумел подавить тоску и принялся искать выход из этого лабиринта.
Два часа он перетирал наручники об оконную решетку и наконец избавился от них. Затем настала очередь двери, которая, к счастью, была заперта только на висячий замок. Просунув прут от своих наручников через дверное оконце в скобу, он в конце концов сорвал ее и около трех часов ночи вновь обрел свободу.
Когда взошло солнце, Израиль проходил неподалеку от Брентфорда, милях в шести-семи от столицы. Он изнемогал от голода и думал, что смерть его уже недалека. То и дело он принимался жевать траву. Когда он бежал с понтона, у него было с собой только шесть английских пенсов. Два из них он потратил на краюшку хлеба, после того как ускользнул из харчевни. Остальные четыре по-прежнему позвякивали в его кармане, так как ему ни разу не представилось удобного случая потратить их на еду.
Израиль оторвал от рубахи злополучный ворот, засунул его в самую гущу живой изгороди и после этого настолько осмелел, что в миле от Брентфорда заговорил с почтенным плотником, сооружавшим забор, и попросил у него работы, так как не видел иного выхода из своего отчаянного положения. У плотника для него работы не оказалось, но он посоветовал Израилю, если тот знает крестьянское дело или понимает в садоводстве, обратиться к сэру Джону Миллету, чье имение, по его словам, находилось неподалеку. Он прибавил, что весной помещик обычно нанимает много работников и Израилю стоит попытать там счастья.
Несколько ободренный этим советом, Израиль отправился в указанном направлении, намереваясь незамедлительно отыскать помещичий дом. Однако он сбился с дороги, вышел на красивую, усыпанную песком аллею и с ужасом увидел перед собою сад, заполненный солдатами. Он тут же кинулся прочь, не дожидаясь, чтобы его заметили. При виде красного мундира Израиль в ту пору пугался куда больше, чем четвероногие обитатели американских лесов — при виде пылающей головни. Впоследствии он узнал, что это был сад принцессы Эмилии.[31]
Свернув на другую дорожку, он вскоре поравнялся с людьми, которые посыпали ее песком. Оказалось, что это работники сэра Джона. Они объяснили ему, как пройти к дому, а там ему показали хозяина имения, который без шляпы прогуливался в саду со своими гостями. Немало наслышавшись о надменности и чванстве английских богачей, Израиль сильно робел при мысли, что ему надо обратиться с просьбой к столь важной персоне. Однако, собравшись с духом, он приблизился к помещику, и знатные господа при виде такого оборванца даже остановились, недоумевая, что могло привести его сюда.
— Мистер Миллет! — сказал Израиль, кланяясь господину без шляпы.
— Ха! Кто ты такой, скажи на милость?
— Бедняк, сэр, которому нужна работа.
— И приличный гардероб, — с улыбкой заметил один из гостей, юный щеголь в изысканном наряде.
— А где твоя мотыга? — спросил сэр Джон.
— У меня ее нет, сэр.
— А есть у тебя деньги, чтобы купить мотыгу?
— Только четыре английских пенса, сэр.
— Английских? А какие же еще бывают пенсы?
— Китайские, конечно! — рассмеялся молодой щеголь. — Поглядите-ка на его длинные желтые космы — вылитый китаец! Какой-нибудь разорившийся мандарин. Жаль, что у его шляпы нет донышка, а то он мог бы пустить ее по кругу и превратить свои четыре пенса в целых восемь.
— У вас найдется для меня работа, мистер Миллет?
— Ха! Это тоже странно, — воскликнул помещик.
— Эй ты, деревенщина! — сказал юркий слуга, выбегая из дверей дома. — Ты говоришь с сэром Джоном Миллетом!
Очевидно, сжалившись над видимым невежеством и неоспоримой бедностью Израиля, добрый помещик велел ему явиться завтра с утра — он распорядится, чтобы ему выдали мотыгу, и наймет в работники.
Трудно описать, какой радости преисполнился наш скиталец, услышав эти приветливые слова. Они так его ободряют, что он сию же секунду направляет свои стопы к булочнику, чью пекарню заметил ранее, смело входит внутрь, кидает на прилавок все свои четыре пенса и требует хлеба. Памятуя о том, что до следующего дня у него не будет другой еды, Израиль решил было съесть только один двухпенсовый каравай, а второй приберечь на утро. Однако съеденный хлеб лишь раздразнил его аппетит, и, не устояв перед соблазном, он тут же присоединил второй каравай к первому.
Некоторое время он отдыхал в тени живой изгороди, а потом, когда солнце начало заходить, собрался с силами для еще одной тяжкой ночи. Дождавшись темноты, он проник в старый каретный сарай, где не нашел ничего, кроме ободранного кузова ветхого фаэтона. Забравшись в него, Израиль свернулся калачиком, словно кучерской пес, и попробовал заснуть; однако это ложе оказалось слишком уж неудобным, и в конце концов он вылез из фаэтона и растянулся на голом полу.
Едва небо на востоке побелело, как Израиль поспешил отправиться за распоряжениями к тому, кто, как подсказывало ему внутреннее чувство, должен был стать его благодетелем. Привыкнув на ферме отца вставать с петухами, он очень удивился, обнаружив, что в господском доме все еще спят. Было четыре часа. Израиль довольно долго расхаживал перед крыльцом, а потом проснувшийся первым лакей сообщил ему, что у них в имении за работу берутся в семь утра. Вскоре после этого он встретил одного из конюхов, который позволил ему прилечь на сеновале. Там он сладко спал до семи часов, пока его не разбудил шум начавшегося трудового дня.
Получив от управляющего большие вилы и мотыгу, Израиль вместе с остальными работниками отправился в поле. Он был так слаб, что с трудом тащил свои орудия. Как ни старался он скрыть это обстоятельство, у него ничего не выходило. В конце концов, боясь, что его сочтут бездельником и лентяем, он признался, в чем заключалась истинная причина его нерадивости. Остальные работники пожалели его и постарались избавить от наиболее трудных работ.
В полдень на поле пришел помещик. Заметив, как мало сделал Израиль, он сказал, что хоть руки у него длинные, а плечи широкие, ему, видно, вздумалось притвориться слабым — или, быть может, он и впрямь не очень силен?
Один из батраков, трудившийся неподалеку, объяснил барину, в чем тут дело, после чего помещик сунул в руку Израиля шиллинг и велел ему немедленно пойти в харчевню, до которой было ближе, чем до господского дома, и подкрепиться хлебом с пивом. Насытившись, Израиль вернулся на поле и усердно работал до четырех часов, когда трудовой день окончился.
Явившись в дом, он снова увидел своего хозяина, который некоторое время молча его рассматривал, а потом распорядился, чтобы его хорошенько накормили: когда служанка принесла еды, добрый помещик счел, что она поскупилась, и приказал ей подать всю кастрюлю. Однако Израиль, зная, что долго голодавшему человеку опасно наедаться до отвала, съел немногим больше, чем днем в харчевне. Обедал он на траве, а когда кончил, помещик снова поглядел на него с любопытством и велел устроить его на ночлег в амбаре, где Израиль наконец отлично выспался на удобной постели.
На следующее утро, позавтракав, он уже собирался пойти в поле с остальными батраками, но тут к нему подошел хозяин и ласково велел вернуться в амбар и хорошенько отоспаться, чтобы приступить к работе со свежими силами.
Когда Израиль вскоре после полудня снова вышел из амбара, он увидел, что сэр Джон в одиночестве прогуливается по саду. Заметив его, Израиль хотел было тихонько удалиться, чтобы не показаться назойливым, но помещик сделал ему знак подойти, а затем устремил на нашего бедного героя такой пронизывающий взгляд, что тот задрожал, как осиновый лист. Его страх перед разоблачением отнюдь не стал меньше, когда помещик громким голосом кликнул слугу. Израиль уже готов был обратиться в бегство, но страх его тут же рассеялся, ибо сэр Джон приказал лакею:
— Принеси вина!
Слуга повиновался и, поставив по распоряжению своего господина поднос на траву, ушел.
— Бедняга! — сказал сэр Джон, наливая вино в рюмку и протягивая ее Израилю. — Я вижу, что ты американец и, вероятнее всего, сбежавший пленный. Однако ничего не бойся и пей спокойно.
— Мистер Миллет! — в ужасе воскликнул Израиль, и полная рюмка задрожала в его руке. — Мистер Миллет, я…
— Ну вот, опять «мистер Миллет». Почему ты не говоришь «сэр Джон», как все остальные?
— Да я, сэр… простите меня… но я почему-то не могу. Я пробовал, но не могу. Вы меня за это не выдадите властям?
— Выдать тебя? Ах ты, бедняга! Полагаю, ты предпочтешь держать свои приключения в секрете и не рассказывать о них незнакомому человеку. Однако, как бы то ни было, даю тебе слово чести, что я тебя не выдам.
— Да вознаградит вас за это бог, мистер Миллет!
— Нет-нет! Назови меня как положено. Я ведь не мистер Миллет. Ты же говорил мне «сэр», и несомненно, многих в своей жизни называл Джонами. Так неужели ты не можешь соединить эти два слова? Попробуй-ка. Ну? Просто «сэр», а потом «Джон» — «сэр Джон». Только и всего.
— Джон… я не могу… сэр Сэр! [так] Простите меня. Я не хотел вам нагрубить.
— Мой милый, — сказал помещик, внимательно вглядываясь в лицо Израиля. — Скажи мне, твои земляки все похожи на тебя? В таком случае воевать с ними нет никакого смысла. Мне, пожалуй, следует написать об этом его величеству. Что же, разрешаю тебе меня не сэрджонить. Но все-таки ответь мне правду — ты ведь был моряком и попал в плен?
Израиль кивнул и чистосердечно рассказал свою историю. Помещик выслушал его с большим интересом, а потом предупредил, что ему следует опасаться солдат: неподалеку расположены имения членов королевской семьи и окрестности кишат красномундирниками.
— Мне не хотелось бы говорить дурно о своих соотечественниках, — добавил он, — однако я обязан предостеречь тебя. Солдаты, которых ты встречаешь на дорогах, совсем не похожи на остальную нашу армию. Это бесчестные, трусливые разбойники, которые готовы предать лучшего своего друга, если им пообещают награду. И я повторяю — берегись их. Впрочем, об этом довольно. Теперь пойдем в дом, и раз уж ты, судя по твоим словам, любитель меняться одеждой, то почему бы тебе не сменять ее еще один раз? Что ты на это скажешь? За твои лохмотья я дам тебе куртку и штаны.
Сбросив лохмотья и забыв про голод, Израиль, который без всяких сомнений доверился чести столь доброго человека, обрел прежнюю бодрость духа и за две-три недели нагулял такого жирку, что старые кожаные штаны сэра Джона, сначала висевшие на нем весьма свободно, стали ему чуть ли не узки.
Помещик позаботился, чтобы он поменьше находился в обществе других работников, и возложил на него особые обязанности. Под его единоличный присмотр были отданы грядки с клубникой. И часто в теплые погожие дни помещик, благодушествуя после обеда, выходил в залитый солнцем ягодник, чтобы поболтать с Израилем вдали от любопытных ушей, а Израиль, покоренный его патриархальной простотой, время от времени с улыбкой на устах и слезами благодарности на глазах срывал ему самые спелые ягоды. Когда клубника сошла, Израилю были поручены другие гряды. Так прошло полгода, а затем, по рекомендации сэра Джона, он получил хорошую должность в имении принцессы Эмилии.
За это время в его внешности и поведении произошли такие перемены, что в нем уже трудно было угадать американца. Домочадцы сэра Джона все считали его англичанином. Однако в имении принцессы Эмилии, где ему приходилось трудиться бок о бок с другими работниками, он постоянно слышал, как они рассуждали о войне. И нередко всячески поносили «этих проклятых мятежников янки». Нелегко было изгнаннику слушать, как оскорбляют его возлюбленную родину, ради которой он проливал свою кровь, а теперь терпел тяжкие страдания. Не раз и не два его негодование чуть было не взяло верх над благоразумием. Он жаждал, чтобы война поскорее кончилась и он мог бы высказать хоть часть того, что накипело у него на душе.
Старший садовник был грубым и надменным человеком. Батраки сносили все его злобные выходки с угодливым смирением. Однако Израиль, выросший среди приволья диких гор, не умел терпеливо переносить оскорбительную брань, и тем более незаслуженную. Не прошло и двух месяцев, как он уже покинул имение принцессы и нанялся на ферму неподалеку от Брентфорда. Но он не пробыл там и трех недель, как в деревне стали поговаривать, что он — сбежавший янки-военнопленный. Откуда возникли эти слухи, Израилю так и не довелось узнать. Но стоило им дойти до ушей местного гарнизона, и солдаты тут же отправились арестовать его. К счастью, Израиля вовремя предупредили об их намерениях. И все же уйти от погони оказалось нелегко. За ним охотились с настойчивостью, достойной более благородной цели. Много раз он чуть было не попадал в руки преследователей. И конечно, его непременно схватили бы, если бы не помощь нескольких тайных доброжелателей, которые сочувствовали американцам, хотя и не осмеливались заявить об этом вслух.
Как-то ночью солдаты явились обыскивать дом, где Израиль ночевал на чердаке, и ему пришлось высадить слуховое оконце и выбраться на крышу, откуда он перебрался на соседний дом и так, пробежав по дюжине крыш, наконец ускользнул от погони.
Глава V
ИЗРАИЛЬ В ЛОГОВЕ ЛЬВА
Израиль не знал теперь покоя ни днем ни ночью, он недоедал и недосыпал, потому что его гоняли из одного тайного убежища в другое, словно затравленную лисицу, а о том, чтобы зарабатывать себе на хлеб, не могло уже быть и речи — и в конце концов друг, в благожелательности которого он не сомневался, посоветовал ему обратиться к сэру Джону, чтобы с его помощью устроиться работником в королевские сады, расположенные в Кью.[32] Ему объяснили, что уж тогда он будет в полной безопасности, поскольку ни один солдат не посмеет обеспокоить даже самого последнего из тамошних служителей. Бедный изгнанник не мог не подивиться, что в качестве безопасного приюта ему называют самое логово британского льва — любимое поместье короля Англии.
Хороший знакомый главного королевского садовника сам привел к нему Израиля, который был к тому же вооружен запиской сэра Джона, и, умолчав об американском происхождении нашего героя, отрекомендовал его великим знатоком садоводства. И вот заботам Израиля были поручены некоторые наиболее скромные растения и дорожки парка.
Именно здесь, в загородном поместье возле самой столицы, часто скрывался от тяжких государственных дел Георг III, покидая потемневшие от времени стены Сент-Джеймского дворца, и любил прогуливаться здесь под зелеными сводами сплетающихся ветвей могучих деревьев.
Не раз, посыпая песком дорожки, Израиль видел сквозь кусты на уединенной соседней аллее одинокую фигуру монарха, на чье чело мысли отбрасывали еще более сумрачную тень, нежели тень густой листвы.
Подчас даже в самом чистом сердце невольно зарождаются гнусные помыслы. И когда изгнанник видел перед собой короля без охраны, когда он вспоминал, что, по слухам, Англия ведет войну больше по желанию своего государя, а не по воле парламента или нации, когда он думал о том, сколько страданий ему самому и сколько бедствий его родине причиняет эта война, его душу начинало терзать то ужасное желание, которому поддался цареубийца Равальяк.[33] Но, мысленно восклицая: «Отыди, Сатана!» — Израиль отгонял от себя этот страшный соблазн. А после того, как ему единственный раз выпал случай побеседовать с королем, это наваждение и вовсе рассеялось.
Как-то раз, когда Израиль, погруженный в задумчивость, посыпал песком боковую дорожку, из-за поворота внезапно появился король и нечаянно его толкнул.
Израиль тотчас прикоснулся к шляпе, однако не сняв ее, поклонился и хотел уйти, но его персона чем-то привлекла внимание короля.
— Ты не англичанин… нет, не англичанин… нет-нет.
Побледнев как мертвец, Израиль хотел было ответить, но не знал, что сказать, и только застыл на месте.
— Ты янки… да, янки, — продолжал король своей обычной запинающейся скороговоркой.
Израиль вновь попытался что-нибудь ответить и вновь промолчал. Что ему было сказать? Да и можно ли лгать королю?
— Да-да… ты из этой упрямой породы… необыкновенно упрямой. Что тебя привело сюда?
— Прихоти войны, сэр.
— С позволения вашего величества, — раздался тихий угодливый голос, — он взялся за эту дорожку самочинно. Произошла ошибка, с позволения вашего величества. Убирайся отсюда, дурак, — прошипел тот же голос на ухо Израилю.
Он принадлежал одному из младших садовников. Израиль, по-видимому, на этот раз спутал, какая работа была ему поручена.
— Пошел отсюда, осел, — снова прошипел садовник и добавил громче, обращаясь к королю: — Он ошибся, ваше величество.
— Уходи… ты уходи, а он пусть остается тут, — сказал король.
Подождав, чтобы садовник отошел подальше, король снова обратился к Израилю:
— А ты был при Банкер-Хилле?.. При кровавом Банкер-Хилле?.. А? А?
— Да, сэр.
— Дрался как черт… как дьявол, а?
— Да, сэр.
— Помогал задать жару… помогал задать жару моим солдатам?
— Да, сэр, хоть и с тяжелым сердцем.
— А? А?.. Как так?
— Я счел это своим печальным долгом, сэр.
— И неправильно… весьма неправильно, да-да. Почему ты говоришь мне «сэр», а? Я твой король… твой король.
— Сэр, — ответил Израиль твердо, хотя и с глубокой почтительностью, — у меня нет короля.
Глаза короля гневно засверкали, но теперь, когда все открылось, Израиль уже ничего не боялся и продолжал стоять перед ним все с той же безмолвной почтительностью. Король, внезапно повернувшись к нему спиной, быстро пошел прочь, но тотчас воротился уже не столь поспешным шагом и сказал:
— Говорят, ты шпион… шпион или еще какой-то лазутчик… так? Но я знаю, ты не шпион… нет-нет. Ты сбежавший военнопленный, а? Ты пробрался сюда, чтобы укрыться от розысков, а? А? Разве не так? А? А? А?
— Так, сэр.
— Ну, ты честный мятежник… мятежник, да, мятежник. Запомни, слышишь, запомни. Ничего никому не говори про наш разговор. И еще запомни. Пока ты будешь тут, в Кью, я пригляжу, чтобы тебя не трогали… не трогали.
— Да наградит вас господь, ваше величество.
— А?
— Да наградит господь ваше августейшее величество.
— Ну… ну… ну… — радостно улыбнулся король. — Я так и думал, что покорю тебя… покорю.
— Не король, ваше величество, а королевская доброта.
— Вступай в мою армию… в мою армию.
Печально опустив глаза, Израиль молча покачал головой.
— Не хочешь? Ну, так посыпай песком дорожки… посыпай-посыпай. Упрямая порода… очень упрямая, да, очень… очень… очень…
И, продолжая ворчать, великодушный лев удалился.
Израиль так и не смог решить, откуда королю стала известна тайна столь смиренного изгнанника: помог ли ему волшебный дар проникать в самую сущность человека, якобы нисходящий на монарха вместе с короной в числе многих других чудесных способностей, или его ушей достигли слухи, ходившие за пределами садов. Впрочем, последнее было вероятнее — незадолго до его встречи с королем младшие садовники где-то прослышали, что Израиль вроде бы и не англичанин. Отнюдь не бросая тень на преданность Израиля своему отечеству, следует все же сказать, что после вышеизложенной простецкой беседы с Георгом III он составил себе об этом государе наилучшее мнение. Теперь он верил, что в тираническом угнетении Америки повинно было не доброе сердце короля, а ледяная мудрость его советников. До этого же времени он полагал как раз обратное, разделяя твердое убеждение, господствовавшее в Новой Англии.
Этот пример показывает нам, какие удивительные и могучие чары таятся в короне и как хитро может воздействовать на честных бедняков то дешевое и необременительное великодушие, которым в частной жизни наделено большинство королей. Ведь если бы не его сугубо бескорыстный патриотизм, наш искатель приключений, вероятно, не замедлил бы облачиться в красный мундир и благодаря покровительству своего августейшего друга мог бы со временем достичь в английской армии немалых чинов. И в этом случае нам не пришлось бы следовать за ним, как придется теперь, через все долгие-долгие годы его неведомых миру нищенских скитаний.
Израиль продолжал служить в королевских садах Кью еще некоторое время, но с приближением зимы, когда работы стало меньше, его и еще несколько человек рассчитали. На другой день он нанялся на несколько месяцев к фермеру в тех же местах, где работал прежде. Однако не успело пройти и недели, как вся округа вновь заговорила, что он — мятежник, беглый пленный (а то и янки!) или шпион. Солдаты, словно гончие, вновь бросились по его следу. Дома, где он находил приют, без конца обыскивались, однако благодаря верной помощи горстки тайных доброжелателей и собственной неусыпной бдительности затравленной лисице по-прежнему удавалось ускользать от погони. Тем не менее это вечное безжалостное преследование настолько его измучило, что в припадке отчаяния он уже готов был отдать себя в руки властей и покориться судьбе, но его спасло своевременное вмешательство Провидения.
Глава VI
ИЗРАИЛЬ ЗНАКОМИТСЯ С НЕКИМИ ТАЙНЫМИ ДРУЗЬЯМИ АМЕРИКИ, К КОТОРЫМ ПРИНАДЛЕЖИТ И ПРОСЛАВЛЕННЫЙ АВТОР «РАЗВЛЕЧЕНИЙ В ПЕРЛИ».[34] ОНИ ОТПРАВЛЯЮТ ЕГО ЗА ЛА-МАНШ С СЕКРЕТНЫМ ПОРУЧЕНИЕМ
В те годы американские колонии, хотя они поистине были жертвами английской тирании, все же располагали друзьями и в самой Англии. И раз уж даже в парламенте многие талантливые и патриотически настроенные люди не только ратовали за примирение, но и обличали войну как нечто чудовищное, то вполне естественно, что по всей стране насчитывалось немало частных лиц, разделявших эти взгляды и втайне действовавших согласно велению своей совести.
Как-то поздней ночью Израиль, который прятался в амбаре одного доброго фермера, заметил, что к амбару приближается человек с фонарем. Он уже собирался спасаться бегством, но тут хорошо знакомый голос произнес: «Не бойся, это я!» Это был сам фермер. Некий джентльмен, проживающий вблизи Брентфорда, поручил ему передать беглецу, что того настоятельнейшим образом просят явиться следующим вечером в дом этого джентльмена.
Сначала Израиль решил, что фермер либо задумал его выдать, либо по доверчивости стал невольным орудием каких-то негодяев. Во всяком случае, он твердо верил, что его хотят заманить в засаду, и полчаса не поддавался ни на какие уговоры. Однако в конце концов его удалось переубедить. Приглашение исходило от сквайра Вудкока, брентфордского помещика, чья верность королю давно уже вызывала сомнения, — так, во всяком случае, утверждал фермер. И эти его слова возымели свое действие.
На другой вечер, облачившись в одежду, которую дал ему фермер, Израиль украдкой выбрался из своего убежища и часа через три уже подходил к старинному кирпичному дому сквайра. Дверь ему открыл сам хозяин, который, едва узнав, кто стоит перед ним, поспешил заверить Израиля, что ему не грозит ничего дурного. После этого скиталец переступил порог и был проведен в уединенную комнату в задней части дома, где сидели еще два джентльмена, одетые по моде той эпохи в длинные, отделанные золотым шитьем кафтаны, короткие шелковые штаны и башмаки с серебряными пряжками.
— Меня зовут Джон Вудкок, — сказал ему хозяин. — А эти господа — Хорн Тук и Джеймс Бриджес. Мы все трое — друзья Америки. Мы услышали про вас несколько недель назад и, заключив по вашему поведению, что вы, несомненно, янки истинной закалки, решили дать вам поручение, которое должно вас обрадовать. Ведь и вдали от родной страны вы, конечно, рады будете послужить ей если не в качестве солдата или моряка, то хотя бы в качестве гонца, не так ли?
— А каким это образом? — спросил Израиль, у которого все еще было неспокойно на душе.
— Всему свое время, — улыбнулся сквайр. — А пока скажите, верите вы мне?
Израиль внимательно посмотрел на сквайра, а потом на его друзей и, встретив открытый, честный взгляд Хорна Тука, который, только еще вступая на политическое поприще, был исполнен горячего энтузиазма, повернулся к хозяину дома и сказал:
— Сэр, я вам верю. Теперь объясните, что я должен буду сделать.
— О, сегодня вам ничего делать не придется, — ответил сквайр, — да и всю ближайшую неделю тоже. Но мы хотели, чтобы вы приготовились заранее.
Затем он лишь в самых общих чертах сообщил Израилю об их планах, после чего попросил его рассказать им о своих приключениях с тех самых пор, как он взялся за оружие, чтобы защищать родину. На это Израиль с радостью согласился — ведь всякому человеку бывает приятно поведать о тяжких испытаниях, которые он перенес, служа правому делу. Но прежде чем он начал, сквайр предложил ему подкрепить силы куском говядины (завернутым в белоснежную салфетку) и стаканчиком грушовки — и трижды прерывал его повесть, чтобы вновь наполнить стакан.
Однако от третьего стакана Израиль отказался, хотя напиток этот вовсе не отличался крепостью. Дело в том, что все трое не только слушали его рассказ с живейшим интересом, но и с большой настойчивостью задавали ему самые разнообразные и неожиданные вопросы. Это его насторожило, тем более что у него еще оставались некоторые сомнения относительно того, кто они такие на самом деле и каковы их истинные намерения. Однако, как выяснилось затем, сквайр Вудкок и его друзья хотели только до конца убедиться, что этот беглец заслуживает безусловного доверия, прежде чем полностью посвятить его в свои секреты.
Именно к этому благоприятному заключению они и пришли, так как, дослушав Израиля, не только посочувствовали его злоключениям, не только похвалили за горячий патриотизм и стойкость в несчастье, не только воздали должное мужеству его соратников при Банкер-Хилле, но и подробно рассказали, какое именно поручение хотели бы ему дать. Они спросили, согласится ли Израиль отправиться в Париж, чтобы передать важные известия (которые они должны были получить в самое ближайшее время) доктору Франклину,[35] находящемуся сейчас во французской столице.
— Все ваши расходы будут оплачены, а кроме того, вы получите вознаграждение, — добавил сквайр. — Ну как, вы согласны?
— Мне надо подумать, — ответил Израиль, все еще не вполне убежденный. Но тут он снова посмотрел на Хорна Тука, и его сомнения окончательно рассеялись.
После этого сквайр предупредил Израиля, что во избежание подозрений он, пока не настанет время ехать в Париж, должен будет скрываться в надежном месте, которое они ему подыскали. Они самым настоятельным образом убеждали его нерушимо хранить тайну и дали ему гинею, а также письмо к их знакомому в Уайт-Уотеме, городке по соседству с Брентфордом, куда велели ему отправиться незамедлительно и ждать там дальнейших инструкций.
Кончив объяснения, сквайр Вудкок попросил его поставить правую ногу на стул.
— Зачем? — осведомился Израиль.
— Разве вам не пригодится в дороге пара новых сапог? — улыбнулся Хорн Тук.
— Пара новых сапог? Это я не прочь, — ответил Израиль.
— Ну, так дайте сапожнику снять мерку, — сказал Хорн Тук, вновь улыбнувшись.
— Займитесь-ка этим вы, мистер Тук, — потребовал сквайр. — С мужчин вы снимаете мерку лучше, чем я.
— Давайте сюда вашу ногу, мой милый, — сказал Хорн Тук. — Ну вот… А теперь позвольте измерить ваше сердце.
— Тут уж мерьте вокруг всей груди, — посоветовал Израиль.
— Такой-то человек нам и нужен, — одобрительно сказал мистер Бриджес.
— Налейте ему еще стаканчик вина, сквайр, — посоветовал Хорн Тук.
Сменив одежду, полученную от фермера, на новый наряд, Израиль внимательно выслушал подробное описание предстоявшего ему пути и тут же отправился пешком в Уайт-Уотем. Он добрался туда на следующее утро, и его весьма сердечно принял джентльмен, которому было адресовано письмо. Он также принадлежал к числу деятельных друзей Америки и знал все подробности последних тамошних событий. Он сообщил изгнаннику много интересных новостей о его родине.
Израиль прожил в его доме десять дней, а затем пришло известие от сквайра Вудкока: Израиль должен немедленно вернуться и явиться к нему ровно в два часа пополуночи. И вот, еще одну ночь прошагав по пустынной дороге, наш скиталец вновь очутился в той же уединенной комнате в обществе тех же трех джентльменов.
— Время настало, — сказал сквайр Вудкок. — Сегодня утром вы отправитесь в Париж. Снимите башмаки.
— Значит, мне надо будет красться отсюда до Парижа в одних чулках? — осведомился Израиль, которому привольное и спокойное житье в Уайт-Уотеме не замедлило вернуть его добродушную веселость, после того как перенесенные невзгоды совсем было ее угасили.
— О нет, — с улыбкой сказал Хорн Тук, чья жизнь всегда была привольной и веселой. — Просто мы приготовили для вас сапоги-скороходы. Помните, я еще снял с вас мерку?
В эту минуту сквайр принес из чуланчика пару новых сапог. Они были снабжены полыми каблуками. Отвинтив каблуки, сквайр показал Израилю спрятанные в них бумаги — несколько тонких шелковистых листков, исписанных бисерным почерком. Вряд ли нужно объяснять, что сапоги были сшиты специально для этого случая.
— Ну-ка, пройдитесь в них! — распорядился сквайр, когда Израиль натянул сапоги.
— Его сразу схватят! — улыбнулся Хорн Тук. — Только послушайте, как они скрипят!
— Ну-ну, довольно, — заметил сквайр. — Дело слишком серьезно, чтобы шутить. А вы, мой милый, будьте осторожны, будьте воздержанны, будьте бдительны, а главное — поторопитесь.
Получив затем все необходимые наставления и деньги, Израиль простился с мистером Туком и мистером Бриджесом, последовал за сквайром по лестнице и через пять минут уже направлялся в Лондон, где на Чаринг-Кросс сел в дуврскую почтовую карету, а из Дувра на пакетботе отправился в Кале и через пятнадцать минут после того, как сошел на французскую землю, уже катил в Париж. Он благополучно добрался до столицы, где открыто объявил себя американцем, — в те годы дружба Америки с Францией была такой тесной,[36] что совсем незнакомые люди охотно оказывали ему услуги.
Глава VII
ПОСЛЕ УДИВИТЕЛЬНОГО ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА НОВОМ МОСТУ ИЗРАИЛЬ НАВЕЩАЕТ ЗНАМЕНИТОГО МУДРЕЦА ДОКТОРА ФРАНКЛИНА, КОТОРОГО ЗАСТАЕТ ЗА РАЗНООБРАЗНЫМИ УЧЕНЫМИ ЗАНЯТИЯМИ
По прибытии в Париж Израиль, сойдя с дилижанса и расспросив о дороге, отправился разыскивать жилище доктора Франклина и уже шел по Новому мосту, когда его вдруг окликнул какой-то человек, стоявший там прямо под конной статуей Генриха IV.
На земле возле незнакомца лежал неказистый ящик, по одну сторону которого располагалась коробочка с ваксой, а по другую — сапожные щетки. В руке он держал еще одну щетку и выписывал ею в воздухе изящные круги, тем самым любезно подкрепляя свое устное приглашение.
— Чего вам от меня надо, сосед? — с тревожным изумлением спросил Израиль, замедлив шаг.
— Ах, мосье! — воскликнул незнакомец и разразился весьма любезной тирадой, но все его пылкое красноречие, разумеется, пропало втуне, ибо Израиль по-французски не понимал.
Впрочем, жесты француза оказались понятнее слов. Он указал на жидкую грязь, растекшуюся по мосту, еще мокрому после недавнего дождя, затем на ноги нашего путника и, наконец, на свою щетку, всем своим видом выражая как глубокое сожаление, что столь достойный в других отношениях господин вынужден разгуливать по улицам в нечищеных сапогах, так равно и живейшую готовность поправить эту оплошность.
— О мосье, мосье! — воскликнул он наконец, подбегая к Израилю. С нежной настойчивостью он повлек его к ящику и, поставив на таковой правую ногу своего подневольного клиента, энергично принялся за работу, но тут Израиль, пораженный страшной догадкой, сокрушительным пинком опрокинул ящик и кинулся бежать по мосту так, что только засверкали его двойные каблуки.
Чистильщик, возмущенный тем, что в ответ на его любезность с ним обошлись столь грубо, бросился в погоню, в результате чего подозрения Израиля немедленно превратились в уверенность, и он так наддал, что преследователь вскоре остановился, не в силах угнаться за быстроногим героем.
Когда наконец Израиль отыскал нужную ему улицу и дом, то в ответ на его стук ворота, как ни странно, распахнулись сами собой, и, весьма удивленный таким нежданным колдовством, он вступил в сводчатый проход, который вел во внутренний двор. Израиль остановился, недоумевая, почему никого не видно, но тут его вдруг окликнули, и он разглядел в темном окошке старика, чинившего башмаки. Рядом с ним стояла старуха, которая, высунув голову в проход, сверлила незнакомца недоверчивым взглядом. Это были привратник и привратница. Последняя, услышав стук, невидимкой распахнула ворота перед гостем, нажав на пружину, сообщавшуюся с их каморкой.
Услышав имя доктора Франклина, старуха поспешила выйти к Израилю и почтительно проводила его через двор к подъезду в дальнем углу этого обширного здания, а затем по лестнице на третий этаж, где и оставила его перед дверью. Израиль постучал.
— Войдите, — послышалось изнутри.
И Израиль тут же предстал перед достопочтенным доктором Франклином.
Мудрец в пышном халате — прихотливом подарке какой-то поклонницы-маркизы, расшитом алгебраическими формулами, точно мантия фокусника, — и в черной шелковой шапочке, плотно обтягивавшей могучее вместилище его мыслей, сидел за огромным круглым, как зодиак, столом, опиравшимся на львиные лапы. Стол был завален газетами, стопками документов, свертками рукописей, металлическими и деревянными частями каких-то механических моделей, странного вида памфлетами на разных языках и всевозможными книгами — среди них имелось много дарственных — по истории, механике, дипломатии, сельскому хозяйству, политической экономии, метафизике, метеорологии и геометрии. На стенах, придавая им колдовской вид, висели всяческие барометры, чертежи удивительных изобретений, большие карты дальних окраин Нового Света с обширными пробелами посредине, поперек которых было широкой разрядкой напечатано слово «пустыня» так, чтобы тремя слогами спаять воедино двадцать пять градусов долготы (впрочем, это слово было энергично перечеркнуто самим доктором как бы в полное его опровержение), пестрые топографические и тригонометрические карты различных областей Европы, а также геометрические диаграммы и многие другие столь же поразительные гобелены и портьеры науки.
Сама комната являла многочисленные свидетельства своей древности. По запыленной штукатурке стены змеились трещины, что придавало помещению мрачный и запущенный вид. Однако его обитатель, несмотря на преклонные годы и множество морщин, выглядел здоровым и был очень опрятен. И стена, и мудрец были сотворены из одного материала — извести и пыли, оба они были стары, однако если грубая поверхность стены была лишена защитного покрова краски, который скрыл бы изъяны и грязь и придал бы ей внешнюю свежесть, пусть даже внутренность ее давно истлела от дряхлости, то живая известь и пыль мудреца прятались за благодетельными фресками его цветущего духа.
День был жаркий, и комната гудела мухами, словно старая вест-индская бочка где-нибудь на пристани. Но ученый ее обитатель оставался спокоен и невозмутим. Он так глубоко погрузился в особый мир своих занятий и мыслей, что эти назойливые насекомые, как и будничные заботы и хлопоты, казалось, совсем ему не досаждали. Сколь прекрасен был вид безмятежного и прозорливого старца-философа, который, острым умом постигая простых людей, а потом долго размышляя о них среди всех этих редких инструментов, карт и книг, обрел в конце концов такую удивительную мудрость! Он неподвижно сидел в облаке беспокойно кружащих мух, и страницы старинного потрепанного фолианта в переплете, темном и корявом, как кора столетнего дуба, тихо шелестели под его пальцами, словно лесная листва в полуденный час. Мнилось, что этот углубленный в себя румяный старец должен постигнуть тайны сверхъестественного и, уж во всяком случае, обладать прозрением будущего, мягкой насмешливостью и практической мудростью. Старость, казалось, не только не притупила его способностей, а, напротив, отточила их — так старые столовые ножи, если они сделаны из хорошей стали, становятся от долгого употребления острыми, тонкими и гибкими, как китовый ус. И все же, хотя он, несмотря на свои семьдесят два года (таков был его возраст), выглядел полным сил и жизни, в нем в то же время чудилось что-то неописуемо древнее, измеряемое не календарными годами, но зрелостью разума. Седые волосы и ясное чело говорили не только о прошлом, но и о будущем. Возраст его следовало бы определить ста сорока годами, ибо семьдесят лет прозрения грядущего в сочетании с семьюдесятью годами воспоминаний составляют именно сто сорок лет.
Однако когда Израиль вошел в комнату мудреца, ему не довелось ощутить ничего подобного, ибо тот сидел к нему не лицом, а спиной.
Таким образом, ни комната, ни ее обитатель не произвели вначале должного впечатления на всецело поглощенного данным ему поручением курьера, который к тому же был разгорячен и задыхался от недавнего бега.
— Бонжур, бонжур, мосье, — приветливым голосом сказал ученый, но не обернулся, слишком увлеченный своим занятием.
— Здравствуйте, доктор Франклин! — сказал Израиль.
— А-а! Чую запах индейского маиса! — воскликнул доктор, быстро повернувшись в кресле. — Земляк! Садитесь, садитесь, любезный сэр. Ну, что нового? Что-нибудь особенное?
— Погодите минутку, сэр, — ответил Израиль и направился через всю комнату к стулу.
Надо сказать, что ковра в комнате не имелось, а темный паркетный пол по французскому обычаю был обильно натерт воском. Ноги Израиля, не привыкшего к таким полам, скользили, словно под ними был лед, и раза два он чуть-чуть не упал.
— Ваши сапоги, мне кажется, снабжены чрезмерно высокими каблуками, — заметил защитник практичности, внимательно разглядывая их через очки. — Разве вы не знаете, что столь высокие каблуки вводят вас в излишний расход на кожу и угрожают целости ваших членов? Я давно подумываю написать в досужую минуту небольшой трактат о вредоносности этой моды. Однако что это вы задумали, мой друг? Зачем вы задираете ногу? Или сапоги вам жмут?
В эту минуту Израиль, наконец добравшись до стула, сел и закинул правую ногу на колено левой.
— Разумные существа не должны носить тесные сапоги, — продолжал ученый. — Это глупо. Если бы природа считала это необходимым, она снабдила бы разумные существа стопой из чистой кости, а может быть, и из литого железа, но отнюдь не стопой из костей, мышц и кожи. Однако… Ах, вот что! Погодите!
И, вскочив на свои обутые в туфли ноги, почтенный мудрец поспешил к двери и задвинул засов. Затем он тщательно задернул занавеску на окне, за которым виднелись окна флигеля по ту сторону двора, и только после этого попросил Израиля продолжить начатое.
— На этот раз я ошибся, — сказал доктор с улыбкой, когда Израиль извлек документы из их необычного хранилища. — Ваши каблуки вовсе не служат суетному тщеславию, но полны глубокого смысла.
— Доверху полны, доктор, — ответил Израиль, вручая ему бумаги. — Я чуть было с ними не попался.
— Как же это? — спросил мудрец, нетерпеливо просматривая документы.
— А вот: переходил я каменный мост через Сину…
— Сену! — поправил его доктор. — Всегда сразу же запоминайте правильное произношение незнакомого слова, друг мой, и после вы никогда в нем не ошибетесь.
— Ну, значит, переходил я этот мост, и вдруг очень подозрительного вида человек притворился, будто хочет почистить мне сапоги, а сам задумал потихоньку отвинтить каблуки и завладеть всеми важными бумагами, которые я вам доставил.
— Мой добрый друг, — сказал мудрец, проницательно глядя на своего гостя, — вам ведь на своем веку пришлось пережить немало того, что зовется невзгодами? Ваши ближние обходились с вами дурно, преследовали вас, причиняли вам зло?
— Что было, то было, доктор. Это правда.
— Я так и предположил. Пережитые несчастья сделали вас излишне подозрительным, мой честный друг. Недоверие ко всем людям — вот одно из худших последствий всякого бедственного состояния, было ли оно заслуженным или нет. И хотя отсутствие подозрительности может навлечь на человека беду скорее, чем отсутствие здравого смысла, все же избыток подозрительности так же опасен, как недостаток здравого смысла. Человек, который вам встретился, друг мой, скорее всего не таил никаких коварных замыслов. Он ничего не знал ни о вас, ни о ваших каблуках, и просто хотел заработать два су, почистив вам сапоги. На этом мосту всегда сидят чистильщики сапог.
— Как же это нехорошо получилось, что я опрокинул его ящик и убежал. Правда, он меня не догнал.
— Что? Неужели, друг мой, вы — человек, которому вверили доставку секретнейшей депеши, — вы были столь неосмотрительны, что отшвырнули ногой ящик безобидного чистильщика сапог на глазах у всех прохожих посреди столицы, в которую вы были посланы?
— Да, так оно и было, доктор.
— Больше никогда не поступайте столь неблагоразумно. Подумайте, каковы были бы последствия, если бы вас схватила полиция!
— Конечно, доктор, я поступил неблагоразумно. Да только мне показалось, что он задумал сыграть со мной скверную штуку.
— И потому, что вам только казалось, будто он задумал сыграть с вами скверную штуку, вы незамедлительно сыграли скверную штуку с ним самим. Плохая логика, друг мой. Однако дайте мне прочитать эти бумаги, а вы пока обдумайте то, что я вам сказал.
Через полчаса доктор отложил документы, вновь повернулся к Израилю и, благодушно сняв очки, без особых церемоний с отеческой ласковостью хорошенько отчитал его за нелепую проделку на Новом мосту, а в завершение достал кошелек, вручил ему три серебряных монетки и строжайшим образом наказал сегодня же отыскать злополучного чистильщика сапог, извиниться перед ним за печальное недоразумение и возместить причиненный ему ущерб.
— Все мы, мой честный друг, — продолжал доктор, — совершаем ошибки, и поэтому высшее искусство жизни заключается в умении эти ошибки исправлять. А путь к этому лежит через честное их признание. Посему уплатите этому человеку за повреждение его ящика. Ну, а теперь — кто вы такой, мой друг? В письме мне назвали ваше имя — Израиль Поттер, и сообщили, что вы американец, солдат, бежавший из плена, — но и только. Мне хотелось бы узнать вашу историю из ваших собственных уст.
Израиль исполнил его желание и подробно поведал ему все, что приключилось с ним вплоть до этого дня.
— Вероятно, — сказал доктор, когда Израиль наконец умолк, — вы хотели бы вернуться к вашим друзьям по ту сторону океана?
— Очень хотел бы, доктор, — ответил Израиль.
— Ну, я думаю, мне удастся вам в этом помочь.
Глаза Израиля загорелись радостью. Благожелательный мудрец заметил это и поспешил добавить:
— Однако в наше время нельзя быть уверенным ни в чем. Никогда не предвкушайте счастья, но и знамение бед встречайте, не падая духом. Вот чему научила меня жизнь, мой честный друг.
Израиль почувствовал себя так, словно перед ним поставили благоуханный пудинг и, дав вдохнуть его аромат, тут же убрали.
— Вероятно, дня через два-три я попрошу вас отвезти некоторые бумаги тем, кто послал вас ко мне. В этом случае вам снова придется приехать сюда, и тогда, мой добрый друг, мы посмотрим, что можно будет предпринять для вашего благополучного возвращения домой.
Израиль начал горячо благодарить его, но доктор не дал ему продолжать:
— Благодарность, мой друг, может быть неисчерпаемой лишь по отношению к богу, но по отношению к человеку ей должно ставить предел. Даже самая важная услуга, которую человек способен оказать человеку, все же не заслуживает безграничной благодарности. Излишняя признательность того, кому помогли, может породить самодовольство или надменность в том, кто оказал помощь. Я же, помогая вам вернуться домой — предположим, что мне это удастся, — просто исполню свою прямую обязанность официального представителя нашей родины. Таким образом, вы ничего не будете мне должны, кроме тех денег, которые вы только что от меня получили. Но их вы можете мне не отдавать, а вернувшись домой, просто вручите их первой солдатской вдове, встреченной вами. И не забудьте — ведь это ваш долг, ваше денежное обязательство по отношению ко мне. В американском исчислении эта сумма равна примерно четверти доллара. Так, значит, четверть доллара — имейте в виду! В денежных делах, мой честный друг, всегда будьте точны, как секундная стрелка; и неважно, с кем вы их ведете — с собственным ли отцом, с незнакомым человеком, с крестьянином или с королем, — все равно будьте щепетильны во всю меру своей чести.
— Что ж, доктор, — сказал Израиль, — раз щепетильность в этих делах столь необходима, позвольте, я тотчас же выплачу свой долг теми же самыми монетами, которые были мне одолжены. И уж тогда можно будет не опасаться ошибки. Благодаря щедрости моих брентфордских друзей, у меня хватит и собственных денег, чтобы рассчитаться с чистильщиком сапог за причиненный ему ущерб. Я ведь взял эти деньги у вас только потому, что вы предлагали их с такой добротой, и я боялся, не покажется ли вам мой отказ грубостью.
— Мой честный друг, — сказал доктор, — мне нравится ваша прямота. Я готов взять эти деньги обратно.
— Без процентов, доктор, не правда ли? — спросил Израиль.
Мудрец кротко посмотрел на Израиля поверх очков и ответил:
— Друг мой, никогда не позволяйте себе шутить в денежных делах. Никогда не шутите на похоронах и в деловых переговорах. То, что произошло между нами, вам может казаться пустяком, однако и в пустяке порой проявляется важнейший принцип. Но пока довольно об этом. Вам следует немедленно отправиться на поиски вашего чистильщика сапог. Уладив дело с ним, возвращайтесь сюда — тем временем для вас будет приготовлена комната, из которой вы не будете выходить, пока для вас не настанет время покинуть Париж.
— Но мне хотелось бы до отъезда в Англию осмотреть город, — сказал Израиль.
— Сначала дело, а потом уж удовольствия, мой друг. Вы должны оставаться в своей комнате так, словно вы у меня под арестом, и не покидать ее до отъезда в Кале. Я пока не знаю, когда именно вы должны будете тронуться в путь, и поэтому ваше постоянное присутствие в доме необходимо. Но когда вы вновь вернетесь сюда из Брентфорда, вот тогда, если ничего не случится, у вас будет достаточно времени, чтобы ознакомиться с этой прославленной столицей, прежде чем вы отплывете в Америку. А теперь идите и скорее расплатитесь с чистильщиком. Впрочем, постойте-ка! Есть у вас необходимая мелочь? Не вздумайте вынимать посреди улицы все ваши деньги.
— Право, доктор, я не так глуп, — сказал Израиль.
— Но ведь вы опрокинули ящик!
— Это, доктор, было мужеством.
— Мужество, проявленное во имя недостойной цели, есть верх глупости, друг мой… Приготовьте-ка нужные деньги. И платить ему следует французской монетой, а не английской. Нет-нет, этого достаточно — больше этих трех монеток не понадобится. Положите их в другой карман, отдельно от остальных ваших денег. А теперь — скорее на мост.
— Можно мне будет перекусить где-нибудь на обратном пути, доктор? По дороге сюда я видел две-три харчевни.
— Здесь их называют кофейнями и ресторациями, мой честный друг. А теперь скажите мне, вы человек состоятельный?
— Не слишком, — ответил Израиль.
— Я так и думал. Бедняк порой может пообедать у приятеля, если там не подают слишком много вина, но ему никогда не следует обедать в ресторациях за собственный счет. Никогда не платите за обед, если можете пообедать дома. Нет, мой честный друг, никуда не заходите, а возвращайтесь прямо сюда и пообедайте со мной даром.
— Весьма вам благодарен, доктор.
После чего Израиль отправился на Новый мост. Покончив там со своим делом, он вернулся к доктору Франклину. Почтенный посланник ждал его за столом, на котором уже стоял обед, принесенный, как это было заведено у доктора, из соседней ресторации. Стол был накрыт на две персоны, и хозяин с гостем приступили к трапезе без помощи слуг. Она состояла из одного блюда — вареной баранины с зеленым горошком, а также из картофеля и хлеба. Возле прибора почтенного посланника стоял графин из бесцветного стекла, наполненный каким-то бесцветным напитком.
— Позвольте мне наполнить ваш стакан, — сказал мудрец.
— Это ведь белое вино, правда? — спросил Израиль.
— Да, белое вино самой древней марки на свете. Я выпью его за ваше здоровье, мой честный друг.
— Это же простая вода, и больше ничего! — воскликнул Израиль, пригубив свой стакан.
— Простая вода — отличный напиток для простых людей, — ответил мудрый старец.
— Конечно, — сказал Израиль. — Но вот сквайр Вудкок угощал меня грушовкой, джентльмен в Уайт-Уотеме — портвейном, а другие мои знакомые потчевали меня и коньяком.
— Прекрасно, мой честный друг. Если вам нравится грушевое вино, портвейн и коньяк, то погодите, пока не вернетесь к сквайру Вудкоку, джентльмену в Уайт-Уотеме и другим своим знакомым — и тогда вы будете пить грушевое вино, портвейн и коньяк. Но у меня вы будете пить простую воду.
— Это я уже понял, доктор.
— Как по-вашему, сколько стоит рюмка портвейна?
— Три английских пенса, доктор, или около того.
— Не слишком же хороший это был портвейн. А сколько хорошего хлеба можно купить на три пенса?
— Три булки по пенни штука, доктор.
— А сколько рюмок портвейна можно, по-вашему, выпить за обедом?
— Джентльмен в Уайт-Уотеме выпивал бутылку.
— Бутылка же вмещает тринадцать рюмок, что составит тридцать девять пенсов при условии, что портвейн будет скверным. Хороший же портвейн — а разумный человек другого пить не станет, ибо это все-таки меньшая отрава, — обойдется вчетверо дороже, то есть в сто пятьдесят шесть пенсов, а это составит семьдесят восемь караваев по два пенса штука. Ну, а как по-вашему, когда человек за обедом съедает семьдесят восемь двухпенсовых караваев — не слишком ли это много?
— Но, доктор, он же выпил бутылку вина, а не съел семьдесят восемь двухпенсовых караваев.
— Однако на выпитое им можно было бы купить семьдесят восемь караваев, что равносильно поглощению этих самых караваев, ибо деньги суть хлеб.
— Но ведь у него много лишних денег, доктор.
— Иметь лишнее — значит давать другим. Много ли этот джентльмен отдает другим?
— Нет, насколько мне известно.
— В таком случае он считает, что у него нет ничего лишнего, а раз он придерживается такого мнения и все же каждый день мотовски пропивает свои деньги, значит, на мой взгляд, он противоречит сам себе, а поэтому не может служить достойным примером для простых разумных людей вроде нас с вами. Мой честный друг, если вы бедны, избегайте вина, как расточительной роскоши, а если богаты, берегитесь его, как смертоносной слабости. Пейте чистую воду. Ну, мой добрый друг, если вы насытились, то встанем из-за стола — никаких сладких печений нам не подадут. Сладкое печенье — это отравленный хлеб. Никогда не ешьте сладкого печенья. Оставайтесь простым человеком и потребляйте простую пищу. А теперь, мой друг, я хотел бы уединиться до девяти часов вечера, после чего вновь буду к вашим услугам. Вы же можете удалиться в свою комнату. Я распорядился, чтобы вам приготовили помещение рядом со мной. Но не предавайтесь безделью. Вот возьмите «Альманах Бедного Ричарда»,[37] который после нашей беседы я особенно настоятельно рекомендую вашему вниманию. А вот еще путеводитель по Парижу на английском языке, так что вы сможете его прочесть. Проштудируйте его как следует, и если вам представится случай осмотреть Париж, когда вы вновь вернетесь из Англии, вы уже заранее будете знать историю всех его главных достопримечательностей. В земной юдоли человек должен запасаться знанием прежде, чем оно ему понадобится, точно так же, как наши земляки в Новой Англии готовят дрова летом, чтобы обогреваться зимой.
И с этими словами практичный мудрец, хозяйственный Платон проводил своего гостя до порога и указал ему дверь предназначенной для него комнаты.
Глава VIII
В КОТОРОЙ ПОВЕСТВУЕТСЯ О ДОКТОРЕ ФРАНКЛИНЕ И ЛАТИНСКОМ КВАРТАЛЕ
Первый как по времени, так и по заслугам из американских посланников прославился сельской простотой своего обихода не менее, чем политической остротой своего ума. В определенном смысле Бенджамин Франклин обладал некоторым сходством с древними обитателями Востока. Да и в Писании можно найти его подобие. Ведь история патриарха Иакова[38] столь интересна не только благодаря способности к бескорыстной преданности, которую мы в нем видим, но и благодаря великой житейской мудрости и отточенному итальянскому такту, проглядывающему сквозь покров аркадийской безыскусственности.[39] В нем сливаются воедино дипломат и пастух — союз не такой уж противоестественный. Апостольский змий и голубь. Смуглый Макиавелли[40] в кочевом шатре.
Можно равным образом не сомневаться, что Иаков, хоть он и был господином странствующего поместья, все же носил домотканые одежды. А кто не слышал о скромнейшем кафтане и панталонах бережливого посланника?
Франклин во всем последователен. Он одевался так же, как писал: аккуратно, добротно — все необходимое и ничего лишнего. В некоторых трудах его стиль уступает только безупречным периодам Гоббса из Малмсбери,[41] этого несравненного мастера ясности. Склад ума Гоббса и Франклина в некоторых отношениях подобен — и особенно в одном весьма важном пункте. Собственно говоря, если отбросить различия эпох и стран обитания, в истории трудно отыскать более похожую троицу, нежели Иаков, Гоббс и Франклин: трое сложно мыслящих, но просто говорящих квакеров,[42] в которых политик сочетается с философом, трое проницательных ловцов удобного случая, трое расчетливых придворных, трое практичных волшебников в простой одежде.
Следуя своим привычкам, доктор Франклин в те дни, когда он представлял Америку при французском дворе, не поселился в аристократическом предместье. Он полагал, что ему, человеку с простыми вкусами и учеными склонностями, должно избрать местом своего обитания левый берег Сены, где философического Бедного Ричарда особенно манили старинные стены Латинского квартала, этого приюта ученой премудрости и бережливости. Там сумрачным утром под моросящими ноябрьскими небесами по темным плитам внутреннего двора древней Сорбонны расхаживал в домашних туфлях худой метафизик, обдумывая тему очередной лекции и совсем забыв, что его высокие мысли и потрепанный гардероб славятся по всей Европе; а тем временем в старой лаборатории над его головой какой-нибудь химик в рваном халате и с засаленной зеленой повязкой на левом глазу усердно трудился, склонив землистое лицо над ретортами и тиглями — открывая новые свойства кислот, вновь и вновь рискуя вызвать внезапный взрыв вроде того, который уже лишил его одного глаза; а в окрестных многоэтажных домах студенты, собравшиеся сюда со всех концов Европы, старательно утюжили мятые треуголки и мазали чернилами белесые швы порыжелых панталон перед тем, как отправиться гулять в Люксембургский сад с маленькой гризеткой в розовых лентах.
В давние времена Латинский квартал был обиталищем знати, и до сих пор в нем сохраняется много старинных зданий, величественный вид которых никак не вяжется со скромными привычками их нынешних обитателей. Некоторые улицы квартала унылы и сумрачны, словно приют монахов и чернокнижников. Бродя по этим безлюдным и пустынным узеньким проулкам, где по обе стороны вздымаются безмолвные громады огражденных железными решетками домов из темно-серого камня, так и ждешь, что за углом из-под таинственной арки выйдет Парацельс[43] или монах Бэкон[44] с фиалом, который скрывает какой-нибудь страшный эликсир, созданный с помощью черной магии.
Однако далеко не все дома там столь угрюмы. Не говоря уж об относительно современных зданиях, многие старинные особняки соединяют суровость фасада с внутренним убранством, отмеченным легким изяществом женского вкуса. Украшающая, смягчающая или маскирующая рука женщины чувствуется во всех интерьерах этой столицы. Подобно Августу в Риме,[45] француженка оставила на облике Парижа свой неповторимый знак. Ее руку, как и руку природы, можно всегда узнать безошибочно. Однако иногда она забывает чувство меры — как природа, создавая пион; или проявляет скаредность — как природа, создавая колючки; или же (и чаще всего) бывает чуть-чуть неряшлива — как природа, создавая лопухи.
В этом-то близком ему по духу Латинском квартале, в одном из описанных выше старинных домов где-то между Дворцом изящных искусств и Сорбонной и разбивал свой шатер почтенный американский посланник в те дни, когда он не жил в загородном доме в Пасси. Несмотря на всю скромность своего образа жизни, он все же пользовался уважением самых изнеженных сибаритов этой пышнейшей из столиц, где даже чугунные решетки сверкают позолотой. Франклин умел беседовать с дамами, как и с мужчинами, и был умудрен опытом не менее, чем годами. Не только прославленные парижские ученые, философы и литераторы несли ему дань уважения, но он в свои семьдесят два года был обласканным любимцем знатнейших придворных красавиц, которые, заинтересовавшись знаменитым savant[46] по велению слепой моды, стали потом его верными поклонницами, покоренные этим по-платоновски изящным и мягким умом. Франклин, хорошо изучивший свет, мог играть в нем любую роль. По натуре своей искатель знаний, он нередко бывал серьезным, но озабоченным — никогда. Вернее, порой он бывал озабочен — чрезвычайно озабочен, — но всегда делами других людей, а не своими. Дух его был безмятежен. Эта безмятежность, так сказать, философское легкомыслие, отразилась в пестром разнообразии избираемых им занятий. Печатник, почтмейстер, издатель альманаха, памфлетист, химик, оратор, жестянщик, государственный деятель, юморист, философ, светский человек, знаток политической экономии, профессор домоводства, посол, прожектер, творец афоризмов, знахарь — мастер на все руки, покоряющий все призвания, но не покорившийся ни одному из них, плоть от плоти своей страны и ее гениальный сын, Франклин, пожалуй, не был только поэтом. Однако столь богатый дух, своего рода живой индекс и миниатюрное представительное собрание всего человечества, способен проявить свою многосторонность только в соприкосновении со столь же богатым разнообразием людей и явлений, и в такой безыскусной повести, как наша, может быть дан лишь беглый набросок, а не полный портрет мудреца. Эта беседа с Израилем в уединении его жилища показывает отнюдь не самые замечательные его свойства, а лишь бережливость, домовитость, умеренность в пище и, быть может, шутливую назидательность. Почтенный мудрец был весьма склонен к добродушной иронии и безобидной насмешливости. И автор настоящего повествования, рисуя доктора Франклина за не слишком возвышенными занятиями, словно играет с грубым шерстяным чулком прославленного ученого, а не прикасается благоговейно к высокочтимой шляпе, некогда величественно венчавшей его чело.
Итак, доктор Франклин проживал в Латинском квартале. А посему в Латинском квартале поселился на некоторый срок и Израиль. И когда мудрец пожелал остаться в одиночестве, то он попросил Израиля удалиться в комнату, находившуюся в доме, который был расположен все в том же Латинском квартале.
Глава IX
ИЗРАИЛЬ ПОЗНАЕТ ТАЙНЫ ДОХОДНЫХ ДОМОВ ЛАТИНСКОГО КВАРТАЛА
Притворив за собой дверь, Израиль вышел на середину комнаты и с любопытством осмотрелся.
Темный пол, паркетный, но без ковра; два кресла красного дерева с вышивными сиденьями, кое-где протертыми; одна кровать красного дерева с пестрым, но полинявшим покрывалом; мраморный умывальник, весь в трещинках, и фарфоровый кувшин с водой, но без ручки. Комната показалась ему огромной — эта часть обширного построенного квадратом дома некогда была особняком вельможи. Внушительные размеры комнаты придавали скудной мебели еще более убогий вид.
Однако мраморная полка над камином (добавленная сравнительно недавно) и то, что находилось на ней, в глазах Израиля не только искупали все остальное, но и придавали комнате вид роскошный и уютный. Особенно ему понравилось старомодное квадратное зеркало, огромное и тяжелое, которое было вделано в стену над полкой наподобие мемориальной доски. В зеркале же этом весело отражались следующие изящные вещицы: во-первых, два букета в прелестных фарфоровых вазах; во-вторых, один кусок белого мыла; в-третьих, один кусок розового мыла (оба они источали благоухание); в-четвертых, одна восковая свеча; в-пятых, одна фарфоровая коробочка с трутом и огнивом; в-шестых, один флакон одеколона; в-седьмых, один бумажный фунтик сахара, уже наколотого так, что его можно было положить в сахарницу; в-восьмых, одна серебряная чайная ложка; в-девятых, один небольшой стеклянный стакан; в-десятых, один графин с холодной прозрачной водой; и в-одиннадцатых, одна запечатанная бутылка с жидкостью благородно-золотистого цвета и этикеткой «Отар».
— И что это еще за «О-т-а-р»? — рассуждал вслух Израиль, прочитав надпись по буквам. — Может, сходить к доктору Франклину и спросить? Он ведь все знает. Ну-ка понюхаем. Нет, закупорено плотно и весь запах сидит внутри. А цветы красивые. Понюхаем. Тоже не пахнут. А, вот в чем дело: это цветы, как на дамских шляпах — коленкоровые цветы. Отличное мыло. И вот оно-то пахнет… ни дать ни взять, розы из мыла — белая роза и красная роза. А этот пузырек с длинным горлышком похож на журавля. И что это в него налито? Ну-ка, ну-ка! О-де-ко-лон. Может, и доктор Франклин тут не разберется? Похоже на его белое вино. Сахар хороший. Ну-ка попробуем. Да, очень хороший сахар, сладкий, как… ну да, прямо как сахар. Получше кленового, который варят у нас. Только грызть надо потише, а то еще доктор услышит. А это чайная ложка. Для чего бы ей тут лежать? Чая нет, и чайной чашки тоже; зато есть стаканчик и вода для питья. Дайте-ка сообразить. А ведь если сопоставить это, да это, да то, получаются вроде как буквы, и со значением. Ложка, стаканчик, вода, сахар… и получается «коньяк». Значит, «О-т-а-р» — это коньяк. Кто все это здесь поставил? И для чего? Сахар ведь не украшение, да и ложка тоже, и кувшинчик с водой. И смысл может быть только один: некий невидимый благодетель любезно приглашает меня выпить стаканчик коньяка с сахаром, если я того пожелаю, — и воздержаться, если я того не пожелаю. Вот как я все это толкую. Однако надобно, пожалуй, спросить у доктора Франклина: вдруг да я ошибся и это чьи-то чужие вещи, вовсе не для меня предназначенные. О-де-ко-лон, для чего бы… ну, неважно. Мыло — мылом моются. Мыло мне, во всяком случае, нужно. Давайте-ка поглядим… нет, на умывальнике мыла нет. Значит, в Париже жильцы мыло даром не получают. Если оно тебе понадобилось — пожалуйста, бери с каминной полки, и его поставят в счет. Не понадобилось — не трогай и не плати. Что ж, это выходит справедливо. Хотя тому, для кого такое мыло не по карману, все время видеть перед собой два таких прекрасных куска — большой соблазн. Ну, и если на то пошло, «О-т-а-р» — тоже соблазн немалый. Впрочем, коли он не придется мне по вкусу, я его больше пить не стану. Надо бы попробовать. А бутылка запечатана. И вдруг я читаю эти буквы неправильно! Кто его знает! Ну, да от одного глотка худа не будет. Эй, пробка, вылезай… Идут!
В дверь постучали.
Поспешно поставив бутылку на место, Израиль сказал:
— Войдите.
Это был мудрец.
— Мой честный друг, — заговорил доктор, входя в комнату энергичной походкой, — я был так занят, пока вы завершали свое дело на Новом мосту, что не успел посмотреть приготовленную для вас комнату. Я только распорядился, а потом мне сказали, что мое распоряжение выполнено. Но сию минуту мне вспомнилось, что у парижских квартирных хозяек в ходу странные обычаи, которые могут поставить чужестранца в тупик, и поэтому я поспешил к вам, дабы разъяснить все, чего вы могли не понять. Да-да, так я и думал, — добавил он, взглянув на каминную полку.
— Я, доктор, как раз хотел спросить у вас, что такое «О-т-а-р»?
— «Отар» — это яд.
— Страсти какие!
— Да, и, пожалуй, лучше всего мне будет немедленно забрать его отсюда, — ответил мудрец, деловито сунув бутылку под левую мышку. — Надеюсь, вы не пользуетесь одеколоном?
— А… а что это такое, доктор?
— Понятно. Вы никогда даже не слышали об этой никому не нужной роскоши — похвальное невежество. Вам довольно обонять цветы ваших гор. Значит, он вам тоже не понадобится, — и флакон с одеколоном нашел приют под правой мышкой. — Свеча… она вам понадобится. Мыло… мыло вам нужно. Возьмите белый кусок.
— Он дешевле, доктор?
— Да, и ничем не хуже розового. Надеюсь, у вас нет привычки грызть сахар? Это портит зубы. Сахар я забираю. — И фунтик с сахаром исчез в одном из вместительных карманов, украшавших кафтан ученого.
— Так уж возьмите и всю мебель, доктор Франклин! Давайте я помогу вам вытащить кровать.
— Мой честный друг, — ответил мудрец, спокойно останавливаясь, и бутылки у него под мышками блеснули, как бычьи пузыри на поясе купальщика. — Мой честный друг, кровать вам понадобится; я же собираюсь изъять отсюда лишь то, что вам понадобиться не может.
— Я просто пошутил, доктор.
— Это я понял. Шутить не к месту — дурная привычка: нужно знать, когда шутить и с кем шутить. Все эти предметы разложила на каминной полке хозяйка, чтобы гость выбрал то, что ему нужно, а остального не трогал. Завтра утром вашу комнату придет убрать служанка. Она унесла бы все, что вам не понадобилось, а прочее было бы поставлено в счет, даже если бы вы использовали лишь чуточку.
— Я так и подумал. Но тогда, доктор, зачем же вам беспокоиться и уносить бутылки?
— Зачем? Но разве вы не у меня в гостях, мой честный друг? Я был бы плохим хозяином, если бы позволил кому-то третьему оказывать вам ненужные услуги под кровом, который пока считается как бы моим.
Эти слова мудрец произнес самым любезным, самым искренним тоном. А кончив, слегка поклонился Израилю с кротким достоинством.
Очарованный его обходительностью, Израиль не промолвил больше ни слова и молча смотрел, как он вышел из комнаты, унося бутылки и все прочее. И только когда первое впечатление от любезности почтенного посланника несколько ослабело, он догадался об успешном тактическом маневре, который скрывался за столь лестной для него заботливостью.
— Да! — размышлял Израиль, понуро усевшись напротив опустошенной каминной полки и держа в руке пустой стаканчик и чайную ложку. — Не очень-то приятно иметь соседом такого вот доктора Франклина. Неужто он всех здешних жильцов так опекает? Эх, и ненавидят же его торговцы «О-т-а-р-ом», да и все кондитеры тоже! А ведь хороший пирог помог бы мне сейчас скоротать время. Интересно, пекут ли в Париже пироги с тыквой? Так, значит, мне из этой комнаты и выйти нельзя! Видно, такая уж моя судьба — тут ли, там ли, а все мне приходится сидеть под замком. Ну, на этот раз хоть то утешение, что я тут послом. Спасибо и на этом… Стучат! Опять доктор. Войдите!
Однако вместо почтенного мудреца в комнату впорхнула молоденькая француженка: щечки ее горели румянцем, чепчик был украшен розовыми бантами, вся она искрилась весельем, и даже кончики ее локтей дышали грацией. Самая обворожительная служаночка во всем Париже! Безыскусственность, сотворенная с большим искусством.
— Ах, пардон, мосье!
— Вам ли просить пардону! — сказал Израиль. — Вы к посланнику?
— Мосье, вы… вы… — Она споткнулась о первое же слово на чужом языке, и из ее уст заструился сверкающий поток французских фраз — комплименты в адрес незнакомца и заботливые расспросы: удобно ли ему здесь и нет ли чего-нибудь, какой-нибудь мелочи, в которой бы он нуждался… Однако Израиль, ничего не понимая, только любовался изяществом девушки, ее чарующим обликом.
Несколько секунд она смотрела на него с прелестным, хорошо отрепетированным выражением отчаяния, а затем, помедлив без какой-либо определенной цели, разразилась новым потоком непонятных комплиментов и извинений, после чего выпорхнула из комнаты с легкостью сильфиды.[47] Едва девушка скрылась, Израиль погрузился в размышления по поводу престранного взгляда, который она бросила на него, исчезая. Ему казалось, что во время их краткой встречи он ненароком чем-то не угодил прекрасной гостье. Он никак не мог взять в толк, почему она вошла, источая самую дружескую любезность, а удалилась как будто обиженная, с презрительно-насмешливой веселостью, которая язвила тем сильней, что была прикрыта маской вежливости.
Едва дверь за ней затворилась, как в коридоре раздался шум, и Израиль догадался, что девушка в спешке, вероятно, обо что-то споткнулась. Вслед за этим в соседней комнате послышался скрип отодвигаемого кресла, и в его дверь опять постучали. На этот раз к нему вновь явился почтенный мудрец.
— Мой друг, у вас как будто сейчас кто-то был?
— Да, доктор. Сюда приходила очень хорошенькая девушка.
— Так вот, я решил заглянуть к вам, чтобы объяснить еще один странный парижский обычай. Эта девушка — здешняя служанка, но она не ограничивается одним только этим занятием. Берегитесь парижских служанок, мой честный друг! И посему не передать ли мне ей от вашего имени, что вам неприятно заставлять ее бегать по стольким лестницам и в дальнейшем вы согласны обойтись без ее посещений?
— Но почему же, доктор Франклин? Она такая миленькая.
— Я знаю это, мой честный друг: но чем милее, тем опаснее. Мышьяк ведь слаще сахара. Но я не сомневаюсь, что хитрой аммонитянке[48] не под силу обмануть столь разумного молодого человека, как вы, и посему не замедлю передать ей ваше поручение.
С этими словами мудрец вновь удалился, а Израиль опять, еще более понуро, опустился в кресло напротив опустошенной каминной полки, напротив зеркала, которому уже не суждено было вновь отразить очаровательную фигурку маленькой служанки.
«Каждый раз, как он сюда заходит, он меня грабит, — печально рассуждал Израиль, — да еще с таким видом, будто преподносит мне подарки. Коли он считает меня таким уж разумным молодым человеком, то и дал бы мне поступать по моему разумению».
Начинало смеркаться. Израиль зажег восковую свечу и принялся читать путеводитель по Парижу.
— От таких прогулок радости мало, — пробормотал он в конце концов. — Сиди здесь один в обществе пустого стакана и читай о чудесах Парижа, когда ты в этом самом Париже всего только пленник. Вот случилось бы сейчас что-нибудь необыкновенное: вошел бы сюда незнакомый человек и подарил бы мне десять тысяч фунтов! Впрочем, вот «Бедный Ричард». Я и сам бедняк; так посмотрим, чем он утешит товарища.
Открыв книжечку наугад, Израиль начал читать вслух первые попавшиеся строки:
— «Так есть ли смысл ждать и надеяться на лучшие времена? Мы можем сами сделать их лучше, если не будем сидеть сложа руки. Прилежание не нуждается в пустых мечтах, а тот, кто питается надеждой, умрет с голоду, как говорит Бедный Ричард. Без трудов не бывает плодов. Так давайте, руки, трудиться, коли нет у меня землицы, как говорит Бедный Ричард». Черт бы побрал такую мудрость. Это же просто измывательство — вот так поучать уму-разуму человека вроде меня. Мудрость-то дается дешево, а вот деньги дорого. Бедный Ричард этого не говорит, а следовало бы, — докончил Израиль, бросая книжку на стол.
Он пошел было к каминной полке, посмотрел на искусственные цветы и розовое мыло, но затем вернулся к столу и взял обе книги.
— Вот, значит, «Путь к богатству»,[49] а вот «Путеводитель по Парижу». Интересно знать, не лежит ли Париж на пути к богатству. В таком случае я держусь правильного направления. Однако вернее будет считать, что тут перекресток и дороги расходятся. Не удивлюсь, если доктор неспроста дал мне эти книжечки. Старичок-то хитроват и себе на уме — сразу видно. Да и мудрость его с хитринкой. Но честная, ничего не скажешь. По-моему, он из тех господ, кто говорит умно, а намекает и того умнее. Верно — хитер, хитер, хитер! Ну-ка, что тут говорит этот Бедный Ричард? «Бог помогает тому, кто сам себе помогает». Обдумаем. Бедный Ричард — не «мокальщик»,[50] хоть и жил в Пенсильвании. «Бог помогает тому, кто сам себе помогает». Отмечу-ка я эту строчку, а книжечку оставлю открытой и посмотрю потом… А?
На этот раз доктор постучал, чтобы пригласить Израиля к себе. В его комнате они выпили жидкого чаю с сухариками, и между ними завязалась дружеская беседа. Израиль был очарован безыскусственной разговорчивостью, спокойной проницательностью и благодушной снисходительностью мудреца. Но при всем при том он по-прежнему был не в силах простить ему похищение «Отара» и одеколона.
Узнав, что в юности Израиль трудился на ферме, ученый заговорил о сельском хозяйстве и среди многого прочего описал своему гостю изобретенное им (доктором) ярмо, запирающееся не на чеку, а на пружину, благодаря чему запрягать волов в телегу станет гораздо легче. Израилю очень понравилось это изобретение, и он подумал, что, будь он сейчас в родных горах, он непременно сообщил бы об этом ярме всем соседям.
Глава Х
НА СЦЕНЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЕЩЕ ОДИН ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Примерно в половине одиннадцатого эту мирную беседу прервала приятельница Израиля, хорошенькая служанка, которая постучала в дверь и с хихиканьем доложила, что очень грубый господин желал бы видеть доктора Франклина и ждет ответа во дворе.
— Очень грубый господин? — переспросил мудрец по-французски, бросив на служанку проницательный взгляд. — Это значит: очень учтивый господин, не поскупившийся на весьма энергичные комплименты. Проводите же его сюда, моя милая, — добавил он с благодушной снисходительностью.
Через несколько минут за дверью послышались быстрые кокетливые шажки и нагоняющие их твердые мужские шаги. Дверь приотворилась. Израиль сидел так, что сквозь щель у притолоки он увидел коридор именно в тот миг, когда дверь, словно ширма, заслонила от доктора Франклина входящего гостя. И сквозь эту щель Израиль успел заметить сценку, разыгравшуюся под защитой двери между хорошенькой служанкой и незнакомцем. Шаловливая нимфа, по-видимому, убежала на лестнице вперед — несомненно, в шутливую отместку за какую-нибудь галантную вольность, но в последнюю минуту позволила себя догнать: Израиль увидел ее, как раз когда она, мило раскрасневшись, с притворным негодованием терла локоть, за который ее только что игриво ущипнули, и получала не менее игривый поцелуй в щечку.
В следующее мгновение за щелью уже никого не было: девушка направилась к лестнице, а новый гость доктора Франклина исчез из виду за дверью и тут же вновь появился — уже в комнате. Израилю вдруг показалось, что за этот краткий миг, пока он не видел незнакомца, тот успел совершенно преобразиться.
Он был невысок, гибок, очень смугл и чем-то напоминал индейского вождя в европейской одежде, лишенного наследия своих предков. В его сумрачных властных глазах таилось пламенное упорство, граничащее с одержимостью. На нем было прекрасное и даже слишком щегольское партикулярное платье, а в его манерах странно сочетались деревенская развязность и лоск, недавно заимствованный в светских салонах Парижа. Его щеки, коричневатые, как финики, приводили на ум тропические страны. Это необычайное лицо дышало горделивым дружелюбием и презрительной замкнутостью. И все же он походил не только на благородного разбойника былых времен, но и на поэта. Губы его свидетельствовали о хладнокровии и храбрости. Казалось, он принадлежал к тем, кто ищет опасностей и сам идет им навстречу. И видно было, что он никогда никому не подчинялся и никогда никому не подчинится.
Израиль сказал себе, что впервые в жизни встречает подобного человека. Хотя одет он был по самой последней моде, в нем угадывался дикарь.
Наружность незнакомца так сильно поразила нашего искателя приключений, что прошло несколько минут, прежде чем он опомнился от изумления и заметил, что доктор Франклин и его гость поздоровались, точно старые знакомые, и, едва сев, тотчас начали оживленный разговор.
— Вы вольны поступать, как вам угодно, но я не намерен долее быть просителем, — сказал незнакомец гневно. — Конгресс обещал мне, что, приехав сюда, я немедленно получу в свое распоряжение «Индейца», однако не успел корабль сойти с амстердамских стапелей, как вы, комиссары, по совершенно непонятной мне причине преподнесли его французскому королю, а я остался ни с чем. Ну, что французский король может сделать с таким фрегатом? И что могу с ним сделать я! Верните мне моего «Индейца», и менее чем через месяц вы услышите о славных подвигах или о славной гибели Поля Джонса.[51]
— К чему такая горячность, капитан? — попробовал утихомирить его доктор Франклин. — Лучше скажите мне, что вы сделали бы с фрегатом, если бы он был отдан под вашу команду.
— Я показал бы чванным британцам, что Поль Джонс, хоть он и родился на Британских островах, — не подданный британского короля, а вольный гражданин и мореплаватель вселенной; и я показал бы им, кроме того, что их собственные берега уязвимы ничуть не меньше американского побережья, которое они столь беспощадно опустошают. Дайте мне «Индейца», и я обрушусь на греховную Англию, как огненный дождь обрушился на Содом.
Эти хвастливые слова были произнесены не тоном хвастуна, но тоном пророка. Незнакомец, сидевший в своем кресле прямо, как ирокез, был словно пылающий факел.
Ему как будто удалось слегка смутить философскую безмятежность старого мудреца, который, хотя и не пытался скрыть свое восхищение несомненным мужеством этого человека, все же морщился от его чрезмерной бравады.
И словно чтобы переменить тему, а также привести своего собеседника в лучшее расположение духа (а может быть, и для того, чтобы использовать его одержимость в своих собственных целях), мудрец придвинулся к нему поближе, дружески положил руку ему на колено и, ласково по этому колену похлопывая, словно укротитель, успокаивающий раздраженного царя зверей, заговорил медоточивым голосом:
— Капитан, забудьте на время про «Индейца». Этот разговор может пока и подождать. А теперь послушайте: джерсейские каперы чинят нам немало бед, мешая нашему снабжению. И мне говорили, что, будь у вас небольшой корабль — например, подошла бы и ваша «Амфитрида», — вы, человек столь доблестного духа, могли бы оказать нам неоценимую услугу, настигая каперов там, куда большие корабли не в состоянии проникнуть из-за мелководья, или выманивая их из безопасных убежищ в открытое море, где их уже поджидали бы фрегаты из Бреста, которые будут следовать за вами в некотором отдалении.
— Стать уткой-подсадкой для французских фрегатов! Весьма благородное занятие! — прошипел Поль, вне себя от ярости. — Доктор Франклин! Все, что Поль Джонс сделает для Америки, будет сделано, только если ему предоставят полную свободу во всем — чтобы он сам был для себя верховным адмиралом и своим единственным советчиком. Неужели услуги, оказанные мною у американских берегов, не подтверждают, что я достоин подобного доверия? Почему же вы хотите унизить меня, лишив привилегий, которые уже были мне даны? Я хочу возвыситься, а не пасть. Ведь я живу лишь для чести и славы. Так поручите же мне какое-нибудь славное и почетное дело и дайте достойные средства для его выполнения. Дайте мне «Индейца».
Мудрец медленно покачал головой.
— Все будет потеряно из-за трусливого мямленья, которое выдают за благоразумие! — воскликнул Поль Джонс, вскакивая на ноги. — Война только тогда может быть победоносной, если уподобляется муссону, когда каждая частица с неуклонной решимостью устремляется к единой общей цели. Но в боязливых советах государственные мужи лишь тянут время, и их усилия приносят не больше пользы, чем переменчивый бриз, который морщит воду в часы штиля. О господи! Почему я не родился самодержцем!
— А вернее сказать, северо-западным ветром. Ну, ну, успокойтесь, капитан, — продолжал мудрец. — И присядьте. Мы же здесь не одни. — И он указал на Израиля, совсем завороженного вулканическим духом незнакомца.
Поль, слегка вздрогнув, оборотился и в первый раз осознал присутствие Израиля, которого в увлечении спора до сих пор не замечал, тем более что тот все это время сохранял полнейшую неподвижность.
— Ничего не опасайтесь, капитан, — сказал мудрец. — Этот человек — американец, верный патриот, присланный ко мне с тайным поручением. Он бежал из английского плена.
— Вас захватили с кораблем? — живо спросил Поль. — С каким же? Я знаю, что им командовал не я! Ни один корабль Поля Джонса не сдавался в плен!
— Я, сэр, служил на бригантине «Вашингтон», — ответил Израиль. — Нас захватили, когда мы крейсировали у Бостонского порта, мешая подвозу припасов.
— А ваши корабельные товарищи много про меня рассказывали? — осведомился Поль с гордым видом индейца сиу, выставляющего напоказ все свои побрякушки. — Что они говорили про Поля Джонса?
— Я услышал это имя в первый раз сегодня вечером, — ответил Израиль.
— Что?! Ах да… бригантина «Вашингтон»!.. Ее же захватили до того, как я перехитрил фрегат «Солби», дрался с «Милфордом» и захватил у Луисберга «Меллиш» с остальными. Конечно, в плену эти новости до вас не доходили, мой милый, — добавил он с состраданием.
— Наш друг ответил вам по-простецки, — сказал мудрец с лукавой усмешкой, обращаясь к Полю.
— Да. И поэтому он мне нравится. Не хотите ли пойти в море с Полем Джонсом, мой милый? Тот, кто говорит по-простецки, дерется по-молодецки. Ну, так как же, любезный, поедешь со мной в Брест? Я отправляюсь туда через несколько дней.
Заразившись пылом Поля Джонса, Израиль совсем забыл о своем желании вернуться на родину и готов уже был с восторгом согласиться, но доктор Франклин поспешил ответить за него.
— Нашему другу, — сказал он капитану, — в настоящее время поручена иная важная миссия.
Между доктором Франклином и Полем Джонсом опять завязалась беседа, и последний вновь и вновь повторял, что устал сидеть без дела, и вновь и вновь твердил, что не примет никакого поручения, если при его выполнении он будет вынужден кому-нибудь подчиняться, пока в конце концов почтенный посланник, на которого неуступчивость его гостя произвела все же немалое впечатление (ведь эта черта, столь неприятная в частном разговоре или при решении гражданских дел, на войне так же необходима, как снаряды и порох), не заверил Поля, уснащая свою речь множеством комплиментов, что он приложит все усилия, дабы доблестному капитану было предложено предприятие, достойное его заслуг и талантов.
— Благодарю вас за откровенность, — сказал Поль. — Я сам прямодушен и люблю иметь дело с людьми столь же прямодушными. Вы, доктор Франклин, человек глубокой честности и мудрости, и поэтому вы прямодушны.
Ученый тихо улыбнулся, но в уголках его рта притаилось насмешливое недоверие.
— Ну, а не обсудить ли нам теперь наш с вами замысел несколько изменить устройство военных кораблей? — сказал доктор, меняя тему разговора. — Если бы он удался, мы сослужили бы хорошую службу новорожденному флоту Америки. Со времени нашей последней беседы, капитан, я в свободные минуты хорошенько надо всем этим поразмыслил и начал строить небольшую модель, которую сейчас вам покажу. В механике каждую новую идею следует елико возможно быстрее облекать плотью. Ибо материальные тела легче поддаются улучшениям, нежели идеи.
С этими словами он извлек из ящика комода небольшую корзину, содержавшую какой-то непонятный деревянный каркас и несколько планок и чурок. На первый взгляд она напоминала те корзины, в которых хранятся поломанные детские игрушки.
— Ну-ка взгляните сюда, капитан. Правда, модель еще только начата, но и этого достаточно, чтобы показать, насколько неосуществима по крайней мере одна из ваших идей.
Поль приготовился выслушать мнение мудреца со всем вниманием и почтением, а Израиль, сгорая от любопытства, испытывал невероятную гордость оттого, что оказался свидетелем совещания двух таких людей, да к тому же совещания, которое могло даже повлиять на столь величественное дело, как обретение свободы целой нацией.
— Если, — продолжал доктор, взяв две планки и прилаживая их вдоль верхнего края своего сооружения, — если, желая более надежно укрыть свою команду во время боя, вы поставите фальшборт, как намеревались — вот так и так, — то из-за веса потребных для этого бревен центр тяжести корабля переместится. Он у вас окажется слишком высоко.
— Можно будет соответственно увеличить балласт в трюме, — ответил Поль.
— Тогда осадка корабля окажется чрезмерно большой. Теперь еще об одном: чтобы дать во время сражения выход пороховому дыму, особенно густому на нижних палубах, вы задумали сделать новые люки. Но они не помогут. Однако посмотрите сюда: я придумал особые вентиляционные трубы — они пройдут через корпус вот так. — Ученый пояснил свою мысль с помощью нескольких больших булавок. — Ток воздуха будет поступать вот отсюда и выходить вот здесь. Что скажете? Ну, а теперь о самом главном: быстроходность, малый ветровой снос и малая осадка. Вот взгляните-ка на этот киль. Я вырезал его только вчера вечером, перед самым отходом ко сну. Заметьте, как…
Но в этот решительный момент раздался стук в дверь, и служанка доложила, что доктора Франклина спрашивают два господина, которые уже идут через двор.
— Герцог Шартрский[52] и граф д'Эстен![53] — сказал посланник. — Они намеревались побывать у меня вчера вечером, но не пришли. Этот визит, капитан, косвенно касается и вас. Граф через герцога сообщил королю план тайной экспедиции, замысел которой принадлежит вам. Приходите завтра пораньше, и я сообщу вам о результатах нашей беседы.
Смуглые пальцы Поля извлекли из кармана часы — маленькие, усыпанные драгоценностями дамские часики.
— Время такое позднее, что мне лучше переночевать тут, — сказал он. — Найдется ли для меня комната?
— Поспешите! — распорядился доктор. — Им незачем сейчас видеть вас у меня. Наш друг будет рад оказать вам гостеприимство. Израиль, быстрее проводите капитана к себе.
Дверь комнаты Израиля закрылась за ними почти в тот же миг, когда дверь доктора Франклина закрылась за герцогом и графом. Мы оставим этих последних обсуждать хитроумные планы своевременной помощи делу Америки и сокрушения морской мощи Англии, а сами проведем ночь с Полем Джонсом и Израилем в соседней комнате.
Глава XI
БЕССОННАЯ НОЧЬ ПОЛЯ ДЖОНСА
— «Бог помогает тому, кто сам себе помогает». Метко сказано. Жизнь давно меня этому научила. Но впервые вижу, чтобы об этом говорилось. Что это за памфлет? «Бедный Ричард». Вот как!
Войдя в комнату Израиля, капитан Поль направился к столу и, увидев раскрытую книгу, взял ее в руки, после чего взгляд его немедленно упал на строку, отмеченную ранее нашим искателем приключений.
— Удивительный старичок этот Бедный Ричард, — ответил Израиль, услышав слова капитана.
— Как будто, как будто, — откликнулся Поль Джонс, пробегая глазами страницу. — Гм… А Бедный Ричард пишет то же, что доктор Франклин говорит.
— Он ведь все это и написал.
— Неужто? Очень хорошо. Так-так. Узнаю нашего мудреца в каждом слове. Куплю-ка я себе эту книжку и буду носить ее вместо амулета. Ну, а теперь поговорим о том, как нам разместиться. Я не собираюсь лишать тебя твоей постели, любезный. Располагайся на кровати, а я подремлю вот в этом кресле. Что может быть приятнее сна на салинге!
— А почему бы нам не лечь вместе? — спросил Израиль. — Кровать-то широкая. Или вы брезгуете спать рядом с такими, как я, капитан?
— Когда я в первый раз плавал матросом и мы шли из Уайтхейвена в Норвегию, — ответил Поль невозмутимо, — я делил койку с чистокровным негром. На каждую койку нам выдавалось по белому шерстяному одеялу. И каждый раз, когда я ложился, оказывалось, что в белую шерсть въелось еще несколько его черных волос. К концу плаванья одеяло стало сивым, как голова старика. И значит, я не ложусь потому, что не хочу, а не из брезгливости, мой милый. Ну-ка, укладывайся побыстрей. А лампа пусть горит, я за ней присмотрю. Ложись, ложись.
Подчинившись этой просьбе, более похожей на приказ, Израиль тем не менее еще долго не мог сомкнуть глаз, потому что напротив него в кресле сидел, не раздеваясь, этот непонятный смуглый человек, в котором пылал неуемный дух яростной предприимчивости. Израиля томил такой неясный страх, словно он, отходя ко сну, не только не загасил огня в очаге, но наоборот, подбросил в него охапку сухих сосновых сучьев, стреляющих во все стороны угольками.
Однако природная деликатность в конце концов побудила его хотя бы притвориться спящим; и Поль Джонс тотчас отложил «Бедного Ричарда», встал с кресла, снял сапоги и начал быстро, но бесшумно расхаживать в одних чулках по обширной комнате, погрузившись в чисто индейскую задумчивость. Израиль украдкой поглядывал на него из-под одеяла, пораженный новой переменой в его внешности теперь, когда Поль думал, что за ним никто не наблюдает. Сурово нахмуренный лоб выражал бешеную решимость преследовать заветную цель до самых острий вражеских штыков и грозных жерл вражеских пушек. Правая рука в кружевной манжете упиралась в бок, словно стискивая рукоятку кортика. Он шел через комнату, как на штурм крепости. Дом был погружен в полуночную тишину, и только из-за стены доносился невнятный шум оживленного спора. Затем, проходя мимо большого зеркала над камином, Поль вдруг заметил свое отражение. Он остановился и принялся мрачно его разглядывать — и к варварской гордости, написанной на его лице, примешалась доля тщеславного самодовольства. Однако возобладала первая. Через несколько секунд Поль со странной улыбкой поднял правую руку, закатал рукав и застыл в этой позе, не спуская глаз со своего отражения. С кровати Израиль не мог рассмотреть ту сторону руки, которая была повернута к зеркалу, однако ее отражение было ему видно, и он с изумлением обнаружил в этой резной золоченой раме, что по всей руке Поля с внутренней стороны до самого закатанного рукава тянутся странные, таинственные узоры татуировки. Они нисколько не походили на прихотливые якоря, сердца и канаты, которые иногда любят выкалывать моряки. Такую татуировку можно видеть только на коже настоящих дикарей — темно-синюю, удивительно четкую, необыкновенно сложную, кабалистическую. Израиль вспомнил, что во время одного из первых его плаваний ему довелось увидеть нечто подобное на руке новозеландского воина, с которым он встретился, когда тот возвращался с поля боя в родную деревню. И он пришел к заключению, что Поль Джонс в юности тоже плавал по Южным морям и, очевидно, решил испробовать на себе искусство какого-то языческого художника.
Опустив наконец расшитый рукав кафтана, Поль с иронией посмотрел на пальцы своей татуированной руки, вновь полуприкрытые кружевной манжетой и унизанные парижскими кольцами. После этого он опять принялся расхаживать по комнате, но его походка изменилась — он словно подкрадывался к засаде, а на его холодном белом лбу, который благодаря широкополой шляпе и в тропиках сохранил свой природный цвет и теперь венчал это смуглое лицо подобно снегам, венчающим Анды, лежал отблеск еще не изведанных глубин этой страстной натуры и скрытых сил, обещавших исполнение еще не рожденных дерзких замыслов.
Вот так в глухие часы полуночи в самом сердце столицы современной цивилизации расхаживал дикарь в франтоватом кафтане, словно пророческий призрак, предвосхищающий разгул тех трагических сцен Французской революции, которые низвели изысканную утонченность Парижа до уровня кровожадной жестокости Борнео, и доказывающий, что дорогие пряжки и кольца на руках не менее колец в носу и татуировки могут служить символом первобытной дикости, неизменно дремлющей в человеческой груди, идет ли речь о цивилизованных или нецивилизованных народах.
Израиль так и не уснул в эту ночь. Поль, весь во власти своего вечного беспокойства, продолжал метаться по комнате до зари. С наступлением же утра он хорошенько умылся, не жалея воды, и вновь обрел свежесть и беззаботность ястреба, отправляющегося на утреннюю охоту. Он переговорил наедине с доктором Франклином и вышел из дома легкой небрежной походкой щеголя, поигрывая тростью с золотым набалдашником, обнимая за талию всех встречных хорошеньких служанок и награждая их поцелуем, звучным, как салют фрегата. Варвары всегда распутники.
Глава XII
ИЗРАИЛЬ ВНОВЬ ПЕРЕСЕКАЕТ ЛА-МАНШ И ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ДОМ СКВАЙРА. ЕГО ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАМ
На третий день своего пребывания в Париже Израиль расхаживал по комнате, предварительно сняв курьерские сапоги, чтобы их скрип не обеспокоил доктора Франклина, как вдруг короткий стук в дверь возвестил о приходе американского посланника. Мудрец вошел, держа в одной руке два плотных комочка бумаги, а в другой — несколько сухарей и кусок сыра. Весь его вид настолько красноречиво говорил о последних приготовлениях перед отъездом, что Израиль невольно метнулся к сапогам, двумя рывками натянул их на ноги, схватил шляпу и приготовился птицей лететь через Ла-Манш.
— Похвальная быстрота, мой честный друг, — заметил ученый. — Документы, вероятно, уже спрятаны в ваши каблуки.
— Ах да! — воскликнул Израиль, уловив легкую иронию в его голосе, и через мгновение вновь остался босым; после чего мудрец молча взял один сапог, а Израиль — второй, и оба принялись укладывать документы, каждый в свой тайник.
— По-моему, это можно было бы сделать иначе и лучше, — сказал мудрец, который, несмотря на всю спешку, не преминул оценить критическим оком навинчивающиеся каблуки. — Тайник следует устраивать в самом каблуке, а не в подошве. Их, кроме того, следовало бы снабдить для верности пружиной. Как-нибудь на днях я набросаю трактат об устройстве фальшивых каблуков и пошлю его для приватного рассмотрения в Академию. Но сейчас не время говорить об этом. Мой честный друг, уже половина одиннадцатого. В половине двенадцатого с площади Карусель отправляется в Кале дилижанс. Постарайтесь добраться до Брентфорда как можно скорее. Я захватил для вас кое-какие припасы, чтобы вы могли перекусить в дилижансе, поскольку у вас не будет времени поужинать как следует. Курьер по особым поручениям всегда должен иметь в своем кармане два-три сухаря. Из Брентфорда вы, по всей вероятности, уедете дня через два после своего прибытия туда. Будьте же осторожны, мой добрый друг; помните — если вас захватят с этими бумагами на английской земле, вы навлечете большие несчастья и на себя, и на наших брентфордских друзей. Не пинайте по дороге ящиков, кому бы они ни принадлежали. Помните о собственном багаже. Лишняя осторожность не помешает, но не будьте и излишне подозрительны. Да поможет вам бог, мой честный друг. В путь!
Доктор широко распахнул дверь, и, повинуясь его приказанию, Израиль бросился к лестнице, стремглав сбежал по ступенькам и, промчавшись по двору, скрылся под аркой ворот.
Мудрец на несколько мгновений застыл в величавой неподвижности, и на лице его отразилась благостная задумчивость, словно он взвешивал наиболее вероятный исход важного предприятия, последствиям которого, быть может, предстояло в какой-то мере повлиять на грядущие победы и поражения еще не родившихся наций. Затем он внезапно похлопал себя по обширному карману, извлек оттуда кусок пробки, утыканный куриными перьями, торопливо вернулся к себе и принялся вырезывать научно усовершенствованный волан, который он обещал молодой герцогине д'Абрантес изготовить именно к этому дню.
Израиль же благополучно прибыл в Кале и, едва успев сойти с дилижанса, поднялся на борт пакетбота, который спустя несколько минут уже плыл по волнам среди ночного мрака. До Кале он ехал на империале,[54] выбрав самое плебейское место, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, а теперь из тех же соображений отправился дальше палубным пассажиром. Вскоре начался проливной дождь, и Израиль спустился в кубрик, скудно освещенный одной качающейся лампой. Там находились еще два человека, которые усердно курили, наполняя тесное помещение снотворным дымом. Израиль вскоре почувствовал сильную сонливость и начал прикидывать, как бы вздремнуть, не подвергая при этом опасности вверенные ему бесценные документы.
Однако подобные размышления в этой навевающей дремоту атмосфере сыграли роль тех математических задачек, с помощью которых часто убаюкивают себя экспансивные натуры. Его отяжелевшая голова упала на грудь. А через минуту он уже раскинулся на сиденье и вытянул ноги поперек прохода.
Вскоре, однако, Израиль был разбужен каким-то странным посягательством на его ноги. Приподнявшись на локте, он увидел, что один из курильщиков осторожно стаскивает с него правый сапог, а левый, уже ставший добычей негодяя, лежит на полу. Если бы не урок, полученный им на Новом мосту, Израиль, конечно, вообразил бы, что его тайна стала известна и предприимчивый дипломатический агент английского кабинета подстерег его, дабы усыпить табачным дымом и похитить бесценные депеши. Но теперь он только вспомнил мудрое предостережение доктора Франклина против чрезмерной подозрительности.
— Сэр, — сказал Израиль весьма учтиво. — Будьте так добры, подайте мне сапог, который лежит на полу, а другой, если это вас не затруднит, оставьте на моей ноге.
— Прошу извинения, — хладнокровно ответил вор, искушенный во всех тонкостях своего темного искусства. — Мне показалось, что сапоги вам жмут, и я хотел избавить вас от этого неудобства.
— Весьма обязан вам, сэр, за вашу доброту, — сказал Израиль. — Но только они ничуть не жмут. Впрочем, вы, вероятно, думали, что и вам они тесны не будут: ноги у вас довольно маленькие. Быть может, вы собирались их примерить, чтобы поглядеть, придутся ли они вам по ноге?
— О нет, не собирался! — ответил вор с лицемерной невозмутимостью. — Но с вашего разрешения, я был бы рад их примерить, когда мы прибудем в Дувр. Ведь судно так качает, что я не мог бы пройтись в них по палубе как следует.
— О да! — согласился Израиль. — Но берег в Дувре тоже не слишком-то ровен. Так что, пожалуй, вам лучше вовсе их не мерить. А кроме того, я человек простой — кое-кто даже называет меня чудаком — и не люблю терять из вида свои сапоги. Ха-ха-ха!
— Чему вы смеетесь? — раздраженно осведомился его собеседник.
— Мне в голову пришла смешная мысль! Я поглядел на ваши потрепанные, заплатанные сапоги и подумал: на пожаре-то из них получились бы такие дырявые ведра, что их и не передашь вверх по лестнице. И выходит, что я остался бы в накладе, если бы сменял мои новые сапоги на эти прохудившиеся пожарные ведра, как по-вашему?
— Ах ты, батюшки! — воскликнул его собеседник, намереваясь разом переменить тему разговора, который начал ему немного досаждать. — Да мы, никак, подходим к Дувру! Ну-ка, поглядим!
С этими словами он взбежал по трапу на палубу. Израиль последовал за ним и убедился, что ветер спал и невысокая зыбь покачивает крохотное суденышко как раз на самой середине Ла-Манша. Приближался рассвет, воздух был чист и прозрачен, в небесах влажно мерцали звезды. В их неверном свете можно было разглядеть и французский, и английский берега; меловые утесы Дувра казались огромным кварталом мраморных дворцов, теснящихся террасами друг над другом. По обоим берегам тянулись длинные прямые цепочки фонарей. Казалось, будто Израиль остановился, переходя какую-то широкую и величественную лондонскую улицу. Некоторое время спустя задул свежий бриз, и вскоре наш искатель приключений прибыл в порт своего назначения, откуда немедленно отправился в Брентфорд.
Когда следующий день начинал клониться к вечеру, Израиль, подавший условленный сигнал и незаметно впущенный в дом, уже сидел в гардеробной сквайра Вудкока и, стянув сапоги, вручал депеши адресату.
Развернув тоненькие листки и прочитав строки, предназначенные лично для него, сквайр повернулся к Израилю, поздравил с успешным выполнением его миссии, поставил перед ним кое-какую еду и объяснил, что в округе не все спокойно, а поэтому ему (Израилю) придется просидеть взаперти у него в доме дня два, пока не будет готов ответ для Парижа.
Как уже говорилось раньше, дом сквайра представлял собой весьма обширное и хаотичное здание, изобиловавшее всевозможными пристройками и возведенное по большей части из побуревшего от времени кирпича в том добром старом стиле, который зовется «елизаветинским»: повсюду снаружи темно-рыжий кирпич и повсюду внутри коричневые дубовые панели.
— Видите ли, мой милый, — сказал сквайр, — жена пригласила к нам гостей, и они, разумеется, разгуливают по всему дому. Так что мне придется спрятать вас понадежнее, чтобы ваше присутствие здесь не было случайно обнаружено.
С этими словами сквайр поспешил запереть дверь, а потом нажал пружину возле камина, после чего большой закопченный камень, служивший боковой стенкой камина, сдвинулся, словно мраморная плита, закрывающая вход в склеп. Сквайр сунул в щель тяжелые каминные щипцы и до конца повернул камень, за которым открылся узкий проход.
— Сквайр Вудкок, что это случилось с вашим камином? — удивленно воскликнул Израиль.
— Туда, быстрее!
— Чистить трубу, что ли? — с возмущением спросил Израиль. — Я на это не подряжался.
— Что за чушь! Вы там будете прятаться. Ну, идите же скорее!
— А куда, сквайр Вудкок? Что-то мне не нравится этот ход.
— Ну, так следуйте за мной, я вам покажу дорогу.
С трудом протиснувшись в таинственное отверстие, тучный сквайр начал карабкаться по каменной лестнице, не более двух футов шириной и слишком крутой для такого пожилого человека, которая привела их в комнатку, а вернее, в келью, расположенную в массивной внешней стене дома. Воздух и свет проникали в нее через две узкие наклонные амбразуры, которые невозможно было заметить снаружи, так как их искусно замаскировали, превратив в пасти двух грифонов, изваянных на большой каменной плите, украшавшей фасад. В углу лежал свернутый тюфяк, а рядом стояли кувшин с водой, фляга с вином и деревянное блюдо с холодной говядиной и хлебом.
— Значит, я должен остаться тут заживо погребенным? — спросил Израиль, обведя каморку тоскливым взглядом.
— Ну, ничего, ведь вам очень скоро предстоит воскреснуть, — улыбнулся сквайр. — Самое большее через два дня.
— Правда, я и в Париже был вроде как под арестом, так что мне не привыкать стать, — сказал Израиль. — Только доктор Франклин подыскал мне холодную повеселей, сквайр Вудкок. Она была вся в букетах, с зеркалом и еще со всякой всячиной. Да к тому же мне можно было выходить на лестницу.
— Но, любезный мой герой, то было во Франции, а здесь Англия. Там вы находились в дружеской стране, а здесь находитесь во вражеской. Если вас обнаружат в моем доме и выяснится, кто вы такой, вы представляете, какие последствия это будет иметь для меня? Какие тяжелые последствия?
— В таком случае ради вас я готов остаться там, где вы сочтете нужным меня поместить, — ответил на это Израиль.
— Ну, а если букеты и зеркала могут, как вы говорите, скрасить ваше заключение, я вам их принесу.
— Все-таки компания — посмотришь на самого себя, и вроде ты тут не один.
— Погодите. Я вернусь минут через десять.
Но десять минут еще далеко не истекли, когда добрый старик сквайр вернулся, пыхтя и отдуваясь, с большим букетом и маленьким зеркальцем для бритья.
— Ну вот, — сказал он, кладя свою ношу на пол. — А теперь сидите тут смирно. Постарайтесь не шуметь, а главное, ни в коем случае не спускайтесь по лестнице, пока я за вами не приду.
— И когда же это будет? — спросил Израиль.
— Я постараюсь навещать вас дважды в день весь срок вашего пребывания здесь. Но как предвидеть заранее, что может случиться? Если я ни разу не приду до его истечения — то есть до вечера второго дня или до утра третьего, то не удивляйтесь, мой милый. Еды и питья вам хватит. Но не забудьте: ни в коем случае не спускайтесь по лестнице, пока я за вами не приду.
И, распростившись со своим гостем, сквайр удалился.
После его ухода Израиль некоторое время стоял, задумчиво озираясь. Затем, прислонив свернутый тюфяк к стене прямо под амбразурами, он взобрался на него проверить, что можно через них разглядеть. Но ему удалось увидеть только узенькую полоску синего неба, проглядывавшую сквозь густую листву величественного дерева, посаженного у бокового портала, — дерева, которое было ровесником охраняемого им старинного здания.
Израиль уселся на тюфяк и погрузился в размышления.
«Бедность и свобода или изобилие и тюрьма — таковы, по-видимому, два рога неизменной дилеммы моей жизни, — думал он. — А ну-ка, поглядим на узника».
И, взяв зеркальце, он принялся изучать черты своего лица.
«А жаль, что я не догадался попросить бритву и мыло. Побриться мне не помешало бы. В последний раз я ведь брился во Франции. Да и время легче было бы скоротать. Будь у меня гребень и бритва, можно было бы побриться и завить волосы — я все два дня наводил бы на себя глянец и вышел бы на волю молодец молодцом. Надо будет попросить сквайра сегодня же вечером, когда он ко мне заглянет. А это что еще там рокочет за стеной? А вдруг да здесь по соседству хлебная печь? Тогда я тут совсем зажарюсь. Сижу прямо как крыса за корабельной обшивкой. Хоть бы окошко было поглядеть наружу. Что-то сейчас поделывает доктор Франклин? И Поль Джонс? А вот птичка запела на дереве. А это колокол сзывает к обеду».
Чтобы развлечься, он принялся за говядину с хлебом и выпил вина, смешав его с водой.
Наконец наступила ночь. Израиль остался в полном мраке. А сквайр так и не появился.
Когда мучительная бессонная ночь все же подошла к концу и в его келью сквозь две амбразуры, точно два длинных копья, проникли косые узкие полоски серого света, Израиль встал, свернул тюфяк, влез на него и приложил губы к пасти одного из грифонов. Он издал долгий еле слышный свист, который, по его расчетам, должен был достичь развесистой кроны старого дерева. В ответ зашелестели листья, послышалось тихое чириканье, а минуты через три рядом с его темницей уже гремел звонкоголосый хор.
«Я разбудил первую пташку, — сказал себе Израиль с улыбкой, — а она разбудила остальных. Теперь можно и позавтракать. А там, глядишь, и сквайр придет».
Но завтрак был кончен, две серые полоски бледного света превратились в два золотистых луча, эти два золотистых луча, становясь все менее и менее косыми, наконец исчезли совсем, возвещая полдень, но сквайра все еще не было.
«Не иначе как он отправился поохотиться перед завтраком и припоздал», — решил Израиль.
Вечерние тени удлинились, возвещая закат, но сквайра по-прежнему не было.
«Наверное, он занят: судит у себя в зале какого-нибудь овечьего вора, — размышлял Израиль. — Только бы он не забыл обо мне до завтрашнего дня».
Он ждал и прислушивался; ждал и прислушивался.
Еще одна беспокойная ночь без сна и новое утро. Второй день прошел, как первый, и сменился такой же ночью. На третий день букет на полу рядом с Израилем совсем увял. Через амбразуры сочилась сырость, и капли глухо стучали по каменным плитам пола. Израиль слышал унылый шорох — это ветки хлестали по разинутым пастям грифонов, так что внутрь летели брызги льющего снаружи дождя. Время от времени над головой Израиля раздавался удар грома, за амбразурами вспыхивала молния, и каморка озарялась пронзительным зеленоватым светом, а потом шум и плеск дождя продолжался с удвоенной силой.
— Это уже утро третьего дня, — бормотал Израиль. — А он сказал, что зайдет за мной самое позднее наутро третьего дня. Вот оно и наступило. Потерпим, у него еще есть время. Утро ведь кончается в полдень.
Однако небо было таким пасмурным, что угадать наступление полудня оказалось нелегко. Израиль все еще не хотел поверить, что полдень давно миновал, как вдруг начало смеркаться. И, страшась сам не зная чего, он наблюдал, как над ним смыкается тьма еще одной ночи. Если прежде он терпеливо ждал, поддерживаемый надеждой, то теперь мужество совсем его покинуло. И внезапно, словно злокачественная лихорадка, на него напала томительная тоска, какой он никогда прежде не знал.
Говядину он съел всю, но хлеба и воды при некоторой экономии должно было хватить еще дня на два-три. И охвативший его ужас был порожден не муками голода, но тем непонятным заключением, которому он был подвергнут. Пока тянулись медлительные часы этой ночи, Израилем все сильнее овладевало ощущение, что он навеки замурован в стене; оно росло, росло, росло, и он то и дело конвульсивно приподнимался на своем ложе в такой панике, словно его завалили гранитными глыбами, словно он копал глубокий колодец и вдруг вся каменная обкладка и вся выброшенная земля осели и он остался погребенным на глубине в девяносто футов.
В непроглядном склепе полночного мрака он раскидывал руки в стороны, и ему начинало казаться, что он лежит в гробу: ведь вытянуть их он не мог — такой узкой была его келья. Тогда он сел, прислонясь к стене, и уперся ногами в противоположную стену. И все же, блюдя данное обещание, бедный узник ни разу не вскрикнул, ни разу не застонал. Он был во власти лихорадочного бреда и все же хранил молчание. К мучительному ощущению тесноты вскоре прибавилась столь же мучительная потребность в свете. И он таращил глаза так, что начинали болеть веки. Потом ему показалось, что даже дышать ему нечем. С трудом дотянувшись до амбразуры, он прильнул к ней и, вытянув губы трубочкой, старался вдохнуть свежесть воздуха вольных полей.
И, усугубляя его отчаяние, на ум ему то и дело приходил рассказ сквайра о происхождении тайника. Эта часть старого дома, а вернее, эта его стена была очень древней — ее построили задолго до царствования Елизаветы,[55] и некогда она была стеной обители рыцарей-храмовников.[56] Устав этого ордена отличался чрезвычайной суровостью и даже жестокостью. В стене, расположенной на втором этаже часовни на уровне пола, было оставлено пустое пространство, формой и величиной напоминавшее гроб. Туда время от времени замуровывали членов ордена за своеволие и неповиновение — однако, как ни странно, только когда они раскаивались в содеянном. Воздух туда поступал сквозь узкое отверстие, наклонно прорезавшее трехфутовую толщу стены; через него же узнику передавали еду. Отверстие это было выведено в часовню, чтобы заживо погребенный мог слышать все службы и как бы незримо на них присутствовать. И если торжественному песнопению вторил хриплый стон, слитый из слов молитвы, считалось, что душа страдальца обретает благодать. Для слышавших это был вопль раскаяния, вырвавшийся из уст мертвеца, ибо обычай ордена требовал, чтобы все храмовники присутствовали при замуровывании одного из братьев и чтобы магистр читал заупокойную молитву, пока в этом узком склепе погребалось живое тело. Порой кающийся грешник проводил в таком положении несколько недель и, когда его извлекали, не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, как человек, пораженный параличом.
Когда обитель храмовников была в царствование Елизаветы разрушена, чтобы очистить место для постройки нового здания, стена с этой кельей сохранилась. Келью немного расширили, перестроили, пробили амбразуры и превратили в тайник, куда можно было укрыться в дни гражданских смут.
Нетрудно представить себе, что испытывал Израиль, вспоминая в тягостном одиночестве этот зловещий рассказ. Много веков назад тут, в этом же непроницаемом мраке, сердца людей, таких же, как он, каменели в отчаянии, тела, столь же сильные и ловкие, как его тело, застывали и окостеневали в тупой неподвижности.
Наконец, когда, казалось, истекли все дни и года, о которых пророчествовал Даниил,[57] занялась заря. Благодетельный свет проник в келью, и отчаяние Израиля рассеялось, словно при виде дружески улыбающегося лица… нет, словно при виде самого сквайра, явившегося освободить его из заточения. Вскоре он совсем оправился от безмолвного ночного бреда и, вновь обретя спокойную ясность мысли, стал обдумывать свое положение.
Израиль уже не сомневался, что с его другом случилось какое-то несчастье. Он припомнил слова сквайра о том, что раскрытие его тайной деятельности повлечет за собой самые тяжкие для него последствия. И теперь Израиль был вынужден прийти к заключению, что опасения его друга оправдались, что из-за какой-то роковой оплошности он был арестован, увезен в Лондон как государственный преступник и не успел сообщить никому из домашних о томящемся в стене пленнике — ведь иначе кто-нибудь, наверное, уже навестил бы его здесь. Иного объяснения Израиль не находил. По-видимому, сквайр был арестован внезапно, не имел возможности переговорить наедине с родственником или другом и должен был сохранить тайну из страха навлечь на Израиля еще худшую беду. Но неужели он захотел бы обречь его на медленную смерть в каменном мешке? Впрочем, гадать об этом не имело смысла — слишком сложны и запутанны были все обстоятельства. Однако нужно было незамедлительно что-то предпринять. Израилю не хотелось подвергать сквайра новой опасности, но и погибать, не зная даже, нужно ли это, он тоже не желал. И вот он решил, что должен выбраться отсюда во что бы то ни стало — украдкой и бесшумно, если это окажется возможным, применив силу и напролом, если иного выхода не останется.
Выскользнув из кельи, он спустился по каменной лестничке и остановился перед плитой, служившей дверью. Нащупав железную ручку, он нажал на нее, но плита осталась неподвижной. Израиль продолжал шарить, ища засов или пружину. Когда он проходил здесь со сквайром, ему и в голову не пришло посмотреть, как открывается плита изнутри, или хотя бы убедиться, что ее можно открыть только снаружи.
Он уже собирался в отчаянии бросить поиски после того, как провел ладонями по всей поверхности плиты и стены около нее, как вдруг, поворачиваясь, услышал скрип и увидел узенькую полоску света. Его нога случайно попала на пружину, скрытую в полу. Плита подалась. Израиль повернул ее и выбрался из своей темницы — в гардеробную сквайра.
Глава XIII
ИЗРАИЛЬ ПОКИДАЕТ ДОМ СКВАЙРА. ЕГО ДАЛЬНЕЙШИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Он вздрогнул, пораженный траурным видом комнаты — с тех пор как он видел ее в последний раз, в ней, казалось, побывали гробовщики. Длинные ленты черного крепа свисали с оконных занавесок. Четыре угла красной суконной скатерти на круглом столе были прихвачены такими же лентами.
Израилю не были известны эти английские знаки траура, но тем не менее внутреннее чувство подсказало ему, что сквайр Вудкок навеки покинул земную юдоль. Тайна последних трех дней разъяснилась. Но что делать дальше? Его друг, вероятно, скончался внезапно, скорее всего сраженный апоплексическим ударом, от которого он так и не оправился. И не успел никому открыть, что в доме спрятан чужой человек. Так что же может ждать скитальца, который и так слывет в округе беглым преступником, коль скоро его застигнут здесь, в гардеробной богатого помещика? Если он будет строго придерживаться истины, что сможет он сказать в свою защиту, не признаваясь при этом в поступках, которые в глазах английского суда явятся тягчайшими преступлениями? А к тому же вдруг его признанию, его ссылкам на сквайра Вудкока откажутся верить, вдруг его необычайную историю оскорбительно сочтут сплетением небылиц во всем, что касается его и покойного помещика, — разве тогда он не навлечет на себя еще более позорного подозрения?
Печально обдумывая все это, Израиль вдруг услышал за дверью шаги. Они, казалось, приближались. Он тотчас метнулся к потайному ходу, который оставался открытым, и, потянув за железную ручку, задвинул плиту. Однако второпях он дернул ее так сильно, что она повернулась с глухим и заунывным скрипом, похожим на стон. И тут же в комнате раздался вопль. Израиль, вне себя от ужаса, кинулся вверх по лестнице, но на самом верху от спешки споткнулся и полетел вниз, пересчитывая все ступеньки, — шум его падения, отразившись от сводчатого потолка, прокатился по толще стены и не сразу замер в отдалении, словно рокот грома в глубоком ущелье. Когда же Израиль, который, однако, почти не ушибся, вскочил на ноги и прислушался, оказалось, что эху вторит пронзительный визг в гардеробной. По-видимому, какая-то нервная особа женского пола была насмерть перепугана неожиданным шумом в стене, который показался ей если не сверхъестественным, то, во всяком случае, необъяснимым. В комнате послышались другие тревожные голоса, затем эти смутные звуки постепенно затихли и вокруг воцарилось прежнее безмолвие.
Несколько оправившись от потрясения, Израиль стал обдумывать случившееся. «В доме никто теперь не знает про тайник, — размышлял он. — Какая-то женщина, возможно экономка, вошла в гардеробную, сначала одна. В этот миг захлопнулась плита. Услышав неожиданный скрип, она вскрикнула, а потом, когда я свалился с лестницы и так нашумел, совсем перепугалась. На ее визг сбежались все домашние, и, увидев, что она, быть может, лежит без чувств, бледная, будто покойница, да еще в комнате, убранной черным крепом в память об усопшем, они тоже начали визжать и, хором стеная, унесли бесчувственную женщину. А дальше будет вот что… да уже и есть: они решили, будто она увидела или услышала призрак сквайра Вудкока. Ну вот, разобравшись во всех этих странных событиях и убедившись, что они вызваны естественными причинами, я пришел в себя и обрел спокойствие духа. Дайте-ка сообразить. Так. Придумал! Раз все в доме напуганы появлением призрака, я воспользуюсь этим и, пока они не опомнились, сегодня же вечером выберусь отсюда. Лишь бы отыскать одежду покойного сквайра, хотя бы только кафтан да шляпу, и это мне наверняка удастся. Приступить к делу можно уже сейчас. Вряд ли они решатся сегодня еще раз заглянуть в эту комнату. Я спущусь туда и поищу чего-нибудь подходящего. Это ведь гардеробная сквайра, так уж конечно там есть его одежда».
Придя к такому решению, Израиль осторожно нажал ногой пружину, заглянул в щель и, убедившись, что комната пуста, смело вылез из камина. Не тратя времени зря, он тотчас же направился к узкой высокой дверце в стене напротив. Ключ торчал в замке. Израиль распахнул дверцу и увидел кафтаны, штаны, шелковые чулки и шляпы покойного. Без особого труда он подобрал себе точно такой же наряд, в каком видел своего некогда столь веселого друга в последний раз. Аккуратно затворив дверцу, он уже направился с одеждой к камину, как вдруг взгляд его упал на стоящую в углу трость сквайра с серебряным набалдашником. Прихватив и ее, он скрылся в своем убежище.
Быстро раздевшись, он со всем тщанием облачился в позаимствованный наряд — шелковые штаны и прочее, плотно нахлобучил на голову треуголку, взял в правую руку трость, потом, медленно поднимая и опуская зеркальце, по частям осмотрел, как сидит на нем новая одежда, и пришел к заключению, что отлично сойдет за подлинный призрак сквайра Вудкока. Однако едва первая радость при мысли, что теперь уж он непременно спасется, несколько рассеялась, Израиль не без суеверного ужаса сообразил, что на нем одежда мертвеца, и более того — несомненно, тот самый кафтан, который был на покойном, когда его хватил удар. И мало-помалу он начал казаться себе почти столь же призрачным и нереальным, как самая тень, чью роль он намеревался сыграть.
С томительной тревогой дождавшись наступления темноты, а затем, насколько он мог судить, и полуночи, Израиль прокрался в гардеробную и замер посреди комнаты, боязливо прикидывая, какие опасности могут ему встретиться; так он медлил, пока наконец к нему не вернулись решимость и присутствие духа. Тогда он ощупью отыскал дверь, ведущую в коридор, нашарил ручку и повернул ее. Однако дверь не отворилась. А вдруг она заперта? Ключа в замке не было. Еще раз повернув ручку, Израиль налег плечом на дверь. Она даже не дрогнула. Он навалился на нее всем телом, и вдруг она с громким треском распахнулась. Очевидно, ее просто заклинило. Израиль начал тихонько красться по широкому коридору к парадной лестнице в дальнем его конце, но не прошло и трех секунд, как в соседних комнатах послышалась торопливая возня, и в следующее мгновение по всему коридору из дверей уже выглядывали встревоженные лица, освещенные лампой, которую держала в руках пожилая дама во вдовьем трауре, по-видимому вставшая не с ложа забвенья, а с кресла, в котором проводила бессонную ночь, тогда как все остальные были в ночных рубашках. Сердце Израиля стучало, как молот кузнеца, а лицо побелело, как полотно. Но он совладал с собой, надвинул шляпу пониже, уткнул лицо в воротник кафтана и проследовал по осветившемуся коридору под перекрестными взглядами выпученных глаз. Он шел медленной величественной походкой, не глядя ни направо, ни налево и громко стуча тростью по полу. Но кровь холодела в его жилах, потому что изо всех дверей на него смотрели застывшие в неподвижности люди. Они, казалось, окаменели. Те, к кому он только еще приближался, встречали его гробовым молчанием, но стоило ему пройти, как сзади тотчас раздавались отчаянные вопли: «Сквайр! Сквайр!» Когда он поравнялся с дамой в трауре, она упала без чувств поперек коридора прямо перед ним. Не решаясь остановиться, Израиль переступил через ее распростертое тело и все так же неторопливо проследовал дальше.
Через две-три минуты он достиг парадной двери, отодвинул засов, откинул цепь и вышел на вольный воздух. Ярко светила луна. Израиль все так же медленно направился через лужайку к лощине, за которой начинались поля. На полпути он оглянулся на дом и увидел, что к трем окнам фасада прильнули бледные люди, с ужасом созерцая необычайное видение. Он начал спускаться в лощину, и косогор скрыл его от их взглядов.
Теперь он шел по кочковатому, недавно скошенному лугу, усеянному стожками; по ту его сторону у подножья холма колыхалась белесая завеса тумана, а выше виднелась густая поросль молодых деревьев, над которыми там и сям возвышались сухие стволы с отвалившейся корой. Туман казался смутно различимой рекой, а роща — городом на ее берегах, над которым величественно вздымаются церковные шпили.
Нашему искателю приключений на миг померещилось, что он, точно по волшебству, вновь узрел Банкер-Хилл, реку Чарльз[58] и город Бостон — такими, какими он видел их в достопамятную ночь на семнадцатое июня. То же время года, та же луна, те же стожки сена на скошенном лугу — они еще прикрывали этим сеном наспех сооруженный редут.
Словно околдованный, Израиль опустился на стожок и предался воспоминаниям. Однако он не спал столько ночей, что эти грезы не замедлили бы смениться еще более хаотичными снами, если бы он тотчас не заставил себя встать и пойти дальше, испугавшись, как бы предательская дремота не положила конец его столь удачно начавшемуся предприятию. Тут ему пришло в голову, что наряд, который открыл перед ним двери дома сквайра Вудкока, теперь может его погубить. Ночью родственники, близкие друзья и домочадцы покойного могли принять его за привидение, но днем люди, не знавшие сквайра Вудкока, скорее всего схватят его как вора. Теперь он горько сожалел, что не догадался надеть костюм сквайра поверх своего собственного — ведь тогда ему было бы достаточно просто сбросить кафтан, чтобы явиться в своем прежнем виде.
Размышляя над этим затруднением, он продолжал идти вперед, как вдруг заметил, что ярдах в пятидесяти от него на поле среди всходов не то пшеницы, не то ячменя прямо на его пути стоит какой-то человек в черном. Мрачный незнакомец был неподвижен, и его вытянутая рука зловеще указывала в сторону жилища усопшего помещика. В смятенной душе почти отчаявшегося Израиля столь непонятное зрелище не замедлило пробудить суеверный страх. Совесть мучительно укоряла его за ужас, который его хитрость посеяла в сердцах домочадцев сквайра, и застывший жест незнакомца был, мнилось ему, исполнен некоего нечеловеческого значения. Но затем мужество вернулось к нему, и он решил испытать своего таинственного противника. И вот с той же величавой медлительностью, с какой он шествовал по коридору, призрак сквайра Вудкока решительно взмахнул тростью и пошел прямо на незнакомца.
Израиль приблизился — и содрогнулся. Темный рукав хлопал по костлявой руке скелета. Вместо лица маячило смутное жуткое пятно. Нет, это был не человек.
Однако ноги невольно продолжали нести Израиля вперед, и, подойдя к незнакомцу почти вплотную, он увидел перед собой огородное пугало.
Облегченно вздохнув при этом открытии, наш искатель приключений принялся подробно рассматривать обманчивую фигуру, которая, судя по всему, была сооружена с большим искусством, возможно, каким-нибудь разорившимся портным, привыкшим иметь дело с манекенами. Одето пугало было по всем правилам: мятая треуголка, драная куртка, ветхие плисовые штаны и длинные шерстяные чулки, испещренные дырами. Все это было искусно набито соломой и укреплено на шестах. Большой отвисший карман куртки — по-видимому, бывшей собственности какого-нибудь батрака — так и манил пошарить в нем. Сунув туда руку, Израиль вытащил крышку от табакерки, обломок курительной трубки, два ржавых гвоздя и три сухих пшеничных колоска. После этого он вспомнил, что и в кафтане сквайра есть карманы. Порывшись в них, он обнаружил прекрасный носовой платок, очешник и кошелек с золотыми и серебряными монетами — всего чуть больше пяти фунтов. Вот так разнится содержимое карманов у пугал и у богатых помещиков. Надо заметить, что, переодеваясь в тайнике, Израиль не забыл переложить собственные деньги из кафтана в карман жилета, который он не стал снимать.
Израиль еще раз внимательно осмотрел чучело и вдруг подумал, что, хоть костюм этот и очень жалок, все же здесь ему представляется случай избавиться от сулящего всяческие беды наряда сквайра. А кто знает, когда еще выпадет ему возможность переодеться? Рассвет же он во что бы то ни стало должен встретить в другой одежде. После сделки, которую он заключил со стариком землекопом, ускользнув из харчевни вблизи Портсмута, ему уже не были страшны даже самые жалкие лохмотья. К тому же он знал и не раз убеждался на опыте, что человек, не желающий привлекать к себе внимание, должен одеваться как можно хуже. Ибо кто не отвернется, завидев гнусное создание — Нищету, которая приближается в рваной шляпе и заплатанной куртке?
Не раздумывая более, Израиль сбросил одежду сквайра и облекся в наряд чучела, предварительно не без труда вытряхнув солому, которую солнце и дождь, постоянно сменяя друг друга, давно уже превратили бы в прах, если бы ее не склеивала липкая плесень. Но как он ни старался, в подкладке куртки и в штанинах все же осталось достаточно гнилых соломинок, чтобы вызывать нестерпимый зуд.
Теперь ему предстояло разрешить важнейший нравственный вопрос: что делать с кошельком? Можно ли назвать присвоение кошелька при подобных обстоятельствах воровством? Хорошенько все обдумав и не упустив из вида, что покойный помещик не успел выплатить ему обещанное вознаграждение за доставку депеш, Израиль пришел к выводу, что может со спокойной совестью считать эти деньги своими. И каждый милосердный судья, несомненно, согласится с ним. Да и что еще было ему делать с кошельком? Вернуть родственникам? Безумная опрометчивость! Подобная непонятная честность могла бы привести лишь к одному: его арестовали бы либо как беглого военнопленного, либо как грабителя. Одежду же сквайра, его платок и очешник следовало уничтожить незамедлительно. Израиль направился к соседнему болотцу, утопил все это в трясине, а сверху набросал комья сырой земли. Затем он вернулся на пшеничное поле, сел, укрывшись от ветра за большим валуном ярдах в ста от того места, где прежде торчало пугало, и принялся обдумывать, что предпринять дальше. Однако ночная прогулка после стольких тревог и бессонных ночей вскоре возымела свое действие, и на этот раз стряхнуть дремоту оказалось труднее, чем когда он отдыхал на стожке. К тому же, сменив одежду, он несколько успокоился. И вот почти мгновенно наш скиталец погрузился в глубокий сон.
Когда Израиль проснулся, солнце стояло уже высоко. Оглянувшись, он заметил вдалеке приближающегося работника с вилами, который, казалось, должен был пройти неподалеку от него. Наш искатель приключений тут же сообразил, что этот человек, несомненно, хорошо знает пугало, а может быть, и сам его соорудил. Что, если, заметив его исчезновение, он предпримет поиски и обнаружит вора, который столь неблагоразумно остался в такой опасной близости от арены своих действий?
Заметив, что батрак спускается в лощину, Израиль, едва он скрылся из виду, опрометью бросился к тому месту, где прежде торчало пугало, нахлобучил шляпу на самый нос, выпрямился, вытянул руку в сторону господского дома и, замерев в этой позе, стал выжидать дальнейших событий. Вскоре батрак поднялся на пригорок, приблизился и, замедлив шаги, бросил на Израиля внимательный взгляд, как будто у него была привычка проверять, не случилось ли чего с пугалом. Едва батрак отошел на приличное расстояние, как Израиль покинул свой пост и помчался напрямик через поля по направлению к Лондону. Однако на меже он задержался, чтобы посмотреть, ушел ли батрак, и к величайшему своему огорчению обнаружил, что тот следует за ним, видимо пораженный изумлением, о чем ясно свидетельствовали быстрота его бега и его жесты. Вероятно, батрак оглянулся прежде, чем Израиль догадался сделать то же. Израиль застыл на месте, не зная, как поступить. Но ему тут же пришло в голову, что именно неподвижность может оказаться наиболее спасительным средством. И, опять вытянув руку в сторону господского дома, он вновь замер и вновь стал выжидать дальнейших событий.
В этот раз, указав на дом, Израиль одновременно указывал и на батрака, который приближался именно с той стороны. Это обстоятельство внушило нашему скитальцу надежду, что столь грозное совпадение, пробудив в батраке суеверный ужас, заставит его обратиться в бегство, и поэтому Израиль еще сохранял некоторое хладнокровие. Однако батрак оказался не из трусливого десятка. Он уже миновал место, где прежде стояло пугало, и, окончательно убедившись, что оно непонятно каким образом перенеслось в другой конец поля, решительно направился к Израилю, очевидно, с неколебимым намереньем найти полное объяснение этой тайне.
Видя, что он приближается твердым шагом, держа вилы наперевес, Израиль решился на последнее отчаянное средство, чтобы пробудить в нем суеверный страх, и, когда батрак приблизился ярдов на двадцать, внезапно потряс сжатыми кулаками, оскалил зубы, точно череп, и принялся дьявольски вращать глазами. Батрак в растерянности остановился, поглядел по сторонам, поглядел вниз на молодые всходы, потом через поле на деревья, затем вверх на небо и, убедившись, что в окружающем мире за последние четверть часа не произошло никаких сверхъестественных перемен, упрямо пошел вперед, нацеливая вилы, точно абордажную пику, прямо в грудь непонятному существу. Убедившись, что его хитрость не удалась, Израиль поспешил принять прежнюю позу пугала и в который раз вновь застыл в неподвижности. Батрак, все замедляя шаги, так что под конец он уже еле передвигал ноги, приблизился к нему на три ярда и ошарашенно поглядел прямо в глаза Израилю. Израиль ответил ему суровым и грозным взглядом, но не пошевелился, рассчитывая, что его враг все же дрогнет. Однако тот медленно поднял вилы и направил один из зубьев прямо на левый глаз Израиля. Острие все приближалось к глазу, и вот Израиль, не выдержав подобного испытания, пустился наутек во всю прыть, так что рваные полы куртки развевались за его спиной подобно крыльям. Батрак тотчас кинулся в погоню. Израиль, мчась без оглядки, перескочил через какую-то изгородь и вдруг очутился в поле, где трудились человек десять работников, которые, узнав пугало — по-видимому, давнего своего приятеля, — только всплеснули от изумления руками, когда странный призрак шмыгнул мимо них, преследуемый по пятам человеком с вилами. Затем и они присоединились к погоне, но Израиль оказался самым быстрым и выносливым бегуном во всей компании. Оставив их далеко позади, он наконец укрылся в обширном парке, который был тут очень густым. Больше он своих преследователей не видел.
Израиль просидел в чаще до наступления темноты, а потом осторожно выбрался из парка и кое-как разыскал дорогу к жилищу добросердечного фермера, в амбаре которого получил первую весть от сквайра Вудкока. Разбудив фермера — время шло уже к полуночи, — он рассказал ему кое-что о своих недавних приключениях, благоразумно умолчав, однако, и о тайной поездке в Париж, и о том, что произошло в доме сквайра Вудкока. В эту минуту ему нужнее всего был ужин. Подкрепившись, Израиль спросил фермера, не продаст ли он ему свое праздничное платье, и тут же выложил деньги.
— Откуда это у тебя столько денег? — удивленно спросил фермер. — По твоей одежде не скажешь, чтобы с тех пор, как ты от меня ушел, тебе выпала удача. Ну, чистое пугало!
— Может, и так, — согласился Израиль невозмутимо. — Ну а все-таки, продашь ты мне свой костюм или нет? Бери деньги — и по рукам.
— Уж и не знаю, как тут быть, — произнес фермер с сомнением. — Дай-ка хоть на деньги поглядеть. Ого! Шелковый кошелек из дырявого кармана! Убирайся отсюда, мошенник. Ты теперь, значит, воровством занялся!
Израиль не знал, как опровергнуть подобное обвинение, ибо не мог бы с чистой совестью поклясться, что деньги достались ему честным путем — ведь в этом, пожалуй, не сразу разобрался бы даже самый искушенный казуист. Эти колебания, порожденные щепетильностью, окончательно укрепили фермера в его подозрениях; осыпая Израиля бранью, он выгнал его из дома и добавил напоследок:
— Скажи спасибо, что я полицию не позвал!
После этой тяжкой неудачи Израиль грустно прошагал по залитой лунным светом дороге три мили до жилища еще одного своего друга, который также когда-то помог ему в трудный час. К несчастью, сон этого человека был на диво крепок. Стук Израиля его не разбудил, но зато разбудил его супругу, особу, не отличавшуюся голубиной кротостью. Приоткрыв окошко и увидев перед собой жалкого нищего, она принялась ругать его за бесстыдство: кто же просит подаяния в глухую ночь, да еще в таком непристойном виде! Израиль покосился на заимствованные у пугала плисовые штаны и обнаружил, что ветхая ткань не выдержала трудов этого дня и расползлась. В большой прорехе на бедре что-то белело.
Израиль поспешил, как мог, исправить эту оплошность и вновь попросил фермершу разбудить мужа.
— Еще чего! — ответила она злобно. — Убирайся отсюда, а не то я тебя разукрашу!
С этими словами она ухватила некий глиняный сосуд и, несомненно, привела бы свою угрозу в исполнение, если бы Израиль благоразумно не отступил на несколько шагов. С безопасного расстояния он принялся умолять фермершу сжалиться над ним: раз уж она не хочет будить мужа, то пусть хоть бросит ему (Израилю) штаны своего супруга, а он оставит на крыльце деньги за них и свои штаны в придачу.
— Ты ведь сама видишь, как они мне нужны! — закончил он. — Помоги же мне, ради всего святого.
— Убирайся отсюда! — ответила фермерша.
— Ну, а штаны, штаны! Вот деньги! — возопил Израиль в отчаянии и ярости.
— Ах ты, проходимец бесстыжий! — взвизгнула фермерша, не разобравшись, о чем он говорит. — Что ж я, по-твоему, в штанах разгуливаю? Чтобы духу твоего здесь больше не было!
Бедняге Израилю вновь пришлось несолоно хлебавши отправиться на поиски еще одного друга. Но там чудовищный бульдог, возмутившись при виде столь гнусного оборванца, который посмел нарушить покой почтенного семейства, свирепо набросился на Израиля и так обкорнал ветхие полы злополучной куртки, что она превратилась в спенсер,[59] едва достигавший талии своего владельца. Когда Израиль попытался отогнать бульдога, у него с головы упала шляпа, и пес кинулся на нее с такой яростью, что тулья расползлась под его лапами, но он продолжал терзать жалкие останки. Однако Израилю удалось их спасти, и он поспешно удалился с поля битвы, нанесшей такой непоправимый урон его гардеробу. Не только от куртки уцелела лишь половина, но и штаны, располосованные когтями бульдога, повисли лоскутами, а белобрысая шевелюра нашего скитальца колыхалась под полями шляпы, словно одинокий кустик вереска на горном уступе.
Когда настало утро, несчастный Израиль бродил вокруг какой-то деревни, не зная, как поступить.
— Эх! Вот что получает истинный патриот за верную службу своей стране! — пробормотал он, но вскоре немного приободрился и, завидев еще один дом, где ему доводилось прятаться, собрался с духом и решительно направился к крыльцу. На этот раз ему повезло — его встретил сам хозяин, только что поднявшийся с ложа сна. Сначала фермер не узнал своего старого знакомого, но, вглядевшись получше и услышав жалостный голос Израиля, поманил его за собой в сарай, где бедняга не замедлил поведать ему ту часть своих злоключений, которая вполне годилась для чужих ушей, и вновь закончил свой рассказ просьбой продать ему куртку и штаны. Он еще ночью вытряс и выбросил кошелек, сыгравший с ним столь скверную шутку в доме первого фермера, и теперь извлек на свет только три кроны.
— Как же это, — спросил фермер, — три кроны у тебя есть, а донышка у твоей шляпы нету?
— Даю слово, приятель, — ответил Израиль, — что это была всем шляпам шляпа, пока до нее не добрался проклятый бульдог.
— И то правда, — согласился фермер. — Про бульдога-то я забыл. Ну что же, у меня есть лишняя крепкая куртка и штаны, давай деньги.
И через десять минут Израиль уже облачился в серую куртку из грубого сукна, которой долгая служба явно не пошла на пользу, и в такие же штаны. Истратив еще полкроны, он приобрел шляпу самого почтенного вида.
— А теперь, мой добрый друг, — сказал Израиль, — не скажешь ли ты мне, где проживают Хорн Тук и Джеймс Бриджес?
Наш скиталец пришел к заключению, что ему лучше всего будет разыскать кого-нибудь из этих джентльменов, как для того, чтобы сообщить о результатах своей миссии и всем дальнейшем, так и для того, чтобы удостовериться, насколько справедливы были его догадки относительно кончины сквайра Вудкока, о котором ему не хотелось справляться у посторонних.
— Хорн Тук? А зачем это тебе понадобился Хорн Тук? — осведомился фермер. — Он, кажись, был приятелем сквайра Вудкока, верно? Бедняга сквайр! Кто бы подумал, что умереть ему было суждено вот так в одночасье. Ну, да удар — что пуля!
«Значит, я не ошибся», — подумал Израиль, а вслух повторил:
— Где же все-таки живет Хорн Тук?
— Прежде-то он жил в Брентфорде и носил рясу. Только я слыхал, что он продал свое место, а сам поехал в Лондон учиться на законника.
Все это было для Израиля полнейшей новостью: когда он слушал веселые шутки Хорна Тука в доме сквайра, ему и в голову не приходило, что перед ним — человек, облеченный духовным саном. Впрочем, один добродушный английский священник переводил Лукиана, другой, столь же добродушный, написал «Тристрама Шенди»,[60] а третий, желчный ценитель добродушного Рабле, умер в сане декана; и можно было бы назвать еще многих. Таково величие ума и духа иных английских священнослужителей.
— Так, значит, ты не знаешь, где мне искать Хорна Тука? — спросил Израиль в растерянности.
— Да в Лондоне, а то где же?
— На какой улице, в каком доме?
— Этого уж я не знаю. Ищи иголку в стоге сена!
— А где живет мистер Бриджес?
— Никаких Бриджесов я не знаю, кроме как Молли Бриджес из Брайдуэлла.
С этим Израиль и ушел: одетый, правда, получше, но по-прежнему в полной растерянности.
Что предпринять дальше? Он сосчитал оставшиеся деньги и прикинул, что их за глаза хватит, чтобы вернуться в Париж к доктору Франклину. Приняв такое решение, он старательно обошел стороной две ближайшие деревни, свернул на лондонскую дорогу, сел в столице в дуврскую почтовую карету и прибыл к берегам Ла-Манша как раз вовремя, чтобы узнать, что та самая почтовая карета, в которой он ехал, привезла приказ портовым властям о немедленной приостановке всякого сообщения с Францией на неопределенный срок. Узнать же об этом ранее от своих спутников он не мог, потому что все они были англичане, незнакомые между собой, да к тому же принадлежавшие к различным сословиям, и всю дорогу, разумеется, хранили невозмутимое молчание.
Итак, для него началась новая полоса тяжких неудач. Бедный Израиль Поттер видел теперь впереди лишь неминуемую тюрьму или голодную смерть. Сквайр Вудкок прельстил его надеждой на щедрую плату, которую он должен был получить за свою службу курьера. Этой надежде не суждено было сбыться. Доктор Франклин обещал, что поможет ему вернуться в Америку. Теперь об этом следовало забыть. Посланник, кроме того, намекнул, что похлопочет, чтобы его как-то вознаградили за страдания, которые он перенес, служа родине. На это можно было больше не рассчитывать. И тут Израилю припомнилось поучение мудрого старца: «Никогда не предвкушайте счастья, но и знаменье бед встречайте, не падая духом». Однако он немедленно убедился, что следовать второй части афоризма ему теперь столь же трудно, как раньше — первой.
Пока он стоял так, погрузившись в грустные размышления и с тоской глядя туда, где лежали недостижимые берега Франции, к нему подошел какой-то приятного вида и весьма обходительный человек в матросской одежде, и между ними завязался дружеский разговор, а затем незнакомец учтиво пригласил его в не слишком респектабельное заведение, находившееся в конце узкого проулка. Израиль был рад найти участие в столь тяжкий для него час, но все же он, не до конца поверив в добрые намерения своего нового приятеля, взглянул на него с некоторым подозрением. Однако тот, дружески взяв Израиля за локоть, увлек его в проулок, а затем и в таверну, где заказал бутылку вина, после чего они выпили, с чувством пожелав друг другу здоровья и всяческого благополучия.
— Ну-ка, еще по стаканчику! — любезно предложил незнакомец.
Израиль согласился, надеясь утопить тоску в вине, и скоро хмель ударил ему в голову.
— Бывал в море? — спросил незнакомец как бы между прочим.
— Ну, а как же. Я ведь китобоем был.
— А! Рад слышать! От чистого сердца говорю, — заверил его незнакомец. — Эй, Джим, Билл!
Он исподтишка подмигнул двум дюжим верзилам, и во мгновение ока Израиль оказался насильственно завербованным во флот великодушного старичка из садов Кью — его королевского величества Георга III.
— Руки прочь! — в ярости закричал Израиль, когда его схватили.
— Петушок-то боевой! — заметил обходительный незнакомец. — За него надо будет стребовать не меньше трех гиней. Счастливого плаванья, друг мой, — добавил вербовщик, застегнул куртку и неторопливо вышел из таверны, оставив Израиля в ней пленником.
— Я не англичанин! — ревел Израиль вне себя от бешенства.
— Старая песня! — ухмыльнулись верзилы. — А ну пошли! В целом английском флоте не сыскать ни одного англичанина. Все иностранцы, да и только. Уж поверьте вы им.
Короче говоря, не прошло и недели, как Израиль оказался в Портсмуте, а еще через несколько дней уже был формарсовым на линейном корабле его величества «Беспринципном», который в компании «Бесстрашного» и «Бесподобного» плыл, подгоняемый попутным ветром, по Ла-Маншу, направляясь вместе со своими надменными товарищами в ост-индские воды, чтобы присоединиться там к флоту сэра Эдварда Хьюза.[61]
И возможно, нам вскоре пришлось бы описывать, как наш искатель приключений участвовал в знаменитой битве, разыгравшейся у Коромандельского берега между флотом адмирала Сюффрена[62] и английской эскадрой, если бы не вмешательство фортуны, которая на самом пороге этих событий вдруг вернула ему его первоначальное положение и, к великому его удовольствию, позволила воевать против Англии, а не за нее. Вот так вновь и вновь, не давая ему передышки, жизнь швыряла нашего скитальца туда и сюда, отрывая от уже ставшего привычным занятия, возвращая на прежнее место и снова гоня дальше согласно тому, как счел нужным назначить Верховный Вершитель судеб моряков и солдат.
Глава XIV
В КОТОРОЙ ИЗРАИЛЬ ПЛАВАЕТ ПОД ДВУМЯ ФЛАГАМИ И НА ТРЕХ КОРАБЛЯХ — И ВСЕ ЗА ОДНУ НОЧЬ
Пока семидесятичетырехпушечный корабль плыл по волнам Ла-Манша, Израиль уныло бродил по главной палубе, где на него то и дело наталкивались сотни спешащих куда-то матросов, словно он попал на большую лондонскую улицу в час, когда ее запруживают тысячные толпы тружеников, торопящихся домой. Его терзали новые мучительные чувства: он нежданно-негаданно очутился на военном корабле без единого друга, а вернее сказать — среди врагов, ибо враги его родины были и его врагами, — среди соотечественников и родственников тех людей, чью кровь ему довелось проливать. И в этом настроении деловитая суматоха, еще царившая на борту огромного линейного корабля, только что покинувшего порт, была ему невыразимо тягостна. Шум вторжения людских толп в извечную пустынность моря наводил на него непонятную тоску. Он готов был возроптать против слепого рока, который сначала подверг его долгим страданиям на суше, а теперь еще более жестоко преследовал его на водах. Он восставал против судьбы, которая позволила, чтобы патриот, поспешивший с холмов Банкер-Хилла вновь сразиться с угнетателями, был похищен и обречен сражаться на стороне этих угнетателей в бесчисленных битвах на водных холмах океанской пучины. Однако, подобно многим другим страдальцам, Израиль, пожалуй, несколько поторопился со своими стенаниями и укорами.
К вечеру «Беспринципный», несколько обогнавший своих товарищей, встретил между островами Силли и мысом Клир большой таможенный куттер, на мачте которого был поднят сигнал «терплю бедствие». На горизонте не было видно больше ни одного паруса.
Вахтенный офицер, проклиная необходимость останавливаться в подобном месте, когда дует хороший попутный ветер, приказал взять рифы и лечь в дрейф, а сам окликнул куттер и спросил, что у них произошло. Когда лейтенант на высоком юте «Беспринципного», борта которого щетинились семьюдесятью четырьмя пушками, наклонился, глядя на таможенное суденышко, можно было подумать, что он с вершины Гибралтарской скалы обращается к обитателю жалкой хижины в долине. Оказалось, что час назад внезапный порыв ветра чуть не перевернул куттер и резкий поворот гика сбросил в море всех четырех его матросов. Куттер просил дать ему двух-трех матросов, чтобы добраться до порта.
— Обойдетесь одним человеком, — сухо ответил вахтенный офицер.
— Так уж дайте хотя бы хорошего моряка, — сказал капитан куттера. — Мне надо бы по крайней мере двоих.
Пока длился этот разговор, Израиль, побуждаемый любопытством, быстро поднялся с главной палубы и теперь стоял у главного трапа, разглядывая куттер. Тем временем вахтенный офицер распорядился спустить шлюпку. Решив, что ему представляется удобный случай расстаться с «Беспринципным», Израиль занял такую позицию, чтобы успеть спрыгнуть в шлюпку первым, хотя немало матросов-англичан, не менее его стремившихся уклониться от службы в далеких морях, уже повисло на якорных цепях, пользуясь тем, что на корабле еще не успела установиться жесточайшая дисциплина, обычная для военного флота. Едва двое матросов, спускавшие шлюпку, подтянули ее багром к трапу, Израиль кометой упал на ее корму, юркнул к носу и схватил весло. Через мгновение остальные гребцы уже сидели на своих местах и шлюпка подходила к куттеру.
— Берите любого, — сказал командир шлюпки, обращаясь к капитану куттера, и указал на гребцов, словно это были бараньи туши и он предлагал постоянному покупателю право первого выбора. — Выбирайте, только побыстрей. А вы все — сесть! — приказал он матросам. — Как видно, вам не терпится покинуть королевскую службу? Ну и храбрецы! Вы уже выбрали?
Все это время десять гребцов с немой мольбой смотрели на капитана куттера и десять голов были повернуты под одним углом, словно ими управляла одна машина. Впрочем, так оно и было — одно чувство.
— Я возьму этого белобрысого с веснушками — вон его. — И капитан указал на Израиля.
Девять повернутых голов опустились в угрюмом отчаянии, и, вскочив, Израиль ощутил довольно болезненный пинок, которым наградил его сидевший сзади менее удачливый гребец.
— Прыгай же, бездельник! — прикрикнул командир шлюпки.
Но Израиль был уже на борту куттера. Еще мгновение — и шлюпка отвалила. Вскоре сгустились сумерки, скрыв удаляющегося «Беспринципного» и оба других корабля.
Таможенный куттер продолжал свой путь к ближайшему порту. Его парусами управляли лишь четыре человека — Израиль, капитан и два его помощника. Юнга стоял у руля. Израилю, единственному матросу на борту, приходилось туго. Горе рабу, которым распоряжаются трое хозяев! Работать за четверых — дело само по себе нелегкое, но в довершение всего капитан и его помощники оказались людьми весьма свирепого нрава. Первый незамедлительно наградил Израиля пинком, а офицеры не скупились на затрещины. Израиль, и без того ожесточенный несчастьями последних недель, пришел в лютую ярость, сообразил, что кругом пустынное море и справиться ему нужно только с тремя людьми, а не с тысячью, дал волю гневу, пихнул капитана в подветренный шпигат и, вне себя от бешенства, уже собирался выбросить тщедушного старшего помощника за борт, но тут капитан, вскочивший на ноги, вцепился в его длинные волосы и, ругаясь, выразил намерение прикончить его на месте. Тем временем куттер летел по пенистым волнам Ла-Манша, словно демонически радуясь этой свалке, хотя она грозила гибелью и ему. Но в самый разгар драки на траверзе куттера возник темный силуэт, и в следующий миг у его кормы в воду зарылось ядро.
— Лечь в дрейф и прислать ко мне шлюпку! — раздался громовый голос, не менее грозный, чем рев пушки.
— Это военный корабль, — с тревогой сказал капитан куттера. — Только он не наш.
Израиль вместе с офицерами положил куттер в дрейф.
— Немедленно присылайте шлюпку, или я вас потоплю! — проревел тот же голос, и новое ядро вспенило воду еще ближе к куттеру.
— Ради бога, не стреляйте! У меня нет матросов, и шлюпку я спустить не могу, — крикнул капитан. — Кто вы?
— Сейчас я пришлю к вам шлюпку, тогда узнаешь, — последовал ответ.
— Это враги, сомневаться нечего, — сказал капитан, обращаясь к своим офицерам. — С Францией мы еще не воюем, и, значит, нас остановил какой-то мерзавец-пират. Как по-вашему, попробовать нам уйти и пусть разносит нас хоть в щепы? Мы быстроходнее его, это я вижу.
И, не сомневаясь, что все единодушно согласятся с его мнением, капитан тут же кинулся к брасам, собираясь поставить куттер по ветру. Один из офицеров последовал за ним, а второй из чистой бравады поднял флаг на корме.
Но Израиль не двинулся с места, хотя в нем бушевала буря противоречивых чувств: ему показалось, что он узнал голос, доносившийся с неизвестного судна.
— Ну же! Чего ты стоишь, дурень? Живей к снастям! — взревел капитан вне себя от ярости.
Однако Израиль не шевельнулся.
Суматоха на борту неизвестного корабля, где поспешно спускали шлюпку, и туман, сгустившийся над морем под пасмурными небесами, помешали незнакомцу заметить смелый маневр куттера. Маленькое суденышко уже набирало ход, готовое умчаться прочь, но тут благодаря чистой случайности в его корму ударило сбоку ядро и переломило румпель в руках юнги, убив его на месте. Капитан бросился туда, ухватился за обломок румпеля и с громким «ура!» опять поставил по ветру куттер, уже начавший рыскать. Неизвестный корабль, которому, прежде чем кинуться в погоню, надо было еще поднять шлюпку, остался далеко позади.
И все это время на Израиля сыпался град проклятий. Однако возня со снастями мешала его врагам перейти от слов к делу. Наблюдая за их усилиями, Израиль невольно подумал: «Хоть они и звери, а все-таки отчаянные храбрецы!»
Позади в туманной дымке еще можно было различить незнакомый корабль: он уже поставил все паруса и время от времени его носовая пушка высовывала алый язык пламени и ревела им вслед, как взбесившийся бык. Еще два ядра попали в куттер, не повредив, однако, ни парусов, ни основных снастей. Лишь кое-какие леера были все же перебиты, и теперь их просмоленные концы хлестали по воздуху, словно хвосты дерущихся скорпионов. Быстроходный куттер, несомненно, еще мог спастись.
В эту решающую минуту Израиль подбежал к капитану, который по-прежнему налегал на обломок румпеля, встал прямо перед ним и сказал:
— Я ваш враг, янки. Защищайся!
— На помощь, ребята, на помощь! — закричал капитан. — Измена!
Эти слова еще не успели сорваться с его уст, как он умолк навеки. Одним могучим рывком, в который он вложил всю свою силу, Израиль сбросил его через гакаборт в море, и он полетел спиной вперед, словно под ним опрокинулся стул. Оба офицера уже бежали на ют. Израиль метнулся им навстречу, но прежде с быстротой молнии отдал два главных фала, и оба больших паруса бесформенной кучей рухнули на палубу. Один из офицеров кинулся к искалеченному румпелю — оставшись без рулевого в этот критический миг, куттер грозил вот-вот перевернуться. Израиль схватился со вторым офицером. Они дрались в клубке хлопающей парусины. Ноги офицера запутались в ней, он потерял равновесие и упал возле железного комингса люка. Однако, падая, он успел ухватить Израиля за самое уязвимое место, какое только есть у смертных. Обезумев от боли, Израиль ударил голову врага об острый комингс. Хватка офицера ослабела, а сам он окостенел. Израиль бросился к рулевому, который не знал, чем кончилась предыдущая схватка. Но он недолго пребывал в сомнении: крепкие руки стиснули его поперек живота, в тело, словно когти зверя, впились острые пальцы — напрягая всю силу, Израиль прижал его к своей груди. Офицер задыхался в этих объятьях, дух его забился в горле, словно пробка в горлышке булькающей бутылки. Внезапно Израиль отпустил его и швырнул о фальшборт. В это мгновение прогремел еще один выстрел, за которым последовал свирепый окрик:
— Все-таки спустили паруса! Стоило бы потопить вас за эту подлую штуку! Спустить эту грязную тряпку на корме!
С громким «ура!» Израиль одной рукой спустил флаг, а другой повернул румпель, чтобы не дать куттеру, уже совсем потерявшему ход, увалиться под ветер.
Через две-три минуты к борту подошла шлюпка. Ее командир поднялся на палубу и споткнулся о труп первого офицера, который сполз к самому трапу, когда куттер внезапно накренился, покатившись к ветру. Он направился к корме и услышал стон второго офицера, лежавшего там под вантами.
— Что все это означает? — спросил незнакомец у Израиля.
— А то, что меня, янки, насильно завербовали на королевскую службу, и в благодарность я захватил этот куттер.
Испустив возглас изумления, командир шлюпки посмотрел на тело, распростертое под вантами, и сказал:
— Он вряд ли выживет, но мы отвезем его к капитану Полю в подтверждение твоих слов.
— К капитану Полю! К Полю Джонсу? — воскликнул Израиль.
— К нему самому.
— Я так и думал. Мне сразу показалось, что это он окликал куттер. Услышав голос капитана Поля, я и решился захватить судно.
— Да, капитан Поль — сущий дьявол, когда требуется сделать из человека тигра. Но где остальная команда?
— За бортом.
— Как? — воскликнул офицер. — Ты отправишься с нами на «Скитальца». Капитан Поль найдет тебе подходящее дело.
Раненого спустили в шлюпку, и, отвалив от куттера, на котором теперь не осталось ни одной живой души, она направилась к своему кораблю. Однако офицер умер прежде, чем его подняли на борт.
Когда Израиль поднялся по трапу, он увидел на освещенной боевыми фонарями палубе около трехсот моряков, а впереди них невысокого щеголеватого человека весьма разбойничьего вида в шотландском колпаке с золотым обручем.
— Мерзавец! — сказал он. — Как ты смел заставить меня гоняться за твоей лоханкой? А где остальной твой сброд?
— Капитан Поль, — ответил Израиль. — Мы, кажется, знакомы. Если не ошибаюсь, несколько месяцев назад в Париже я предлагал вам свою постель. Как поживает Бедный Ричард?
— Черт побери! Да это, никак, курьер? Курьер-янки! Но как же так? На английском таможенном куттере?
— Меня насильно завербовали. Вот как это получилось…
— А где же остальные? — спросил Поль, поворачиваясь к офицеру.
Тот кратко сообщил ему все, что узнал от Израиля.
— Будем топить куттер, сэр? — спросил комендор, подходя к капитану Полю. — А то сейчас самое время. Он совсем рядом с нами, за кормой. Наклонить пару пушек — и дело с концом: утонет, как расстрелянный покойник.
— Нет. Пусть плывет в Пензанс[63] безмолвным предвестником того удара грома с ясного неба, который обещает им Поль Джонс.
Затем, отдав распоряжения относительно курса и приказав немедленно доложить ему, если на горизонте будет замечен парус, Поль отвел Израиля в свою каюту.
— А теперь расскажи мне поподробнее свои приключения, мой русый лев. Как все это произошло? Да не стой! Садись вот сюда, на рундук. Я — морской владыка самого демократического толка. Садись же и рассказывай! Впрочем, погоди: сначала тебе не помешает хлебнуть грогу.
Когда Поль протянул ему графин, взгляд Израиля упал на его руку.
— Я вижу, вы больше не носите колец, капитан. Оставили их для безопасности в Париже?
— Да. У одной маркизы, — самодовольно ответил Поль с фатовской сентиментальностью, которая странно не вязалась со всем его мрачным дикарским обликом.
— Пожалуй, от колец в море только одно беспокойство, — продолжал Израиль. — Во время моего первого плаванья — мы шли в Вест-Индию — я носил на этом вот среднем пальце кольцо одной девушки, и стоило мне недельку повозиться с мокрыми шкотами, как оно въелось в мясо и так сжало палец, что я не знал, куда деваться от боли.
— А девушка так же крепко въелась в твое сердце?
— Эх, капитан! Девушки забывают до того быстро, что где уж тут крепко их любить!
— Гм! По-видимому, ты, вроде меня, знался с графинями, а? Однако я жду твоей повести: тряхни-ка русой гривой, мой лев, рассказывай!
После чего Израиль поведал ему свою историю во всех подробностях.
Когда он умолк, капитан Поль устремил на него сочувственный взгляд. Его дикое одинокое сердце, не способное испытывать жалость к баловням судьбы, огражденным от боли и страданий, открылось для человека, который, как и он сам, одинокий, лишенный дружеской поддержки, тем не менее яростно боролся против враждебного рока.
— Ты ведь рано ушел в море?
— Еще совсем мальчишкой.
— Мне было двенадцать, когда я ушел в первое плаванье из Уайтхейвена. Вот таким, — капитан Поль поднял руку фута на четыре над полом. — Я был до того щуплый, и вид у меня в синей куртке был до того потешный, что меня прозвали мартышкой. Ничего, скоро они дадут мне другое прозвище. Ты когда-нибудь бывал в Уайтхейвене?
— Нет, капитан.
— А то бы ты наслушался обо мне всяких гнусностей! Там и сейчас рассказывают, будто я, такой кровожадный и трусливый пес, забил до смерти матроса Мунго Максвелла.[64] Это ложь, бог свидетель! Я приказал его выдрать, потому что он был негодяй и мятежник. Однако умер он своей смертью, и не тогда, а на борту другого корабля! Но к чему говорить об этом! Раз они не поверили показаниям, которые под присягой давали беспристрастные свидетели в лондонских судах, полностью меня оправдывая, так с какой стати они поверят моим словам, словам заинтересованного лица? Если клевета, даже самая лживая, замарает доброе имя человека, она липнет к нему крепче доброй славы, как черная смола липнет крепче белого крема. Но пусть клевещут! Я дам этим клеветникам основания для их злобы. В последний раз покидая Уайтхейвен, я поклялся, что если когда-нибудь еще и вступлю на его мол, то лишь как Цезарь в Сандуиче,[65] как чужестранный завоеватель. Вперед, мой добрый корабль, ты несешь меня к мести!
Люди, скрывающие под маской беззаботного самообладания жгучие страсти, в любой миг могут поддаться внезапной вспышке гнева. Хотя обычно они сохраняют власть над собой, все же стоит им хоть в малости утратить ее, как они теряют всякую сдержанность — по крайней мере, на время. Так и случилось с Полем. Сочувствие, которое внушил ему Израиль, послужило толчком к этим бурным излияниям. Едва минута откровенности миновала, он, казалось, очень пожалел о своей откровенности. Однако, ничем этого не выдав, он сказал шутливым тоном:
— Вот видишь, любезный друг, какой я кровожадный каннибал. Ну как, хочешь служить на моем корабле? Служить под начальством капитана, который забил до смерти беднягу Мунго Максвелла?
— Я буду счастлив, капитан Поль, служить под началом человека, который, смею сказать, поможет забить до смерти всю английскую нацию!
— Так, значит, ты ненавидишь англичан?
— Как гадюк! Они чуть не год травили меня, словно взбесившегося пса, — со злобой и отчаяньем воскликнул Израиль, вспомнив о мучениях, которые ему пришлось претерпеть.
— Ну, давай руку, мой лев, встряхни еще раз своей льняной гривой! Ей-богу, ты мне полюбился — так отлично ты умеешь ненавидеть. Будешь моим доверенным — стоять на часах у моей каюты, спать рядом со мной, править моей шлюпкой, сопровождать меня во время высадок. Ну, что скажешь?
— Скажу, что рад этому.
— Ты храбрый и честный малый. Первый человек среди миллионов, населяющих землю, кто пришелся мне по душе. Ну, наверное, ты устал. Устраивайся в этой каюте — она моя. Ты ведь предложил мне свою постель в Париже.
— Однако вы от нее отказались, капитан, и я последую вашему примеру. Где вы спите?
— Милый мой, я по три ночи не смыкаю глаз. Уже пять дней, как я не раздевался.
— Эх, капитан, вы спите так мало, а думаете так много, что умрете молодым.
— Я это знаю, и хочу этого, и добьюсь этого. Кому охота превратиться в дряхлую развалину? Что скажешь о моем шотландском колпаке?
— Он вам к лицу, капитан.
— Вот как? А впрочем, шотландский колпак и должен быть к лицу шотландцу. Я ведь по рождению шотландец. А этот золотой обруч тут не лишний?
— Обруч мне нравится, капитан. Ну, прямо корона на короле.
— Неужто?
— Из вас вышел бы король покрасивее Георга Третьего.
— А ты разве видел эту старую бабу? Расхаживает в фижмах[66] и обмахивается веером из павлиньих перьев, ведь так? Ты его видел?
— Так же близко, как теперь вижу вас, капитан. В садах Кью, где я чистил дорожки. Мы с ним минут десять разговаривали совсем одни.
— Дьявол! Какой случай! Если бы там был я! Какая возможность похитить английского короля и на быстроходном кораблике умчать его в Бостон заложником американской свободы! Ну, а ты что сделал? Неужели так просто стоял и смотрел на него?
— Дурные мысли меня, правда, смущали, капитан, но я с ними справился. А к тому же король обошелся со мной по-хорошему, как честный человек. Да воздаст ему бог за это. Но я еще прежде отогнал от себя искушение.
— А! Наверное, прикидывал, не приколоть ли его. И очень хорошо, что передумал. Это была бы порядочная гнусность. Никогда не убивай королей, а только похищай их. Королю больше пристало быть краденым конем, чем падалью. Во время этой вот моей экспедиции я собираюсь посетить земли графа Селкирка,[67] доверенного советника и любимого друга Георга Третьего. Но я не дам и волоску упасть с его головы. Когда я заполучу его к себе на борт, он займет здесь лучшую каюту и я для него обобью ее атласом. Я буду угощать его вином и вести с ним дружеские беседы; отвезу в Америку и введу его сиятельство в лучшее тамошнее общество. Только во время визитов его будут сопровождать два стражника, переодетые лакеями. Ибо не забудь, что граф будет выставлен на продажу — за такой-то выкуп. Другими словами, к кафтану знатного вельможи лорда Селкирка будет пришпилена его цена, как у любого раба на аукционе в Чарлстоне.[68] Однако, любезный мой обладатель русой гривы, ты каким-то образом ухитряешься выведывать все мои секреты, хоть при этом и рта не раскрываешь. Твоя честность — это магнит, который притягивает мою откровенность. Но я рассчитываю на твою преданность.
— Я буду надежным сундуком для ваших планов, капитан Поль. Сколько бы вы их мне ни доверили, до них никто не доберется, если вы сами не отомкнете замка.
— Хорошо сказано. А теперь ложись, это тебе необходимо. Спокойной ночи, червонный туз.
— Это больше подходит вам, капитан Поль, тому, кто в одиночестве возглавляет колоду.
— В одиночестве? Да, конечно: главная карта не может не быть одинокой, дорогой мой козырь.
— И снова я верну эти слова по принадлежности. Это вам быть козырным тузом, капитан Поль! И пусть никто никогда вас не побьет. Ну а меня — двоечку там или троечку в хвосте вашей масти — заберет любой валет или король, как это уже не раз бывало.
— Ну-ну, мой милый, никогда не пророчь другому судьбу лучше, чем самому себе. Но в усталом теле и душа устает. В постель, в постель! А я поднимусь на палубу и распоряжусь, чтобы на твою колыбельку поставили побольше парусов.
И они расстались до утра.
Глава XV
ОНИ ПОДХОДЯТ К ОСТРОВУ ЭЙЛСА-КРЕЙГ
На следующее утро Израиль был назначен квартирмейстером — унтер-офицером, которого обычно выбирают среди простых матросов и который в силу своих обязанностей большую часть времени проводит на юте, где находится капитан. Он должен следить в подзорную трубу, не появится ли на горизонте парус, спускать и поднимать флаг, а кроме того, наблюдать за рулевым. Поскольку на военных кораблях квартирмейстеров выбирают из числа не только наиболее опытных, но также и наиболее уважаемых и умных матросов, то нет ничего удивительного, что капитан и офицеры нередко держатся с ними почти как с равными. Таким образом, став квартирмейстером, Израиль уже по долгу службы постоянно находился в обществе Поля, и хотя они беседовали друг с другом на палубе почти так же фамильярно, как и в уединении каюты, это никого не удивляло и не порождало никаких кривотолков.
В начале апреля они шли вдоль берегов Уэльса, чьи величественные, увенчанные снегом горы так напоминают Норвегию. День выдался ясный и прохладный. Дул свежий, бодрящий ветер. И корабль, бегущий между Ирландией и Англией на север в Ирландское море, в самое сердце английских вод, пофыркивал, стряхивал пену с бушприта и, казалось, чувствовал всю бесшабашную дерзость того, кто затеял эту неслыханную экспедицию. Поль Джонс, выйдя на маленьком суденышке из военного французского порта, где стояло множество линейных кораблей, в одиночестве направлялся на единоборство со всем английским флотом. Вооруженный лишь метательными снарядами своей единственной крюйт-камеры, Поль, как древле юный Давид,[69] бросал вызов британскому Голиафу. В наши дни невозможно даже вообразить все трудности подобного предприятия. Это значило идти прямо на жерла пушек, равнодушно подставлять себя любым опасностям и смерти — подобный замысел мог увлечь лишь человека, пренебрегающего всеми предосторожностями дней войны и всеми обязательствами дней мира, человека, в чьем сердце мстительное негодование и раненое честолюбие оскорбленного героя соединяются с отчаянной ожесточенностью ренегата. То ли Кориолан[70] морей, то ли помесь джентльмена и волка.
На возвышении квартердека, где рядом с ним не было никого, кроме верного квартирмейстера, Поль позволил себе быть откровенным с Израилем и удовлетворил его естественное желание узнать кое-какие подробности об их экспедиции. Поль стоял, держась за ванты бизань-мачты и легко раскачиваясь над морем в небрежной позе, которая столь гармонировала с его дерзкой храбростью. Возле него расхаживал взад и вперед Израиль, то прижимая к глазу подзорную трубу, то беря ее под мышку (сущее воплощение благоразумной бдительности), и слушал рассказ капитана. Оказалось, что в ту ночь, когда Израиль приютил Поля в своей парижской спальне, герцог Шартрский и граф д'Эстен явились к доктору Франклину, чтобы сообщить полномочному комиссару колоний об окончательном согласии французского короля на снаряжение вооруженной американской экспедиции против англичан под его, комиссара, руководством. Дело было весьма деликатным. Хотя Франция стояла на грани вооруженного столкновения с Англией, официально война объявлена не была. Разумеется, подобная неопределенность как нельзя более благоприятствовала предприятиям, вроде предложенного Полем Джонсом.
Не будем подробно рассказывать о том, как капитан Поль и доктор Франклин готовили экспедицию, — достаточно сказать, что одержимый морской скиталец добился исполнения своего заветного желания и принял единоличную команду над вооруженным кораблем в английских водах — кораблем, имевшим законное право плавать под американским флагом, так как в сундучке его капитана хранился патент офицера американского военного флота. Он отправился в плаванье без каких-либо инструкций. Редкая проницательность доктора Франклина, позволявшая ему постигать самые редкие натуры, подсказала этому мудрецу, что ищущий добычи доблестный авантюрист вроде Поля Джонса, как и ищущий добычи лев, по самой своей природе — одинокий воин. «Оставьте его в покое», — ответил мудрец некоему государственному мужу, который захотел было стеснить свободу Поля, прислав ему пакет с инструкциями.
Для разрешения вопроса о том, считать ли Поля Джонса разбойником, героем или и тем и другим вместе, было пущено в ход немало тончайшей казуистики. Однако война и воины, как политика и политики, как вера и верующие, не терпят никакой умозрительности.
На второй день после того, как Израиль обосновался на борту «Скитальца», новоявленный квартирмейстер, беседуя с Полем на палубе, вдруг навел трубу на ирландский берег и объявил, что видит в той стороне большое судно. «Скиталец» кинулся в погоню, и почти в виду Дублинского порта, куда направлялся бриг, он был захвачен и с призовой командой Поля Джонса отправлен в Брест.
Затем «Скиталец» сделал крутой поворот, прошел мимо острова Мэн, направляясь к берегам Камберленда, и к закату на горизонте показался Уайтхейвен. Под покровом темноты корабль приблизился к порту, и отряд волонтеров уже готовился к высадке. Однако ветер переменился, посвежел, и на море поднялось сильное волнение.
— Мне не хочется навещать старых друзей в такую скверную погоду, — сказал капитан Поль Израилю. — Побродим по окрестностям, а визитную карточку оставим тут денька через два.
На следующее утро в бухте Глентайн у южного берега Шотландии они встретили таможенный баркас. Его обязанностью было производить досмотр торговых судов. «Скиталец» был замаскирован под купца: его корпус по борту опоясывала широкая бурая полоса — сюртук квакера скрывал турецкого разбойника. Можно было ожидать, что корсар, выполняющий веления закона, попробует остановить корсара, восстающего против них. Однако баркас немедленно обратился в бегство, и «Скиталец» тщетно обрушил град картечи на два его рейковых паруса, стонавшие под крепким ветром. Несмотря на яростную канонаду, баркасу удалось уйти.
На следующий день у мыса Малл-оф-Галлоуэй Поль оказался в такой близости от большого каботажного судна, груженного ячменем, что, опасаясь, как бы его присутствие в этих местах не было разглашено, он отправил его с этим известием кормой вперед прямо в преисподнюю, грянув по нему всеми бортовыми пушками и засеяв ячменем окрестные воды. От команды потопленного корабля он узнал, что в заливе Лох-Райан стоит на якоре флотилия в двадцать — тридцать судов под охраной вооруженной бригантины. Он повернул туда свой бушприт, но у входа в залив вновь задул встречный шквалистый ветер, и Поль отказался от своего намерения. Вскоре после этого ему встретился шлюп, шедший из Дублина, который был тотчас утоплен ради сохранения тайны.
Вот таким образом, подчиняясь более прихотям стихий, нежели военным инструкциям конгресса, смуглый капитан Поль кружил по Ирландскому морю, грозовой тучей нависая над оживленными портами, а затем, отброшенный противным ветром, метал молнии во все встречные суда, чье одиночество превращало их в мишень столь же заметную и легкую, как единственное дерево в открытой степи. А берега вокруг были усеяны гарнизонами, и все это внутреннее море кишело кораблями. С безнаказанностью левантинца[71] Поль носился на своем суденышке в самом сердце сильнейшей морской державы мира: электрический угорь, случайно проскользнувший в горло Британии с глотком древней океанской воды и терзающий ее внутренности.
Заметив затем большой корабль, направлявшийся в залив Клайд, он кинулся за ним в погоню, рассчитывая перерезать ему путь. Тот, однако, оказался отличным ходоком, и его преследователи напрягали все силы: Поль почти парил над квартердеком, поминутно приказывая крепче натягивать шкоты, чтобы до последнего дюйма использовать и без того уже готовые лопнуть паруса.
Вдруг в самый разгар погони на палубу «Скитальца» легла густая тень, словно началось затмение солнца, и ее граница заскользила по планширю, такая же четкая, как щели между досками. Эта тень поглощала все — властная тень острова Эйлса-Крейг, крутого, точно Хуан-Фернандес.[72] «Скиталец» шел над глубинами, которые вплотную примыкают к этой высочайшей из вершин Грампианских гор[73] там, где они тянутся по морскому дну.
Остров Эйлса-Крейг, огромный утес около мили в окружности, находится в восьми милях от берегов Эршира. Тысячефутовый конус высится среди моря, одинокий, как найденыш, и презрительный, как пирамида Хеопса. Но подобно разбитому черепу Голиафа, эту надменную вершину венчает покинутый замок, и под разрушенными сводами клубятся туманы, словно смутные призраки, теснящиеся в мозгу какого-нибудь обезумевшего гения, который и в своем падении лелеет лишь возвышенные думы.
Когда «Скиталец» приблизился к острову, и преследователь и преследуемый превратились рядом с этим массивом в ореховые скорлупки. Клотик «Скитальца» на девятьсот футов не доставал до фундамента развалин на вершине утеса.
Пока корабли еще находились в тени острова и она омрачала лица всех моряков, в настроении Поля произошла внезапная перемена. Он перестал отдавать властные приказы. Вдохновение, которое горело в его глазах, угасло. Вскоре он распорядился прекратить погоню. Повернув, они пошли на юг.
— Капитан Поль, — сказал немного погодя Израиль, — мне непонятно, почему вы перестали гнаться за этим купцом. Но, вероятно, дело в том, что он заманивал нас слишком глубоко в залив.
— К черту купца! — воскликнул Поль. — Я повернул не потому, что испугался его или короля Георга. Меня заставил повернуть вон тот владыка.
— Владыка?
— Ну да. Морской владыка. Вон тот — Эйлса-Крейг.
Глава XVI
ОНИ ЗАГЛЯДЫВАЮТ В КАРРИКФЕРГЕС И ОБРУШИВАЮТСЯ НА УАЙТХЕЙВЕН
На следующий день у берегов Ирландии, неподалеку от Каррикфергеса, рыбачья шхуна, введенная в заблуждение квакерским видом неизвестного судна, доверчиво к нему приблизилась. Ее команда была взята в плен, а сама она потоплена. От рыбаков Поль узнал, что большой корабль, стоящий на рейде, — это двадцатипушечный корвет «Дрейк». После чего он приказал повернуть, твердо решив снова побывать здесь в эту же ночь и атаковать корвет.
— Да неужто, капитан Поль, — спросил Израиль, когда на закате они вновь повернули к ирландскому берегу, — да неужто, сэр, вы прямо так и полезете к ним в пасть? Почему бы не подождать, пока он выйдет в море?
— А потому, желтогривый мой лев, что я намерен сыграть свадьбу с этой красоткой сегодня же ночью. Родня невесты против этого брака, и значит, ее следует похитить безотлагательно. А ведь она весьма стройна, если поглядеть на нее в трубу, не так ли? О, как я прижму ее к своему сердцу!
Поль вошел на рейд в открытую, как друг, и, убрав часть парусов, неторопливо приблизился к «Дрейку»: якорь готов был упасть на дно, а абордажные крючья — впиться в борт корвета. Однако ветер был слишком силен и якорь бросили с опозданием. «Скиталец» остановился на расстоянии трех бросков сухаря от ничего не подозревающего противника, который, как ему казалось, видел перед собой всего лишь мирного купца из Канады с грузом безобидных бревен.
— Свадьбу придется немного отложить, — прошептал Поль, убедившись, что его план не удался.
Он с дерзкой невозмутимостью осматривал палубы врага и хладнокровно ответил самым дружеским тоном на оклик вахтенного офицера, а затем приказал выбрать якорную цепь, словно его якорь не забрал, и пошел назад в море, рассчитывая тут же вернуться и все-таки осуществить задуманный ранее маневр, заняв выигрышную позицию, — он намеревался внезапно поставить «Скитальца» бортом против носа «Дрейка» так, чтобы все палубы корвета оказались открытыми для его огня. Но ему вновь помешал ветер. На этот раз налетел снежный шквал, и Поль был вынужден отказаться от своего плана.
Вот так, храня притворно мирный вид и не внушая подозрений, Поль, словно незримый дух, подошел в вечернем сумраке к берегу и даже на мгновение встал на якорь возле английского военного корабля — бросил якорь, ответил на оклик, оглядел противника, взвесил положение, принял решение и удалился, не вызвав ни у кого ни малейшей тревоги. А ведь он собирался разнести «Дрейка» в щепы, пустив в ход цепные ядра.[74] Вот так смертоносный враг — если только он хитер — может втихомолку проникать в человеческие гавани и сердца. И если он в конце концов так же незаметно исчезнет, не причинив вреда, то останавливает его не пробудившаяся совесть, а лишь осторожность. Наутро ни единый обитатель Каррикфергеса даже не подозревал, что ночью близ него прошел дьявол в шотландском колпаке.
Трудно найти другое такое сочетание цареубийственной дерзости и старческой осторожности, каким отмечены многие хищные предприятия Поля. Именно это соединение, казалось бы, несоединимых качеств позволило ему занять место в ряду великих воинов.
К рассвету буря улеглась. Солнце застало «Скитальца» на середине Северного пролива, там, где он переходит в Ирландское море. И величественные горы Англии, Шотландии и Ирландии, вздымающиеся над травянисто-зеленой водой, были видны отсюда все вместе и так же ясно, как в Нью-Йорке из треугольного Парка видны ратуша, собор Святого Павла и особняк Асторов.[75] Три королевства, насколько хватал глаз, были покрыты снегом.
— Видишь, Желтогривый, — заметил Поль с усмешкой, — они выкинули белый флаг, трусливые негодяи! И пока белый флаг укрывает эти холмы, мы посетим Уайтхейвен, любезный друг. Я обещал побывать там прежде, чем совсем покину эти края. Израиль, дружок, я собираюсь сам сойти на берег и приложить свою собственную руку к тому, что произойдет. Тебе когда-нибудь приходилось иметь дело с клиньями?
— Я не раз загонял клинья в бревна, — ответил Израиль. — Но это было до того, как я стал моряком.
— Ну что ж! Коли ты умел загонять клинья в бревна, то сумеешь загонять их и в пушки. Тебя-то мне и нужно! Убери свою трубу, сходи к плотнику, возьми у него сотню клиньев, сложи их в ведро вместе с молотком и принеси все это мне.
К вечеру показался маяк на большом мысу Сент-Бис, неподалеку от Уайтхейвена. Однако ветер настолько спал, что Полю не удалось добраться до места в намеченный час. Он рассчитывал высадиться и совершить все, что было задумано, еще до рассвета. И все же, несмотря на столь значительное опоздание, он не отказался от своего плана, так как второго такого случая ему представиться уже не могло.
Приближалась полночь; «Скиталец», ловя парусами слабый бриз, неторопливо подходил к Уайтхейвену, и Поль велел Израилю подать ему ведро для последнего осмотра. Некоторые клинья показались ему великоваты, и он распорядился немного обточить их напильником. Затем он осмотрел фонари и горючие материалы. Подобно Петру Великому, он вникал в мельчайшие подробности, не утрачивая способности руководить всем предприятием. Но и самый придирчивый осмотр не может предохранить против небрежности подчиненных. Самые проницательные глаза не способны видеть то, что происходит за спиной. Как мы убедимся, во время приготовлений к высадке в Уайтхейвене осталось незамеченным весьма существенное упущение.
В ту эпоху в городе под защитой фортов обитало шесть-семь тысяч человек.
В полночь Поль Джонс, Израиль Поттер и двадцать девять матросов на двух шлюпках переправились на берег, чтобы напасть на шесть-семь тысяч обитателей Уайтхейвена. Грести им пришлось долго. Весь путь был проделан в гробовой тишине. Не было слышно ни единого звука, и лишь весла скрипели в уключинах. В непроглядной тьме виднелись только два маяка у входа в гавань. Сквозь безмолвие и мрак две тяжело нагруженные шлюпки проскользнули в порт, точно два таинственных кита из Ледовитого океана. Когда шлюпки подошли к молу, матросы уже различали лица друг друга. Занимался день. Еще немного, и в порту засуетятся такелажники и другие корабельные мастера. Но пусть их!
Тогда, как, впрочем, и теперь, Уайтхейвен торговал углем. Город опоясан шахтами; город стоит на шахтах; корабли бросают якоря над шахтами. Источенная шахтами земля там подобна сотам; подземные галереи тянутся под морским дном на две мили. Когда рухнули наиболее древние выработки, многочисленные дома были поглощены землей, словно во время землетрясения, и поднялась паника, точно как в 1755 году в Лиссабоне.[76] Вот какой зыбкой и коварной была земля под городом, на который намеревался напасть разбойник, вышедший из его чрева, как и уголь.
Порой, когда дует ветер, попутный для кораблей, идущих в Лондонский порт, на Темзе можно встретить процессию судов одинаковой величины и оснастки, растянувшуюся на многие мили и напоминающую вереницу лошадей, которых, привязав попарно к одной веревке, ведут на рынок. Это угольщики, везущие уголь в Лондон.
Около трехсот таких угольщиков тесно сгрудилось в гавани Уайтхейвена. Был отлив. Суда, совершенно беспомощные, стояли на сухом дне. Их цвет напоминал сажу. Их темные реи были повернуты вертикально, чтобы они ненароком не зацепились друг за друга. Триста черных корпусов лежали в иле, словно стадо бегемотов, нежащихся в нильской грязи. Их лишенные парусов наклоненные мачты и опущенные реи казались лесом гарпунов, всаженных в спины этих бегемотов. С одного фланга флотилию заслонял форт с батареей на высокой насыпи над пляжем. Внизу на полосе песка в беспорядке валялись проржавевшие стволы маленьких пушек, будто сбившиеся в кучу щенята. Над ними торчали дула пушек, поставленных на лафеты.
Шлюпка Поля причалила к подножью этого форта. Другую шлюпку он отослал к северному берегу гавани, приказав поджечь находящиеся там суда. Затем, оставив двух человек охранять шлюпку, сам отправился брать форт.
— Держи ведро покрепче и подставь мне свое плечо, — приказал он Израилю.
Воспользовавшись спиной Израиля, как приставной лестницей, Поль во мгновение ока взобрался на стену. Ведро и матросы последовали за ним. Он бесшумно подкрался к кордегардии,[77] моряки ворвались внутрь и связали спящих часовых. Затем Поль разделил свой отряд, оставил четырех человек забивать клинья в пушки, а сам скомандовал:
— Бери ведро, Израиль, и следуй за мной ко второму форту.
Идти им предстояло четверть мили. По дороге Израиль спросил:
— Капитан Поль, а мы вдвоем справимся с тамошними часовыми?
— В этом форте нет часовых.
— Значит, вам известны все здешние порядки, капитан?
— Да, об этом я осведомлен как будто неплохо. Поторопись! Да, милый мой, я недурно знаю Уайтхейвен. И надеюсь, что после сегодняшнего утра Уайтхейвен получит некоторое представление и обо мне. Идем же быстрее. Вот мы и на месте.
Взобравшись на стену, они невольно задержались и посмотрели вокруг. В бледном свете зари смутно виднелись скученные дома и тесные ряды кораблей.
— Дай-ка мне клин и молоток, любезный. Вот так… а теперь иди за мной и подавай мне по клинышку для каждой пушки. Я позатыкаю глотки этим громовержцам. Умолкни! — И он забил клин в запальное отверстие первой пушки. — Онемей! — И он заклепал вторую пушку. — Прикуси язык! — И он заклепал третью. И так далее, и так далее, и так далее, а Израиль сопровождал его с ведром, словно лакей или великодушный филантроп с корзиной подаяний.
— Ну, вот и все. Посмотри, виден ли огонь на юге? Я что-то ничего не вижу.
— И я не вижу. Ни искры, капитан. А вот на востоке так разгораются искры дня.
— Чтоб этих собак пожрало пламя! Чего они мешкают? Быстрей, вернемся в тот форт. Быть может, что-нибудь случилось и они уже там.
И действительно, вернувшись в первый форт, Поль и Израиль увидели вторую шлюпку. Команда ее была в полной растерянности: их фонарь погас как раз тогда, когда они в нем больше всего нуждались. По роковой случайности ворвань в фонаре на шлюпке Поля также вся выгорела. И никто не захватил с собой огнива! А фосфорные спички еще не были тогда изобретены.
Быстро светало.
— Капитан Поль, — сказал командир второй шлюпки. — Оставаться здесь дольше — безумие. Поглядите! — И он указал на город, уже отчетливо видимый в серых лучах рассвета.
— Предатель! Или, быть может, трус! — рявкнул Поль. — Каким образом погасли фонари? Израиль, мой лев, докажи, какая кровь струится в твоих жилах! Достань мне огня. Хотя бы одну искру!
— Есть тут у кого-нибудь с собой трубка и табак? — спросил Израиль.
Какой-то матрос поспешно протянул ему обгрызенную трубку с табаком.
— Сойдет, — сказал Израиль и побежал к городу.
— Зачем этому полоумному трубка? — спросил один.
— И куда это он отправился? — поддержал второй.
— Не ваше дело, — ответил их капитан.
Поль теперь расположил свой отряд так, чтобы в случае необходимости можно было мгновенно отступить к шлюпкам. Тем временем храбрец Израиль, давно закалившийся в самых разных передрягах, как ни в чем не бывало отправился добывать у кого-нибудь из жителей Уайтхейвена искорку, чтобы пламя могло пожрать все жилища Уайтхейвена.
На окраине города, в некотором от него отдалении, он увидел домик — лачугу какого-то бедняка. Постучав в дверь, Израиль с трубкой во рту попросил огня, чтобы прикурить.
— Какого черта! — рявкнул сердитый голос за дверью. — Будить человека ни свет ни заря, чтобы разжечь трубку! Проваливай!
— Что-то ты сегодня заспался, дружок! — сказал Израиль. — На дворе уже давно день. Ну-ка, дай мне побыстрее огонька! Ты что, не узнал старого приятеля? И не стыдно тебе? Открывай же дверь!
Минуту спустя заспанный хозяин дома отодвинул засов, Израиль ринулся в темную комнату прямо к очагу, сдул золу, раскурил трубку и был таков.
Все это заняло одно мгновение. Хозяин, ничего не понимая со сна, только моргал. Пошатываясь, он вышел на порог, но Израиль уже юркнул за кучу кирпича и скрылся из вида.
— Хорошо сделано, мой лев! — приветствовал его Поль, который тем временем приказал всем, у кого были трубки, приготовить их, чтобы понадежнее размножить огонь.
Затем обе шлюпки направились к удобному месту на молу, в который почти упирался один конец черного полумесяца, состоявшего из угольщиков.
Матросы уже открыто заявляли, что надо бросить это дело, пока не поздно. Им было страшно при мысли, что придется подниматься на борт черных угольщиков, чтобы, ощупью спустившись в трюм, поджигать их один за другим. Им казалось, будто они добровольно идут в темницу и на казнь.
— Десять человек останутся у шлюпок, остальные за мной! — приказал Поль, не обращая внимания на их ропот. — А теперь положим конец всем будущим поджогам в Америке, запалив один огромный костер из английских судов. Вперед, ребята! Те, кто с трубками, в первый ряд!
Он собирался разослать своих людей в разных направлениях, чтобы одновременно поджечь несколько угольщиков в разных местах, но в такой поздний час подобный риск уже граничил с безумием. Отряд остановился возле угольщика, крайнего с наветренной стороны, и Поль с Израилем прыгнули на его борт.
Во мгновение ока они взломали подшкиперскую и, схватив по большой охапке пакли, сухой, точно трут, кинулись в трюм. Там, пока Поль разжигал костер, Израиль поспешно собирал банки со смолой, которую потом не замедлил вылить на горящие щепки, паклю и дерево, так что мгновенно разгорелось яркое пламя.
— Может и погаснуть, — заметил Поль. — Надо бы найти бочонок смолы.
Они принялись обыскивать трюм и наконец обнаружили такой бочонок. Выбив оба днища, они водрузили его на костер, словно мученика. Затем они направились к носовому люку, а из кормового уже клубами валил дым. Только тут Поль расслышал крики матросов: город не только проснулся, но уже целые толпы спешат к молу.
Когда Поль выпрыгнул из люка к борту, он увидел взошедшее солнце и тысячи людей. Кое-кто уже подбегал к горящему судну. Соскочив наземь, Поль приказал своему отряду не двигаться с места, вышел вперед шагов на десять и навел пистолет на суетящийся Уайтхейвен.
Те, кто бросился тушить пожар, начавшийся, как им казалось, случайно, теперь застыли в идиотическом бездействии — так поразила их наглость поджигателя, которого они готовы были счесть не пиратом, а дьяволом, свалившимся с луны.
В то время как Поль стоял, охраняя разгорающийся пожар, Израиль вдруг без всякого оружия бросился навстречу толпе на берегу.
— Вернись! Сейчас же вернись! — закричал Поль.
— Сначала я напугаю этих овец, как их волки не раз пугали меня!
При виде этого простоволосого безумца в толпе началась паника. Люди шарахались от безоружного Израиля с большим страхом, чем от пистолета капитана Поля.
Пламя уже пожирало снасти и завивалось спиралью вокруг мачт. В одном конце гавани пылал угольщик, а в другом пылало солнце, уже час как поднявшееся над землей. Город был теперь охвачен не сном, но тревогой и изумлением. Пришло время отступить.
Отряд без всяких помех сошел к морю, предварительно отпустив захваченных пленных, так как в шлюпках для них не было места.
Израиль собирался уже прыгнуть в шлюпку, но тут он увидел, что на него, выпучив глаза, смотрит человек, у которого он раздобыл огня.
— Ты дал мне доброе семя! — крикнул Израиль. — Посмотри, какой хороший урожай оно принесло!
И шагнул в шлюпку.
Теперь на молу оставался только Поль.
Матросы подняли крик, торопя своего капитана. Однако Поль еще минуты две безмолвно смотрел на бушующую толпу, потом несколько раз презрительно взмахнул рукой, словно томагавком, и обвел взглядом прибрежные холмы, также усыпанные встревоженными горожанами.
Когда нападавшие отплыли уже довольно далеко, англичане хлынули в форты — и обнаружили, что от их пушек толку не больше, чем от железной руды под землей. В конце концов они все же начали стрелять, то ли перетащив на берег корабельные пушки, то ли подняв на лафеты проржавевших щенят, валявшихся у подножья первого форта.
Второпях они почти не целились, и ядра падали, не долетая до шлюпок и не причиняя им ни малейшего вреда.
Матросы Поля громко хохотали и стреляли из пистолетов в воздух.
За все время этой операции не было повреждено ни одного жилища, не было пролито ни капли крови. Человеческая жизнь щадилась сознательно, что отнюдь не умаляло отчаянной смелости предприятия. Отеческая заботливость, с которой Поль оберегал жителей города, была, несомненно, лишь одной из сторон сострадательного презрения, которое он к ним питал.
Если бы нападавшим удалось высадиться на несколько часов раньше, тут не уцелело бы ни единого дома, ни единого корабля. Но важен был урок, а не потери. И этого пожара было достаточно, чтобы — как объяснял Поль американскому посланнику в Париже — доказать, насколько легко могут американцы отплатить за бессмысленное опустошение своих берегов такими же опустошениями во вражеской стране. Впрочем, если бы возмездие поручили Полю Джонсу, то за все обиды было бы воздано далеко не полной мерой, ибо отмщение умерялось бы великодушием рыцарственного, хотя и не слишком щепетильного врага.
Глава XVII
ОНИ ПОСЕЩАЮТ ПОМЕСТЬЕ ГРАФА СЕЛКИРКА, А ПОТОМ СРАЖАЮТСЯ С КОРВЕТОМ «ДРЕЙК»
Теперь «Скиталец» направился через залив Солуэй-Ферт к берегам Шотландии, и в полдень того же дня Поль с отрядом из двенадцати человек, среди которых были Израиль и два офицера, высадился на острове Сент-Мэри, где находилось одно из поместий графа Селкирка.
В течение последних трех дней этот первобытный воин побывал в гаванях и высаживался на берегах каждого из трех Соединенных королевств по очереди.
Утро выдалось ясное и тихое. Остров Сент-Мэри купался в солнечном свете. Тонкая пелена снега уже растаяла, и утесы вновь зазеленели нежной весенней травой и душистыми почками.
Едва его отряд приблизился к господскому дому, как Поль заключил, что их ожидает неудача, ибо кругом царило безлюдье. Нигде не было видно ни одной живой души. И все же, лихо заломив свой колпак, Поль пошел вперед, в полной тишине расставил своих людей вокруг дома, а потом в сопровождении Израиля поднялся на крыльцо и начал громко стучать в дверь.
Наконец ее отворил седовласый слуга.
— Граф дома?
— Он в Эдинбурге, сэр.
— Ах вот как… А ваша госпожа дома?
— Да, сэр. О ком прикажете доложить?
— О джентльмене, который желал бы выразить ей свое уважение. Вот моя карточка.
И он протянул лакею гравированную в Париже визитную карточку, на которой по золотому фону были красиво выведены только его имя и фамилия.
Старик дворецкий проводил Поля в гостиную, а Израиль остался ждать в передней.
Вскоре появилась хозяйка дома.
— Прекрасная дама, позвольте пожелать вам самого доброго утра.
— Простите, сэр, с кем я имею удовольствие говорить? — спросила графиня, смерив развязного незнакомца негодующим взглядом.
— Сударыня, я послал вам свою карточку.
— Которая мне ничего не разъяснила, сэр, — холодно ответила графиня, вертя в пальцах позолоченный картон.
— Нарочный, отправленный в Уайтхейвен, прекрасная дама, мог бы подробнее рассказать, кто имеет честь быть сейчас вашим гостем.
Не поняв этих слов, графиня, рассерженная и даже, пожалуй, испуганная фамильярностью Поля, с некоторым смущением сказала, что джентльмен может осмотреть остров, если он явился сюда для этого. Она же удалится и пришлет ему проводника.
— Графиня Селкирк! — сказал Поль, шагнув к ней. — Мне нужно видеть графа. По делу крайней важности.
— Граф в Эдинбурге, — сухо ответила графиня и повернулась к двери.
— Я могу положиться на вашу честь благородной дамы, что это действительно так?
Графиня поглядела на него с недоумением и досадой.
— Простите, сударыня, я никогда не позволил бы себе усомниться в словах, произнесенных дамой, но вы, быть может, догадались, зачем я тут, а в этом случае я меньше всякого другого посмел бы упрекнуть вас за желание скрыть от меня присутствие графа на острове.
— Я не понимаю, о чем вы говорите, — сказала графиня уже с явной тревогой; однако, мужественно пытаясь сохранить достоинство, она, несмотря на весь свой страх, не попятилась к двери, а величественно повернулась к ней.
— Сударыня! — воскликнул Поль, умоляюще протянув к ней руку и поигрывая золотым обручем своего колпака, в то время как по его смуглому лицу разливалось выражение поэтической и сентиментальной грусти. — Приходится только оплакивать беспощадную необходимость, которая в дни войны порой вынуждает офицера, наделенного возвышенной душой и тонкой чувствительностью, совершать во имя долга поступки, которые он в сердце своем, как частное лицо, не одобряет. Именно эта тяжкая судьба выпала на мою долю! Вы говорите, сударыня, что граф в отъезде. Я верю вам. Как могу я, чаровница, искать порока в звуках, льющихся из столь беспорочного источника?
Последнее, весьма вероятно, относилось к губам графини, которые были само совершенство.
Поль низко поклонился, а графиня смотрела на него в смятении и тревоге, по-прежнему не до конца понимая смысл его слов. Однако страх ее несколько уменьшился, когда она убедилась, что незнакомец, хотя он и изъяснялся с цветистой вычурностью, присущей морякам, тем не менее не был намеренно дерзок. И действительно, несмотря на всю экстравагантность его речей, жесты и манеры Поля были в высшей степени почтительны.
Он продолжал:
— Раз граф в отъезде, сударыня, то, поскольку единственной целью моего визита был он, вы можете без малейшей боязни услышать, что я имею честь быть офицером американского военного флота и явился на этот остров с намерением взять графа Селкирка заложником во имя свободы Америки, но в силу ваших заверений отказываюсь от этого своего намерения, черпая радость и в самом разочаровании, ибо это разочарование дало мне возможность дольше беседовать с благородной дамой, в чьем обществе я нахожусь, и никак не потревожить безмятежный покой ее семейного очага.
— Неужели все это правда? — спросила графиня в величайшем изумлении.
— Сударыня, из этого окна вы можете увидеть в отдалении военный корабль американских колоний «Скиталец», которым я имею честь командовать. А теперь со всем уважением к вашему супругу и искренним сожалением, что мне не удалось застать его дома, я прошу разрешения поцеловать руку вашего сиятельства и удалиться.
Однако графиня предпочла не заметить этой парижской просьбы и словно нечаянно с большим искусством скрыла правую руку в складках платья, а затем более приветливым тоном пригласила своего нежданного гостя перекусить перед дорогой и поблагодарила его за учтивость. Но Поль отказался от этого приглашения и, трижды поклонившись, удалился.
В передней он увидел Израиля, который изумленно таращил глаза на круглый стальной щит, над которым перекрещивались двуручный шотландский меч и рапира.
— Точь-в-точь оловянное блюдо с ножом и вилкой, капитан Поль!
— Верно, верно, мой лев. Однако пойдем! Чертовское невезенье: старый фазан где-то летает. Хоть в гнезде осталась красивая фазанка, но что толку! Придется нам убраться восвояси с пустыми руками.
— Да неужто мистера Селкирка нету дома? — осведомился Израиль с притворным огорчением.
— Мистера Селкирка? Ах, ты имеешь в виду Александра Селкирка.[78] Нет, мой милый, на острове Сент-Мэри его нет; он далеконько отсюда, живет отшельником на острове Хуан-Фернандес, как ни жаль. Ну, идем же!
На крыльце их поджидали оба офицера. Поль кратко сообщил им, как обстоят дела, и добавил, что им остается только покинуть остров.
— Уплыть, и чтобы все наши труды пропали даром? — сердито спросили офицеры.
— Так чего же вы хотите?
— Военной добычи — серебряной посуды, а то чего же?
— Какой позор! Я думал, что мы с вами джентльмены.
— Английские офицеры в Америке тоже все как на подбор джентльмены, но они забирают серебро из домов противника, где только могут.
— Ну-ну, не следует понапрасну их чернить, — возразил Поль. — Таких офицеров, о которых вы говорите, в английской армии едва ли найдется двое на двадцать — это обыкновенные грабители и карманники, которым королевский мундир служит только ширмой для их темного ремесла. Остальные же все — люди чести.
— Капитан Поль, — продолжали спорить офицеры, — мы отправились в эту экспедицию, зная, что нам вряд ли будут платить жалованье, однако мы рассчитывали на честную военную добычу.
— Честная военная добыча? Это что-то новенькое.
Однако офицеры стояли на своем. Поль считал их лучшими своими офицерами и, видя, что они полны решимости, в конце концов с неохотой согласился, опасаясь иначе восстановить их против себя. Тем не менее сам он наотрез отказался участвовать в этом деле. Поставив офицерам условие, что они ни под каким предлогом не приведут в дом матросов, не устроят обыска и возьмут только то, что предложит им сама графиня после того, как они сообщат ей свои требования, он кивнул Израилю и, вне себя от негодования, спустился с ним к морю. Но тут же передумал и послал Израиля обратно — сопровождать офицеров, чтобы вместе с ними получить серебро, так как питал неколебимое доверие к его честности.
Появление офицеров сильно напугало графиню. С холодной решимостью они объяснили ей цель своего прихода. Оставалось только подчиниться. Она удалилась. Явился дворецкий и принялся молча ставить на стол перед офицерами и Израилем серебряные подносы и дорогую посуду.
— Мистер дворецкий, — сказал Израиль, — позвольте, я помогу вам таскать бидоны из молочной!
Однако дворецкий, не зная, принять ли это за деревенское простодушие или за насмешку, только пуще нахмурился, обиженный республиканской фамильярностью Израиля, и отказался от всякой помощи — он и без того кипел негодованием против этой шайки бессовестных разбойников, какими они ему представлялись, посмевших нанести подобное оскорбление столь знатному дому. Четверть часа спустя офицеры покинули гостиную, унося свою добычу.
На крыльце к ним подскочила румяная девушка и, сверкая глазами, добавила к их ноше «с поклоном от графини» две детские коралловые погремушки, оправленные в серебро.
Надо сказать, что один из офицеров был француз, а другой — испанец.
Испанец возмущенно швырнул свою погремушку на землю. Француз же весьма учтиво взял свою, поцеловал ее и сказал девушке, что будет свято хранить этот коралл в память о ее розовых щечках.
Когда они спустились к морю, то увидели, что капитан Поль, прижав лист бумаги к гладкому камню в обрыве, что-то торопливо пишет карандашом. Вот он поставил свою подпись и, бросив на офицеров укоряющий взгляд, передал бумагу Израилю с приказанием немедленно отнести ее в дом и вручить леди Селкирк в собственные руки.
Письмо гласило:
«Сударыня!
Я глубоко огорчен тем, что был вынужден отплатить вам за такой любезный прием согласием на столь тягостные для вас действия некоторых моих подчиненных — действия, прекрасная дама, которые в силу моей профессии мне приходится не только терпеть, но и в известной степени поощрять. От всей души, дражайшая дама, я оплакиваю эту чрезвычайно грустную необходимость, неотъемлемую от моего трудного положения. Как ни малоблагородна алчность этих людей, они имели право ждать от меня вознаграждения за свои услуги и храбрость в прошлом. А для размышлений у меня был лишь миг. Но полагаю, что, дав им разрешение, в котором я отказать не мог, я все же нанес меньший ущерб имению вашего сиятельства, нежели собственной кровоточащей щепетильности. Однако мое сердце не позволяет мне продолжать. Разрешите заверить вас, дражайшая дама, что я приложу все старания выкупить это серебро, дабы иметь честь вернуть его вам тем способом, который вам благоугодно будет назначить.
Я покидаю ваш остров, сударыня, чтобы завтра поутру вступить в бой с двадцатипушечным кораблем его величества «Дрейком», стоящим сейчас в гавани Каррикфергеса. Я встретил бы врага с еще большей решимостью, если бы мог льстить себя надеждой, что неподобающее поведение моих офицеров не навлекло на меня немилость прекрасной госпожи острова Сент-Мэри. Но я был бы непобедим, как Марс, если бы смел лелеять мечту, что в одном из зеленых уголков своего прелестного поместья графиня Селкирк милосердно возносит молитву за того, дражайшая графиня, кто, прибыв сюда за пленником, сам был пленен.
Вашего сиятельства благоговеющий враг
Джон Поль Джонс».
Какое впечатление произвело на графиню это чересчур пылкое послание, история умалчивает. Однако история упоминает, что после возвращения «Скитальца» во Францию благодаря неустанным усилиям Поля, терпеливо, по одному предмету, выкупавшего серебро у тех, среди кого оно было разделено, и потерявшего на этом сумму, равную стоимости добычи, вся посуда, включая даже две серебряные крышки к перечницам, была согласно обещанию возвращена владельцам; история упоминает также, что граф, узнав все обстоятельства дела, учтиво написал Полю письмо, в котором благодарил его за любезность. По мнению благородного графа, Поль показал себя человеком чести. Было бы опрометчиво не согласиться со столь высокородным авторитетом.
Едва отряд вернулся на «Скитальца», как они немедленно отплыли к берегам Ирландии. На следующее утро показался Каррикфергес. Поль намеревался было войти прямо в гавань, но Израиль, осматривавший ее в свою трубу, сообщил ему, что оттуда выходит большой корабль — возможно, «Дрейк».
— Как по-твоему, Израиль, они знают, кто мы такие? Дай-ка мне трубу!
— Они спускают шлюпку, капитан, — ответил Израиль, отнимая трубу от глаз и протягивая ее Полю.
— Верно… верно. Они не знают, кто мы. Я заманю эту шлюпку к нам. Быстрей! Они уже отвалили. Становись к рулю, мой лев, и смотри, чтобы мы были все время повернуты к ним кормой. Они ни в коем случае не должны видеть наших бортов.
Шлюпка приближалась, офицер на носу внимательно разглядывал «Скитальца» в подзорную трубу. Вскоре шлюпка была уже на расстоянии оклика.
— Эй, на корабле! Кто вы такие?
— Да ладно вам, поднимитесь на борт! — ответил Поль в рупор небрежно-ворчливым тоном, словно оскорбившись, что его могли принять за врага.
Через несколько минут командир шлюпки поднялся по трапу «Скитальца». Лихо заломив свой колпак, Поль приблизился к нему, изящно поклонился и сказал:
— Доброе утро, сэр. Доброе утро. Рад вас видеть. Какая миленькая у вас шпага! Не разрешите ли вы мне взглянуть на нее поближе?
— Я вижу, что я ваш пленник, — сказал офицер, обводя взглядом корабельные пушки и бледнея.
— Нет, что вы! Вы — мой гость, — любезнейшим образом заверил его Поль. — Так позвольте же освободить вас от вашей… вашей трости.
И так, словно в шутку, он взял шпагу, которую ему протянул офицер.
— Теперь, сэр, не скажете ли вы мне, — продолжал Поль, — почему корвет его величества «Дрейк» решил выйти в море? Чтобы совершить небольшой моцион?
— Он вышел, чтобы разыскивать вас, но когда я полчаса назад покинул его борт, там еще не догадывались, что корабль, который подходит к гавани, и есть тот самый, который нам нужен.
— Полагаю, вы получили вчера известия из Уайтхейвена, не так ли?
— Да. Срочную депешу с сообщением, что утром в их порт ворвались поджигатели.
— Что? Как вы их назвали? — грозно осведомился Поль, сдвигая колпак на затылок и подходя вплотную к офицеру. — Ах, простите, — добавил он насмешливо. — Я было запамятовал, что вы мой гость. Израиль, проводи злополучного джентльмена в каюту, а его матросов в кубрик.
«Дрейк» приближался медленно, так как ветра почти не было. Его сопровождали пять прогулочных яхт, разукрашенных вымпелами и флагами; на них толпились нарядно одетые люди, которые отправились в это опасное плаванье, побуждаемые той же страстью к зрелищам, какая привлекает зрителей в цирк. Но им и в голову не приходило, насколько близок дерзкий враг.
— Покажите-ка им захваченную шлюпку! — скомандовал Поль. — Посмотрим, какое впечатление она произведет на этих веселых путешественников.
Едва на яхтах заметили пустую шлюпку, как все они, догадавшись, в чем дело, торопливо повернули и скрылись за молом. Несколько минут спустя по обоим берегам пролива поднялись сигнальные дымы.
— Судя по дыму, они наконец почуяли нас, капитан Поль, — заметил Израиль.
— К заходу солнца дыма будет гораздо больше, — ответил Поль мрачно.
Ветер дул прямо к берегу, был час прилива, и «Дрейк» продвигался вперед с большим трудом.
А «Скиталец», пользуясь более благоприятным ветром, нетерпеливо крейсировал по проливу, словно вспыльчивый дуэлянт, томящийся морозным утром в ожидании медлительного противника, которому вовсе не хочется покидать теплую постель, чтобы его затем изрубили в куски на холоде. Наконец, когда английскому кораблю удалось выйти на ветер, Поль любезно повел его за собой к середине пролива, словно кавалер даму на балу, а там дал ему приблизиться на расстояние оклика.
— Они поднимают флаг, сэр, — доложил Израиль.
— Ну, так покажи им «звезды и полосы», мой милый.
Радостно кинувшись к ящику, Израиль пристопорил флаг к фалу. Ветер свежел. Когда Израиль выпрямился, яркий флаг обвился вокруг него, как великолепная мантия, одевая его красными полосами и звездами, которые рвались ввысь, подобно искрам и языкам пламени.
Флаг достиг верхушки флагштока, развернулся по ветру, и Поль устремил на него торжествующий взгляд.
— Я первым поднял этот флаг на американском корабле и первым в мире салютовал ему. Если даже я погибну этой же ночью, имя Поля Джонса останется жить в веках… Они окликают нас.
— Кто вы?
— Ваши враги! Ну давайте же! К чему предисловия и рекомендации?
Солнце тихо клонилось к зеленым берегам Ирландии. Небо дышало покоем, море было зеркальным, а легкий ровный ветер только-только надувал паруса. Обменявшись первыми выстрелами, оба корабля после некоторого маневрирования легли на параллельный курс и неторопливо скользили по водной глади, обмениваясь смертоносными залпами, словно два всадника, которые шагом едут по равнине, ведя дружескую беседу. Такой бой продолжался час, а затем беседа оборвалась. «Дрейк» спустил флаг. Как изменился этот величественный корабль за какие-то короткие шестьдесят минут! Палубы его напоминали теперь дремучий бор, где побывали лесорубы. Сбитые стеньги и реи повисли на снастях, упавшие в воду паруса надувались шарами, словно обрубленные кроны. Черный корпус и расщепленные основания мачт были истерзаны и изрешечены, словно их долбили гигантские дятлы.
«Дрейк» был больше «Скитальца» и нес больше пушек и людей. Потери его были гораздо тяжелее. Его мужественный капитан и старший офицер оба получили смертельные раны.
Первый скончался, когда победители взошли на борт корвета, второй — через два дня.
Начинало смеркаться, на море по-прежнему царил штиль. Никакая канонада, никакие усилия обезумевшего человека не могут нарушить стоическую невозмутимость природы, если природа хочет сохранять безмятежность. Погода не изменилась и на следующий день, что весьма облегчило починку кораблей. Когда она была завершена, они обогнули Ирландию с севера и взяли курс на Брест. Их не раз преследовали английские сторожевые суда, но им удалось благополучно добраться до своей стоянки во французских водах.
— Мы неплохо поплавали этот месяц, господа, — сказал Поль Джонс французским офицерам, которые поднялись на борт, едва «Скиталец» бросил якорь. — Я прихватил с собой двух путешественников, — продолжал он. — Разрешите представить вам моего близкого друга Израиля Поттера, прибывшего сюда из Северной Америки, а также корабль его величества короля Англии «Дрейк», прибывший сюда из Каррикфергеса в Ирландии.
Это плаванье принесло Полю славу героя — особенно при французском дворе, тем более что король Людовик прислал ему шпагу и орден. Но бедняга Израиль, который также захватил вражеское судно, да еще в одиночку, — что получил он?
Глава XVIII
ЭКСПЕДИЦИЯ, КОТОРАЯ ОТПЛЫЛА ИЗ ГРУА
Три месяца спустя после возвращения «Скитальца» в Брест переговоры доктора Франклина с французским королем, успеху которых немало способствовала пылкая настойчивость Поля, привели к тому, что на рейде Груа уже стояла разношерстная эскадра из девяти судов, готовая отплыть для нового нападения на английские берега. Входившие в нее корабли были собраны откуда попало, команды их вербовались из всевозможного сброда, офицеры не знали друг друга и все втайне завидовали Полю. На дисциплину и соблюдение субординации рассчитывать не приходилось, и экспедиция с самого начала грозила окончиться неудачей. Человеку вроде Поля все это не могло не причинять невыразимых мучений. Но он смирился с неизбежным, и, хотя во многих отношениях действительность превзошла самые худшие ожидания, его гордый дух не был сломлен.
Карьера этого упрямого искателя приключений служит блестящим подтверждением той общеизвестной истины, что поскольку все дела человеческие по самой своей природе обречены на полнейшую путаницу, поскольку они порождаются и питаются своеобразным полуупорядоченным хаосом, то, следовательно, тому, кто ищет преуспеть в великом, не следует ждать тихой погоды, которой никогда не бывало и не будет, — вместо этого он должен рассчитывать лишь на неверные средства, имеющиеся в его распоряжении, и одержимо рваться вперед к своей цели, положившись в остальном на судьбу.
Хотя Поль официально считался командиром эскадры, на деле это было не так. Почти все его капитаны высокомерно требовали полной свободы действий. Один из них впоследствии оказался явным предателем, и почти ни на кого из остальных нельзя было положиться.
Ну, а чтобы дать представление о входивших в эскадру кораблях, достаточно будет описать тот, которым командовал сам Поль. Эта тяжелая и неуклюжая посудина была в свое время построена для торговли с Индией и до сих пор хранила ароматы чая, гвоздики и араковой водки[79] — прежних своих грузов. Уже тогда этот старый корабль был так же смехотворно нелеп, как в наши дни треуголка среди цилиндров. Его слоновий корпус был увенчан соответствующим паланкином — высоким резным ютом, более всего походившим на Пизанскую падающую башню. Когда бедняга Израиль стоял на этом юте, держа у глаза подзорную трубу, он напоминал не столько моряка, сколько астронома, разглядывающего не земное, а лунное море. Галилей на холмах Фьезоле.[80] Корабль этот строился как однопалубный — другими словами, у него была только одна батарейная палуба; однако, прорубив порты в кормовом трюме, Поль втиснул туда шесть старых восемнадцатифунтовых пушек, и их ржавые дула торчали над самой водой, словно головы чумазых мулатов, выглядывающих из подвала. Это ветхое судно называлось «Дюра», но еще до отплытия получило другое название, которое затем его обессмертило. Хотя и не секрет, что название было изменено в знак уважения к доктору Франклину, теперь впервые будет рассказано, как это все произошло.
Над рейдом Груа сгущались сумерки. После изнурительного дня, потраченного на попытки преодолеть завистливую враждебность офицеров и вопреки всем препятствиям раздобыть для эскадры необходимые припасы (на берегу ему приходилось уговаривать и уламывать десятки нечестных поставщиков и маклеров), Поль сидел в своей каюте, погруженный в грустные размышления, а Израиль, устроившись на полу у ног своего капитана, чинил старые сигнальные флаги.
— Капитан Поль, мне что-то не нравится название нашего корабля! «Дюра»? Что это такое — «Дюра»? Плавать на корабле, который зовется «Дюра»! Так и кажется, что вот-вот эта дура оставит тебя в дураках.
— Черт! Я как-то об этом не задумывался, мой лев. «Дюра» — дура. Конечно, это суеверие, но я все-таки изменю его название. Послушай, Желтогривый, как нам его окрестить?
— Что же, капитан Поль, вам ведь по душе доктор Франклин? Да и не он ли помог собрать нашу эскадру? Давайте назовем его «Доктор Франклин».
— Нет, так не годится. Это значило бы прямо на него указать, а наш Бедный Ричард желает остаться в тени.
— Бедный Ричард? Ну, так назовем его «Бедный Ричард»! — воскликнул Израиль, которому чрезвычайно понравилась эта мысль.
— Молодец! — вскричал Поль, вскакивая на ноги и совсем забыв о недавнем унынии. — Пусть он зовется «Бедный Ричард» в честь девиза «Бог помогает тому, кто сам себе помогает», как говорит Бедный Ричард.
Вот таким образом корабль Поля получил название «Bon Homme Richard» — поскольку сочли полезным перевести его новое имя на французский язык, оно и приобрело вышеозначенную форму.
Спустя некоторое время эскадра вышла в море. Вскоре они захватили несколько судов, но из-за непокорности французских капитанов дела приняли столь плачевный оборот, что Поль был вынужден вернуться в Груа. Однако, на его счастье, в это время из Англии пришел корабль с сотней пленных американских моряков, обмененных на английских военнопленных, и почти все они охотно пошли служить под командой Поля.
Когда эскадра отправилась во второе плаванье, тотчас возобновились прежние неурядицы. Большинство кораблей самовольно покинуло «Бедного Ричарда». В конце концов, когда Поль попал в сильнейший шторм у грозного юго-восточного побережья Шотландии, его сопровождало всего только два корабля. Но ни предательство подчиненных, ни бешенство стихий не поколебали его решимости. Более того, именно в разгар этих неудач он замыслил одно из самых дерзких своих предприятий.
Они шли в виду гор Чивиот-Хиллс. Дозорные докладывали о судах, направлявшихся в залив Ферт-оф-Форт, в глубине которого на южном берегу расположен Лит, порт Эдинбурга, отстоящий от шотландской столицы всего на полторы мили. Поль решил напасть на Лит и либо взять с него контрибуцию, либо предать его огню. Он вызвал капитанов двух оставшихся с ним кораблей на совет, чтобы обсудить план высадки. Эти почтенные люди не скупились на всевозможные возражения. Они говорили о благоразумной осторожности, и, потеряв много времени на бесплодные рассуждения, Поль наконец воззвал к их алчности и сумел добиться согласия, которого не мог получить, взывая к их доблести. Он заявил, что главный выигрыш в литской лотерее принесет им ни много ни мало двести тысяч фунтов — такую контрибуцию он потребует. Этого оказалось достаточно: три корабля вошли в Ферт-оф-Форт так смело и спокойно, словно везли квакеров на конгресс мира.[81]
На обоих потрясенных берегах их приближение вызвало панику, распространявшуюся с быстротой холеры. Эти три подозрительных корабля слишком долго медлили в море, и никто уже не сомневался, что их ведет бесшабашный викинг Поль Джонс. В пять часов следующего утра шотландская столица уже могла наблюдать, как они неторопливо плывут вверх по заливу. В Лите поспешно сооружались батареи, из Эдинбургского замка везли оружие, всюду пылали сигнальные костры. И все же Поль вел свои корабли с такой невозмутимой наглостью, скрывая, насколько возможно, их истинную сущность, что встречные суда не раз принимали их за купцов и дружески окликали.
Ближе к вечеру Израиль со своей Пизанской башни доложил, что от северного берега к «Ричарду» направляется лодка с пятью людьми.
— Они собираются угостить нас горячими овсяными лепешками, — заметил Поль. — Подпустим их. А чтобы они не робели, покажи-ка им английский флаг, милый мой Израиль.
Вскоре лодка подошла к их борту.
— Ну-с, любезные, чем могу служить сегодня? — снисходительно спросил Поль, облокотившись о борт.
— Да нас, капитан, прислал лэрд [так] Крокарки, чтобы, значит, купить пороху и пуль.
— А зачем это, скажите на милость, вам вдруг понадобились порох и пули?
— Да неужто вы не слыхали, что проклятый пират Поль Джонс околачивается у здешних берегов?
— Так-то оно так, только вам он зла не сделает. Он ведь просто бродит среди разных наций со старой шляпой в руке и собирает доброхотные даяния, именуемые контрибуциями. Плывите себе спокойно домой: ни пули, ни порох вам для него не нужны. Он берет контрибуции серебром, а не свинцом. Готовьте лучше серебро, вот что, любезные.
— Да нет, капитан, лэрд строго-настрого заказал нам возвращаться без пороха и пуль. Вот и деньги. Если вы нам дадите, чего мы просим, глядишь, проклятому пирату придет конец.
— Ну, ладно, выдайте им бочонок, — сказал Поль со смехом, но тут же шепнул что-то на ухо Израилю. — А деньги уберите: это вам подарок.
— А пули-то, капитан? Что толку в порохе без пуль? — закричал верзила на носу лодки, когда им спустили бочонок. — Нам нужны пули!
— Святый боже! Ты так ревешь, что один заменишь целую батарею. Забирайте бочонок и плывите себе. А с бочонком поосторожнее, и если изловите злодея Поля Джонса, не давайте ему пощады.
— Эй-эй, капитан! — крикнул один из гребцов. — Тут ошибка вышла. В этом бочонке соленья, а не порох. Вот поглядите, — и, сунув руку под крышку, он извлек на свет зеленый огурец, с которого капал рассол. — Заберите его обратно и дайте нам пороху.
— Чепуха! — ответил Поль. — Порох там на дне, засоленный порох — это лучший способ его сохранить. Ну а теперь прощайте, ловите этого проклятого грабителя Поля Джонса.
День был воскресный. Корабли продолжали свой путь. На закате длинный галс привел «Ричарда» к преуспевающему маленькому порту Керколди на северном берегу.
— У воды собралась большая толпа, капитан Поль, — доложил Израиль, глядя в трубу. — Какая-то старуха стоит на бочке из-под рыбы и вроде бы продает что-то, как на аукционе, но пока точно не скажу.
— Дай-ка мне посмотреть, — сказал Поль, забирая у него трубу, когда они подошли ближе к берегу. — И правда, старуха… наверное, знахарка, торгует всякими снадобьями, недаром на ней черное одеяние. Надо бы ее окликнуть.
Приказав держать к берегу, он скомандовал взять рифы, чтобы замедлить ход, схватил рупор и крикнул:
— Эй, на бочке! О чем проповедуете, сударыня? Какой выбрали текст?
— «Возрадуется праведник, когда увидит отмщение; омоет стопы свои в крови нечестивого!»[82]
— О, это не слишком милосердно! А теперь выслушайте мой текст: «Бог помогает тому, кто сам себе помогает, как говорит Бедный Ричард»!
— Нераскаянный пират! Разразится буря и унесет из наших вод обломки твоих кораблей!
— Крепкий ветер вашей ненависти отлично наполняет мои паруса! Прощайте, — закончил Поль, взмахнув своим колпаком, — остальное доскажете нам в Лите.
На следующее утро корабли подошли к Литу почти на пушечный выстрел. Назначенная на высадку партия уже спустилась в шлюпки. Израиль сидел на руле первой из них, дожидаясь своего капитана, но в ту минуту, когда Поль поставил ногу на трап, на корабли налетел внезапный шквал, шлюпки стали биться о борт и воцарился невообразимый хаос. Этот шквал оказался предвестником сильнейшей бури. Поспешно вернув своих людей на корабли, Поль, как мог, пытался противостоять ярости ветра, но он дул от берега с необыкновенной силой. Дальше в заливе какое-то судно погибло у них на глазах. Обескураженный капер был вынужден отступить перед бурей и отказаться от своего намерения.
И по сей день на берегах Ферт-оф-Форта все жители убеждены, что непосредственной причиной поражения, которое стихия нанесла врагу возле Лита, была молитва, вознесенная преподобным мистером Ширером (из Керколди).
Дурные качества французских капитанов, подчиненных Полю, их робость, не способная следовать за его смелостью, их зависть, мешавшая им признать его превосходство, а также значительное уменьшение его сил (ведь из девяти кораблей шесть его покинули), и, наконец, враждебность волн и ветра — все это обещало каперу теперь, когда не флот противника, но ураган изгнал его из шотландских вод, унизительнейшее возвращение из плаванья, начинавшегося столь многообещающе, — возвращение без единого подвига, который мог бы поддержать славу, завоеванную в предыдущих экспедициях. Однако Поль не пал духом. Он пытался задобрить судьбу не унынием, а решимостью. И словно покоренная его упорством, капризная фортуна внезапно покинула его врагов и перешла на его сторону столь же внезапно, как раззолоченный маршал Ней[83] — под упрямое знамя Наполеона, возродившееся и грядущее с Эльбы на Париж. Одним словом, удача (вот оно, это слово!) в самое ближайшее время подарила Полю величайший подвиг его жизни — самый необычайный бой во всей морской истории, не имеющую себе подобных схватку с «Сераписом».
Глава XIX
БОЙ С «СЕРАПИСОМ»
Битва между «Бедным Ричардом» и «Сераписом» вошла в историю как первое значительное сражение на море между англичанами и американцами. Ни до, ни после этой битвы хроника морских войн не могла бы назвать ничего равного ей по упорству, по взаимной ненависти и мужеству. Исход ее долго оставался неясным, но в конце концов был спущен английский флаг.
В этой битве есть что-то чрезвычайно знаменательное. В ней можно усмотреть одновременно и образчик, и параллель, и пророчество. Одной крови с Англией и ее заклятый враг в двух войнах,[84] затаившая в глубине души старые обиды, неустрашимая, беспринципная, отчаянная, хищная, безгранично честолюбивая, прячущая дикарскую сущность под маской цивилизации Америка — это истинный Поль Джонс среди наций или еще станет им.
Если рассматривать его в таком свете, бой между «Бедным Ричардом» и «Сераписом», и сам по себе весьма интересный, несомненно, заслуживает особого нашего внимания.
Никогда еще не бывало схватки столь свирепой. Ее запутанный ход, который не под силу распутать рассказчику, можно с полным правом уподобить чудовищному клубку снастей и якорей двух противников, обрекшему их на дикий хаос уничтожения.
Читателю, который хотел бы получить подробное и стройное описание этой битвы, следует обратиться к какой-нибудь другой книге. Автор же вынужден упомянуть о ней лишь потому, что он должен во всех перипетиях следовать за судьбой безвестного странника, чью жизнь он описывает. А это требует и общего взгляда на каждое знаменательное событие, в котором ему довелось участвовать.
Некоторые особенности места и времени придали этому бою своеобразную театральную атмосферу, озарив почти поэтическим светом зловещий мрак его трагического исхода. Бой длился с семи до десяти часов вечера, и в самый его разгар на него лились лучи полной осенней луны и тысячи зрителей на дальних холмах Йоркшира могли его созерцать.
От устья Тиса до устья Хамбера восточное побережье Англии почти всюду дикостью и меланхоличностью пейзажа напоминает Калабрию.[85] Эти берега подвергаются беспрестанному разрушению. Ежегодно остров, успешно отражающий посягательства почти всех других своих врагов, отступает под мощным натиском морской стихии, достойным Аттилы. У подножья утесов там повсюду видны груды огромных камней — это обрушились подмытые волнами скалы, так что теперь их нередко со всех сторон окружает вода и в кипящем прибое высится хаос полузатопленных пирамид и обелисков — развалины Пальмиры[86] среди расточительной океанской пустыни. И особенно дики и унылы пятьдесят миль побережья между мысом Фламборо и мысом Сперн.
Пережидая бурю, которая заставила их покинуть Лит, корабли Поля несколько дней занимались охотой на купцов и угольщиков — одних взяли в плен, других утопили, а третьих обратили в бегство. Они довольно долго крейсировали вблизи устья Хамбера, надеясь выманить в море королевский фрегат, по слухам стоявший там на якоре. Затем они встретили большую флотилию торговых судов, которую сопровождал довольно сильный конвой. Однако флотилия в панике прижалась к самому краю коварных отмелей, и Поль не решился без опытного лоцмана следовать за ней к этим опасным берегам. В ту же ночь он заметил в море два неизвестных судна, гонялся за ними до трех часов утра и только тогда, приблизившись к ним на достаточно малое расстояние, наконец догадался, что это — корабли его собственной эскадры, которые оставили его перед тем, как он направился в залив Ферт-оф-Форт. Рассвет доказал правильность его предположения. Так пять кораблей из девяти, стоявших на рейде Груа, вновь оказались вместе. В полдень из-за мыса Фламборо появился караван из сорока торговых судов под охраной двух военных кораблей — «Сераписа» и «Скарборо». Заметив, что к ним приближаются пять каперов, сорок купцов, словно сорок цыплят, в панике кинулись под крылышко берега. Их вооруженные защитники мужественно повернули в открытое море, готовясь к бою. Немедленно приняв вызов, Поль подал сигнал своим спутникам и рванулся навстречу англичанам. Но как он ни рвался, сблизились они только в семь часов вечера. Тем временем его спутники, не обращая внимания на сигналы, плыли своим путем. Пока мы их оставим и некоторое время будем заниматься только «Ричардом» и «Сераписом» — двумя грозными противниками, между которыми разыгрался этот бой.
Команда «Ричарда» представляла собой весьма пестрый сброд, и чтобы держать его в повиновении, на борт было взято сто тридцать пять солдат — тоже весьма разношерстная шайка — под командованием французских офицеров не слишком высокого ранга. Его вооружение было не менее разнородным: оно включало пушки всех сортов и калибров, но в целом соответствовало примерно вооружению тридцатидвухпушечного фрегата. На корабле всюду царил дух вредоносного смешения.
«Серапис» был пятидесятипушечным фрегатом, и половина его орудий по калибру превосходила самые большие пушки «Ричарда». На нем было триста двадцать человек команды — дисциплинированных военных моряков.
Морской бой по самой своей природе отличен от сухопутного. В океане по временам бывают свои холмы и ложбины, но в нем нет ни рек, ни лесов, ни оврагов, ни городов, ни гор. В тихую погоду он расстилается одной отутюженной равниной. Хитроумные маневры регулярных армий и засады на индейский манер здесь равно неосуществимы. Все открыто, ясно, подвижно. Даже самая стихия, по которой перемещаются враги, поддается легчайшему удару перышка. Один и тот же ветер, один и тот же прилив одинаково воздействуют на всех участников боя. Благодаря этой простоте сражение двух кораблей, осененных огромными белыми крыльями, приобретает скорее сходство с единоборством мильтоновских архангелов,[87] нежели с безобразными схватками сухопутных войск.
Когда корабли наконец сошлись, над водой уже повисла сумеречная мгла. Луна еще не поднялась, и глаз с трудом различал даже близкие предметы. Увлекаемые по легкой зыби влажным бризом, корабли подошли друг к другу на пистолетный выстрел. Капитан «Сераписа» знал, что поблизости находятся другие суда, но из-за темноты не мог окончательно определить, кто перед ним. В сумрачном тумане каждый корабль представлялся другому огромным и смутным, как дух Морвена.[88] На обоих раздавались твердые шаги решительных людей, и упругие палубы глухо гудели, словно барабаны, провожающие гроб.
«Серапис» окликнул «Ричарда». Ответом был залп. Полчаса противники непрерывно маневрировали, то и дело меняя позицию, но все время оставаясь на расстоянии выстрела. Более быстроходный «Серапис» все время грозил зайти с носа «Ричарда» и порой вдруг устремлялся прямо на него и столь же внезапно отступал, — движимый ненавистью, он вел себя подобно петуху, который танцует вокруг курицы, побуждаемый, однако, противоположной страстью. И все это время корабли ни разу больше не окликнули друг друга, хотя уже совсем сблизились, и над морем гремела только канонада.
В этот момент к ним приблизился «Скарборо», по-видимому намереваясь помочь своему товарищу. Однако теперь пороховой дым еще более сгустил ночную мглу. «Скарборо» кое-как различал оба корабля, ясно видел вспышки выстрелов, но не мог разобрать, кто тут кто. И он не решался стрелять, чтобы в стремлении помочь другу ненароком не оказаться в роли его врага. Когда ворона, которая кружит около другой вороны, дерущейся с ястребом высоко в небе, убеждается, что не может помочь товарке, она улетает обратно в лес — так поступил и «Скарборо». Этого требовала осторожность: в него уже попало несколько случайных ядер, посланных, может быть, «Ричардом», а быть может, и «Сераписом». И вот не желая напрасно подвергать себя опасности, этот растерявшийся и беспомощный друг на время удаляется восвояси.
Вскоре после этого невидимая рука зажгла на востоке огромную золотую лампу. Рука эта незримо поднялась из-за горизонта и поставила лампу на самый его краешек, как на порог, словно говоря: господа воины, позвольте мне немного осветить сию мрачную картину. Лампой была круглая полная луна — единственный фонарь, установленный у рампы этой сцены. Но и ее лучи едва проникали сквозь тяжелый туман. Предметы, прежде различаемые лишь с трудом, теперь рисовались призрачно и неверно. Окутанный таинственными парами гигантский светильник отбрасывал на воду обманчивый, почти демонический отблеск, напоминавший те фантасмагорические полосы света, которые, пронизывая ночной дождь, ложатся наискось на лондонскую мостовую из сине-зеленой витрины какого-нибудь аптекаря. И в этом сардоническом тумане лицо Лунного человека,[89] который глядел прямо на сражающихся, словно он стоял в каком-то подводном люке, лениво облокотившись о горизонт, — это странное лицо кривилось в тихой, по-обезьяньи самодовольной усмешке, будто Лунный человек тайно подстроил этот морской бой, а теперь от всей своей злобной старческой души радуется тому, как прекрасно подействовали его чары. Так и стоял, ухмыляясь, Лунный человек, только-только подняв голову над краем моря, — Мефистофель в суфлерской будке этой сцены.
Теперь благодаря луне «Паллада» (один из спутников «Ричарда»), державшаяся в стороне от боя, различила неподалеку одинокий силуэт неизвестного корабля. Она решила напасть на него, если он окажется врагом. Но не успели они сблизиться, как неизвестный корабль — это был «Скарборо» — был обстрелян с большого расстояния другим спутником «Ричарда», «Альянсом». Ядра полетели над морем, словно воланы в большом зале. Вскоре в дело вступили ракетки обоих кораблей, и они принялись без устали обмениваться чугунными воланами. Схватившиеся спутники двух главных бойцов дрались со всей яростью тех пылких секундантов, для которых ссора, послужившая причиной смертельной дуэли их друзей, становится их собственной ссорой. Эта интермедия настолько отвлекла внимание Лунного человека от «Ричарда» и «Сераписа», что, желая рассмотреть ее получше, он даже поднялся над своим люком и улыбнулся еще шире. К этому времени «Альянс» ускользнул прочь, а «Паллада» бросилась вперед и завязала бой со «Скарборо» на самом близком расстоянии — битве этой суждено было завершиться через час тем, что «Скарборо» спустил флаг.
По сравнению с «Сераписом» и «Ричардом» «Паллада» и «Скарборо» были как два оруженосца, которые, хоть и не достигли еще полной силы, обнаруживают в схватке те же черты, что и их рыцари.
Лунный человек приподнялся повыше, чтобы ничего не упустить.
Теперь, однако, он уже не был единственным зрителем этого спектакля. С высоких береговых утесов, и особенно с мыса Фламборо, его наблюдали большие толпы местных жителей. И любопытство этих крестьян было вполне извинительно — столь необыкновенная открывалась перед ними картина. Вдалеке над морем смутно белели паруса перепуганного каравана торговых судов — они походили на огромные снежные хлопья ночной метели. В другой стороне нерешительно лавировали те корабли эскадры Поля, которые не принимали участия в сражении. Ближе к берегу лежала полоса тумана, окутывавшая «Палладу» и «Скарборо», — этот туман медленно плыл над морем, словно блуждающий остров, и в его глубине то и дело мелькали огненные вспышки и раздавался грохот канонады. Дальше над волнами висела грозная туча, которую непрерывно раздирали молнии, и она смыкалась лишь для того, чтобы ее вновь рассекли языки пламени. Эта туча не была неподвижна, но и не плыла в одном направлении, подобно упомянутой выше, — нет, напоенная хаотической силой, она то приближалась, то удалялась и пенилась огнем, словно смерч, бешено крутящийся где-нибудь у берегов Малабара.[90]
Для того чтобы получить представление о том, что происходило в сердце этой тучи, необходимо проникнуть туда и вступить во владение, войти в нее, как дух — в мертвое тело, как бесы — в свиней,[91] которые затем кинулись с обрыва и погибли в море, что еще предстояло «Ричарду».
До сих пор «Серапис» и «Ричард» только маневрировали, сходясь и расходясь, словно партнеры в котильоне,[92] и все это время непрерывно обменивались репликами залпов.
Впрочем, Поль вскоре убедился, что вражеский фрегат гораздо более поворотлив и быстроходен, чем неуклюжий бывший купец, и попробовал с обычной своей решимостью лишить противника этого превосходства, приблизившись к нему вплотную. Однако попытка поставить «Ричарда» поперек носа «Сераписа» привела к обратным результатам: вражеский утлегарь медленно надвинулся на Пизанскую башню «Ричарда», где стоял Израиль, который поспешно вцепился в слабину паруса и замер, словно человек, ухватившийся за конскую гриву, чтобы затем вспрыгнуть в седло.
— Держи, держи крепче! — крикнул Поль, бросаясь к нему с канатом. И во мгновение ока он накрепко связал свой корабль с вражеским. Ветер, надувавший паруса «Сераписа», повернул его и всем бортом навалил на «Ричарда». Заскрежетали торчащие дула пушек, сцепились реи, однако борта не соприкоснулись. Между кораблями темным клином легла полоска воды, словно узкий венецианский канал, который дремлет меж двух сумрачных дворцов, а высоко над ним изогнулся таинственный Мост Вздохов.[93] Однако тут в вышине сомкнулись шесть ноков реев, и по мере того, как поднимались ветер и луна, можно было видеть и слышать три моста вздохов.
И в этот канал, в эту Лету, зеркально гладкую по сравнению с волнующимся вокруг морем, кануло за эту ночь немало бедных душ — кануло и было навеки забыто.
Словно кипящая лавой трещина, которая пролегла по спорной границе на какой-нибудь вулканической равнине, эта разделяющая их бездна была пастью смерти для обоих противников. И такой узкой, что канонирам, чтобы попасть банником в дуло собственной пушки, приходилось просовывать его в противолежащие порты вражеского корабля. Казалось, идет внутренняя усобица, а не бой между впервые встретившимися противниками. А вернее сказать, казалось, будто Сиамские [так] близнецы, забыв о своих братских узах, яростно схватились в противоестественной драке.
Глава XIX
БОЙ С «СЕРАПИСОМ» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Вскоре раздался чудовищный взрыв, заглушивший даже грохот канонады. Две старые восемнадцатифунтовые пушки из тех, которые, как уже упоминалось, были наспех установлены в трюме «Ричарда», разлетелись на куски, убив всех вокруг и разворотив в этом месте корпус так, будто у правого и у левого борта разорвалось по паровому котлу. Словно обрушились стены дома. Пизанскую башню поддерживали теперь лишь несколько обнаженных пиллерсов. После этого, вероятно, немало ядер «Сераписа» пролетало сквозь «Ричарда», ничего не зацепив на своем пути. Так можно стрелять дробью в грудную клетку скелета.
Однако ближе к носу сокрушительные залпы тяжелых батарей «Сераписа», приставленных (если позволительно такое сравнение) прямо к глотке и животу «Ричарда», разносили все в щепу. Моряки бежали с взятой на прицел батарейной палубы «Ричарда», словно шахтеры от рудничного газа. Собравшись на полубаке, они продолжали драться, пустив в ход гранаты и мушкеты. Солдаты же забрались на мачты, и огонь, который они вели оттуда, можно сравнить с лавой, стекающей в пропасть.
Положение людей на обоих кораблях приобрело теперь обратную симметрию. Ибо, пока «Серапис» громил «Ричарда» ниже палубы так, что там не осталось почти никого живого, стрелки «Ричарда» господствовали над верхней палубой «Сераписа» — стоило человеку появиться на ней, как он уже мог считать себя мертвым. Хотя в начале боя на мачтах «Сераписа» также расположились солдаты, к этому времени меткие стрелки «Ричарда» давно уже посбивали их оттуда. И в смутном свете можно было видеть, как злополучный солдат, которому пуля перебила руку или ногу, падал вниз со своей неверной жердочки, словно голубь, подстреленный на лету.
Как ласточки, снующие между стрех и стропил сарая, стрелки «Ричарда» начали перебираться с салингов на реи, нависавшие над палубой «Сераписа». И теперь на нее посыпались ручные гранаты, точно яблоки, падающие через забор в чужой сад. Их товарищи принялись метать все те же кислые плоды в открытые порты «Сераписа». По палубам фрегата стучал взрывчатый град, в то время как горизонтально летящие перуны наискось пронизывали развороченные внутренности «Ричарда». Собственно говоря, противники уже перестали быть просто английским кораблем и американским кораблем. Они слились в единую акционерно-взрывную компанию по уничтожению двух кораблей, хотя и в общем своем занятии они были разделены. Эти два судна как бы превратились в два дома с пробитыми смежными стенами, где одно семейство (гвельфы) занимало оба первых этажа, а другое (гибеллины)[94] — оба вторых.
Тем временем упрямый Поль метался по всему кораблю, подобный огню святого Эльма,[95] пляшущему в бурю то там, то сям на кончиках реев и мачт. И где бы он ни появлялся, он, казалось, отбрасывал бледный свет на окружающие лица. Почерневший опаленный колпак на его голове съежился в пушечный пыж. Раззолоченный рукав его парижского кафтана повис лохмотьями, открыв всем взглядам синюю татуировку, и эта рука, подъятая в яростном жесте среди клубов порохового дыма, сеяла суеверный ужас, словно заколдованный штандарт сатаны. Однако он неистовствовал так не потому, что его снедал внутренний жар, а просто желая увлечь и вдохновить своих людей — и при виде него многие в ожесточении срывали с себя куртки и рубахи, подставляя обнаженные тела столь же обнаженному свинцу. То же происходило и на «Сераписе», и казалось, что возле его пушек суетятся не покрытые копотью канониры, а сатиры и фавны.
В начале боя, когда корабли еще не переплелись реями, в разрывах порохового дыма, который висел над ними, словно туман — над горными вершинами, и расходился лишь на краткие мгновения, на батарейной палубе «Сераписа» за этот миг можно было порой увидеть застывшую в различных воинственных позах целую галерею мраморных статуй — статуй сражающихся гладиаторов.
Напряженно наклонившись, отставив ногу и протянув изогнутую руку к дулу пушки, стоял заряжающий, готовый исполнить свою обязанность; по другую сторону лафета в той же позе, но сжимая в обеих руках, словно пику, длинный черный банник, ждал досылающий, у казенной части пригибался бдительный комендор, чьи зоркие глаза, горящие, как глаза леопарда, жадно впивались в цель, а позади них всех, высокий и прямой, как египетский символ смерти,[96] вытягивался запальщик, на миг застыв без движения и опустив вниз длинный фитиль. Так, подчиняясь волшебной магии воинской дисциплины, канониры «Сераписа» трудились на двух своих батареях. Они обслуживали эти ряды пушек, как работницы — ряды прялок на ткацкой фабрике. Методичнее, чем Парки,[97] смертоноснее, чем Атропос,[98] механичнее, чем шахматный автомат.[99]
— Вот что, мой милый: нужно бросить гранату в их грот-люк. Я видел там груду пороховых зарядов. Подносчики натаскали их больше, чем успевает пойти в дело. Сооруди-ка гранату из ведра и устрой побольше шуму, да поскорей.
Эти слова произнес Поль, обращаясь к Израилю. Израиль поспешил выполнить приказ. Через две-три минуты, держа ведро в перепачканной порохом руке, он уже висел, подобно Аполлиону,[100] на самом конце рея на высоте шестидесяти футов над провалом обреченного люка. Он вглядывался сквозь колышущийся дым в гибельную шахту, и казалось, будто с вершины бешеного водопада он вглядывается в пену, бурлящую у его подножья. Выждав момент, Израиль с такой безупречной точностью швырнул свою гранату, что «Серапис» через мгновенье содрогнулся, словно вулкан перед началом извержения. Воспламенился весь ряд приготовленных зарядов. Огонь пронесся по нему горизонтально, будто курьерский поезд по рельсам. Более двадцати человек было убито взрывом и почти сорок ранено. Эта граната вновь сравняла шансы, когда победа уже начинала клониться на сторону «Сераписа».
Но тут павшие духом англичане опять ободрились, и причиной тому был неожиданный оборот, который приняли события из-за действий одного из спутников «Ричарда» — действий настолько неслыханно гнусных, что все великодушные умы предпочитают объяснять их какой-нибудь непонятной ошибкой, а не злобным безумием того, кто их совершил.
Мы упоминали о том, как перед восходом луны спутник «Сераписа» «Скарборо» появился было на сцене и тут же, побуждаемый благоразумной осторожностью, удалился. Теперь нам предстоит рассказать, как в час, когда луна уже высоко поднялась на небе, к сражающимся приблизился корабль эскадры Поля «Альянс» и как удалился он. «Альянс», которым командовал француз, заслуживший глубокое презрение в собственном флоте и неприязнь тех, с кем он плавал на этот раз, «Альянс», который отказывал Полю в повиновении и до сих пор трусливо уклонялся от любого боя, этот «Альянс» оказался теперь совсем рядом. При виде него Поль решил, что битва выиграна. Но, к его ужасу, «Альянс» дал залп прямо по корме «Ричарда», даже не задев «Сераписа». Поль окликнул своего подчиненного, умоляя его во имя всего святого не стрелять по «Ричарду». В ответ раздались второй, третий и четвертый залпы, поразившие корму, нос и шкафут «Ричарда». Один из этих залпов убил нескольких матросов и офицера. И все это время пушки «Сераписа», как плотничьи буравы, как морской червь, называемый «прилипалой», беспощадно сверлили тот же обреченный корабль. Завершив свой маневр, для которого нет названия, «Альянс» удалился и больше никакого участия в битве не принимал. Этот маневр можно уподобить великому лондонскому пожару, вспыхнувшему вслед за опустошительной эпидемией чумы.[101] Теперь «Ричард» получил столько пробоин ниже ватерлинии, что начал погружаться в воду, как решето.
— Сдаетесь? — крикнул английский капитан.
— Я еще и не начал драться! — заревел Поль с тонущего корабля.
Этот вопрос и ответ пронеслись на крыльях огня и дыма. Горели уже оба корабля. Команды и на том и на другом не знали, что делать: то ли поражать врага, то ли спасаться. И в эту минуту к ним прибавилось еще сто человек, до сих пор остававшихся невидимыми и неслышимыми. Сто пленных англичан, запертых в трюме «Ричарда», были освобождены растерявшимся боцманом и ринулись по трапам на палубу. Один из них, капитан капера, захваченного Полем у шотландских берегов, пролез, словно грабитель в окно, из порта в порт и сообщил английскому капитану о положении дел на «Ричарде».
Пока Поль и его помощники разбирались с этими пленными, на палубу выбежал старший артиллерист и, нигде не увидев старших чином, решил, что они убиты и что на корабле, кроме него, офицеров не осталось. Тогда он бросился на Пизанскую башню, намереваясь спустить флаг, но оказалось, что фал давно перебит и флаг полощется в воде за кормой, словно рубаха, которую вздумал постирать матрос. Различив в дыму старшего артиллериста, Израиль спросил, что ему здесь нужно.
Но тот, бросившись к борту, принялся вопить:
— Пощады! Пощады!
— Вот я тебя сейчас пощажу! — рявкнул Израиль и ударил его плашмя абордажной саблей.
— Вы сдаетесь? — донеслось с «Сераписа».
— А как же, а как же! — не помня себя, кричал Израиль, осыпая старшего артиллериста градом ударов.
— Вы сдаетесь? — вновь послышалось с «Сераписа», капитан которого, наблюдая бестолковую суматоху на борту «Ричарда», вызванную появлением пленных, и полагаясь на сведения, полученные от любителя лазать через порты, нимало не сомневался, что враг помышляет только о сдаче. — Вы сдаетесь?
— Не сдаюсь, а даю сдачи! — заревел Поль, только теперь расслышавший этот оклик.
Однако английский капитан решил, что ему вновь отвечает какой-нибудь нижний чин, вызвал на палубу абордажную партию, и вскоре солдаты уже начали прыгать на «Ричарда»; но тут Поль поднял против них свою татуированную руку, еще удлиненную саблей, и показал им, что умеет не только захватывать корабли, но и оборонять их. Англичане отступили, но не прежде чем их ряды были прорежены, как редиска весной, — стрелкам на салингах «Ричарда» не изменила их меткость.
Один из офицеров «Ричарда», воспользовавшись тем, что пленные совсем ошалели от неожиданной свободы и страха, ударами шпаги погнал их к помпам, и, таким образом, корабль продолжал теперь держаться на воде только благодаря ошибке, которая грозила стать роковой. Пожар на обоих кораблях разгорался все сильнее, и на время противники оставили друг друга в покое, устремившись на борьбу с общим врагом.
На «Ричарде» восстановилось какое-то подобие порядка, и его шансы на победу сразу возросли, в то время как англичане, вынужденные искать укрытия, в той же пропорции их утратили. В начале боя Поль собственноручно навел одну из самых больших своих пушек на вражескую грот-мачту. Выстрел попал в цель, и мачта теперь еле держалась. Тем не менее начинало казаться, что в этом бою победителей не будет. Подобная схватка могла иметь только один естественный исход: противники взаимно сотрут друг друга с лица морей. И поэтому, когда капитан Пирсон, командир «Сераписа», собственными руками спустил флаг, чтобы избежать подобной гекатомбы,[102] он ничем не опорочил своего офицерского звания, а лишь заслужил похвалу как человек. Однако в ту самую минуту, когда офицер с «Ричарда» перепрыгнул на «Сераписа» и подошел к капитану Пирсону, старший помощник этого последнего поднялся на палубу, уверенный, будто пушки «Ричарда» смолкли потому, что он сдался.
Положение обоих кораблей было настолько сходным, что даже и после прекращения боя офицер, не видевший, как был спущен английский флаг, мог недоумевать (и недоумевал), «Серапис» ли сдался «Ричарду» или «Ричард» «Серапису». Более того: когда офицер «Ричарда» уже вел дружескую беседу с английским капитаном, мичман с «Ричарда», который последовал за своим начальником на палубу сдавшегося корабля, был ранен в бедро пикой — матрос из абордажной партии «Сераписа» даже не подозревал, что они сдались. А тем временем канониры на батарейной палубе, также ничего не знавшие, продолжали бить по номинальному победителю из пушек номинально побежденного.
Однако, хотя «Серапис» и сдался, на борту «Ричарда» по-прежнему находились два беспощадных врага, которые и не думали уступать, — огонь и вода. Всю ночь победители пытались погасить пожар, и только на рассвете это им наконец удалось, но, хотя все помпы работали непрерывно, вода в трюме продолжала прибывать. Вскоре после восхода солнца команда «Ричарда» перебралась на «Серапис» и приблизившиеся корабли эскадры Поля. Часов в десять утра пресыщенный бойней «Ричард» несколько раз качнулся, тяжело накренился и, окутанный облаками серного дыма, подобно Гоморре, навеки исчез с глаз людских.
Потери на обоих кораблях оказались примерно равными — убито и ранено было около половины всех участников боя.
Размышляя об этой битве, невольно спрашиваешь себя: что отличает просвещенного человека от дикаря? Существует ли цивилизация сама по себе или это лишь более высокая ступень варварства?
Глава XX
СНУЮЩИЙ ЧЕЛНОК
Вот так в синей холстине жизни Израиля Поттера вновь и вновь, как алая нить, мелькал Поль Джонс. Еще один такой алый стежок — и мы вновь возвращаемся к прежней грубой и простой домотканой материи.
После победы эскадра отправилась к острову Тессел, куда и прибыла вполне благополучно. Не перечисляя последующих досадных затруднений, достаточно будет сказать, что спустя несколько месяцев бездействия (в смысле каких-либо военных предприятий) Поль и Израиль, которые оба, хотя и по разным причинам, горячо желали вернуться в Америку, отплыли туда на корабле «Ариэль» — Поль в качестве капитана, а Израиль в качестве квартирмейстера.
Через две недели они повстречали ночью похожее на фрегат судно и сочли его вражеским. Суда сблизились: оба несли английский флаг, так как каждый стремился обмануть другого, внушив ему, будто он встретился с кораблем английского военного флота. В течение часа капитаны обменивались через рупор уклончивыми фразами. Это был весьма сдержанный, расчетливый, полный ловушек разговор, не посрамивший бы и двух государственных мужей. В конце концов, позволив себе выразить некоторое сомнение в правдивости незнакомца, Поль вежливо пригласил его спустить шлюпку и явиться на «Ариэль», чтобы показать свой патент, но тот с величайшей учтивостью ответил, что, к несчастью, его шлюпка течет, как решето. Не менее учтивый Поль почтительно попросил его вспомнить об опасности, которой чреват подобный отказ, на что незнакомец, вдруг вспылив, обещал ответить устами двадцати пушек: недаром и он, и его команда — настоящие англичане. После чего Поль сказал, что дает ему ровно пять минут на трезвое размышление. Едва этот краткий срок миновал, как Поль поднял американский флаг, подошел к неизвестному кораблю с кормы и открыл огонь. Эта нелепая ссора посреди океана завязалась в восемь часов вечера. Почему люди утрачивают миролюбие на этой великой всеобщей равнине? Или природа, матерь волн, этих свирепых ночных буянов, подает человечеству дурной пример?
Канонада продолжалась десять минут, а затем незнакомец сдался, крикнув, что половина его команды убита. На палубе «Ариэля» раздалось громовое «ура!». Призовой партии было приказано приготовиться. В эту минуту сдавшийся корабль переменил позицию, начал отходить от «Ариэля» на ветер, и на мгновение его длинный бизань-гик навис по диагонали над полуютом «Ариэля». Стоявший поблизости Израиль инстинктивно ухватился за него — так же, как прежде за утлегарь «Сераписа», — и когда почти в тот же момент раздалась команда перейти на сдавшееся судно, он вспрыгнул на гик и побежал по нему к палубе приза, полагая, разумеется, что за ним тут же последует вся призовая команда. Однако паруса неизвестного корабля вдруг надулись, и он стал удаляться от «Ариэля», чему немало способствовало то обстоятельство, что его бизань-гик не был ни к чему привязан. Израиль, остановившийся на середине гика, увидел, что до «Ариэля» ему уже не допрыгнуть. Тем временем Поль, заподозрив подвох, приказал поставить все паруса, однако незнакомец, используя полученное преимущество, сумел ускользнуть, несмотря на то что обманутый победитель гнался за ним долго и упорно.
В суматохе никто не заметил отчаянного прыжка нашего героя. Однако, когда корабли разошлись, кто-то из офицеров неизвестного судна заметил на гике человека и, приняв его за своего матроса, сурово спросил, что он там делает.
— Распутываю сигнальные фалы, сэр, — ответил Израиль, дергая какую-то болтавшуюся рядом снасть.
— Ну, кончай и слезай оттуда, а не то послужишь мишенью для погонного орудия, — сказал офицер, подразумевая носовую пушку «Ариэля».
— Есть, сэр! — отчеканил Израиль, спрыгнул на палубу и очутился среди двухсот матросов большого английского капера. Он тут же сообразил, что ссылка на гибель половины экипажа была чистейшим обманом, пущенным в ход, чтобы облегчить бегство. Одна за другой раздавались команды выбрать ту или иную снасть — корабль торопливо поднимал все свои паруса. Израиль, как и остальные матросы, мгновенно кидался выполнять эти приказы и тянул канат со всем усердием, но только богу известно, какая тяжесть ложилась на его сердце с каждым рывком, который помогал вновь расширить пропасть, отделявшую его от родины.
Во время передышек он размышлял, что ему делать дальше. Под покровом ночной темноты среди множества матросов, одетых так же, как и он, ему нетрудно было выдавать себя за их товарища. Но утренняя заря, несомненно, изобличит его, если он не успеет придумать какой-нибудь хитроумный план. Если обнаружится, кто он такой, то по прибытии в первый же английский порт его, несомненно, ждет тюрьма.
Положение было отчаянным, и спасения приходилось искать в столь же отчаянном средстве. Одно представлялось ему несомненным: укрыться тут он не сумеет. Нет, только смело оставаясь на виду, можно было еще на что-то надеяться. Заметив, что матросы капера, в отличие от настоящих военных моряков, не носят формы, наш искатель приключений снял и незаметно выбросил за борт свою куртку, по которой только его и можно было опознать, и остался в синей шерстяной рубахе и синем полотняном жилете.
Надежду на успех его замысла внушало Израилю то обстоятельство, что он попал не на французский или иной иностранный корабль, а на английский, где враги говорили на одном с ним языке.
И вот, собравшись наконец с духом, он тихонько взбирается на грот-марс, усаживается там на старый парус рядом с десятком гротмарсовых и спокойно просит у одного из них табачку.
— Дай-ка пожевать, приятель, — сказал он, устраиваясь поудобнее.
— Эгей! — ответил матрос. — А ты кто такой? Пошел отсюда! Формарсовые и крюйсмарсовые не пускают нас на свои мачты, так разрази меня на этом месте, если мы пустим к себе кого ни есть из их шайки. Ну-ка, проваливай!
— Ты что, ослеп или белены объелся, парень? — возмутился Израиль. — Я же гротмарсовый, как и ты. Правильно, ребята? — воззвал он к остальной компании.
— В нашей вахте числится десять гротмарсовых, — ответил другой матрос. — А с тобой это выходит одиннадцать, так что слазь!
— Хватит, ребята, измываться над старым товарищем! — уговаривал Израиль. — Будет вам валять дурака. Дай-ка табачку-то, — снова обратился он к соседу самым дружеским тоном.
— Вот что, — заявил тот. — Если ты сам не уберешься подобру-поздорову, подлая крюйсовая крыса, мы тебя сбросим на палубу, как топенант-блок.
Убедившись, что они, того гляди, приведут свою угрозу в исполнение, Израиль отпустил несколько притворно веселых шуточек и поспешил вниз.
Причина, почему он решил прибегнуть к этой уловке — и собирался повторить ее, несмотря на вышеописанную неудачу, — заключалась в следующем: как принято на военных кораблях, матросы здесь тоже были разбиты по командам, которые несли определенные обязанности в раз навсегда определенных местах. Поэтому Израиль мог избежать разоблачения, только если бы ему удалось каким-то образом пристроиться к такой команде, в противном случае одинокий неприкаянный незнакомец был бы слишком заметен, и первая же общая поверка оказалась бы для него роковой, даже если бы он не был схвачен еще раньше. Разумеется, надежда на успех в любом случае была весьма слабой, но ничего другого Израиль придумать не мог, и ему оставалось только испробовать этот способ.
Опять, некоторое время потолкавшись среди дежурной вахты, он отправился на бак, где якорная команда как раз критически обсуждала подробности недавнего славного боя и высказывала мнение, что к рассвету даже парусов преследователя уже не будет видно.
— Ну, еще бы! — воскликнул Израиль, подходя к ним. — Где уж этой старой лохани угнаться за нами. Ну и задали же мы ей перцу, ребята! Дайте-ка кто-нибудь табачку пожевать. Сколько у нас раненых, не слыхали? Убитых вроде бы нету. Ловко мы их провели, а? Ха-ха! Ну, дайте табачку-то!
Под влиянием умягчающего жара патриотизма кто-то из старых матросов по-братски протянул пачку табака нашему скитальцу, а тот, отрезав себе кусок, вернул ее и повторил свой вопрос об убитых и раненых.
— Да вот, — ответил матрос, угостивший его табаком, — Джек Джубой говорил мне, что к врачу отнесли всего семерых, а убитых нет ни одного.
— Дело, братцы, дело, — отозвался Израиль, подходя к лафету, на котором расположились человека три. — Ну-ка, подвиньтесь, ребята, неужто у вас не найдется местечка для своего?
— Тут полно, приятель. Попробуй у соседней пушки.
— Эй, ребята, дайте места, — потребовал Израиль у второй пушки, словно обращаясь к старым знакомым.
— А кто ты такой и чего ты тут разорался? — сурово спросил его седой баковый старшина. — Нечего зря шуметь. Ты из баковых?
— Как бушприт, — невозмутимо ответил Израиль.
— Ну-ка, поглядим! — С этими словами ветеран вытащил из-под пушки боевой фонарь и подступил к Израилю прежде, чем тот успел увернуться.
— Получай! — заявил старшина, окончив осмотр, и сокрушительным пинком позорно согнал его с бака, как развязного самозванца из отдаленных частей корабля.
Все с тем же хладнокровным нахальством Израиль повторил свою попытку еще в нескольких местах. И всюду встречал тот же прием. Ревниво оберегая свое кастовое достоинство, ни одно сословие не пожелало его принять. Оставалась последняя надежда, и он спустился к трюмным.
В темных недрах корабля они сидели, сбившись вокруг фонаря, словно угольщики, собравшиеся в полночь у костра в сосновом бору.
— Ну, ребята, что скажете хорошенького? — спросил Израиль самым сердечным тоном, но старательно оставаясь в тени.
— А вот что, — ответил какой-то старый ворчун. — Убирайся туда, где твое место, — на палубу. Внизу тебе делать нечего. Отсиживался, значит, тут во время боя!
— Что-то ты сегодня не в духе, приятель! — весело отозвался Израиль. — Небось переел за ужином.
— Убирайся из трюма! — взревел его собеседник. — Лезь на палубу, а не то я боцмана кликну!
И вновь Израилю пришлось уйти.
Скрепя сердце он предпринял еще одну попытку узаконить себя как члена команды и отправился к шкафутным: к самой низшей касте военного корабля, к жалким подонкам и осадкам человечества — к морским париям, которыми становятся все лентяи, все растяпы, все несчастные и обреченные, все меланхолики, все калеки, все скрюченные ревматизмом бедняки, отпетые буяны, нераскаянные блудные сыновья и свинопасы, какие только есть в команде корабля, а также обладатели наиболее жалкого гардероба.
Они безрадостно притулились на батарейной палубе — кучка жалких, унылых оборванцев, изгоев цивилизованного общества, похожая на стаю отчаявшихся стервятников.
— Веселей смотрите, ребята! — добродушно воскликнул Израиль. — Домой ведь плывем! Дайте-ка присесть с вами, приятели.
— Сидеть иди в гальюн, — буркнул угрюмый матрос в углу.
— Брось ворчать, ведь домой плывем! Ура, братцы!
— В работный дом, так оно вернее будет, — злобно отозвался старик в заплатанной рубахе.
— Ну, чего вы приуныли, ребята? Давайте разгоним тоску. Эй, кто-нибудь, запевай, а я поддержу.
— Пой, коли тебе приспичило, только дай я уши заткну, — проворчал мрачный владелец сапог, из которых торчали грязные пальцы, и все остальные хором поддержали его, меланхолически выругавшись.
Однако Израиль все-таки затянул:
— «Борей суровый, оборви свой рев…»
— А ты оборви свой визг, слышишь? — огрызнулся парень в куртке из просмоленной парусины. — У тебя что, кость в горле застряла, что ты скрипишь хуже драной волынки? Брось завывать — когда человек богу душу отдает, он и то меньше хрипит.
— Ребята, так-то вы обходитесь со своим товарищем, — огорченно сказал Израиль, — и только потому, что ему захотелось вас повеселить? Эх вы! Ну, чего загрустили? Вот сейчас кто-нибудь историю нам расскажет, а ты, друг, почеши-ка мне между лопаток, — докончил он, по-приятельски приваливаясь спиной к соседу.
— А ну, не пихайся! — окрысился его друг, сопровождая эти слова сильным толчком.
— Да что это тут за певец и рассказчик отыскался? И еще пихается! Кто ты такой? Ты шкафутный или нет?
И к Израилю вразвалку подошел один из этих озлобленных неудачников. Но сверху была палуба, снизу была палуба, а фонарь покачивался в отдалении, и разглядеть что-либо с достаточной достоверностью в такой темноте оказалось невозможно.
— Только все равно у нас певцов не водится, это уж точно! — назидательно воскликнул он наконец, после того как долго и безуспешно пытался всмотреться в лицо Израиля. — Отчаливай!
И новый толчок изгнал беднягу Израиля и отсюда.
Получив во всех этих клубах только черные шары, он уныло вернулся на палубу. До тех пор пока его укрывал ночной мрак, он мог спокойно расхаживать где угодно, однако любая попытка проникнуть в какой-нибудь тесный круг грозила ему неминуемой бедой. В конце концов, изнемогая от усталости, он забрел на жилую палубу, где отсыпалась свободная вахта. Там было около ста пятидесяти коек. Израиль заметил неподалеку свободную койку и тотчас забрался на нее, тешась надеждой, что удача все-таки еще может ему улыбнуться. Здесь, в жаркой духоте, он скоро уснул мертвым сном. Пробудился он оттого, что разъяренный бородач из второй вахты схватил его за жилет и самым бесцеремонным образом стащил с койки, называя подлым бездельником.
Вскочив на ноги, Израиль увидел, что вокруг царит страшная суматоха и десятки людей поспешно забираются на койки, в которых перед тем мирно спали их товарищи, и сообразил, что происходит смена вахт. Поднявшись на верхнюю палубу, он опять попробовал пристроиться к какой-нибудь из новых команд, но с тем же печальным результатом, что и прежде. А когда рассвело, какой-то раздражительный матрос, которого наш искатель приключений долго и тщетно старался умиротворить, вдруг заметил в сером утреннем свете, что Израиль чем-то отличается от всех остальных, и начал свирепо требовать, чтобы он прямо сказал, кто он такой. Ответы Израиля только укрепили его подозрения. Тем временем их начали окружать другие матросы, и вскоре собралась уже целая толпа. К ней присоединялись матросы с самых отдаленных частей корабля. И вот один, а потом и другой и третий вспомнили, что и к ним приставал какой-то бродяга, утверждал, что он из их команды, и всячески старался втереться в приличное общество. Тщетно пробовал Израиль возражать. Правда становилась ясной, как божий день, разгоравшийся над их головами. Все пристально разглядывали Израиля. Наконец настал час общей поверки. Когда на палубу вышли матросы той вахты, с которой Израиль начал свои попытки, и увидели происходящее, они сообщили, что в течение ночи их тоже допекал и старался им навязаться какой-то неизвестный, и вполне возможно, что этот человек он самый и есть. В конце концов явился боцман с бамбуковой дубинкой и без долгих разговоров схватил беднягу Израиля за шиворот и доставил таинственного нарушителя спокойствия пред очи вахтенного офицера, который, выслушав обвинение, удивленно уставился на Израиля, объявил, что никогда прежде не видел этой физиономии, и попросил младших офицеров взглянуть на него. Но и они встали в тупик.
— Кто ты такой, черт бы тебя побрал? — спросил наконец вахтенный офицер в полнейшем недоумении. — Откуда ты взялся? Зачем ты сюда явился? Из какой ты команды? Как тебя зовут? Да и кто ты все-таки такой? Как ты сюда попал? И куда ты направляешься?
— Сэр, — с величайшей почтительностью ответил Израиль. — Я бы, с вашего разрешения, направился на свое место. Я гротмарсовый, и сейчас мне бы следовало готовить к постановке грот-бом-брамсель.
— Ты гротмарсовый? А как же они тут говорят, что ты назывался своим и на фоке, и на бизани, и на баке, и в трюме, и на шкафуте, и вообще повсюду на корабле? Это что-то невероятное, — добавил он, обращаясь к младшим офицерам.
— Наверное, он не в своем уме, — ответил штурман.
— Не в своем? — повторил вахтенный. — Этого мало: он также и не в чужом уме, и не в чужой памяти. Ведь никто на корабле его не знает, никто его прежде не видел, никому он даже в самых диких и нелепых кошмарах не являлся. Да кто же ты такой? — вновь спросил он, свирепея от растерянности. — Как тебя зовут? Значишься ли ты в корабельных книгах или хотя бы в анналах природы?
— Меня, сэр, зовут Питер Перкинс, — ответил Израиль, решив, что будет благоразумнее скрыть свое настоящее имя.
— Нет, этой фамилии я никогда прежде не слышал. Будьте добры, взгляните, значится ли Питер Перкинс в судовой роли, — сказал он одному из мичманов. — Быстрее принесите сюда книгу.
Когда ее принесли, он провел пальцем по столбцам и, швырнув книгу на палубу, объявил, что такое имя в ней не значится.
— Вас тут нет, сэр. Нет тут никакого Питера Перкинса. Отвечай немедленно, кто ты такой.
— Дело в том, сэр, — невозмутимо объяснил Израиль, — что как я был выпимши, когда меня завербовали, я, может, по растерянности назвался не своим именем, а как-нибудь иначе.
— Ну, хорошо, а как тебя потом называли другие матросы?
— Питером Перкинсом, сэр.
Услышав это, офицер повернулся к толпившимся вокруг матросам и спросил, знает ли кто-нибудь из них Питера Перкинса. Все, как один, ответили отрицательно.
— Ничего не вышло, — сказал офицер. — Ты сам видишь, что ничего не вышло. Кто ты такой?
— Несчастная жертва, которую все преследуют, сэр, к вашим услугам.
— Да кто же тебя преследует?
— Все до единого, сэр. Вон никто из матросов не желает меня припомнить. Уж не знаю, чем я им досадил.
— Скажи-ка мне, — начал офицер проникновенно, — а с какой поры ты сам себя помнишь? Вчерашнее утро ты помнишь? Ты, наверное, возник в результате какого-то мгновенного самовозгорания в трюме. Или тебя отправила к нам в ядре вражеская пушка вчера вечером? Ты помнишь, что было вчера?
— Конечно, сэр.
— Так что же ты вчера делал?
— Ну, сэр, я, скажем, имел честь беседовать с вами, сэр.
— Со мной?!
— Да, сэр. Часов эдак в девять утра — волнения не было вовсе и корабль шел, чтобы не соврать, узлов семь, — вы поднялись на грот-марс, где мне положено быть, и соизволили спросить моего мнения, как лучше всего поставить грот-бом-брамсель.
— Нет, он сумасшедший! Сумасшедший! — лихорадочно объявил офицер. — Уберите его отсюда, уберите его, уберите, боцман! Куда хотите. Нет, постойте, еще одна проверка. С какой артелью ты столуешься?
— С двенадцатой, сэр.
— Мистер Тиддс, — сказал вахтенный офицер, обращаясь к мичману, — вызовите сюда артель номер двенадцать.
Вскоре перед Израилем выстроилось десять матросов.
— Ребята, этот человек из вашей артели?
— Нет, сэр. До этого утра мы его ни разу не видели.
— Как их зовут? — спросил офицер у Израиля.
— Дело-то вот какое, сэр: они мне все наипервейшие друзья, — тут Израиль обвел их нежным взглядом, — и я их по именам никогда не называю, а все только ласкательными прозвищами. Ну, и значит, забыл настоящие-то имена. А зову я их вот как: Таузер, Баузер, Раузер, Снаузер.
— Достаточно. Он помешан, как мартовский заяц.[103] Уберите его отсюда. Нет, постойте, — вновь перебил себя офицер, над которым это бессмысленное расследование приобрело какую-то странную власть. — А как зовут меня, сэр?
— Да что же, сэр, один из моих артельных назвал вас лейтенантом Уильямсоном, и я ни разу не слышал, чтобы вас называли как-нибудь по-другому.
— В его безумии есть система,[104] — пробормотал офицер и добавил вслух: — А как зовут капитана?
— Ну, сэр, когда мы вчера вели переговоры с врагом, так я слышал, как он сказал в рупор, что он — капитан Паркер; а уж он наверное знает, как его зовут.
— Вот ты и попался. Настоящее имя капитана совсем другое.
— По-моему, сэр, ему самому все-таки виднее, как его зовут.
— Вы знаете, — сказал вахтенный, поворачиваясь к младшим офицерам, — если бы другие обстоятельства не делали такое предположение абсурдным, я бы непременно решил, что он неизвестно как перебрался к нам на борт вчера вечером с вражеского корабля.
— Но каким же образом, сэр? — спросил штурман.
— Бог знает. Однако, если помните, наш бизань-гик прошел над их палубой, когда мы маневрировали, чтобы набрать ход.
— Но даже если предположить, что он сумел бы перебраться к нам по гику — вещь при данных обстоятельствах абсолютно невозможная, — то с какой стати ему вдруг вздумалось бы добровольно отправиться к врагам?
— Пусть он сам ответит на это. — И офицер, неожиданно повернувшись к Израилю, попробовал сбить его с толку, задав вопрос так, будто он не сомневался, что уже открыл истину: — Отвечай — почему ты вчера прыгнул к нам на борт с вражеского корабля?
— Прыгнул на борт, сэр, с вражеского корабля? Да что вы, сэр! Я стоял, как мне положено в случае боевой тревоги, у третьего орудия на нашей нижней палубе.
— Он свихнулся… или я помешан… или весь свет перевернулся… Уберите его отсюда!
— Да куда же, сэр? — спросил боцман. — Места ведь у него нет? Куда же мне его убрать?
— С глаз моих долой! — отрезал вахтенный офицер, вспылив из-за собственной беспомощности. — Убрать его с моих глаз, слышишь?
— Ну, пошли, что ли, привидение! — буркнул боцман, схватил призрак за шиворот и начал водить его по всему кораблю, не зная, что с ним делать дальше.
Минут через пятнадцать капитан, выходя из своей каюты, заметив, как боцман бесцельно расхаживает с Израилем, подозвал его к себе, спросил, что все это означает, и напомнил о своем приказе, строжайше запрещавшем придумывать новые унизительные наказания для матросов его корабля.
— Подойдите-ка сюда, боцман. С какой целью вы водите этого человека по палубе?
— Да без всякой цели, сэр. Я его вожу, потому что у него нет конечного назначения.
— Господин вахтенный офицер, что все это означает? Кто этот человек? Я как будто его не знаю. Кто он? И зачем его водят по палубе?
После этого вахтенный офицер, приняв трагическую позу, подробно рассказал о таинственном происшествии, к большому удивлению капитана, который немедленно принялся с негодованием допрашивать призрака:
— Негодяй! Не вздумай меня обманывать! Кто ты такой? И откуда ты явился сюда?
— Сэр, меня зовут Питер Перкинс, и сюда я явился с бака, куда боцман сводил меня перед тем, как привести сюда.
— Не смей шутить!
— Да уж какие тут шутки, сэр, дело-то серьезное!
— Ты имеешь наглость утверждать, будто ты был завербован положенным порядком и находился на борту этого корабля с тех самых пор, как он десять месяцев назад вышел из Фалмута?
— Сэр, да я завербовался на него одним из первых, чтобы не упустить случая пойти в плаванье под командой такого хорошего капитана!
— В какие порты мы заходили? — спросил капитан уже мягче.
— В порты, сэр, в какие порты?
— Да, сэр, в какие порты!
Израиль поскреб свой русый затылок.
— Так в какие же порты мы заходили?
— Ну, сэр… в Бостон, например.
— А ведь на этот раз верно, — шепнул кто-то из мичманов.
— А потом в какой?
— Так вот, сэр, я и говорил, что Бостон был первым, верно? Ну, и… и…
— Назови второй порт, вот о чем я тебя спрашиваю.
— Ну… Нью-Йорк.
— Опять верно, — шепнул тот же мичман.
— А сейчас мы в какой порт плывем?
— Дайте-ка подумать… домой плывем… в Фалмут, сэр.
— А что за город Бостон?
— Большой такой город, сэр.
— Улицы прямые, а?
— Да, сэр. Коровьи тропы, поперек овечьи тропки, а наискось куриные следочки.
— Когда мы дали первый выстрел?
— Ну, сэр, на фалмутском рейде, десять месяцев назад — сигнальный выстрел, сэр.
— Где мы дали первый боевой залп, а? И как звался капер, который мы тогда взяли?
— Сдается мне, сэр, что я тогда лежал в лазарете. Да, сэр, так оно и было. У меня началась мозговая горячка, и я на время обеспамятел.
— Боцман, уберите его отсюда!
— Куда прикажете, сэр? — почтительно поднеся руку к шапке, спросил боцман.
— Пойдите проветрите его на баке.
И вот они снова принялись кружить по кораблю. В конце концов они оказались на жилой палубе. Было время завтрака, и боцман, человек незлой, очень ласково представил нашего героя своей артели и угостил завтраком, во время которого пускал в ход всяческие хитрые уловки, чтобы выведать его секрет.
Кончилось тем, что Израилю была предоставлена свобода; с тех пор он так охотно и поспешно бросался выполнять самые трудные распоряжения и показал себя таким дисциплинированным и опытным моряком, что заслужил доброе мнение как всех офицеров, так и капитана, а его веселый и покладистый характер постепенно завоевал ему симпатии даже самых подозрительных матросов. Старшина гротмарсовых, убедившись, что он хороший моряк и хороший товарищ, попросил его к себе в команду, и остальную часть плаванья наш герой прослужил гротмарсовым, вполне оправдав оказанное ему доверие.
Как-то в тихий погожий день — последний день плаванья, — когда корабль уже огибал мыс Лизард, откуда до Фалмута всего несколько часов пути, вахтенный офицер, случайно взглянув на грот-марс, заметил Израиля, который, облокотившись о поручень, безмятежно глядел на него сверху.
— Ну что же, Питер Перкинс, ты и впрямь оказался гротмарсовым.
— Я ведь вам всегда это говорил, сэр, — благодушно улыбнулся ему Израиль, — хоть вы, сэр, если помните, сначала никак не хотели мне верить.
Глава XXI
САМСОН СРЕДИ ФИЛИСТИМЛЯН[105]
Наконец капер, скользнув между кораблями, стоявшими на рейде — один из них, фрегат, только еще убирал паруса, — приблизился к городу Фалмуту, и Израиль со своей вышки увидел, что на берегу бушует огромная толпа, а все ближние крыши усеяны зеваками. Катер с фрегата как раз подошел к пристани, и на берег, кроме командира катера и команды, сошли еще несколько солдат и три офицера. Матросы построились в две шеренги, образовав в толпе нечто вроде коридора, и затем на корме катера появились два подтянутых и вооруженных до зубов солдата, а между ними — человек патагонского роста, с военной выправкой, их оборванный, закованный в цепи пленник, чья гордая голова возвышалась над их головами, словно главный купол собора Святого Павла[106] над его малыми куполами. При виде него толпа подняла оглушительный крик и рванулась вперед, желая поближе рассмотреть неизвестного великана, так что четырем солдатам пришлось обнажить сабли, чтобы расчистить путь своим товарищам, которые вели пленного колосса.
Когда капер подошел к берегу еще ближе, Израиль расслышал, как офицер, командовавший солдатами, закричал: «В замок! В замок!» — после чего конвой, окруженный вопящей толпой, последовал за тремя своими товарищами, продолжавшими грозить обнаженными саблями наиболее яростным буянам, к угрюмой крепости на утесе примерно в миле от пристани. И все время, пока они не исчезли из вида, гигантская фигура их пленника покачивалась среди сверкающих штыков и сабель, господствуя над ними, словно огромный кит, которого со всех сторон окружили злобные меч-рыбы. И порой его скованные руки поднимались над их головами в жесте, исполненном, несмотря на цепи, гордой дикарской насмешки.
Когда корабль Израиля стал на якорь напротив большого склада, расположенного в стороне от остальных, на берегу все уже было спокойно; к тому же началась разгрузка, продолжавшаяся до полуночи, так что у нашего искателя приключений не было досуга размышлять об увиденном.
На следующий день было воскресенье, и после полудня Израиля вместе с другими отпустили на берег. Город окутывала тишина. Не найдя там ничего интересного, он в одиночестве отправился вдоль моря через поля и вскоре очутился у подножья утеса, на котором стояла упомянутая выше угрюмая крепость.
— Что это за место? — спросил он у проходившего мимо крестьянина.
— Замок Пенденнис.
Когда Израиль ступил на низкую жесткую траву под стенами замка, его поразили доносившиеся оттуда громовые звуки, напоминавшие рык раненого льва. Вскоре ему удалось различить следующие слова, выкрикнутые с необыкновенной силой:
— Не хвались более, Старая Англия! Смирись с тем, что ты всего лишь остров! Отзови свои разбитые полки домой и посыпь главу пеплом! Слишком долго твои подкупленные сторонники за океаном, забыв господа своего, поклоняются Хау[107] и Книпхаузену-гессенцу![108].. Прочь руки, краснобрюхие шакалы! Облаченный в королевскую кольчугу,[109] я затаил в груди сокровища гнева против вас, англичан!
Тут раздался лязг, словно гремели цепи, затем звуки яростной борьбы и невообразимый шум. А потом вновь зазвучал тот же голос:
— Вы вывели меня сюда из темницы на траву, оскорбив солнце господне, чтобы поглазеть на мятежника. Но я покажу вам, как ведет себя в несчастье истинный джентльмен и христианин. Назад, псы! Уважайте джентльмена и христианина, даже если он в оковах и пропах трюмной водой!
Израиль, несказанно удивленный этими словами, которые доносились из-за мощной стены, по-видимому, с плац-парада, прибавил шагу и вскоре поравнялся с темной аркой, за которой в конце прохода, пронизывавшего башню, виднелась зеленая трава. По обеим сторонам арки, словно два клыка в кабаньей пасти, торчали двое часовых. Внимательно осмотрев нашего героя, они позволили ему войти. Достигнув конца прохода, где сияло солнце, Израиль окаменел, пораженный открывшейся перед ним сценой.
На лужайке, словно затравленный бык на арене, скорчился великан пленник, по-прежнему в оковах. Дерн вокруг него был истоптан и взрыт — и им самим, и толпившимися рядом людьми. Если не считать нескольких солдат и матросов, это все были горожане, привлеченные сюда любопытством. Неизвестный человек был облачен в весьма необычную одежду — жалкие остатки полуиндейского, полуканадского наряда: оленья куртка мехом наружу (мех этот висел клочьями), полуистлевший, напоминавший кору пояс-вампум,[110] ветхие саржевые[111] штаны, штопаные шерстяные чулки до колен, старые дырявые мокасины с металлическими бусами, заржавевшими от морской воды, линялый красный шерстяной колпак, напоминавший русский ночной колпак или зловещую кроваво-красную луну в полнолуние, — грязный, весь в приставших к нему гнилых соломинках. Казалось, этот человек только что вырвался из глухих недр пещеры Адоламской, где укрывался Давид[112] и его сторонники. Густые волосы и борода, спутанные, словно побитая градом рожь, придавали ему сходство с диким зверем, но зверем благородным, не смирившимся и в клетке.
— Что же, глазейте! Пусть вы лишь вчера вечером вытащили меня из корабельного трюма, будто грязный бочонок, а нынче утром — из гнусных здешних казематов, будто убийцу, но все равно — смотрите на Итена Аллена Тикондерогского,[113] непобедимого солдата, будь я трижды…! [так] Вы, нечестивые турки, никогда еще не видели настоящего христианина. Ну, так смотрите! Я тот, кто ответил вашему лорду Хау, который попробовал соблазнить патриота, чтобы тот пал ниц и поклонился ему, — соблазнить чином генерал-майора и пятью тысячами акров лучшей земли в славном Вермонте (Ха! Трижды ура в честь славного Вермонта и моих молодцов с Зеленых гор! Ура! Ура! Ура!), я тот, повторяю, кто ответил вашему лорду Хау: «Ты… ты предлагаешь нам нашу же землю? Ты, подобно дьяволу в Писании, предлагаешь все царства земные, когда проклятым душам вроде тебя нет места под небом!» Ну, глазейте!
— Эй, ты, мятежник, выражайся почтительнее, когда говоришь о генерале лорде Хау! — перебил его худой караульный офицер в эполетах и с осиной талией, взмахнув шпагой, словно учитель — линейкой.
— Генерал лорд Хау? Чтобы я выражался почтительнее, говоря об этом злобном трусе, о королевском плевке в алом мундире, о гнуснейшем черве в господней яме для червей? Говорю тебе, толпы рыжих чертей сопят от нетерпения поскорее сварить лорда Хау со всей его шайкой (и тебя в том числе) в самом большом котле, кипящем на огне преисподней!
Эта тирада отбросила обладателя осиной талии далеко в сторону, словно взрыв парового котла.
Совершенно уничтоженный, он удалился, бормоча себе под нос, что вступать в перебранку с мужланом мятежником — ниже его достоинства.
— Ну-ну, полковник Аллен, — вмешался кроткого вида человек в платье духовного покроя, — почтите день сей и не упоминайте про темные силы. Если вы умрете сейчас или — что более вероятно — если вас через неделю повесят на Тауэр-уорф,[114] как знать, какая участь назначена в вечности вам самому?
— Ваше преподобие, — ответил пленник с насмешливым поклоном, — в часы, когда я отвлекался от расчесывания бороды, я немного занимался этим вашим богословием. И позвольте мне сказать вам, ваше преподобие, — тут его голос стал глухим и страстным, — что хотя об обычаях и нравах мира духов, на который вы соизволили намекнуть, мне известно не больше, чем вам, я тем не менее полагаю, что со мной там обойдутся так, как подобает обходиться с благородными людьми вроде меня. Другими словами, гораздо лучше, чем вы, англичане, обходитесь с американским офицером и смиренным христианином, взятым в плен в честном бою, будь я трижды…! Все мне твердят, вот как вы сейчас, — как все морские волны, пока меня везли сюда! — что я, Итен Аллен, буду повешен, словно подлый вор. Но если так, великий Иегова и Континентальный конгресс[115] отомстят за меня; я же сумею показать вам даже на виселице, как может умереть джентльмен и истинный христианин. Пока же, сэр, если вы и в самом деле священнослужитель, то исполните свой долг милосердия, угостив несчастного джентльмена и христианина, обреченного на смерть, кружкой доброго пунша.
Добросердечный священник не оставил втуне призыв к его религиозному великодушию и тотчас отправил стоявшего рядом слугу за указанным напитком.
В эту минуту послышался легкий шелест, словно приближалась армия с развернутыми знаменами. В темном проходе затрепетали шелковые шали, шарфы и ленты. Через мгновение на плацу появилась блистательная кавалькада прекрасных дам в сопровождении нескольких фалмутских франтов.
— О! — произнес нежный голос. — Какой странный пояс… И меховой жилет! А зубы как у леопарда, и волосы совсем льняные… Но все такое грязное! Это он?
— Да, прелестная чаровница, — ответил Аллен, точно турок склоняя свой широкий бычий лоб, и голос его стал слаще лютни. — Да, это он, Итен Аллен, солдат и втройне пленник теперь, когда на него упали взоры прекрасных глаз.
— Но этот дикий замшелый американец из дремучих лесов говорит, как самый учтивый кавалер, — заметила другая дама своему спутнику. — Да тот ли он, кого мы приехали посмотреть? Я хотела бы получить прядь его волос.
— Да, это он, восхитительная Далила, и не бойся, что, отрезав мои волосы, ты лишишь меня силы, хоть ты и принадлежишь к стану моих врагов. Дай мне шпагу, — продолжал он, обращаясь к офицеру. — Но нет, я же скован. Отрежьте сами, сударыня.
— Нет-нет… я…
— Боитесь, хотели вы сказать? Боитесь преданного друга и защитника всех прелестных дам мира? Идите сюда без страха.
Дама приблизилась и вскоре преодолела робость — ее белая ручка засияла, как легкая пена, в косматых волнах льняных волос.
— Ах, право же, легче резать запутавшийся золотой шнур! — воскликнула она. — И к тому же тут столько соломы!
— Однако, сударыня, дух в этой груди не соломенный. Будь я свободен и грози вам десять тысяч врагов — конница, пехота, драгуны, — о, как сразился бы я за вас, чтобы доказать свою преданность! Но вы взяли прядь моих волос, и я возьму ее цену с этой несравненной ручки. Как, вы снова боитесь?
— Нет, не боюсь, но…
— Понимаю, сударыня. Вы разрешаете, но не словами — как это принято у дам. Ну, вот и все. И этот поцелуй намного слаще, чем горькое ядро вишни.
Когда дама наконец удалилась, она и все остальное общество долго обсуждали, чем можно было бы хоть немного облегчить участь столь рыцарственного узника. В конце концов присутствовавший там весьма достойный и рассудительный джентльмен уже не первой молодости посоветовал посылать ему бутылку хорошего вина каждый день и чистые простыни каждую неделю. И эта благородная англичанка, чья доброта и истинная воспитанность были чужды всякого жеманства, неизменно посылала вышеозначенные дары Итену Аллену все время, пока он оставался пленным в ее стране.
Когда эта компания удалилась, на плацу разыгралась совсем другая сцена.
Едва дамы скрылись под аркой, как оттуда, задыхаясь, выбежал человек в сапогах для верховой езды и с хлыстом в руке, похожий на зажиточного фермера, и словно бык врезался в толпу, торопясь взглянуть на великана.
— Прослышав, что человек, который взял Тикондерогу, заперт тут, в замке Пенденнис, я проехал верхом двадцать пять миль, чтобы увидеть его, а завтра мой брат проскачет ради этого и все сорок. Так что дайте мне хорошенько его рассмотреть. Сэр, — продолжал он, обращаясь к пленнику, — позвольте мне свободно расспросить вас кое о чем.
— Свободно расспросить меня? Я буду только рад. Свобода мне дороже всего на свете. Я готов умереть за свободу — да, наверное, и умру. Так что спрашивайте со всей свободой. Что же вы хотите узнать?
— Раз так, сэр, разрешите спросить, каково ваше занятие — в мирные дни, я имею в виду.
— Вы говорите, точно сборщик налогов, — ответил Аллен, состроив ему дьявольскую рожу. — Каково мое занятие? Ну, в юности я изучал богословие, а теперь стал фокусником.
Тут все вокруг расхохотались как словам, так и гримасе, с которой они были произнесены. Обиженный фермер не замедлил съязвить:
— Фокусник, вот как? Плохо же вы сфокусничали, раз попали в плен.
— Во всяком случае, лучше, чем вы, англичане, друг мой, когда я взял Тикондерогу.
В эту минуту явился слуга с пуншем, и его господин велел ему подать кружку пленнику.
— Нет, дайте мне ее собственными руками, сэр, с пожеланием здоровья, как водится между джентльменами.
— Я не могу желать здоровья государственному преступнику, полковник Аллен, но раз вам так угодно, возьмите кружку из моих рук.
— Слова и поступок истинного джентльмена, сэр. Примите мою благодарность.
И, взяв кружку в скованные руки, так что железо звякнуло о фарфор, он поднес ее к губам и одним глотком осушил до дна.
— Сим свидетельствую, что полминуты английская нация обходилась со мной хорошо, — сказал он.
— Мятежник пьет пунш единым духом, как жадный боров из корыта! — презрительно фыркнул сменившийся с поста грубый гарнизонный солдат.
— Стыдитесь! — прикрикнул на него священник.
— К чему, сэр? — вмешался пленник. — Его красный мундир — вот его вечный румянец стыда, и с ним багрово краснеет вся английская армия. — Тут он повернулся к солдату и продолжал насмешливо: — Тебе не понравилось, как я взял кружку? Боюсь, я никогда не сумею тебе угодить. Тебе ведь не понравилось и то, как я взял Тикондерогу и как собирался взять Монреаль. Воистину! Но погоди-ка, твое лицо мне что-то знакомо: не ты ли тот герой, которого я поймал в одной рубашке в хлеву, где он прятался, когда мы брали форт? Помнишь, это случилось на заре?
— Эй, янки! — Разъяренный солдат выругался. — Замолчи, а не то я наставлю саблей заплаток на твою драную куртку — вот так. — И он для примера легонько ударил пленного по спине плоской стороной сабли, словно плетью.
Повернувшись со стремительностью тигра, великан схватил саблю зубами, вырвал ее из рук солдата и ударом цепи швырнул высоко в воздух, точно шпагу жонглера, со словами:
— Посмей еще раз коснуться связанного джентльмена, грязный трус, и вот они, — он поднял скованные кулаки, — явятся для тебя вестниками смерти.
Вне себя от бешенства, солдат уже собирался ударить Аллена со всего размаха, но тут вмешались горожане и напомнили ему, что бить скованного пленника подло.
— О! — ответил Аллен. — Я уже привык к этому и предпочитаю предвосхищать такие оскорбления. И те горчайшие истины, которые я высказываю об англичанах, касаются не вас, мои добрые друзья, а моих обидчиков — и нынешних, и будущих.
Затем, увидев среди своих защитников и того, кто угостил его пуншем, он отвесил ему учтивый поклон и сказал:
— Еще раз от всего сердца благодарю вас, сэр; но ваша доброта не пропадет втуне. Мы живем в переменчивом мире, и джентльмен не знает заранее, когда ему в свой черед понадобится помощь других.
Однако солдат продолжал бушевать, и поднялся такой шум, что начальник караула поспешил положить конец этой сцене, отправив пленника в его каземат; после чего всех посторонних — в том числе и Израиля — попросили покинуть замок, и ворота были заперты.
Глава XXII
КОЕ-КАКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИТЕНЕ АЛЛЕНЕ; БЕГСТВО ИЗРАИЛЯ В ПУСТЫНЮ
Среди многочисленных эпизодов американской Войны за независимость трудно отыскать эпизод более странный, чем пребывание Итена Аллена в Англии, поскольку необыкновенными были и все обстоятельства, и сам человек.
Аллен представляется удивительным соединением Геркулеса, Джо Миллера[116] и Баярда;[117] он был сложен, как бельгийский тяжеловоз, впитал в себя музыку гор, как швейцарец, и обладал храбростью Ричарда Львиное Сердце.[118] Хотя он был уроженцем Новой Англии, в нем не чувствовалось и следа ее характерных черт. Прямой, грубоватый, весельчак, римлянин, жизнелюбивый, как язычник, и изобильный, как урожай. По духу он был человек далекого Запада, чем и объясняется его своеобразный американизм, ибо такой западный дух — это и есть (или, во всяком случае, будет, ибо ничто другое невозможно) истинный дух Америки.
Почти все время своего пребывания в Англии Аллен вел себя в высшей степени презрительно и яростно, но это в какой-то степени смягчалось той дикой и героической шутливостью, которая в годину бедствий или опасностей всегда приходит на помощь подобным натурам, позволяя им лучше всего выразить чисто варварское пренебрежение к своим несчастьям и показать, каким ничтожным и пустым считают они злорадство пусть даже и торжествующих врагов. Но помимо неизбежного эгоизма, который столь закономерно присущ столетним соснам, церковным шпилям и великанам, необычайное поведение колосса-вермонтца за границей объяснялось еще двумя особыми причинами. Его взяли в плен, когда во главе отряда волонтеров он отправился штурмовать Монреаль, и ему пришлось переносить такое гнусное и неоправданно жестокое обращение, словно он попал в руки даяков.[119] Его сразу же хотели хладнокровно отдать на расправу индейцам-союзникам, и он избежал этой участи только потому, что с отчаянным бесстрашием пустил в ход всю свою чудовищную силу и, схватив английского офицера, воспользовался им, как живым щитом против смертоносных томагавков. Вскоре после этого, когда его в ограде из штыков привели в город, начальник вражеского отряда, некий полковник Макклауд, размахивая над головой пленника тростью и осыпая его ругательствами, обещал ему позорную петлю изменника на Тайберне.[120] В Англию его отправили на том же корабле, на котором плыл пассажиром воинствующий монархист полковник Гай Джонсон,[121] и все время пути Аллена держали в цепях в трюме и обращались с ним, как с простым бунтовщиком, — или нет, вернее, как с азиатским львом, который и в клетке внушает такой ужас своим тюремщикам, что они отплачивают ему за этот трепет утонченной жестокостью. Впрочем, страх их оказался не напрасным: как-то раз, когда скованного по рукам и ногам Аллена оскорбил кто-то из офицеров фрегата, он зубами вырвал чеку, скреплявшую наручники, и, освободив таким образом руки, предложил своему обидчику честный бой. И на корабле, как позже в замке Пенденнис, он, если не располагал никакими другими средствами защиты, неизменно обрушивал на своих врагов столь громовые анафемы, что они торопились уйти от него подальше. Те же причины побуждали его и на борту фрегата, и в Англии постоянно упоминать Тикондерогу и роль, которую он сыграл во взятии этого форта, — он отлично знал, что в то время из всех американских названий Тикондерога была для английского слуха самым известным и самым горьким.
Пусть буйная грубость, которой отличалось поведение Аллена в Англии, заставляет дамских угодников, учителей танцев и офицеров лейб-гвардии пожимать раззолоченными плечами. Да, он был не слишком вежлив со своими тюремщиками, но когда из двоих лишь один держится со скромным благородством, это благородство теряет всякий смысл: представьте себе, что лорд Честерфилд[122] снял бы шляпу и с улыбкой поклонился взбесившемуся быку в надежде, что тот не замедлит ответить учтивостью на учтивость. Среди диких зверей, которые тебе угрожают, сам стань диким зверем. Весьма вероятно, что Аллен руководствовался именно этим соображением. Ведь если даже оставить в стороне яростное стремление утвердить свое достоинство, которое неминуемо должны были пробудить в подобном человеке сыпавшиеся на него оскорбления, опыт, конечно, научил его, что, разыгрывая роль веселого, отчаянного и даже хвастливого дикаря, он скорее обезоружит злобу своих тюремщиков, чем покорным спокойствием. Не следует, кроме того, забывать, что, обращаясь с благородным пленником так, словно он был сосланным в Ботани-бей[123] каторжником, враги нарушали все принятые между нациями правила и обычаи, и это гораздо важнее отдельных проявлений чьей-то мелкой личной тирании. Если же в наши дни в случае нового столкновения между этими двумя государствами трудно ожидать повторения подобных гнусностей, то объясняется это просто: у стран, как и у людей, предполагаемая бедность порождает деспотизм и презрение, но стоит этой бедности возвыситься до богатства, и даже ее прежние обидчики обходятся с ней вежливо и уважительно.
Как показало дальнейшее, Аллен избрал правильный путь. Хотя вначале тюремщики грозили ему позорной казнью и он сам не ожидал ничего другого, кроме разве что долгого и мучительного заключения, тем не менее эти угрозы и ожидания не сбылись: отвечая на презрение насмешливым презрением, какие бы муки он ни испытывал, он вынудил своих врагов смягчиться и в конце концов, избавленный от оков, уже не томясь в трюме, а свободно разгуливая по квартердеку, вернулся в Америку и в числе других пленных был по всем правилам обменен в Нью-Йорке.
Израиль наблюдал за странной сценой на плац-параде замка с жадным интересом, который отнюдь не уменьшился из-за того, что ему скрепя сердце приходилось скрывать от доблестного соотечественника и земляка-горца свое присутствие — присутствие друга. Когда наконец посторонних изгнали из замка, он, возвращаясь в город вместе с остальными, узнал из разговоров, что в казематах заключено еще около сорока американских солдат. Едва он это услышал, как, сославшись на какое-то выдуманное обстоятельство, поспешил назад и начал прогуливаться вдоль стен в надежде увидеть пленников. Вскоре он подошел к башне и, задрав голову, стал вглядываться в зарешеченную амбразуру, как вдруг, к величайшему его изумлению, кто-то дружески окликнул его по имени:
— Поттер, это ты? Во имя всего святого, как ты сюда попал?
Часовой, стоявший у башни, немедленно впился взглядом в нашего растерявшегося героя. Приставив штык к его груди, он приказал ему не двигаться с места. Минуту спустя Израиль уже оказался под арестом. Его привели в помещение, где на гнилой соломе, усыпанной обглоданными костями, словно это была псарня, лежало сорок узников, и среди них он узнал некоего Сингла, теперь сержанта Сингла — человека, замужем за которым он нашел свою невесту, вернувшись в родные горы из последнего плаванья к мысу Горн. Трудно передать, что почувствовал в этот миг Израиль. Во всяком случае, не то, что почувствовал Дамон при виде Финтия.[124] Нет, эти чувства были гораздо более сложными и противоречивыми. Ведь он не только был весьма мало знаком с Синглом (они ни разу в жизни даже не поговорили как следует), но и питал к нему неприязнь, как к счастливому и, быть может, коварному сопернику. И Сингл скорее всего отвечал ему тем же. Однако теперь, когда волны Атлантического океана разделяли словно не два континента, а два мира — этот и загробный, — две чуждые души, забыв про ненависть, устремились друг к другу.
Поэтому Израилю трудно было сохранять притворство, особенно потому, что тем самым он как бы обманывал доверие Сингла. Однако, выдавая искреннее изумление за притворное негодование, Израиль в присутствии часовых заявил Синглу, что он (Сингл) непонятным образом заблуждается, так как он (Поттер), слава богу, не какой-нибудь там подлый мятежник-янки, а верный подданный своего короля, — короче говоря, честный англичанин, родился в Кенте, а ныне по мере сил служит родной стране и сражается с ее врагами, состоя комендором каронады на борту каперского судна, которое красится сейчас в гавани Фалмута.
На мгновение пленник совсем растерялся, но потом внимательно всмотрелся в лицо Израиля, заметил, как тот ему подмигнул, сообразил, какой опасности безрассудно подверг земляка, несомненно находящегося в положении не менее тяжелом, чем его собственное, и поспешил исправить положение, угрюмо извинившись за свою ошибку с самым унылым и разочарованным видом. Тем не менее нашему скитальцу удалось выбраться из замка лишь с большим трудом и только после того, как его долго и придирчиво допрашивала комиссия офицеров, перед которой он предстал прямо из каземата.
Эта злосчастная случайность не только сразу же положила конец надеждам Израиля как-то помочь Итену Аллену и его товарищам, но и сделала дальнейшее его пребывание в Фалмуте крайне опасным. Однако и этого оказалось мало: когда на следующий день он висел на беседке, крася борт и ежеминутно ожидая появления солдат из замка, на корабль пришло известие, что стоящий на рейде фрегат намерен забрать себе треть команды с капера, несмотря на то что этот последний готовился к новому плаванью. Израилю и в голову не приходило, что частное вооруженное судно обязано подчиняться тем же правительственным требованиям, что и самый жалкий купец. Однако система насильственной вербовки не знает жалости и ни с кем не считается.
Израиль размышлял и колебался недолго. В отличие от своих товарищей на борту капера, он предпочел в одиночестве пойти навстречу опасности, вместо того чтобы покорно дожидаться ее в обществе других, и в ту же ночь ловко соскользнул в море, и, рискуя погибнуть от пуль часовых на фрегате, рядом с трапом которого ему пришлось проплыть, в конце концов благополучно добрался до берега, где упал совсем обессиленный. Однако он заставил себя встать и поспешил прочь, подгоняемый мыслью, что теперь, будет ли он пойман как англичанин или как американец, его все равно ждет одна и та же участь.
На заре, когда он отошел от Фалмута уже на много миль, ему представилась неожиданная возможность сменить одежду моряка на грязные лохмотья, которые он нашел на берегу илистого пруда неподалеку от ветхого здания, более всего походившего на работный дом. Он рассудил — и скорее всего справедливо, — что лохмотья эти оставил на берегу покончивший с собой бедняк. Но не дивитесь жадности, с какой он схватил это рубище, — то, что отвергает самоубийца, может быть счастьем для живых.
Вновь облекшись в одеяния нищего, наш беглец поспешно направился в сторону Лондона, побуждаемый тем же инстинктом, который приводит затравленную лисицу в глухую чащу. Ибо если безлюдные просторы — самый надежный приют для дикого зверя, то гонимый человек обретает безопасность лишь в толпе — этой истинной пустыне. Израилю предстояло на сорок с лишним лет исчезнуть в глуши столицы, словно он в сумерках вступил в дремучий лес. Но ни леса Германии, ни заколдованная роща Тассо[125] не таили в своей глубине ужасов, подобных тем, которые ему довелось увидеть в тайных расселинах, пропастях, пещерах и ущельях Лондона. Однако тут мы забежали вперед.
Глава XXIII
ИЗРАИЛЬ В ЕГИПТЕ[126]
Был серый пасмурный день, когда измученный, исхудалый, томимый голодом Израиль увидел милях в пятнадцати от Лондона большой кирпичный завод, где трудились десятки жалких оборванцев.
Лепить кирпичи — значит барахтаться в жидкой глине. За границей, там, где дело поставлено на широкую ногу (чтобы, например, снабжать кирпичом лондонский рынок), на такие заводы нанимают нищих и обездоленных, чьи грязные лохмотья как нельзя больше подходят для занятия, от которого чистоты приходится ждать не более, чем от трупа на дне трясины в болоте Дизмал.[127]
Совсем отчаявшийся Израиль решил стать кирпичником и без всякого страха направился к заводу, нимало не сомневаясь, что его рубище послужит ему лучшим рекомендательным письмом.
Короче говоря, он подошел к одному из грубых надсмотрщиков, или, вернее сказать, десятников, и тот, вдоволь поважничав, нанял его за плату в шесть шиллингов в неделю, что равно почти полутора долларам. Его назначили на глиномешалку. Она стояла под открытым небом. Это было неуклюжее примитивное сооружение, представлявшее собой нечто вроде воронки, соединенной с приемником, похожим формой на бочку. В бочке помещалась несуразная машина, которую можно было вращать с помощью изогнутого бревна, напоминающего колодезный журавль, только расположенный горизонтально. К концу бревна припрягалась старая хромая кляча. Хромающие от ревматизма старики кидали лопатами в бункер жидкую грязь, а хромающая от старости кляча устало брела по кругу, перемешивая ее, пока наконец она не выползала из нижней части бочки тестообразной массой, готовой для форм. Рядом с бочкой была вырыта яма так, чтобы формовщик стоял на уровне желоба, в который стекало глиняное тесто. В такой яме и пришлось работать Израилю. К нему вереницей подходили люди и опускали в яму грубые деревянные лотки, разгороженные на ячейки по размерам кирпича. Большим плоским черпаком Израиль захватывал тесто из желоба и заполнял ячейки, затем ровной доской снимал лишнюю глину и возвращал лоток наверх. Стоя по пояс в яме и наполняя бесконечные уродливые лотки, бедняга Израиль больше всего походил на могильщика или даже на осквернителя могил, который в одном углу ямы погребает гробики с мертвыми младенцами и тут же ловко выкапывает их и передает стоящим по другую ее сторону похитителям трупов.
Во дворе завода работало двадцать таких меланхоличных глиномешалок. Двадцать разбитых старых кляч в рваной сбруе, снятой со старых телег, безостановочно тянули за собой сучковатые бревна, а из двадцати дырявых старых бочек глина, словно лава, медленно стекала двадцатью потоками в двадцать старых желобов, чтобы двадцать оборванцев тут же шлепнули ее в двадцать, и еще раз двадцать, и еще раз двадцать старых, расшатанных лотков.
Когда Израиль спустился в яму в первый раз, его поразили надрывно бесшабашные движения формовщиков. Но не успел он проработать в ней и трех дней, как его прежняя тяжкая озабоченность начала сменяться тем же бесшабашным и даже по-своему веселым отчаянием, которое он подметил у других.
Дело в том, что это непрерывное, яростное, небрежное швыряние теста в формы порождало соответствующее настроение у формовщика, — беззаботно шлепая на лоток куски ничего не стоящего жалкого теста, он тем самым приучался в мыслях столь же небрежно отмахиваться и от своей еще более жалкой судьбы, которая еще меньше заслуживала заботы. Для этих чумазых философов люди и кирпичи равно были глиной. «Какая разница, быть ли помещиком или поденщиком, — думали формовщики. — Ведь все — суета и глина». И вот так — шлеп-шлеп-шлеп — эти обездоленные изгои с горьким легкомыслием кое-как бросали тесто на лотки. Если подобную небрежность можно поставить им в вину, что же, пусть так; но этот порок подобен бурьяну, взрастающему на бесплодной земле, — напитайте почву, и он исчезнет.
Три месяца с лишком, снося понукания десятника, трудился Израиль в своей яме. Работая, он был осужден пребывать в земляной темнице, подобной свежевыкопанной могиле, но и выбираясь из нее, чтобы поесть, он не видел вокруг ничего, сулившего надежду. Завод со всеми его бесконечными навесами, печами и глиномешалками располагался на дикой пустоши среди болот и трясин. И все это, словно канатом, было стянуто пустым горизонтом.
Часто выпадали сумрачные злые дни; взлохмаченное, пятнистое небо, казалось, было исполосовано бичами, или на мили вокруг все затягивал душный морской туман и, выискав каждую ревматическую косточку в человеческом теле, начинал их терзать; хромающие жертвы прострела дрожали и стучали зубами; их лохмотья впитывали промозглую сырость, словно губки. И даже в град укрыться было негде. Навесы предназначались для кирпичей. А ведь согласно Писанию, каждый человек — такой же кирпич;[128] это название вполне достойно сынов Адама. Чем был Эдем, как не кирпичным заводом? А что есть всякий смертный? Две-три злосчастные пригоршни глины, сформованные в форме, положенные для просушки и вскоре ожившие под лучами солнца для своих нелепых прихотей. И разве люди не слагаются в общину точно так же, как кирпичи — в стену? Вспомните огромную Китайскую стену, поразмыслите над огромным числом жителей Пекина. И как человек пользуется кирпичами, так им самим пользуется бог, из миллиардов ему подобных возводя творения своей воли. Человек достигает достоинства кирпича только в совокупности с другими людьми. И все же между кирпичами, как живыми, так и мертвыми, есть разница, о которой в отношении последних мы сейчас расскажем.
Глава XXIII
ИЗРАИЛЬ В ЕГИПТЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Всю ночь напролет люди просиживали перед жерлами печей, подбрасывая в них топливо. Над печами поднимался бурый дым — дым их смертной муки. Было любопытно следить, как под воздействием огня меняется цвет печи — точно у рака, брошенного в кипяток. Когда наконец обжиг кончался и огонь гасили, Израиль любил заглядывать под своды топки в основании печи, где еще недавно трещали дрова. Кирпичи, непосредственно составлявшие стенки топки, все до единого превращались в бесполезные комья, черные, как сажа, и самых гротескных форм. Следующий ряд бывал не столь прокопчен, но также не годился в дело; но постепенно, осматривая кладку печи ряд за рядом, вы добирались до средних слоев, слагавшихся из звонких, ровных, безупречных кирпичей, за которые подрядчики платят дороже всего. Дальше вверх ряды постепенно утрачивали совершенство, однако, хотя кирпичи самого верхнего слоя и уступали лежащим ниже, они все же ничем не напоминали изуродованные кирпичи топки. Кирпичи топки были обезображены прямым соприкосновением с огнем, средние зарумянились под воздействием умеренного и благодетельного жара, а верхние хранили томную бледность потому, что были слишком уж укрыты от необходимости выносить силу пламени.
Эти печи воздвигались, словно временные храмы, и каждый кирпич укладывался на свое место с такой тщательностью, будто ему предстояло лежать тут века. Но едва огонь угасал, печь рассыпали в бесформенную кучу и кирпич отправляли в Лондон, чтобы снова слагать из него горделивые постройки, которые в глазах истинного философа с кирпичного завода почти столь же преходящи, как и печь для обжига кирпича.
Порой, накладывая тесто в лотки, Израиль невольно задумывался над загадкой собственной судьбы. Любовь к родине заставила его возненавидеть ее врагов — тех самых чужестранцев, среди которых он трудился тут, — и вот теперь он, обязавшийся в качестве солдата и матроса убивать, жечь, уничтожать их самих и все, что им принадлежит, теперь он служит этим самым людям, как раб, изготовляя для них кирпичи вместо того, чтобы поджигать их корабли. Мысль о том, что он всеми силами помогает укреплять стены тиранических Фив,[129] сводила его с ума. Бедный Израиль! Имя твое оказалось пророческим — ты стал рабом в Египте, который зовется Англией. Но он гнал от себя подобные мысли и начинал еще отчаяннее орудовать своим черпаком: «Что за важность, кто мы, где мы и что мы делаем?» Хлоп-шлеп! «Короли, мужики — какая разница? Кто больше, чем ничто?» Бряк! «Все суета и глина!»
Глава XXIV
В ГРАДЕ ДИС[130]
Когда через три месяца наш искатель приключений расставался с кирпичным заводом, у него была вполне приличная одежда на плечах — лишь кое-где заплатанная, несколько кровавых мозолей на ладонях и горстка позеленевших медяков в кармане. Оттуда он отправился пешком искать счастья в столице и вступил в нее, как король, через Виндзор с суррейского берега Темзы.
И вот поздно утром в ноябрьский понедельник, — в Тяжелый Понедельник, Пятого ноября, в День Гая Фокса![131] — в тяжкое, туманное, грустное и, как мы вскоре убедимся, весьма пороховое утро Израиль смешался с неисчислимой будничной толпой, которую угрюмый Лондон неизменно предлагает взору стороннего наблюдателя; с той извечной толпой — людским Гольфстримом, — которая век за веком, не иссякая, движется по Лондонскому мосту, как нескончаемый косяк сельди.
Так называлось странное и тяжеловесное сооружение, которое за пятьсот с лишним лет до этого воздвиг католический монах Петр из Колчерча. С давних времен по обеим его сторонам торчали нелепо вытянутые вверх жилые дома, превращавшие мост сразу и в самый населенный квартал города, и в самую тесную из всех его оживленных улиц, между тем как над саутуоркским его концом, точно бычьи черепа над воротами бойни, до самых последних дней красовались на пиках высохшие головы и прокопченные руки и ноги четвертованных государственных преступников.
Хотя эти ветхие дома и жуткие геральдические знаки были уничтожены лет за двадцать до описываемых событий, все же Лондонский мост по-прежнему сохранял присущий древностям причудливый вид, который делал его необычайно интересным, особенно для человека вроде нашего героя, выросшего среди первобытной природы, где нет иных древностей, кроме вечно юных небес и земли.
Направляясь из Брентфорда в Париж, Израиль уже проезжал через столицу — но как курьер, так что теперь у него впервые было время медлить, бродить и созерцать, неторопливо впитывая окружающие картины, и предаваться изумленным размышлениям. За сорок лет он так и не оправился от этого изумления и перестал дивиться, только когда умер.
Опирающийся на широкие гробовые своды черный закоптелый мост казался огромным шарфом из траурного крепа, повисшим поперек реки. Такие же траурные фестоны перехватывали ее дальше к западу, а на востоке, в сторону моря, тянулись вдоль причалов ряды агатовых угольщиков — стаи черных лебедей.
Темза, которая среди зеленых полей Беркшира струилась прозрачная, как ручей, здесь, оскверненная долгим соседством с человеком, клубилась между гниющими пристанями, густая и мутная, как содержимое клоаки. Досадуя на неуклюжие быки, она с шипением вздувалась, а потом злобно устремлялась под черные, как Эреб,[132] арки, исполненная неизбывного отчаяния, подобно душам падших женщин, каждую ночь кидавшихся под те же арки. А там и сям, словно поджидающие их катафалки, по течению в беспорядке скользили угольные баржи, управляемые шестами.
И если течение реки гнало перед собой все суда, то на берегах такое же течение, казалось, увлекало всех пешеходов, всех лошадей, все экипажи. Мост напоминал муравейник — по нему ползли нескончаемые вереницы повозок, карет, ломовых подвод и прочих грохочущих сооружений на колесах, и морды лошадей касались экипажа, двигавшегося впереди, — и все это было забрызгано эбеново-черной грязью, которая прилипала крепче вара. По временам эта плотная масса, получив таинственный толчок где-то далеко позади, в клубке скрытых от взгляда улиц, вдруг судорожно устремлялась вперед. Казалось, будто отряд кентавров на одном берегу Флегетона,[133] кидаясь в атаку за атакой, гонит измученное человечество со всем его имуществом на другой берег.
Куда бы ни обратился взор, нигде ни деревца, ни клочка зелени — как в кузнице. И все труженики, кем бы они ни были, казалось, только что покинули литейный завод. Черные улицы были как галереи в угольной шахте, камни мостовой — как могильные плиты, с той лишь разницей, что их не одевал священный покров мха и поверхность их истерли тысячи тяжко ступающих ног, точно стекловидные скалы проклятых Галапагосских островов, по которым ползают черепахи, словно обреченные на вечную каторгу.
Солнце спряталось, словно во время затмения, воздух пронизывала сумрачная мгла, все было тусклым и унылым, будто поблизости изрыгал дым какой-нибудь вулкан, готовясь уничтожить огромный город, как Геркуланум и Помпею или города окрестности Иорданской.[134] И лица всех прохожих, словно они в ужасе повертывались к грозному вулкану, были в той или иной степени припудрены и испачканы сажей. Ни мрамору, ни плоти, ни горестному духу человеческому не дано сохранить белизну в этом закопченном граде Дисе.
Остановившись на середине моста, Израиль смотрел из укромной ниши на прохожих, и, как бы ни различался их облик, все они внушали ему почти страх. Он не знал их, вряд ли ему было суждено увидеть их снова, и один за другим они проходили мимо и скрывались, как незваные тени Аида. Кое-кто из прохожих казался менее мрачным, некоторые были во власти истерической веселости, но в печальных лицах таилась проникновенность, которой были лишены остальные, ибо человеку, этому скверному актеру, трагедия жизни удается лучше, нежели комедия.
Когда Израиль добрался до Миддлсекского берега, сердце его сдавила пророческая тоска; он предчувствовал, что ему не суждено счастье, — ведь и он принадлежал к этому же племени.
Пять дней он бродил и бродил по городу. И хотя он посещал самые роскошные кварталы, не пропустил он и куда более обширных наследственных имений и парков порока и нищеты. По натуре он не был склонен к мрачному унынию, и тем таинственней было то загадочное чувство, которое влекло его туда. Однако так зарождался в нем стоицизм, чтобы подготовить его к уже близкому дню, когда и ему придется испытать всю меру властвующих тут нужды и страданий, когда болезнь, нищета и все другие бедствия, уготованные изгнаннику, обрекут его на существование, необычное даже для злополучного рода человеческого, — существование тем более страшное, что оно было лишено даже проблеска надежды и окутано тьмой полной безвестности: Лондон, нищета и море — вот три Армагеддона,[135] чьи, жертвы исчезают бесследно.
Глава XXV
СОРОК ПЯТЬ ЛЕТ
То, что довелось пережить Израилю за сорок лет его блужданий по пустыням Лондона, по большей части неизмеримо превосходит сорок лет блужданий в естественной пустыне, выпавших на долю отверженных евреев, которых вел Моисей.
Днем перед ним вечным облаком стлался лондонский туман, но по ночам никакой огненный столп не озарял его пути,[136] и только насмешливое золотое пламя играло на вершине холодной колонны Монумента[137] в двухстах футах над каменным основанием, к которому в полуночные часы нередко приникал дрожащий от холода бесприютный скиталец.
Но его неизбывное одиночество и беспросветность несчастий превращают эти годы в нечто поистине отвратительное. И лучше не останавливаться на них подробно. Ведь если жестокие муки, не смягченные проблеском надежды, непереносимы для страдальца, то столь же непереносимо для других даже их описание, если оно не скрашено какой-нибудь иллюзорной наградой. Наимрачнейший и наиправдивейший драматург редко избирает своей темой несчастья, пусть самые необычайные, если они постигли человека незнатного и ничем не примечательного — и, уж во всяком случае, не нищего; предостережением ему служит то обстоятельство, что в траурный зал дворца, где покоится в пышном гробу король, потянутся тысячи любопытных, но вряд ли хоть кто-нибудь пожелает заглянуть в убогую лачугу, где словно обнажившаяся фаланга большого пальца, скалит зубы необмытый труп попрошайки.
Почему на той вон улице у одной и той же плиты тротуара прохожий за прохожим переходит на другую сторону? Какой плебейский Лир или Эдип, какой Израиль Поттер жмется в углу, от которого они шарахаются? Так и мы, достигнув этого места, перейдем на другую сторону улицы и лишь быстро перечислим последующие события, не приводя подробностей того, как он, терзаемый голодом, оспаривал объедки у крыс в сточных канавах, как он прокрадывался в покинутый дом в приходе церкви Святого Гила — в дом с выбитыми стеклами, без дверей, где он был гостем трех мертвецов и одного умирающего; и в другой дом в одном из закоулков вблизи Хаундсдитча — в ветхую, фосфоресцирующую гнилью лачугу, которая как-то глухой полночью, сверкая, обрушилась на него, так что он получил увечье, надолго лишившее его былой подвижности и тем способствовавшее продлению его изгнания, не говоря уж о том, что балка, задевшая его по голове, вызвала сотрясение мозга, чуть было не окончившееся слабоумием.
Однако все это произошло намного позже — первое же время в Лондоне Израилю сопутствовало известное благосостояние, и он даже рассчитывал накопить денег, чтобы уехать домой, едва кончится война. Но по велению упрямого рока, когда в Холборн-Барс он попал под карету и его отнесли в ближайшую булочную, продавщица, уроженка Кента, выхаживала его с такой добротой, что в конце концов он почел себя обязанным заплатить ей долг благодарности любовью. Короче говоря, деньги, отложенные на плаванье по океану, были довольно безрассудно истрачены на снаряжение брачной ладьи.
В свое время Израиль поспешил в столицу, чтобы спастись от неизбежного выбора между тюремным заключением и службой на военном корабле. И страх перед подобной судьбой в любом случае удержал бы его в Лондоне до заключения мира. Но теперь, когда не было больше войны, у него больше не было денег. Прошло еще довольно много времени, прежде чем отношения между обоими правительствами наладились настолько, что в Лондон наконец прислали американского консула. Однако когда это время все же настало, Израиль мог бы получить вспомоществование для возвращения, только если бы решился покинуть жену и ребенка, — ведь семьей он обзавелся во вражеской стране.
После заключения мира Англию, а особенно Лондон наводнили орды уволенных со службы солдат, и тысячи из них, лишь бы не умереть с голоду или не стать разбойниками (путь, избранный немалым числом их товарищей, которые порой останавливали кареты на самых людных улицах), соглашались работать за такие гроши, что заработная плата всех трудящихся сословий сразу значительно понизилась. И с нашим искателем приключений судьба обошлась не более милостиво, чем с другими. Лишившись прежнего места — грузчика в портовом складе — из-за внезапной конкуренции со стороны таких же честных бедняков, как он сам, наш герой, изобретательный, подобно всем его землякам, обратился к деревенскому искусству плетения соломенных сидений. Теперь он бродил по улицам, громко выкликая: «Стулья починяю!» — и при этом являл собой любопытный пример парадоксов, свойственных жизни: тот, кто почти весь день проводил на ногах, снабжал остальной мир удобными сиденьями. Тем временем, согласно открытому мальтузианцами загадочному закону,[138] семья его непрерывно увеличивалась. Всего его жена родила ему на шестипенсовых чердаках Мурфилдса одиннадцать детей. Одного за другим они схоронили десятерых.
Когда починка стульев перестала давать заработок, он принялся изготовлять фитили. Затем и на это оказалось невозможным прокормиться, и он начал собирать тряпье, старую бумагу, гвозди и битое стекло. Но даже и это было еще не последним шагом. Из сточной канавы он соскользнул в клоаку. Склон был ровным. В нищете «facilis descensus Averno»[139].[140]
Впрочем, немало отставных солдат успело соскользнуть в Авернское болото раньше него. Да что говорить! Там он оказался в обществе трех капралов и одного сержанта.
Однако и в этой тяжкой доле у него было два странных утешения, о которых речь пойдет ниже. В 1793 году вновь вспыхнула война — долгая война с Францией.[141] Она избавила Лондон от части избыточного населения и лишила Израиля подземного общества его приятелей капралов и сержанта, с которыми он бродил по черному царству нечистот, рассказывая истории о пленных моряках на понтонах и выслушивая взамен повесть о Черной калькуттской дыре.[142] Нередко они встречали там других солдат — порой два только что познакомившихся ветерана стояли на каком-нибудь из наиболее оживленных углов или перекрестков клоаки, ее подземных Чаринг-Кроссов и, держа друг друга за еще уцелевшие пуговицы, увлеченно обсуждали печальную вероятность подорожания хлеба, а через ржавые решетки над их головами — чердачные окна их мрачного царства — доносился скрипучий рокот (проезжали фургоны булочников) и летели брызги, дававшие этим невидимым и неведомым гномам города средства к существованию.
Ободренный этим исходом солдатского племени, Израиль вновь занялся починкой стульев. И вот, когда он ранним утром отправлялся в Ковент-Гарден[143] за соломой, ему и выпадало одно из двух утешений, упомянутых выше. Разговор с краснощекими торговками, на чьих влажных щеках еще блестела полевая роса, тюки сена, которые окружали его, словно он трудился на лугу среди стогов и копен, кучи овощей и красной свеклы, с которой еще не осыпалась влажная земля, даже купленная им солома, словно рассказывавшая о полях, с которых она явилась, о зеленых живых изгородях, мимо которых проезжал привезший ее фургон, и даже возвращение на свой чердак, когда можно было вообразить себя жнецом, несущим домой снопик пшеницы, — все это доставляло ему неизъяснимое наслаждение. В часы самой горькой и жестокой нужды, заключенный в четырех ветхих стенах, он мысленно возвращался к сельской своей юности и вновь переживал лучшие ее дни; и даже самые твердые камни его одинокого сердца (затвердевшего из-за необходимости вечно терпеть) ощущали прикосновение хрупких, но неугасимых воспоминаний — так нежные ростки пробиваются между тесно сдвинутыми плитами старых тротуаров. Порой какой-нибудь незначительный пустяк давал толчок для этих мыслей о родине, и они, либо постепенно и необоримо овладевая им, либо разом нахлынув, доводили его даже до галлюцинаций.
Вот один такой случай. Как-то в погожий июльский день 1800 года счастье ему улыбнулось и один из садовников Сент-Джеймского парка, пожалев его, нанял на полдня подстригать траву на овальной лужайке, находящейся всего в трех минутах ходьбы по аллее от этой закопченной кирпичной пивоварни — дворца, подарившего свое древнее название публичному парку, на краю которого он стоит. Лужайка была обнесена чугунной оградой, и лишенная свободы зелень выглядывала из-за прутьев, словно дикий лесной зверек, запертый в клетке. Чужестранец Израиль, чей взгляд мечтательно блуждал по сторонам, казался ошеломленным, отбившимся от стада быком или заблудившимся индейцем из племени пеквасов,[144] изгнанного в давние времена на берега Наррагансетского залива;[145] душа нашего изгнанника уносилась на родину, в Новую Англию. Он продолжал работать и думать о доме — думать о доме и работать в зеленом покое этого маленького оазиса, и одно жаркое воспоминание рождало другое, пока они, вызывая легкую усмешку, не сосредоточились на образе Гекльберри — так звали старого мерина, на котором всегда ездила его мать; когда же вскоре раздался внезапный скрежет (каких-нибудь подбитых гвоздями башмаков по решетке сточной канавы), он, словно в бреду, вообразил, будто это старый Гекльберри в стойле бьет передними копытами в стенку, здороваясь с ним (Израилем), что он обычно проделывал, когда бывал голоден; и вот, в ответ на этот воображаемый призыв, Израиль бросает серп, быстро срывает пучок белого клевера и кидается вперед. Но тут же, остановившись и печально обведя взглядом лужайку, он вспомнил, что мог бы выполнить свое безумное намеренье, только если бы пересек совсем другой овал — огромный овал океана, но что и в этом случае старый Гекльберри вряд ли польстился бы на белый клевер, ибо он, несомненно, уже давным-давно закопан на клеверном лугу. А много лет спустя, совсем в другой части города и в куда менее погожий день, когда Израиль плелся со своей соломой по Ред-Кросс-стрит, направляясь к Барбикену в таком густом тумане, что смутные громады домов, еще увеличенные сумраком, казались темными грядами полночных гор, он вдруг услышал шум, который больше подошел бы деревне, нежели городу — тяжелый топот, мычанье, крики пастухов, — и внезапно чей-то голос попросил его помочь завернуть к Смитфилду напуганных туманом и заупрямившихся быков. В следующее мгновение он увидел белую морду — белую, как лепесток флердоранжа,[146] — а потом и черные плечи быка, который шел впереди стада, словно привидение в клубах тумана. И, забыв про свою хромоту, Израиль вскоре уже гнал непокорных быков назад к Барбикену, крича и суетясь даже больше, чем их встревоженные хозяева. Он был весь во власти безумных воспоминаний. «Направо, направо! — закричал он, когда на перекрестке фермеры завернули стадо налево, к Смитфилду. — Направо! Вы же гоните их назад в луга. Скотный двор от нас справа!» — «Скотный двор? — откликнулся кто-то. — Да ты, старик, сны видишь, что ли?» И правда, Израиль, теперь уже совсем старик, был заворожен серым клубящимся миражем: ему пригрезилось, будто он бродит среди туманов родных гор над Хусатоником — такой же румяный и крепкий паренек, как когда-то. Но какой не похожей показалась ему теперь эта тусклая, вялая, мертвая лондонская мгла на те живые туманы, которые, точно горные козлы, стремительно взбирались на лиловые вершины или разбитой армией призраков устремлялись в паническом бегстве на равнину, рассеиваясь на ходу, а молодой пастух оставался в величавом одиночестве, и фигура его рисовалась на фоне ясного неба четко, как воздушный шар.
В 1817 году он опять впал в крайнюю нужду: после заключения мира[147] в Лондон вновь хлынули отставные солдаты, и найти работу стало невозможно. Улицы были облеплены нищими, как саранчой. Повсюду ковыляли инвалиды на деревяшках, бесчисленные, как французские крестьяне, обутые в сабо. И если тридцать лет назад наш изгнанник слышал со всех сторон жалобные вопли, обращенные не к нему: «Подайте, ваша честь, храброму солдату, раненному при Банкер-Хилле (или при Саратоге,[148] или при Трентоне[149]), честно послужившему его августейшему величеству королю Георгу», то теперь доживший и до этих дней Израиль, наш Вечный Скиталец,[150] услышал, как новое поколение подхватило тот же вопль, лишь слегка видоизменив его: «Подайте, ваша честь, храброму солдату, раненному при Корунье[151] (или при Ватерлоо,[152] или при Трафальгаре[153])». Однако многие из этих попрошаек ни разу в жизни не покидали дымные пределы Лондона — это была своего рода хитрая аристократия, которая, почти, а то и вовсе не подвергаясь сама опасности, тем не менее снимала весьма обильный урожай славы и доходов с кровавых битв, столь хвастливо ею присвоенных; а тем временем многие истинные герои, слишком гордые, чтоб просить милостыню, слишком изрубленные, чтобы работать, и слишком нищие, чтобы жить, тихо забивались в темные углы и умирали. И тут следует заметить — ибо это уже национальная черта, — что Израиль, американец, пусть нужда иной раз загоняла его даже в клоаку, все же ни разу не пал так низко, чтобы стать попрошайкой.
Хотя с этих пор новые тысячи бедняков — его соперников в стремлении спастись от голодной смерти — не раз перебивали у него возможность заработать заветные три пенса, тем не менее он все еще держался, подобно кряжистым дубам на горных склонах, которые, как бы ни секли их градом бури, как бы бездумно ни калечил проходящий мимо лесоруб, во всех несчастьях умеют сохранить живым свой главный корень вопреки натиску других деревьев и каменным тискам скалы. И даже в самом конце, в беспросветном декабре его жизни, наш ветеран еще ощущал порой теплое биение в самых верхних своих сучьях. На мурфилдском чердаке, пригнувшись над горсткой чуть тлеющих углей (накануне вечером они, возможно, согревали какого-нибудь лорда), углей, собранных на улице, он прогонял печаль, рассказывая своему единственному уцелевшему сыну, который уже потерял тогда мать, — этому Веньямину,[154] оставленному его старости, — о далеком Ханаане[155] за океаном, вновь и вновь повествуя мальчику о своих незабвенных приключениях среди гор Новой Англии и рисуя светлые картины счастья и изобилия, открытого низшим из низших. И вот эта радость, какой бы призрачной она ни казалась, и была вторым его утешением, о котором говорилось выше.
И бедный мальчик, раб Мурфилдса, не уставал каждый вечер слушать из уст того, кто сам побывал там, эти сказания о Счастливых островах Свободных людей, словно истории Синдбада Морехода. Когда же отец возьмет его туда? «Когда-нибудь, сынок!» — обнадеживал его скиталец, сам давно уже утративший надежду. «Дай-то бог, чтобы это было завтра!» — страстно говорил сын.
Но, ведя эти беседы, Израиль, сам того не подозревая, засевал семена своего возвращения на родину. Ибо с годами юноша все сильнее проникался желанием вырваться из тяжких оков нищеты, отправившись вместе с отцом в землю обетованную. Его настойчивость в конце концов преодолела все препятствия — те, от кого многое зависело, поверили его удивительным утверждениям. Короче говоря, американский консул, пожалев их, позволил себе истолковать свои инструкции несколько расширительно и вскоре проводил отца и сына на корабль, отправлявшийся из Лондона в Бостон.
Шел 1826 год: протекло полвека с тех пор, как Израиль, молодой и полный сил, в трюме фрегата «Тартар» пленником покидал тот самый порт, куда плыл ныне. Морской ветер шевелил теперь волосы восьмидесятилетнего старца, белоснежные, как пена морская. Седовласый древний Океан казался родным его братом.
Глава XXVI
Случилось так, что их корабль достиг Бостона четвертого июля,[158] и уже через полчаса после того, как он бросил якорь, наш старец, совсем растерявшийся в шумной толпе перед Фэнел-Холлом,[159] чуть было не попал под ехавшую в патриотической процессии триумфальную колесницу, над которой развевалось пышное знамя с золотой надписью:
«БАНКЕР-ХИЛЛ1775СЛАВА СРАЖАВШИМСЯ ТАМ ГЕРОЯМ!»
Лучше всего отдохнуть нашему скитальцу довелось в этот день на Коппс-Хилле, где во время сражения была расположена одна из вражеских позиций в черте города. Опустившись на могильный холмик, он смотрел через кладбищенскую ограду на реку Чарльз и на поле битвы — стоявший там в те годы невзрачный монумент было так же трудно разглядеть, как первый чахлый росток пшеницы, пробившийся холодной весной посреди пашни. Вон на том холме пятьдесят лет назад его, теперь такие слабые, руки пускали в ход оба конца мушкета. И там же получил он этот рубец на груди, который после схватки с «Сераписом» был пересечен сабельным шрамом, так что с тех пор он носил на израненной груди крест.
Долгое время сидел он так и молча смотрел перед собой пустым взором. Душный июльский день клонился к вечеру. Сын старался немного развеселить его и ободрить — ведь уже настало время отправиться в комнату, которую снял для них капитан корабля.
— Нет, — отвечал старик. — Лучше места для отдыха, чем здесь, близ могил, мне не найти.
Но в конце концов юноше удалось увести его оттуда, а на следующий день отец и сын, благодаря тому, что спутники по плаванью устроили сбор в их пользу, смогли отправиться в почтовой карете к долине Хусатоника. Однако старые горные селения встретили изгнанника так, словно он не вернулся в родной край, а воскрес из мертвых. Никто там не знал его, никто не мог вспомнить, слышал ли когда-нибудь его имя. Вскоре выяснилось, что последний оставшийся в живых его родственник, холостяк, уже более тридцати лет назад по примеру большинства соседей покинул эти места — продал свою землю и уехал дальше на запад, а куда именно, никто сказать не мог.
Израиль хотел поглядеть на отчий дом. Но оказалось, что он уже давно сгорел. Все же в сопровождении сына старик со смутным взором и смутным сердцем отправился искать хотя бы место, где была когда-то их ферма. Однако изменились даже дороги. Там, где прежде проходила дорога, теперь паслись овцы, а новая дорога вела прямо через бывшие яблоневые сады. Новые же сады, выросшие из отводков совсем других деревьев и привитые уже давно, отлично разрослись на солнечных склонах, где когда-то ведрами собирали чернику. Наконец Израиль вышел к полю колышущейся гречихи. Ему было показалось, что на этом самом поле он не раз жал в былые времена. Однако, когда они начали расспрашивать, им сказали, что всего три года назад на этом месте росла ореховая роща. Тогда Израиль припомнил, что его отец как будто собирался посадить такую рощу, чтобы защитить соседние поля от холодных северных ветров, — только его старческая память не сохранила воспоминания о том, где именно должны были ее сажать. Но ему представлялось вполне вероятным, что за долгие годы его изгнания ореховая роща была посажена, а потом и увезена отсюда, как все предшествующие и последующие урожаи этого поля.
Вскоре, подымаясь по склону, он вошел в старый лес, показавшийся ему странно знакомым, и на полпути вдруг остановился, разглядывая бесформенную обомшелую груду, один конец которой упирался в могучий бук. Там, где он легонько дотрагивался до этой груды концом своего посоха, она рассыпалась в труху, но все же кое-где она до мельчайших волнистых линий сохранила вид того, чем была прежде, а именно: комля большого хемлока[160] (чья древесина дольше всего выдерживает соприкосновение с воздухом), который был срублен при жизни ушедшего поколения и оставлен тут лежать до первопутка, а потом, как порой случается, забыт и брошен рассыпаться в прах, и ныне стал символом несбывшихся намерений и долгой жизни, обреченной гнить из-за ранней беды.
— Неужто я сплю? — размышлял вслух ошеломленный старик. — Или и вправду давно, давным-давно было холодное пасмурное утро, и я свалил этот кряжистый ствол возле бука, тогда еще совсем тоненького? Нет-нет, я не могу быть таким старым!
— Уйдем, отец, очень уж здесь сыро и мрачно, — сказал сын и увел его прочь.
Затем, бесцельно блуждая по окрестностям, они увидели пахаря. Медленно направившись к нему, скиталец встретил его возле кучки разбитых, опаленных кирпичей, похожей на опрокинувшуюся печную трубу; рядом виднелись обтесанные черные камни — там и сям к ним лепился тощий лишайник, круглый, цепкий и безобразный, как сургучная печать судебного исполнителя. Когда пахарь уже хотел остановить волов, его плуг вдруг качнулся, внезапно наткнувшись на камень, скрытый в земле возле развалин.
— Ну вот, двадцатый год подряд мой плуг задевает этот старый очаг. Жаркий сегодня денек, дедушка!
— Чей дом тут стоял, друг? — спросил скиталец, дотрагиваясь посохом до полузасыпанного землей очага там, где по нему пролегла свежая борозда.
— Не знаю. Фамилию знал, да забыл. Точно не скажу, а кажется, на запад уехали. Знакомые вам?
Но скиталец не отвечал, глаза его были прикованы к впадине на одном из обросших лишайником камней.
— Что ты увидел, отец?
— «Отец»! Вот тут, — он ковырнул посохом землю, — вот тут сидел мой отец, вот тут сидела мать, а я, еще несмышленый ребенок, ковылял между ними, как ковыляю опять на этом же самом месте, но только без крыши над головой. Концы сходятся. Запахивай, друг.
Теперь нам, следующим за этой жизнью, лучше поспешить к заключению, как поспешала она сама.
Остается сказать немного.
Некая прихоть закона воспрепятствовала ему получить пенсию. И шрамы на груди так и остались его единственным орденом. Он продиктовал небольшую книжку — повесть о своей судьбе. Но она давно уже исчезла с лица земли, он сам — из числа живущих, его имя — из памяти людской. Он умер в тот день, когда ураган сломал самый старый дуб в его родных горах.
КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ К РОМАНУ Г. МЕЛВИЛЛА «ИЗРАИЛЬ ПОТТЕР. ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ ЕГО ИЗГНАНИЯ»
А. Елистратова
ПРЕДИСЛОВИЕ К РОМАНУ Г. МЕЛВИЛЛА
«ИЗРАИЛЬ ПОТТЕР. ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ ЕГО ИЗГНАНИЯ»
1966[161]
Осенью 1849 года Герман Мелвилл купил у старьевщика случайно попавшуюся ему под руку ветхую, давно позабытую лубочную книжку, изданную четверть века назад. На обложке был нарисован высокий, но сгорбленный, с трудом передвигающий ноги старик в лохмотьях, со связкой тростника за спиной, в сопровождении мальчика-подростка, несущего такую же связку, и бедно одетой женщины с плетеным сиденьем в руке. Надпись «Стулья починяю!» поясняла смысл рисунка. Книжка содержала краткую историю Израиля Поттера, уроженца Род-Айленда, участника войны за независимость США, трижды раненного в исторической битве при Банкер-Хилле. Попав в плен к англичанам, он полвека провел в глубокой нищете в Лондоне, занимаясь починкой стульев, и лишь на 79-м году жизни смог, с помощью американского консула, вернуться на родину.
Отсюда можно вести начало замысла романа Мелвилла «Израиль Поттер. Пятьдесят лет его изгнания», написанного пятью годами позже. Роман печатался отдельными выпусками в журнале «Патнэм мэгезин» с июля 1854 года и был издан отдельной книгой в 1855 году.
Посылая редактору журнала первые главы рукописи, Мелвилл писал: «Я обязуюсь не допускать в этой истории ничего, что могло бы задеть щепетильных читателей. В ней будет очень мало размышлений; ничего тяжеловесного. Это — приключения. Постараюсь, насколько смогу, сделать их интересными…»
Нельзя не почувствовать горечи, скрытой между строк этого письма.
Все, что давно наболело и мучило писателя, невольно высказалось здесь.
Мелвилл (1819–1891), которому в эту пору еще не исполнилось тридцати пяти лет, достиг полной творческой зрелости. За предыдущие пять лет он опубликовал (не говоря уже о множестве очерков и рассказов) один за другим пять романов — «Марди» (1849), «Редберн: его первое путешествие» (1849), «Белый Бушлат, или Жизнь на военном корабле» (1850), «Моби Дик, или Белый кит» (1851) и «Пьер» (1852), — книги, очень непохожие ни друг на друга, ни на то, к чему привыкли тогдашние американские читатели.
Его талант — страстный, энергический и непримиримый — заявлял о себе поисками новых, неожиданных тем и образов и смелых решений. Привычные соотношения вещей внезапно смещались, обнаруживая зияющие пропасти. Доподлинно житейское, как бы просвеченное насквозь мощными лучами романтического воображения художника, то оборачивалось комическим или омерзительным гротеском, то захватывало дух своим трагическим величием.
Палуба китобойного судна («Моби Дик») или военного корабля («Белый Бушлат») оказывалась прообразом целого общества, а схватка китобоев со свирепым Белым китом — символом борьбы человека с несправедливой судьбой. В сказочную историю поисков юной красавицы Йиллы, похищенной злыми колдунами, вплетались самые злободневные, гневно-обличительные картины современной политической жизни Соединенных Штатов, Англии и других стран («Марди»). Благополучнейшая семейная идиллия оказывалась построенной на обмане и фальши, разоблачение которых стоило жизни и герою и героиням («Пьер»). Собственническая «цивилизация» выступала в столь невыгодном свете, что надежнейшего друга, полного доброты, благородства и человеческого достоинства, можно было обрести разве лишь в лице полинезийского дикаря, охотника за головами («Моби Дик»).
Эта лавина парадоксов, иронических аналогий, символических обобщений, вырастающих из частных фактов, ошеломила и озадачила и публику и критиков. Произведения Мелвилла встречали все более настороженный и неодобрительный прием. «Претенциозное хитросплетение, сквозь которое кое-где проглядывают крупицы настоящего золота», — писал о романе «Марди» журнал «Грэм'с мэгезин». Рецензент из «Америкен ревью» был еще суровее: «Как это ни печально, надо признать, что в этой книге мистер Мелвилл потерпел фиаско… Каждая страница, без сомнения, свидетельствует о таланте автора и о легкости его пера, но вместе с тем также и о его педантстве и напыщенности». Не лучше был принят и «Моби Дик», ныне по праву признаваемый шедевром Мелвилла. «Книга, лежащая перед нами, — еще одно разочарование, — писал рецензент бостонского литературного журнала «Тудэй». — Это курьезная смесь фактов и фантазии… На эту смесь наброшен покров мечтательного философствования и невнятных размышлений, вполне достаточный для того, чтобы затемнить смысл описываемых фактов, что, по нашему мнению, не улучшает романа». «Демократик ревью» отозвался о книге еще более резко: «Мистер Мелвилл явно старается определить, как далеко простирается снисходительность публики… Он испытывает одновременно и нашу доверчивость, и наше терпение… По правде сказать, мистер Мелвилл пережил свою репутацию… Своим тщеславием он погубил не только свои шансы на бессмертие, но даже свое доброе имя у современников… Из этого больного самомнения… проистекают все потуги мистера Мелвилла, все его риторические выверты, вся его обличительная декламация против общества, вся его раздутая сентиментальность и въедливая безнравственность». Отметим особенно раздражившее критика «обличительное» отношение Мелвилла к обществу. То же обвинение встретится нам снова в отзывах о «Пьере» — романе, непосредственно предшествовавшем «Израилю Поттеру». «Это сочинение, по общему мнению, неудачно», — писал сравнительно сдержанный «Грэм'с мэгезин». Зато «Саутерн куортерли ревью» попросту объявил Мелвилла сумасшедшим: «Чем скорее автора отправят в больницу, тем лучше. Если же его оставят на свободе, то, во всяком случае, нельзя больше допускать его к перу и чернилам… В противном случае, он причинит тяжкий вред себе — или своим милейшим издателям». Журнал «Америкен виг ревью» посвятил девять страниц разгрому книги. Подхватывая предположение предыдущего рецензента о сумасшествии писателя, критик, однако, не довольствовался этим: «Мистер Мелвилл совершил… нечто такое, что нельзя извинить даже помешательством. Он мог бы дойти до предела безумия; мог бы рвать в клочья наш бедный язык…мог бы нагромождать слово на слово и прилагательное на прилагательное, пока не соорудил бы пирамиду бессмыслицы… пусть бы он сделал все это, и даже большее, — мы бы не жаловались. Но когда он осмеливается оскорблять все принципы добродетели; когда он замахивается кощунственной, хотя, по счастию, слабой рукой на самые основы общества, мы сознаем, что наш долг… предостеречь публику, чтобы она не принимала столь омерзительных доктрин».
Эти отзывы дают представление о том, в какой атмосфере враждебности и недоверия пришлось Мелвиллу работать над «Израилем Поттером». Это не было следствием недоразумения. Недаром, наряду с упреками в странности, причудливости и непонятности его сочинений, критика, как мы видели, предъявляла писателю и более веское обвинение — в том, что он посягнул «на самые основы общества». Это обвинение имело под собой реальную почву. Ошибка критиков Мелвилла заключалась, пожалуй, лишь в том, что они усмотрели эту тенденцию лишь в «Моби Дике» и «Пьере».
Между тем конфликт Мелвилла с американским обществом имел давнюю историю. Начало его обозначилось уже в первых книгах писателя — «Тайпи» (1846) и «Ому» (1847).
Возникновение этих книг было окружено ореолом романтической легенды, что сделало их особенно привлекательными для читателей. В начале 1841 года Мелвилл ушел в море матросом на китобойной судне «Акушнет». Это было его второе плаванье. Перед этим юноша успел перепробовать много профессий. После того как его отец, состоятельный нью-йоркский коммерсант, разорился и умер, оставив жену и восемь человек детей без всяких средств к существованию, Герман в тринадцать лет поступил клерком в банк, батрачил на ферме, помогал старшему брату торговать мехами, учился землемерному делу, учительствовал в сельских школах. Свое первое плаванье из Нью-Йорка в Ливерпуль он описал впоследствии в автобиографическом романе «Редберн». Второй рейс оказался гораздо более драматичным. Возмущенный тираническими порядками на борту корабля и жестокостью капитана, Мелвилл со своим приятелем-матросом Тоби Грином решил дезертировать и осуществил этот замысел, когда «Акушнет» стал на якорь в заливе Нуку-Хива, у Маркизских островов.
Не зная местности, беглецы заблудились в горах, попали в непроходимые тропические заросли, сквозь которые принуждены были пробираться ползком, как змеи, преодолевали головокружительные пропасти и, наконец, вышли в долину, населенную тем самым племенем туземцев, встречи с которым они всячески старались избежать. Это были «тайпи», слывшие отъявленными людоедами. Они, однако, оказали пришельцам радушный прием, и Мелвилл прожил среди них около месяца. Описание этой «робинзонады» и размышления над сравнительными преимуществами естественной и свободной жизни «дикарей» и столь непохожей на нее собственнической «цивилизации» легли в основу книги «Тайпи», написанной Мелвиллом по возвращении на родину. Само это возвращение было сопряжено со многими опасностями и приключениями. Бежав от своих друзей-тайпи, чьи каннибальские повадки не могли его не тревожить, несмотря на все их гостеприимство, Мелвилл был взят на борт австралийского китобойного судна «Люси Энн». Команда «Люси Энн» взбунтовалась; Мелвилл в числе других мятежников был высажен на остров Таити, где находился под стражей, пока не закончилось разбирательство дела. Только в августе 1843 года ему удалось снова поступить матросом на американский военный корабль, направлявшийся из Гонолулу в США. Эта автобиографическая канва была использована Мелвиллом в книге «Ому», служившей продолжением «Тайпи».
Обе эти книги имели большой успех. Большинство читателей, однако, восприняло их просто как увлекательный рассказ о путешествиях и приключениях в далеких заморских краях. За Мелвиллом на всю жизнь прочно укрепилось прозвище: «Человек, который жил среди людоедов». Между тем и «Тайпи» и «Ому» представляли собой нечто более значительное, чем простой путевой дневник. Трудно сказать, каков именно был сравнительный удельный вес поэтического вымысла и подлинных фактов в этих книгах. Но несомненно то, что и в «Тайпи» и в «Ому» проявились и социально-утопические идеи молодого писателя, противопоставлявшего порокам буржуазного мира естественную, гармоническую и человечную — да, человечную, даже несмотря на каннибализм! — жизнь «дикарей», не знающих ни частной собственности, ни эксплуатации, ни имущественного неравенства. Недаром английский критик из журнала «Атенеум» обратил внимание на сходство первых книг Мелвилла с романтической поэмой Байрона «Остров», где также на основе документальных данных была воссоздана история взбунтовавшихся моряков, которые впервые приобщились к свободе и счастью среди первобытных полинезийских племен.
писал Байрон.
Социально-утопические идеи носились в воздухе в США в то время, когда молодой Мелвилл, вернувшись из своих скитаний, писал «Тайпи» и «Ому». Именно к 1841–1847 годам относится существование знаменитой общины «Брук-фарм», устроители которой надеялись осуществить программу Фурье, сочетая совместный труд на общинной земле с интенсивной творческой духовной жизнью. Эксперимент «Брук-фарм» потерпел неудачу, но оставил все же глубокий след в истории американской демократической культуры. То же можно сказать и о другом замечательном социально-утопическом эксперименте, предпринятом в одиночку Дэвидом Генри Торо в 1845–1847 годах, когда он попытался «отключиться» от всех связей с миром «чистогана». В книге «Уолден, или Жизнь в лесу» Торо рассказал о том, как, подобно новому, добровольному Робинзону, он поселился в лесной глуши, в собственноручно построенной хижине, и жил своим трудом, питаясь овощами, выращенными на распаханной им самим целине, и рыбой, выловленной в озере. Торо умер от туберкулеза, но его книга и идеи, в ней воплощенные, живут и поныне.
Противопоставление власти доллара иных, естественных и гармонических форм человеческого общежития, не оскверненных ни ханжеством, ни расчетом, составляет подтекст обеих первых книг Мелвилла. Как замечает советский исследователь творчества Мелвилла Ю.В. Ковалев, читатель «Тайпи» и «Ому» скоро начинает сомневаться — «так ли прост этот матрос, как он хочет казаться».[162]
Да, признает Мелвилл, тайпи пожирают тела убитых врагов; но разве цивилизованное общество не обрекает своих собственных граждан на стократ худшие муки? «Дьявольское хитроумие, с каким мы изобретаем всевозможные смертоносные орудия, мстительная злоба, с какой мы ведем наши войны, сеющие горе и опустошение, — разве этого не достаточно, чтобы охарактеризовать цивилизованного человека как самое свирепое животное на земле?» Когда Мелвилл составлял язвительный перечень всех «благ» цивилизации, каких лишены жители Маркизских островов, ему, наверное, вспоминались горькие, хмурые годы его отрочества после разорения и смерти отца. Там нет «…ни опротестованных векселей, ни назойливых кредиторов, ни крючкотворов-адвокатов; нет бедных родственников, стыдливо занимающих место за чужим столом; нет неимущих вдов с детьми, живущих впроголодь на подачки холодных филантропов, нет нищих, нет долговых тюрем, нет надменных и жестокосердых набобов, — одним словом, нет Денег! Этот „корень всех зол“ неизвестен в долине».
Труд туземцев — постройка лодки, добывание огня, рыбная ловля, полировка украшений — легок и весел, как забава.
Прелестная Фэйевей — героиня «Тайпи» — живое воплощение расцвета естественной человечности. Мелвилл вспоминает ее «странные синие глаза», то непроницаемые, то сверкающие, «как звезды», ее темно-каштановые кудри, ниспадавшие на обнаженную грудь, ее нежную кожу. Но он отчаивается передать словами все очарование этого юного существа. «Дитя природы», она выросла среди вечного лета, вскормлена «простыми плодами земли» и, главное, наслаждалась всю жизнь «совершенной свободой от забот и тревоги». Отсюда — ее неповторимая грация; она кажется сама частью того водопада, в струях которого купается, частью моря, по которому стремит свой челн, обратив в парус свою легкую одежду… Ни в одной из своих позднейших книг, посвященных «цивилизованной» Америке, Мелвилл не создал женского образа, который мог бы сравниться с поэтической фигурой Фэйевей.
Критическое отношение к буржуазной цивилизации, проявившееся уже в первых книгах Мелвилла, обостряется в дальнейшем. Его роман «Марди» был сложной философско-политической аллегорией, полной сатирических намеков на современность. Фантастические странствия героев в тщетных поисках похищенной Йиллы (Свободы? Красоты? Гармонии бытия?) приводили их в разные страны. В надменной Доминоре угадывалась Англия. Эта страна несметных богатств кажется сперва прекрасным зеленым садом. Но в ней слышны стоны голодных: «Хлеба! Хлеба!» Люди со связанными за спиной руками (безработные) ропщут на машины, которые по воле злого волшебника (капитала) лишили их работы. Стучат колдовские станки, бьют о наковальни тяжкие молоты, жужжат веретена в зловещей пещере, где нет больше места людям. Толпа повстанцев с красными знаменами, вооруженная дубинами, молотами и серпами, осаждает королевский дворец. Но их предводители — шесть коварных масок — заманивают восставших в ловушку, на верную смерть, — это были предатели, подкупленные королем… Здесь, как и во многих других главах «Марди», можно уловить прямые отголоски недавних политических событий в Европе. Разгром чартизма, поражение революций 1848–1849 годов глубоко потрясли Мелвилла, и он воссоздал их в романтически-сказочных образах своего романа.
А Америка? Ее можно легко узнать в аллегорическом изображении Вивенцы. Подплыв к ее берегам, путешественники читают на арке, под которой возвышается статуя богини — покровительницы Вивенцы, горделивые слова: «В этой республиканской стране все люди рождены свободными и равными». Но, приглядевшись внимательней, они замечают в углу другую надпись: «За исключением племени Хамо». «Это аннулирует все остальное», — восклицают путники.
Жители Вивенцы встречают вновь прибывших шумной похвальбой. Они хвастают всем — своим ростом, крепостью мускулов, просторами своей страны. Приезжих ведут в Храм свободы. «На верху храма было укреплено древко; когда мы приблизились, мы увидели, как человек в ошейнике, со спиной, исполосованной плетьми, подымал флаг из материи с такими же полосами». Свобода Вивенцы оказывается мнимой. Бедность и здесь пресмыкается перед богатством. Чем дальше на юг страны устремляются путники, тем мрачнее картины, представляющиеся их глазам. Кровью и потом рабов залита земля Вивенцы. «Здесь труд разучился смеяться», — восклицает поэт Юми. Уже не надеясь, как раньше, найти в Вивенце утраченную Йиллу, он призывает небесные громы и молнии на «эту проклятую страну».
В «Марди», за десять лет до того, как вспыхнула Гражданская война Севера и Юга, Мелвилл прозорливо предсказывает ее приближение. «Эти саванны Юга могут еще стать полями сражений», — говорит один из его героев. Юми хотел бы, чтобы рабы смогли освободиться без кровопролития. «Но… если не будет иного пути и господа их не смилуются, каждый, кто честен сердцем, должен пожелать победы племени Хамо, хотя бы им и пришлось перерубать свои цепи трехгранным мечом, по самую рукоять обагренным в крови».
Надо ли удивляться тому, что гневная сатира на лицемерие американской республики, просвечивающая сквозь причудливую фантастику романа «Марди», навлекла на Мелвилла целую бурю нападок? Но вместе с тем, строй образов «Марди» был слишком сложен, романтическая аллегория — слишком запутана, чтобы эта книга смогла стать популярной в народе. Не был понят и принят современниками — опять-таки, главным образом, из-за своей романтической сложности и символической многоплановости — и «Мо-би Дик», где тяжкий и опасный труд китобоев предстал как подвиг, достойный эпического изображения, прообраз всех исканий человечества.
Остро ощущая свою враждебность общественным верхам США, Мелвилл как писатель мучительно сознавал вместе с тем и свое отчуждение от народа, судьбы которого так тревожили его.
В середине 50-х годов в его творчестве усиливается, с одной стороны, социально-критическая тенденция. Характерен, например, замечательный публицистический очерк-памфлет «Пудинг бедняка и крошки богача» (1854). Опровергая миф о всеобщем благоденствии американского народа, Мелвилл доказывает, что для неимущих американцев их бедность еще мучительнее благодаря «болезненному контрасту между их идеалом всеобщего равенства и сокрушительным опытом реальной нищеты». Мука и унижение бедности, — заключает Мелвилл, — «есть, были и будут совершенно одинаковы в Индии, в Англии и в Америке».
Но с другой стороны, одновременно с этими попытками активного вторжения в общественную жизнь в творчестве Мелвилла этого периода настойчиво возникает, в разных вариантах, одна и та же трагическая тема неизбывного человеческого одиночества. Тема эта воплощается с огромной художественной выразительностью в новелле «Писец Бартльби. Уоллстритская повесть» (1853), где показано постепенное угасание живой человеческой личности, выброшенной из жизни как старая, никому не нужная вещь. Та же тема возникает и в цикле рассказов «Энкантадас» (1854), в истории женщины, прожившей много лет на необитаемом острове, которой долгожданная встреча с людьми не принесла ничего, кроме жестокой обиды и еще большего, безнадежного одиночества.
Обе эти тенденции творчества Мелвилла проявились в романе «Израиль Поттер».
Это была книга о прошлом; но вместе с тем мысль автора невольно обращалась и к будущему.
Мелвилл писал о временах войны за независимость США, о событиях восьмидесятилетней давности. Но замысел «Израиля Поттера» может быть по-настоящему понят только в том случае, если мы вспомним, что роман этот создавался в преддверии новой междоусобной войны — Гражданской войны Севера и Юга. Первые ее зарницы уже окрашивали политический небосклон Соединенных Штатов. Историки называют Гражданской войной в Канзасе те вооруженные столкновения, которые разгорелись на этой порубежной территории между плантаторским Югом и фермерским Севером как раз в 1854 году — в год создания романа Мелвилла — и затянулись на несколько лет. Как помним, уже в «Марди» Мелвилл предсказывал неизбежность кровавой революционной борьбы, назревающей в недрах американского общества. Работая над «Израилем Поттером», он задумывался не только над тем историческим подвигом, который осуществил в 1775–1783 годах народ американских колоний, восставший против английской монархии; он думал и о новом подвиге, который предстояло совершить американскому народу в борьбе против рабовладения.
Почти одновременное появление в середине 50-х годов таких замечательных, классических произведений литературы США, как «Израиль Поттер» (1855) Мелвилла, «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854) Торо и «Листья травы» (1855) Уитмена, не может рассматриваться как случайное совпадение. Демократический подъем, происходивший в грозовой атмосфере этих предвоенных лет, требовал выяснения того, что же представляет собой американский национальный характер, каков должен быть американский образ жизни, мыслей и чувствований.
Многозначителен был самый выбор героя Мелвилла — человека, внешне ничем не примечательного, если не считать главного — живой крестьянской сметки, отваги, упорства и безграничной преданности своей родине.
Предки Мелвилла сыграли видную роль в Войне за независимость. Его дед по отцу, Томас Мелвилл, был одним из участников знаменитого «бостонского чаепития» 1773 года, когда бостонцы, в знак протеста против ненавистных английских пошлин на чай, ворвались, переодетые индейцами, на стоявшие в гавани суда и сбросили в море несколько сот тюков с чаем. В доме Мелвиллов хранилась как фамильная реликвия склянка с чаем, вытряхнутым из одежды Томаса Мелвилла после этой отчаянной вылазки. Хорошо знал Герман и о воинских заслугах своего деда по матери, Питера Гэнсворта, который в чине генерала оборонял от англичан форт Стэнвикс. Огромный барабан, отнятый им у англичан в числе других боевых трофеев, также бережно сохранялся как историческая достопримечательность. Имя Гэнсворта было даже присвоено одной из улиц Нью-Йорка.
Эти семейные предания могли бы составить канву занимательного и вполне респектабельного романа о войне за независимость Соединенных Штатов, показанной с точки зрения американских общественных верхов. Мелвилл, однако, предпочел поставить в центре своей книги не именитых и состоятельных коммерсантов и землевладельцев, а безродного и неимущего Израиля Поттера. Сын массачусетского фермера, он, не поладив с отцом, много лет скитался по суше и морю — то батрак, то землемер, то охотник и зверолов, то фермер, распахивающий целину, то коробейник, то гарпунщик на китобойном судне… Эта суровая юность — повторяющая миллионы других человеческих судеб — была, как подчеркивает Мелвилл, великолепной школой для будущих солдат революционной войны, школой терпения и упорства, редкой выносливости, находчивости и меткой стрельбы.
Израиль Поттер Мелвилла имел своих предшественников в литературе США. Фенимор Купер недаром принадлежал с детства к числу любимых писателей Мелвилла. «Знакомство с его сочинениями относится к самым ранним моим воспоминаниям, — писал он о Купере. — Когда я был мальчиком, они живо возбуждали мой ум». Став профессиональным литератором, он не раз рецензировал романы Купера, а после смерти создателя «Кожаного Чулка» в 1851 году с горечью писал о мелочных обстоятельствах, временно затуманивших его славу. Купер — «человек могучей души» — оставил по себе память, которая, утверждал Мелвилл, «драгоценна не только для американской литературы, но и для американского народа».
Такие герои Купера, как Гарви Берч (роман «Шпион») и Натти Бампо (пять романов о «Кожаном Чулке»), особенно близки по своему нравственному и социальному облику к образу Израиля Поттера. Их героизм — не заметен. Эти простые, неприметные, мужественные и бескорыстные люди делают историю, оставаясь в тени, в то время как другие пожинают плоды их самоотверженной деятельности. Коробейник Гарви Берч — разведчик генерала Вашингтона — переходит через линию фронта, доставляя американскому командованию драгоценные сведения о передвижениях и планах английских войск. Но его подвиг остается никому не известным, а от платы за него он наотрез отказывается сам.
Натти Бампо — отважный охотник и зверолов — прокладывает пути первым пионерам-поселенцам в дебрях пограничной полосы, — а сам, вместе со своим другом, старым индейцем из племени могикан, оказывается в положении бездомного, поставленного вне закона бродяги-отщепенца, которому негде преклонить голову.
В драматизме личных судеб этих персонажей Купера отразились действительные противоречия социально-исторического развития Соединенных Штатов. Но в романах Купера было вместе с тем немало ходульных условностей и романтических прикрас. Следуя старой традиции, Купер заставлял своих подлинных, важнейших героев — Гарви Берча или Натти Бампо — играть роль винтика в громоздком механизме романической любовной интриги и устраивать счастье изящных, но бесцветных молодых леди и джентльменов. Мелвилл смело и решительно разделался с этими традиционными условностями.
С демонстративной суровостью он строит свой исторический роман как роман без любви, — ведь все, что он находит нужным сказать о несчастной любви молодого Поттера к его соседке — милой, но безвольной девушке, — умещается на одной-двух страницах печатного текста.
Такой поворот сюжета был вызван не столько пуританской сдержанностью писателя (Мелвилл мог быть, как показал уже его роман «Пьер», очень смелым в трактовке «запретных» вопросов пола), сколько тем, что ему не хотелось рассиропить социальную трагедию своего героя сахарной водицей традиционной сентиментальности.
Израиль Поттер, при всей своей индивидуальной неповторимости, был для Мелвилла вместе с тем и собирательным воплощением всего трудового народа американских колоний, который вынес на своих плечах великие тяготы войны за независимость США.
Что же дала победа в войне этому народу?
Таков был главный вопрос, занимавший автора «Израиля Поттера».
Герой Мелвилла совершает чудеса находчивости и отваги. Он первым бросается на абордаж вражеского судна и, безоружный, обращает в бегство толпу английских обывателей во время налета американцев на Уайтхейвен. Он не теряется в труднейших обстоятельствах. Чувство юмора выручает его иной раз не хуже, чем врожденная храбрость. В случае необходимости он может даже разыграть роль привидения или обменяться одеждой с огородным пугалом. Ничто не может, однако, заставить его поступиться своими принципами. Упрямый в своем демократизме, как истый янки, он не в силах титуловать своих знатных английских собеседников даже тогда, когда это требуется ради конспирации; полный достоинства, как равный с равным разговаривает он с самим королем Георгом III, когда случай сводит их лицом к лицу.
Отступая иногда по своему усмотрению от текста старой биографии исторического Израиля Поттера, Мелвилл заставляет своего героя быть в самой гуще событий. Поттер служит связным между английскими республиканцами и Бенджамином Франклином, представляющим интересы американских колоний в Париже, при дворе Людовика XVI. Под началом Поля Джонса (также реального исторического лица, изображенного ранее Купером в более романтических тонах в «Лоцмане») он участвует в легендарных морских сражениях между кораблями молодого американского флота и мощными английскими фрегатами. Но что же? «Это плаванье принесло Полю славу героя — особенно при французском дворе, тем более что король Людовик прислал ему шпагу и орден. Но бедняга Израиль, который также захватил вражеское судно, да еще в одиночку, — что получил он?»
Этот вопрос, которым обрывается семнадцатая глава романа, подчеркивает главную его мысль и предопределяет дальнейшее развитие действия.
Сталкивая Израиля Поттера с видными деятелями Войны за независимость — Франклином, Джонсом и другими, Мелвилл показывает, как далеки они от нужд простого народа. Они охотно и умело используют Израиля Поттера как свое орудие; но они менее всего озабочены его потребностями и интересами. Иногда Мелвилл даже несколько смещает историческую перспективу, сгущая краски, чтобы нагляднее показать пропасть между «верхами» и «низами» в американской революции.
В главе, посвященной блестящей международной деятельности Франклина — дипломата и идеолога молодого американского государства, — Мелвилл не без иронии сравнивает его с библейским патриархом Иаковом, прославленным своим лукавством и расчетливостью. В сценах знакомства Поттера с Франклином автор драматически раскрывает контраст двух противоположных натур. Доверчивый, непосредственный, по-детски радующийся жизни Поттер на каждом шару наталкивается на рассудочную, сухую дидактику Франклина, призывающего его к самоограничению, умеренности и бережливости. «Каждый раз, как он сюда заходит, он меня грабит», — горестно восклицает Поттер. Великий ученый и просветитель, Франклин предстает в этих эпизодах романа главным образом как проповедник буржуазной деловитости.
Критически осмыслен писателем и образ другого деятеля американской революции, одного из первых флотоводцев США Поля Джонса. При всей своей отчаянной храбрости, Поль Джонс — хищник и авантюрис.[163] Задумываясь над этим последним характером, Мелвилл позволяет себе высказать даже горькое историческое «пророчество» — уж не окажется ли Америка «Полем Джонсом среди наций», такой же «беспринципной, отчаянной, хищной, безгранично честолюбивой, прячущей дикарскую сущность под маской цивилизации»? Над этим пророчеством стоит призадуматься и ныне — до сих пор оно не опровергнуто историей.
Развитие сюжета романа делает очевидным, что в будущей, еще только освобождающейся от колониальной зависимости республике к власти рвутся не те, кто выносит на себе всю тяжесть освободительной войны. Израиль Поттер — озабоченный только тем, чтобы выполнить свой долг, куда бы ни бросила его судьба, — не из тех, кто будет вершить дела правления в новой заокеанской державе. Без него не обошлись в сражении при Банкер-Хилле, возвестившем начало войны. Без него не обошлись в легендарном бою «Бедного Ричарда» с «Сераписом», где американский флот впервые нанес тяжелый урон английскому. Но без него сумели превосходно обойтись при дележе победных трофеев, при устроении государственной машины США; о нем попросту даже и не вспомнили.
Финал романа, в этом смысле, не только следует фактам подлинной биографии Израиля Поттера, но имеет и символический, «прообразующий» смысл.
От каких только опасностей не ускользал Поттер в боях благодаря своей ловкости, уму и отваге! Но есть противники, против которых он бессилен — это глубочайшее, предательское равнодушие его «друзей» за океаном и беспросветная нищета, которая засасывает его, как трясина, в Англии, стране его врагов.
Последние главы романа, рассказывающие о бедственном существовании Поттера в Лондоне, на первый взгляд могут показаться менее яркими и менее драматичными, чем те, где говорилось о его боевых подвигах. Но это — только первое впечатление. Мелвилл обнаруживает замечательное художественное мастерство, передавая трагизм этой жизни, богатой такими героическими возможностями и растраченной втуне в неравной борьбе с нищетой. Лондон Мелвилла — страшен. Это своего рода символическое образное обобщение всех античеловеческих сил «цивилизации», которые перемалывают, порабощают и губят личность. В нем можно исчезнуть, пропав бесследно, как в джунглях. Его «тайные расселины, пропасти, пещеры и ущелья» — ужаснее, чем все, что могло придумать воображение поэтов. Никто из прозаиков XIX века, может быть, не писал об индустриальном Лондоне столь зловеще и мрачно, как Мелвилл. Недаром его называли иногда «американским Блейком». Только в «Песнях опыта» и «Пророческих книгах» этого английского поэта-романтика можно найти столь же смелые, трагически напряженные образы, рисующие городской пейзаж, где все говорит о враждебности человеку этого мира, хотя он и создан человеческими же руками.
Закопченные мосты вздымаются над рекой, подобно траурным погребальным аркам. Сама Темза, отравленная соседством людских скопищ, кажется огромной клоакой. Поток пешеходов, телег, карет судорожно устремляется по извилистым дорогам: кажется, будто злобное племя кентавров гонит через Флегетон измученное человечество. Улицы черны, как штреки угольных шахт; даже гладкие плиты мостовых напоминают могильные надгробия…
Эти зловещие образы возвещают недоброе: Лондон действительно станет огромной могилой, которая поглотит Израиля Поттера заживо. Попав туда в расцвете лет, он вырвется оттуда лишь через полвека, дряхлым, сломленным нуждой, болезнями и лишениями стариком. Меж тем успеют отшуметь бури Войны за независимость; сойдут со сцены и Франклины, и Поли Джонсы. Соединенные Штаты станут мощной мировой державой. А Израиль Поттер будет по-прежнему прозябать в трущобах Лондона, починяя старые стулья!
Социально-политический смысл этого поворота действия очевиден, и он полон глубочайшей, горькой иронии.
Когда-то, в год рождения Мелвилла, один из родоначальников американской прозы, Вашингтон Ирвинг, опубликовал рассказ «Рип Ван Винкль» на схожую, по видимости, тему. Его герой — незадачливый фермер с берегов Гудзона — умудрился, хлебнув колдовского зелья, заснуть на двадцать лет. Он проспал всю Войну за независимость и вернулся в незнакомый мир, в деревушку, где его с трудом признали своим. Но этот романтический рассказ о беге времени был полон благодушного юмора. Возвращение Рипа Ван Винкля к действительности было сопряжено лишь с комическими недоразумениями, и он легко нашел себе уютный уголок в новой, незнакомой ему Америке.
Совершенно иначе выглядит возвращение на родину Израиля Поттера. Основываясь на библейских ассоциациях, вызываемых пуританским именем его героя, Мелвилл называет одну из последних глав своей книги «Израиль в Египте», напоминая о легендарном пленении порабощенных израильских племен. Но в Библии повествовалось и о том, как этим племенам, после многих тяжких испытаний, удалось найти счастливую обетованную землю. О ней мечтает, в злые годы своего «пленения» в Лондоне, и Израиль Поттер. Для него обетованная земля — это, конечно, Америка, за которую он сражался, которой пожертвовал всем. Именно так, как о сказочных «Счастливых островах Свободных людей», где счастье и изобилие равно доступны всем до самого последнего труженика, рассказывает он в угрюмые зимние вечера у себя на чердаке своему сыну, родившемуся в Лондоне, о заокеанском Новом Свете.
Но возвращение в эту обетованную землю оказывается горше, чем само изгнание. Никто не узнает старого Израиля Поттера, и он не узнает родных мест. Пепелище отцовского дома, вырубленные леса, чужие, незнакомые лица — вот все, что находит он в своих краях. Не осталось и никого из соседей, — все продали свой скарб и, гонимые нуждой, отправились на Запад искать удачи. В Бостоне, — где полвека назад, в битве на Банкер-Хилле, получил свои первые раны Израиль Поттер, — он едва не был смят и раздавлен триумфальной процессией, осененной знаменем с надписью: «Банкер-Хилл. 1775. Слава сражавшимся там героям!»
Скупо, несколькими короткими, сдержанными фразами кончает Мелвилл эту печальную повесть об исторической несправедливости. Израилю Поттеру не дали ни награды, ни даже пенсии, — не нашлось нужных бумаг! «И шрамы на груди так и остались его единственным орденом».
Судьба исключительная. И вместе с тем, как понимает читатель, вникая в замысел романа, судьба типическая. Ведь не только о нем одном, Израиле Поттере, идет речь. Речь идет обо всем трудовом народе США, выигравшем в прошлом веке Войну за независимость, а теперь собиравшем силы для новой революционной войны. Не будут ли новые Израили Поттеры, которые пойдут в бой против рабовладения, за свободный труд на свободной земле, так же горько обмануты в своих надеждах, как его герой? Таков был подтекст романа Мелвилла, придававший этому историческому произведению необычайно современный, политически злободневный смысл.
Этого тревожного подтекста предпочла не заметить современная Мелвиллу критика. Было куда спокойнее и проще принять «Израиля Поттера» попросту как приключенческий роман из времен американской революции и рекомендовать его любителям легкого чтения. Только один журнал — «Нейшенал мэгезин» — уловил «оттенок скрытого сарказма», окрашивающий всю книгу и особенно заметный в ее посвящении «Монументу на Банкер-Хилле». Лондонский «Атенеум», кисло отозвавшись об усиливающейся с каждой новой книгой «необузданности» Мелвилла, покровительственно заметил, что охотники до железнодорожного чтения не зря потратят свой шиллинг на «Израиля Поттера», — «если не боятся мелкого шрифта и туманно-выспреннего стиля». Изданная в 1885 году в США «Энциклопедия американской литературы» в статье о Мелвилле констатировала, что «приключения Израиля Поттера, действительного участника революции, не имели заслуженного успеха».
Судьба книги сложилась так же, как судьба ее героя, — и так же, как судьба ее автора.
В новейшем американском литературоведении со времен первого биографа Мелвилла Уивера (1921) прочно укоренилось мнение, что в лице Израиля Поттера писатель аллегорически изобразил самого себя. Такое толкование обходит огромное социально-историческое содержание романа, а потому представляется односторонним. Но в нем есть и доля истины. История Поттера — труженика, бойца и гражданина, непризнанного, отвергнутого и позабытого тем обществом, которому он отдал все свои силы, должна была, в глубине души, многое говорить Мелвиллу, сознававшему, что такая же участь постигла его писательский талант. С этим связана и особая лиричность повествования, в котором все время слышится, сквозь объективный рассказ о смене событий, живая интонация автора — то насмешливая, то грустная, то гневно-саркастическая.
Если рассматривать роман «Израиль Поттер» в свете позднейшей истории самого Мелвилла, то в нем обнаружится своего рода символическое предвидение будущей судьбы писателя. После «Израиля Поттера» Мелвилл опубликовал еще один роман, вовсе не имевший успеха, а затем почти перестал писать. С 1856 года в течение девятнадцати лет он служил на нью-йоркской таможне, аккуратно изо дня в день ходил в должность по той самой улице, которая носила имя его деда, генерала Гэнсворта, а дома выращивал розы в своем садике. Совершенно устранившись из литературной жизни, он кончил свой путь таким же позабытым, непризнанным изгнанником, как и его герой. Смерть его в 1891 году прошла почти незамеченной.
Интерес к творчеству Мелвилла возник лишь после первой мировой войны. Но первые биографы и комментаторы Мелвилла видели в нем по преимуществу символиста и мистика. Глубокие связи его творчества с народной жизнью, а соответственно и действительные масштабы и значение его наследия проясняются лишь постепенно, как выступают из тумана сверкающие вершины снежных гор.
С выходом в свет русского перевода «Израиля Поттера» советский читатель, знавший до сих пор Мелвилла по его первым книгам «Тайпи» и «Ому» и по роману «Моби Дик», сможет полнее представить себе разносторонний творческий облик этого замечательного, смелого художника, недооцененного своими современниками.
Юрий Витальевич Ковалев
ПОСЛЕСЛОВИЕ К РОМАНУ Г. МЕЛВИЛЛА
«ИЗРАИЛЬ ПОТТЕР. ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ ЕГО ИЗГНАНИЯ»
1987[164]
Первоначальный замысел «Израиля Поттера» возник у Мелвилла в конце 1840-х гг., когда ему в руки попала небольшая, дурно изданная книжка, вышедшая в Провиденсе еще в 1825 г. Она называлась «Жизнь и удивительные приключения Израиля Поттера». Автором ее был сам Израиль Поттер, рядовой участник Войны за независимость, попавший в плен к англичанам и проживший полвека в Лондоне в беспросветной нищете. Только перед концом жизни ему удалось вернуться на родину, где он употребил последние годы на подробное описание собственных мытарств.
Сочинение Поттера натолкнуло Мелвилла на мысль написать исторический роман о нищем бедняке — солдате революции. В течение нескольких лет он понемногу собирал материал, читал исторические труды, мемуарную и художественную литературу и только в 1853 г. вплотную принялся за работу. Роман писался по необходимости быстро, поскольку Мелвилл печатал его частями в нью-йоркском «Журнале Патнэма» в 1854 г. В 1855 г. «Израиль Поттер» вышел отдельной книгой, три тиража которой составили в общей сложности две с половиной тысячи экземпляров.
Как исторический роман, «Израиль Поттер» прочно связан с традициями этого жанра в американской литературе. В тексте произведения без труда обнаруживается влияние сочинений Купера, Нийла, Симмза, а в далекой ретроспекции — Вальтера Скотта — родоначальника исторического романа в мировой литературе. Задача первых исторических романов в Америке, таких, скажем, как «Шпион» Купера, заключалась в том, чтобы развернуть перед читателем в художественно-образной форме события социально-политической истории США, героические страницы прошлого, дать выражение национально-патриотическим чувствам, охватившим страну на рубеже 10–20-х гг. XIX в. Неудивительно, что почти все авторы исторических романов той поры обращались к главному событию недолгой истории Соединенных Штатов — к Войне за независимость.
«Израиль Поттер» в данном отношении не является исключением. Эта война — центральное историческое событие в романе. Главный герой — солдат, участник первых сражений при Банкер-Хилле и знаменитого морского боя между английским бригом «Серапис» и американским кораблем «Бедный Ричард». В числе действующих лиц — известные исторические деятели: Б. Франклин, Д.П. Джонс, И. Аллен, Х. Тук и даже английский король Георг III. Многие события в сюжете строго документированы и в точности соответствуют историческим фактам. Вместе с тем «Израиль Поттер» существенно отличается от исторических романов «первого поколения». Во времена Купера и его сподвижников в сознании Америки господствовало оптимистическое представление о миролюбии как непременном атрибуте общественной системы США. Мексиканская война 1846–1848 гг. опрокинула эти представления. Она показала, что американская демократия не исключает милитаризма, что Соединенные Штаты сами, во имя своих отнюдь не бескорыстных интересов, способны приносить в жертву тысячи человеческих жизней. Любопытно, что мексиканская авантюра почти не получила отражения в художественной литературе, но она вызвала к жизни ряд сочинений, в которых обнаруживался новый взгляд на события прошлого. Возникло сомнение в том, что Война за независимость и англо-американская война 1812–1814 гг. велись исключительно в интересах свободы и демократии. Отсюда был один шаг до понимания того, что плоды нелегкой победы были узурпированы и не достались народу, который их завоевал ценой тягостных жертв. Эта мысль и определила в середине века творческие поиски многих американских писателей, сконцентрировавших свое внимание на судьбах «неизвестных» солдат, тех самых «победителях, не получивших ничего», единственной памятью о которых остался тяжелый и надменный гранит «Его Высочества Монумента на Банкер-Хилле». В числе этих писателей был и Мелвилл. Жизненная история Израиля Поттера, при всей ее необычности, выступает в его романе как символ, обобщающий судьбы тысяч солдат свободы, нищих, обездоленных, сделавшихся ненужными в момент великой победы. Социально-философский кругозор Мелвилла шире, чем взгляды его предшественников. Легко заметить, что «Израиль Поттер» — роман не только о Войне за независимость, но о войне вообще как о явлении, которое непостижимо сопутствует прогрессу человечества. Проблема войны как «безумного» вида человеческой деятельности занимала многих американских романтиков в 1850-е гг. В «Израиле Поттере» она не рассматривается специально, но в беглых замечаниях, кратких афористических авторских отступлениях Мелвилл дает понять, что видит в войне проявление «варварства», все еще не изжитого обществом.
«Израиль Поттер» — это роман о войне и о человеке на войне. Но не только об этом. Война для Мелвилла — неотъемлемая часть общественного бытия, возникающая как неизбежное следствие неких общих законов человеческого поведения, развития нравственной жизни народа и «цивилизации». В своих размышлениях о войне писатель обращается к целому ряду проблем: — социологических, нравственных и даже психологических. Нередко они выдвигаются вперед, оттесняя чисто исторические аспекты на задний план.
Для того чтобы верно оценить содержание «Израиля Поттера», следует помнить, что роман создавался в середине 1850-х гг., когда на горизонте национальной жизни США заполыхали уже первые зарницы грядущей гражданской войны. У многих возникало ощущение, что жизнь нации вышла из-под власти разумных демократических принципов, что нравы современной Америки не укладываются ни в нормы христианской морали, ни в правила просветительской этики. Большинство писателей, в том числе и Мелвилл, мыслили себе грядущую гражданскую войну как грандиозную катастрофу, и даже самые радикальные думали о ней с содроганием. Все они стали горячими патриотами Севера, как только прозвучали первые залпы. Но покуда война не началась, они делали все, что в их силах, дабы предотвратить ее.
Все это доказывает, что «Израиль Поттер» — исторический роман «второго поколения». Вот почему он существенно отличается своей проблематикой и стилистикой от ранних опытов в этом жанре. Романы 20-х гг., например, характеризуются равномерным движением художественного времени, его эквивалентностью времени историческому и астрономическому. Не то у Мелвилла. Первые двадцать два года жизни героя, включая описание его фермерских занятий, охоты, трапперства, торговли с индейцами, плавания на китобойных судах, а также романтическую историю его неудачной любви, занимают всего семь страниц. Последние сорок пять лет жизни Поттера умещаются на девяти страницах. Сражения при Лексингтоне, Конкорде и Банкер-Хилле, служба на сторожевом корабле, плен, переезд в Англию, жизнь в плавучей тюрьме, побег — все это изложено на четырнадцати страницах. Между тем отдельные «малозначительные» эпизоды написаны с редкостной детальностью и тщательностью. И дело здесь не в содержании этих эпизодов. Дело в их совокупности, в общем принципе подхода к материалу. Совершенно очевидно, что Мелвилла занимает не столько социально-политическая сторона истории, сколько нравственно-философская.
Классическим образцом исторического романа «второго поколения» принято считать «Алую букву» Готорна. Это роман из истории нравов, и создавался он с целью выяснить истоки, происхождение побудительных мотивов, определяющих поведение американцев в середине XIX столетия. Существует предположение, что картина нравственной жизни общества в «Алой букве» представляет собой результат попытки обратить современную нравственную проблематику в прошлое. По-видимому, это предположение справедливо.
И Мелвилл в «Израиле Поттере» возводит специфику современных нравов к далекому первоисточнику. В этом есть некоторая условность или, как говорил Готорн, «свобода обращения с фактами». Мелвилл ищет в прошлом некую точку, в которой типичные черты современности могут быть обнажены с максимальной простотой и ясностью. Такой точкой в его системе является историческая личность, характер, выступающий как относительно завершенная этическая система в действии.
Однако соединить в одном характере многочисленные и до крайности противоречивые тенденции, свойственные американской национальной жизни середины XIX века, оказалось невозможно. Тот сплав, который именуют американским национальным характером, должен был еще пройти через горнило гражданской войны, чтобы обрести необходимую степень однородности. Но многие составные элементы этого сплава — психологические, религиозные, нравственные — были очевидны. Поэтому Мелвилл, отказавшись от исследования единого человеческого характера, который содержал бы все элементы, влияющие на общественное развитие нации, принялся за изучение основных типов американского сознания.
Смысловое ядро «Израиля Поттера» составляют наблюдения над жизненными принципами и деятельностью четырех исторических персонажей: Бенджамина Франклина, Поля Джонса, Итена Аллена и самого Израиля Поттера. Скажем сразу, что Мелвилл позволил себе ту свободу обращения с фактами, о которой писал Готорн. Он насильственно свел Поттера с Итеном Алленом и Полем Джонсом, о которых реальный Израиль Поттер, возможно, даже и не слышал. Он заставил своих героев совершать такие действия и произносить такие слова, историческая достоверность которых сомнительна. Но при этом художественная истина не страдала и не искажалась, поскольку все отступления от «правды истории» не противоречили логике характеров. Задача Мелвилла заключалась в том, чтобы поставить своих персонажей в такие обстоятельства и наделить такими свойствами, которые позволили бы ему наилучшим образом объяснить нравы современной Америки. Основной акцент при этом падал не на поступки и слова героев, а на обстоятельный авторский комментарий, сопровождающий их.
Главенствующее положение в системе характеров романа занимает, конечно, Израиль Поттер. Вся книга — о нем и о его судьбе. Вместе с тем индивидуальное своеобразие его внешности, темперамента, психики почти не выявлено. Согласно Мелвиллу, это так и должно быть. Кто такой Израиль Поттер? Рядовой американец. Один из многих тысяч неизвестных участников Войны за независимость. Обширный перечень его профессий должен всего лишь подчеркнуть, что он — простой человек, не владеющий ничем, кроме пары сильных рук и сообразительности. На своем жизненном пути Мелвилл, которому и самому довелось быть матросом, фермером, китобоем, учителем, военным моряком, встречал множество бедняков, подобных Израилю Поттеру. Некоторые из них послужили прототипами персонажей «Ому», «Белого Бушлата», «Редберна», «Моби Дика». В «Израиле Поттере» Мелвилл не стремился воспроизвести тот или иной реальный характер. Его задача состояла в том, чтобы обобщить и упростить человеческий тип, сведя его к нескольким основополагающим чертам, которые мы могли бы определить как черты, присущие американскому народу.
Мелвилл верил в народ. Он был убежден, что позитивные нравственные качества, или «добродетели», дарованы ему природой. Он видел в них проявление здорового инстинкта и естественного здравомыслия. В этом плане взгляды писателя смыкались с идеями просветителей, с одной стороны, и трансцендентальной этикой — с другой. Врожденная внутренняя независимость и естественная духовная свобода определяют все убеждения, слова и поступки Израиля Поттера. Мы должны согласиться, что характер этого персонажа несколько схематичен и лишен индивидуального своеобразия. Мелвилл, конечно, мог бы усложнить его. Но тогда утратилась бы цель его усилий — представить в максимально простом и общем виде черты, которые могли бы составить основу американского национального характера, не будь они затемнены и подавлены ложными понятиями, сомнительными моральными принципами и ошибочными представлениями о смысле человеческой деятельности. Художественное исследование этих понятий, принципов и представлений в романе связано с образом Франклина.
Бенджамин Франклин — выдающийся деятель американской истории. Потомки ценят его как ученого, просветителя, государственного деятеля, политика и дипломата, оказавшего своей стране и человечеству неоценимые услуги. В мелвилловские времена авторитет Франклина был высок и память о нем священна. Главным творением Франклина была его собственная жизнь. Соотечественники гордились тем, что именно Америка произвела на свет этот образец трудолюбия, нравственности и добродетели, прославивший своими успехами третье сословие. Не напрасно главным литературным творением Франклина они считали его автобиографию.
Влияние Франклина на развитие американской буржуазной демократии трудно переоценить. Это влияние мало связано с научной, просветительской или дипломатической деятельностью великого американца. Оно обусловлено созданной им всеобъемлющей этической системой, обосновывающей право третьего сословия на господство и предусматривающей (в перспективе) его социальное расслоение.
Франклин занимал Мелвилла как человек, давший американцам теоретическую основу практицизма, как морализатор и апостол пользы. Он учил соотечественников предприимчивости, деловитости, целеустремленности, трудолюбию. Созданные им афоризмы Бедного Ричарда и «Автобиография» были альфой и омегой буржуазного преуспеяния и буржуазной нравственности. С точки зрения Мелвилла, нравственная система Франклина несла в себе очевидное зло. Она формировала в человеке корыстолюбие, беспринципность, подчиняла себе его ум, характер и волю, лишала его внутренней свободы во имя некой утилитарной необходимости, составлявшей будто бы высшую цель человеческого бытия. Мелвилл принадлежал к тем немногим, кто обнаружил двойственность франклиновской морали, вооружавшей человека для борьбы за богатство (в этом виделась главная цель бытия) и, одновременно, велевшая бедняку трудиться и терпеть, возводя терпение и труд в высшую добродетель. Эта двойственность подчеркнута в романе многократным воспроизведением двух афоризмов из арсенала Бедного Ричарда: «Терпение и труд все перетрут» и «На бога надейся, а сам не плошай».
Мелвилл был убежден, что человек, принявший франклиновскую систему, обречен либо на закабаление тела, либо на развращение души, и в любом случае перестает быть свободным человеком. В отличие от миллионов соотечественников Израиль Поттер не принял моральных «истин» Франклина. Солдат революции, он не захотел расстаться с духовной свободой и внутренней независимостью. Его путь разошелся с путем его родины. И в этом расхождении, как полагает Мелвилл, он был прав, Америка — нет.
Внимательный, склонный к анализу наблюдатель, Мелвилл выделил в качестве важной черты современного американского сознания дух предприимчивости. Сам по себе этот дух, с точки зрения писателя, был фактором скорее положительным, нежели отрицательным или опасным. Все зависело от того, к какой цели была направлена предприимчивость. С чувством глубокой тревоги Мелвилл вынужден был констатировать, что у большинства соотечественников предприимчивость была направлена на приобретение богатства, то есть к цели, санкционированной франклиновской моралью. Писатель ощутил необходимость исследовать возможные последствия взаимодействия нравственной системы доктора Франклина и «неуемного духа яростной предприимчивости». Результатом исследовательского эксперимента Мелвилла явился образ Поля Джонса — талантливого, беспринципного, энергичного и отважного авантюриста, английского моряка, служившего в самых разных флотах мира, в том числе в американском и русском.
Поль Джонс, по замыслу Мелвилла, должен был стать живым воплощением философической формулы, посредством которой писатель определял современную американскую цивилизацию как «высшую ступень варварства». Поль Джонс — «варвар в одежде тонкого сукна», «помесь волка с джентльменом» — избирает своим руководящим жизненным принципом один из аспектов этической системы Франклина. Не тот, который велит трудиться и терпеть, но тот, который учит: «На бога надейся, а сам не плошай». Под пером писателя фигура Джонса перерастает в символический образ современной Америки: «…неустрашимая, беспринципная, отчаянная, хищная, безгранично честолюбивая, прячущая дикарскую сущность под маской цивилизации Америка — это истинный Поль Джонс среди наций или еще станет им».
Перспективы нравственного развития Америки рисовались Мелвиллу в мрачном свете. Господствующие моральные идеи должны были превратить ее в «Поля Джонса среди наций мира»; терпеливое упорство «простых душ», вроде Израиля Поттера, не могло помочь делу. Однако писатель все же таил надежду. Он искал такую нравственную комбинацию, которая соединяла бы отвагу Джонса, внутреннюю свободу Поттера и проницательный ум Франклина. Искал и не находил. Тогда он обратил свой взор к той части Америки, которая существовала в сознании американцев как полулегенда, как миф, как некое «Эльдорадо», а именно — к американскому Западу. Так родилась еще одна романтическая утопия, на этот раз в форме человеческого характера, воплощенного в образе Итена Аллена.
Итен Аллен — заметная фигура в истории Войны за независимость. Богослов и проповедник, человек огромного личного мужества, он возглавил отряд вермонтских ополченцев, именовавших себя «зелеными горцами», и наголову разгромил англичан в битве при Тикондероге. Позднее, во время похода на Монреаль, он был захвачен в плен и увезен в Англию. Обо всем этом он сам рассказал в книге «Рассказ о пленении полковника Итена Аллена» (1779), с которой Мелвилл был хорошо знаком.
В «Израиле Поттере» Аллен олицетворяет надежду Америки. Мелвилл ощутил необходимость соотнести этот характер с какими-то конкретными социальными силами, с какой-то новой этической системой. С этой точки зрения важными представляются строки, посвященные Аллену в начале XXII главы романа: «Хотя он был уроженцем Новой Англии, в нем не чувствовалось и следа ее характерных черт. Прямой, грубоватый… жизнелюбивый, как язычник, и изобильный, как урожай. По духу он был человеком далекого Запада, чем и объясняется его своеобразный американизм, ибо такой западный дух — это и есть (или, во всяком случае, будет, ибо ничто другое невозможно) истинный дух Америки».
«Израиль Поттер» — это роман, где в единой художественной системе сплавлено прошлое Америки, ее настоящее и будущее. Ее прошлое — в описании сражений революционной войны, в стойкости, верности, патриотизме Израиля, в его внутренней свободе и глубоком человеческом достоинстве. Прошлое Америки героично, бескорыстно и нетщеславно. Рядом с ним в романе живет настоящее. Оно сосредоточено в нравоучительных сентенциях Франклина, в хищной энергии Поля Джонса, в нравственно-философской системе, в которой, по мысли Мелвилла, заключены корни чудовищного эгоцентризма, благочестивого стяжательства, беззастенчивого себялюбия и всеподавляющего лицемерия — атрибутов современного ему американского сознания. Будущее возникает в романе как туманное видение легендарного Запада, символизирующего «истинно американский дух». Думается, однако, что Мелвилл и сам понимал, что это не столько будущее, сколько мечтание о нем.[165]
СЛОВАРЬ МОРСКИХ ТЕРМИНОВ
Названия мачт судна, начиная с носа: фок-мачта, грот-мачта и бизань-мачта. Каждая мачта состоит из четырех частей: собственно мачта (нижняя часть), стеньга (второй ярус мачты), брам-стеньга (третий ярус) и бом-брам-стеньга (четвертый ярус).
Части мачты разделены площадками — салингами, которые называются (снизу вверх): марсом, салингом, брам-салингом и салингом бом-брам-стеньги.
Паруса располагаются на реях в четыре яруса: нижний ярус составляют паруса, называемые по мачте — фок-парус, грот-парус, бизань-парус; второй ярус представлен парусами, имеющими название «марсель» (фор-марсель, грот-марсель, крюйс-марсель); третий ярус состоит из парусов, называемых брамселями (фор-брамсель, грот-брамсель, крюйс-брамсель); четвертый ярус составляют паруса бом-брамсель (фор-бомбрамсель, грот-бомбрамсель, крюйс-бомбрамсель).
Паруса управляются с помощь шкотов и фалов, которые называются по типу своего паруса: например бом-брамфалы управляют бом-брамселями, т. е. парусами четвертого яруса.
Помимо прямых парусов имеются также косые, которые крепятся к реям, называемым гафелями (вверху) и гиками (внизу). Косые паруса на носу судна называются кливерами, а кормовой парус — контрбизанью. Косые паруса между мачтами называются стакселями.
Аншпуг, ганшпуг, гандшпуг — деревянный или железный рычаг; род багра.
Ахтерлюк — 1) одно из главных отверстий в палубе, позади грот-мачты; 2) помещение в трюме судна, служащее для хранения провизии, перевозимой в бочках или систернах.
Бак — носовая часть верхней палубы от форштевня до фок-мачты.
Бакборт — левый борт.
Барк — парусное судно, имеющее две мачты с прямыми парусами и одну (бизань-мачту) с косыми.
Баталер — унтер-офицер, заведующий пищевым и вещевым довольствием.
Бегучий такелаж — подвижные снасти для постановки и уборки парусов, подъема и спуска тяжестей и т. д.
Бейдевинд — курс парусного судна, при котором угол между его курсом и встречным ветром меньше 90°.
Бизань-гафель — гафель бизань мачты. На нем на ходу корабля несется военно-морской флаг.
Бизань-мачта — третья от носа мачта на корабле.
Бимс — балка, соединяющая борта корабля (связывает правую и левую ветвь шпангоутов) и служащая основанием для палубы.
Битенг — стальная или чугунная тумба на палубе судна для закрепления буксирного троса или якорного каната.
Бом — составная часть названий всех парусов, рангоута и такелажа, принадлежащих бом-брам-стеньге.
Бом-брам-стеньга — рангоутное дерево, служащее продолжением вверх брам-стеньги.
Бом-брамсель — четвертый снизу прямой парус; подымается над брамселем (третий снизу).
Боцманмат — помощник боцмана.
Брам — составная часть названий всех парусов, рангоута и такелажа, принадлежащих брам-стеньге.
Брам-стеньга — рангоутное дерево, служащее продолжением вверх стеньги.
Брамсель — прямой парус, поднимаемый над марселем.
Брас — снасть бегучего такелажа, прикрепленная к нокам реев и служащая для поворота реев вместе с парусами в горизонтальной плоскости.
Брасопить рей — поворачивать его в горизонтальной плоскости с помощью бра-сов.
Брештук — горизонтальная треугольная кница (деталь, связывающая концы балок набора), соединяющая продольные связи обоих бортов на форштевне.
Бриг — двухмачтовое парусное судно с прямыми парусами.
Бушприт, бугшприт — горизонтальное или наклонное дерево, выдающееся с носа судна. Служит для постановки косых треугольных парусов — кливеров впереди фок-мачты.
Ванты — снасти стоячего такелажа, которыми укрепляются с боков мачты, стеньги и брам-стеньги.
Вымбовка — деревянный рычаг, вставляемый в шпиль для вращения его вручную.
Гакаборт — верхняя закругленная часть кормовой оконечности судна.
Галс — курс судна относительно ветра. Если ветер дует в левый борт, судно идет левым галсом; если в правый — правым.
Гафель — наклонное рангоутное дерево, укрепленное сзади мачты и служащее для привязывания верхней кромки косого паруса.
Грота — составная часть названий всех парусов, рангоута и такелажа, принадлежащим грот-мачте ниже марса.
Грот-марсель — второй снизу прямой парус на грот-мачте.
Грот-мачта — вторая мачта, считая с носа.
Кабельтов — здесь: мера длины, равная 182,5 м.
Каболка — нить, свитая из волокон пеньки по солнцу.
Каперство — нападение вооруженных частных судов воюющего государства с его разрешения (каперские свидетельства) на неприятельские торговые суда или суда нейтральных государств, перевозящие грузы для неприятельского государства.
Карлингс — подпалубная балка продольного направления, поддерживающая поперечные бимсы палуб.
Каронада, карронада — короткая и легкая пушка относительно большого калибра. Станок имеет откатное приспособление. На короткой дистанции каронада, стреляющая снарядами и бомбами, обладает весьма разрушительным действием.
Квадрант — старинный угломерный астрономический инструмент для измерения высоты небесных светил над горизонтом и угловых расстояний между светилами. Лимб квадранта составляет 1/4 часть окружности.
Кливер — косой треугольный парус, ставящийся перед фок-мачтой.
Клотик — точеный кружок, надеваемый на флагшток или топ мачты.
Коммодор — офицер самого высокого ранга в американском флоте середины XIX века; тогда в США еще не было звания адмирала.
Контра-брасы — брасы спереди реев; так, например, у грота-рея.
Корвет — трехмачтовое военное судно с открытой батареей. Носил ту же парусность, что и фрегат, имел 20–30 орудий, предназначался для разведок и посылок, а иногда и для крейсерских операций.
Краспица — поперечный брус (относительно продольных).
Купорный мастер, купор — корабельный бочар.
Лаг — инструмент, имеющий вид сектора, служит для измерения расстояния. Устройство основано на том, что при равномерном ходе по расстоянию, пройденному кораблем в минуту или в пол-, четверть минуты, можно судить о расстоянии, проходимом в час.
Лисель — дополнительный парус, который ставится сбоку прямых парусов на фок- и грот-мачтах при попутном ветре.
Марс — площадка на мачте в месте соединения ее со стеньгой; служит для разноски стень-вант, а также для работ по управлению парусами.
Марса-рей — второй рей снизу.
Марсель — второй снизу прямой парус, ставящийся между марса-реем и нижним реем.
Марсовой — работающий по расписанию на марсе. Старший из матросов марсовых или унтер-офицер называется марсовым старшиной.
Нагель — болт с продолговатой фигурной головкой.
Недгедс — один из стояков, из брусьев, по обе стороны носового пня (т. е. стема — деревянного форштевня) судна. Бушприт проходит между недгедсами.
Обстенить паруса — положить паруса на стеньгу, т. е. поставить их так, чтобы ветер дул в переднюю их сторону и нажимал их на стеньги, дабы дать судну задний ход.
Планшир, планширь — 1) деревянные или металлические перила поверх судового леерного ограждения или фальшборта; 2) деревянный брус с гнездами для уключин, идущий по бортам шлюпки и покрывающий верхние концы шпангоутов.
Поворот оверштаг — поворот на парусном судне, идущем против ветра, при котором оно пересекает носом линию ветра.
Поворот через фордевинд — поворот парусного судна или шлюпки, идущих по ветру; при этом способе судну при помощи руля и парусов дают возможность уклониться от бейдевинда до фордевинда, а потом подняться до бейдевинда другого галса.
Риф — горизонтальный ряд продетых сквозь парус завязок, посредством которых можно уменьшить его поверхность. У марселей бывает их четыре ряда, у нижних парусов — два.
Румб — одно из тридцати двух делений компаса, равное 11,25°.
Румпель — рычаг для поворота руля.
Руслень — площадка на борту парусного судна, служащая для крепления юферсов и отвода вант.
Рым — железное кольцо, вбиваемое в разных местах судна для закрепления за него снастей.
Свайка — инструмент, заостренный на конце: железная свайка используется для отделения прядей троса; деревянная применяется при шитье парусов.
Склянки — на флоте удары в колокол через получасовой промежуток времени; счет начинается с полудня: 12.30 — один удар, 13.00 — два удара и т. д. до восьми, когда счет начинается сначала. Название произошло от склянки песочных часов.
«Собачья вахта», «собака» — жаргон: полувахты от 16 до 18 и от 18 до 20. Полувахты были созданы для того, чтобы одно и то же лицо не стояло вахту в одно и то же время.
Спардек — раньше: верхняя легкая палуба от форштевня до ахтерштевня; теперь: палуба средней надстройки.
Стеньга — рангоутное дерево, служащее продолжением вверх мачты.
Стоячий такелаж — служит для поддержки и укрепления рангоута. Будучи раз заведенным, остается неподвижным.
Талреп — трос, основанный между двумя юферсами или двумя двушкивными блоками; служит для обтягивания стоячего такелажа.
Топ — верх вертикального рангоутного дерева (например, мачты или стеньги).
Траверз — направление, перпендикулярное курсу корабля.
Травить — ослаблять, перепускать снасть; переносные значения: рассказывать небылицы, блевать.
Утлегарь — дерево, служащее продолжением бушприта.
Фал — снасть, служащая для подъема рангоутных деревьев и гафелей, а также некоторых парусов и флагов.
Фальшборт — легкое ограждение открытой палубы.
Фока — составная часть названий всех парусов, рангоута и такелажа, принадлежащих к фок-мачте ниже фор-марса.
Фок-мачта — первая, считая с носа, мачта.
Фор — составная часть названий всех парусов, рангоута и такелажа, принадлежащих фок-мачте выше фор-марса.
Фор-люк — люк в передней части судна.
Фор-марс — марс на фок-мачте.
Фрегат — трехмачтовый военный корабль, второй по величине после линейного корабля. Был остойчивее линейного корабля, имел поэтому более высокие мачты, большую парусность и превосходил его по ходу.
Шканцы — часть верхней палубы, простирающаяся от грот- до бизань-мачты или до начала кормовой части (юта).
Шкафут — часть верхней палубы от фок- до грот-мачты.
Шкоты — снасти, которыми растягиваются нижние углы парусов или вытягиваются назад шкотовые углы треугольных парусов.
Шпангоут — ребро корпуса судна, придающее ему поперечную крепость.
Шпигат — сквозное отверстие в борту или палубе судна для стока воды.
Шпиль — стоячий ворот для подъема якоря и других тяжестей. Для вращения ручного шпиля в голову его, снабженную гнездами, вставляют рычаги — вымбовки.
Штаг — снасть стоячего такелажа, расположенная в диаметральной плоскости и поддерживающая мачты, стеньги, бушприт и другие рангоутные деревья спереди.
Штирборт — правый борт.
Шхуна — парусное судно с двумя и более мачтами и преимущественно косым вооружением.
Эзельгофт — деревянная или металлическая соединительная обойма с двумя отверстиями. Одним отверстием надевается на топ мачты или стеньги, а во второе выстреливается (пропускается) стеньга или брам-стеньга.
Юферс — круглый деревянный блок без шкивов с тремя сквозными отверстиями.
Акр — 0,405 га
Миля морская — 1852 м
Сажень (здесь — морская) — 182 см
Ярд — 91,439 см
Фут — 30,48 см
Дюйм — 2,54 см
Фунт — 453,593 г
Пинта — 0,57 л.