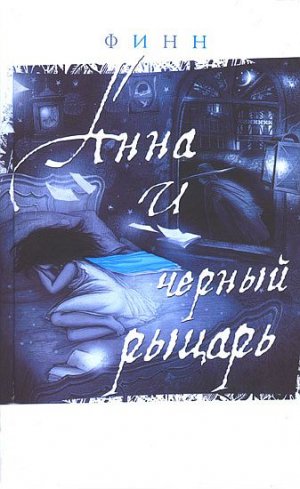
Расти на нашей маленькой улице — непременно означало забираться на самый верх железнодорожной стены. Это была стена из красного кирпича почти десяти футов высотой.[1] Забраться на нее мечтали все мальчишки. А потом вы вырастали. Вырастали достаточно, чтобы найти себе работу и начать зарабатывать деньги. Вырастали достаточно, чтобы поздно возвращаться домой и завести собственную девушку. Штурм стены был для нас своего рода ритуалом. Все глядели на вас и громко сочувственно охали, когда у вас ничего не получалось (а именно так чаще всего и случалось), или радостно вопили, когда кому-нибудь все-таки удавалось вскарабкаться наверх и усесться на стену верхом. Существовало несколько способов туда попасть. Можно было, например, раскачаться на фонарном столбе и прыгнуть оттуда на стену — расстояние не превышало четырех-пяти футов.[2]
Можно было еще вылезти из верхнего окна мистера Норманна. Сделать это мог кто угодно. Еще можно было «одолжить» лестницу на стройплощадке, но это был уже не экзамен, а откровенное жульничество. Наш способ пройти испытание был самым простым и самым честным. Нужно было как следует разбежаться с расстояния ярдов в шесть[3] и как можно выше подпрыгнуть в надежде, что набранная скорость и этот последний отчаянный скачок вознесут вас на стену. До самого ее верха держаться было абсолютно не за что, и потому чаще всего случалось неизбежное — соискатель с грохотом валился на землю. В день турнира тех, кто пытался штурмовать стену, можно было отличить с первого взгляда — свежие повязки, расквашенные носы, порванные штаны. Это были маленькие сувениры на память о подвиге.
Я должен был залезть на эту стену во что бы то ни стало. Даже не знаю, сколько раз я оттуда падал. Подсчетов я никогда не вел, но все случилось именно в тот день, когда я в очередной раз рухнул со стены. Из носа у меня немного текла кровь, так что я им все время шмыгал. Как часто говаривала Ма, когда нос разбит, это ничего страшного — зато дурная кровь выходит. Лежа на спине под стеной, я сознавал, что на меня смотрят двое. Понятия не имею, кто была дама, но относительно джентльмена сомнений не возникало. Это был сам Старый Джон Ди Ходж.
Я много слышал о Старом Джоне Ди Ходже. Он был одним из старших преподавателей в местной школе, но в лицо я его никогда не видел. Многие рассказывали мне о нем, и он мне заранее не нравился. Совершенно не нравился. Он был слегка горбат, ноги имел косолапые, и под густой кустистой бородой прятал заячью губу. Это уже звучало достаточно погано, но мне к тому же говорили, что он носит с собой кусок трубы от бунзеновской горелки,[4] который использует вместо трости и без колебаний пускает в ход, когда события складываются не так, как ему предпочтительно, — а это, судя по описанию, случалось довольно часто. Эту трубу все называли просто «уговаривателем». Короче, джентльмен явно принадлежал к славному племени ночных кошмаров.
Я глядел в небеса, он глядел на меня и смеялся. Он и понятия не имел, как важна для меня эта стена. Никто не смел над этим смеяться. Это было слишком серьезно. В любом случае я намеревался сделать еще одну попытку, и я ее сделал, но все с тем же результатом. Мой полет, как всегда, закончился грудой костей на земле.
— Только герои никогда не говорят «нет». Только герои и дураки.
Он все еще торчал тут и улыбался, глядя на меня сверху вниз. Нет, он мне совершенно не нравился. Ну ничуточки. Бьюсь об заклад, он бы тоже не смог влезть на эту стену. Этот молчаливый и насмешливый взгляд вывел меня из себя, а медленное покачивание головой довершило дело. «Только герои никогда не говорят „нет“. Только герои и дураки». Хоть бы он поскорее отвалил и оставил меня в покое.
Когда однажды утром почтальон протянул мне это письмо, я был крайне удивлен. То самое, в котором говорилось, что я сдал все экзамены с приличными оценками. Я получил аттестат, небольшую стипендию, которая была для меня так важна, и шанс перейти в старшие классы. Я не думал, что у меня получится. Проблема была в задании по математике. Первые девятнадцать вопросов оказались такими легкими, что на них я даже не обратил внимания, но вот последний меня сильно заинтересовал, так что я решил заняться им вплотную. Однако далеко я не продвинулся. Через час у меня было несколько листов каракулей, но все еще никакого ответа. Несколько месяцев спустя меня успокоили, что ответить на этот вопрос до меня еще вообще никто не пытался.
Ну, так и вот он я — надраенный и отутюженный, упакованный в отличную новую школьную форму и готовый выстрелить из дому в направлении автобусной остановки.
— Ма, — спросил я, — почему говорят, что нужно ходить в школу, чтобы узнать больше, чем ты знаешь?
— Ну, нужно узнавать новое, — отвечала она, — чтобы защитить себя от того, что уже знаешь.
Это была одна из «маминых пышек» — тех афоризмов, на усвоение которых нужны недели. Мамочка всегда умела поставить все с ног на голову. У нее вообще была странная манера изъясняться, от которой нередко обнаруживаешь, что стоишь на голове и судорожно пытаешься понять, что же не так с окружающим миром.
Вот так и получилось, что мы все просто сидели в классе и ждали, когда что-нибудь произойдет. Мне удалось урвать место за крайней партой в самом заднем ряду. Вскоре мы услышали, как кто-то ковыляет по коридору, и, затаив дыхание, уставились на дверь. Она распахнулась. Господи, там стоял он, точь-в-точь такой, как мне и говорили, — наш классный руководитель Джон Ди Ходж!
— Я буду говорить, — начал он, — а вы будете слушать. Это понятно?
Мы деревянно закивали.
— Я буду вас учить, а вы — учиться. Ясно?
Еще одна волна кивков.
— Если кому-то из вас не захочется учиться, у нас в распоряжении всегда есть еще один способ организации процесса. — И он врезал по доске своим «уговаривателем». — А теперь кто вам сказал, чтобы вы сидели в таком порядке?
В течение следующих нескольких минут мы все менялись местами, пока он наконец не остался полностью удовлетворен. Внезапно оказалось, что я сижу прямо у него под носом. Кому-то велели раздать тетради. Каждый должен был надписать на обложке имя, класс и адрес школы, и — как, наверно, и у многих других ребят, — у меня получилось следующее:
Лондон
Англия
Европа
Земля
Солнечная система
Вселенная
Я уже успел пожалеть об этом, когда он принялся обходить класс, наблюдая за нашими усилиями. Я тщетно попытался накрыть тетрадь ладонью, но тут его рука оказалась у меня под подбородком и резко вздернула мне голову.
— Ну-ну, молодой человек, должно быть, вы знаете, где находитесь. Надеюсь, вы так же твердо знаете, куда идете. Не так ли?
— Нет, сэр, — ответил я.
Возможно, именно в этот момент что-то произошло. Внезапно я понял, что уже не в первый раз смотрю в эти голубые глаза. Я попытался отвернуться, но он крепко держал мою голову.
— Вы тот самый молодой человек, который любит штурмовать высоты, так?
— Да, сэр.
— Полагаю, я смогу предоставить вам великое множество высот для штурма. Великое множество! Могу вам это обещать!
Маленькая улочка, на которой мы жили, была настоящим гнездом всякой шушеры, охвостьем приличных кварталов. Большинство моих друзей жили там (и одними из лучших были тройняшки). Когда дети отправлялись играть на улицу, за ними обязательно кто-нибудь присматривал: наша черная богиня Бомбом или, в крайнем случае, я.
Тройняшки были младшими сестренками Милли. На самом деле их имена были Билли, Лесли и Джозефина, но так их никто не звал. Мы их называли Могу, Хочу, Готов. Они были какие-то странные. Полагаю, современная медицина смогла бы определить природу их недуга, в те же дни люди называли их просто глупыми или прибабахнутыми. Возможно, теперь мы были бы к ним добрее и интеллигентно говорили бы, что они умственно отсталые. Но на самом деле если кого и можно было назвать ангелами, так это Могу, Хочу и Готов. Отца у них не было, а мать работала не покладая рук, чтобы поднять на ноги пятерых детей. Жили на нашей улице дружно, и нередко можно было видеть, как какая-нибудь из наших тетушек бодро шагает в номер двенадцатый, вооруженная кастрюлей, в которой дымились остатки обеда. Никто из ребят не чурался стащить плохо лежащий кочан капусты, картошку или, если повезет, яблоко с тележки зеленщика. Констебль Лэйтвэйт был прекрасно осведомлен об этих мелких кражах, и многие лавочники на базаре, когда начинался детский налет, по каким-то причинам упорно смотрели в другую сторону. В общем, семья так или иначе справлялась. В конце концов, альтернативой был Работный Дом, а его никто в здравом рассудке не пожелал бы даже своему злейшему врагу. Такие вещи, как деньги для уплаты за квартиру, уголь и газ, почему-то всегда усложняют жизнь. Денег у нас на улице никогда особо не водилось. Очень редко у кого-то появлялась пара лишних шиллингов, которые можно было спустить, и все знали, куда в таких случаях пойти.
Милли был известен только один способ заработать, и она им воспользовалась. Она присоединилась к другим молодым леди, обитавшим в большом доме в верхней части улицы. Мы все знали, почему Милли «в игре», как это между нами называлось, но как туда попали остальные девушки — понятия не имели. В любом случае осуждать их никто из нас не стал бы.
Мы с Дэнни дрались за их честь куда чаще, чем ради собственного удовольствия. Мы походили на пару рыцарей в ржавых доспехах, и горе было тому, кто осмеливался сказать о наших дамах что-нибудь плохое. Один из нас бывало говорил: «Сейчас моя очередь. Ты свалил того, последнего. — Хрясь! — Этот больше не станет разевать пасть». Когда констебль Лэйтвэйт вызвал нас в околоток по случаю жалобы от какого-то джентльмена, не до конца просекшего ситуацию, то спросил только:
— Сколько раз вы его ударили?
— Один, разумеется, а что? И, разумеется, вот этим. — Дэнни поднял кулак. — Еще что-нибудь, сэр?
— Ничего. Я просто поинтересовался. Больше так не делай.
— Я и не буду, — заверил его Дэнни. — В следующий раз очередь Финна.
В результате мы оба провели ночь в камере. Не то чтобы мы были действительно заперты, потому что Дэнни отбывал наказание, играя с сержантом в двадцать одно, а я — читая «Учебник по полицейскому делу» и попивая чай. Домой мы вернулись как раз к завтраку.
Наши девушки ходили в церковь и даже подали преподобному Каслу прошение, чтобы на праздники им разрешили украшать алтарь цветами. Этих подробностей о Милли и ее подругах с холма не знали ни Джон, ни Арабелла — его сестра и по совместительству старая дева, которая жила вместе с ним, — и никто из нас не собирался им ничего рассказывать. Так уж получилось, что заложил барышень констебль Лэйтвэйт. И, надо заметить, учитель с сестрой все поняли куда лучше, чем преподобный Касл. Быть может, его слишком заботили души прихожан, но так или иначе беспокоиться ему было не о чем, потому что мы с Дэнни соорудили девушкам небольшую отдельную молельню. Жаль только, что викарий заявил, что об алтаре не может быть и речи. Хотя… цветы все равно были бы из церковного же сада.
Не знаю, как и когда это началось, но постепенно Джон Ди начал мне нравиться. Мне и в голову не могло прийти, что такое возможно, но в какой-то момент я стал находить в общении с ним подлинное удовольствие. Возможно, все дело было в том, что мой отец давным-давно умер и именно поэтому Джон Ди стал для меня так важен. Так или иначе, мне стало очень приятно бывать рядом с ним, хотя ему, казалось, ничто не доставляло такого удовольствия, как возможность меня поддеть. Таких людей я еще никогда не встречал. Он не мог сказать и пары слов, не сдобрив их лошадиной дозой сарказма. Его сухая и сдержанная манера вести урок приводила меня в восторг. Мне нравилось просто слушать его, и меня не пугал даже наводящий ужас «уговариватель». На самом деле близкое знакомство с ним было не таким уж болезненным: через пару минут вы уже чувствовали себя так, будто ничего и не случилось.
Как-то раз я уже готов был отправиться домой после уроков, когда Джон Ди подозвал меня к своему автомобилю и представил даме, которая оказалась его сестрой Арабеллой.
— Один из ваших друзей только что поменял покрышку моей сестре, — сказал он.
— Понятия не имею, кто бы это мог быть… — начал я.
— Его имя — Дэнни Салливан.
— А, старый добрый Дэнни! Он мой соратник по дракам.
— Итак, — продолжал он, — вы тот, кого кличут Финном, не так ли? Я о вас наслышан. Полагаю, у вас есть и другие интересы, кроме драк и попыток взбираться на стены.
Я кивнул.
— А можно поинтересоваться, чем еще молодой Финн любит заниматься?
— В основном математикой. Думаю, это мне нравится больше всего.
— Искусство ума…
— Чего? — встрепенулся я. — Я не понимаю.
— Искусство ума, — повторил он. — Математика.
Такая идея мне в голову еще не приходила.
— У вас дома много книг по предмету? — спросил он.
— Не то чтобы, — ответил я. — Они все развалились от старости. И вообще, я думаю, они несколько того… устарели.
— Возможно. Если вы дадите себе труд зайти ко мне в кабинет после занятий, быть может, я смогу что-нибудь для вас подобрать. Нельзя заставлять наши лучшие мозги страдать от отсутствия правильных книг, не так ли?
Вот ведь, блин, старая язва.
— Кто знает, — продолжал тем временем он, — быть может, нам даже удастся разжечь в вашей голове маленькую искорку понимания. Только сделайте милость, держите это драгоценное вместилище подальше от стен — по крайней мере, пока я не убедился, что в нем хоть что-то есть. Правда, мне в это не верится. Совсем не верится… Но ведь на свете нет ничего невозможного.
На следующий день после уроков я явился к нему в кабинет. За стенами классной комнаты он определенно превращался в другого человека. Он был все так же сух, саркастичен и не упускал ни малейшей возможности зацепить меня, но теперь он еще и задавал вопросы.
— Вот, молодой Финн, — сказал он, подавая мне связку книг, — посмотрим, что у вас получится. Вряд ли что-то стоящее, но никогда не знаешь, где тебе повезет. Что вы станете делать, молодой Финн, если не справитесь с задачами?
— Наверное, буду дальше стараться их решить. Откуда я знаю?!
— Если застрянете, всегда можете прийти ко мне и спросить совета. Заходите после школы. Я всегда готов помочь. Мы не можем позволить искре погаснуть, не так ли? Если, конечно, нам-таки удастся ее зажечь.
Я ухмыльнулся в ответ, а он повернулся ко мне спиной.
Война 1914–1918 годов была для Джона очень тяжелым периодом, и потому он редко говорил о тех временах. Эти испытания, а также физические недостатки, с которыми он родился, сделали его довольно угрюмым. Одно упоминание слова «бог» или «религия» зачастую вызывало у него жестокую вспышку гнева и презрения. В нем престранным образом смешивались несказанное ожесточение и всеобъемлющая щедрость. С ним нужно было быть очень осторожным и тщательнейшим образом выбирать слова.
Ему очень нравилось, когда его называли рационалистом. После Первой мировой войны они с Арабеллой присоединились к группе под названием «Новое общество освобождения». Того немногого, что я о нем знал, вполне хватило, чтобы понять — это не для меня. Несмотря на то что в те годы я любил крепко поспорить, мне все же казалось, что рационалисты заходят слишком далеко.
Вся личная жизнь Джона Ди была так строго регламентирована, а все его имущество приведено в такой безупречный порядок, что для спонтанности не оставалось ни малейшего шанса. Если какое-либо явление не поддавалось калькуляции, оно просто для него не существовало — вот каким он был рационалистом.
С другой стороны, он умел быть и очень добрым. Он всегда с готовностью помогал тем студентам, которым не удавалось ухватить суть предмета, а его желание быть хоть как-то полезным старым друзьям, пострадавшим в годы войны, не имело границ. Когда выдавался такой случай, он был сама нежность и забота. Странность и сложность его натуры многим не давали как следует понять этого незаурядного человека.
Стоял конец лета, когда я отправился к Старому Джону с намерением попросить его о помощи. Я совершенно запутался в одной задаче. Я перепробовал все возможные способы ее решения, но это ни к чему не привело. Пару секунд он смотрел на условие, потом указал мне мою ошибку и оставил сражаться с ней дальше. Разумеется, ошибка оказалась донельзя глупой, а решение — настолько простым, что я был готов дать себе по морде. Тут он снова появился в дверях кухни с подносом, на котором красовались кофе и сдобные булочки.
— Решили, молодой Финн?
Я кивнул:
— Я чувствую себя идиотом. Как у меня вообще получилось сделать такую ошибку?
— Это одна из опасностей математики, Финн! — рассмеялся он. — На поверку очень часто оказывается, что все совершенно элементарно. Со мной тоже часто так бывает.
Меня это, надо сказать, сильно успокоило. Он протянул мне чашку с кофе и спросил:
— Итак, молодой Финн, срок вы почти домотали. Что вы намерены делать?
Это была правда. Школа подходила к концу. Наступило время, когда пора было подумать о заработке. У меня имелась парочка идей, но окончательно я еще не определился.
— Итак, чем мог бы занять себя мой юный гений?
— Я еще не уверен, Джон, — отвечал я. — Я знаю только, что не в силах расстаться с математикой и физикой.
— Рад, что вы так считаете, молодой Финн. Вы знаете, что здесь вам всегда рады. Но как вы собираетесь зарабатывать на жизнь? Счетоводом? Учителем? В этом мире есть множество путей для того, кто в состоянии сложить два и два.
— Я в курсе, Джон, но не уверен, что хочу всем этим заниматься.
— Это почему? — поинтересовался он.
— Я знаю, это звучит довольно по-дурацки, Джон, но эти предметы мне слишком нравятся. Наверное, я просто не хочу лишиться этого удовольствия и волшебства.
Его смех загремел по всей комнате.
— Ох, Финн, ох, Финн… Я всегда это знал. Вы действительно хороши в этом, и вы это знаете, хотя подчас и делаете совершенно глупые ошибки. И из-за этого вы здесь вдвойне желанный гость. Есть еще идеи, чем вы могли бы заниматься?
Это был вопрос, которого я боялся больше всего, но, видно, уж пришло время на него ответить.
— Джон… ну… я… ох, короче, я думаю, что хотел бы служить Церкви.
Я ждал взрыва, но ничего не произошло. Он просто сказал «О!», хотя его голос упал на пару октав. Никакой антирелигиозной проповеди не последовало. Он просто спросил:
— Почему, Финн? Почему? Вы можете мне объяснить?
— Это просто важно для меня, Джон, вот и все. Я не смогу привести вам никаких других причин.
— Разумеется, важно, — отвечал он. — Важно знать, кто мы и где находимся. И почему тоже, если вопрос в этом. Но я не уверен, что вы все хорошо обдумали.
Его ледяное спокойствие поставило меня в тупик.
— Джон, я, честно говоря, думал, что вы…
— Что у меня пробку выбьет от злости…
Я кивнул.
— Знаете что, Финн, — сказал он с улыбкой, — и я не родился атеистом. Чтобы лишиться веры, мне пришлось работать не покладая рук. Я не буду отговаривать вас стать священником, если это то, чего вы действительно хотите. Все, о чем я осмелюсь вас попросить, — как следует и хорошенько подумайте, прежде чем принять решение.
Наверное, я сделал какое-то движение, говорившее о том, что мне надо задать ему вопрос. Он положил ладонь мне на руку:
— Никаких вопросов, юный Финн. Только не сейчас. Возможно, в один прекрасный день вы навестите меня еще — уверен, таких дней и таких визитов будет очень много, — и тогда я смогу все вам рассказать, но не сейчас. Есть, однако, один момент, который вам, возможно, захочется обдумать, прежде чем взвалить на себя это бремя. Вы не принесете Библию из моего кабинета? Она там, на маленьком столике возле лампы. Чего вы так удивляетесь? Да, у меня есть Библия, и, более того, я ее даже читал. И даже не один раз — в основном, надеясь, что я что-то упустил, но, боюсь, это не так.
Я принес из кабинета Библию, положил ее на стул рядом с ним и отступил на шаг. Его следующие слова были настолько неожиданны, что я не мог не расхохотаться.
— Вы пьете пиво, Финн?
— Ну, раз или два в жизни пробовал, да и то немного.
— Полагаю, одна кружка не повредит молодому человеку, который скоро отправляется в мир. Я сварил его сам и горжусь плодами моего труда.
Он протянул мне кружку пива.
— Прежде чем выпить, не могли бы вы прочитать мне стихи 19 и 20 из второй главы Книги Бытия?
— «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек…»
— Достаточно, достаточно, — прервал меня Джон. — Теперь можете выпить.
Я сделал глоток.
— Ну, и что вы обо всем этом думаете?
— О чем об этом?
— Сначала о пиве, а потом, если вам есть что сказать, о стихах.
— Ну, пиво хорошее, Джон.
— Хорошее, Финн? Хорошее? Единственное слово, которым можно описать его вкус, — «безупречное». Сделайте еще глоток и скажите мне, что вы думаете о стихах.
— По-моему, с ними все в порядке, Джон. По мне, так они вполне нормальные. Если это правда, так и отлично. На что вы вообще намекаете?
— Я ни на что не намекаю. Если, как нам говорят, бог велик и всемогущ и так далее и так далее, то почему, ну почему всем так нужно, чтобы меня удивляло, радовало и восхищало все то, что он якобы сотворил? У меня это не вызывает никаких эмоций. А вот что меня действительно удивляет, так это почему он решил сделать такую глупость, как предложить Адаму дать всему творению имена? Черт их всех подери, Финн. Я про Вавилон и весь этот бред. А как насчет Всемирного потопа? Сдается мне, он потратил куда больше времени, уничтожая то, что создал. Если бы у Адама хватило ума давать всему номера, а не имена, инфарктов в мире было бы гораздо меньше. Мой юный друг, после долгих лет героических попыток учить детей математике я пришел к выводу, что не зря «числа» и «беспомощный» — однокоренные слова.[5] Вот поэтому я так счастлив, что смог чему-то вас научить, и всегда буду рад вас видеть. Вы немного отличаетесь от остальных моих учеников. Немного, имейте в виду, но вполне достаточно.
Я хотел сказать что-нибудь, что подтвердило бы мою особенность, но в голову как-то ничего не приходило.
— Финн, ради бога, не стройте из себя тупицу. Приканчивайте свое пиво и уж простите мне, что я сел на любимого конька. Моя проблема проста. Я не умею верить. Все предельно просто. Если бы я мог, я бы верил, но даже сейчас я не сказал того, что хотел. Anno Domini,[6] наверное. Я пытаюсь тебе сказать, что чем бы там ни была математика, это прежде всего язык, и это очень важно. А теперь, мой юный друг, вам пора идти. Дайте мне знать, что вы решите… и, пожалуйста, приходите еще, и почаще.
Меня это все порядком смутило. Он никогда еще не был со мной настолько откровенен, и мне определенно хотелось остаться, хотя особой пользы в этом не было бы, — на тот момент я, кажется, был еще меньше уверен в себе, чем раньше. Мысль о том, что математика — тоже язык, была для меня новой; мне хотелось о многом подумать, ибо истинно, что о боге можно говорить на любом языке, и, если математика была языком… проблема в том, что я никак не мог понять, как все это работало.
Священником я так и не стал. Для этого шага мне не хватило уверенности. Я попал на завод, производящий масла и смазки. Наверное, это было достаточно интересно. По крайней мере мне платили жалованье. Знание математики здесь редко шло в ход — разве только чтобы сложить пару цифр от случая к случаю или раз в месяц высчитать семь процентов от сорокасемигаллоновой бочки машинного масла. И поговорить о ней тоже не удавалось. Стоило мне брякнуть, что какая-нибудь задача решается очень красиво, как беседа тут же по необъяснимым причинам прекращалась.
К счастью, у математики есть одно очень большое достоинство. Чтобы заниматься ею, многого не надо — только карандаш и бумага, а иногда даже в них нужды нет. На самом деле нужно только время на раздумья. Поэтому ночные скитания в доках приносили мне чувство громадного покоя и удовлетворения. За ночь я мог встретить разве что парочку кошек, или налившегося по уши пивом моряка, пытающегося отыскать дорогу на родной корабль, или дамочек из тех, что называют мужчин «дорогуша», но кто бы это ни был — кошки, девочки или пьяницы, — хороший прицел и залп чем-нибудь вроде «Пи твою Эр в квадрат!» или «Кубический корень тебе в минус единицу» идеально очищали плацдарм от противника.
Иногда я встречал кого-нибудь из портовых нищих или констебля Лэйтвэйта. И вот как раз в такую ночь, когда голова у меня была битком набита цифрами, Старым Джоном, богом, проблемами языкознания и прочими причудливыми кусками головоломки под названием «мироздание», из тумана внезапно возникла маленькая девочка.
Я едва мог разглядеть ее в тумане даже при свете газового фонаря. Она заявила мне, что «убежала из дому», и имела при себе старую тряпичную куклу, коробку красок и зверский аппетит. Она проделала значительную брешь в моем стратегическом запасе хот-догов. Еще она любила шипучие напитки, особенно те, у которых в горлышке шарик.
Пара сигарет, чтобы прийти в себя, и вот я уже знал, что ее зовут Анна, что она намерена жить со мной и что она меня любит не менее сильно, чем я ее. Я никогда не был любителем встревать в споры, потому как не умел их выигрывать, и потому принял как должное все, что она мне сообщила.
Со временем я попытался побольше узнать о ее семье, но никто, кажется, ее не искал, а если и искал, то не очень старательно. Итак, она отправилась со мной домой и оставалась с нами несколько лет, до самой своей смерти. После применения горячей ванны мы получили возможность лицезреть копну огненно-рыжих волос и огромное количество синяков. И подобно тому как ванна открыла нам ее довольно своеобразную красоту, так и наше теплое к ней отношение позволило обнаружить ее преданность мистеру Богу, умение беспечно болтать на самые разные темы и невероятную жажду новых знаний, о чем я уже рассказывал в книге «Здравствуйте, мистер Бог, это Анна». Я честно пытался не подпускать Анну и Джона друг к другу, но, поскольку я слишком много о них говорил, встреча была неизбежна, и это заставляло меня нервничать. Это как положительный и отрицательный полюса батарейки. Пока держишь их по отдельности, ничего не происходит. Но стоит подключить их к чему-нибудь, и обязательно что-нибудь получишь — или свет, или короткое замыкание. И, что бы впоследствии между ними ни происходило, я непременно оказывался посередине, то есть в самом эпицентре событий!
И вот я уже рассказывал Джону о том, как повел Анну в церковь.
— В церковь! — взорвался он. — Полный бред!
После того как он довольно спокойно отнесся к моему заявлению о желании стать священником, подобная реакция меня, мягко говоря, удивила. Но Джон никогда не стремился соответствовать чьим-то представлениям.
— Религия не что иное, как чертов оплот хаоса, — продолжал он. — Неужели ты еще не понял, что люди всегда защищают собственные заблуждения с куда большей яростью, чем здоровые и правильные представления? Я совершенно не в состоянии понять, как кто-то может верить в то, что нельзя доказать.
— А как же любовь, Джон?
— А что любовь?
— А что любовь! Вы же не сможете доказать, что любовь существует!
— Так и что же в самом деле любовь? Что, позвольте вас спросить, хорошего она сделала людям?
Я ответил, что не знаю, но она точно должна делать им что-то хорошее.
Эти внезапные вспышки никогда не длились долго и быстро заканчивались смущенной кривой улыбкой, причиной которой была заячья губа; всякий раз мне в голову неизменно приходило, что мы должны быть очень осторожны в своих словах. Сам он прекрасно сознавал опасность таких выплесков, как и то, что из-за них он всегда был очень одинок. Нам казалось, что он совершенно ничего не может с ними поделать. Полагаю, именно поэтому он и был так счастлив стать моим учителем и наставником. Кроме того, думаю, я ему нравился, и мне это ужасно льстило.
Его манера преподавания была весьма необычной; не то чтобы эксцентричной, но просто не такой, как у всех. Когда ему случалось писать на доске какую-нибудь сложную задачу, он всегда приписывал и ответ.
— Теперь вы все знаете ответ, так что у всех по десять баллов.[7] И еще десять каждому, кто скажет мне, почему этот ответ верен.
После того как на доске появлялось доказательство, он всегда крупно писал в конце буквы Q. Е. D. или Q. Е. F., в зависимости от того, что подходило к ситуации. Что, казалось, приносило ему самое большое наслаждение, так это последняя точка в конце доказательства, которую он ставил, яростно скрипя мелом по доске, будто желая пронзить ее насквозь. Поворачиваясь к ученикам, он неизменно изрекал одно-единственное слово: «ВОТ!»
Разумеется, не все находили такое удовольствие в лекциях старого Джона Ди, но меня больше всего восхищала именно его сухая и скрупулезная точность, которая в моих глазах извиняла даже несколько кислую манеру общаться с учениками. Я даже перенял от него привычку заканчивать любую свою писанину буквами Q. Е. D. или Q. Е. F.
Когда Анна впервые увидела эти буквы, она, естественно, сразу же захотела узнать, что они означают, и мне пришлось показать ей, где их искать в разделе сокращений толкового словаря. Там она обнаружила еще одну комбинацию, которая, в свою очередь, была неизвестна мне, — Q. Е. I. Так что теперь у нас было целых три варианта:
Quod Erat Demonstrandum,
Quod Erat Faciendum и
Quod Erat Inveniendum.
Q. E. D., «что и требовалось доказать», к величайшему удовольствию Джона;
Q. E. F., «что и требовалось сделать», чем мне приходилось заниматься всю жизнь;
и Q. Е. I., «что и требовалось отыскать», то бишь главная радость Анны.
«Сплюснутые значки» — вот как Анна называла сокращения. Математика была для нее сплошными «сплюснутыми значками».
Иногда понять, о чем говорит Анна, было не так уж просто. К ее новоизобретенным словечкам еще надо было привыкнуть. Как-то раз в приступе законной гордости я отнес несколько страниц ее писаний Джону Ди, чтобы узнать его мнение. Когда несколько дней спустя я забрал их, то обнаружил, что он, раздосадованный ее «манерой излагать», просто взял красную ручку и тщательно поправил орфографические и стилистические ошибки. Это привело меня в ярость. В грамматике Анна никогда не была сильна. Она брала другим.
Случилось так, что Анна была со мной, когда Джон выдал одну из своих знаменитых яростных проповедей против религии.
— Если бы на свете была только одна религия, — сказал он, — у меня, может быть, и появился бы соблазн изучить ее, но их так много, будто у каждого есть свой собственный бог, а это, Финн, уже выше моих сил, так что увольте. Если у задачи есть решение, то оно может быть только одно.
Анна тем временем написала собственный вариант решения, но Джон не обратил на него ни малейшего внимания. Он просто исходил гневом.
— Это же просто, Финн, — прошептала мне она. — Одна из первых вещей, которые сделал мистер Бог, был свет, да?
— Ну, да. Во всяком случае, так говорят.
Это напомнило мне об одном нашем эксперименте, когда с помощью призмы и луча света мы устроили на стене небольшую радугу. В этом-то и была самая суть.
— Католики берут красный цвет, протестанты — зеленый, иудеи — другой, а индусы — еще другой, чтобы через них видеть мистера Бога.
Разумеется, на свете была куча разных религий, и Анна никогда не могла быть совершенно уверена, что у кого-нибудь из родителей не обнаружится вдруг еще один святой день в неделе, специально чтобы у нее было меньше времени играть со своими друзьями. Хотя, если рассматривать религии как разноцветные лучи одного и того же света, это особого значения не имеет. Как говорила Ма, ты рождаешься в одной религии, потому что особого выбора у тебя нет, но умереть волен в любой другой или вообще ни в какой. Джону такой взгляд на вещи явно был недоступен.
Посещение Анной школы и церкви далеко не всегда отвечало целям, намеченным мисс Хейнс и преподобным Каслом. Из тех же соображений Джон тоже заслужил не один хороший «фырк». Не все из того, что там говорили, было так уж безнадежно, но что-то, с ее точки зрения, было просто за пределами добра и зла — «он чего, с ума сошел, да, Финн?» Доброму старому преподобному Каслу отнюдь не улыбалось прямо посреди проповеди схлопотать громкий отчетливый «фырк»; он всякий раз вперялся в меня поверх очков таким взглядом, будто это я был виноват во всех его бедах. Я честно пытался приструнить Анну, но это никогда не срабатывало надолго. Например, викарий рассказывал пастве притчу о сеятеле, сеющем семена добрые. Тот факт, что некоторые из них падали меж камней, а некоторые — среди терний, снова выводил ее из терпения. Очередной фырк был еще довольно сдержанным, но вот следующий за ним комментарий, что сеятелю не худо было бы разуть глаза и смотреть, куда он кидает свои семена, уже был настолько громким, что, уверен, его слышали даже статуи. Дискуссия продолжалась и после службы. Анна горячо доказывала мне, что у сеятеля было не все в порядке с головой.
— Сначала ему было бы не худо убрать с поля камни, разве нет? По крайней мере, он должен был выкопать все эти сорняки, которые тернии, да, Финн?
Она была практически уверена, что взрослые нарочно морочат голову детям всякими глупыми сказками.
Я часто пересказывал Анне то, что Джон, в свою очередь, рассказывал мне. Она никогда не была, что называется, гением в математике, но часто видела в ней то, что было недоступно нам с Джоном… или, по крайней мере, видела не так, как мы. Например, перемножать два числа было очень здорово, если это именно то, что вы хотели делать в данный момент. Но в других ситуациях это могло быть скучно, а иногда даже довольно трудно. Анна пришла в восторг, когда я доказал ей, что восемью девять будет семьдесят два и никак иначе. Тот же самый результат получался, если одно число разделить на обратную дробь другого. Сама идея, что умножение можно производить посредством деления, в свое время показалась мне настолько абсурдной, что накрепко застряла в голове. Разумеется, я не мог не поделиться этим с Анной.
Она, в свою очередь, немножко изменила терминологию. Например, 9, или 9/1 стало «прямым» числом, а обратная дробь от 9, или 1/9, — соответственно, «перевернутым».
Решать примеры на сложение этим увлекательным новым способом было гораздо веселее. Старый вариант умножения 9 на 8 внезапно превращался в 9÷1/8 или в 8÷1/9. Каким именно способом производить вычисления, особого значения не имело, поскольку никак не отражалось на результате. Независимо от способа ответ все равно был 72, и это тоже было «правильно». Хотя и требовало некоего дополнительного осмысления.
8 × 9 = 72
8 ÷1/9 = 72
9 ÷1/8 = 72
1÷(1/9×1/8) = 72
Не припомню, чтобы я когда-нибудь задумывался о том, что получится, если перемножить 1/8 и 1/9, но Анна явно задумывалась.
— Что получится, Финн, что получится, если ты сделаешь их обоих перевернутыми числами и потом перемножишь? 1/8×1/9 будет что? Что будет, Финн, а? Будет-то что?
Тот факт, что это оказалось 0,013888888, ее несколько разочаровал, но не умалил значения этого нового и прогрессивного способа вычислений.
Я с интересом ждал, каков будет ее следующий вопрос. Ждать пришлось долго, но в конце концов она созрела. Анна решила подойти к делу радикально и, как следует разбежавшись, плюхнулась вместе с вопросом мне на колени:
— Да, Финн? Ведь да же?
— Чего да?
— Ну, это же будет перевернутое число, да, Финн?
Речь шла об обратной дроби от семидесяти двух (1/72 = 0,013888888).
— Ох, Финн! — выдохнула она. — Разве это не здорово? Ох! Я в следующий раз расскажу мистеру Джону. Как ты думаешь, он про это знает, а, Финн?
— Полагаю, знает, — отвечал я. — Можешь рассказать ему об этом завтра, когда мы увидимся.
Джон даже захихикал от удовольствия, когда она поведала ему о «прямых» и «перевернутых» числах. Ему еще не доводилось слышать, чтобы кто-то их так называл.
— Полагаю, не так уж важно, как она их называет, если знает, что они означают.
Я решил оставить их на несколько минут. Анна тараторила со страшной скоростью, а Джон сидел в своем любимом кресле с оцепенелой, но счастливой улыбкой на лице. Вернувшись, я услышал, как он говорит:
— Да, юная леди, я запомню. Я буду внимателен.
— О чем речь, Джон? — спросил я.
Он рассмеялся.
— Она только что сказала мне, что иногда ответ получается «перевернутый», и в этом-то и разница, и поэтому нужно помнить, что ты сделал.
Он налил себе еще кружку пива.
— Не помню, чтобы меня когда-нибудь так волновали обратные дроби, когда я сам учился в школе, Финн. Наверное, меня так очаровали названия, которые она дает числам. «Перевернутые числа» — это надо же! Это же идеально подходит ко множеству ситуаций, вы не находите?
— Нахожу? Да я часто еще и подумать не успеваю, как она уже мчится на всех парах к ответу!
— Ответ может быть «перевернутый», — пробормотал он. — И ведь так очень часто и получается! Запомните это, Финн. Ответ иногда бывает перевернут.
— Хорошо, Джон, я запомню. Иногда мне кажется, что перевернут на самом деле я.
— Ага! — засмеялся он. — Она умудряется всему придать новый смысл, да?
Не важно, какой способ действий вы выбирали; сама идея, что можно умножать посредством деления и делить посредством умножения, была для Анны совершенно новой и потому завораживающей. Это явно было что-то из области мистера Бога. А ведь были еще и логарифмы, когда можно умножать, прибавляя определенные виды чисел, и делить, отнимая их. Джон не видел во всем этом магии, но Анна-то видела.
— Можно делать умножение обычным способом, можно через деление, а можно даже сложением!
С этим явно стоило разобраться. Анна принялась за математику с редкостным рвением. Все эти штуки с Q.E.D. ее мало интересовали. Доказательства были для нее просто тратой времени, ведь нужно было еще столько узнать.
После первых нескольких встреч Джон стал относиться к ней с большей теплотой и терпимостью.
— Она настолько не осознает стоящую перед ней задачу, что просто не в состоянии видеть неотвратимость неудачи, — сказал он.
Анна ставила его в тупик. Уже гораздо позже он заявил:
— Я не знаю, что еще о ней сказать. Кажется, она все делает весьма последовательно, хотя я не в состоянии эту последовательность понять.
Именно в это время между нами троими и зародилось какое-то непонятное волшебство: отставной школьный учитель, мистер «что-и-требовалось-доказать», рыжеволосое дитя «что-и-требовалось-отыскать» и я с моим вечным «что-и-следовало-сделать». Но это было правильно. Оно того стоило! Мне всегда доставляло огромное удовольствие видеть этих двоих вместе. Джон постепенно стал относиться ко всему гораздо спокойнее, а через некоторое время он даже научился играть в Аннины игры «давай-как-будто», хотя все равно ни на минуту не переставал быть ученым. Торчать между этих двух огней было достаточно безопасно, хотя временами я просто терял нить происходящего. В конце концов, всегда можно было спросить. А спрашивать иногда приходилось. Я далеко не всегда был уверен в правильности полученного ответа, но никогда не оставался вообще без него.
Постепенно в устах Джона слово «сорванец» потеряло свое первоначальное содержание, и в нем зазвучала любовь; у Анны почтительное «сэр» тоже лишилось всех своих прежних ассоциаций и наполнилось искренней симпатией. Никто из них, однако, так и не избавился от своей особой манеры говорить. Джон то и дело ронял одну-две иностранные фразы, а Аннин выбор слов часто оставлял желать лучшего. Но они так и остались друг для друга «сорванцом» и «сэром»; мне же по большей части удавалось быть переводчиком.
Когда вокруг не было никого, кто мог бы его уличить, Джон часто носил сердечко из красного бисера, которое смастерила ему Анна на день рождения. Сам он никогда не пытался делать броши и вряд ли бы когда-нибудь стал. Прошло довольно много времени, прежде чем он в свою очередь сделал ей подарок, который она с тех пор надевала только в особых случаях. Джон выбрал для нее плоскую серебряную брошь, на которой — разумеется, а как вы думали! — были выгравированы латинские слова QUOD PETIS HIC EST.
Даже когда ее спрашивали, Анна никогда не признавалась, что это значит. «Спроси Финна, он знает».
Я же гордо изрекал:
— Там написано: «То, что ты ищешь, — здесь».
В какой-то момент я задумался о том, не подарить ли ей вторую, чтобы, так сказать, привести систему в равновесие. На моей было написано QUANTUM SUFFICIT — «Сколько будет нужно!» Если бы я только знал сколько! Но ответа на этот вопрос мне так и не суждено было найти. Поскольку большую часть свободного времени я проводил в обществе книг по математике, физике и смежным дисциплинам, Анна все время цепляла какие-нибудь незнакомые слова вроде «электроны», «многочлены», «относительность» или «квантовая теория». Я никогда не прятал от нее мои книги, и вскоре это привело к тому, что ее вокабуляр обогатился словами, которых большинство нормальных людей в жизни не слышали, а если и слышали, то определенно не понимали. Это не значило, что она сама их понимала, — по крайней мере, не в той мере, чтобы сдать соответствующий экзамен. Она просто добавляла их в речь по вкусу, как соль или сахар. И то, что соль зачастую оказывалась там, где должен был быть сахар, ее ничуть не волновало. Если уж на то пошло, то и я далеко не все о них знал. Но для Анны эти слова явились результатом поисков, а поиски были для нее всем. Любой знак вопроса был приглашением к новым исследованиям. Когда она видела название главы «ВОЗМОЖНО ЛИ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОНА?», то знала — это действительно важный вопрос. А когда автор заявлял: «Возможно, нам стоит отнести на милость случая то, что человек, впервые обнаруживший новое замечательное явление, получающееся в результате трения янтарной палочки о шерсть, и известное ныне как электричество, находился под действием неких великих объединяющих сил, связывающих все в мире воедино», — она со всей ясностью понимала, что это друг мистера Бога, и была совершенно уверена, что по милости последнего оно все и произошло.
«Любую книгу по математике, вне зависимости от научной ценности, нужно прочесть от и до, с начала до конца и из конца в начало». Что может быть проще, не правда ли? Анна честно приступила к исполнению инструкций. Просто сказать и почти невозможно сделать, но она всегда умела отыскать жемчужину в куче мусора.
Анна с энтузиазмом восприняла идею о чтении книги из конца в начало, хотя и думала, что это м-м-м… несколько глупо. Она сразу же смекнула, что проще всего осуществить этот план можно, установив на кухонном столе зеркало и читая не саму книгу, а ее отражение в зеркале. Для нее это тоже было чем-то из области мистера Бога. В конце концов, викарий никогда не упускал возможности напомнить нам, что бог недоступен нашим глазам, так что все, с чем мы могли иметь дело, — это отражения. Это означало, что с зеркалами придется обращаться поосторожнее.
Возможно, именно поэтому Анну так интересовало все, что было хоть как-то связано с ней самой. В течение нескольких дней я часто заставал ее перед зеркалом. Она пристально вглядывалась в свое отражение и склоняла голову то вправо, то влево. Однажды вечером, вернувшись с работы, я обнаружил, что она вот-вот лопнет от возбуждения. Зеркало было торжественно установлено на столе. Затем Анна нырнула в свой личный альбом для рисования, куда было запрещено заглядывать кому бы то ни было, и вытащила листок бумаги. Я все никак не мог взять в толк, в чем, собственно, дело. На листке она крупно написала: 4 + 7 = 11.
— Ну и по какому поводу весь кипеж? — поинтересовался я. — Это и ежу понятно.
— Вот тут все правильно, да, Финн?
— Разумеется, — ответил я. — Ты и сама знаешь. Не обязательно было спрашивать меня.
— А теперь смотри, — заявила она и повернула бумагу лицевой стороной к зеркалу. Теперь там отражалось: 11 = 7 + 4.
— И это тоже правильно, — сказал я, прежде чем она успела задать хоть какой-нибудь вопрос.
— Ага, — подтвердила она. — А чему еще равняется одиннадцать, а, Финн?
— Ну, это могло бы быть 10 + 1 или 9 + 2, а еще…
Она прервала меня:
— Это могло бы быть сквиллионы разных вещей. Да?
— Ну, конечно, а то нет?
— Финн, а вот когда одно равно другому — это штука надежная, так ведь?
— Надежная в каком смысле? — тупо спросил я, как всегда, теряя нить ее рассуждений.
— Ну, настолько надежная, чтобы ее можно было читать задом наперед, как мистер Бог.
Теперь я потерялся окончательно.
— А при чем тут мистер Бог?
То, что было совершенно ясно для нее, покамест оставляло меня во тьме неведения.
— Финн, — сказала она уже с некоторым раздражением, — если есть только одна дорога, по какой тебе идти вперед навстречу мистеру Богу, но он тебя по ней не пускает, а идти назад от него — есть сквиллионы разных дорог, что тогда?
Луч света был не то чтобы очень ярок, но на тот момент хватило и его. Делать что-нибудь то в правильном порядке, то задом наперед могло показаться странным, но временами именно это и было нужно, и тогда случались всякие правильные вещи. Мне нравилась идея, что знак равенства давал надежную возможность ходить в обоих направлениях — и взад, и вперед, но вот чего я так до конца и не понял, так это того, что 4 + 7 = 11 было, по Анниной теории, верно только в одном случае, когда читаешь это равенство в правильном порядке, с начала в конец, но если читать его задом наперед, то получаются сквиллионы возможных ответов. 11 = 7 + 4 или 8 + 3, или… или… Короче, вариантов было много. Полагаю, мистер Бог сделал это все специально, чтобы мы не могли видеть его «вперед» — одним-единственным возможным способом, но чтобы нам приходилось глядеть на него «задом наперед», как на отражение в зеркале. А значит, как Анна терпеливо мне разъяснила, существуют сквиллионы способов это сделать и любой из них приводит непосредственно к мистеру Богу, а учитывая, что эта маленькая штука со знаком равенства давала полную гарантию надежности, то все было замечательно.
— Ты бы рассказала про это викарию, — сказал я. — Мне кажется, ему стоит знать.
Но она была в этом совсем не уверена.
— Я лучше расскажу мистеру Джону в следующий раз, когда его увижу. Держу пари, он хотел бы знать, он точно хотел бы!
Через несколько дней она таки умудрилась просветить на этот счет преподобного Касла и, если уж на то пошло, всех, кому случилось присутствовать. Однако ответ преподобного был строг:
— К церкви все это не имеет ни малейшего отношения, знаешь ли.
Куда более теплый прием она встретила у молочника, угольщика, Бомбом и Милли, но это было в порядке вещей. На той же неделе вся железнодорожная стена покрылась написанными углем и мелом примерами: Анна с друзьями претворяли идею в жизнь. С моей точки зрения, это имело мало отношения к мистеру Богу, но Анна считала, что это совершенно одно и то же.
Именно после этого она врубилась в саму идею математики и с величайшим рвением кинулась на штурм соответствующего раздела моей библиотеки.
Иногда ее манера поведения доводила меня до полуобморочного состояния — как, например, в тот раз, когда нас с ней выгнали из собора Святого Павла. Ей было совершенно невдомек, как нам удалось «осквернить святой дом Господа нашего». Мы всего лишь играли молитвенником в классики на черно-белом полу в шашечку, что в этом плохого? Ну да, мы написали мелом несколько цифр на полу, но, как совершенно справедливо заметила Анна, «Финн прекрасно может все оттереть, у него есть носовой платок», так за что же нас выгонять? Разве бог против всего этого?
Любопытно, что Джон Ди, который всегда считал Библию всего лишь не заслуживающим внимания собранием сказок, был глубоко оскорблен Анниной манерой смеяться над такими вещами. Преподобный Касл вообще был вне себя. Он заявил, что Анна глумится над святынями и что я обязан с этим что-то сделать. Оба они относились к жизни крайне серьезно. Каждый любил поговорить о том, как она тяжела. Даже удивительно, что два джентльмена, столь различные по своим убеждениям, думали о ней одинаково.
— Люди на самом деле просто запутались, — сказала мне как-то Анна.
— Да, должно быть, — согласился я. — В чем на этот раз?
— В мистере Боге и Старом Нике.[8]
— Да неужто? Как им это удалось? Я что-то не пойму, что тут не так.
— В церкви преподобный Касл все время твердит, что мистер Бог на меня смотрит.
— Ну и что тебе не нравится?
— Я это и так знаю!
— Ну и?
— Почему он говорит, что мистер Бог будет бить меня большой палкой, если я не буду сидеть прямо и иногда болтаю?
— Ну представь себе, что другие люди хотят послушать, что он им скажет, а детям, кстати, вообще не мешает иногда хорошо себя вести.
— Так я и представляю!
Но она явно не могла поверить в то, что это может быть правдой, и отчаянно пыталась подобрать слова, чтобы объяснить мне свои чувства, слова, которые были бы мне понятны.
— Я стараюсь, Финн, я правда стараюсь.
— Стараешься что, Кроха?
— Стараюсь вести себя хорошо, и сидеть прямо, и все такое.
— Я знаю, Кроха.
— Но у меня не всегда получается, да, Финн?
— Да, не всегда, — сказал я. — Иногда ты бываешь наказанием божьим, но я тебя все равно люблю!
Она кивнула головой и улыбнулась мне:
— Но ведь и у мистера Бога тоже так, правда, Финн?
— Точно! Даже не знаю, что с этим можно поделать.
— Это все эти гребаные камни, Финн. Они такие тяжелые. Это все из-за них, из-за камней.
— Ты о чем, Кроха? Что это за камни, про которые ты говоришь?
— Это все те вещи, которые они говорят тебе делать. Они как камни, вот. И они потом становятся такими тяжелыми, и я ничего не могу делать. Мистер Бог ведь этого не делает, правда, Финн?
До меня наконец начало доходить, в чем тут дело. Викарий действительно все время сыпал своими «делай так», «не делай этак», и временами они уже начинали казаться тяжким грузом.
— Иногда я от этого смеюсь. Это же так смешно!
— Не понимаю, что в этом смешного? И как ты с этим справляешься?
— Никак. Это же смешно. Я просто не могу не смеяться, Финн.
На слух все это казалось слишком сложным, но, судя по всему, она понимала, о чем говорила.
Главная проблема с людьми типа Джона Ди и преподобного Касла состояла в том, что жизнь для них действительно была смертельно серьезной штукой; их хлебом не корми, дай нагрузить тебя выше крыши, так что ты уже не сможешь ни бегать, ни играть.
— Как будто ты обязан носить все эти камни с собой! Но ведь мистер Бог никогда не хотел, чтобы мы так делали, правда?
Насколько Анна понимала мистера Бога и его поступки, он никогда не хотел вставать людям поперек горла или, паче чаяния, чтобы они его боялись. Чего он на самом деле хотел, так это чтобы все смеялись — смеялись над своими собственными ошибками. Если у тебя получалось, значит, ты научился и уже не запутаешься в том, чего не можешь и не умеешь. «Это же смешно, правда?»
Стояла середина осени. Я шел домой с работы. Когда я проходил мимо лавки на углу, меня окликнула миссис Бартлетт, наша местная лавочница, которая, помимо всего прочего, работала телефонной станцией для тех из нас, у кого собственного телефона пока не было. А к этой категории относились все без исключения.
— Финн, — окликнула меня она, — у меня есть для тебя новость. Сегодня после обеда позвонила сестра профессора. Старику чего-то сплохело, так что не придешь ли ты к ним, как только сможешь?
— Спасибо, миссис, — сказал я. — Сейчас только помоюсь и побегу туда.
— Надеюсь, с ним все в порядке. Он забавный старый чудак. Что до меня, так я не понимаю и половины того, о чем он толкует. Ему бы научиться говорить на нормальном английском, вот это было бы да. Вот чем ему стоило бы заняться.
— Как я тебе нравлюсь в виде мадам, Финн?
— Ну, честно говоря, ничего особо не заметно, но тут никогда не скажешь.
— Так он меня называл. «Добрый день, мадам, нет ли у вас по случаю французской горчицы?» А у меня-то на голове папильотки! «Мадам» — вы подумайте! Я себя идиоткой чувствовала, чесслово!
Маму мои приходы и уходы никогда не удивляли. Насколько я понимал, ее также не волновало, происходило это днем или ночью.
— Ты уже сказал Анне?
— Нет, я ее еще не видел.
— Она пошла к Мэй вместе с Бомбом. Я ей просто скажу, что тебе понадобилось уйти. Лучше не говорить лишнего, пока ты не вернешься. Может быть, в результате окажется, что там ничего страшного. Если придешь поздно, разбуди меня. Я и сама хочу знать, как там старый пень.
Я пообещал, что все ей расскажу.
Расстояние до Рэндом-коттеджа, где жили Джон и Арабелла, зависело от того, какой маршрут выбрать, и, разумеется, от транспорта. Автобусы и трамваи занимали слишком много времени. Однако же мне удалось открыть короткий путь, срезав через переулки и набережную.
Пока я несся по мостовой, мысли мои перескакивали с одного на другое, рисуя всякие жуткие картины. В конце концов, Джон не ребенок и, может быть… Я постарался выкинуть это все из головы и просто накручивал педали изо всех сил. Подруливая к задней двери, я уже твердо знал, что не увижу ничего необычного. Арабелла была чем-то занята на кухне. Я позвонил в колокольчик и стал ждать. Вскоре она открыла дверь и приветливо поздоровалась со мной:
— Привет, Финн. Надеюсь, я вас не очень напугала. Спасибо, что приехали так быстро. Ступайте в кабинет, Джон там.
Я выдохнул с облегчением; казалось, все в полном порядке. В кабинете тоже, судя по всему, все было как обычно. Джон восседал в своем обычном кресле со своей обычной пинтой пива в руке.
— Здорово, молодой Финн. Нацедите себе пинту пива и садитесь. Не смотрите на меня так, — усмехнулся он. — У вас такая физиономия, будто вы привидение увидали. Пейте давайте. На самом деле мне было довольно худо, но теперь я уже бодр, как блоха, сами видите.
При этих словах я испытал чувство громадного облегчения, о чем тут же и заявил.
— Боюсь, Финн, Арабелла несколько перегнула палку, но главное — вы здесь.
Это было совершенно типично для Джона — искренне полагать, что другие слишком уж беспокоятся из-за пустяков. В течение секунды или двух я напряженно размышлял, стоит ли мне высказать то, что у меня на душе, и решил, что стоит.
— Вам нужно больше думать о себе, — изрек я.
— Нет, нет, Финн, — прервал меня он, — только не начинай. Ты слишком молод, чтобы указывать мне, что я должен и чего не должен делать.
— Ну, извините, — ответил я. — Вы бы не сказали такого Анне, правда?
— Это совершенно другое, — парировал он. — Вы начинаете думать, как я, и потому я чувствую себя вправе поправлять вас. — Анна же, — продолжал он, — слишком юна, чтобы действительно желать дать мне тот или иной совет. У нее своя, совершенно особая манера думать, я и нахожу ее речи достойными внимания, даже если не всегда понимаю, о чем она говорит.
То, что я начинаю думать, как он, я посчитал за редкий в его устах комплимент, но все равно никак не мог взять в толк, почему он уделял мне так мало внимания, если, по его словам, я все больше и больше походил на него, и почему, с другой стороны, его так интересовал Аннин ход мыслей?
— Я надеялся, — говорил он тем временем, — что вы приведете ее с собой. Вы об этом не подумали?
— Разумеется, подумал, — ответил я с некоторой долей раздражения, — но я решил, что звонок Арабеллы слишком срочен, что вы, должно быть, больны и…
Тут я запутался в собственных словах.
— Тьфу! — засмеялся он. — Тьфу и снова тьфу на вас. Видите, Финн, учиться никогда не поздно.
Меня его замечание откровенно задело.
— Если ваше нездоровье значит так мало, я больше…
— Стоп, Финн. Простите меня.
— Не за что тут извиняться, — проворчал я.
— Я очень рад, что вы пришли. Я действительно хотел вас увидеть. Я тут кое о чем думал последние несколько дней и хотел поговорить с вами об этом.
Я расслабился и решил, что он явно вернулся к своему обычному модусу поведения. Поэтому его следующие слова оказались для меня совершеннейшей неожиданностью.
— Правда, было бы здорово, если бы Анна осталась в Рэндом-коттедже на пару дней?
Меня этот вопрос настолько выбил из колеи, что я оказался просто не в состоянии придумать ответ.
— Похоже, вы удивлены, Финн?
— Э-э-э… да, — признал я.
— Знаете, я ведь вовсе не чудовище, за которое вы меня держите. И у меня есть сердце. Малышка никогда меня не боялась, и мне это, надо сказать, очень приятно.
Когда я объяснил, что не могу дать ему ответ прямо сейчас и что мне сначала нужно спросить Ма и Анну, он, казалось, был весьма разочарован. Не так уж часто случалось, что ему говорили «нет» или отказывались дать немедленный ответ.
— Я поговорю с ними, Джон, — заверил его я. — Я поговорю и дам вам знать позднее.
— Поговорите об этом? Поговорите об этом, молодой Финн? Вы уж, будьте добры, не просто поговорите. Подумайте об этом как следует. Уверен, перемена окружения будет для нее к лучшему.
Я не мог отделаться от странного чувства, что он загнал меня в угол и мне никак не удается оттуда выбраться.
— Подумайте об этом, Финн, — напомнил он, когда я стал прощаться.
Ага, непременно подумаю, пообещал я себе, взгромоздившись на велосипед.
Домой я в тот вечер не торопился. Меня настолько удивил поворот событий, что мне нужно было время подумать, а еще неплохо бы пинту чего-нибудь приятного и просто немножко свободного пространства, чтобы разложить беспорядочно скакавшие в голове мысли по полочкам. Чем больше я обо всем этом думал, тем больше мне казалось, что он подстроил всю эту ситуацию, вплоть до звонка Арабеллы. Хотя нет, это было не в его духе. Тут явно происходило что-то, чего я не понимал. Мне просто нужно было поговорить обо всем с мамой. Я добрался до дома около полуночи. Мама не спала и сидела на кухне, дожидаясь меня.
— Ну, — вопросила она, — какие новости?
— Ложная тревога, — сообщил я. — По мне, так он выглядел вполне нормально.
Она покивала головой:
— Приступ несварения, скорее всего. Бывает крайне неприятно.
У меня до сих пор была такая каша в голове по поводу последних событий, что я решил сначала поспать, а потом уже озвучить его предложение… или это была просьба? Анна уже спала у себя на диване, и мне отнюдь не улыбалось вызвать бесконечный поток вопросов, которого явно хватит на полночи. При свете уличного фонаря я мог ее ясно различить. Единственное слово, пришедшее мне в голову при этом зрелище, было «невинность». Оно же крутилось у меня в голове и спустя пару часов, когда я наконец заснул. Что там говорить, она была сама невинность. Что есть, то есть.
С тем же самым словом я проснулся ранним утром, чтобы принять из рук Анны чашку с чаем. Невинность. Что за отличное слово, даже несмотря на все опасности, которые оно несет. Она уселась на край моей кровати и поцеловала меня со всей страстью маленького ребенка. Только тут до меня дошло, какую ответственность это свойство накладывает на тех, кто старше. Не то чтобы у меня были хоть какие-то сомнения относительно Джона. Просто у меня не было ни малейшего представления, зачем ему понадобилось с ней встретиться. Мысленно я добавил к невинности еще одно слово — «вера».
После завтрака мы наконец обсудили просьбу Джона. Ма полагала, что никакого вреда это не принесет, а кроме того, неплохо было бы увезти ребенка хотя бы на несколько дней из всей этой пыли и фабричного дыма.
— Ты же не думаешь, что он хочет заставить ее перестать ходить в церковь, правда? — спросила Ма.
Такое мне даже не приходило в голову, я был абсолютно уверен, что он никогда не позволит себе ничего подобного. Что до Анны, то мысль о том, чтобы увидеть птиц, кроликов, а то и оленя приводила ее в бешеный восторг. Правда, ей предстояло расстаться с друзьями — с Бомбом, Мэттом, Милли и всей бандой, и это заставило ее еще раз серьезно задуматься над вопросом. К тому времени, как мне пора было уходить на работу, она наконец приняла решение.
— Финн, — завопила она, — если ты тоже поедешь, это будет здорово. Может, ты попросишь мистера Джона, а, Финн?
Я обещал ей обсудить это с Джоном сразу после работы.
— Это был бы лучший вариант, — согласилась с ней Ма. — Мне было бы куда спокойнее думать, что она не одна там, в чужом доме с чужими людьми. Попробуй узнать, зачем она вдруг понадобилась Профессору, а? Я знаю, фантазий у нее — целый мешок с пуговицами, но что такого она может сказать, что было бы интересно ему?
Я пообещал приложить все усилия, чтобы выяснить ответы на эти вопросы.
Анна провожала меня до верха улицы.
— Финн, когда я подрасту, ты сможешь ездить на работу на велосипеде и брать меня с собой, а потом я его буду отгонять назад, а потом приезжать опять и забирать тебя, правда, Финн?
— Всему свое время, — отвечал я. — Не слишком торопись расти, Кроха.
— Я хочу вырасти, как ты, — сказала она. — Такой, как ты.
Последняя реплика мне, конечно же, очень польстила. Крутя педали в сторону завода, я думал только об одном — быть может, ей удастся вырасти и стать хоть немного лучше, чем я.
В тот день я умудрился закончить работу довольно рано и к шести часам, когда звенел звонок об окончании смены, уже был готов идти.
— Куды торопишься, Финн? Подожди меня, пойдем, я тебя угощу хорошей пинтой пенного! — закричал вслед Клифф.
— Он спешит к своей прекрасной даме. Кто сегодня, Финн? Блондинка или брюнетка?
— Ни та, ни другая, — огрызнулся я. — На самом деле она рыжая.
— А! — дошло до Клиффа. — Так ты про Анну?
— Ну да.
— Ты только ею и занят, правда? Она тебе никакой личной жизни не оставит, помяни мое слово. Что она на этот раз придумала? Чего ей от тебя надо? Банку воды из канала или букет полевых цветов?
— Никогда не видел никого типа нее, — включился Тед.
— Просто бомба, да.
— Совершенно убойная девка, факт.
— Да, — согласился я с мнением большинства, — вот если бы еще в сутках было сорок восемь часов. Двадцати четырех точно недостаточно.
Итак, я снова поехал в Рэндом-коттедж. Арабелла открыла на мой звонок.
— Финн, — воскликнула она, — какой вы грязный! Откуда вы вылезли?
Тут я осознал, что приехал прямо в заводской спецовке, а это не самое приятное зрелище.
— Входите, входите же. Только снимите ботинки, пожалуйста. Я не допущу, чтобы все это масло оказалось на моем ковре. Можете посидеть пока на кухне, только подложите сначала на стул газету. Я позову к вам Джона и сделаю вам чай. Надеюсь, вы его надолго не задержите, — мы скоро будем ужинать.
Я пообещал все сделать как можно быстрее.
— Приветствую, молодой Финн, — сказал Джон, входя. — Что у вас случилось?
Затем, окинув меня взглядом и наморщив нос, он изрек:
— Это что, последний писк моды в молодежной одежде? Ну у вас и вид! Что я могу для вас сделать, Финн? Деньги или пара новых брюк? Быть может, желаете ванну?
Его все это откровенно веселило, тем более что он, кажется, пребывал в одном из своих саркастических настроений. Меня это все совершенно не задело — я слышал такое не раз и только молил небеса, чтобы ему не пришло в голову применить тот же подход к Анне. Я постарался передать ему ее слова как можно более мягко, но все равно вышло нелучшим образом.
— Анна сказала, что она не поедет, если я не поеду с ней. Ма тоже так думает.
Он усмехнулся:
— Боитесь страшного людоеда, да?
— Нет, — смело отвечал я. — Мы его не боимся, но вы временами бываете чересчур остры на язык и сами это знаете. О чем вы, в конце концов, собираетесь с ней говорить?
— Вера, вера. Где ваша вера, молодой Финн? Вам бы следовало лучше меня знать, не правда ли, молодой Финн?
Еще немного в том же духе, и мне станет стыдно за свое поведение.
— Извините, Джон, — выдавил я, — просто она еще такая маленькая, и, если бы ее кто-нибудь обидел, я бы… я бы… вот.
— Порвал их напополам, — предложил он. — Не волнуйтесь так, Финн. Я вам охотно помогу.
— Но, Джон, — гнул я свое, — что вы можете с ней обсуждать? Все, что вы знаете, в сравнении с тем, что знает она… Это просто лишено всякого смысла.
— Если это комплимент, я его с удовольствием принимаю.
— Почему, Джон? Объясните мне, почему?
— Она редкостно умная молодая леди и, несомненно, сможет подняться очень высоко, но не это меня так в ней озадачивает. Она заставила меня вновь задуматься о многих вещах, которые я упустил из внимания. Нет-нет, Финн, не пугайтесь. Никакого откровения. Никакой дороги в Дамаск, если вы понимаете, о чем я.[9]
— И чего?
— Быть может, вы этого никогда не замечали, молодой Финн, но у нее подлинный дар. Она умеет использовать нужные слова в нужное время. В отличие от нашего уважаемого викария. Мне просто нравится ее слушать. Она одна из немногих людей, которые временами заставляют меня задуматься. Как и вы, впрочем.
После этого признания я почувствовал себя гораздо лучше. Не часто можно было услышать от Джона подобное.
Домой я ехал довольный и умиротворенный — мой дорогой старый учитель показал себя с лучшей стороны; за Анну можно было не бояться — он ни в коем случае не причинил бы ей никакого огорчения. Особенно приятно было услышать, что он порвал бы напополам всякого, кто осмелился бы ее обидеть. Нет сомнений, слушать ее было очень здорово — весь этот щебет и нескончаемые вопросы, но у меня до сих пор не было никаких идей на тему того, что же он ожидал от нее услышать. Возможно, ситуация как-то прояснится, когда мы оба приедем к нему.
Мама тоже была весьма довольна, когда я закончил свой рассказ.
— Ну, — заявила она, — в таком случае все в порядке. Ты-то сама что обо всем этом думаешь, милая?
— Я рада, что Финн поедет со мной. А то я бы не поехала, — сказала Анна. И, подумав с минуту, добавила:
— А Бомбом можно поедет с нами? Можно, Финн?
— Ох, — ответил я, — честно говоря, не знаю, как и подъехать к нему с этим. Может быть, в другой раз, если он нас еще пригласит. Я узнаю, и тогда она сможет поехать с тобой вместо меня.
— Не поеду, — спокойно отозвалась она. — Без тебя я не поеду.
Просто потрясающе, каким счастливым она умудрялась меня делать. Особенно оттого, что я знал: она за свои слова отвечает.
— Итак, — сказала Ма, — как вы договорились? Поедете на велосипеде?
— Только не сейчас, — отвечал я. — Мы поедем на автомобиле.
— На настоящем автомобиле, Финн? На настоящем-пренастоящем автомобиле?
— Ага. Мистер Джон заедет за нами сюда в следующую субботу в десять часов и привезет обратно в восемь часов вечера в воскресенье.
— А можно я пойду расскажу Бомбом, а, можно? А можно Бомбом и Мэй придут к дому мистера Джона в воскресенье после чая и он привезет нас домой всех вместе, можно, Финн?
— Ну, может быть, и можно. Мы спросим его, когда он приедет в субботу. А ты уверена, что не хочешь позвать еще Хека и Сэнди, и Дорин, и Салли, и Сару, и всех остальных своих друзей?
— Ой, а они все влезут в автомобиль? Влезут, да, Финн? Ой, Финн, ты меня дразнишь, да?
Я кивнул:
— Марш к Бомбом, и чтоб через десять минут была дома.
Она ринулась прочь по коридору. Когда Анна выходила на сцену или покидала ее, об этом неизбежно оказывались осведомлены все домочадцы: она носилась с такой скоростью, что все газовые лампы принимались мигать.
— М-да… — сказала мама, — кажется, мне стоит пойти собрать вам одежду с собой.
Однако через минуту она вернулась.
— Ой, а что мы будем делать с ночной рубашкой для нее? У меня нет времени ничего сшить. Есть в копилке какие-нибудь деньги?
— Пара фунтов, может быть, и есть, — вспомнил я.
— Вполне хватит. На это можно купить две. Лучше добудь ей пару штанишек, а я пока займусь ночнушкой.
— Честно говоря, не могу представить ее в ночнушке. Она же не станет спать ни в чем, кроме моей рубашки.
— Я знаю, — возразила Ма, — но это особый случай, и я не намерена ставить ребенка в неудобное положение.
— Чтобы поставить ее в неудобное положение, нужно что-то гораздо большее, — задумчиво сказал я. — Она и глазом не моргнет, пока ей шило в задницу не вступит.
— И все же, — Ма не дала мне уйти от ответа, — они не такие, как мы, верно? У них большой дом и всякие красивые штуки в нем.
Я расхохотался.
— Вот уж никогда не думал, что ты такой сноб, Ма. Да я бы сам там побоялся жить — до всех этих штук дотронуться страшно.
На следующее утро к семи часам все наши одежки были уже выстираны и выглажены.
— Можно я пойду на улицу, пожалуйста? Мне надо попрощаться с Бомбом и Мэй.
— Некоторые люди в такое время еще спят, знаешь ли, — напомнил я ей. — Если ты встаешь с птичками, это вовсе не значит, что и другие обязаны делать так же. Кроме того, мы же с тобой не уезжаем навсегда. Ладно, марш отсюда и постарайся не испачкаться.
— Постараюсь, — пообещала она. — Ой, Финн, а ты возьмешь и мою сумку тоже, пожалуйста? Вдруг мне чего-нибудь понадобится.
Пришлось мне принести ее сумку и поставить ее рядом с чемоданом.
— Боже ты мой, что там у нее? — поразилась Ма. — Небось, все карандаши и мелки. Что бы она без них делала!
К без четверти десять почти вся улица уже знала, что мы собираемся уехать на два дня, а желающие увидеть автомобиль стали занимать места по обе стороны от проезжей части.
— Привет, Финн! — крикнула Милли. — Вперед и вверх, луне навстречу?
— Похоже на то, да?
Я как раз собирался прикурить сигарету, когда небольшое торнадо врезалось мне куда-то посередь кормы.
— Ты же не забудешь спросить мистера Джона, Финн, правда? А если он скажет «да», ты же позвонишь мистеру Теккерею, да?
Ровно в десять автомобиль Джона свернул на нашу улицу.
— А можно мне вперед, Финн? Ты думаешь, мистер Джон разрешит мне подудеть в клаксон?
Еще несколько «а можно мне?..» вкупе с парочкой «Финн, ты думаешь?..», и мы наконец отчалили. Разумеется, это произошло не раньше, чем она исполнила симфонию на клаксоне (дирижер и композитор — Анна) и подробно объяснила Джону, куда ему ехать, поскольку ни один из многочисленных друзей не должен был упустить возможность лицезреть Анну в автомобиле. Я вольготно раскинулся на огромном заднем сиденье, Анна, визжа и подпрыгивая, устроилась на переднем, и мы медленно тронулись в путь. Джон всегда был очень осторожным водителем, но сейчас ему приходилось следить за дорогой в оба и время от времени уворачиваться от встречных машин, поскольку Анна то и дело принималась размахивать руками и падать на ветровое стекло, желая привлечь его внимание к чему-нибудь интересному, мимо чего мы проезжали.
— Посмотрите! Нет, ну посмотрите же, мистер Джон!
Или:
— Ой, что это? Мистер Джон, что это такое?
Однако мистер Джон был полностью сосредоточен на том, чтобы не встретиться с летающими вокруг его головы руками и добраться до дома целым и невредимым.
В конце концов мы туда добрались. Джон принес нам официальную благодарность за то, что мы не прикончили его по дороге, и заверил, что у него еще никогда не было такого потрясающего путешествия.
Арабелла встречала нас у парадной двери. Мы уже неоднократно бывали здесь, но всякий раз пользовались черным ходом, и нам еще никогда не показывали дом. Максимум, что мы видели, так это столовую и кусочек гостиной по дороге в кабинет.
— Входите оба. Я вам покажу ваши комнаты, а потом вы сможете осмотреть дом. Только, — подчеркнула она, — сделайте милость, ничего не трогайте. Эту комнату мы не используем, — объяснила она, указывая на запертую дверь, — и вот эту тоже, а вон та — моя, можете осмотреть ее, ежели вам угодно.
Нас отвели наверх. У Анны оказалась простая кровать, а у меня — двойная. Я помог ей убрать вещи в платяной шкаф.
— Так, а это как сюда попало? — удивленно вопросил я, когда она вытащила из своей сумки мою рубашку.
— Это на ночь, Финн. Это рубашка, которую ты мне дал.
— А что случилось с теми двумя ночными рубашками, которые я тебе купил?
— Я их вытащила, — объяснила она. — Они были слишком хорошенькие, чтобы в них спать. Вот эта мне нравится больше. — И она подняла повыше мою старую рубашку. В этот самый момент в комнату вошла Арабелла.
— Что это тут у вас? — недоуменно спросила она.
— Это чтобы в ней спать, правда, Финн?
Мне ничего не оставалось, кроме как кивнуть в подтверждение.
— Я найду тебе одну из своих старых блузок, — решительно заявила Арабелла. — Ты не можешь в этом спать!
Анна могла. Более того, ей это нравилось.
Через несколько минут Арабелла вернулась с одной из своих блузок, которая вся состояла из белых и розовых оборок и кружавчиков.
— Можешь надеть вот это, — величественно заявила она Анне.
Распаковывать нам было почти нечего, так что мы быстро с этим покончили и отправились исследовать дом. Анне все вокруг казалось крайне загадочным. Она никак не могла понять, зачем ложиться спать в такой нарядной вещи, если ее все равно никто не увидит. А эти комнаты, которыми никогда не пользовались? Чтобы так жить, нужно быть слегка того, с приветом! А самая настоящая горячая вода в кране? Это только представить себе, что не нужно каждый раз кипятить чайник или зажигать колонку!
— Они же, наверное, настоящие миллионеры, Финн, да?
— Нет, они просто, что называется, «очень неплохо устроились», — объяснил я.
Самым большим сюрпризом для нее оказалось отсутствие висящей на стене ванны — ее не было ни на заднем дворе, ни вообще нигде.
— А ванны у них совсем нет, Финн?
Тогда мы снова отправились наверх, чтобы отыскать ванную комнату. Обнаружив таковую, Анна попыталась сдвинуть ее с места, но не преуспела в этом.
— Финн, она застряла, помоги мне. Надо же вытащить ее в кухню.
Тот факт, что мне тоже не под силу ее сдвинуть, потому что она естественным образом привинчена к полу, оказался выше понимания. Прошло довольно много времени, прежде чем Анна смогла с этим смириться.
Следующие полчаса мы просто бродили по дому и заглядывали во все комнаты, которые были не заперты. Мы обозрели новомодный пылесос (совершенно нелепое изобретение!), электрический бак для кипячения воды, кухонную плиту, работавшую на твердом топливе, и всякие тому подобные новинки. Анна ходила, заложив руки за спину, как в музее.
— Что такое, Кроха? У тебя что-нибудь болит?
— Она мне сказала ничего не трогать, вот я и не трогаю.
— Думаю, она имела в виду ни с чем не играть и не переставлять с места на место.
— Я и не собираюсь, — твердо отвечала она.
За эти несколько лет я успел достаточно хорошо ее узнать. Сейчас мне было совершенно очевидно, что ей что-то не нравится. Когда мы вышли в сад, я спросил:
— Тебе тут не нравится, милая? Думаешь, тебе не понравилось бы тут жить?
— Нет, — бросила она. — Мне куда больше нравится жить дома с Мамочкой. Может быть, кому-нибудь тут и понравилось бы, но только не мне.
И, прежде чем я спросил почему, она с жаром продолжала:
— Финн, тут все такое особенное и столько всяких вещей, за которыми надо все время следить, что они как будто сами за тобой следят и никакого времени не остается, чтобы играть и радоваться.
Я никогда не слышал, чтобы о бытовой технике, призванной облегчить домашний труд, говорили таким образом. Полагаю, в чем-то она была права.
Не оценила Анна по достоинству и то, что за окном не слышно шума проносящихся мимо поездов и в комнату не заглядывает уличный фонарь.
— Я сегодня буду спать у тебя в комнате, Финн. Я там буду спать, и тогда мы сможем поболтать.
Я был далеко не уверен в том, что Арабелле польстит подобный отзыв о ее семейном гнезде, и только надеялся, что она случайно не задаст неправильный вопрос.
Анна крайне удивилась, когда узнала, что у Джона есть свой собственный способ производить сложение. «Математика — это как играть в интересную игру», — сказал он ей. Такой подход оказался для нее внове, и она просто не поняла, о чем речь. Джону пришлось объяснить ей разницу.
— Когда ты играешь на улице, дитя мое, то, ударив по мячу, ты не можешь сделать так, как будто ты по нему не ударяла, а бросив камень — вернуть его назад. Сделав что-нибудь, невозможно обратить процесс вспять. Но со сложением и с математикой все гораздо интереснее — там всегда есть возможность повернуть назад.
В тот день после обеда он показал ей два фильма, которые сам снял много лет назад. Мне еще тоже не случалось их видеть. Мне даже в голову не приходило, что его главным хобби было снимать кино. Предметом одного была игра в шашки, а другого — в шахматы. На пленке не было ни людей, ни даже рук — только фигуры и шашки, делавшие то, что им и положено делать. Это выглядело как настоящее волшебство. Скорость движения пленки можно было варьировать, так что происходящее на экране превращалось то в бессмысленную толкотню, то в нормальную игру. Анне все это ужасно нравилось: все равно что быть сразу двумя разными людьми, один из которых все видит в быстрой перемотке, а другой — в медленной. Неудивительно, что я совершенно запутался со всеми этими разными Аннами, которые стадами бродили вокруг: тех, что видели все в медленном темпе, и тех, что видели в быстром. Временами она приводила мне на память историю про Дика Терпина,[10] который, говорят, как-то раз вышел из «Черного лебедя» в Йорке, сел на своего коня и поскакал себе сразу на все четыре стороны!
— Ну разве бог не замечательный?
Как и многие люди в 1930-е годы, Джон был совершенно убежден в том, что еще несколько лет и наука сможет дать объяснение всему, что вообще стоит объяснять. У него не было ни времени, ни желания верить во что-то, что нельзя было доказать или хотя бы более-менее разумно объяснить. Он держался за свои представления так крепко, что при каждой возможности пускался в пространные рассуждения о науке и научном способе познания мира, высокомерно игнорируя все более тонкие материи, которыми, казалось бы, изобиловала жизнь. Как я уже упоминал, его дом и сад были столь хорошо организованы — всему свое место и все на своем месте, — что любая погрешность против устоявшегося порядка воспринималась как вопиющая несообразность, которую нужно было немедленно устранить. Анна взирала на этот самый порядок с грустью и недоверием.
— Это как рулон обоев, Финн. Который все не кончается и не кончается. Правда же?
Джон подошел к нам, как раз когда мы обозревали сад.
— Тебе нравится, малыш?
— Нет!
Она явно была не из тех, кто уклоняется от удара.
— Неужели вам не нравятся цветы, мистер Джон?
В тот момент перед нами расстилались клумбы красных и желтых, и всяких прочих цветов…
Джон был, мягко говоря, сбит с толку.
— Разве ты не видишь, что нравятся? Я потратил на этот сад кучу времени и денег!
— Но не лю…
Было ясно, что Анна собиралась сказать «но не любите их»; однако она передумала и вместо этого спросила:
— Тогда почему вы не даете им делать, что они хотят?
— Как, ради всего святого, цветок может чего-то хотеть? У него просто нет такой возможности!
Анна могла долго скрывать свое неудовольствие, но в конце концов оно всегда прорывалось презрительным «пуф!». Так случилось и на этот раз. Она повернулась к цветам спиной и устремилась в ту часть сада, которая, по рассказам Джона, была самой неаккуратной из всех и которую он намеревался непременно привести в божеский вид следующей весной, сделав из нее «настоящий правильный сад». Мы с Джоном проследовали за ней.
— Тебе правда не нравится мой сад, юная леди?
Она яростно потрясла головой. Ей не пришлось придумывать ответ, он и так уже давно плясал на кончике ее языка.
— Мистер Джон, у вас тут настоящая война! — Таков был ее безапелляционный вердикт.
Бедный старый Джон был наголову разбит с одного залпа.
— Война? — ничего не понимая, пролепетал он.
Она гордо кивнула.
— Все ваши цветы выглядят как солдаты на параде, — сказала она и для наглядности промаршировала вокруг клумбы, как игрушечный деревянный солдатик. Джон как-то умудрился сдержаться, ограничив изъявление эмоций кратким «Ого!».
Когда мы отправились в дом выпить чаю, я принялся молиться, чтобы Арабелла случайно не спросила Анну, понравился ли ей дом. В воздухе явно пахло еще несколькими пренебрежительными «не-а». К сожалению, она спросила. Однако, к своему удивлению, я не услышал «нет». Анна оглядела комнату и сказала:
— Похоже на заколдованный замок, Финн. Как в той книге, которую ты мне дал.
Я не помнил никакого замка, и мне к тому же совершенно не понравилось то, как она непринужденно сделала меня участником дискуссии. Это всегда означало, что сейчас обязательно что-то случится. Вот и теперь у меня снова появилось это свербящее чувство, но Арабелла и Джон совершенно ничего не поняли и так и лучились от удовольствия при мысли, что живут в заколдованном замке. К следующей реплике они готовы не были:
— Ну, помнишь, Финн, это где люди засыпали на сто лет.
Я бы дорого дал, чтобы в тот момент тоже оказаться спящим! Она начала эту игру, она могла и закончить, но нет, она втащила меня внутрь, и теперь мне оставалось только сидеть и ждать, в надежде, что взгляды, которыми они сверлили друг друга, вскоре смягчатся.
Я никогда не мог понять, почему так получается, что сначала ты годами учишь детей быть правдивыми и честными, а потом приходит время, когда ты только и мечтаешь, чтобы они забыли, чему ты тогда их учил. Со мной такое часто случалось. Я надеялся, что, может быть, на этот раз она не будет слишком честной. Но она была честной все время.
Она на всех парах мчалась к цели, а я, пуская пузыри, шел ко дну. Полагаю, единственное, что мне оставалось, — смириться с происходящим. Порядок, царивший в доме и саду Джона, был отражением того, что творилось у него в голове. Там не было и не могло быть ничего случайного. У Арабеллы и Джона весенняя уборка длилась круглый год и год за годом. Мне по-настоящему нравились острые грани его ума, особенно когда он пускался в пространные рассуждения, например, о красоте какой-нибудь геометрической фигуры или стройности математической формулы. Для меня это всегда было в удовольствие, но, как оказалось, не для Анны. «Скелетики», как она называла формулы и фигуры, были, конечно, очень хороши, но ей требовалось мясо. Она всегда стремилась «одеть» их, и кроме этого, ее ничто не интересовало.
Мы слушали Джона весь вечер. Далеко не все в его объяснениях мне удавалось понять без труда. Идея о том, что рано или поздно все на свете — атомы, звезды и даже Анна — будет объяснено при помощи нескольких физических законов и сведено к математической формуле, была недоступна моему пониманию.
Время от времени я бросал взгляд на Анну, но она не выказывала ни малейших признаков раздражения. Я полагал, что к этому времени у нас позади уже будет хороший взрыв, если не два, но все было на удивление тихо.
— Мистер Джон, — спросила она, — вы все-все знаете про Финна и про меня?
— Ох, — сказал он с некоторым удивлением, — я и забыл, что ты здесь.
Такого она не ожидала. Потребовалось несколько глотков шипучки и печенье-другое, прежде чем она переварила услышанное. Надо сказать, шоу под названием «Бедная крошка» всегда ей удавалось безупречно. Я видел признаки надвигающейся опасности, но всегда чувствовал себя в таких случаях совершенно беспомощным.
— Мистер Джон, — снова подала она голос, — значит, я вот такой маленький кусочек всего, да?
— Да, моя дорогая, как и я, и Финн.
— Вот оно, — пробормотал я про себя. — Джон, надеюсь, вы готовы.
— Мистер Джон! — протянула она невероятно сладким голоском.
— Да, моя милая, что такое?
— А почему тогда такая мелочь, как я, хочет понять все остальное? Это ведь так много, правда?
Джон попытался найти слова, чтобы ответить ей, но они почему-то никак не находились. «Скелетики» Анну ничуть не пугали, и сдаваться без боя она не собиралась.
— Как насчет тех цветов, они ведь меньше меня, да? А что, если цветы тоже хотят все понять? Вот почему они хотят играть, а вы им не даете.
Это было больше чем вопрос, больше чем обвинение, и бедняга Джон просто не знал, что с этим поделать. Судя по тому, как он покачал головой, вопрос ему совершенно не понравился. Для него это был неправильный вопрос. Зато он был правильным для меня, и я хотел услышать ответ. Если все в конце концов сводилось к нескольким физическим законам, то было бы действительно неплохо узнать, с чего это вдруг маленькому кусочку вселенной хочется узнать и понять все остальное. Может быть, я что-то упустил в цепочке его рассуждений? Мистер Джон настолько сбрасывал со счетов мистера Бога, что постичь, в чем разница между осознающей себя Вселенной и Анниным мистером Богом я уже был совершенно не в состоянии. Временами мне уже начинало казаться, что это два строителя, которые пытаются с разных берегов соорудить мост через пропасть, но все никак не состыкуются друг с другом, а я болтаюсь между ними и все никак не обрету опору под ногами. Оказаться в положении начинки для сандвича было очень странно: с одной стороны — старый Джон, вооруженный знаниями и логикой, но совершенно лишенный воображения, а с другой — рыжекудрая мелочь, полная энтузиазма и фантазии, но мнэ-э-э… не владеющая фактами. И мне все равно хотелось узнать, почему малое так стремится понять большое. Зачем ромашке понимать звезду? Насколько я мог судить, этим желанием была одержима некая маленькая частица, прячущаяся внутри нас, как там ее зовут — душа или разум? На свете не бывало столь плохо совместимой пары, как эти двое, но каким-то непостижимым образом они были способны воспламенять друг друга. Имейте в виду, я вовсе не жалуюсь, но временами мне сдается, что это уже слишком. Я довольно сносно справлялся с ледяными безднами правил, по которым жил Джон, и с его восприятием мира, а с другой стороны, в общих чертах ориентировался в раскаленной докрасна солнечной системе Анны, но вкупе это значило, что меня либо заморозят до смерти, либо изжарят заживо!
Мне часто приходило в голову, что у Анны где-то должен быть маленький переключатель, который мне за все годы знакомства так и не удалось найти. Если такой переключатель у нее был, то инструкция почти наверняка гласила: «Варить на медленном огне до готовности, а потом быстро довести до кипения».
Но поскольку ни я, ни кто бы то ни было еще не знал, где она его прячет, всегда существовал риск установить его не в то положение, как я узнал на собственном горьком опыте. Всю последнюю неделю переключатель находился в положении «варить на медленном огне». Анна явно что-то замышляла. Как-то раз мы собирались поехать на чай к Джону, а поскольку времени до назначенной встречи было еще много, то мы выбрали самую дальнюю дорогу и, никуда не торопясь, ехали на велосипеде, глазея по сторонам. Джон уже ждал нас на пороге.
— Ага! Маленький сорванец собственной персоной и молодой Финн.
— Сэр, — благовоспитанно промолвила Анна.
Я уже некоторое время назад покончил с церемониями и потому ограничился простым: «Привет, Джон!»
На столике возле его кресла красовался открытый атлас.
— Чтобы обновить кое-какие воспоминания, — прокомментировал он. — Я провел там довольно много времени. — Он ткнул пальцем туда, где в общем и целом находилась Франция.
— Там — это где, мистер Джон?
Он перевернул пару страниц и ткнул опять.
— А вашего дома тут не видно, правда, Финн?
— На этой карте — нет. Я покажу его тебе на другой.
Он принес карту большего масштаба.
— Вот они мы. Вот тут, где дорога, видишь?
Несмотря на то что у нее был свой собственный атлас, она еще ни разу не видела карты такого большого масштаба, и потому весь следующий час или около того Джон потратил, рассказывая ей о картах. Те, на которых несколько дюймов соответствовали реальной миле, годились для одних случаев, а те, где много реальных миль влезало в один-единственный дюйм, — для совершенно других.
— Ой, смотри-смотри, Финн! Ты про такое знал?
— Ага.
— А почему ты мне не рассказывал?
— Потому что ты не спрашивала.
Именно в этот момент переключатель перешел в положение «быстро довести до кипения».
— Мистер Джон! — Взрыв был такой силы, что я чуть не собственными глазами увидел, как у нее из ушей со свистом вырываются струйки пара. — Мистер Джон, если бы вы могли сделать такую карту, чтобы сквиллионы миль на дюйм, а потом сквиллионы дюймов на милю, вы могли бы видеть всякие вещи, да?
— Какие вещи, моя дорогая?
— Електроны, про которые читал Финн. Тогда бы вы узнали, можно ли их делить, да?
Джон посмотрел на меня. Все, на что меня хватило, — это пожать плечами. Однако она еще не закончила.
— Его можно было бы засунуть в ухо, да?
Я так никогда и не понял, зачем очень маленькие предметы непременно нужно совать в ухо. Впрочем, какая разница. Полагаю, если бы действительно можно было нарисовать карту всей Вселенной такого масштаба, то ничто не помешало бы нам засунуть в ухо «електрон».
В тот момент Джону стоило оставить все как есть и вернуться к своему пиву. Вместо этого он радостно продолжал вещать про разные системы счисления. Он рассказывал об обычной числовой последовательности со знакомыми порядками: единицы, десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч и так далее, — но были и другие, где за единицей следовала тройка, а потом сразу девять, двадцать семь и так далее, не говоря уже об остальных, не менее причудливых. Аннино воображение было совершенно захвачено идеей сокращения и расширения числовых рядов до бесконечности, несмотря на заверения Джона, что до бесконечности этого делать нельзя, потому что существуют физические пределы тому, что может постичь человеческий разум. Все, чего он добился, было: «Но в голове-то это можно, правда?»
На это было действительно нечего ответить. Мне доставляло огромное удовольствие, что на этот раз мишенью ее «идейной бомбардировки» стал он, а не я. Я думал, что так оно все теперь и будет, но надежда оказалась слишком прекрасной, чтобы оправдаться.
— Финн, — раздался радостный вопль, — а ведь можно складывать ангелов, правда?
— Полагаю, такая возможность определенно должна существовать, но вот как это сделать, ума не приложу.
— Ну ты же сможешь узнать, правда? А потом ты все расскажешь мне, да?
Проблема с воспоминаниями не в том, что они могут лгать. Проблема в том, что их слишком много. Чтобы записать все то, что случилось со мной за последние …дцать лет, понадобилось бы в десять раз больше времени, чем ушло на сами события. Правда, в этом есть и приятные моменты — например, можно пропускать все плохие эпизоды и оставлять побольше места для хороших, для всех этих крошечных драгоценностей, которые значили для меня тогда так много. Я даже не знаю, настолько ли они теперь истинны, как казались мне много лет назад. Одним из любимых изречений старого Джона было «Математика есть утраченное искусство цивилизации». Или еще одно: «Математика — не более чем искусство бессознательного». А вот для коллекции еще афоризм от моей мамы: «Мозги — это орган познания, а разум — сад мудрости». Эти слова до сих пор звучат для меня свежо и ново, хотя мой собственный сад мудрости то и дело грозят завоевать сорняки, от которых потом приходится долго и мучительно избавляться. И все же до сих пор я еще ни разу не слыхал, чтобы кто-нибудь смог выразить эти мысли лучше, а потому они, скорее всего, останутся со мной навсегда.
Было еще прелестное, но, как всегда, крайне причудливое высказывание Анны, которое мне так и не удалось до конца понять. Примерно через пару лет полного погружения в математические штудии она однажды ночью огорошила меня новым опусом, представлявшим собой обычную для нее смесь математики и религии.
— Финн, — начала она несколько издалека, — вот ведь забавно, правда?
— Безусловно, — тут же согласился я. — А ты это о чем?
— Религия. — И она постучала меня по голове.
— А что в ней забавного? — спросил я.
Она еще несколько раз задумчиво стукнула меня в лоб.
— Ты становишься меньше в размерах и больше в измерениях.
— Господи, Кроха, где ты этого набралась?
— В одной из твоих книг.
Я был поражен, что она это усвоила; для меня это была одна из тех мыслей, которые даже если и не поймешь, то все равно не станешь просто так выбрасывать из головы. Она звучит так хорошо, что вполне может оказаться правдой, — разумеется, если когда-нибудь до меня дойдет, что она на самом деле означает. Быть может, в один прекрасный день это случится, а до тех пор пусть полежит себе под спудом. У меня внутри так много слов. Слов, которые когда-то сказали Ма или Анна, или Джон. Слов, звучавших столь хорошо, что я не хотел забывать их, даже несмотря на то что не понимал. Ведь когда-нибудь я обязательно пойму.
В мою жизнь все время вторгались новые и новые тайны и загадки, как, например, в тот раз, когда Джон попытался объяснить мне разницу между прикладной и высшей математикой.
— Запомните, молодой Финн, — сказал он тогда, — прикладная математика — это когда вы ищете решение задачи, а чистая… о, чистая — это когда вы ищете задачу для решения.
Странно, что он периодически изрекал такие умные вещи, но так и не смог понять, что имела в виду Ма, когда сказала ему, что Анна ищет не иголку в стоге сена, а скорее стог сена в иголке. Если бы она поменяла «стог сена» на «бога», думаю, мне по-прежнему было бы все понятно. Милли тоже могла иногда выступить с репликой, которая прочно застревала у меня в голове. Милли я знал десять лет, и она была одарена золотым сердцем и острым умом. Нередко мы говорили с ней о любви. Ввиду того, как Милли зарабатывала себе на жизнь, это могло бы показаться кому-то странным, но не мне. Я как раз говорил ей, что мне трудно понять, что такое любовь.
— Спроси лучше Анну, — сказала она. — Наверное, тут дело в том, чтобы видеть в других тайну себя.
Стояло самое начало 1935 года. В шестнадцать лет я был одним из старших учеников Джона Ди. В те годы большинство мальчиков заканчивали учебу в четырнадцать. Для многих это было время радости от того, что они наконец-то получили возможность навсегда распрощаться со школой. Для других дело было в необходимости начать зарабатывать деньги и помогать семье. Недостаток средств был для них вечной проблемой. Я оказался среди тех немногих счастливчиков, у которых была не только небольшая стипендия, но и периодические случайные заработки. У мамы тоже была работа, так что она предложила мне не бросать школу. Свободных денег у нас не водилось, но все же наше материальное положение было куда лучше, чем у большинства соседей. Я был счастлив продолжать обучение, тем более что Джон как раз попросил меня помочь ему в демонстрации физических и химических опытов у него на уроках. В первый день он сказал, чтобы я ничего не готовил. Лекция шла своим чередом.
— Сегодня, — сказал он, — у меня есть для вас хорошая новость. Через несколько месяцев я ухожу в отставку.
Последовало несколько придушенных взрывов восторга, но для большинства из нас услышанное было за гранью возможного.
— С этой счастливой даты нелегкий труд вбивания знаний в ваши головы примет на себя мистер Клемент. Надо сказать, я не особо надеюсь на успех. Ваши черепные коробки настолько непробиваемы, что вряд ли что-то сможет проникнуть в темные бездны ваших разумов.
У него опять был приступ непреодолимого сарказма, который продолжался добрых десять минут.
— Впрочем, — закончил он, — это будет уже не моя ответственность. А до тех пор нам еще многое предстоит сделать.
Мой мир внезапно сменил орбиту. Я был отнюдь не рад этим новостям, но в тот момент не имел ни малейшего понятия, как отставка Джона может отразиться на мне. То, что я не смогу видеть его каждый день, казалось мне невозможным. Мой отец умер настолько давно, что именно Джону в последнее время доставались все мои вопросы и проблемы, а без него… Наверное, я любил старого ворчуна, но в любом случае не собирался ему об этом говорить.
Мы должны были собраться в актовом зале, чтобы официально проводить его на пенсию. Сама мысль об этом была для меня невыносима. Я не хотел расплакаться на глазах у всех.
Если мне так уж сильно захочется поплакать, я сделаю это в одиночестве. У меня было такое специальное место, куда я отправлялся в подобных случаях, — один из маленьких мостиков через канал. По нему редко ходили. Располагался он в конце малолюдной улочки, и с него открывался прекрасный вид на парк. Я мог часами сидеть там, свесив ноги с парапета, и ничего не делать. Думать о будущем я не мог. Кто-то звал меня с берега, но мне не было до этого дела.
— Финн, Финн, где вас черти носят? Не будьте идиотом. Отзовись, мальчик! Отзовись! Думаешь, мне больше делать нечего, кроме как за тобой бегать?
Мой нетерпеливый учитель перешел мост и остановился подле меня.
— Что, никаких прощаний, молодой Финн? Неужели я не стою простого «до свидания»?
— Отвалите! — бросил я ему. — Просто отвалите!
Я вовсе не хотел этого говорить и тут же пожалел о своих словах. Я хотел что-то добавить, но не мог.
— Кто вам сказал, что я тут? Почему вы не можете просто оставить меня в покое?
— Я спросил вашу маму. Отличное место, куда можно прийти, если нужно подумать, не так ли? Что же до ваших слов, то я все понимаю. Правда. Даже несмотря на то что я уже старик. Мой автомобиль стоит вон там, в конце улицы. Если вы не против, давайте проедемся и как следует поговорим.
Когда мы сели в машину, он взял меня за руку. Такого он никогда раньше не делал. Единственное, чем он касался меня до сих пор, так это той самой трехфутовой трубой от бунзеновской горелки, которую использовал вместо трости и при помощи которой вбивал в наши головы «немного знаний».
— Что вас беспокоит, Финн? О чем вы думаете?
Несмотря на то что моя рука покоилась в его, я все равно никак не мог заставить себя сказать то, что хотел. Все, что я смог из себя выжать, это вопль ребенка, потерявшегося ребенка:
— Я что, никогда вас больше не увижу?
— Ах это, — вздохнул он. — Об этом не беспокойтесь. Я этого не допущу.
Мы медленно проехали через парк и взяли курс на болота.
— Что вы думаете делать?
— Наверное, стану искать работу.
— Только не торопитесь. У вас еще очень много времени. Заканчивайте образование и подождите до конца семестра. Мистер Клемент не станет задирать вас, как я, а предмет он знает не хуже. Что же до разлуки — вы знаете, где я живу, вы знаете мой номер телефона, и до Рэндом-коттеджа не так уж далеко, так что можете приходить ко мне в любое время. На самом деле я не просто приглашаю вас приходить, а прошу об этом. Можете продолжать у меня консультироваться по всем научным вопросам. Вы — многообещающий малый и… словом, приходите, когда пожелаете. Вы это хотели услышать?
Именно этого я и хотел. Старые добрые времена вернулись вновь.
— А уговариватель я заберу с собой, — усмехнулся он. — Я без него уже не могу.
Так вот оно и получилось. Конечно, теперь я видел Джона не так часто, но зато гораздо более подолгу, чем раньше.
Мистер Клемент действительно был отличным человеком и хорошо знал предмет. Возможно, ему просто не хватало уговаривателя. По этой ли причине или еще по какой, но после пары-другой розыгрышей и утонченно исполненных шалостей меня вежливо попросили освободить школу от своего присутствия. Если бы старый Джон с его методами убеждения остался на прежнем месте, я бы еще учился и учился. Но все изменилось. С Джоном наказание было скорым, но и отвечать ему было приятно. Мы все немножко скучали по уговаривателю, тем более что он бил далеко не так больно, как можно было бы подумать. Джон никогда не говорил: «Меня это ранит больше, чем вас». Он знал, что делает, и уговариватель ранил лишь настолько, насколько ему позволял хозяин, однако стоит учитывать, что слабаком последний отнюдь не был. Мне тоже один раз досталось от него, причем он никогда не извинялся. Кто угодно, только не он.
— На прошлой неделе, — сказал он в тот раз, — после матча по регби у тебя был роскошный вид: без переднего зуба, зато с прекрасным черным синяком под глазом и расквашенным носом. А как ты собой гордился! Я просто пытаюсь доставить тебе еще большее удовольствие — чтобы тебе было чем потом хвастаться.
И вот после всего этого я вдруг оказался на заводе, я встречал кучу новых людей и заводил новых друзей. А потом в моей жизни появилась Анна.
После нескольких встреч с Анной Джон пришел к одному заключению, которым не преминул со мной поделиться однажды вечером, когда я пришел его проведать.
— У Анны масса неразработанных и неконтролируемых талантов, которые очень нуждаются в упорядоченном развитии.
— Разумеется, — отвечал я. — И как вы все это видите?
— Ей нужен правильный учитель, — сказал он. — Я знаю, что вы сделали все, что могли, чтобы помочь ей в этом, молодой Финн, но вы не станете отрицать, что у вас нет специальной педагогической подготовки, не так ли?
Пришлось согласиться, что моей единственной подготовкой были годы учения у него.
— Да, я вас учил, но я учил тому, как учиться, а не тому, как учить.
Я, как всегда, хотел дать ему на это достойный ответ, но слова не шли на язык. До сих пор мы с Анной прекрасно умудрялись учить друг друга. Мы оба были и учителями, и учениками, а самым главным, быть может, был как раз такой расклад, когда она была учителем, а я — учеником. Я не сказал ему этого. Такого вообще не стоило говорить обладателю подобного опыта и знаний. Поэтому я не стал говорить ничего.
— Несмотря на то что я сейчас нахожусь в отставке, я буду счастлив помочь ей с этим.
— Сначала вам нужно будет поговорить с мамой и узнать, что она скажет, — заявил я. — А кроме того, вам придется еще выяснить мнение Анны на этот счет.
— Нет, Финн, с мамой я, разумеется, поговорю, но убедить ребенка придется тебе.
В конце концов я согласился поговорить с Анной, но давить на нее я не собирался. Сказать по правде, мне вовсе не так уж нравилась эта Джонова идея, но стоять у Анны на пути, если она действительно этого захочет, я в любом случае не стал бы. Я был заранее согласен на все, что хорошо для нее.
На то, чтобы все как следует разрулить, нам понадобилось несколько дней. Мама по здравому размышлению согласилась, что стоит попробовать и посмотреть, как оно пойдет. Однако разговор с Анной оказался труднее, чем мы все ожидали. Ее первым ответом было решительное «нет».
— Ты не хочешь учиться? — спрашивал я ее.
— Конечно, хочу.
— Тогда почему «нет»?
Ход ее рассуждений был предельно прост, и, я уверен, для мистера Бога этого было бы вполне достаточно, но вот для Джона, боюсь, нет. Если он требовал, чтобы все всегда было прилично и аккуратно, то взгляды Анны были диаметрально противоположны. Два полюса батарейки не могли быть более противоположны.
В отличие от Джона я еще некоторое время назад оставил все попытки понять, как работает разум Анны. Я удовлетворялся тем, что давал событиям идти своим чередом, периодически вытаскивая Анну, если ей случалось в чем-нибудь капитально запутаться. Если не получалось у меня, то была еще мама, которая на самом деле понимала ее даже лучше. Она знала, что временами Анне будет больно, но таков был естественный порядок вещей.
— Не существует простого и безопасного способа взрослеть, — как говорила Ма в своей обычной перевернутой манере. — Может быть, и есть более безопасный, чем этот, но совсем безопасного нет и быть не может.
Ма и Анна часто со мной такое проделывали. На мои простые вопросы они отвечали еще более сложными, так что я принимался стенать и жаловаться.
— Поразительно, что ты еще не разобрался, — то и дело замечала мама.
Особым образованием она не блистала, но за свою жизнь успела накопить богатейший и самый разнообразный опыт. Как часто ей случалось класть мне палец на губы со словами:
— Никаких вопросов, милый, подожди. Это слишком трудно сделать, пока ты молод. Придет еще время, когда вырастешь. Затем и нужна жизнь.
Бедная мама, ничего-то она не понимала.
Она очень редко сердилась, но иногда на нее находило — и тоже в ее особенной манере, безо всякого шума и криков.
— Ты и твой драгоценный учитель! Меня тошнит от вас обоих! Вы все видите и ничего не понимаете!
— Спокойно, мам, спокойно! Что такого делает Анна, чего не делаю я?
Она взяла мое лицо в ладони, смягчая боль.
— Ты никогда не замечаешь того, что видишь чаще всего, — сказала она, улыбаясь. — И твой мистер Джон тоже. А Анна — да.
Она помолчала и добавила:
— Вот это и называется «откровение».
Выдав мне эту жемчужину мысли, она взяла лист бумаги и крупно написала два слова — «смотреть» и «видеть».
— У слова «смотреть» оба глаза широко распахнуты, а у слова «видеть» — оба полузакрыты.
Кажется, я мог бы понять, что она имеет в виду, но Джон учил меня совершенно не этому.
— Это ненаучно, мам, это все твои фантазии.
— Да, немногому они тебя научили. Наука — это здорово, но она еще не все.
Спорить я с ней не собирался, но и согласиться не мог.
— Что такое твоя наука? — продолжала она. — Просто умение открыть стоящие за фактами правила. Твоему мистеру Джону никогда и в голову не придет, что в мире есть что-то еще.
— А разве в мире есть что-то еще?
— За правилами всегда стоят факты, и это называется религия.
Я чуть было не сказал, что это две стороны одной медали, но быстро захлопнул рот. Еще немного, и я бы неизбежно запутался. В этом главная сложность, когда разговариваешь с людьми убежденными.
Когда я вернулся домой, все уже было позади. Артур уже пришел в мир, целый и невредимый, повитуха Тернер была вполне им довольна, а большинство народу, ждавшего у парадной двери миссис Джонс, уже разошлись. Единственным человеком, не имевшим полного представления о разыгравшейся здесь волнующей драме, был я. И с помощью Анны мне вскоре предстояло заполнить кое-какие пробелы в образовании.
— Финн, ты когда-нибудь видел, как выходит ребенок?
— Выходит откуда?
— Не будь идиотом! Рождается.
— Нет, у меня детей еще не было. Котят видел. Щенков видел. Детей не видел. А что?
— Знаешь, что с ними делают?
— Нет. Что?
— Их переворачивают вниз головой и шлепают по попе. Вот что с ними делают.
— Зачем это нужно?
— Понятия не имею. Повитуха мне не сказала. Интересно, зачем переворачивать-то?
Это самое переворачивание вверх ногами было понятно Анне как нельзя лучше. Оно заставляло посмотреть на мир под правильным углом, так что переворачивание новорожденного вверх тормашками было отнюдь не худшим способом вступить в жизнь. В шлепанье по попе она была не столь уверена.
Интересно, как отнесется к подобным расспросам Джон. Наверняка он и не догадывался, что его ожидает. Скорее всего, он искренне полагал, что процесс Анниного обучения будет прост и прям, как полет стрелы. Полагаю, его ожидали сюрпризы.
Первая неделя прошла довольно спокойно. Несколько заторов, но в целом ничего страшного. И, разумеется, целый водопад вопросов каждый раз, когда я забирал ее домой.
Для дороги домой я всегда выбирал самый безопасный маршрут, потому что Анна обычно так вертелась и извивалась, сидя у меня на руле, что ехать вдоль канала было просто страшно.
— Финн, мистер Джон сегодня меня сфотографировал, и, Финн, представляешь, я там была по-настоящему перевернутая. Все было перевернутое.
Большой пластиночный фотоаппарат Джона определенно показывал вещи в перевернутом виде. Так что дело было или в нем, или в Анне. В ком именно, она тогда уверена не была. Что же до самого явления перевернутости или «задом-напередности» в зеркале, то это еще требовало серьезных размышлений, и Джону следовало сохранять величайшую осторожность, если он не хотел в один прекрасный момент и себя обнаружить вывернутым наизнанку.
— Знаешь, почему оно все перевернутое и наизнанку, Финн? Знаешь, почему так получилось?
— Скажешь, когда приедем домой, только не теперь, Кроха, а то мы с тобой будем оба валяться кверху рамой посреди дороги.
Однако такие пустяки волновали ее куда меньше, чем необходимость немедленно поведать мне, почему все-все было вверх тормашками.
— Потому что, — радостно завопила она, — мистер Бог нас еще не закончил.
— Если ты не будешь сидеть спокойно, — возразил я, — ему это и не удастся.
— Финн, когда нас всех правильно закончат, тогда все у нас будет головой куда надо.
Слов нет, как я был рад это услышать. Ее слова меня по-настоящему успокоили.
На протяжении всего ужина Анна бомбардировала нас нескончаемыми рассуждениями о способах отделить одну категорию от другой. Все, что для этого требовалось, — перевернуть одну вверх ногами… или все-таки обе? В точности она вспомнить не могла, а, возможно, это и не имело особого значения. Сама методика переворачивания вещей с ног на голову в целях лучшего их понимания ничуть ее не удивила. Она всегда была специалистом по такого рода манипуляциям, как, собственно, и мама с ее изречениями. Я немного завидовал Джону по поводу его занятий с Анной, но она нашла идеальный способ успокоить меня, сказав: «Он и вполовину не такой хороший, как ты, Финн, он все время путается». Я не собирался этого ему передавать, да он все равно бы мне не поверил. Если она захочет донести до него тот факт, что он немного запутался, пусть делает это сама.
Первая неделя обучения прошла просто замечательно, не считая незначительного вопроса о жизни вверх ногами. До сих пор с ним такого не случалось. На второй неделе все было уже куда хуже. На самом деле я был на грани катастрофы. Анна показывала ему всякие интересные вещи, с которыми я познакомил ее несколько месяцев назад. Это были разные штуки с числами и шахматы. Тогда я использовал для объяснений ее собственные слова, а не те, что можно найти в учебниках. Для Джона, в свою очередь, правильная терминология была очень важна, так что, когда она называла что-нибудь «та штука, которую Финн мне показал», он едва не взрывался. Знаю, я должен был называть это биноминальной теоремой, но у меня как-то не сложилось. Тогда это не казалось мне таким важным, но теперь его острый язык воздал мне сторицей.
— Почему, ради всего святого, ты ее учил этому, молодой Финн? Она же совершенно не готова к таким вещам…
— Ничему я ее не учил, — отбрыкивался я. — Оно само получилось. В чем проблема, Джон? Она все неправильно поняла?
— Нет, — отвечал он. — На самом деле она все прекрасно объясняет своими словами, но ты был обязан научить ее использовать правильные термины, иначе никто ее никогда не поймет.
Я не стал рассказывать Джону, сколько времени я потратил на то, чтобы объяснить Анне, как правильно использовать терминологию и давать имена вещам и явлениям. Ей не составило труда мгновенно перепрыгнуть от чисел к мистеру Богу. Все те многочисленные имена, которыми его называли — Аллах, Абсолют, Иегова, — были в общем не так уж и важны, не правда ли? Анна выбрала для себя «мистера Бога», а все остальные объекты непринужденно называла «эта штука». У большинства ее друзей было по три имени, а у некоторых даже четыре, так что, каким именно их звать, особого значения не имело: они все равно знали, что обращаются к ним. Если ей самой было все равно, звали ли ее Анна, или Кроха, или даже «сорванец», то и мистера Бога это, скорее всего, совершенно не волновало. Слишком много шума из ничего. Джона слегка выбило из колеи, когда ему заявили, что он просто менял имена, в то время как Финн менял числа. Это она пыталась объяснить ему, что у каждого квадратика на шахматной доске есть свое имя, которое можно поменять. Числа были нужны для того, чтобы объяснить вам, сколькими разными способами можно туда попасть. А как вы будете называть квадратик, когда попадете туда, не имело уже решительно никакого значения, правда?
Еще меньше ему понравилось, когда я сказал, что все, что я смог ей дать, — это что-то вроде плота для плавания по водам жизни, хотя он и оказался довольно дырявый.
— Какому еще бреду ты умудрился ее научить? Скажи лучше сразу, чтобы я знал, чего мне опасаться.
Я сказал ему, что больше всего она хочет знать, как производить сложение с ангелами и, возможно, даже с мистером Богом, а поскольку никто точно не знает, даже сколько пальцев у ангела, то она занимается индексами, степенями, системами счисления и всем таким прочим.
— Да неужели? Нужно будет в этом как следует разобраться. Уверен, у нее там полно всякой путаницы. Какого черта ты не оставил все это мне?
Очень скоро ему предстояло обнаружить, что сложение — далеко не самое сложное, если у тебя есть необходимые навыки. Причиной неприятностей, как всегда, стали ее вопросы. Я попытался рассказать ему про пятьдесят лысых мужчин, о которых она меня спрашивала. Дело было так: имелась церковь, и каждое воскресенье в нее приходили пятьдесят лысых мужчин, на головах которых были написаны числа от одного до пятидесяти. Под куполом церкви сидел ангел с фотокамерой, и каждое воскресенье он делал снимки номеров на головах (вид сверху), причем каждое воскресенье мужчины должны были сидеть в разном порядке. Все было бы хорошо, но она желала знать, если, скажем, викарию тридцать лет, то сколько ему будет, когда лысые товарищи наконец-то повторят первоначальный порядок. Я попытался ей объяснить. Насколько нам удалось вычислить, викарию будет 5,84886462 лет. То есть к тому времени, как повторится исходный порядок чисел, викарий будет слишком стар, чтобы его это могло волновать всерьез. Да, он будет очень-очень старый, старше Мафусаила, старше даже, чем старый добрый приятель Tyrannosaurus Rex.[11] Ох, даже если сложить возраст всех живущих сейчас на Земле людей, и то он будет старше. Может быть, он даже будет старше, чем… ой, нет. Это невозможно. Я знал, что она на это ответит.
— О-о-о, Финн, разве сложение это не здорово?
— Да куда уж здоровее!
Ага, особенно если кто-то другой делал за нее всю трудную работу. И как же это и вправду оказалось здорово, когда она стала делать всю трудную работу сама!
С точки зрения преподобного Касла, никакой такой важностью числа не обладали; с точки зрения почтенного Джона Ди, который, напомним, совсем не верил в бога, походы в церковь были напрасной тратой времени. Что же до лысых товарищей и прочих Анниных проблем, то все дело было в сочетаниях и перестановках (терминология, возможно, и нормальная, но совершенно не из ее репертуара). В результате всего этого я оставался бултыхаться где-то посередине между воюющими противоположностями. Все они не понимали одной простой вещи. По крайней мере, простой в Аннином изложении.
Другое дело, когда она попросила меня выразить это в числах. На это ушло много времени. Анна хорошо усвоила на практике, что, если имеешь дело с нормальными маленькими числами, они имеют забавную тенденцию внезапно превращаться в очень-очень большие, а очень-очень большие числа были числами мистера Бога. Для Анны это фактически было одно и то же.
В ее интерпретации шесть дней творения выглядели несколько по-другому, чем в канонической трактовке. Не то чтобы ее идеи больше никого не впечатляли, просто для того, чтобы понять, что именно она имеет в виду, нужно было видеть и слышать ее в момент объяснений. Я, например, не знал, что в первый день мистер Бог сделал только три вещи. И хотя она не знала, какие именно три и даже не было ли там больше трех вещей, это уже не имело никакого значения.
— Потом он пошел спать, — рассказывала она мне, — и ему снилось то, как можно организовать эти три вещи разными способами. Так что на следующий день, когда он расположил их по порядку, у него в конце концов получилось уже шесть вещей, а потом он, конечно же, еще немного поспал и ему снилось, сколько может быть разных способов организовать уже шесть вещей.
И ее совершенно не удивило, что таких способов в результате оказалось 720. Она сдалась только на своем следующем вопросе: «Сколько всего может быть разных способов расположить 720 вещей?» Это было уже немного слишком — как для нее, так и для меня. То, что мистеру Богу предстояло сделать на пятый и шестой день, мог сделать только он. Число сделанных вещей уже становилось настолько огромным, что его, наверное, уже никто не смог бы вычислить. И неудивительно, что к седьмому дню он уже дико устал от всех них и решил как следует отдохнуть.
Для Анны Бог и очень большие числа представляли собой одно и то же, — поэтому ни то, ни другое ее совершенно не пугало. И то и другое было мило и прекрасно, так что они просто обязаны быть одним и тем же, не так ли? Когда на Анну по-настоящему находило, оставалось только слушать ее, пока она не закончит или не выдохнется. Когда ее несло, лучшим местом для нее были мои колени.
Джон, в свою очередь, несколько удивился, когда обнаружил ее у себя на коленях. Я знаю, что на самом деле ему это было приятно, но в его педагогической практике такого раньше не случалось. Пары часов хватило бы кому угодно, а Джон был уже не молод.
— Тебе лучше забрать ее домой, Финн, и привезти назад завтра. Мне нужно время, чтобы прийти в себя. Хотя большую часть времени я не понимаю, о чем она говорит, должен признаться, мне нравится слушать ее. Возможно, что в ее болтовне есть некий смысл, и я бы с удовольствием послушал еще, но не сейчас. Так что отвези ее домой и привози обратно завтра.
В нашей общей жизни мистер Джон, как его называла Анна, играл все более значительную роль, так что визит к нему нашей мамы откладывать было больше нельзя. Вот так и получилось, что в один прекрасный день мы все вместе сидели после обеда у него в гостиной и пили чай: Анна — на диване между мной и мамой, а Джон — напротив нас в своем любимом кресле. Странное это было собрание — три человека, которые не только не боялись говорить то, что думают, но и действительно могли в любой момент это сказать. Разумеется, был еще я, но, поскольку кто-либо из присутствующих меня то и дело чему-нибудь учил, в расчет меня можно было не принимать. В этой ситуации я был в положении зрителя, пришедшего посмотреть хорошую пьесу. Хотя я совершенно твердо знал, что сегодняшняя встреча не кончится ни дракой, ни ссорой, кто-то из них все равно должен был рано или поздно допустить тактическую ошибку. Ма всегда полагала, что большинство людей продолжают болтать, когда сказать им на самом деле уже нечего. Она не нашла ничего лучшего, как спросить Джона, были ли на самом деле необходимы эти дополнительные занятия.
— Ну, вы же не хотите, чтобы она росла, как дикарь в джунглях, правда?
Анна кивнула головой и сжала мою руку.
— Я в этом, надо сказать, совсем не уверена, — заявила мама. — Совсем не уверена.
— Да ладно вам. Почему вы так говорите?
— Ну, у меня, например, нет вашего образования, но мне кажется, что так называемые дикари живут вовсе не так уж плохо.
— В чем это?
— Они, по крайней мере, как-то умудряются жить со своими дьяволами и демонами и при этом наслаждаться жизнью, а мы со всеми нашими благами цивилизации что-то уж очень часто терпим поражение.
Что можно было бы на это ответить, я не знаю. Не знал этого и Джон. Его следующий залп тоже прошел мимо цели.
— Но каждый день она становится старше, и каждый потерянный день уже не удастся вернуть.
С его стороны это была очень грубая ошибка. Никто в комнате, кроме него, в это не верил. Своими словами он ставил образование незаслуженно высоко.
— Потерянные дни, а то как же, — сказала мама. — Думаю, в этом мире нет ничего действительно ценного, что не могло бы подождать.
Мамина спокойная и медленная манера речи совершенно обескуражила Джона. Ее никогда не было на той клеточке доски, где ожидаешь ее увидеть.
Следующие тридцать минут Джон и мама потратили на то, чтобы разработать план дальнейшего обучения Анны.
— Итак, — произнес Джон наконец, — что мы будем делать с этой необычайной маленькой мисс?
Необычайная маленькая мисс захихикала и пихнула меня локтем.
— Почему бы не спросить ее? — предложил я.
— Не сейчас, — сказал Джон. — Ты на самом деле необычайная маленькая мисс? — спросил он у Анны.
— Это я, Финн?
— А я откуда знаю? — рассмеялся я. — Временами ты — форменное безобразие. Если это относится к категории необычайных явлений, тогда да.
Джон в ответ на это замечание нахмурился, всем своим видом выражая неодобрение.
В результате мы пришли к такому решению: я буду привозить Анну к нему домой и, пока он помогает ей с уроками, стану делать ту или иную работу по саду. То есть, вместо того чтобы бить баклуши или делать другие не менее интеллектуальные вещи, которыми я привык заниматься в свободное время, я буду еще и получать деньги, и, надо сказать, больше, чем когда-либо давали мне все мои случайные приработки. Я был более чем доволен.
Джон оказался не единственным, у кого были совершенно четкие представления о том, как и чему следует учить Анну. Еще немного, и мне впору будет думать, что я оставил беззащитное дитя на растерзание хищникам. Казалось, каждый, кто был с ней знаком, знал, и гораздо лучше меня, что с ней следует делать. Через несколько месяцев такой нервотрепки Джон как-то сказал, внимательно глядя на меня поверх кружки с пивом:
— Знаете, Финн, мне думается, есть только один способ правильно учить Анну… по крайней мере, как-то нормально организовать сам процесс…
— М-м-м… и что же это за способ, Джон? — вопросил я, мысленно готовясь к худшему.
— Полагаю, вам придется найти самый большой ящик, какой только возможно, и просто спрятать ее в нем от всех людей. Разумеется, никто в здравом рассудке не стал бы этого делать, но это единственный выход, который я вижу из сложившейся ситуации. Ее очаровательная привычка просить каждого встречного и поперечного написать ей что-нибудь большими буквами означает, что ее головка совершенно открыта любым мнениям и любым бредовым идеям, какие только можно себе вообразить. Ей нужен один-единственный хороший учитель, а не сотня плохих. Если бы мне было лет на двадцать поменьше, я был бы счастлив взять ее к себе в обучение на регулярной, а не такой вот спорадической основе.
— Джон, — напомнил я ему, — на случай, если вы забыли, — вы учили меня почти пять лет.
— Да, о да, — вздохнул он.
— Так что, скорее всего, не все так плохо.
— Нет, — согласился он, — пока ты занят чем-то одним в один момент времени, все еще не так плохо.
— Джон, помните, какое у вас было прозвище?
— Какое именно вы имеете в виду? У меня их было столько…
— Черный Рыцарь.
— Ах это, — сказал он, — я никогда не мог понять, почему мне его дали.
— Да ну вас, Джон. Уверен, вы прекрасно все понимаете.
— Нет, честное слово, нет.
— Ваша привычка перескакивать с предмета на предмет может оказаться опасной для неокрепших умов.
— Да неужели? Но я всегда знаю, что делаю.
— И Анна тоже. Насколько я могу судить, она тоже прекрасно знает, что делает. Так что, быть может, у меня есть не только Черный, но и Белый Рыцарь.
— Быть может, вы правы, молодой Финн, быть может, вы правы, — тут же откликнулся он в своей саркастической манере, к которой всегда прибегал, когда не мог найти достойный ответ. — А сами вы, я полагаю, можете считать себя королем.
— Ну, нет, — усмехнулся я. — Только не я. Я всего лишь пешка. Проблема только в том, что мне слишком уж часто приходится менять цвет.
— А вы умны, Финн.
— Меня учил умный учитель.
— Что меня в ней чрезвычайно озадачивает, — продолжал он, возвращаясь к предмету, который так сильно его волновал, — так это то, что она мертвой хваткой вцепляется во все подряд, даже в откровенный мусор, и держится, пока не поймет и не изучит досконально к вящему своему удовлетворению. Если что-нибудь на свете в состоянии заставить меня поверить в существование души, так это чистое, незамутненное упорство ребенка в познании мира. Вот что в ней так меня удивляет и очаровывает. Уверен, даже встретив самого дьявола, она бы и бровью не повела. Посмотрите, что вы со мной сделали, Финн! Я становлюсь слезливым и сентиментальным, это совершенно никуда не годится. Знаете, что она у меня спросила на той неделе? Она спросила, о чем бы я стал молиться, если бы бог существовал. И, да помогут мне небеса, я ей ответил. Вы будете смеяться, Финн. Я сказал, что в таком случае попросил бы бога, чтобы он вернул мне мою коллекцию бабочек и мотыльков. Это единственная вещь, о которой я до сих пор жалею. Так что, видите, пообщавшись с вами двумя, я стал слаб на голову, а это не есть хорошо.
Однажды она прибежала в сад, громко зовя меня по имени. Я каким-то образом умудрился схватить ее в объятия, прежде чем она свалилась в клумбу с цветами.
— Финн, Финн, скорее иди туда. Мистер Джон упал и не может встать.
Когда мы ворвались в гостиную, он выглядел вовсе не так уж плохо — может быть, слегка бледен, но ничего такого, что нельзя было бы поправить с помощью пинты доброго пива. Правда, у доктора, который вскоре приехал, был иной взгляд на вещи. Джон стар, утомлен, ему нельзя волноваться, и вот так Аннины уроки внезапно подошли к концу.
— Не мог бы ты продолжать присматривать за садом и делать для меня другую мелкую работу? — спросил меня Джон.
— Разумеется, мог бы.
— Пожалуйста, приводи с собой девочку всякий раз, как придешь. И друзей с собой берите, если она захочет, только не очень много. Они смогут играть в саду, а Анна будет разговаривать со мной, а потом мы все станем пить чай.
Хотя Анна легко схватывала многие самые сложные идеи, но, когда дело доходило до сложения, все оказывалось далеко не так просто. У меня это тоже была не самая сильная сторона. Быть может, именно моя любовь к математике заставила ее думать, что этот предмет обязательно нужно понять. Проблема состояла в том, что в школе сложение, вычитание и умножение были скучны как смертный грех. Как, собственно, и все остальное. С ее точки зрения, все это не стоило и выеденного яйца.
Что ей действительно хотелось знать, так это как разговаривать с ангелами, мистером Богом и, кто знает, быть может, даже с теми людьми, которые живут далеко-далеко, там, на звездах. Мешало только то, что она не знала, как это сделать.
— Финн, — спрашивала она, — как складывать ангелов?
Меня этот вопрос слегка выбивал из колеи. До меня как-то не доходило, зачем ангелам может понадобиться, чтобы их складывали. В любом случае я подозревал, что у них просто нет на это времени.
— А с чего ты взяла, что ангелы могут захотеть заниматься сложением? — осторожно спросил ее я.
— Не знаю, — отвечала она, — но они же могут.
— Полагаю, да, — сказал я, — но я честно не могу понять, зачем это им.
Она надолго задумалась, а потом выдала:
— Если они захотят знать, сколько на небе ангелов, то как они смогут это сделать, а, Финн, как?
— Не знаю, солнышко. Понятия не имею. Думаю, уж как-нибудь они смогут это узнать.
На нее такой ответ не произвел особого впечатления. И она попыталась зайти с другой стороны.
— Хорошо, — сказала она, — тогда как они смогут узнать, сколько у них людей, за которыми надо приглядывать? Им же придется посчитать? Разве нет, Финн?
— Ну, наверное, они делают это точно так же, как ты. Думаю, они тоже считают на пальцах.
— Тьфу ты! — Она была откровенно возмущена. — У ангелов же нет пальцев!
Такие беседы очень быстро заходили в тупик. Так произошло и с этой.
— Ну, — закончил я бодрым голосом, — тогда они, должно быть, считают на своих перьях.
Еще в процессе я осознал, что эта идея была крайне глупой, и пожалел, что она у меня вырвалась. Она скорбно посмотрела на меня и задала следующий вопрос, который по всем параметрам должен был меня окончательно добить:
— И сколько, по-твоему, у них перьев?
— Не имею представления, — отвечал я, — полагаю, тысячи и тысячи.
— С ними, наверное, можно здорово считать.
— Уверен, можно, — радостно заключил я.
Скорее всего, она поняла, что я над ней, как обычно, издеваюсь, и попыталась расставить ловушку, из которой мне было бы трудновато выбраться.
— Финн, выясни для меня, пожалуйста, как ангелы считают, и мистер Бог тоже, и все прочие, кто там есть.
— Стоп-стоп. Попридержи коней! Кто это там есть? Может быть, там вообще никого нет.
На эту тему можно было долго сотрясать воздух.
— Но если есть, то как они считают, Финн? Давай ты это узнаешь и потом расскажешь мне, ладно, Финн?
Похоже, она решила дать мне задание, которого мне хватит на всю оставшуюся жизнь.
Меня-то ангелы и особенности их сложения не особенно занимали. Если им так уж хотелось складывать (себя или что-то еще), полагаю, они прекрасно могли справиться с этим сами. Если бы не Аннины постоянные напоминания, я быстро бы об этом забыл. В любом случае вплоть до знакомства с ней я никогда не встречал ангелов, а если и встречал, то не знал об этом, а с марсианами и тому подобными созданиями совершенно точно не был знаком. Но все же кое-что мне удалось для нее узнать. Это ей чрезвычайно понравилось и привело в исключительное волнение. Когда я закончил свои изыскания, результат выглядел вполне очевидным, но без калькулятора или компьютера процесс вычисления был ужасно долгим и утомительным.
Предположим, имеется ангел или еще кто-то, и у него есть семь пальцев, на которых можно считать. Все, что нужно сделать, это разделить число пальцев, которые у него есть или на которых он считает, на само это число; например, если их семь, то разделить семь на семь и получить в результате один. Затем следует разделить один на количество пальцев. Один разделить на семь будет 0,142857142. Это и есть магическое число для семи пальцев. Дальше все довольно просто, только занимает много времени. Вы делите это самое магическое число на само себя и получаете, разумеется, один; потом делите один на магическое число и получаете семь. Потом делите семь на магическое число и получаете в итоге сорок девять. Потом делите сорок девять на магическое число и получаете 343. И дальше продолжаете в том же духе х… х2… х3… х00. У каждого числа такое магическое число свое. Вот вам еще один способ переворачивать вещи кверху ногами. Добрый старый мистер Бог, он опять сделал это! Для Анны общаться с богом было чистым удовольствием.
Аннины периодические экскурсы в Библейскую энциклопедию и словари не всегда бывали успешны. Тех слов, которые она больше всего хотела найти, там, как правило, не оказывалось. Например, она долго искала там слово «веселье», но так и не нашла. Слово «играть» ей найти удалось, но оно означало совсем не то, что следовало. Можно было заниматься развратом[12] или сходить с ума,[13] но ни о каких играх и удовольствиях речь не шла. Очень скоро она пришла к вполне резонному выводу, что у людей в Библии просто не было времени на детей — их все время по тем или иным причинам убивали.
— Люди на самом деле не любят детей? — спросила она меня как-то вечером.
— Разумеется, любят, — ответил я. — Насколько мне известно, есть только одна вещь, которая в них может не устраивать.
— Какая?
— Слишком много гребаных вопросов.
— Чего? — искренне не поняла она.
— Они никогда не перестают задавать вопросы, — ухмыльнулся я в ответ.
Она кучу времени потратила на то, чтобы отыскать в Библии очень, как она их называла, важные слова. Ей казалось невероятно странным, что при описании того, как хорош мистер Бог, в Библии встречается на удивление мало «смеющихся слов» и «счастливых слов». Тех же, что ее интересовали больше всего, там не было совсем. Ни викарий, ни мисс Хейнс ничем не могли ей в этом помочь.
— Ты еще слишком маленькая, чтобы это понять, — услышала она в ответ. — Подожди, пока подрастешь.
— Финн, — спросила она меня дома, — а что, все должны сначала вырасти, чтобы узнать мистера Бога?
— Не уверен, что все работает именно так, — пробормотал я.
— А как тогда оно работает, Финн? Как тогда?
— Ну, — протянул я, — наверное, викарий имел в виду понимать мистера Бога, а не знать мистера Бога.
— О!
— Иногда, Кроха, мне кажется, что вам, детям, куда легче знать мистера Бога, чем нам, взрослым.
— Но почему, Финн? — настаивала она. — Почему так?
Ответа на этот вопрос я не знал, так что пришлось придумывать его на ходу.
— Ну, — начал я, — наверное, у взрослых столько всяких собственных проблем, что у них просто нет времени на то, чтобы… э-э-э…
— Играть? — встрепенулась она. — Играть с мистером Богом. Да? Играть?
— Ну, что-то вроде того, — согласился я.
— Ага. Взрослые люди делают из церкви такую серьезную штуку, что у них просто совсем не остается времени играть, да, Финн?
— Наверное, ты права, любовь моя.
— Они слишком заняты зарабатыванием денег, чтобы платить по счетам.
Идея о том, что у людей нет времени играть с мистером Богом, показалась Анне хорошим объяснением. Она считала, что Библия и церковные службы скорее пугают, чем приносят радость, и никогда не упускала случая об этом заявить.
— Финн, — сказала она, — мистер Джон поэтому так не любит мистера Бога?
— Ох, — неуверенно ответил я, — я не думаю, что мистер Джон не любит мистера Бога. Он просто…
Как всегда, я оказался на очень зыбкой почве и не мог сообразить, как мне выпутаться из создавшегося положения. Анна со своей обычной настойчивостью не дала бы мне так просто сорваться с крючка. Ее вопросы слишком часто ставили меня в полнейший тупик. Я отчаянно пытался вывернуться, но мне это, как правило, не удавалось. Проблема была в том, чтобы объяснить ей все как есть и при этом не разрушить ее счастливый союз с мистером Богом. Тогда я не понимал, что никто — ни я, ни кто бы то ни было еще — не смог бы разрушить его… это была не любовь, не священный трепет, это было простое счастье. Она искренне воспринимала мистера Бога как создание, исполненное чистой радости. Она говорила с мистером Богом точно так же, как со мной или со своей любимой подругой Бомбом. Она воспринимала мистера Бога не так, как большинство нормальных людей, а как своего лучшего друга, с которым можно просто поболтать или рассказать ему анекдот. Ему можно было показывать всякие вещи. С ним можно было хорошенько посмеяться. Анна никогда не могла понять, почему в церкви надо ходить на цыпочках и все такое. Это было не для нее. Она была согласна, что следует так себя вести со всякими важными людьми вроде королей и королев, но не с мистером Богом! С мистером Богом ей всегда хотелось броситься к нему на шею, захлебываясь от счастья. А взрослые как раз и не могли ни понять этого спонтанного всплеска эмоций, ни почувствовать его сами. Она считала, что они просто забыли, как когда-то умели играть, «а ведь они когда-то точно умели, а вот мистер Джон и тогда не умел», как она говорила.
Я попытался объяснить Анне, что это не имело никакого отношения к нелюбви к мистеру Богу. Дело было… дело было, собственно, в том, что Джон не верил в существование мистера Бога, которого можно любить или не любить. Он был совершенно твердо уверен, что еще несколько лет и ученые смогут объяснить все на свете. Описать такой ход мыслей оказалось несколько труднее, чем я ожидал, но она все прекрасно поняла.
Однако несколько дней спустя она вернулась к этой проблеме. Я как раз готовился приступить к ужину, состоящему из моих любимых сосисок с картофельным пюре, когда уже стремившаяся ко рту вилка была вдруг остановлена бестрепетной рукой.
— Финн, ты знаешь почему, да?
— Знаю почему — что? — быстро спросил я, набивая полный рот, пока можно.
— Почему мистер Джон не верит, что там есть мистер Бог?
Я чуть было не спросил, где «там», но удержался и вместо этого еще раз набил рот.
— Понятия не имею, Кроха, — сказал я. — И почему он не верит, что там есть мистер Бог?
Она радостно заулыбалась:
— Потому что он хочет знать, как оно все началось.
— Да, это, должно быть, веская причина! А ты что, не хочешь?
Она замотала головой.
— Нет, — сказала она. — Разве же это важно?
Мне просто пришлось задать следующий вопрос:
— А что же тогда ты хочешь знать?
— Как все заканчивается и как я и ты заканчиваемся.
Для нее это было великой загадкой. Та ошибка, которую столь охотно делают люди, полагая, что они похожи на мистера Бога. В результате у вас неизбежно получится мистер Бог в виде лоскутного одеяла — сплошь из разноцветных кусочков, черных и белых, красных и желтых и всяких прочих цветов. А потом еще встает вопрос: высокий ли мистер Бог или низкий, толстый или тонкий? Играть со всем этим было, с ее точки зрения, чересчур опасно. Никогда не знаешь, чем оно все кончится. Если в этих играх был хоть какой-то смысл, то получалось, что внутри все не так, как снаружи. На самом деле единственно важным было то, что мистер Бог мог сделать все, что нам только могло прийти в голову, и ей этого вполне хватало.
Анна никогда не могла понять, почему некоторые люди никак не могут поверить, что бог где-то рядом. В ее системе ценностей это было непреложно. Ее уверенность основывалась на том фрагменте Библии, где мистер Бог говорит: «Давайте сотворим человека по образу нашему». Тут-то все и пошло неправильно. Об образах она знала все. Она видела кривые зеркала, в которых казалась то толстенькой коротышкой, то тощей великаншей. Воображаемые образы могут завести вас черт-те куда, и, кроме того, мистер Бог никогда не говорил, сделал ли он человека по своему внешнему образу или по внутреннему, а поскольку никто его никогда не видел, то откуда нам знать, как он на самом деле выглядит? Анна знала, что он вполне может выглядеть как киска, если того пожелает, а может — как мясной рулет. Это мы настаивали на том, что выглядим в точности как он, и это-то нас и запутывало. Так что она в эти игры не играла, нет!
Однажды вечером мы с ней столкнулись нос к носу со Старым Вуди и его «ночниками».
— Хе! Хе! Хе! — зафыркал он. — Уж не наша ли это милочка? Присядь-ка рядышком со мной, маленькая, да погрейся у нашего огонька. Привет тебе, маленькая мисс э-э-э… э-э-э…
— Это Анна, — заявила Анна.
— Анна… конечно. Маленькая мисс Анна. Юная леди, у которой имя читается в одну сторону так же, как и в другую. Как я мог забыть? Ты уже нашла все ответы на свои вопросы?
— Нет, — отвечала Анна, — еще нет. Некоторые нашла, но не то чтобы много.
— Ты не должна по этому поводу беспокоиться. Никто из нас не находит всех ответов. А некоторые даже ни одного.
Анна внимательно посмотрела на Старого Вуди и сказала:
— Мистер, а можно я тебя спрошу?
— Разумеется, моя дорогая. Валяй спрашивай.
Она немного погрела руки у огня и сказала:
— Мистер, а что такое религия? Это имеет отношение к мистеру Богу?
— Ох, это большой, да, очень большой вопрос, и я думаю, никто на самом деле не знает на него ответа.
— Но это действительно имеет отношение к мистеру Богу?
— Ты только послушай ее! — фыркнул Каторжник Билл из Австралии. — У тебя ум за разум зайдет. Передай лучше бутылку!
— Нет, — сказал рассудительно Старый Вуди, — мне не кажется, что религия имеет такое уж отношение к мистеру Богу. Это все про что-то совсем другое.
— Про что?
— Это что-то вроде забить стрелку, только ее никто из нас не забивал. Кто-то сделал это за нас.
— Да? А куда мы должны пойти?
— Это уже другой вопрос. Я на него ответить не могу. Может быть, сюда, может быть, туда. Только мы, скорее всего, узнаем, уже когда доберемся до места.
— А когда мы туда доберемся, мы там увидим мистера Бога?
— Ну, я так думаю, — ответил старый Вуди. — Это ведь он забил стрелку. Такую стрелку… где-то… когда-то… Не знаю, короче, где, да мне и наплевать, только она есть, эта стрелка.
Мне понравилась идея о встрече, назначенной не мной. Кроме того, я знал, что на некоторое время буду избавлен от вопросов. Наверное, она заодно набрала и кучу всякого мусора, но я вовсе не хотел, чтобы она упустила спрятанные в нем перлы. Кто я такой, чтобы стоять у нее на пути? Самые лучшие перлы всегда находят в грязи.
— Маленькая мисс Анна. Ты отыскала ответ на вопрос, что такое поэзия?
— Да, мистер. Финнова мама мне сказала.
— И что же она сказала? Ты со мной поделишься?
— Это как сказать меньше всего самым лучшим способом. Вот что сказала Финнова мама.
— Мне это нравится. Воистину! «Сказать меньше всего самым лучшим способом». Финнова мама, судя по всему, замечательная дама.
— Весьма, — скромно сказала Анна.
— Но кто же такой Финн?
— Вот он, — сказала она, беря меня за руку.
— Он очень счастливый человек.
— Я знаю! — радостно кивнул я.
Аннино обучение в школе никогда не подчинялось тому спокойному размеренному ритму, который так любят все учителя. Она начала становиться на крыло в этом смысле задолго до того, как мы с ней встретились. Как однажды сказала мне мисс Хейнс, «она всегда получает хорошие отметки, но, кажется, никогда не обращает внимания на то, что я говорю».
Я хотел было сказать мисс Хейнс, что Анна, возможно, обращала даже слишком большое внимание на то, что она говорит, но передумал. Анна уже давным-давно нашла в моем словаре определение слова «школа»: «Место, где обучают молодежь, и место, где объезжают лошадей». Поскольку лошадью она не была и не испытывала ни малейшего желания быть инструктируемой, то не видела никакой необходимости ходить в школу. Своим образованием она занималась сама. В школе ей было скучновато. Насколько ей было известно, мозги — это то, что покупают в лавке у мясника, а потом, должным образом приготовленное, кладут на тосты к чаю. Многие старые леди с нашей улицы совершенно искренне полагали, что чем больше мозгов ты съешь, тем умнее будешь. Поэтому, когда мисс Хейнс настаивала на том, чтобы Анна использовала свои мозги должным образом, для последней это звучало более чем подозрительно. Она считала, что самой важной частью человека было сердце, а вовсе не мозги. Все было на самом деле очень просто. Анна с легкостью допускала, что мозги помогают нам узнавать разные вещи, но и у сердца были свои, не менее важные функции: «Оно помогает понимать вещи, правда, Финн?» Сама тема мозгов причиняла мне бесчисленные неприятности.
— Нет, милая, ты не вырастешь овцой, если будешь есть овечьи мозги, и коровой ты тоже не вырастешь, и свиньей.
— А я стану умнее, если буду есть их мозги?
Об этом я тоже не имел никакого понятия, но Анна всегда отличалась умением представлять информацию в самой простой и доступной форме. Согласно ее теории, глаза, уши и носы, а также другие органы чувств служили для доставки всяких сведений в мозг, а вот сердце было нужно для того, чтобы извлекать их оттуда снова, если вам вдруг захочется на них взглянуть. Бедная, бедная мисс Хейнс! Она совершенно не понимала этих идей и уже на одном этом теряла по меньшей мере пять очков. Впрочем, она и так всегда проигрывала, вот только сама об этом не догадывалась. Не слишком везло и Джону: он тоже постоянно терял очки. Мне было очень лестно узнать, что я проигрываю не так сильно, как Джон или мисс Хейнс. Да, счет был тоже не в мою пользу, но не так сильно, как у них. Чего мисс Хейнс с Джоном не понимали, так это что в голову можно с легкостью запихать все, что угодно; подлинная проблема была в том, как достать его обратно. Мы слишком часто теряем что-то важное, то, что в какой-то момент обязательно понадобится найти, но его и след простыл. Как часто говаривала нам Ма: «Если ты ни разу не остановился в течение дня, то точно не сделал ничего стоящего». И как сказал кто-то еще:
Ма никогда не возражала против учения и образования с одной только оговоркой. «Если слишком много учиться, лишишься сердца», — заявляла она, а лишиться сердца для нее было самой большой трагедией на свете. Я мог бы еще многое рассказать о Ма и Анне, но среди их деяний следует упомянуть одну вещь — они никогда не теряли сердца. Средь всех дневных забот они никогда не упускали шанса постоять и поглазеть на полет какого-нибудь листа — в этом-то и была вся штука. А вот я этим умением так до конца и не овладел.
Прохладный ветер Джонова отношения к миру доставлял мне истинное наслаждение, но я также любил и теплый бриз Анниной сердечной невинности. Судя по всему, единственным способом жить дальше было принять обе стороны своей души и примириться с ними. В конце концов, я был не единственным человеком, который запутался в жизни. Решающим аргументом для Анны оказалось вовсе не дополнительное обучение само по себе, а обещание Джона, что во время долгих летних каникул ее подругам Бомбом и Мэй можно будет иногда приезжать к нему в гости вместе с ней.
После сорока лет преподавательской работы Джону в голову пришла странная идея, что чистые детские разумы представляют собой идеально пустые емкости, которые ему нужно непременно заполнить всякой полезной информацией. Ему почему-то казалось, что, когда Анна стоит, подбоченившись и склонив голову так, что ее рыжие волосы падают на плечи, эта поза на языке жестов недвусмысленно означает, что она ждет не дождется, когда же ей в голову впрыснут очередную порцию научных фактов. Я пытался объяснить ему, что все обстоит наоборот: это грозит вот-вот вырваться наружу то, чего она знать не хочет. Но он мне не поверил. Он хотел во всем убедиться сам. Мисс Хейнс тоже пыталась, и один бог знает сколько. Но от этого у нее только прибавилось седых волос. Моя же теория заключалась в том, чтобы дать Анне все попробовать в свое время. Мы с ней бывали в синагогах, церквах и всевозможных храмах, и, куда бы мы ни приходили, там обязательно оказывался кто-то, готовый совершенно точно рассказать нам, кто такой бог, что он думает и чего хочет. Большинство книг в библиотеках тоже оказались в этом отношении бесполезны.
Казалось, люди узнали о боге все, что можно было узнать, но тут же забыли об этом. Все это было крайне странно. Анна хотела непременно во всем разобраться сама. А мне следовало заранее рассказать Джону о ее специфическом подходе к учению, но я забыл.
Я сделал для нее одну из таких штучек, которые вращаются вокруг своей оси и превращают серию неподвижных картинок в маленькое кино. В книге эта штуковина называлась «фанакистоскоп». Как, по-вашему, вы будете выглядеть, если спросите друзей: «Ну и как вам понравился мой фанакистоскоп?» Естественно, в конце концов мы стали называть его просто «штучкой», и всем было прекрасно понятно, что собой представляет штучка, — кроме, разумеется, учителей.
Я все время что-то для нее мастерил, и мне было крайне интересно, что станет делать Джон, когда на него польется такой же ливень вопросов и просьб. Хотя если вы умеете жить под водой, то перенести подобные погодные условия для вас — раз плюнуть. Кое-кого из Анниных учителей просто снесло потоком всяческих «что?», «кто?», «где?» и «почему?», и больше их никто не видел. Она не всегда умела выразить свои идеи в словах. Нередко мне приходилось долго играть в угадайку, пока она не говорила, что вот — оно самое. А на это далеко не у каждого найдется время. Для Анны все было просто: понять что-нибудь означало, что ты теперь можешь с этим поиграть. «Прямо как мистер Бог», — говорила она в таких случаях. Он всегда был готов играть с ней в прятки или в жмурки или во что угодно. Он прыгал тебе на спину и радостно шептал: «Угадай кто?» Тот факт, что он временами мог выглядеть как дерево, или кошка, или даже фанакистоскоп, ничего на самом деле не менял. Она никогда не знала, где сейчас мистер Бог, но была уверена в одном — что он всегда знал, где сейчас она, и этого ей вполне хватало. Ма облекла все это в должную форму, когда выдала Джону очередной афоризм собственного приготовления: «Знаете, она не ищет иголки в стогу сена. Что она на самом деле ищет, так это стог сена в иголке». Такие вещи никогда нельзя понять с лету. Проходит время, и только тогда они обретают смысл, а с этим у Джона как раз всегда были проблемы.
Мне всегда доставляло огромное удовольствие видеть вместе Джона и Анну — старость и молодость. После недолгого периода колебаний между ними завязалась самая глубокая дружба. Жизнь моя от этого легче не стала. Наоборот, она стала гораздо сложнее, но я чувствовал себя просто отлично.
Одной из проблем было то, что Анна всегда доносила свои мысли до слушателей абсолютно просто и прямо.
— Финн, я хочу пи-пи/по-маленькому/пописать…
Для нее все это было одно и то же. Возможно, дело было в возрасте и воспитании, но Джон всегда выражал свои желания совершенно по-другому:
— Финн, мне необходимо облегчить себе жизнь…
Кроме того, он имел потрясающее обыкновение прятать то, что на самом деле хотел сказать, за фразами на латыни или еще каком-нибудь языке. Таким образом, мне приходилось говорить сразу на двух языках — на его и на ее — и частенько служить переводчиком. Не то чтобы я не мог понять кого-то из них — это было довольно просто, но вот необходимость понимать обоих сразу временами становилась настоящей проблемой. По большей части я мог достаточно хорошо понимать и Джона, и Анну, даже несмотря на то что это требовало определенной внутренней борьбы. Когда эти двое сходились вместе, мой рассудок делал кепочкой и уходил в жесткий штопор. Будто на теннисном матче, я только и успевал вертеть головой слева направо, справа налево. Обычно я неплохо справлялся. Проблемы начинались, только если голова поворачивалась направо, а глаза в то же время стремились налево. Это причиняло определенные неудобства. Я не был физически приспособлен к подобным трюкам и выражал свое негодование в жалобах, которые, впрочем, оставались совершенно без внимания. У меня был Джон, искренне полагавший, что самое главное в жизни — это то, что мы уже знаем, а также ценности общественные. С другой стороны, у меня имелась Анна, которая была совершенно убеждена, что самое главное в жизни — то, чего мы еще не знаем, а также ценности личного порядка. А что же я? Простите, я тут просто так, погулять вышел.
Как обычно, ключ к ситуации дала мне мама. Она сказала, что мистер Джон просто хочет постичь большую часть мира, а Анна — меньшую. В таком варианте все начинало приобретать смысл. В конце концов, чего еще ожидать от мамы, которая еще юной девушкой выработала девиз, звучавший примерно так: «Когда чего-то слишком много, оно убивает всякую радость от обладания достаточным» — или, если попроще: «Слишком много хорошо — тоже плохо». Он висел у нее над кроватью. Там никогда не могло бы появиться что-нибудь банальное типа «Иисус любит меня» или «Благослови, Боже, этот дом». В отношении Джона и Анны девиз тоже работал, и, когда я это понял, мне стало гораздо легче жить.
У Джона в саду стоял огромный телескоп, который произвел на Анну неизгладимое впечатление, как и все звезды и прочие штуки, не любоваться которыми мог только полный идиот. Правда, было ужасно жалко, что для этого приходилось потоптать десяток-другой ромашек, правда же, Финн, правда? У меня постоянно появлялось чувство, что меня сначала как следует отжимают, а потом пропускают между гладильными валиками. Выразить это явление в словах довольно трудно, и всякий раз, как я пытаюсь это сделать, оно звучит все глупее и глупее. Единственная более-менее устраивающая меня формулировка состояла в том, что Джон большую часть своей жизни пытался сложить всю имеющуюся у нас вселенную и запихать ее в аккуратно надписанную библиотечную папку, а Анна, в свою очередь, пыталась развернуть несколько имеющихся у нее ромашек, чтобы они заполнили собой все то пустое место, которое осталось после деятельности Джона. Ох, это действительно сложно выразить в словах, но вот примерно так оно и выглядело. Все это сильно напоминало мне историю преподобного Сидни Смита, который заявил своему епископу: «Может так случиться, мой господин епископ, что вы со всей вашей тяжестью и серьезностью отправитесь на небеса, а меня моя легкость и веселье приведут в преисподнюю». А я как раз чувствовал себя подвешенным ровно посередине и болтающимся то вверх, то вниз, словно йо-йо.
Когда однажды вечером после чая я озвучил эту сентенцию, ответ Джона был вполне в его духе:
— А вы уверены, Финн, что это сказал именно Сидни Смит?
— Разумеется, не уверен.
Анна надо всем этим похихикала, но особого значения не придала. А мне изречение нравилось, к тому же кто-то когда-то его наверняка изрек. И этот кто-то был не я, а остальное было действительно неважно. Во всяком случае, для меня. Мне было совершенно все равно, кто это сказал. Сказали и сказали, этого мне вполне хватало.
А потом были зеркала. Я всю жизнь преспокойно использовал их для бритья, но вот появился Джон, и под его руководством я часами постигал геометрию отдельных и множественных зеркал, а потом — и снова часами — Анна открывала мне их магию.
В те дни у меня была книга под названием «Математический анализ узлов». Я честно считал, что узел — это то, что получается, когда завязываешь шнурки на ботинках или галстук, но книга считала, что это нечто гораздо большее. Простой быстрый узел, именуемый также клеверным, завязывался в одну сторону, а его отражение в зеркале — явно в другую. Такое никогда раньше не приходило мне в голову. Особенно интересно было то, что узел и его зеркальное отражение вместе составляли «энантиоморфную пару». Не то чтобы такие слова часто встречались в повседневной речи. А книга тем временем вещала, что существует еще такое явление, как «амфихейральность», которое означало, что что-то подходит для любой руки, как, например, носки — они были вполне амфихейральны, а вот ботинки и перчатки не были. Ух! Откуда вообще берется эта самая «другая рука»? На это я тоже никогда до сих пор не обращал внимания. Я уже был готов выкинуть книгу к чертовой матери, когда мне неожиданно объяснили, что свойства этих узлов в простейшей форме можно выразить аналитически с помощью следующего отношения:
х=1 у=1 х=1 у×ух=1 у=1 хуху=1 х=1 у=1 ху=1!
То, что это — простейший способ данного представления, привело меня в совершенный экстаз! Еще больше я был доволен, что научился завязывать этот узел задолго до того, как прочитал книгу! Иначе, полагаю, мне пришлось бы попрощаться со своими ботинками. С другой стороны, вся эта история живо напоминала мне Джона и Анну. Быть может, они были просто зеркальными образами друг друга?
Когда «это» произошло, был обычный, ничем не примечательный день. Никаких зеленых облаков, ни манны небесной, ни дождя из фунтовых банкнот — никаких подобных явлений в природе не наблюдалось, а было улыбающееся лицо Анны, державшей в руках дымящуюся чашку чаю, и шум с улицы — молочник, проходящий мимо поезд, — да еще привычно извергающие дым и сажу фабричные трубы. Как я уже сказал, все было совершенно обычным, никаких поводов размахивать флагами, но именно в этот день оно все и случилось.
Я собирался немного поработать у Джона в саду, и Анна должна была пойти со мной. Я вытащил велосипед на улицу, накачал шины, проверил тормоза и фары. В тот день мне предстояло проделать какую-то совершенно обычную работу по саду — ничего из ряда вон выходящего. Я слушал Аннин щебет и закончил вскапывать грядки к обеду. Арабелла попросила нас остаться откушать с ними, что было как нельзя более кстати. После обеда мы сидели в гостиной и разговаривали, Анна разглядывала большую книгу с картинками, а Арабелла что-то штопала. Мы с Джоном вооружились пинтой пива каждый и сидели себе в креслах, болтая о том о сем. Предметом нашей беседы был вопрос, есть ли у деревьев хоть какие-то способы коммуникации друг с другом.
— Нет, — решительно заявил Джон, — они не могут общаться друг с другом, это было бы уж слишком. Они вообще не могут ничего знать и понимать, они не для этого были созданы.
— Но, быть может, есть некая возможность, что они общаются друг с другом каким-нибудь очень примитивным способом? Мне просто интересно, о чем они могли бы говорить, если бы такое было возможно.
— О самых обычных вещах, полагаю, — захихикал Джон, — «погода нынче уже не та, что раньше» или «Дети похожи больше на мать, чем на отца» и тому подобные глупости.
Я уверен, что Анна не слышала ни слова из сказанного нами. Она была слишком занята своей книгой. Арабелла не обращала на нас никакого внимания. Подобного рода беседы были настолько ниже ее достоинства, что она их даже не замечала. Как видите, все было совершенно нормально. Неожиданно Анна подплыла к моему креслу и уселась на подлокотник.
— Привет, Кроха, — весело сказал я. — Как дела? Все в порядке?
Она кивнула и подарила Джону улыбку. Пару раз обойдя комнату, она остановилась напротив, внимательно меня оглядела и неожиданно, без какого-либо предупреждения, кинулась мне в объятия. Разумеется, мы встревожились. Это было настолько на нее непохоже, что даже Арабелла на мгновение разморозилась и проявила некий интерес к ситуации. Несколько минут я крепко обнимал Анну, пока она не заизвивалась, освобождаясь, и не встала опять передо мной, широко ухмыляясь мне в лицо.
— Ты меня напугала, Кроха, — сказал я. — Ты уверена, что с тобой все в порядке?
— Со мной все хорошо, Финн. Все отлично. Просто хотела что-то тебе сказать, вот и все.
— Не вопрос, любовь моя, — отвечал я. — Валяй. Я весь твой.
Вот тогда-то «это» и случилось. В комнате был один абсолютно уверенный в своей правоте ребенок и трое ничего не понимающих взрослых. Она сказала не больше десятка совершенно обычных слов, и наш мир остановился. А сказала она вот что:
— Финн, чтобы молчать, нужно знать гораздо больше, чем чтобы говорить.
Джон глядел на меня вытаращенными глазами. Арабелла оставила свою штопку и встала.
— Ну… — сказала она и замолчала.
Джон лишился дара речи.
Впрочем, и у меня не нашлось что сказать. Только несколько минут спустя я нашел во рту собственный язык и выдавил:
— Ты где это прочитала?
— Не знаю, но это правда, Финн, да? Ведь это правда?
— Скорее всего, источником оказался один из тех прохожих, которых она вечно просила написать что-нибудь большими буквами. Не представляю, как иначе она могла составить подобное предложение, — сказал Джон.
Я так никогда и не узнал, как она до этого дошла. Возможно, она придумала эту фразу сама. Я просто не знаю. Зато знаю, что Джон до конца своих дней цитировал ее в разговорах с другими людьми. Она произвела на него глубочайшее впечатление.
— Тогда-то все и изменилось, — говаривал он потом.
Поскольку большая часть Анниных историй и «разработок» сочинялась у меня на коленях или когда она шла спать, я, естественным образом, знал их все наизусть. В большинстве из них пряталось маленькое жало, которое далеко не каждый замечал. Как-то раз после чая Джон сказал Анне:
— Не расскажешь ли мне историю, малыш? Я много слышал о твоих историях.
— Да, мистер Джон. Какую вам рассказать?
— Какую хочешь.
— Вы хотите послушать про мышей или про небеса?
— Полагаю, — сказал он после некоторого размышления, — та, что про мышей, отлично подойдет. А про небеса ты расскажешь мне в другой раз.
— Скажите, когда будете готовы, мистер Джон, и я начну.
— Я уже готов, Анна, так что можешь приступать.
— У одного короля, — начала Анна, — было много-премного драгоценностей, и корон, и всякого такого. И вот однажды самый большой бриллиант у него упал на пол и куда-то закатился, и никто не мог его найти. Королева не могла найти, и принцессы не могли найти. Никто не мог его найти, так что в конце концов им всем пришлось идти спать. И вот посреди ночи маленькая мышка вылезла из норки, чтобы найти себе какой-нибудь еды, и нашла этот бриллиант там, где его никто не мог найти, и хотела закатить его к себе в норку, где она жила, но не смогла даже сдвинуть его с места. И тогда она пошла и нашла подругу и попросила ее прийти и помочь ей, и они толкали, и толкали, и толкали, и все равно не могли сдвинуть его с места. И они пошли и позвали еще друзей на помощь, и они опять толкали и не могли сдвинуть бриллиант. И тогда они позвали еще друзей, и вот уже были сотни и сотни мышей, и все толкали этот бриллиант, и вот они сдвинули его с места и они катили его всю ночь и в конце концов закатили его в норку, и никто его больше никогда не видел, потому что его окончательно потеряли.
— Понимаю, — сказал Джон. — Итак, это конец твоей истории, не так ли?
— Нет, мистер Джон. Это только начало. Я еще не закончила. Вам нужно подождать до конца истории, а я туда еще не добралась.
— Извини меня, Анна, — сказал он несколько сконфуженно. — Наверное, я слишком нетерпелив.
Ее «ага, мистер Джон» заставило его густо покраснеть.
— Пожалуйста, продолжай.
— И вот потом мыши тоже не могли его найти, потому что он упал в самую глубокую норку, и они не могли туда за ним спуститься. И тогда, мистер Джон, одна мышь сказала той первой мыши: «А зачем мы все его толкали?» И, представляете, мистер Джон, никто не мог сказать, зачем они все это делали и так трудились! Никто не знал, зачем все это понадобилось! Его же нельзя было съесть, правда? И вообще никто не знал, зачем он нужен. Со стороны мышей это был очень глупый поступок, правда, мистер Джон? И все это началось только потому, что королю нравились бриллианты и он хотел выглядеть важным. И вот это конец истории про глупых мышей. Но у людей так тоже бывает, правда, Финн?
Мне всегда доставалась роль разгребателя оставшихся после нее завалов, так что я был заранее готов к любым вопросам, какие только могли появиться у Джона. Думаю, он несколько растерялся от всех этих танцующих вокруг мышей, поскольку не вымолвил и слова, пока Анна не удалилась в сад.
— Полагаю, Финн, она хотела сказать, что множество людей занимаются совершенно бесполезными вещами и понятия не имеют, зачем они все это делают, не так ли?
— Это ваши слова, Джон, не мои, — рассмеялся я.
— Тогда почему она рассказывает о мышах, а не о людях?
— Вероятно, Джон, если бы она говорила о людях, вы могли бы ей и не поверить. Куда легче поверить в то, что мыши глупы, не так ли? С людьми это сложнее.
— Наверное, вы правы, Финн. Полагаю, мне всегда стоит дожидаться конца историй, правда?
Из всех моих периодических приработков мне больше всего нравилось отгонять лошадь пекаря вместе с повозкой обратно на склад, располагавшийся милях в четырех от нас. За это мне давали от двух шиллингов шести пенсов до четырех шиллингов за раз. Ехать со Старым Томом в упряжке было одно удовольствие. Он знал дорогу домой лучше, чем я. Иногда в тех случаях, когда кучер после бурно проведенной ночи чувствовал себя не в настроении работать, я гонял его и туда, и обратно. Тогда у меня выходило даже до двенадцати шиллингов и шести пенсов, что было совсем неплохо. Том настолько хорошо знал весь процесс доставки, что всегда останавливался у нужного порога. Поставив передние ноги на тротуар и вытянув шею, он требовал угощение — кусочек сахару, морковку или черствую корку — и отказывался двигаться дальше, пока не получал его. Если бы Том еще вдобавок и умел считать деньги, я бы точно лишился работы. Я часто ругал его старым мешком с блохами, но он меня не понимал, а если и понимал, то делал вид, что ему совершенно все равно. Со всеми этими лакомствами он жил себе припеваючи и снисходительно переносил все мои подначки. Никто больше так ко мне не относился. Временами я чувствовал себя просто бесполезным. Фред часто говорил мне: «Никогда не поворачивайся к нему спиной, это единственное, чего он не любит», — но, когда доходило до дела, я все время забывал его слова. Я мог распрячь его, вытереть насухо щеткой, задать ему воды и овса, а потом, естественно, поворачивался спиной, чтобы запереть стойло. Он упирался мне головой в поясницу и непринужденным толчком посылал меня в полет до противоположной стены конюшни. Если бы он был разумен, я бы мог с ним поспорить и доказать, что так делать не надо, но он меня совершенно не понимал и не реагировал даже на мешок с блохами. По милости этой поганой коняги я временами чувствовал себя полным идиотом, особенно когда вся конюшня собиралась поржать над моими акробатическими этюдами.
Стоял ноябрь. Мы наслаждались ноябрьским туманом, не романтической дымкой, а одним из тех, которые называют «гороховым супом», когда можно сделать буквально два шага от входной двери и сразу же безнадежно заблудиться. Вывески с названиями улиц невозможно было прочитать, а фонари превратились в размытые пятна зеленоватого света. Не то чтобы не получалось разглядеть собственную руку прямо перед носом — ее вообще нигде нельзя было разглядеть. В тот вечер туман был настолько густ, что к нему можно было прибить доску, а то и прислонить лестницу, чтобы вскарабкаться на небо. Детям в такие вечера нередко удавалось заработать пару пенни. Они брали парафиновые лампы и шли по обочинам, светя заблудившимся автобусам или автомобилям. Даже опытные водители умудрялись с пол-оборота потеряться в тумане.
— Парень, я в сторону шоссе еду?
— Понятия не имею, приятель. Вроде бы это в другую сторону, но я что-то не уверен.
Мне, однако, повезло, и дорогу домой я нашел.
— Нет, ну что за ночь! — пожаловался я маме. — Просто пакость!
— Здорово, что мне никуда не надо. Не та ночь, чтобы шляться по улицам.
— Что у нас на ужин? Я просто помираю с голоду.
— Фреду Копперу что-то поплохело, — сообщила она вместо ответа. — У него бронхит. Ты не мог бы отогнать его фургон к ним на двор?
— Запросто, — сказал я. — Только я сначала выпью чашку чаю, да и было бы неплохо надеть что-нибудь потеплее.
— Его миссис оставила тебе кое-что за беспокойство.
Она протянула мне пять шиллингов.
— Никакого беспокойства, Ма, — ответил я. — Купи себе диадему или что еще.
— Пара мешков угля мне, пожалуй, понравилась бы больше, — задумчиво сказала мама. — Скоро зима, так что оно нам совсем не помешало бы.
— Отличная идея. Деньги я за часы положу, возьмешь, как понадобится.
— Можно я пойду с тобой, Финн? — спросила Анна.
— Я не против, но тебе лучше спросить маму.
— Ну что ж, — сказала та. — Если ты тепло оденешься и не станешь делать никаких глупостей, то да.
— А домой-то вы как доберетесь, когда там такая каша? — спросила она, когда мы уже стояли на пороге.
— Ты не волнуйся, Ма, — успокоил ее я. — Если не развиднеется, мы заночуем в конюшне. Лошади возражать не станут.
— Ну и отлично, — кивнула она. — Увидимся, когда увидимся. Берегите себя!
Мы закрыли за собой дверь и вышли на улицу.
За последний час с туманом не произошло ничего интересного.
— А можно Бомбом тоже пойдет? — спросила Анна.
— Ну, если она захочет, то, разумеется, можно.
Через несколько минут в конце улицы меня догнали Бомбом, Мэй, Япошка и Анна. Возле фонарного столба стояла Милли, болтая с парой подруг.
— Куда это вы намылились такой оравой? — поинтересовалась она. — Отгонять Фредов фургон? Он опять застудил грудь.
— Не желаешь проехаться с нами, Милл? Если все так пойдет, есть шанс не вернуться домой до утра и заночевать в конюшне.
— Я за. Двинули.
Через несколько минут мы все уже были у дома Фреда.
— Я постучусь, мне надо перемолвиться с ним словечком. Можете надеть Тому торбу с овсом, пока я не вернусь.
— В такую ночь Фреду нельзя выходить, Финн. Это его прикончит, — заявила миссис Фред.
— Спасибо, что привел Тома, — сказал Фред, когда я вошел. — Может быть, ты съездишь завтра за меня, если я не встану?
— Конечно, съезжу. Лежи, отдыхай.
— Том сам тебя довезет в целости и сохранности.
— Хорошо, Фред. Я, пожалуй, пойду. У меня там полный фургон детворы.
— Вот и хорошо. Будет тебе компания. Да, Финн, вон там в буфете холодные пирожки. Давайте вы их разъедите между собой.
Снаружи меня, как и было предсказано, ждали ребята.
— У нас тут заблудившийся товарищ, — со смехом сообщила Милли, — которому срочно надо на станцию. Подбросим? Это констебль Лэйтвэйт.
Мы двинулись обратно той же дорогой, что и приехали. Я остановил фургон возле Кингз-Хед.
— Пойду куплю вам шипучки, — сказал я. — Буду обратно через секунду.
Вскарабкавшись обратно на сиденье, я услышал в тумане голос какой-то женщины:
— Даже не предполагала, что будет такая погода.
— Теперь мы точно застряли, — отвечал ей мужской голос. — Я не могу вести машину в таком тумане.
— Это мистер Джон, Кроха, — прошептал я Анне. — Прыгай вниз и пойди поздоровайся.
— Привет, мистер Джон, — донесся до меня сквозь туман ее голосок.
— Черт меня побери! Это же наша маленькая леди собственной персоной! Ты что, тоже заблудилась?
— Нет, мистер Джон.
— А мы — да, и я не знаю, как добраться домой.
— Попросите Финна. Он может вам помочь.
— Финна? А где он?
— Тут, Джон, — засмеялся я. — Желаете до дому с ветерком? Мне как раз по пути.
— О, Финн, вы правда могли бы нас подвезти?
— Я — нет, — возразил я, — но Старый Том может.
Мы договорились, что Дэнни поведет Джонову машину, следуя по пятам за фургоном. Глядя на наши приготовления, Арабелла сильно сомневалась, что когда-нибудь попадет домой. Кроме того, сидеть позади вонючей старой лошади казалось ей «ниже человеческого достоинства»! Анна попыталась объяснить ей, что даже короли и королевы так делают. Тогда Арабелла принялась рассказывать нам, что ехать в элегантной коляске с красивыми лошадьми — это одно, а в фургоне пекаря со Старым Томом в упряжке — совершенно другое. В конце концов нам удалось популярно объяснить ей, что выбор у нее не так уж велик: либо Том с фургоном, либо вообще ничего. Мои профессиональные качества как возницы также не внушали ей доверия: «Я сяду спиной к лошади. Смотреть, что вы с ней делаете, для меня невыносимо». Я сказал, что ничего страшного, я тоже ничего не вижу в тумане, но это ни капельки не помогло. Уже то, что в таком непростом деле, как доставка ее особы домой, она вынуждена полагаться на простую лошадь, на тупое животное, было для нее слишком.
Наконец мы смогли отправиться в путь. Старый Том мерно трусил по дороге. Делать было совершенно нечего. Анна примостилась рядом со мной на облучке, а остальные пассажиры были плотно упакованы в фургоне. Я попросил Анну достать у меня из кармана сигарету и зажечь ее. Когда Арабелла увидела, что я не держу вожжи в руках, с ней едва не случился нервный приступ.
— Финн, я вас умоляю, будьте осторожны! Не дайте ей убежать!
— Убежать? Во-первых, не ей, а ему, а во-вторых, Старый Том не бегал вот уже лет десять. Он для этого слишком умен.
Бедняжка Арабелла со всей ее ученостью не слишком хорошо разбиралась в обычных вещах. Так, например, ей было бесполезно объяснять природу ума Старого Тома, который умел отлично перебираться через трамвайные пути, хотя временами это и выглядело страшновато. Я так никогда и не понял, каким образом он это делал, но на моей памяти ему ни разу не случалось допустить ошибку, за исключением одного случая, когда я сам нечаянно натянул поводья слишком сильно. В тот раз мы с ним едва не перевернули фургон, и с тех пор я всегда разрешал ему справляться с рельсами самому и с удобной ему скоростью.
Констебль Лэйтвэйт спрыгнул у станции, так что мне даже не пришлось останавливаться. Я спросил у Милли, где там холодные пирожки, но Арабелла решительно отказалась иметь с ними дело.
— Дэнни все еще с нами? — спросил я.
— Да, Финн, — ответила из темноты Бомбом, чей рот, судя по голосу, был явно набит холодным пирожком. — Финн!
— Чего?
— Можно мне сесть между тобой и Анной?
— Конечно. Забирайся.
Она уже ехала с нами минуту или две, когда Том вдруг остановился.
— Финн, — сказала Бомбом, — а теперь лошадь тоже заблудилась.
— Она действительно заблудилась, Финн? Вам известно, где мы находимся? — тут же всполошилась Арабелла.
— Он пьет, — сообщила ей Бомбом.
— А это что за шум? — подозрительно спросила Арабелла.
— Он еще и писает, — объяснила ей Анна.
Теперь я точно знал, где мы находимся. Старый Том только что пересек мост через канал. Все было не так уж плохо. Еще минут тридцать, и мы будем дома.
По мере того как мы удалялись от фабрик на восток, туман стал несколько реже. Не то чтобы я теперь видел все гораздо лучше, но, по крайней мере, уличные фонари лишились своих зловещих зеленых ореолов. Вскоре я натянул поводья и остановил фургон.
— Где мы теперь? — мрачно поинтересовалась Арабелла из глубины.
— Дома, Арабелла. Целые и невредимые.
Она не могла поверить, что я не шучу. Приглашение на чай пришлось отклонить. Ее несколько удивили мои слова, что остаться мы не можем, потому что Старому Тому пора в постельку. Для Джона и Арабеллы все животные были тупыми бессловесными созданиями. И она решительно отказывалась верить, что именно Том, тупой или нет, доставил ее домой в целости и сохранности.
Обратно в конюшню мы добрались за четверть часа. Туман там был ощутимо гуще. Я снял с Тома сбрую, вытер его щеткой и проинструктировал Милли и детей, где взять его воду и овес и куда их поставить. Затем я отвел Тома в стойло. Тем вечером я тщательно избегал поворачиваться к нему спиной, но, полагаю, у него и без того выдался трудный день, так что он великодушно решил отложить свои шуточки на потом.
Сооружение удобного ложа на ночь тоже не заняло много времени. Несколько охапок сена, лошадиные попоны и пара-другая сумок с овсом — и мы были готовы отойти ко сну. Напоследок Анна решила кое-что уточнить.
— Финн, а Иисус родился в таком месте, как это, да?
— Ну, полагаю, там не было и вполовину так хорошо, как здесь, — промурлыкал я.
— Это точно.
Последовал торжественный обмен пожеланиями спокойной ночи. Последнее, что я слышал, было ее «спокойной ночи, мистер Бог».
На следующее утро я проснулся от того, что кто-то пытался выковырять мои мозги через ухо при помощи соломинки.
— Привет, Финн! Пора вставать!
— Милли, в чем дело? Вылези немедленно из моего уха. Куда девались дети?
Взрыв хохота, донесшийся снаружи конюшни, поведал мне все, что я хотел знать.
— Милли, что за день на дворе?
— С утра была суббота.
— Нормальненько, — сказал я. — А сколько сейчас может быть времени?
— Начало седьмого. Церковные часы только что пробили.
— Наверное, нам лучше двинуть отсюда. Фред приходил?
— Я никого не видела.
— Дай мне руку, Милли. Я, кажется, застрял.
С ее помощью мне удалось подняться на ноги. Насколько я мог судить, за последние тридцать шесть часов я проспал от силы пять-шесть. Это несколько сбивало меня с толку. Во дворе с детьми были старший по конюшне и две леди. Дети ублажали себя чаем с пирожными.
— Спасибо, что привел фургон назад. Этой ночью мало кому это удалось. Форменная каша, правда? Фред просил тебе кое-что передать. Если бы ты смог сделать за него сегодня полный круг, он бы вечером сам отогнал фургон сюда. Туман поредел, и вроде намечается неплохой день. Я собрал всю субботнюю партию, твои ребята уже грузят фургон. Тебе лучше посмотреть, куда они что кладут, чтобы потом не было сюрпризов.
Он сунул мне в руку бумажку в десять шиллингов.
— И еще раз спасибо, — сказал он.
— Только мне до того надо перекусить и чего-нибудь выпить.
— Мэри, — заорал он, — и юную леди с собой захвати!
Явилась Милли, выглядящая по обыкновению на все сто.
— Удивляешься, что могут сделать с девушкой чуть-чуть пудры и туши, Финн?
— По мне, так ты и без того хороша.
— Спасибо, Финн. Давай-давай, говори еще, мне нравится. Ты и так уже заработал себе сомнительную славу.
— Чего? — не понял я.
— Если на улице прознают, что ты провел ночь в одной постели с четырьмя юными леди, твое честное имя будет смешано с грязью!
Название усадьбы Джона — Рэндом-коттедж — всегда озадачивало Анну. Ей казалось, что оно ничего не значит. Вот если бы она называлась, как другие приличные усадьбы, «Лиственницы», или «Вид с холма», или что-нибудь вроде этого, все было бы замечательно. Это было бы понятно. Но Рэндом — что это, спрашивается, такое? Что это могло означать? Анна серьезно заявила, что в следующий раз, когда увидит Джона, непременно его об этом спросит.
Всю неделю я ломал голову над одной математической задачкой, которую все никак не мог понять. В воскресенье после обеда я решил пойти повидаться с Джоном, пока у меня шарики окончательно не зашли за ролики. Анны не было дома, она где-то бегала с друзьями, и у меня был шанс ненадолго ускользнуть. Прогулка до Джона и обратно не должна была занять больше пары часов, так что я надеялся быть дома к ужину. На улице было полно ребят — все во что-то играли. Пока я шел мимо, мне успело поступить предложение на партию в крикет от Хека.
— Не сейчас, старина. У меня дела где-то на час или около того.
Мне еще пришлось миновать скакалки, игру в камушки и в мяч. Я уже почти дошел до верха улицы, когда меня едва не сбила с ног Анна:
— Финн, куда ты идешь? Ты к Джону Ди? Ты на велосипеде?
— Не на этот раз. Я пешком вдоль канала. Буду через несколько часов, Кроха.
Я медленно прошел последние несколько ярдов до конца улицы и уже готов был повернуть за угол и взять курс на канал, когда услышал, что меня догоняет топот двух пар ног, не говоря уже об истошных воплях: «Финн! Финн!» Через мгновение в меня врезались два снаряда системы Анна и Бомбом.
— Финн, — сказала Анна, — почему это так называется?
— Почему что так называется?
— Дом мистера Джона, почему он так называется?
— Понятия не имею. Тебе лучше спросить его самого, когда увидишь его в следующий раз.
— Ага, спроси его, — согласилась Бомбом.
— Но что оно означает, Финн? Что?
— Я расскажу тебе, когда вернусь, — сказал я и повернулся, чтобы идти дальше.
— Вредина, — подытожила Анна. — Финн — старый вредина.
Бомбом набрала воздуха в грудь и составила ей дуэт. Эти две хулиганки бежали за мной и вопили: «Финн — вредина! Финн — старый вредина!» Я оторвался бы от них достаточно легко, если бы меня не перехватила Милли.
— Привет, Финн! Что ты натворил? Опять отнял у детей конфеты?
— Это еще что за дурацкая идея? — возмутился я.
— Ну, если посмотреть, как они за тобой гонятся… — Она указала мне за спину.
Я обернулся, и в тот же момент на меня налетели. Потеряв равновесие, я не слишком элегантно рухнул мордой о мостовую. Мне не составило бы труда встать, но нога Милли придавила меня обратно к земле. Правда, теперь я, по крайней мере, смотрел вверх, а не пахал носом гравий.
— Тихо, тихо, Финн. Тебе неплохо бы отдохнуть и прийти в себя. Старшим негоже так волноваться, какой пример ты подаешь детям?
Я бы с удовольствием бросился на нее, но, пока ее ботинок давил мне на нос, сделать это было трудновато. Тем временем Милли считала: «… шесть… семь… восемь… девять… ладно, вставай».
— Лучше сдавайся, Финн. С такими противниками тебе никогда не выиграть.
К этому времени меня окружили заинтересованно глядящие на меня сверху вниз мордочки.
— Вам, дети, нельзя задирать Финна. Он уже не так молод, как раньше. Что он вам сделал? Отобрал у вас конфеты или что еще?
— Он не хотел для меня что-то сделать, вот что! — выкрикнула Анна. — Он — вредина.
— Бог тебя простит, ты, мелкий дьявол, — успел сказать я, прежде чем нога Милли припечатала меня обратно к земле.
— Вежливо попроси его еще раз, Анна, — хихикнула Милли. — Попроси его еще раз, пока я его держу. Если так пойдет дальше, он сегодня не вернется домой. Давай попроси, а я подержу его. — И она несколько увеличила давление на единицу площади ступни. — Проси, пока он еще дышит.
Ситуация была безвыходной, оставалось делать хорошую мину при плохой игре. Боюсь даже представить себе, что могли подумать случайные очевидцы этой сцены. В любом случае помочь мне никто не мог.
Меня несколько встревожило, когда к компании присоединилась довольно большая собака. К счастью, она вскоре убедилась, что здесь ничего интересного не происходит, и удалилась на поиски подходящего фонарного столба.
— Давай, Анна, задавай свои вопросы. Финн, кажется, возвращается к жизни.
— Финн. — Она произнесла мое имя тем извиняющимся тоном, которым умеют говорить только дети, у которых что-то на уме.
— Милосердия! Я сдаюсь! Что ты там хотела спросить?
— Это слово — Рэндом? Что оно значит? Спроси у него, Милл!
— О'кей, Милл, убери ногу и дай мне встать.
— Я всегда говорила, что гениям в жизни приходится трудно. Если ты будешь продолжать в том же духе, то плохо кончишь, Финн.
Полагаю, Джон не будет возражать, если я скажу ему, что у него таких проблем отродясь не было. Скажу… если, конечно, когда-нибудь доберусь до него!
Оказавшись наконец на ногах, я сделал в сторону Милли пару незамысловатых, но весьма красноречивых жестов, означавших, что в будущем я ее обязательно задушу.
— Пожалуйста, Финн, никакого насилия! Побольше добра и света, и люди к тебе потянутся. Я бы и сама не отказалась узнать, что это означает. Сделай милость, объясни, что это такое?
— Ну, это что-то вроде… это как бы путаница, я думаю. Что-то, у чего нет формы.
— Чтоб мне провалиться, Финн! Ты хочешь сказать, что это много шума из ничего?
— Ну разве разум — это не прекрасно? — спросила она у мира в целом.
Это было не совсем то, что я хотел сказать.
Формулировка явно требовала дальнейшей доработки.
Пока я валялся мордой в гравий, у меня в голове промелькнула какая-то идея.
— Не беспокойся, Кроха, я спрошу у мистера Джона и, когда вернусь, все тебе расскажу.
— Нет, так дело не пойдет. Тебе не удастся вот так просто вывернуться. Говори сейчас, или ты никуда не пойдешь!
— Слушаю и повинуюсь, мой господин! Джинн из сумки готов приступить к исполнению своих обязанностей. Если мне, конечно, удастся найти эту чертову штуковину. Куда запропастилась эта чертова ручка? Когда нужно, никогда ее нет на месте, чтоб у нее все было хорошо.
До Билла дошло первым; он запустил руку в сумочку Милли и вытащил самопишущую ручку. Я провел дальнейшие изыскания в сумке.
— Матерь Божья, откуда тут столько мусора? С этим можно было бы открыть магазин.
— Ты слишком привязан к тому, что, как тебе кажется, ты знаешь, гений, а кроме того, убери свой нос из моей сумочки. То, что там лежит, тебя не касается. Я не права, дети?
— Тогда как насчет листочка бумаги? Может быть, пока вы еще здесь, нароете мне стол и стул?
Она замахнулась на меня сумочкой, но промазала, что было очень здорово, учитывая совокупный вес всего, что там лежало.
— Бумагу, — потребовал я уже решительнее. — Бумагу!
Она вытащила бумажный пакет с яблоками из продуктовой сумки, раздала его содержимое детям и протянула мне пакет:
— Мне это зачтется?
— Это мы еще посмотрим. Если я правильно понимаю твои мотивы, возможно, и да.
Я яростно потряс ручкой над пакетом, который тут же покрылся россыпью разнокалиберных клякс.
— Вот это, — сказал я, продемонстрировав пакет общественности, — и есть рэндом,[15] ну, более или менее 25. Идея ясна? Никакого порядка здесь нет, расположение клякс довольно случайно. Больше ничего про это сказать нельзя.
— Бьюсь об заклад, Финн, чтобы такое понять, нужно много времени, — сказала Милли.
— Я бы сам так не смог!
Для этого нужны настоящие мозги! Куда уж мне — я ведь просто тупица. Ух… наверное, после всех этих треволнений я неделями спать не буду. Чтобы сделать что-то, о чем даже говорить не можешь, нужны настоящие мозги. Надо бы почаще этим заниматься — давать мозгам роздых.
— Идиоты! — крикнул я через плечо, убегая.
Примерно через час я добрался-таки до Рэндом-коттеджа. И вот какой ответ получил я на Аннин вопрос.
— Всего лишь случайность, — сказал Джон. — Причиной тому всего лишь случайность, и ничего больше. Одна из тех давно позабытых историй, о которых рассказывают в сказках. Мне просто повезло. Дать дому такое имя меня заставила прихоть, причуда. Странно, не правда ли?
Он окинул взглядом комнату, в которой мы сидели.
— Мне нравится звать его так. Больше я ничего не могу рассказать вам об этом слове. Случайность, и все тут.
В его доме и саду все было организовано со столь скрупулезной тщательностью, что слово «рэндом» казалось не слишком удачной шуткой, и Джон всегда улыбался, буде ему случалось его произносить.
Когда я вернулся домой, бумажный пакет, испещренный чернильными точками, был разложен на кухонном столе, а над ним, склонив голову, сидела Анна. Я передал ей содержание своей беседы с Джоном и получил в ответ только «угу».
— Ну, на этом все и кончилось, — подумал я.
Ох, как же я ошибался! Через несколько дней несчастный бумажный пакет с точками чудесным образом превратился в большущий лист картона с еще большим количеством точек. Кроме небрежного «ты все равно не можешь ничего про это сказать!», что на самом деле могло означать что угодно, я не получил никаких комментариев. Я был настолько заинтригован, что чуть не спросил у нее, что же это такое, о чем я все равно ничего не могу сказать. Однако я этого не сделал. Какой прок задавать глупые вопросы, если я даже пока не знаю, во что она так воткнулась? Выслушав это «ты все равно не можешь ничего про это сказать!» в надцатый раз, я почувствовал, что пришло время задать свой вопрос.
— Извини, Кроха, понятия не имею, о чем ты говоришь. Так о чем ты говоришь?
— Сам знаешь. О доме мистера Джона.
— О Рэндом-коттедже?
Она кивнула.
— Ты сам сказал, что не можешь многого об этом сказать. О слове «рэндом».
— Ах, ты об этом?
— Ну…
Когда она так говорила «ну», в целях собственной безопасности стоило нагнуться и прикрыть голову руками. Она ринулась к грифельной доске и вытащила большой кусок белого картона, украшенный кругами и несколькими разноцветными точками. Собравшись с мыслями и тщательно проверив вооружение, она сделала первый залп — ткнула пальцем в красную точку и сообщила:
— Вот это ты, Финн.
— Да ну? А можно я для разнообразия побуду чем-нибудь более значительным? Или жизнеутверждающим?
— Оно значительное, Финн, — заверила она меня. — А вот это — я. — Она указала на синюю точку.
— Приятная компания. А то я уже начинал чувствовать себя как-то одиноко.
Она успокаивающе улыбалась, но то, как резко она втянула воздух, подсказало мне, что по части легкомыслия я, пожалуй, несколько перегнул. Момент не особо располагал к веселью — назревало что-то серьезное. Анна направилась к буфету и извлекла оттуда мой лучший латунный чертежный набор. Никто больше не отважился бы на такую дерзость. Эта вещица была под строжайшим запретом. Что бы она ни намеревалась мне поведать, это, очевидно, было настолько важно, что она даже не спросила разрешения. Она только посмотрела на меня. Я кивнул, но только для виду. Она уселась напротив меня и открыла крышку готовальни. Ее рука в нерешительности зависла над инструментами, и она внимательно посмотрела на меня — взгляд явно говорил, что на подходе было что-то крайне важное.
— Можно, Финн? Можно?
Я снова кивнул. Она вытащила самый большой циркуль из всех, что там были, — тот, что с выдвижными ножками. Помахав им в воздухе наподобие меча Экскалибура[16] и внимательно изучив его с тем сосредоточенным видом, который, как правило, служил предвестником грядущего откровения, она обратила взор ко мне.
«Это будет очень здорово», — подумал я.
— Финн, — значительно сказала она, снова указывая на красную точку, — это ты.
— Я в курсе, ты мне уже сказала.
С этими словами она воткнула ножку циркуля в меня, сиречь в красную точку, которая меня обозначала.
— Ой! Больно же! — Я ничего не мог поделать, оно вырвалось у меня против воли.
Она оставила мое замечание без внимания. Она была занята тем, что с усилием раздвигала циркуль, пока его вторая ножка не достигла одной из точек, и тогда, все еще упираясь острым концом в меня, то есть в красную точку, она начертила окружность. Не прошло и часа, как она закончила свою работу — нарисовала то же самое относительно каждой из имеющихся на листе точек, так что я оказался посреди целой кучи концентрических окружностей. Да, значительности у меня явно прибавилось, но она еще не закончила!
— Финн, все остальные точки тоже этого хотят. Они тоже хотят круги.
Забавно, как так у Анны получалось, что ее точки или кляксы в конце концов становились больше похожи на людей, чем настоящие люди. Они, в отличие от нас, даже знали, чего хотят!
— Я это тоже сделаю. Вот смотри.
На кухонном столе оказался еще один лист картона. На этот раз все было несколько по-другому. На этот раз все желания и стремления всех точек были удовлетворены, и теперь каждая точка оказалась в центре своей собственной вселенной из концентрических окружностей.
— Здорово, правда? — сказала она, оторвавшись от своей работы.
— Просто великолепно, — отозвался я. И тут я заметил нечто такое, на что совершенно не рассчитывал. Это предельно просто, но до сих пор я как-то совершенно упускал этот момент из виду. Одна из окружностей каждой точки на листе проходила через меня. Там были точки по имени Анна, Ма, Милли и, поскольку все на свете суть точки, и вы тоже!
— Что это все означает, Финн? Что это означает?
Я поколебался. Пришедшая мне в голову идея имела некоторый смысл. По крайней мере, она вполне неплохо звучала, так что я решил ее высказать.
— На самом деле, — заявил я, — я тут вижу вот что: каждую точку можно рассматривать двумя способами. Она может быть либо центром всего на свете, либо — и в этом-то и штука — таким особенным, но совершенно не уникальным местом пересечения окружностей от всех остальных точек.
За это я заработал поцелуй. У меня просто не было слов.
— Это как мистер Бог, правда? Все так здорово, когда знаешь как.
— Все так здорово, потому что у тебя все — как мистер Бог.
— На это нужно много времени.
— Да уж!
— Моя попа заснула.
— Удивительно, что у тебя все остальное не заснуло, учитывая, как ты сидишь.
Она всегда отличалась умением смешивать в одной фразе мистера Бога с попой и другими, казалось бы, совсем не подходящими для этого вещами. Но, мне кажется, мистер Бог не особенно против этого возражал. В конце концов, он же все время был где-то рядом.
Преподобного Касла эта теория совершенно не впечатлила. Собственно, он ничего не понял. Что до Джона, то он заявил:
— Она просто еще не понимает проистекающих из этого трудностей. Я вижу, куда она гнет, но это просто детское самомнение. Это не имеет никакого отношения к математике!
Он не понял, что все это и не должно было иметь никакого отношения к математике. На самом деле Анна всего лишь пыталась поговорить о том, о чем, как считалось, никто говорить не может, и, насколько я понимал, ничего другого не имела в виду. Сама идея, что все на свете можно рассматривать либо как центр всего сущего, либо как место пересечения всего остального, у меня никаких возражений не вызывала. С ней вполне можно было жить. Вот только после всех этих штудий требовалось много-много чашек чаю.
Не то чтобы люди на нашей улице так уж страдали от бедности. Ничего подобного. Просто у них не всегда было достаточно денег, а в таком положении вещей есть множество недостатков. Есть, однако, и некоторое количество достоинств — например, дружба с соседями, взаимопомощь, умение справляться с разными ситуациями, простые радости бытия. Все это было так же естественно, как дышать. И именно этого Джон никогда не мог понять. Возможно, все это действительно не имело никакого значения, за тем только исключением, что многие вещи нужно было делать по-другому, а Анна была подлинным специалистом по деланию вещей по-другому. Многие из ее идей нужно было рассматривать именно «по-другому», а если вы не знали, как «по-другому», то все заканчивалось тем, что вам на голову что-то падало и вам оставалось только риторически поинтересоваться: «А что это было?» Один из таких случаев произошел в то воскресенье, когда всю церковную службу Анна чертила в воздухе круги указательным пальцем. Ее бурная деятельность совершенно не устроила преподобного Касла, который не преминул сообщить мне об этом, Джон же увидел в этом не более чем глупую выходку маленькой девочки. Меня попросили передать обратно «сам такой».
Не переставая рисовать в воздухе свои круги, она перешла дорогу, непринужденно уворачиваясь от трамваев и избегая встречи с лошадьми и автомобилями, и остановилась напротив меня. Я занимался ровно тем же. Более того, ее стараниями к нам присоединилось некоторое количество прохожих. Обработав очередную жертву, она бегом вернулась ко мне. Я тем временем был очень занят — я рисовал в воздухе круги.
Констебль Лэйтвэйт приветливо улыбнулся мне.
— Приятно видеть вас занятым делом, — только и сказал он.
Он довольно скоро привык к тому, что если поблизости шныряла Анна, то кто-нибудь почти наверняка был занят чем-то странным. Подчас даже не совсем нормальным. Чаще всего это оказывались я или Милли.
Мисс Хейнс никогда не была в состоянии понять, почему Анна иногда останавливалась и принималась медленно кружиться на месте. Для Джона это тоже не было новостью. Он потратил не один час, выясняя подробности, но ее идеи относительно рисования кругов не совпадали с его представлениями. Она попыталась просто и ясно объяснить ему, что это — как быть одновременно двумя разными людьми. Может быть, даже больше, чем двумя. В конце концов, если вы стояли на одной стороне дороги, то для вас круг рисовался в одну сторону, а если на другой — то определенно в другую, и это действительно было как быть двумя разными людьми! Как-то раз она спросила меня, что такое «порочный круг» и всякие другие вещи, о которых говорят взрослые, типа «читать между строк», что вообще было совершенной глупостью, потому что каждому известно, что между строк ровным счетом ничего нет.
Я очень редко отправлялся в Рэндом-коттедж в одиночестве, но, когда это случалось, я проводил больше времени в разговорах об Анне, чем за работой в саду. Джон хотел знать обо всем, что она сказала, сделала и придумала с тех пор, как он в последний раз ее видел. По большей части мы приезжали вместе, причем она восседала у меня на руле, если же с нами отправлялась Бомбом, то мы ехали на автобусе и при условии, что погода была теплой и солнечной, они обе усаживались у ног Джона, и он слушал их неумолчный щебет. Когда он чувствовал себя лучше, то присоединялся к их незамысловатым играм.
— Никаких усилий, Джон, помни, что сказал доктор, — напоминала ему Арабелла.
— Проклятие. Принесите мне выпить, Финн, и себе тоже возьмите, да захватите что-нибудь для детей.
Поскольку мы наведывались к Джону очень часто, он всегда держал про запас лакомства и напитки для детей.
Я нередко думал, что Анне следовало бы родиться горной козой: она перескакивала с предмета на предмет с резвостью, достойной этого животного, что очень часто нервировало учителей, а меня вгоняло в краску. Возле моста была огромная стройка, которая причиняла массу неудобств окрестным жителям, не устававшим на нее жаловаться. Штабеля кирпичей, труб, досок, цемент, песок и кучи мусора. Никому не приходило в голову посмотреть на это с той точки зрения, что в один прекрасный день весь этот бардак превратится в здание. Именно в таком духе Анна рассматривала обучение в школе и прочие свои исследования. Что-то было хорошо, и она с удовольствием этим занималась, а остальное ее не интересовало, и она не видела в нем никакой пользы. Учителя этого решительно не понимали, но, в конце концов, кто знает, как все обернется, так что я приготовился ждать. Будущее обещало быть блестящим, и мне этого вполне хватало. Забавно, как обычно ведут себя взрослые. Они выбрасывают прочь самые важные вещи. Например, тот одуванчик, который выкопал Джон у себя в саду.
— Можно мне его? Пожалуйста!
— Зачем он тебе? Их же так много повсюду. Это просто трава, докучный сорняк.
Анна рассматривала их совершенно по-другому. Одуванчик должен был жить в каком-нибудь хорошем месте, поэтому она пересадила его на клумбу в парке. Правда, он там надолго не задержался. Преподобный Касл был оскорблен до глубины души, когда обнаружил Анну сажающей многострадальный одуванчик посреди церковного двора, и сообщил ей об этом в весьма недвусмысленных выражениях. Незадолго до этого он как раз рассказывал пастве, как Господь разобрался со всеми растениями и решил, что это хорошо, и Анна была с ним совершенно согласна. Если бы только взрослые могли видеть вещи так, как видела их она, все было бы гораздо проще, но они почему-то этого не желали, так что мама в конце концов оказалась обладательницей самого лучшего в округе садика сорняков. Вне всяких сомнений, нужно быть полным идиотом, чтобы не признать, что сорняки, если за ними правильно ухаживать, выглядят просто великолепно, и Анна с удовольствием занималась этим.
Невзирая на муки мисс Хейнс и озабоченность Джона по поводу неорганизованности ее ума, Анна продолжала везде выискивать растения, которые, с точки зрения мистера Бога, были хороши. То, что подчас их можно было найти в самых неожиданных местах, ее совершенно не останавливало. Они росли в трещинах стен, на пустырях и в прочих совершенно неприспособленных для этого местах, и выдергивать их оттуда было в корне неправильно. Все сущее представлялось ей удивительным и прекрасным, если только у вас достанет ума остановиться и внимательно посмотреть. Зачем портить игру мистеру Богу, если он считает, что все это очень важно? Отношение Анны ко всему творению именно этим и определялось. Быть может, если бы Джон как-нибудь проснулся посреди ночи, как это часто делал я, он бы понял Анну гораздо скорее. На самом же деле такое с ним случилось всего один раз, причем он умудрился обвинить в этом меня. Если бы только Анна умела читать мои сны с такой же легкостью, с какой читала мысли, она бы не стала злоупотреблять этим и так часто будить меня в два часа ночи. Во сне мне никогда не удавалось дойти до самой приятной его части. Как было бы здорово хотя бы раз запустить руку в сундук с деньгами, который я как раз получил в наследство, о чем мне с довольной миной рассказывал очень милый с виду адвокат, — но, увы, этому так и не суждено было случиться. На этот раз меня разбудила фраза: «Финн, а что такое которезка?»
— Финн, а что такое которезка? — Она увлеченно барабанила мне по грудной клетке. — Мистер Джон сказал, что это я.
— Не ты, Кроха. Может быть, я? Уверен, это не ты.
— Нет, я, Финн. Он сказал, что я которезка. Ты должен ему сказать, чтобы он меня так не называл. Скажи ему!
— Разумеется, скажу, в следующий же раз, как увижу его. Обещаю.
— Нет, сейчас, Финн. Скажи ему сейчас!
— Думаю, ему вряд ли понравится, если его разбудят в такое время суток.
— А мне плевать. Скажи ему немедленно, что я не которезка.
В ее голосе так явно слышались слезы, что не оставалось ничего другого, кроме как сказать ему сейчас. Мы вышли из дому и направились к ближайшей телефонной будке. По дороге я попытался убедить ее, что он ни за что не стал бы такого говорить.
— Но он же сказал, Финн! Он правда сказал.
Полагаю, любой, кто осмелился назвать маленькую девочку вроде Анны которезкой, заслуживает того, чтобы его разбудили в любой час дня и ночи. В любом случае телефон стоял непосредственно рядом с его кроватью, и, чтобы ответить на звонок, ему бы даже не пришлось оттуда вылезать. В отличие от меня, которому нужно было для этого встать, одеться и пройти пешком почти полмили. Анна несколько раз пыталась набрать номер, и наконец телефонистка смогла установить соединение. Я придвинулся так близко к трубке, как только мог. Некоторое время оттуда доносились гудки, а потом раздался его голос:
— Джон Ходж у телефона.
— Финн, скажи ты. Скажи ты!
— Ну уж нет. — Я помотал головой. — Твоя идея, сама и разговаривай.
— Мистер Джон, это Анна! — заорала она в трубку.
— Здравствуй, Анна. Что тебе нужно? С тобой все хорошо? А с Финном?
— Да, мистер Джон. Финн тут. Он хочет с вами поговорить. — И, всхлипнув, она сунула трубку мне в руки.
— Джон, что это за история с обзыванием Анны которезкой? Она утверждает, что вы так сказали, и весьма расстроена по этому поводу.
— Дай ее сюда, Финн. Ради всего святого, дай ей трубку.
— Анна, дорогая, — сказал он. — Я бы никогда не стал называть тебя которезкой. Я просто не мог этого сделать.
— Нет, могли, мистер Джон. Я сама слышала, как вы сказали: «Она — самая отъявленная ходячая которезка, какую я только встречал!»
— Нет-нет, милая моя Анна, ты ошиблась. Никакая не которезка, я сказал, что ты — катахреза.[17] Дай мне лучше обратно Финна, я все ему объясню.
— Вот ведь чудак-человек! — вмешался вдруг некий голос. — Думать надо головой, прежде чем пугать малое дитя.
— Мадам, немедленно положите трубку. У нас очень важный разговор.
— Вот об этом я вам и говорю, — сурово отбрила его телефонистка. — Вас обоих в тюрьму надо посадить за то, что пудрите ребенку мозги вашими глупыми хрезами. А ей, между прочим, давно пора быть в постели. Мой вам совет, отведите ее домой и погладьте по головке, чтоб быстрее уснула.
— Мадам, пожалуйста, положите трубку.
— Финн, — сказал он уже мне, — слово было «катахреза». Катахреза, понимаете, а не которезка.
Слово «катахреза» не входило в мой повседневный словарный запас. Никакой практической пользы я в нем не видел. Единственный раз в жизни, когда мне случилось его слышать, — так это на уроке английского в школе.
— Давай-ка пойдем и выпьем по чашечке, Кроха, — сказал я. — Полагаю, мы это заслужили.
— Все в порядке, Финн? Он извинился?
— Он не говорил того, что ты подумала. Он сказал совсем другое слово.
— Какое слово?
— Он назвал тебя катахрезой.
— Это плохое слово?
— Ну, не совсем. Это то, что называется «фигура речи». Пей чай, пока горячий.
Откуда-то из глубины памяти предков я, порывшись, извлек пример.
— Это как люди говорят, например, «красные чернила», или «цветное белье», или еще что-нибудь вроде этого. Это когда два слова противоречат друг другу буквально — чернила, они же черные, а тут они красные, — но вместе они имеют нормальный смысл. Вот так мистер Джон тебя назвал, а вовсе не которезкой.
— Ой, — сказала она, подумав, — это же совсем другое. Тогда все в порядке. Я думала, он сказал не это.
— Нужно быть осторожным, — добавила она, еще подумав, — правда, Финн? Я же катахреза, да, Финн?
То же самое она с гордостью сообщила бармену за стойкой. По-видимому, его эта идея не впечатлила.
— Я устал, — пожаловался я. — Можно я уже пойду домой спать?
Сколь велика была моя радость, когда она согласилась, что это хорошая идея!
Когда мы наконец ввалились в дом, сверху раздался крик мамы:
— И где же это, интересно, вас двоих носило? Уже почти утро!
— Охотились на катахрезу, — с гордостью проорал в ответ я.
— Молодцы! — пришел ответ.
Только когда я снова был в постели, до меня вдруг дошло, насколько странной была эта ночь. «В стилистике — сочетание слов с несовместимыми лексическими значениями, образующее, однако, своеобразное смысловое целое», — гласила посвященная катахрезе статья в словаре. Кажется, Джон был не так уж и неправ. Анна была форменной катахрезой, и, если уж на то пошло, вдвоем они составляли еще одну, не менее впечатляющую. Все, что оставалось мне, — «быть осторожным».
С течением времени я все больше и больше укреплялся в этом чувстве. На теперешний момент я уже так привык к тому, как оба выражают свои мысли, что вполне мог переводить идеи Джона на понятный Анне язык и делать то же самое для Джона, когда ему случалось заблудиться в ее фантазиях. Должен признаться, это было вовсе не легко. Его по-прежнему многое ставило в тупик, многое причиняло боль и смущение, но с течением времени, и это было совершенно очевидно, он начал утрачивать те нетерпимость и озлобление, тот яд, которые столь часто выказывал поначалу в общении с ней. Все его острые углы, о которые можно было так легко пораниться, постепенно смягчались. Что же до Анны, то она ни на йоту не утратила своего волшебства, но в чем-то научилась говорить именно то, что хотела сказать. Не то чтобы это проявлялось всегда и во всех ситуациях, но тем не менее. Возможно, дело было и в том, что она попросту росла. Бедняге Джону приходилось воистину несладко. Никаких откровений, никаких блистательных прозрений — только медленный прогресс, и тот с большим трудом. Причем в каком направлении они двигались, ему было непонятно. Ей — и того меньше. А уж обо мне и говорить не приходилось.
Джон решил, что Анна должна в полной мере почерпнуть от сокровищницы его знаний, так что мы втроем договорились, что будем время от времени отправляться на целый день в один из музеев Южного Кенсингтона. Мне не хотелось расстраивать его, и потому я не стал сообщать, что мы почти везде уже побывали и что Анне там было не особенно интересно.
Так что в одно прекрасное утро возле центрального входа в музей ошивалась целая стайка детей в количестве приблизительно восьми штук, явно и несомненно жаждущих просвещения. Я даже попросил Милли пойти с нами и помочь мне приглядеть за ними. Мне совершенно не улыбалась перспектива гоняться за ребятней по всему музею. К счастью, она согласилась.
Прибыл Джон, готовый набить наши головы знаниями под самую завязку. В центре огромного холла красовалась впечатляющая модель блохи человеческой, размером гораздо крупнее Анны. Последняя обогнула ее, рассматривая с выражением глубокой подозрительности на лице. Красноречивое покачивание головой говорило, что она осталась о блохе весьма невысокого мнения и ее совершенно не интересовало то, что Джон или кто бы то ни было еще могли о ней сообщить. Я неоднократно пытался обратить внимание Джона на то, что у них с Анной явно было что-то общее. Это общее вызывало у меня такое чувство, будто у меня чешется где-то, куда я никак не могу достать, но Джон в ответ всякий раз только хмурил брови. После нескольких месяцев общения с Анной я уже все знал об этой умственной чесотке, но Джон этого на себе еще не испытал. Еще испытает, дай только время. Я вовсе не собирался защищать его от Анниных пыток. Он был достаточно взрослым, чтобы самому о себе позаботиться.
— Финн, — спросил он у меня, — Анна уже была в зале динозавров?
— Не уверен. Нет, не думаю.
— Отлично! В таком случае мы просто обязаны на них посмотреть. Полагаю, она будет крайне впечатлена.
Мы осмотрели всяких бронто-, стего-, ихтио- и прочих товарищей, имена которых никто, кроме Джона, не был в силах произнести, и наконец остановились перед старым добрым Tyrannosaurus Rex. Джон засыпал нас по самую маковку фактами и цифрами, имеющими отношение к старине Рексу, но эти миллионы лет почему-то не произвели ровным счетом никакого впечатления на детей.
— Не хотелось бы повстречаться с ним в темном переулке, — заметила Милли.
Бомбомское «вот блин!» совершенно истощило ее словарный запас.
Мэй издала нечто восторженное, но малоприличное, разнесшееся эхом по всему залу. Несколько голов на мгновение повернулись в нашу сторону. И в самом деле, что еще можно сказать по поводу старины Рекса? «Срань господня!» суммирует весь возможный спектр мнений.
Мы двинулись дальше к новым чудесам. Джон продолжал без остановки сыпать фактами стомиллионолетней давности. Я знал, как легко потерять Анну и, если уж на то пошло, потеряться самому, особенно когда она принимается над чем-нибудь думать. Поскольку во время очередной инспекции ее с нами не оказалось, мне пришлось отправиться назад искать ее. Она стояла перед стариной Рексом — крошечный гномик перед грудой зубов и когтей — и размахивала своей сумкой. По тому, как именно она размахивала сумкой и глядела на него, было совершенно ясно, что она его ни чуточки не боится. Если ее не пугал сам Старый Ник, то у старины Рекса просто не оставалось шансов.
— Давай жми за мной, а то сейчас получишь сумкой.
В ответ она ухмыльнулась и наморщила нос. Мы двинулись на поиски Джона и остальных. Когда мы их обнаружили, Джон как раз пытался объяснить Мэй, что данный экспонат называется Утконосый Платипус, а вовсе не платконосый уткопупс. Несмотря на все его усилия, бедной зверушке суждено было навсегда остаться платконосым уткопупсом!
После часа или двух таких мучений было наконец принято решение, что мы все идем в сад, чтобы там пожрать наши сандвичи, аки волк овцу. Мы с Джоном сели на скамейку, а остальные развалились на траве. Джону, естественно, захотелось знать, что Анна думает обо всех этих динозаврах.
— Ну как, они тебе понравились, малышка?
— М-м-м… — осмысленно отвечала она.
— Они тебя напугали?
Она отрицательно помотала головой.
— Так что же ты о них думаешь?
Некоторое время она раздумывала, глядя ему прямо в глаза, а потом решительно выдала:
— Мяса мало!
Это было не совсем то, что старый Джон ожидал услышать, поэтому он принялся прилежно объяснять ей, что плоть ящеров сгнила миллионы лет назад. Особого успеха это не возымело.
— Угу, я знаю, Финн, мне говорил.
Джон и понятия не имел, какое значение она вкладывала в словосочетание «мало мяса».
— Вы думаете, нашей юной леди все это нравится, Финн? — спросил он меня. — Не слишком ли это для нее?
— Думаю, нет, Джон. Уверен, она почти все усваивает.
— Она кажется такой спокойной, это на нее не похоже. Я даже спросил, может, ей не по себе.
— Не обращайте внимания, Джон. Она думает, вот и все. Пытается все связать вместе. Разработать, как она это называет. Она часто так делает.
— Было бы интересно хотя бы на минутку посмотреть, что творится у нее в голове.
— На вашем месте, Джон, я бы не пытался. Вы никогда не найдете дороги обратно, а кроме того, я не уверен, что там осталось хоть немного свободного места, учитывая, чем и в каких количествах она набивает свою башку.
— Возможно, вы правы, Финн. Что меня действительно озадачивает, так это как перед лицом таких свидетельств люди еще могут верить в то, что Библия говорит правду. Я просто не могу понять, как теория Книги Бытия может устоять против этих фактов.
— Честно говоря, я не вижу в Библии никакой теории. Она просто создает определенное настроение.
Никто из нас не обратил внимания, что Анна стоит поблизости и слышит каждое наше слово. Однако в ответ она ничего не сказала, а только шмыгнула носом.
— Не сможете ли вы с Милли полчасика присмотреть за детьми? Мне нужно кое-что сделать, — спросил меня Джон.
Я заверил его, что нам уже случалось исполнять подобную миссию и что дети останутся в полнейшей безопасности, даже если нам с Милли предстоит геройски погибнуть.
— Мы пойдем в Музей науки, Джон. Давайте встретимся там где-то через час или около того.
— Отлично, — ответил он. — Я сам вас найду.
В Музее науки детям понравилось гораздо больше. Всякие кнопочки, на которые можно понажимать, и целая шеренга исторических унитазов, у которых даже можно потянуть за цепочки. Куда лучше, чем все эти неинтересные мертвые штуки. Мертвые птицы и чучела животных были, конечно, очень хороши в своем роде, но далеко не так, как все эти рычаги и кнопки, от которых начинали вертеться колеса и шестерни, модели поездов и автомобилей и все такое прочее. Они настолько увлеклись кнопками, что явно не стали бы по мне сильно скучать.
— Милли, ты не возражаешь, если я на минутку отлучусь? Мне надо посмотреть тут на одну штуку.
— Не вопрос, Финн. А тебя куда понесло?
— Этажом выше. Там есть витрина с математическими моделями, я хочу взглянуть.
— Можно было и догадаться, — рассмеялась она. — Ладно, валяй.
Я околачивался там уже довольно долго, когда об мою руку вдруг потерлась рыжая головка Анны.
— Привет, Кроха! Что ты здесь делаешь? Надоели кнопочки?
— Нет. Просто хотела к тебе. Хотела что-то у тебя спросить.
— Давай спрашивай.
— Я думаю, мистер Джон не верит в мистера Бога, правда, Финн?
— Я не совсем в этом уверен, но, скорее всего, не верит, — ответил я.
— Ох.
Я попытался ей объяснить, что далеко не все в мире верят в мистера Бога и что очень многие верят во что-то совсем другое. Это оказалось довольно трудно, и она все равно мне не поверила. Некоторое время она бродила со мной вокруг витрин, разглядывая разные модели и пытаясь проникнуть в их суть с помощью воображения.
Вскоре рядом возник Джон.
— Рад, что нашел вас здесь, Финн. Я хочу показать вам кое-что вон там. Это дифференциальный анализатор Буша. Чрезвычайно интересное устройство, возможно, даже самое интересное, что здесь есть. Оно делает вот что…
Ему так и не удалось поведать нам, что же оно делает, поскольку Анну это ни в малой степени не интересовало. У нее имелся ряд вопросов к Джону, и она намеревалась немедленно их задать. Не думаю, что в мире был кто-то, способный устоять перед ее натиском. Ей вполне хватило одного залпа:
— Мистер Джон, почему вы не верите в мистера Бога? Почему?
Мне не так уж часто случалось видеть Джона теряющим дар речи, но это был как раз такой случай. Ему даже пришлось сесть на ближайшую банкетку.
— Присядь-ка рядом, милая, и я попытаюсь тебе объяснить.
Я гадал, чем это все в результате кончится. Так или иначе, я хотел быть поблизости, чтобы в случае чего оказать ей помощь и поддержку. Он еще ни разу не разговаривал с ней на эту тему, и ей, вполне возможно, не помешает плечо друга. Я уже забыл, с каким выражением это дитя смотрело на гигантский скелет тираннозавра.
За все годы нашего с ним знакомства я ни разу не видел, чтобы Джон был таким мягким. Он постарался максимально просто объяснить ей, что просто не может поверить в то, что мир был сотворен так, как это описано в Библии. Она слушала его, не говоря ни слова. Его последними словами были: «…вот, малыш, теперь ты видишь, почему я не могу поверить в это. Мне очень жаль, но я просто не могу».
Довольно долго никто не мог произнести ни слова. Анна, повесив голову, тщательно изучала пол. Я надеялся только, что слова Джона не слишком ранили ее. По весьма красноречивым взглядам, которые он на меня бросал, было ясно, что он ужасно сожалеет о том, что ему пришлось все это сказать. Однако правда для Джона была важнее всего — вне зависимости от обстоятельств. Так мы и сидели рядком, не зная, что сказать. Она подняла голову, и я заметил у нее на губах улыбку — весьма особенную улыбку системы «ну а теперь посмотрим», которая явственно обещала продолжение банкета.
— Сколько страниц в Библии, мистер Джон? Сколько там страниц?
— Страниц? — переспросил он. — Страниц… Я совсем не уверен, но там, должно быть, примерно тысячи две страниц или около того. А почему ты спрашиваешь?
— А сколько страниц, на которых мистер Бог творит мир? Ну, когда он делает все вот это.
— Не особенно много. Наверное, не больше пяти.
— Это как вот те скелеты, правда, Финн? Это совсем не важно, да?
Поскольку я понятия не имел, что за этим последует, и меня уже неоднократно втягивали в подобные споры, сказать мне на настоящий момент было особенно нечего.
— Это все на остальных страницах, мистер Джон. Это все там, дальше.
— Что, моя юная леди? Что там, на остальных страницах?
Со счастливой физиономией («я же вам говорила») она закончила:
— Все мясо, чтобы нарастить на кости. На эти скелеты, вот.
Джон смог выдавить только:
— Понимаю. Я должен это запомнить.
Джон был наголову разбит с одного залпа; все его факты и цифры оказались сметены одним-единственным «мало мяса», причем говорила она, естественно, не о плоти давно мертвых чудовищ. Я надеялся, что она не заведет снова ту же песню, но, видимо, тщетно…
Аннино «мало мяса» относилось ко всем тем формулам и уравнениям, которым Джон меня учил и с которыми мне так нравилось возиться. Она недвусмысленно объяснила мне, что все эти штуки с цифрами были всего лишь кучей старых костей, скелетом. Не то чтобы она что-то имела против них, но по-настоящему важным было нарастить на них побольше мяса.
А после этого она заявила ему:
— У них нет никаких снаружи, мистер Джон, — и через секунду, — и внутри тоже нет.
Ничего не скажешь, трудно испытывать восторг по поводу чего-то такого, у чего нет ни внутри, ни снаружи.
Несколько недель дети только и разговаривали, что о грядущей Ночи костров[18] и о том, сколько у кого всяких шутих и фейерверков. Праздник должен был состояться на Дворе Луны, который взрослые упорно называли не иначе как свалкой. Для детей же это была страна фантазий и открытий, место, где привычные правила уступали место полной неопределенности — никогда не знаешь, что найдешь в той или иной куче мусора. Это была живая инъекция жизни. Временами мне начинало казаться, что даже нормальные законы природы там стесняются действовать в полную силу. Сколько я себя помнил, это место называлось Двором Луны. Взрослые старались его избегать и считали опасным. Оно их нервировало, как соринка в глазу; то и дело раздавались призывы уже что-нибудь с ним сделать. Я убеждал Джона и его сестру прийти посмотреть на наш праздник, и в конце концов была достигнута договоренность, что мы встретимся там в семь часов вечера. Мне всегда было забавно стоять посреди Двора Луны — оттуда открывался вид на колокольню приходской церкви, в которой преподобный Касл часто вещал об иной земле, где действуют другие правила и где все куда лучше, чем тут, у нас, потому что Иисус поставил там все старые правила с ног на голову. Двор Луны был как раз таким местом, где правила были и другими, и лучше, чем у нас. Поэтому взрослым тут не нравилось. Им тут было не по себе, потому что они не знали правил и не могли за них уцепиться, а еще не умели играть с мистером Богом. Они не могли посмотреть на него другими глазами.
— Люди смотрят на него теми же глазами, — терпеливо объясняла мне Анна, — а на Двор Луны нужно смотреть совсем другими глазами.
У меня просто не хватило духу сказать ей, что для большинства взрослых это было слишком трудно. Поэтому я промолчал.
Много часов мы с Дэнни и Нобом собирали все, что могло гореть, и сооружали приличный костер, в то время как ребятня вымогала у прохожих мелкие монетки:
— Дайте малышу пенни, мистер!
Мальчишки постарше делали грелки для рук.
Ввиду надвигающейся зимы не было ничего важнее, чем хорошая грелка для рук. Любой, у кого была такая грелка — безопасная и добротно сделанная, — сразу же становился центром целой толпы ребятишек. Особой популярностью пользовались большие жестянки из-под какао с проверченными в днище дырками для воздуха и крышкой, которую можно было плотно закрыть. Снабдите такую парой футов проволочной обмотки и деревянной ручкой — и вы во всеоружии. Когда в такой грелке поджигали бумагу, деревяшки и уголь, а потом несколько раз энергично махали ею, чтобы топливо разгорелось, об нее можно было греть руки в самые лютые холода, а ее счастливый обладатель был просто «царем горы».
В назначенный час мы все собрались в конце улицы. Старшие мальчики несли большие жестянки с шутихами, а у трех-четырех были грелки на длинных проволоках, которыми они раскачивали, будто кадилами в церкви. Поскольку дорога на Двор Луны шла по берегу канала, Салли решила, что нам не помешает парочка парафиновых ламп, чтобы было видно, куда идти.
— Я не смог принести картошку, — сказал Хек, — у Ма не было денег.
— Неважно, — отвечал я, — мы добудем несколько штук в лавке.
— А у меня есть пакетик тянучки, — встряла Банти.
— 'от эт здорово, — сказал еще кто-то, — эт заставит тебя 'оть немного помолчать.
— Ах ты сволочь, ты, ты сволочь, вот!
— У кого-нибудь есть что-нибудь еще? — меланхолично поинтересовался я.
— Мешок арахиса…
— У меня — поджаренная кокосовая стружка, — сказал кто-то еще.
Мало-помалу набирался скудный, но все-таки урожай.
— А у тебя ничего нет, Финн? — поинтересовалась Кэт.
— Разумеется, есть, — ответил я. — Несколько плиток шоколада и пакет жвачки.
— А у тебя, Милл? — спросил Ниппер.
— Есть, — отвечала она, — но это только для взрослых вроде меня, а не для детей типа вас всех.
— Я уже взрослая, — запротестовала Кэт. — По-твоему, я не выросла? Посмотри сама, Милл! Ну-ка признавайся, что там у тебя в сумке? А?
— А ну-ка убери оттуда свой любопытный нос. Он тебе еще пригодится.
— Бьюсь об заклад, это бухло, да, Милл?
— Спорим на миллион фунтов, это виски… Спорим?
— Какое оно на вкус, Милл?
— Дай попробовать! Ну дай!
— Да ну вас, — смеялась Милли. — Отстаньте. Это только для меня и Салли. Когда станете такие же старые, как я, тоже будете беречься от холода и сырости.
— А сколько лет нашей Милли, Финн? — спросила меня Анна.
— Не знаю, Кроха. Даже понятия не имею.
— Она что, правда такая старая, как говорит?
— Спорим, ей пятьдесят? — встрял в разговор Хек.
— Не может быть! — закричал кто-то еще. — Спорим, ей не больше тридцати пяти, правда, Милл?
— А ну охолоните, — строго сказала Милли. — Так я у вас скоро буду в инвалидной коляске разъезжать. Если вам так уж интересно, мне на Рождество стукнет двадцать.
— Вот ужас-то, да? — посочувствовала Роза. — Ну, нет худа без добра. А подарок у тебя будет один за два праздника или все-таки по одному на каждый?
— А праздновать будешь, Милл? Можно я приду?
— И я?
Нескончаемый детский щебет разносился в холодном ночном воздухе. От канала поднимался туман. Дыхание разгоряченных детских ртов ткало в бледном свете фонарей узоры, похожие на застенчивых привидений, которые растворялись в зимнем воздухе не в силах сами поддерживать в себе жизнь. Подойдя к мосту, по которому мы намеревались пересечь канал, мы увидели на той его стороне костер. В небо взмыла ракета, таща за собой кружевной хвост из искр.
Невдалеке показался забор, сквозь который нам предстояло протиснуться. В свете костра я увидел припаркованный на дальней стороне Двора Луны автомобиль Джона. Я успел совершенно о нем забыть и недоумевал, как он умудрился туда попасть. Должно быть, Сэм или Дэнни показали ему объезд. Те, кто пришел раньше, уже успели развести весьма недурной костер. Пока мы искали дырку, через которую можно было бы пробраться внутрь, на той стороне возник констебль Лэйтвэйт.
— Вот сюда, — показал он, — и смотрите под ноги. Рад, что в этом году вы взялись за ум. Никаких опасных костров на задних дворах, как в прошлом. Пора вам, старшим, уже начать шевелить мозгами, — заметил он, кажется, намекая на меня.
— Однако не все так страшно, — оптимистично продолжал он, обращаясь уже к детям. — Заходите и веселитесь, только, прежде чем уйти, убедитесь в том, что огонь погашен. Вижу, с вами молодой Финн. О, как поживаешь, Милли? Здорово, что у тебя выходной.
— Я бы ради такого случая прозаклала бы чай со всего Китая, — отозвалась Милли.
— Сэйди и Салли тоже здесь.
— Вот и ладненько. Давайте лезьте сюда и приятного вам времяпрепровождения!
Навстречу нам к костру вышла Арабелла.
— Я принесла с собой печеную картошку, — сообщила она, — и достаточно сосисок, чтобы накормить целую армию. Надеюсь, этого хватит, — добавила она, окинув взглядом компанию детей. — Вам их нужно только разогреть.
Мы с Анной пошли поздороваться с Джоном.
— Вы приехали, мистер Джон! Это здорово!
Дэнни помог Джону удобно устроиться на вытащенном из какой-то старой машины заднем сиденье, которое мы притащили сюда еще несколько дней назад специально для этой цели.
— Приветствую, юная Анна, — сказал Джон. — Иди сюда и посиди со мной.
К его удивлению, она сделала гораздо больше — а именно бросилась к нему на шею и поцеловала в щеку. За ней последовала Милли. Остальные ребята, воодушевленные этими проявлениями страсти, решили, что это необходимый ритуал по случаю праздника, и тоже присоединились к ним. Освещенный алым отблеском огня и пламенем собственных щек, старый Джон выглядел счастливее, чем когда-либо на моей памяти. А когда Милли, нежная дева из трущоб, поднесла ему двойной виски, он окончательно потерял самообладание.
— Выпейте, Профессор, — с улыбкой сказала она. — Это прогонит холод из костей.
Несколько мгновений он, казалось, не знал, что ему делать, но потом собрался с силами и произнес:
— Не согласитесь ли посидеть с нами, мисс Милли? Вот тут, по другую сторону от меня?
— Не вопрос, Профессор, — ответствовала она, — с удовольствием.
И тут же плюхнулась рядом со всеми своими многочисленными юбками и ногами. Бедный старый Джон! Должно быть, прошло много лет с тех пор, как он последний раз встречал кого-нибудь наподобие Милли, если такое вообще когда-нибудь имело место; он даже подвинулся, чтобы освободить ей побольше места. Однако он не знал нашу Милли! Со словами: «Нам, старым кабанам, нужно держаться поближе для сугрева, точно, Профессор?» — она продела свою руку сквозь его и уютно прижалась к нему. Милая старушка Милли! Какая разница, как она зарабатывала на жизнь! В ней была какая-то непобедимая невинность, устоять против которой было просто невозможно. Джон расслабился и заулыбался. Так они и сидели: важный профессор и две юные девы по обе стороны от него.
Внезапно ночное небо озарилось разноцветными огнями и целым дождем сверкающих искр.
— А вот посмотрите-ка на эту! — закричал Дэнни, когда особенно большая ракета взмыла вверх и расцвела разноцветными звездами.
Глядя на медленно угасающие искры, Милли сказала:
— Здорово знать, что звезды никуда не делись, когда вся эта мишура погаснет, правда, Профессор?
Он важно кивнул и спросил, повернувшись к Анне:
— Тебе нравится?
— Да, — ответила она, — только…
— Что только, милая?
— Мистер Джон, а что происходит, когда звезды гаснут? Что потом?
Когда фейерверки закончились, а костер оставил по себе только большое озеро мерцающих углей, Дэнни и Сэм отправились в ближайший паб притащить пару-другую бутылок и заодно что-нибудь для детей. Мы все расселись кружком на старых бочках из-под бензина, деревянных ящиках и тому подобных сиденьях и приступили к печеной картошке и сосискам. Дети принялись петь. К моему крайнему удивлению, оказалось, что они знают слова всяких… м-м-м… грязных песенок куда лучше, чем мы, взрослые. Вскоре Двор Луны превратился в таинственный ландшафт, освещенный только несколькими газовыми фонарями с близлежащей улицы, в котором невозможно было распознать очертания знакомых предметов. Звезды стали странно близкими, как бывает только в морозные зимние ночи. За последние два часа Джону задали больше вопросов, чем, наверное, за последние два года.
— Мистер Джон, а почему в фейерверках одни искры синие, а другие — зеленые?
Или:
— Мистер Джон, а почему ракеты летят вверх?
К тому времени Анна уже лежала, вытянувшись почти в полный рост, и смотрела на звезды в том красноречивом молчании, которое обычно предваряет взрыв вопросов. Я примостился рядом с ней, ожидая, что в любой момент меня могут припечатать очередным вопросом, не имеющим ответа. Однако у меня в эту ночь выдался выходной — все вопросы на сей раз были адресованы Джону.
— Мистер Джон, — спросила она, — а сколько там, наверху, звезд?
— Думаю, — сказал он, немного подумав, — там примерно три тысячи звезд, которые ты можешь разглядеть, и гораздо, гораздо больше таких, которые можно увидеть только в телескоп.
Она молча спрятала эту полезную информацию куда-то в кладовку знаний и приготовилась к следующей атаке.
— Мистер Джон, — сказала она, показывая рукой вверх, — если вы проведете линию от той звезды к вон той, а потом еще к вон той, а потом… — Звезд оказалось довольно много. — Если все эти звезды соединить такими коротенькими линиями… — Джон согласно кивал, следя глазами за ее пальцем.
— Да, — сказал он, — соединил. И что?
— Что получится?
Джон уже открыл рот, чтобы выдать солидное астрономическое объяснение.
— Тогда получится мое лицо, — сообщила Анна всем в целом и никому в особенности.
Челюсть Джона поменяла свое привычное положение, заняв позицию на пару дюймов ниже обычного. Признаюсь, я, наверное, неправильно соединил несколько звезд, потому что ничего подобного я не видел.
— А почему это не мое лицо, например? — резонно поинтересовалась Бомбом.
— И твое тоже. Это и твое лицо тоже, Бомбом, — ответила Анна. — Если правильно его сделать, то это будет всехнее лицо, правда, мистер Джон?
Бедняга Джон, ему не оставалось ничего иного, кроме как послушно кивнуть головой! Однако Анна еще не закончила.
— А сколько там разных лиц среди звезд, а, мистер Джон?
Нельзя сказать, что Джону этот вопрос безумно понравился.
— Так много, — выдавил он наконец, — так много, что и не сосчитать.
— Больше, чем людей в мире? — настаивала она.
Единственное, что он мог сделать, так это молча кивнуть. Все молчали, выискивая среди звезд свои лица.
— А вот моего старика там нет, — хихикнул Хек.
— Почему это, Хек? — удивился я такому повороту.
— Он у меня такой страшный на морду, Финн, — засмеялся Хек, — что на фиг перепугает оттуда всех. Но он хороший парень, точно. Он очень хороший!
Сэм сел за руль Джонова автомобиля, чтобы вывести его на дорогу. Несколько ребят помогли Арабелле дотащить до машины старое одеяло и большую корзину, в которых она привезла угощение.
— Мистер Джон, вам понравилось? Здорово, правда? Та гребаная ракета, она почти до Луны долетела, спорим, она долетела. Правда ведь долетела, мистер Джон?
— Ну, достаточно далеко, — улыбался Джон. — Она долетела достаточно далеко.
Я был несказанно рад, что он не пустился в пространные математические калькуляции, чтобы с точностью определить, какой высоты достигла злосчастная ракета. Он покачал головой и, к моему несказанному изумлению, выдал следующее:
— Да, возможно, она долетела до самой Луны.
— Я же говорил… я же вам говорил, правда?
Что заставило его увидеть магию этой ночи, а не привычные голые факты? Когда мы шли к машине, Джон неожиданно положил руку мне на плечо.
— Вы, должно быть, устали, Джон, — сказал я. — Я могу что-нибудь сделать для вас?
— Я вовсе не устал, — возразил он. — Я… я просто задумался.
— О чем?
— О прошлом.
— О!
— Неужели я и правда… Я уже не помню. Неужели правда?
— Правда — что? — спросил я.
Он испустил долгий-долгий вздох.
— Неужели я тоже задавал столько вопросов, когда был в их возрасте? Я уже не помню того, что было так давно.
Он помолчал.
— Куда, интересно, девалось все волшебство? Куда?
На этот вопрос я не ответил. Потому что, во-первых, это было не ко времени, а во-вторых, ответа я не знал.
Они уже были готовы отъезжать, когда:
— Приводите ее ко мне в гости. Приводите почаще… маленькую Анну.
Я обещал.
Неизвестно, где Анна подцепила идею о том, что сначала приходят ответы и только потом вопросы, но произошло это очень рано. Меня в свое время учили совершенно противоположному, а уж старого Джона и подавно. В отличие от нас Ма всегда придерживалась именно такого взгляда на вещи, так что, когда к нам пришла Анна, они с Ма сразу зажили душа в душу. Для меня это было немного слишком, потому что я никогда по-настоящему не знал, куда я двигаюсь, а чаще всего пытался делать это в двух направлениях сразу, если не больше. Временами это бывало довольно болезненно.
Иногда я принимался жаловаться на необъяснимую манеру Ответов лезть наперед Вопросов, но никогда особо не упорствовал в таком взгляде на вещи. Надо мной смеялись. Смех по этому поводу вынести было довольно трудно. Я сразу же начинал чувствовать себя очень маленьким.
— Внутри любого порядка есть беспорядок, — говаривала Ма. — А внутри беспорядка — порядок. И каковы бы они ни были, оба они — твои, и ничьи больше!
Все, кто знал Анну, все время пытались уподобить ее чему-то знакомому и понятному.
— Она будто сорока или галка, хватает и улетает.
Я сам так делал; я называл ее ангелом. Не то чтобы я очень много знал об ангелах, не припомню даже, встречал ли я когда-нибудь хоть одного или нет, но вот когда Джона угораздило сравнить ее с ружьем, я откровенно выпал в осадок.
— Вы когда-нибудь стреляли из ружья, Финн?
— Только в детстве. Из пугача и игрушечной духовушки. А почему вы спрашиваете?
— Она мне его напоминает.
— Бомбу я бы еще мог понять; у меня временами бывает ощущение, будто меня только что взорвали, — задумчиво отвечал я. — Но чтобы ружье… нет, никогда.
Он явно сражался со словами.
— Черт! Иногда мне кажется, что она умеет смотреть и вперед, и назад. Не будьте таким тупым, молодой Финн. Вы прекрасно понимаете, куда я веду.
— Не отвертитесь, Джон. Давайте объясняйте.
— На самом деле я хочу сказать, что, глядя вперед, мы намечаем цель, а глядя назад — прицеливаемся и делаем точную наводку.
— Звучит разумно, — сказал я. — Но что вы имеете в виду?
— Ничего особенного… кроме того, что она, кажется, всегда четко знает свою цель. Хотел бы сказать то же самое о себе. Из-за нее мне в голову приходят очень странные мысли. Идиотские мысли, надо сказать. О вещах, которые просто не могут быть правдой, но, однако же, вот они, у меня в голове.
Теперь уже запутался я. Он рассуждал прямо как Анна, и я не преминул сказать ему об этом.
— Быть может, вы правы, молодой Финн, быть может, вы правы.
— У вас никогда не появлялось от общения с ней такого чувства…
— Какого чувства, Джон?
— Что она — такой самостоятельный кусочек вашей собственной памяти? У меня появлялось. Я сразу теряю контроль над собой.
— Не может быть, Джон! Только не вы!
— Она часто напоминает мне мое собственное детство — мои путаницы, мои воспоминания.
— Насчет путаниц я могу понять, — подтвердил я. — Она частенько ставит меня с ног на голову.
— Теперь вы надо мной смеетесь. Не смейте! Мне это не нравится.
— Извините, Джон. Вы сами частенько надо мной смеялись.
— Знаю, — сказал он, — но это было совсем по-другому. Я был гораздо старше вас, и потом, в этом состоял наш долг: мой — учить, ваш — учиться. У меня от нее временами начинается прямо-таки ментальный зуд, только вот я не знаю, где и как почесать. Что-то вроде умственного несварения, я полагаю. Но, Финн…
— Да?
— Иногда мне думается — а ведь она, может быть, права. Не в большом, сами понимаете, но в малом. Если бы она только могла точно объяснить, что чувствует, это сильно бы облегчило дело.
— Мне бы тоже, — рассмеялся я. — Если бы вы объяснили мне, о чем, собственно, речь. Я совершенно потерял нить ваших рассуждений.
— Случалось ли, — спросил он, — что она совершенно сбивала вас с толку всякими штуками из ее мира, которые со словом «очень»?
— Ах это, — сказал я. — Такое случается со мной по несколько раз в неделю — как правило, посреди ночи. Очень-очень большими и очень-очень малыми. Чем-нибудь, что она где-нибудь подобрала. Что ей кто-нибудь написал БОЛЬШИМИ БУКВАМИ или что она выкопала в одной из моих же собственных книжек.
— Это я понимаю, но откуда она взяла ту идею о разных правилах? Она ее сама «разработала» или кто-то ей подсказал? Она ведь, знаете ли, права.
— Это меня удивляет куда меньше, чем тот факт, что она отыскала в словаре это самое слово «очень». Я тоже это сделал в свое время — много-много лет назад. Я не так уж часто его использую. Вам известно, что оно означает?
— Как-то не задумывался. Я просто употребляю его в речи.
— А оно на самом деле значит «настоящий», или «истинный».[19] И вот в этом-то я на самом деле отнюдь не уверен.
Теперь Джон проводил у нас дома с детьми не меньше времени, чем я в свое время в Рэндом-коттедже. Было странно созерцать почтенного отставного учителя сидящим на старом деревянном ящике или не менее старом автомобильном сиденье, которые уважительно именовались «место мистера Джона». Очень скоро он уже был на короткой ноге с Милли и ее товарками с верха улицы. Теперь из его уст нельзя было услышать ни критики, ни осуждения в их адрес. Разумеется, его крайне удручал тот факт, что они избрали для зарабатывания денег именно такой путь, но то, что для них это был единственный способ содержать свои семьи, служило для девушек вполне достаточным извинением. Свое отношение к ним он чрезвычайно корректно выразил фразой: «Вам необычайно повезло иметь таких замечательных друзей».
И в этом мне действительно крупно повезло.
Я совершенно уверен, что Анна ни разу не употребляла при мне слово «предисловие», но при этом прекрасно знала, что в вводной части книги говорится о том, про что, собственно, книга, и что это, по сути дела, ее скелет. Чтобы все как следует понять, нужна была остальная часть книги, ее «мясо». Поэтому, когда мистер Джон сказал ей, что он не мог поверить в мистера Бога, потому что не мог поверить в начало Библии, ее это совершенно не удивило, а только опечалило. У него в кабинете она видела десятки полок с книгами, значит, он был умным человеком и, по идее, должен был знать, что начало — это всегда только скелет. Он согласился с ней, когда она объяснила ему свой подход, но это ему совершенно не помогло. Забавно, как взрослым удаются такие вещи. Им и дела нет до всех этих чудных сочных мясных кусочков, зато они готовы глотку друг другу перегрызть за кучу костей. Например, преподобный Касл. Он всегда говорил о мистере Боге, как будто тот был каким-нибудь упертым директором школы, которого хлебом не корми — дай всех наказать. Неудивительно, что его проповеди всегда награждались звучным Анниным фырком откуда-то из глубины рядов. Насколько было известно Анне, мистер Бог был решительно приятным типом. Если придерживаться этого мнения, все начинает казаться совсем другим.
— Не то чтобы я думал, будто она права. Просто она так говорит, молодой Финн. Всего лишь ее мнение, ничего больше, но все же…
— Я понимаю, что вы имеете в виду, Джон. С ней всегда есть какое-нибудь «но все же»…
— Она умудряется сплести столько разных вещей в одну концепцию, что, с моей точки зрения, получается форменная неразбериха.
— И c моей тоже. Никогда заранее не знаешь, чем все закончится.
— При том, что она всегда каким-то образом умудряется вывернуться из этой путаницы.
— Да, именно так она и поступает.
— А я с нетерпением жду следующего откровения. К величайшему собственному удивлению — жду, затаив дыхание, чего со мной уже много лет не случалось.
Как часто, говоря об Анне, я замечал, что у меня заканчиваются слова. Я стою и не знаю, что сказать дальше. Единственное, что мне удалось из себя выдавить, — это:
— Она просто видит вещи по-другому, Джон, вот и все.
— Может быть, может быть, но, по крайней мере, у нее есть дар делать так, что они выглядят красивыми. Даже ее собственные запутанные путаницы. Она меня удивляет и озадачивает, Финн, и я не стесняюсь об этом говорить. Более того, самое замечательное в нашей юной леди — то, что она заставляет меня остановиться и подумать еще. Она пишет рассказы, Финн?
— Да, довольно часто.
— Быть может, она бы согласилась писать что-нибудь для меня время от времени?
— Почему бы вам не спросить ее саму? А еще лучше попросите ее — пусть сама расскажет что-нибудь.
— Возможно, я так и сделаю.
Та зима оказалась сурова к Джону. Слишком часто ему приходилось сидеть дома то с одним вирусом, то с другим, а это означало, что наши визиты стали куда реже и короче, чем раньше. Когда нам все-таки удавалось пообщаться, он выглядел гораздо более задумчивым. Острота и резкость куда-то исчезли. Теперь ему больше нравилось слушать, чем пускаться в сложные рассуждения о природе вещей. Даже не знаю, как он воспринял бы комментарий Анны по поводу своего преображения.
— Он стал таким хорошим, — сказала она.
Не уверен, что использовал бы те же самые слова, но перемены были и в самом деле очевидны. Куда-то подевалась его непоколебимая уверенность. Теперь он с большим вниманием прислушивался к мнению других и даже, что меня несказанно удивляло, сам задавал вопросы, чего я от него никогда раньше не слышал. Когда же мне случалось задать ему вопрос, ответ нередко был: «Я не уверен, Финн» или «Я не знаю». И очень часто, говоря со мной о чем-то, он вдруг поворачивался к Анне и спрашивал: «А ты что думаешь по этому поводу, моя милая?» У меня было стойкое ощущение, что он пытается завладеть хотя бы искоркой Анниного огня, частицей ее открытости и восторга перед ликом природы. Может быть, все это было не более чем игрой воображения, но мне так действительно казалось. Я чувствовал, что на самом деле он хочет поговорить с ней, а вовсе не со мной. Во многом мы с ним были слишком похожи, чтобы сейчас я мог оказаться хоть чем-то ему полезен. Моя роль в этой триаде сводилась к исполнению функций переводчика.
Большую часть времени они, видимо, совершенно не осознавали, что я тоже присутствую в комнате. Старый Джон даже временами принимался хихикать. Не так, как хихикают украдкой, прикрыв рот ладошкой, а таким полновесным, жизнерадостным хихиком. Поначалу он все время пытался извиняться, но потом привык и, когда подходил приступ, просто брал Анну и давал себе волю. Было очень здорово видеть, как эти двое радостно хохочут на пару. У них были секреты, в которые меня не посвящали. Они разгадали друг в друге нечто такое, чем я не обладал. Несмотря на все их веселье, я чувствовал, что Джон переживает не лучшие дни своей жизни. Он все время боролся с чем-то внутри себя, и я не мог понять с чем, а ни он, ни Анна не хотели мне говорить. Меня не только частенько отсылали заняться чем-нибудь полезным (а на самом деле абсолютно бесполезным… или мне так только казалось), но и делали это в не терпящей возражений форме.
— Финн, пойди и купи в лавке пончиков. Уверен, Анна не стала бы возражать против парочки пончиков к чаю.
Естественно, я шел. Я был совершенно не в состоянии популярно объяснить ему, что на кухне в буфете ждет своего часа целый пакет этих самых пончиков. Я уходил и оставлял их вдвоем. На самом деле мне не влом было делать все эти пустяки. Что меня действительно заставало врасплох, так это когда после беготни по магазинам я водружал на стол в гостиной поднос с чайным сервизом, он оборачивался ко мне и изрекал:
— Пончики, Финн? Ты же знаешь, я их никогда не ем. Неужели на кухне нет бисквитов с джемом? Или простых булочек?
Мне стоило большого труда не рассказать ему, что на кухне имелись не только бисквиты с джемом и простые булочки без всего, но и фруктовый пирог и еще по меньшей мере шесть пышек. Так что я молчал. На самом деле оно того не стоило.
Ма отличалась от всех прочих вовсе не тем, что она была такой ужасно хорошей. Ей было не чуждо крепкое словцо, и, когда ей случалось выйти из себя, на это действительно стоило посмотреть. Умри все живое! Нет, она действительно была не такой, как все, — гораздо проще.
С ее точки зрения, причиной тому, что этот старый добрый мир так запутался, было отнюдь не то, что люди верили или, наоборот, не верили в бога. На самом деле вся штука была в том, что все хотели сделать больше, чем бог. Она формулировала это так: «Вам кто-нибудь когда-нибудь говорил, что вы обязаны сделать больше, чем бог, да или нет?» Лично я не припомню, чтобы мне такое говорили. Все вышесказанное отнюдь не означало, что мама не особенно напрягалась с работой. Однако у нее всегда находилось время для себя самой, время, когда она просто жила — со всеми сопутствующими тому, чтобы просто жить, сумасшедшинками. Она умела выключаться. Анна тоже в совершенстве владела этим искусством. Она, кажется, умела выключаться от природы, а для меня оно всегда было тяжкой работой, и, чтобы научиться этому, мне пришлось потратить массу времени и сил. Как говаривала Ма: «Как можно было бы читать книгу, если бы между словами не было промежутков? И представь себе, на что была бы похожа музыка, если бы не паузы!»
Новый год прошел для меня почти незамеченным — не считая разве того, что все мы стали на год старше. Анна быстро росла — как в размерах, так и в неустанной погоне за красотой. В этом году ей должно было исполниться семь. Я купил себе тандем. Так стало куда безопаснее, чем когда она сидела у меня на руле, поскольку наша юная леди имела обыкновение все время вертеться и ерзать и это представляло определенный риск, чтобы не сказать большего. Мы решили поехать повидать Джона и похвастаться перед ним нашим приобретением. Я без труда отрегулировал второй руль и заднее сиденье, и вскоре мы уже были готовы стартовать. Не уверен, что Анна обратила хоть какое-то внимание на педали, равно как и на то, что они, по идее, должны помогать велосипеду двигаться вперед. Я отнюдь не возражал крутить педали за двоих, тем более что Анна, вертящаяся и глазеющая по сторонам на заднем сиденье, устраивала меня куда больше, чем Анна, делающая все то же самое у меня на руле.
Джон самым тщательным образом изучил драндулет, обойдя его несколько раз по кругу.
— Возможно, вы мне не поверите, молодой Финн, — заявил он наконец, — но когда-то я был недурным велосипедистом. Когда погода будет потеплее, вы должны позволить мне совершить на нем небольшую прогулку.
— Я сама сяду за руль, мистер Джон, — успокоила его Анна.
— Полагаю, — произнес он с некоторым сомнением в голосе, — было бы лучше подождать, пока ты немного подрастешь.
— Мне уже почти семь, — возразила она. — Я достаточно взрослая.
— Подумать только — семь! — воскликнул он. — Почтенный возраст, не правда ли? Ну-ну. Мне почти… — Он совсем было уже сообщил нам свой возраст, но почему-то передумал и просто сказал:
— В таком случае я уже очень взрослый.
Я пошел с Джоном в дом, чтобы пропустить пинту чего-нибудь освежающего, а Анну оставил бродить в саду. Мы подняли кружки и пожелали друг другу счастливого нового года, а потом Джон сказал:
— Эта малышка помогла мне понять нечто такое, что мне давно следовало осознать. Ошибка, за которую я при всем желании уже не смогу ответить.
— Что же это, Джон? — спросил я, теряясь в догадках, что за ужасная ошибка это может быть.
Прежде чем ответить, ему пришлось основательно прочистить горло.
— Мне всегда казалось, что человеческий разум — это такой ряд шкафчиков, на каждом из которых четко и ясно надписано, что находится внутри: «Математика», «Английский», «Точные науки», «География»… может быть, и «Религия» тоже.
Не думаю, чтобы ему требовался с моей стороны какой-нибудь ответ на эту тираду, поэтому я промолчал и просто ждал, что последует дальше.
— Вы понимаете, о чем я говорю, не так ли, молодой Финн?
Я покачал головой.
— Ну хорошо, может быть, вы и не понимаете, но я вам все сейчас объясню. Внимательно послушав, что обычно несет наша мисс Болтушка, — сказал он, ткнув пальцем за окно, — я начал понимать, что нельзя сорганизовать свой разум точно тем же образом, что и библиотеку. Он работает совершенно по-другому.
Мне в голову тут же пришел следующий вопрос, но задать его я не успел.
— Нет, Финн, — продолжал он, — все то новое, что поступает к нам в голову, должно быть до некоторой степени упорядочено в соответствии с тем, что уже там находится.
— Звучит вполне логично, — сказал я. — Подписываюсь.
— Того любопытного и восторженного взгляда на мир, которым обладает Анна, у меня не было, думаю, никогда. Это совсем другое, Финн. Вы защищаете себя, все время сохраняя дистанцию между собой и миром. Не скажу, чтобы она была права во всем, что говорит, но допускаю, что вот так легко списывать все это со счетов было с моей стороны крайне ошибочно. Какая ужасная путаница, Финн! Это все — ужасная путаница, если уж на то пошло. Как и в каждом человеке, во мне тоже жила надежда, но меня еще нужно убедить. Не то чтобы юная леди меня наконец убедила, но все эти милые глупости, которые она говорит, заставили меня засомневаться в самых моих сомнениях. Несколько дней назад я спросил ее, откуда она знает, что мистер Бог на самом деле существует. В ответ она просто сказала, что чувствует его, потому что он теплее меня. «Вот почему. Если бы мистер Бог от вас не отличался, я бы его не чувствовала, правда?»
Потом я спросил ее о Сатане. «А Старый Ник холоднее», — сказала она. Знаете, Финн, в том, как она формулирует свои идеи, есть некоторый смысл. Возможно, ошибка с моей системой ценностей состояла как раз в том, что я никогда не подвергал ее сомнению. Наверное, мне не следовало так на нее набрасываться, но, кажется, у этой девочки есть ответы на все мои вопросы. Хотя это не значит, что я эти ее ответы понимаю!
Я спросил ее, где мне найти мистера Бога. Ее ответ меня отнюдь не успокоил! Она сказала: «В вопросах и в загадках». Как вам это нравится, Финн? Я допускаю, что она вполне может быть права. Понимаю, Финн, что я иногда слишком механистичен в терминах, но другого выхода у меня нет. Мне трудно думать о чем-то таком, что невозможно проверить и доказать. Я хочу знать, что такое мистер Бог, а наша юная дама может быть весьма убедительной. Во всех ее проклятых кругах и разноцветных точках есть некий смысл. Мне всегда казалось, что, когда люди говорят о боге, он остается абсолютно далеким и абстрактным понятием, а вовсе не теплым, как говорит Анна. Наверное, если бы мы могли окрасить чем-то одним свое видение целого и увидеть это самое целое в одном, это и был бы ответ на вопрос, что такое мистер Бог. Анна может делать это с невероятной легкостью, и мне в ней это ужасно нравится. Простите, Финн, что мои слова звучат так сухо, но такой уж я есть. Я в этих вопросах неспециалист. С другой стороны, мне всегда нужна практика. Она мне напоминает страховую компанию, если вы понимаете, о чем я.
Я не понимал.
— Невежество в одном может, если правильно поставить дело, привести к познанию другого. Вот мы и опять возвращаемся к тому же самому, но, надо вам сказать, я нахожу ее способ мировосприятия совершенно неотразимым.
На самом деле Джону приходилось туго с Анной и с тем, что он ласково называл «невидимым жалом детства». А все его желание видеть вещи чужими глазами!
Одно было несомненно: он здорово изменился.
В тот вечер она не стала тратить много времени на чай и, покончив с ним, немедленно устремилась в сад.
— Ну-ну-ну, и что послужило причиной этого маленького извержения?
— Полагаю, ничто не послужило, — отозвался я. — Время от времени с ней такое случается. Кажется, мне срочно требуется что-то покрепче чая. Пинта, скорее всего, подойдет, а возможно, даже две.
— Почему бы и нет, Финн, почему бы и нет. Да-с, все-таки я для этого староват. Мысль о том, что каждый день моей жизни вокруг будет носиться вот такой сорванец… пожалуй, для меня это слишком. Нет, Финн, не этот конкретно сорванец, давайте расставим точки над «i». Она же никогда не отходит от вас, если только ей не надо над чем-нибудь подумать, правда?
— Чистая правда. А как вам нравится идея о том, чтобы засунуть Вселенную себе в ухо, Джон?
— Не особенно приятная мысль, честно вам скажу, но другого способа решить эту проблему я не вижу. Быть может, мы с вами действительно какого-то неправильного размера. Мне нужно над этим подумать, и самым серьезным образом.
— Пока вы будете думать, Джон, не уделите ли пару минут и моей проблеме тоже? Как вам удается разговаривать с ангелами?
— Не разговаривать, Финн, нет. Складывать. Тут есть разница, не особенно большая, но все-таки есть.
Прежде чем расстаться, мы выпили еще по пинте, и, если бы не моя пассажирка, одной бы дело не кончилось.
— Удачи вам с ангелами, Финн! — пожелал мне Джон на прощание. — Я в вас очень верю и знаю, что вы что-нибудь придумаете к ее вящему удовлетворению.
— Да не вопрос, — отвечал я.
— Взросление, — сказал как-то вечером Джон, глядя на меня поверх кружки с пивом. — Взросление — что это, к дьяволу, такое?
— И не спрашивайте. Если даже вы этого не знаете, то ума не приложу, кто мог бы знать.
— Тише, тише, мой молодой Финн. Не сыпьте мне соль на раны. Тут, скорее всего, дело в том, чтобы научиться понимать. Если нет, то в чем же еще?
— Возможно, вы и правы, но ведь так получается далеко не всегда, не правда ли?
— Согласие подчиниться идеям других людей — вот что это такое. Подчинение!
— А! И к чему нас это ведет?
— К нашей юной леди. В последнее время я очень много думал о ней. Я все еще не могу ее понять. Быть может, не пойму никогда.
— Быть может, нам это не суждено, — вставил я.
— Суждено, Финн, суждено! Отставить такие настроения. Нам не суждено быть никем, кроме нас самих, и никто из нас пока в этом не поднаторел. Конформизм, соответствие чужим идеям — слишком большая цена за удовольствия жизни. Я гораздо старше вас, молодой Финн, и мне это отнюдь не нравится. Ни капельки. У малышки есть что-то такое, чего нет у меня, и вот уже несколько недель я бьюсь над этой загадкой. Я даже знаю, что это такое. Это то, что я утратил уже слишком много лет назад. То, что мне следовало беречь ценою жизни. Я не понимал этого вплоть до недавнего времени. Конформизм стал причиной утраты, но до сих пор я этого не замечал.
— Что это, Джон? — осторожно спросил я. — Что вы утратили?
— Видение. Когда-то оно у меня было, но не теперь. Щебет нашей маленькой Анны временами напоминает мне о нем, но, боюсь, у меня его больше нет. Боюсь, я утратил его навсегда.
— Видение, Джон? Разве не у всех оно есть?
— У всех, дорогой Финн, но конформизм вышибает его из нас, а потом оказывается, что уже слишком поздно.
— Только не с вами, Джон. Я, конечно, могу и заблуждаться относительно смысла ваших речей. Что конкретно вы имеете в виду?
— Именно то, что вы только что сказали. Вы не знаете, что я имею в виду. Малышка никогда не сделает подобной ошибки; она всегда будет знать.
— Это уже слишком, Джон. Вы меня окончательно запутали. Это на вас непохоже.
Он усмехнулся.
— Неужели вы не замечали, Финн, что у воображения, как и у любви, всегда есть собственный язык, которого вам не найти ни в одном словаре? Малышка это знает и потому всегда ищет новые слова. Я слушаю и слышу, что она говорит. Быть может, я слышу слишком хорошо и всякий раз дорабатываю и исправляю то, что слышу, но часто — о, даже слишком часто — я просто не слушаю ее. Быть может, в этом-то и состоит проблема взросления — слышать, но не слушать. Проклятые дети, — ухмыльнулся он, — они слушают, но очень редко слышат. Это всякий раз напоминает мне об афоризме, который часто повторяет ваша матушка.
— Который из, Джон? Их у нее довольно много.
— Тот, что про умение останавливаться.
— А, это который про то, что если ты в течение дня ни разу не остановился, то, значит, не сделал ничего стоящего. Этот?
— Да, именно этот. Он кажется глупым, даже совершенно идиотским, пока ты не остановишься, не прислушаешься, и тут-то он обретает смысл.
— Дома мы называем это «мамочкины пышки».
— Это кто такое придумал? — удивился он.
— Анна, разумеется, кто же еще?
— Вот как раз к этому я и веду. Когда у тебя есть видение, тебе приходится изобретать слова. Я уже забыл, как оно бывает, и потому вынужден все время прислушиваться. С прямыми и узкими значениями все в порядке, но, если не слушать очень внимательно, все, что можно из них узнать, — это внутренняя кухня, тайны ремесла, так сказать. Одно время я думал, что обо всем на свете можно написать в книге, но теперь мне так не кажется. В книгах можно найти все, что вам надо знать, но где же, скажите мне на милость, где нам отыскать то, что мы хотим знать? Я очень устал от таких вот хитростей и передать не могу, как я вам завидую.
— Но почему, Джон?
— И у вашей матушки, и у Анны — у обеих есть видение. Оно может сильно осложнить вам жизнь, но все равно не теряйте его. Во всем этом есть нечто, выходящее за пределы слов, Финн, вы не находите? Иногда я начинаю думать, что от слов больше вреда, чем пользы. Но что нам останется помимо слов? Больше ничего.
— Я знаю, что вам сказала бы на это Анна, — задумчиво проговорил я. — Красота.
— В этом что-то есть, Финн, но нам все равно нужны слова, потому что как иначе мы сможем поделиться ею друг с другом?
— Об этом вам лучше спросить маму. Она считает, что, когда вы сталкиваетесь нос к носу с красотой, ничего больше не надо делать — только молчать и смотреть.
— У вашей мамы и у малышки поистине есть ответы на все вопросы. Возможно, это и правильно, молодой Финн, но вы бы знали, как порой трудно молчать! Вы можете подумать, что я настроен решительно против Библии. Так вот, это не так. Допускаю, что первая и последняя главы могут вызывать определенные вопросы, но все, что между ними, мне до некоторой степени понятно. Вопросы возникали у меня еще в детском возрасте, и, увы, они никуда не делись посейчас. Финн, ответьте мне на один вопрос, и я буду совершенно удовлетворен. С кем говорил Господь в первой главе Книги Бытия?
— Насколько я помню, ни с кем, — ответил я.
— Рад, что вы тоже этого не знаете, Финн. Меня всегда удивляло, кого имеет в виду бог, когда говорит: «Сотворили мы человека по образу нашему». Кто эти «мы», к которым он обращается? Вот тут-то я, наверное, и потерял свое видение. Это всю жизнь не давало мне покоя. Я очень рано решил для себя, что все тайны должны быть рассеяны, а чудеса препарированы. Не уверен, что это было такое уж хорошее решение. Оно меня угнетает. А потом были строчки: «И увидел Бог, что это хорошо». «Хорошо» — это «красиво», как вы думаете, Финн?
— Возможно, Джон, возможно. На самом деле я не знаю.
— Я так счастлив, когда вы берете юную леди с собой в гости, делайте это почаще, прошу вас. Нет-нет, только не говорите, мол, это потому, что я стар, а она так молода. Дело совсем не в этом. Я далеко не всегда понимаю ее щебет, но всякий раз ей удается открыть мне ту самую красоту, которую я потерял. Вы понимаете, о чем я говорю, Финн?
— Думаю, да, — сказал я.
— Какое присутствие духа! В последний раз, когда вы у меня были, она заявила мне, что я не прав.
— Как это получилось? — спросил я.
— Меня угораздило сказать, что она — само волшебство.
— И?
— Когда я услышал ее ответ, то просто не поверил своим ушам. На какое-то мгновение я подумал, что она высоко себя ставит, даже слишком высоко, но потом понял, что это не так.
— Не таите, Джон. Что она сказала?
— «Нет, мистер Джон, — с достоинством сказала она мне, — я не волшебство. Я — чудо». Как вам это понравится?
— Абсолютно в ее духе.
— Нет, вы делаете ту же самую ошибку, что и я. «Чудеса, — пояснила она, — это когда ты пожалуешься мистеру Богу и он отведет тебя назад, чтобы найти то, что ты потерял». У меня нет особой уверенности относительно того, чтобы пожаловаться мистеру Богу, но вот в возвращении назад, чтобы найти потерянное, есть некая доля истины. Так что, кто знает, Финн, может быть, она и чудо. Приводите ее сюда так часто, как только сможете.
Нет сомнений, Джон очень сильно изменился по сравнению с тем, каким он был, когда мы с ним только познакомились. Он стал более добродушным, хотя наедине со мной еще мог иногда превратиться в старого жесткого и язвительного Джона, которого я знал раньше. С Анной он был куда мягче, что само по себе было странно, потому что, по идее, мягче он должен был быть со мной. Он и не догадывался, какой жесткой на самом деле была Анна! Как и у многих, кто постоянно с ней общался, у него сложилось о ней довольно превратное впечатление. Да, она была милой и обладала всеми качествами, которыми должен обладать ребенок ее возраста, но когда вас регулярно будят посреди ночи, чтобы срочно поговорить обо «всяких вещах», то вы невольно начинаете видеть ее в несколько ином свете. Забавно в три часа утра быть разбуженным вопросом: «Финн, вот те вещи, про которые ты говорил вчера, как они получаются?» или «Что вот это значит, то, про что ты мне рассказывал?» До нее никак не доходило, что в это время суток мне стоило огромных трудов понять, кто я такой, не говоря уже о том, чтобы внятно объяснить, что собой представляют «те вещи», учитывая, что они могли представлять собой все что угодно — от рисового пудинга до действующего вулкана. В такие моменты она отнюдь не казалась мне милой. Но я не возражал. На самом деле стоило мне оправиться от потрясения при первой попытке открыть глаза, как ситуация начинала доставлять мне живейшее удовольствие.
Часто именно посреди ночи и случались самые важные вещи.
— Финн… Финн… Викарий!
— А? Что?! Что такое про викария? Что он еще натворил?
— Зачем ему нужно все время защищать мистера Бога и пугать людей?
— Никаких идей, Кроха.
— Почему он все время защищает мистера Бога и нападает на людей?
— Без понятия.
— Нет, ну почему он так делает?
— НЕ ЗНАЮ.
Все это несколько не вписывалось в мои представления о здоровом сне, но именно так я и привык проводить ночи. Мало кто знал об этих ночных беседах, как и о молитвах, которые я слышал каждую ночь. Интересно, что сказал бы по их поводу преподобный Касл?
— Привет, мистер Бог. Это говорит Анна.
Отличное начало, не правда ли? Иногда мне казалось, что так она дает мистеру Богу понять, с кем он, собственно, разговаривает. Следующей фразой могло оказаться: «Слушай, мистер Бог…» или даже «Вот что я тебе скажу, мистер Бог…» Она могла с легкостью отругать его или, наоборот, рассказать, как все замечательно. Наверное, нужно быть на очень короткой ноге с мистером Богом, чтобы вот так заявить ему: «Слушай, мистер Бог, ты его за это не ругай…» Анна на этой самой ноге явно была. До такой степени, что временами выходила из себя. Именно в такие моменты нежность и мягкость, которые видели в ней другие, уступали место жесткости, которой явно никто не предполагал. Когда Джон говорил со мной о мамином и Аннином видении, у меня начинало все чесаться. О видениях я знал очень мало. Если я правильно его понимал, нам всем немного недоставало видений, существ из иных миров, таинственных голосов и всего такого прочего. У нас была куча разных дел и совершенно не хватало времени на подобные чудеса. Джон рассказывал мне, как ему нравится ее общество и ее бесконечный щебет, и добавлял: «Все-таки она совершенно эклектична». В его устах это звучало так, будто у нее были явные признаки заражения чумой или еще чем похуже. Этого слова мне раньше не доводилось слышать, поэтому я обратился к словарю. Под эклектикой подразумевалось то, что Анна выхватывает из контекста элементы, которые ей нравятся. И что с того? Да, она всюду подцепляла всякие новые штуки, чужие мысли, чужие образы, которые ее почему-либо устраивали. Джон на самом деле не понимал самого простого. Анна не только собирала разнородные кусочки реальности, которые она где-то нашла или которые ей просто понравились, но и собирала из них новое целое и, когда оно было готово, преподносила получившийся букет мистеру Богу. Не просто охапку, а именно букет, и притом составленный по всем правилам искусства аранжировки и лучший из всех возможных. В этом она была очень жесткой. На это уходило много времени. И далеко не всегда она сразу находила то, что ей требовалось для завершения композиции.
В день традиционного пикника воскресной школы, который раз в году настигает несчастных детей, я не смог поехать с ними. В ту субботу мне пришлось отработать несколько часов сверхурочно. Я еще умудрился вовремя привезти детей в назначенное место и даже подождать с ними, пока подъедет шарабан.
— Жалко, что ты не можешь поехать, Финн, — сказала Милли. — Не волнуйся, нас вполне достаточно, чтобы присмотреть за этой оравой.
После работы я решил зайти к старому Джону. Мне нравилось проводить у него время, а кроме того, он по-настоящему радовался, когда я вдруг приходил.
— Рад вас видеть, молодой Финн. Вы один?
— Анна отправилась на море с ребятами из воскресной школы.
Мы поболтали о том о сем, выпили несколько пинт, съели несколько сэндвичей, и разговор неизбежно свернул на Анну.
— Никогда невозможно сказать, Финн, дразнится она или нет.
— Я понимаю, о чем вы говорите. Не стану утверждать, будто все, что она говорит, имеет смысл, — вовсе нет. Но все равно, Джон, не стоит полностью сбрасывать все это со счетов.
— Вот именно. Она так часто перемешивает предмет разговора со всякими посторонними вещами, что я далеко не всегда понимаю, о чем вообще речь.
— Где-то я это уже слышал, — пробормотал я.
— И тем не менее, Финн, невзирая на то что мы с вами могли бы счесть полной неразберихой, она умудряется рисовать крайне захватывающие картины, которые я не променял бы ни на что другое.
— Не беспокойтесь, Джон, она и не позволит вам ни на что их променять.
— Вам известны мои взгляды на религиозные вопросы?
— Да, слышал кое-что.
— Больше всего меня удивляет ее отношение к ее драгоценному мистеру Богу. Разумеется, Финн, меня совершенно не касается, верит кто-то в бога или нет. Если это приносит ему утешение…
— Не утешение, Джон, — сказал я. — Это было бы слишком легко. Радость. И вот это уже трудно.
— Я как раз собирался сказать, Финн, что она, кажется, знает своего бога так хорошо, что… — Он долго молчал, а потом продолжил: —…что я уже не могу отделить одно от другого. Это ужасно странно, Финн.
— Что именно?
— Тот факт, что чем меньше мы знаем человека, тем больше между нами разница, и наоборот, чем лучше мы с ним знакомы, тем более похожими кажемся.
— Интересная мысль, Джон. Наверное, если бы мистер Бог понимал, насколько они с Анной похожи, то мог бы быть и чуточку повеселее.
— Если бы я ходил в церковь, Финн, я бы сказал, что вы кощунствуете. Но я не хожу и потому ограничусь заявлением, что вы крайне несерьезны. Вы когда-нибудь задумывались, почему я выделил вас из массы остальных учеников тогда, много лет назад?
— Нет, но мне всегда было интересно, почему именно на меня сыпались все ваши тумаки?
— Ах вот вы о чем! Да бросьте, вам же ни разу не было больно. Я выделил вас из толпы, потому что вы чрезвычайно живо напоминали мне меня самого, когда я был в соответствующем возрасте.
— Чем же это?
— Самоуверенностью! Проклятой самоуверенностью! Быть может, все дело в том, что мы слишком скоро повзрослели. Знаете ли, Финн, принимая во внимание то, что я вам сказал пару минут назад, вы временами начинаете говорить в точности, как Анна. Боже, какие ужасные перспективы, мой юный друг!
— Какие перспективы? — заинтересовался я.
— В одно и то же время внутри вас уживаемся мы оба — я и Анна! Неудивительно, что время от времени вы не знаете, кто вы и где находитесь. Никаких обид, дорогой Финн, никаких обид. Не волнуйтесь! Кажется, ваши внутренние мы прекрасно уживаемся между собой.
И так далее в том же духе. Подобные беседы могли продолжаться часами.
— Как было бы замечательно, Финн, если бы другие могли видеть меня теми же глазами, что вы и Анна. Большинство считает меня сварливым старым брюзгой. Наверное, я такой и есть. Когда дети возвращаются со своего пикника?
— В шесть часов они должны быть в церкви.
— Ага! — воскликнул он. — Положите свой велосипед в багажник, и я отвезу вас туда. Мне хочется снова их увидеть.
В положенное время мы были у церкви и, подождав немного, увидели выруливающий из-за угла шарабан.
— Привет, Финн, — бодро сказала Милли. — Я дико устала. Совершенно вымоталась.
— Как все прошло, Милл?
— Как по маслу, дорогой, как по маслу. Но завод у меня кончился капитально.
Мамы постепенно разобрали детей, и площадь опустела. Я направился к Джону и Анне.
— Финн, — сказал он, — я пригласил Анну посетить вечеринку по случаю моего дня рождения в следующую субботу, если вам это будет удобно. Разумеется, она сможет привести с собой и кого-нибудь из друзей. Только, пожалуйста, не слишком много. Я не готов встретиться лицом к лицу со всей этой ордой сразу.
Мы договорились о времени и месте, и он уехал.
Я оказался совершенно не в состоянии подсказать Анне, какой подарок она могла бы сделать Джону. По крайней мере не с теми деньгами, которые были у нас в распоряжении. Кажется, у него было вообще все. Пришлось предоставить выбор ей.
Всю неделю она носилась по дому как оглашенная. Что бы там ни происходило, мне этого видеть не дозволялось. Часто я видел, как Милли и Анна сидели рядышком у железнодорожной стены или у нас на кухне, занимаясь чем-то таинственным. При моем приближении работу немедленно прятали. Меня награждали загадочными улыбками и подмигиваниями, но это все, что мне доставалось. Насколько мне было известно, на вечеринку с нами собирались Милли и Бомбом, а еще Мэй и Банти. И еще мне сказали, что мы все поедем на автобусе и будем сидеть наверху, чтобы можно было смотреть по сторонам. Другого способа добраться до Джона все равно не было, особенно когда вас семеро. Я торжественно вручил Анне деньги на проезд за всех, мы погрузились в автобус и в назначенное время прибыли в Рэндом-коттедж, начищенные и отполированные до блеска. Джон даже не попытался уклониться от горячего поцелуя Милли, а также от посыпавшихся вслед за ним поцелуев остальных ребятишек. В конце концов, это был особенный день. Гостиная была полна народу; все пили коктейли и ели «такие смешные штуки на палочках».
— Полагаю, вы, Милли, не откажетесь от большого виски, а для вас, Финн, — пинту моего специального? А для детей у меня есть лимонад, имбирная шипучка и прочее в том же духе. Что я могу предложить вам из еды?
Канапе были немедленно перекрещены в «фигню на палочке»; ее они не хотели. А хотели они тостов и горячего, уже начинавшего застывать мясного сока, который остался на дне котла после жаренья.
Анна потянула меня за рукав.
— Подарок, — прошептала она. — Когда?
— Давай прямо сейчас, — тихо сказал я.
Под вопли «С днем рождения!» Джону были торжественно вручены несколько свертков и пакетиков с тянучкой, «каторая гарантировано склеет вам пасть». К сожалению, подарок Банти (в виде пакета с очень мелким содержимым, а именно с головастиками) лопнул по дороге к столу. Визг Арабеллы привлек к этому инциденту всеобщее внимание, но мы быстро все уладили, и я увел детей на кухню к тостам и мясному соку, и уже через несколько мгновений они по уши ушли в еду. Учитывая, что Арабелла весьма трепетно относилась к своему дому, а мясной сок имел обыкновение везде капать, я решил, что мы с ним разберемся прямо на кухне, подальше от всяких опасностей. Там нас и нашел Джон.
— Надеюсь, все уже поели? Пойдемте со мной к гостям. Смотри, Анна, — с гордостью сказал он, — я надел ваш значок.
И он продемонстрировал большое сердце из красного бисера.
— Что же до нарисованного тобой моего портрета, то, по-моему, он просто великолепен.
Это была новость. До сих пор мне не показывали ни сердце, ни картину. Мы последовали за Джоном в гостиную.
— Вы уже отведали тостов с мясным соком? — спросила какая-то дама.
— Ага, спасиб, миссис, — радостно ответила Банти. — Эт' было круто. Эт' для брюха так прельстивно, что прямо ух.
Общество расхохоталось.
— А это, — сказал Джон, выводя Анну вперед за руку, — та молодая леди, которая запечатлела мой образ на бумаге.
Образ представлял собой подобие лица, составленного из цифр и окруженного сердечками.
— Как это умно, — сказала какая-то дама, — придумать вот такую оригинальную идею.
— Это так похоже на Джона. Сплошные цифры, и ничего больше.
— Сердца — тоже он, — строго поправила ее Анна.
Джон просиял и гордо водрузил свое новое лицо на каминную доску.
Вечеринка прошла на диво хорошо. Постепенно все гости разошлись, оставив нас одних.
— Как это оригинально, моя милая! — жеманно прогнусавила Бомбом, играя с пустым бокалом для коктейля.
Джон как раз был на пути из комнаты. Он, не дрогнув, удалился из нашего поля зрения, после чего из темноты коридора донесся взрыв гомерического хохота.
Я уже пару часов копался у Джона в саду. Арабелла хотела, чтобы я превратил заросшую чертополохом, щавелем и крапивой прогалинку в нормальную приличную клумбу с цветами. У меня даже начало получаться что-то похожее на предмет ее вожделений, но к тому времени на ладонях у меня уже образовались пузыри. Я начал собираться. В мои задачи входило тщательно почиститься и надеть чистую пару ботинок, чтобы не разнести грязь по всему дому.
Анна и Джон голова к голове сидели над партией в шашки. Оторвавшись от доски, Джон ткнул в меня пальцем через всю комнату.
— Налейте себе пинту, молодой Финн. У меня есть новый сорт, позвольте вам порекомендовать. Да захватите и мне заодно.
Я с благодарностью воспользовался предложением вытянуться в удобном кресле и даже успел сделать хороший глоток, прежде чем услышал:
— Это же как мистер Бог, правда, мистер Джон?
Джон не ответил.
— Правда же это как мистер Бог, Финн?
Я и бровью не повел. В конце концов, раз уж для нее почти все тем или иным боком напоминало мистера Бога, то и тот факт, что партия в шашки чем-то на него походила, меня совершенно не удивил. Чем именно, я и понятия не имел, но это не имело значения — в урочный час нам все расскажут. Джон, со своей стороны, еще не привык к таким вещам и уже начинал выказывать признаки нетерпения.
— Заканчивайте с этим, сейчас твой ход.
— Финн, вот если мистер Джон — это мистер Бог, а я — это я, то тут-то оно и получается.
Вероятно, Джона до сих пор называли разными именами, но вряд ли среди них было «мистер Бог». Это его несколько обескуражило. Притворство никогда не было его сильной стороной.
— Финн, вот оно! Смотри!
Стараясь не суетиться, я встал и подошел к столу.
— Вон там мистер Бог, а вот это — вот я, тут.
— Ага, вижу.
Я посмотрел на Джона и вопросительно поднял бровь.
— Финн, не смей. Не смей ничего говорить.
Я просто не мог устоять.
— Он мистер Бог, а ты — это ты, это я уже понял. Что дальше?
— Я иду вот так к нему, а он идет вот так ко мне.
— Ну да, так оно обычно и бывает.
— Вот оно и получается как мистер Бог, разве нет, Финн? Так оно должно быть. — Она кивнула в подтверждение своих мыслей.
— Так что получается-то? — не понял я.
Она немного подумала, прежде чем ринуться в следующую атаку.
— Финн, — сказала она взволнованно, — если я доберусь до дома — вот до этой линии, — я стану «дамкой», да?
— А если он доберется до твоей стороны, — спросил я, — что случится тогда? Это ты как истолкуешь?
— Ну, — сказала она, — он тоже сможет превратиться во что захочет, правда?
Хотя Джон никогда не принимал участия в такого рода разговорах, он не мог удержаться от вопроса.
— Анна, дорогая, а что происходит в середине доски? В конце концов, вся игра проходит там.
— Да, я знаю.
— Ну? — не выдержал я.
Она посмотрела на нас с Джоном, как будто у нас было не все в порядке с головой.
— Ну, — сказала она, — тогда нужно быть очень внимательным, правда?
— Когда знаешь, как играть, все становится слишком просто, да?
— Закончи мою партию, Финн. Мне надо пописать.
Джон некоторое время таращился на меня, а потом расхохотался.
— Как у нее это получается, Финн, как?
— Откуда я знаю? — засмеялся я в ответ. — Этого я еще не придумал.
— Она, кажется, способна вывернуться из любой самой сложной ситуации.
— Ох, — резюмировал я, — иногда она просто отдает тебе ход. Если хочешь играть, приходится быть к этому готовым.
Стояла середина октября. Дни стали заметно короче. Я болтал с Милли и Дэнни, стоя на углу. Газовые фонари, как всегда, давали мало света, и мы не заметили Арабеллу, пока она буквально не налетела на нас. Она споткнулась и упала бы, если бы Дэнни ее не поддержал.
— Финн, не могли бы вы прийти к нам? Джон хочет вас видеть. Мне кажется, он при смерти. Если это возможно, пожалуйста, привезите с собой Анну.
— Не уверен в этом. Как он?
— Кажется, очень плох. У него сейчас доктор. Финн, пожалуйста, попросите Анну. Она ведь не испугается, правда? Она же будет с вами?
— Я немедленно пойду и спрошу Ма и Анну, — сказал я. — Вы пойдете со мной или подождете здесь?
— Останьтесь с нами, Арабелла, — успокаивающе сказала Милли, — а Финн пусть все уладит дома. Постойте тут, а я сбегаю через дорогу, принесу вам виски. Вам, кажется, не помешает опрокинуть маленькую.
— Давайте после всего этого я отвезу вас домой, — предложил Дэнни. — У меня мотоцикл за углом. Если желаете, я вас охотно подброшу.
— Выбора у меня нет, не так ли? — только и могла сказать Арабелла.
К этому времени подоспел я. Ма сказала, что если Анна хочет, то может поехать с нами. В настоящий момент Ма уже воевала с тандемом, выводя его на улицу, а Анна переодевалась в теплое для ночной поездки. Дэнни помчался за мотоциклом, а Милли принесла стакан виски и табуретку, чтобы Арабелла могла присесть.
— Финн, — сказала она, — кажется, на этот раз мы можем его потерять. У него было много маленьких приступов за последние годы, но этот… этот уже серьезный, Финн, и я не знаю, что мне делать.
Явилась Ма, толкая мой тандем. За ней шла Анна.
— Я могу что-нибудь сделать? — спросила Ма.
— Хотел бы я знать что, — сказал я. — Нет, наверное, нет.
— Если что-нибудь придумаете, — сказала она, уже поворачиваясь, чтобы идти домой, — звоните миссис Бартлетт, и я сделаю все, что смогу. Если останетесь там, ничего страшного. Я буду знать, где вы. Езжайте осторожно и по возможности не вдоль канала. Держитесь дороги. Увидимся, когда увидимся. Берегите себя.
Я пообещал, что мы будем.
Через пару минут приближающиеся рев и грохот мотоцикла Дэнни оповестили, что он скоро будет с нами.
— Извините, что так долго. Мне нужно было отыскать подушку для заднего сиденья. Простите за шум, Арабелла, старый одр дышит на ладан, но не волнуйтесь, мы доедем в целости и сохранности. Ага, и держите ногу подальше от этой штуки, тут будет горячо. В любом случае другого способа доставить вас домой у нас нет.
— Этот меня вполне устроит.
— Так, я поехал, Финн, — сказал он мне. — Мы подождем вас на месте.
Подкрутив в одре какую-то последнюю детальку, они уехали. Оставшиеся слушали затихавший вдали рев мотора. К тому моменту вокруг фонарного столба собралось уже человек двадцать.
— Надеюсь, с ним все будет в порядке, — сказала Бомбом.
— Он же не умрет, правда, Финн? — спросила Мэй.
— Не знаю, любовь моя, — ответил я. — Там видно будет.
— Он такой милый старый чудак.
Это был Ниппер.
— Как скоро вы сможете быть там? — поинтересовалась Милли.
— Десять, может, пятнадцать минут. Нам лучше стартовать. Ты едешь, Кроха?
— Я готова, Финн.
— Надеюсь, все кончится хорошо. Передай, что мы все его любим, — сказала Милли.
Я пообещал это сделать, если будет такая возможность.
— Финн, — прокричала она, когда мы тронулись с места, — позвони, если понадобится какая-нибудь помощь!
Я хотел ехать как можно быстрее, но с Анной на заднем сиденье приходилось быть очень осторожным. Трамвайные пути, слабо освещенные улицы и выпиравшие из мостовой булыжники требовали самого тщательного внимания. Всю дорогу моя пассажирка молчала. Я не привык к отсутствию ее жизнерадостного щебета, но в данных обстоятельствах это было даже к лучшему, потому что позволяло мне полностью сосредоточиться на том, чтобы доставить нас на место целыми и невредимыми. В паре сотен ярдов от Рэндом-коттеджа мы обнаружили Дэнни, толкавшего свой мотоцикл в сторону от дома. Я свернул на обочину.
— Привет, Дэн. Проблемы?
— Нет. Я решил, что лучше оттолкать эту заразу подальше, прежде чем заводить ее. Временами она орет как резаная. Можешь подождать секундочку, Финн? Мне, наверное, понадобится помочь подтолкнуть. Там в доме кто-то есть, Финн. На площадке пара автомобилей, чьих, я не знаю. Врач, наверное, или еще кто. А вы жмите прямо в гостиную.
К этому моменту рев его мотоцикла уже сотрясал воздух. Да, ему явно требовалась новая машина. Я подождал несколько минут, пока шум мотора не затих вдалеке. Так хотелось еще немножко подержаться за что-то знакомое.
Я прислонил велосипед к дереву в саду, и мы двинулись к дому. До самого крыльца мы не обменялись ни словом. Анна крепко держалась за мою руку. Неожиданно она позвала меня по имени. Это был первый звук, который она издала за последние двадцать минут. Одернув юбку и верх, она вопросительно посмотрела на меня. Я кивнул. Она крепко сжала мою руку, и мы вошли в гостиную.
Присутствие там человека в сутане меня, мягко говоря, удивило. Он направлялся навстречу нам с протянутой в приветствии рукой.
— А, протеже Джона и его звезда! — с этими словами он водрузил ладонь на голову Анны. — Джон Дэниэл не перестает говорить о вас!
Он снова потряс мне руку и представился:
— Джералд Ходж.
Только много месяцев спустя мне рассказали, что Джералд Ходж был младшим братом Джона. Они были настолько разными, что это казалось невозможным. Анна вывернулась из-под его ладони и теперь сидела рядом со мной. Несколько минут я только и думал, что о том, сколь непохожи друг на друга братья Ходж. В Джералде совершенно не было Джоновых острых углов. Невозможно было представить в его устах жесткие язвительные фразочки в духе Джона, к которым я так привык. Единственное, что их объединяло, так это непоколебимая уверенность, которую оба излучали.
Джералд снова положил ладонь Анне на голову.
— Яркая звездочка, яркая звездочка… «И дитя поведет их».
«Звездочка» ей пришлась явно не по вкусу, но она ничего не сказала. Мы сели.
— Он мне столько о вас рассказывал, — сказал Джералд, — что мне уже кажется, я хорошо вас знаю. Он никогда по-настоящему не любил многих, но он приятный человек.
Джералд так и сочился добротой.
Где-то неделю спустя до меня вдруг дошло, что за все то время, что мы провели в Рэндом-коттедже, он никого не назвал по имени. Его присутствие настолько подавляло, что ничего, кроме: «Э-э-э… здрассьте!» — он от меня не добился.
Не прошло и десяти минут, как Арабелла вошла в гостиную, но нам они показались часами.
— Пожалуйста, входите. Он вас ждет. Кажется, ему немного лучше.
Мы уже были готовы двинуться в спальню, но Арабелла сказала, что постелила Джону в кабинете. Я легонько постучал и испытал огромное облегчение, когда услышал в ответ отрывистое:
— Да входите же, входите.
Мы вошли, не зная, чего ожидать. Джон выглядел отнюдь не плохо, быть может, лишь немного утомленным. Анне пришлось подержать ему кружку с пивом; сил у него было мало.
— Не слишком долго, я немного устал, друзья мои. Очень рад, что вы пришли. Очень. Да сядьте же, ради бога, Финн! Вы мне тут все перевернете. Садись на кровать, рядом со мной, Кроха. Я хочу на тебя посмотреть.
Анна ухмыльнулась и наморщила нос.
— Ну что, сорванец? — улыбнулся Джон. — Опять разговаривала с мистером Богом?
Она положила подбородок ему на плечо и что-то зашептала в ухо.
— И я тоже, Кроха, и я тоже. — Я определенно слышал, как он это сказал. Сомнений не было.
Мы посидели еще несколько минут, а потом я поднялся, собираясь попрощаться.
— Вот и отлично, — сказал, улыбаясь, Джон. — Мне действительно не помешает отдохнуть.
Анна поцеловала его в щеку.
— Спокойной ночи, мистер Джон. Я люблю вас.
— Я тоже вас обоих люблю. Очень. Вам лучше будет заночевать тут. Можете устроиться в моей спальне, она мне сейчас не нужна. На втором этаже вы будете одни. Полагаю, вас, охотники, это не смутит? А утром приходите повидать меня.
На этом мы и ушли.
Арабелла не возражала, чтобы мы остались на ночь и заняли Джонову комнату. И она даже не сказала, чтобы мы ничего не трогали!
Спать никому из нас не хотелось, хотя мы порядком вымотались. Мы стояли у окна в кабинете Джона и разговаривали.
— Финн, мистер Джон любит меня и тебя тоже, правда? Конечно, любит, Финн. Он назвал меня Крохой. Ты слышал? И сорванцом тоже.
— Ты не возражаешь?
— Нет, это было здорово.
Мы еще поговорили о всяких пустяках, а потом залезли в постель. Анна, по обыкновению, имела длительную беседу с мистером Богом, устроившись у меня под мышкой, а потом мы уснули. Как раз пробило полночь, а я в тот день был на ногах с пяти утра. Как ни хотелось подумать, вскоре меня сморил сон.
Я проспал почти четыре часа, которые пролетели как четыре минуты. Стук в дверь выбросил меня из постели.
Это была Арабелла.
— Джон умер, Финн. Около часа назад.
Вот и все, подумал я. Я не заметил, что рядом со мной стоит Анна. Она все слышала. Странно, но моей первой мыслью было: здорово, что не мне пришлось сообщить ей эту новость. Что делать дальше, я не знал.
Анна спокойно взяла ситуацию в свои руки.
— Я пойду приготовлю чай, — сообщила она и была такова.
Временами такое случается. После жуткого напряжения этой ночи тот факт, что Анна намерена приготовить нам чай, оказался для Арабеллы последней каплей. Она расхохоталась.
— Ох, Финн, — выдохнула она, — она… боже мой, как же это называется… Финн, я прямо не знаю…
— Ага, она всегда так, — согласился с ней я.
Анна сдержала слово. К тому времени, как мы собрались с силами и спустились на кухню, она приготовила самый большой чайник самого черного чаю, какой только оказался ей по силам.
— Сделала для тебя несколько тостов, Финн. Хотя мясного сока я не нашла.
Теперь ее полностью занимало приготовление яичницы с беконом для Арабеллы.
— Нет, я не пойду!
Анна решительно отказалась пойти попрощаться с Джоном.
— Ты иди, Финн. Его там нет. Он уже у мистера Бога.
И точка.
Арабелла попросила нас, если это возможно, остаться у нее на весь день. Анна решила, что мы останемся и на ночь тоже.
— Почему вы не позовете Милли приехать завтра, когда мы пойдем домой?
— Ну, — протянула Арабелла, — я не знаю. А ты думаешь, это можно сделать? Она согласится? Мне бы хотелось, чтобы тут кто-нибудь был и она могла бы мне помочь. Позвоните, пожалуйста, миссис Бартлетт и попросите Милли и Дуди прийти.
Так прошел день. Мы делали то, что нам говорили. Каждые полчаса Анна уносилась на кухню, чтобы сделать нам еще по чашке чаю.
На следующий день рано утром приехали Милли и Дуди. Когда они устроились, я решил, что нам с Анной пора.
— Джон оставил это вам, Финн, — сказала Арабелла, подавая мне конверт, а Анне — стопку книг.
По дороге домой я все гадал, как там Арабелла себя чувствует под одной крышей с двумя молодыми проститутками. Уверен, Джон бы хорошенько посмеялся над этой ситуацией.
Милли и Дуди прожили у Арабеллы почти неделю, помогая ей со всем тем, что надо было сделать. Тело Джона отвезли на север Англии и похоронили на кладбище при церкви, в которой служил его брат.
Анна по уши ушла в свои новые сокровища — книги по астрономии, физике и математике, которые ей завещал Джон. По каким-то непонятным причинам я целых две недели не мог заставить себя распечатать письмо Джона, переданное мне Арабеллой. Я извинял себя тем, что все это время был очень занят. Может быть, и был. Не знаю.
— А где письмо Джона, Ма?
— Под часами на камине. Я его туда положила, чтоб не потерялось.
Я ушел на задний двор, предчувствуя, что потом мне захочется побыть в одиночестве.
«Мои дорогие Финн и Анна! — начиналось оно. — Я хочу рассказать вам, какой это было для меня радостью — быть знакомым с вами. Наверное, вы удивитесь, когда узнаете, что, несмотря на отсутствие каких бы то ни было внезапных откровений вроде дороги в Дамаск и прочих просветлений, я постепенно пришел к выводу, что совершил большую ошибку, столь поспешно отвергнув религию. Теперь я вижу, что это вовсе не удобное бегство от реальности, каковым я считал ее до сих пор, а трудная работа. Анна, моя дорогая, как ты была права! Меня действительно больше всего интересовало, как оно все началось, а ты совершенно правильно хотела знать, чем оно все закончится. Анна, если у тебя сохранилась та картинка с кругами, не могла бы ты включить туда и меня — в качестве синей точки?
Милые мои, я приветствую вас и ваших друзей.
Я приветствую охотников за богом. Я почти слышу, как ты, Кроха, говоришь мне: „Но, мистер Джон, ведь мистер Бог тоже за нами охотится!“ Я очень на это надеюсь. Удачи вам в поисках!
Со всей моей любовью,
Джон».
Где-то там, за горизонтом, думал я, миры Джона и Анны прекрасно совмещаются друг с другом, но, чтобы каждый мог решить свои задачи, им приходится охотиться в разных направлениях и рассматривать другого как совершенно не похожего на себя. Но большинству людей нужны оба мира. Мне, по крайней мере, точно.
Арабелла продала Рэндом-коттедж и уехала жить к двоюродной сестре, кажется, куда-то в Новую Зеландию. За исключением нескольких открыток на Рождество, это было последнее, что я о ней слышал. Что же до Рэндом-коттеджа, то его вместе с другими домами снесли, когда прокладывали через нашу округу двустороннее шоссе.
Было очень странно сознавать, что я больше не могу поговорить с Джоном, поделиться с ним своими мыслями. Больше никаких посиделок с кружками пива, когда я большую часть времени тратил на то, чтобы парировать острые выпады его ледяной логики. Теперь мне предстояло самому решать собственные проблемы.
За те годы, что мы были с ним знакомы, он действительно сильно изменился. Многие говорили мне, насколько он стал мягче в последние годы жизни или даже, что, выйдя на пенсию, он стал «почти человеком». Но на самом деле старый Джон всегда был очень человеком — и его тоже можно было ранить. Давным-давно Ма сказала мне, что усилия, которые он тратил на то, чтобы спрятать от людей свои раны, сделали его замкнутым и раздражительным. Возможно, она была права.
— Почему, ты думаешь, он так часто на тебя нападает — просто из любви к искусству?
— Я об этом как-то не думал.
— Просто, чтобы тебя закалить?
— Попридержи лошадей, Ма. Мне кажется, я для своего возраста и так был достаточно закаленным, разве нет?
— О да, ты был довольно сильный! Быть может, даже слишком сильный. С точки зрения твоего же блага. Но я не о том говорю. Есть и другой род силы. Несколько лет назад мистер Джон сказал мне, что собирается взять тебя под свое крыло, потому что ты сильно напоминаешь ему его самого в соответствующем возрасте.
— Я знаю, Ma, — сказал я. — Он и мне это говорил, только я никогда не мог понять, почему так получилось. Мне не кажется, что я на него похож.
Она улыбнулась и посмотрела на меня, прищурившись.
— Ты похож на него куда больше, чем думаешь.
— Чем же это, Ма?
— Вы оба — просто пара больших добряков! — рассмеялась Ма. — И именно поэтому он тебя так часто колотил. Чтобы тебе не было так легко причинить боль.
— Ну уж не знаю, Ма, — тоже засмеялся я. — Может, посмотреть там было и не на что, но в силе Джону не откажешь. А также в умении орудовать старым добрым «уговаривателем»!
— Ах, это, — отозвалась она. — Это пустяки. За свою жизнь ты получишь гораздо больше ран, и притом другого рода. Если это единственное, что тебя до сих пор ранило, то ты еще очень легко отделался.
Я был далеко не уверен, что правильно ухватил ее мысль, и честно в этом признался.
— Это неважно! — сказала она. — Ты еще научишься.
Кажется, это был один из тех случаев, где мне просто не светило ничего понять.
— Он ведь здорово изменился, правда? — попробовал я другую ниточку.
— Да уж, что есть, то есть. В последние два года он был куда спокойнее и счастливее. На него просто приятно было посмотреть.
— Здорово, что у нас появилась Анна, — сказал я. — Думаю, она принесла ему много добра.
Мама долго смотрела на меня.
— В каком смысле? — спросила она.
— Ну, ее болтовня о мистере Боге помогла ему изменить свои воззрения. Ты разве так не думаешь?
Она не ответила.
— Я уверен, что под конец жизни он уже верил, что где-то там, по ту сторону, есть мистер Бог.
— Ну, — задумчиво отвечала она, — по крайней мере, он уже не был уверен, что его там нет. Это очевидно.
— Я думаю, он действительно верил, — настаивал я.
— Возможно. Единственное, в чем уверена я, так это в том, что когда он приходил сюда в последний раз, то попросил меня одолжить ему Библию.
— Думаю, без Анны тут не обошлось, — сказал я. — Она была… она…
— Не надо, — перебила меня Ма. — Если ты собираешься сказать то, что я думаю, то не надо. Ты сядешь в лужу.
— Откуда ты знаешь, что я собирался сказать?
— Тебя можно читать как раскрытую книгу. И потом, я тебя довольно долго знаю. Временами я знаю, что ты хочешь сказать, еще до того, как это придет тебе в голову.
— Хорошо, тогда что я собирался сказать? Ну, расскажи мне!
— Ставлю фунт против пенни, ты собирался совершить ту же самую ошибку, что наша тетя Долли и миссис Уикс, — что будто бы Анну послал бог, или что она — его ангел, или что-нибудь еще вроде того. Ну, я права?
— Ну, — замялся я, — не то чтобы совсем, но, наверное, что-то вроде того.
— Я так и думала! — воскликнула Ма. — Подумать только, взвалить на ребенка такое бремя! Это вам не шутки шутить!
— Это я понимаю, — сказал я, — но ты же не станешь спорить, что она не такая, как все остальные, и что она действительно помогла Джону.
— Разумеется, помогла, но не так, как ты думаешь.
— А как тогда?
Мама положила ладонь на мою руку:
— Скажу тебе его собственными словами, которые я от него услышала, когда видела старого Джона в последний раз: «Анна показала мне, сколь бесполезно громоздить умственные горы, а еще, что описывать бога — совсем не то же самое, что знать его». Сама я бы так не сказала.
— Умственные горы? Что он имел в виду?
— Ну, например, твою глупую стену. Если тебе удалось-таки на нее взобраться, это вовсе не значит, что ты вырос, — ты просто стал выше ростом. Это и есть «умственные горы». Так что не громозди их больше, ладно?
— В данном конкретном случае — больше не буду. Так что там с Анной? Что у нее есть такого, чего нет у меня? Что в ней разглядел Джон?
— Ну, во-первых, в ту ночь, когда ты притащил ее домой, ты сказал, что она потерялась, так?
— Ну да.
— Если она потерялась, то считайте меня балериной! Она — одна из тех немногих людей, которые всегда знают, с кем об руку они идут, а такие не теряются.
— Ты имеешь в виду мистера Бога?
Ответа на свой вопрос я не ждал. Да и задавать его, по большому счету, не стоило.
— Во-вторых, — продолжала Ма, — ее слишком занимает сама жизнь, чтобы тащить с собой всякий бесполезный багаж. Так что не навешивай на нее того, что ей не нужно! Понял меня?
— Понял, Ма.
— Я думаю, что именно благодаря ее дружбе и милой болтовне Джон смог увидеть новый мир, которого никогда раньше не знал, — и этот мир сильно отличался от его мира знаний. Я знаю, как ты им восхищался, но у каждого есть свои границы, и, боюсь, старый добрый Джон попытался переступить свои. Я думаю, что после того, как он узнал Анну, Джон просто перестал нападать на мистера Бога и отошел на шаг назад.
— И что тогда, Ма?
— Ну, ты мог бы сказать, что он дал богу шанс сделать шаг вперед.
— Ой, это для меня слишком сложно.
— Может быть, но у меня такое чувство, что так оно и есть.
— Хотел бы я знать, почему он так изменился, Ма. Мне просто хотелось бы знать.
— Возможно, ты этого никогда не узнаешь. — Мама улыбнулась. — Пути Господни неисповедимы.
Этим мне и пришлось удовольствоваться.
Q. Е. I