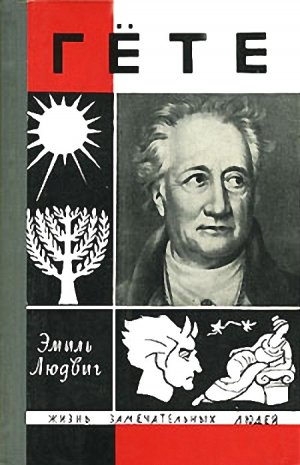
Лейпцигский студент. — Дружба с художником Эзером. — Винкельман, Лессинг, Виланд. — «Причуды влюбленного». — Три оды. — Дружба с гофмейстером Беришем. — Кетхен Шенкопф. — Счастье, ревность. Письма к Беришу — Кровохарканье. Дружба с Фридерикой Эзер. — Первое бегство. — Возвращение в родительский дом. — Отец, мать, сестра Корнелия. — Под влиянием Клеттенберг. — Снова тяжелая болезнь. — Кризис. — Химические опыты. — «Совиновники». — Последние письма к Кетхен.[2]
В галантерейной лавке, в той, что расположена на одной из дрезденских улиц, стоит шестнадцатилетний студент и, склонившись над прилавком, прилежно выбирает пуховки и ленты для волос. Случайно взгляд его падает в зеркало в изящной позолоченной раме. В глубине стекла он видит темные глаза, внимательно разглядывающие его, слегка изогнутый нос — опору высокого и мощного лба — и прекрасный, насмешливо улыбающийся рот.
Студент слегка поворачивает голову налево, пытается разглядеть пудреный локон у виска, поправляет кружевное жабо и полирует пальцем блестящую пуговицу на камзоле. Наконец, справившись со всеми этими делами, молодой человек поворачивается опять к прилавку.
Он стоит, подбоченясь одной рукой, а другой поигрывает эфесом шпаги и, по-видимому, премного доволен собой.
Проходит еще несколько минут. Молодой барин выходит из лавки и уже у самого порога сталкивается с приятелем.
Самоуверенные дерзости, мудрые не по летам, так и льются рекой из его уст. Право, кажется, он отрицает все на свете — и искусство, и вселенную, и самого господа бога.
Друзья, не спеша, бредут по улицам старого города. Многие дома здесь построены в стиле, явно подражающем Версалю. Мимо спешат юные девицы; они бросают на наших приятелей взоры — порой томные, порой вызывающие; впрочем, это не имеет никакого значения. Все они тотчас же и без всякого различия становятся предметом просвещеннейшей насмешки. Правда, предметом насмешки является вся и все: профессора — их внешность, повадки, поучения, Священная империя германской нации и даже король Фридрих II.
Ранний цинизм, скороспелое коварство, злое острословие кривят молодые губы, и кажется, что под пышными кружевами бьется старое сердце.
Охваченный тайной чувственностью и вожделением, юный остроумец умело перекладывает свои желания в стихи. Но кажется, они стиснуты размером и рифмами, словно шнуровкой, совсем как грудь барышни, которой они посвящены.
«Что сказать вам о нашем Гёте? — пишет другу однокашник студента. — Он все тот же надменный фантазер… Поглядел бы ты на него!.. Ты бы просто взбесился от злости или покатился со смеху… Наш зазнайка к тому же еще и щеголь; но на всех его роскошных нарядах лежит печать столь нелепого вкуса, что он всегда выделяется среди всех студентов… Впрочем, не только в нашем, в любом обществе он кажутся не столь приятным, сколь смешным. Вдобавок он еще так дурацки жестикулирует, что на него невозможно смотреть без смеха. А уж походка вовсе ни на что не похожа. Однако, сколько бы мы ни твердили, что он ведет себя преглупо, он и внимания не обращает на наши слова».
«Еще бы! Ведь мы созрели, — думает студент. — Да и что такое опыт? Разве, когда нам было всего пятнадцать, мы не прочли уже всего Эпиктета — от корки до корки? И разве в день, когда нам минуло шестнадцать, мы не излили в стихах, в альбом другу, всю мудрость мира?»
Впрочем, кое-чему юному уроженцу Франкфурта пришлось спешно подучиться. Ведь по части изящных манер имперский город куда как поотстал от университетского Лейпцига, так много позаимствовавшего у местной французской колонии.
О, как же летят у него луидоры на покупку нового платья, хотя заботливый родитель еще дома заготовил ему весь гардероб.
Дома? Право, там господствовал уж очень мещанский дух. Все только учись да учись, копи да копи знания. Вечно разум да разум, а до изящных манер никому и дела нет.
Зато, какой пример являет нам блестящая Франция! Там умы не щеголяют в отрепьях. У великого Вольтера собственный двор. Разве не рассказывают об этом все посетившие его обширные владения в Ферне? Да что там Вольтер! Даже наш Виланд, любимец изящных богов, и тот живет, вращаясь в обществе герцогов и князей.
Но что же делать нам?
Не стать ли профессором? Пожалуй! Профессура дает прочное положение и титул. Надо только взобраться на кафедру, а там уже все пойдет как по маслу. Речь наша льется уверенно, а будучи литератором, мы сумеем сочетать серьезную науку с очаровательной формой. Нет, поглядите только, как много людей спешит в церковь. Неужели на свете все еще столько дураков? Он, Гёте, даже живя во Франкфурте, «не был ни холоден, ни горяч». Самое верное — держаться вдали от религии. Все это так.
Но сейчас-то что делать?
Сдержанно улыбаясь, входит студент на лекцию по германскому праву. Туго ли натянуты чулки? Так на чем мы остановились? Ах да, речь идет о судьях апелляционного суда, о президенте и заседателях. Как бесконечно повторяет профессор все, что давным-давно написано в учебниках! Честное слово, самое интересное во время занятий — белые поля в тетради. На них хоть можно изобразить всех господ, о которых рассказывается в прескучной лекции.
Бьют часы. Наконец-то можно потянуться, размяться и перейти в другую аудиторию — слушать физику! Может, там будет поинтереснее?
«Я в нерешительности, — пишет Гёте друзьям. — Остаться мне с вами? Пойти ли в концерт? Право, не знаю. Брошу лучше кости. Ах, ведь у меня нет костей! Иду. Прощайте. Нет, погодите, остаюсь. Завтра я тоже не смогу прийти: у меня лекции, потом визиты, вечером я в гостях… Вообразите себе птичку, которая радуется, прыгая на зеленой ветке. Я похож на нее…
Общество, концерты, комедии, гости, ужины, прогулки. Стараюсь поспеть всюду, куда возможно в нынешнем сезоне. Ха, это все очаровательно, но и очаровательно разорительно».
Кто этот щеголь? — спрашивают профессорские жены. На днях он декламировал у нас в гостиной ультрамодные стихотворения — столь же немыслимые, как его жилет. Повадки словно у принца крови, а ведь он всего-навсего сын захудалого имперского чиновника, ему и семнадцати еще нет. Говорят, дед его был портным! Славный мальчик? Пожалуй! Премило играл как-то с нашими детьми. Да, но зато со взрослыми заносчив, совсем не по летам. Кажется, он сочиняет? Да, «виландствует», витийствует понемногу. Прелестно! Впрочем, лучше играл бы в карты. Кажется, ухаживает за малюткой Брейткопф? Еще бы! Всегда волочится за девицами постарше. Как, впрочем, и все наше молодое поколение! Скажите, а кто этот странный человек в сером, с которым он появляется всюду?
Проходит еще немного времени. Обитатели Лейпцига уже не приглашают к себе молодого студента. «Кроме всего прочего, — пишет в письме Гёте, — есть еще причина, по которой меня не терпят в здешнем свете. У меня чуть больше вкуса и понимания прекрасного, чем у местных любезников. Однажды я не смог сдержаться и, будучи в большом обществе, показал, сколь скудоумны их суждения».
Но не только атмосфера Лейпцига оказала влияние на характер молодого студента. Уже в первом письме, где встречается имя Гёте, в письме некоего дворянина, к которому, ссылаясь на несуществующие рекомендации, обратились незнакомые молодые люди, моля его пламенно, но напрасно принять их в члены своего клуба, — уже здесь Гёте охарактеризован как юноша неосновательный и болтун.
Деспотически и менторски, нелюбезно и небрежно держит себя наш студент со своими однокашниками. Одному поручает доложить о своих делах, другому-третьему шлет письмо, с приказанием выведать, что думает о нем четвертый, а пятого вызывает, чтобы прочесть ему нотацию, но, не впустив в свою комнату, усаживается писать письмо шестому.
Никогда и никого не спрашивает он, как ему живется. Зато, стоит кому-нибудь из друзей не осведомиться о здоровье его подруги, и он тотчас отчитывает провинившегося.
Откровеннее всего юный Гёте в письмах домой, к сестре Корнелии. Она моложе его только на год и так же умна: презрительно-небрежно, великодушно-снисходительно.
«Сегодня день твоего рождения, — пишет брат. — Следовало бы послать тебе поздравление в стихах. Но у меня нет времени, да и места тоже. Когда станешь писать мне, непременно оставляй чистые поля на листках. Я буду прямо на них писать ответы и делать замечания. А прежде всего, я требую, чтобы ты усовершенствовалась в танцах, научилась играть в самые несложные карточные игры и наряжаться со вкусом. Три последних требования покажутся тебе весьма странными со стороны столь Строгого моралиста, как я, тем паче, что у меня эти качества отсутствуют полностью». И «строгий моралист» запечатывает письмо и спешит к своей возлюбленной, в наряде которой разбирается как нельзя лучше. Так он попусту растрачивает время.
Неужели юный дилетант не хочет взять себя в руки и приняться за дело? Неужели у него нет никакого пристрастия? Есть, и он относится к нему серьезнее, чем ко всем своим университетским занятиям. Только оно и увлекает его. Искусство изобразительное. Впрочем, и поэтическое тоже. Изредка поутру он ходит в Академию художеств и занимается здесь рисованием, как, бывало, занимался в детстве. Не успевает Гёте войти в классы, как перестает издеваться, поучать окружающих. Только бы учиться да учиться.
У него талант к живописи, и занятия эти даются ему легко. Да и его руководитель приглянулся ему сразу. А для Гёте это самое главное. Даже много лет спустя, когда он достигнет могущества и влияния, его всегда будут окружать только люди, понравившиеся ему с первого взгляда.
Профессор рисования Эзер — человек деликатный, изысканный, с мягкими, женственными чертами лица. Ему удалось сразу завоевать разболтанного юношу. Эзер никогда не хвалит, никогда не бранит и всегда вдохновляет его к работе.
Только Эзер сразу почувствовал, какие порывы таятся за шутовскими повадками его ученика. Он слишком умен, чтобы школить его. Он не мешает ему бросаться в разные стороны, дилетантствовать в разных видах искусства; он сам посылает его к граверу, и Гёте учится травить на меди, потом выжигать на дереве. В присутствии этого ученика Эзер никогда не чувствует себя учителем. Словно страж, стоит он у входа в царство искусства и с улыбкой взирает, как Гёте переносит картины с холста в стихи или слагает песни, в которых поет о том, что нарисовано на картинах. Спокойная зрелость художника притягивает к нему и к его дому юного ученика. Эзер открыл ему путь, по которому уже идет великий Винкельман, — путь к античному искусству.
Взоры всех образованных людей устремились в ту пору к Италии. Эзер разъясняет своим ученикам, что античное искусство, сложившись и достигнув совершенства на юге, теперь должно стать образцом и для северных стран. Перед юным Гёте впервые открывается красота греческой линии. Но он глушит в себе новые впечатления, словно ощущая — время для них еще не пришло.
Жизнь Гёте подобна древу. И всякий, кто остановится перед уже восьмидесятилетним стволом, тотчас почувствует, что, согласно законам природы, почву, и влагу, и ветер, и грозы — все и всегда находил он в нужное время.
Неожиданно Германию облетает новость: Винкельман, много лет проживший в Италии, вернулся на родину. Лейпцигские студенты готовятся чествовать маэстро. И вдруг приходит весть: Винкельман спешно покинул Германию и убит на пути, в Триесте.
Восемнадцатилетнему Гёте кажется, что перед ним закрылась Италия.
Винкельмана больше нет… Но, может быть, в Лейпциг, в этот духовный центр, приедет Лессинг? Комедии его Гёте только что поставил на любительской сцене. Может быть, Лессинг возьмет в учение юношу, не нашедшего своего пути?
Лессинг действительно приезжает. «Но тут, — вспоминает впоследствии Гёте, — нам вздумалось не только не искать с ним встречи, но даже умышленно избегать всех мест, где он бывал. Эта ничем не оправданная глупость понесла наказание…» Гёте так никогда и не увидел Лессинга, ибо, когда через четырнадцать лет он решил, наконец, навестить великого просветителя, тот только что умер.
Тогда, в Лейпциге, Гёте не созрел еще ни до понимания Лессинга, ни до понимания Шекспира, которым вдохновлялся Лессинг. Не случайно, что, когда Эзер расписывал новый театральный занавес, на котором рядом с античными поэтами изобразил и шествующего во храм Шекспира, на скамейке рядом с ним сидел восемнадцатилетний Гёте и читал вслух своему другу и учителю только что вышедшее произведение — «Музарион» Виланда.
Виланд… Подобно Полярной звезде, он все еще сияет на поэтическом небосклоне. Словно завороженные, останавливаются современники перед его легчайшими, как пух, стихами. Не мудрено, что юноша, сызмальства склонный к переимчивости, подражает своему любимому поэту. Играючи сочиняет Гёте изящно-поверхностные стихи. Гибкие строки сами ложатся на музыку. С опасной легкостью обращается он с размерами, пишет длинные рифмованные письма в самых различных ритмах. Еще мальчикам он в шутку подражал разговору и манерам женщин, особенно актрис. Теперь одному из друзей он посылает вирши, написанные по-английски, другому — по-французски, еще для кого-то переводит итальянские мадригалы, а для третьего переписывает галантные сказания о богах. Впрочем, сам он презирает эти упражнения. Недаром он настоятельно требует от сестры, которой он посылает все свои произведения, чтобы она никому не давала их списывать, и сам иронизирует над своими поделками.
Значит, он относится к себе критически и потешается над собственными стихами? Ну, не всегда. И горе тому, кто вздумает высмеивать их. Несколько месяцев работает он над пасторалью «Причуды влюбленного», без конца переписывает ее. Но когда один из друзей сравнивает эту пастораль с другим современным и уже прославленным произведением, Гёте оскорблен. Он решает сжечь все написанное для сцены, раз уж его сочинения смахивают на чужой образец.
Правда, эти песни и пасторали напоминают фарфоровые безделушки. Их не обжигали в раскаленных печах и поэтому, покрыв лаком, держат под стеклянным колпаком, чтобы на них не подул ветер.
И вдруг среди этих резвых волн, вздыбившись первичной породой, встают три грозных утеса — три оды (да еще несколько писем, написанных другу). Словно при громовом ударе, разверзается гениальная сущность юноши, прежде невидимая за его манерами, причудами и насмешками. Ибо, покуда он «еще дремлет, погруженный в созерцание искусства и природы», в отдаленной «провинции» его души уже поднимается буря. Бесформенная, хаотическая, вздымается она все выше и, наконец, разряжается этими еще бесформенными стихами.
Охваченный прежде чуждым ему кипением, Гёте бросается к грандиозным замыслам, создает фрагмент за фрагментом. Но все остается незавершенным. Он чувствует, что искусство рококо уже исчерпало себя в пасторалях, а для нового время еще не приспело, и швыряет все написанное в огонь. Сохранился только крошечный отрывок от забытого всеми «Валтасара».
Вдали маячат какие-то смутные силуэты. Да, конечно, у него есть некоторые качества поэта, взволнованно пишет он сестре, но стихи его плохи. «Оставьте меня все в покое. Если у меня есть талант, я стану поэтом, даже если никто не будет меня направлять. А если его нет, значит никакие критики мне не помогут. «Валтасара» я кончил, но вынужден сказать о нем то же, что о всех моих грандиозных работах, за которые я брался словно бессильный гном».
И вскоре затем: «Так я живу, почти без милой, почти без друга, почти без счастья. Еще шаг, и я буду несчастен совсем».
Но у него есть друг и есть милая.
Кто же он, друг, к которому обращены оды и странные темные письма Гёте? Безвестный бедняк, воспитатель графского сынка. Ему уже почти тридцать, он большеносый, с костистым лицом, одет тщательно и претенциозно, всегда в башмаках, при шляпе и шпаге, похожий на старого француза. Это Бериш, безжалостный ниспровергатель всех современных поэтов. Зато стихи Гёте он признает и без конца переписывает их прекрасным почерком, взяв с автора единственное обещание — не отдавать их в печать. Вот с этим-то чудаком наш чудак, на десять лет его моложе, проводит все свое время.
И вдруг по городу разносится слух: Гёте воспел в стихах какого-то пекаря, принизив во славу ему профессора. Недоброжелатели Гёте тотчас отказывают в месте Беришу, который вынужден уехать из Лейпцига. Правда, вскоре он находит еще лучшее место, у герцога Дессауского. Здесь Бериш долго живет в герцогском дворце, пишет романтическую оперу, составляет словарь охотничьих выражений, выращивает георгины у себя на окне и через много лет приветствует друга юности все в том же былом ироническом тоне. Творения и слава Гёте оставляют старика равнодушным. Бериш умирает, и, согласно его последней воле, в гроб ему кладут три оды, переписанные некогда его рукой.
Куда девался радостный стих? Блеск рифмы? Изящные остроты? Волшебство полуприкрытой чувственности?
В этих стихах — осень жизни, боль, сверлящая человека, у которого уже все позади. В них кипит первозданный хаос и безудержное стремление к воле. Свободно катящиеся ритмы несут темный порыв, разрушительную силу, элегические раздумья. Лишь вдали маячит незнакомый берег, В письмах Гёте, похожих на дневник, летят к отсутствующему другу жалобы, впервые вздыбившаяся страсть, которая вырвалась, наконец, из спавшего сердца. Ибо Гёте любит.
Кто же она, эта любимая, за которую он так борется? Быть может, тридцатилетняя светская красавица, соблазнительница, пленившая чувственного честолюбца? Или художница, муза, которая влечет к себе поэта? Или блистательная кокетка, совратившая мальчика?
Нет. Это Кетхен Шенкопф, дочка трактирщика, рослая, круглолицая, нисколько не красивая. Ей уже двадцать, она кротка в обращении, совсем не кокетка, чрезвычайно рассудительна и не очень образованна. Но на нее будут походить все женщины, которых полюбит юный Гёте. Его сердце редко принадлежало красоте, уму — никогда и всегда нежному нраву.
Впрочем, однажды он уже сходил с ума. Это было еще во Франкфурте. Подростка на трагикомический манер разлучили тогда с его первой привязанностью, с Гретхен. Правда, — он бушевал только из мальчишеского упрямства. Все это происходило еще в годы дремы. Отношения его с той девушкой носили совершенно невинный характер. Зато сейчас его любовь таит в себе острые крючки. Он поймался на них, и ему очень больно.
Что ни говори, она дочь трактирщика. Сыну имперского советника приходится выдержать жестокую борьбу между гордостью и влечением. Разряженный в пух и в прах, появляется он в свете, ухаживает за барышнями, стремясь отвлечь любопытство окружающих и скрыть свои посещения трактира. Он весь еще во власти сословного сознания и не скоро признается в истинных своих чувствах. «Что заслуживает порицания в моей любви?.. Какое значение имеет сословие? Жалкий грим, который изобрели, чтобы украшать тех, кто и вовсе того не достоин. Да и деньги — преимущество столь же ничтожное в глазах мыслящего человека. Я люблю девушку незнатную, неимущую и вкушаю с ней счастье первой любви. Нет, не жалкими подношениями любовника обязан я привязанностью моей милой. Только благодаря моему характеру, только благодаря моему сердцу завоевал я ее».
Он поклоняется ей, он домогается ее любви. Правда, его сердце полно раннего цинизма и медленно проникается новым чувством — уважением к женщинам. Но он рожден им служить.
Во всех перипетиях любви Гёте навсегда останется страдающей стороной. Он никогда не был прекрасным соблазнителем, донжуаном, похваляющимся своими победами. Навсегда остался он просящим, благодарящим и гораздо чаще тщетно домогался женщины, чем был счастливым ее обладателем. Только проникшись стремлением Гёте к безграничной самоотдаче, его неугасимой жаждой любить, его способностью растворяться в предметах и явлениях окружающего мира, можно проникнуть в легенду его страстей, в историю его души.
Ранний скептицизм Гёте бледнеет при взгляде на девушку, но перед ним впервые возникает его основная трагическая проблема. Вновь и вновь будет он ставить себе один и тот же трагический вопрос, и только когда ему минет восемьдесят два года, он заставит своего столетнего Фауста подвести безжалостный итог: «…Я наслаждением страсть свою тушу…» Юный Гёте… Чувственный и мыслитель, бешеный и мудрый, демонический и наивный, самоуверенный и приниженный. Как же бушует в нем хаос неудержимых чувств!
Так, кружась между ревностью и смирением, прожил он эту осень.
Бегство Гёте от действительности, от мгновения, за которым он всегда гонится, началось, когда ему было всего восемнадцать лет. Скоро он поссорится со своей возлюбленной и бессознательно спасет свою свободу, необходимую для творчества. Ибо он твердо намерен жениться на Кетхен. И отец, и уроженка Франкфурта, мать девушки, очень расположены к юноше. Да и он со своей врожденной любовью к порядку и к устойчивому существованию окидывает взглядом дом и хозяйство, пивную и карточный стол — словом, все, что окружает любимую, и мечтает стать ее мужем.
Очевидно, в последнюю лейпцигскую зиму Гёте сошелся с девушкой, за которой ухаживал целых два года. Признания другу становятся более туманными, редкими, а отношения между влюбленными ровнее…
Нервы Гёте успокоились, он играет в любительских спектаклях, занимается живописью, бывает в гостях — и вдруг делает своему другу следующее удивительное признание:
«Послушай, Бериш, я не могу, я не хочу покинуть эту девушку. Никогда. И все же я хочу, я должен уехать. Но она не будет несчастной. Нет. Она должна быть счастлива… И все-таки я буду жесток. Не оставлю ей никакой надежды… Если она встретит достойного человека, если она сможет жить счастливо без меня, как же буду я рад…» И приходит в самое неподдельное отчаяние, как только девушка поступает согласно его желанию и дает слово другому.
«Страсть моя все росла, — пишет Гёте в своих воспоминаниях, — но было уже поздно. Я и вправду потерял ее… Я так долго насиловал мою здоровую природу, покуда особый, скрытый в ней механизм организовал заговор, вылившийся в революцию. Это и было моим спасением».
Катастрофа разразилась неожиданно.
Через два месяца после письма к Беришу Гёте просыпается ночью от кровотечения горлом. Он едва успевает разбудить соседа за стенкой, теряет сознание и много недель не встает с постели. Только через полгода миновал этот кризис. Гёте называет свою болезнь, сперва, чахоткой, потом, воспалением горла, заболеванием кишечника. Врачи действительно ставили самые противоречивые диагнозы. Важно одно: болезнь, имевшая решающее значение для его духовного развития, была вызвана бурной жизнью, к которой, в свою очередь, его толкало внутреннее беспокойство.
Покуда он лежит на одре болезни, к нему приходит утешительница, некрасивая, немолодая Фридерика Эзер, дочь художника, которой он многое доверил, которой будет еще долго писать. Сейчас, разбитый, он впервые бежит от любимой женщины.
И это бегство будет повторяться еще много раз.
День накануне отъезда Гёте проводит у Эзеров, в их доме за городскими воротами, много думает… Из Лейпцига он уезжает в день своего рождения — ему минуло девятнадцать лет. Да, он оставляет Лейпциг, в котором целых три года так мало учился и где так много узнал. Домой он едет в почтовой карете, и случайный попутчик, незнакомый офицер, глядя на него, проницательно замечает: «Вы, видно, не вовсе чуждаетесь прекрасного пола. Но вы больны. Держу пари, десять против одного, — и он протягивает десять талеров, — что некая девица дала вам отставку».
Бледный юноша улыбается: «Нет, господин капитан, возьмите свои десять талеров. Вы человек опытный и не станете швырять деньги на ветер».
В мрачный дом возвращается больной. Он не был здесь целых три года. С огорчением ждет его озлобленный отец, который перенес рано погибшие надежды и упования на любимого отпрыска. Один за другим умерли четверо его детей. В живых остались только двое, сын и дочь. Все свое непомерное честолюбие мрачный старик сосредоточил на сыне. Он сам тщательно образовывал и обучал способного мальчика. И успех сына стал единственной целью его жизни.
Был ли отец человеконенавистником от природы?
Основная черта его характера — гордость. Неудовлетворенное честолюбие легло в основу всех его страданий.
Тридцать лет тому назад Каспар Гёте, сын дамского портного, столь надменно повел себя со своими согражданами, что навсегда закрыл себе доступ к страстно желаемому месту в сенате. Так он и прожил свою жизнь, нигде не служа, на проценты с унаследованного капитала, который с великим трудом сколотил дальновидный его родитель. Капитал этот предназначался для того, чтобы его наследник мог приобрести самые обширные познания. Вот почему еще в начале XVIII века Гёте-отец завершил свое образование, отправившись в длительное путешествие по странам Южной и Северной Европы.
Точно так же воспитал он впоследствии и собственного сына. Он начинил мальчика чудовищным количеством знаний и сведений, которые дали возможность юному Гёте стать либо великим дилетантом, либо универсальным гением.
Старик и приставленные к ребенку учителя обучили его трем живым языкам и двум мертвым, игре на клавесине и на виолончели, рисовать карандашом и писать маслом, мировой истории и истории искусств, игре в карты и верховой езде, фехтованию и танцам. Мальчик изучал регалии города и государства, наблюдал за работой художников и ювелиров, вечер за вечером проводил в театре и знал все, что делается на сцене и за кулисами. Даже писать стихи и то научил его отец.
И вот на лестнице, ведущей из широких сеней наверх, стоит родитель, и суровые черты его омрачаются, когда он видит предмет своих попечений — бледного, хилого забулдыгу студента. Вяло, с равнодушной медлительностью поднимается к нему сын.
Правда, в этом доме никогда не царила гармония, и юноша не может ее нарушить. Зато он может усилить обычную здесь дисгармонию.
Матери — она стоит рядом с ворчливым стариком — всего только тридцать восемь лет. Она так долго надеялась на возвращение сына, на то, что он развеет царящую в доме скуку. Отец, столь горячо заботившийся о счастье сына, дал мало счастья своей веселой жене. Скупость и мрачная подозрительность окружают праздного и нелюдимого старика.
Чем больше он стареет, тем резче проступают его патологические черты, тем больше терзает его беспокойство.
Много лет прошло с тех пор, как этот одинокий человек уже в зрелых летах посватался к юной дочери франкфуртского старосты. Его привлекло к ней страстное желание установить связь с гамбургским сенатом, а его тестя, Текстора, потомка старинного рода ученых, соблазнили, очевидно, деньги портновского сына. Чем меньше удавалось старому честолюбцу извлечь пользу из купленного им титула имперского советника, тем больше отдалялся он от молодой жены. Ее природная веселость бесконечно раздражала его. Отношения с тестем тоже скоро испортились. Дело дошло даже до того, что в годы Семилетней войны он бросил старику упрек, будто тот предал город французам. Чем кончился спор между отцом и дедом Гёте, видно из описания некоего очевидца, свидетеля этой стычки: «Текстор швырнул в Гёте нож, тот выхватил шпагу».
Уже будучи глубоким стариком, Гёте сочинил веселый стишок, в котором перечислил качества, унаследованные им от родителей. Скептицизм, страстность и честолюбие он получил от отца. Веселость, общительность и фантазию — от матери. Свет и тьма в его темпераменте — эта таинственная смесь, которая составила счастье и страдание его жизни, унаследованы им от родителей, столь несхожих между собой. Однако гений никогда не является только смесью из разных соков. «Дух всегда автономен», — скажет Гёте в старости. И все же, если взвесить зерна тех знаний, которые заронил в него отец, окажется, что именно старику принадлежала главная заслуга в развитии сына. Да и в ближайшие семь лет чутье отца, его деятельная поддержка позволили молодому Гёте пойти по верному пути. Влияние матери было скорее влиянием старшей сестры. В детстве Гёте живо чувствовал свою связь с ней, но он ничему от нее не научился и ничего от нее не узнал.
Сейчас мать надеется, что сын будет ее спасителем от домашних ссор и скуки. И еще сильнее надеется на это сестра. У нее тоже тяжело на сердце.
Слишком много пришлось ей выстрадать за эти три года. Отец сделал ее единственной жертвой своей воспитательной лихорадки, а брат в письмах вымещал на ней свое высокомерие. Мать и раньше была ей чужой. Возможно, впрочем, что Корнелия уже страдала психической болезнью.
В душевном складе брата и сестры очень много схожего. А наружностью они похожи так, что их нередко принимают за близнецов. Только все, что привлекает в брате, делает Корнелию мужеподобной и отталкивающей. Она неуклюжа, у нее скверная кожа. Чувственность — сильнейший магнит Гёте и в творчестве и в отношениях с людьми. Полное, болезненное отсутствие чувственности разбило любовь, брак и жизнь Корнелии.
Никогда еще брат и сестра не были так схожи между собой, как в минуту, когда девятнадцатилетний больной здоровался с разочарованной восемнадцатилетней девушкой. У Корнелии нет поклонников, как у ее подруг. И свою ожесточенность она самым безжалостным образом вымещает на отце.
Вот в эту грозовую атмосферу возвращается потерпевший крушение юноша. «Очевидно, я выглядел хуже, чем думал», — пишет Гёте, потому что при встрече разыгралась трагическая сцена.
Постепенно все кое-как улаживается. Трое молодых начинают дышать вольнее. Они не обращают внимания на ворчливого старика. Студент рассказывает дамам о Лейпциге. Сердце его все еще там.
Прежде он горел желанием оставить этот город, теперь он кажется предметом вожделения его загадочной душе. Однако переписка с Лейпцигом скоро обрывается. Одни только Эзеры остаются друзьями элегантного студента. Во Франкфурте ему все не по сердцу, в том числе и друзья Корнелии. Потихоньку собирает он свои лейпцигские стихи и издает их анонимно. Впрочем, он заранее презирает свою книжку. Набрасывает он и одноактную пьеску, которую собирается назвать «Комедия в Лейпциге». Позднее он назовет ее «Совиновники». Странная и непонятная комедия, похожая на трагедию.
А ведь болезнь Гёте вовсе не прошла. Она все еще бродит в нем. Сейчас у него болит горло. Обвязав голову и надев шлафрок, сидит он в кресле на своей мансарде. И читает. Что это за древний фолиант? Парацельс? Каким образом сочинение алхимика попало в руки нашему насмешливому скептику? Страдая душой и телом, Гёте заинтересовался учением Гернгутовцев, и поэтому, когда мадемуазель Клеттенберг, аристократическая старая дева, подруга госпожи Гёте, постаралась обратить юношу в свою веру, она легко втянула его в круг своих друзей.
Благовоспитанный молодой человек терпеливо, хотя и тая усмешку, слушает ее поучения. Ему начинает казаться, что между ним и богом установились «самые приятельские отношения». «Набравшись познаний, я даже уверил себя, что в некоторых отношениях он сильно поотстал от меня; у меня достало дерзости думать, что и мне есть за что его простить».
Разумеется, кроткая и энергичная дама, обладающая не очень глубокой, но светлой душой, напрасно расставляет сети, стараясь уловить в них ученика Вольтера. Однако чистота ее, прелестная гармония, как скажет впоследствии Гёте, его привлекает. Он начинает прислушиваться к словам ее друга и врача. Беседуя на трансцендентные темы, медик обращает внимание юноши на книги об оккультизме, на снадобья алхимиков и поясняет, как следует пользоваться их целебными свойствами. Девятнадцатилетний юноша прочел так много. Почему не прочесть ему и мистическое произведение?
Вовсе не предчувствуя значения своего шага, стремясь не столько к спасению души, сколько к знанию, вдумчивый пациент старается найти доступ в область потустороннего.
Он усердно читает старых мистиков. Впервые Сведенборг выступает для него из мрака легенды. Впрочем, он и не собирается уверовать в них. Напротив, вместо того чтобы молча восхищаться таинственностью этих книг, он упрямо отмечает сноски, в которых авторы обещают разъяснить все, что покамест еще неясно. Гёте ставит цифры на полях соответствующих страниц, настойчиво идет «по мистическому следу» и тщетно старается разгадать «темные места».
Так наступает декабрь. Гёте заболевает вторично и так тяжело, что с ужасом чувствует — это смерть. Никакие средства не помогают. Жизнь его висит на волоске, и родители требуют от врача-мистика применить волшебное универсальное средство. Врач отказывается это сделать, увеличивая общую тревогу. И вдруг среди ночи он бросается к себе домой, приносит склянку с кристаллами какой-то соли и дает их выпить больному. Улучшение сказывается немедленно, в болезни наступает перелом. Гёте выздоравливает. «Не могу сказать, как укрепилась после этого вера в нашего врача».
Но что самое важное — вместе с переломом в физическом состоянии наступил перелом и в духовной жизни Гёте. Болезнь, как вспоминает он уже в старости, сделала из него совсем другого человека, «ибо я обрел необыкновенную бодрость духа и с радостью ощутил внутреннюю свободу, хотя мне все еще угрожало длительное недомогание».
«Я научился во время болезни многому, чему не научился бы и за всю свою жизнь… — пишет Гёте своей приятельнице, как только миновал кризис. Странные существа мы, люди. Вращаясь в веселом обществе, я был вечно всем недоволен; теперь я покинут всеми, но покоен, весел… Впрочем, я очень много рисую, сочиняю сказки и доволен собой».
Разве Гёте писал так раньше? Уж не начинает ли он успокаиваться, смиряться и потихоньку верить в себя?
Закутав ноги, сидит он за письменным столом, рисует комнату, мебель, посетителей и все, о чем они рассказывают, когда передают ему городские новости.
Снедаемый действенным любопытством, он потихоньку сооружает самодельную печурку с песчаной ванной и пытается выкристаллизовать лекарственные соли в стеклянных колбах. В конце концов, он получил какую-то прозрачную жидкость. «Человек, которому удалось создать и увидеть это собственными глазами, не станет порицать людей, верящих в «девственность земли», — напишет Гёте уже в глубокой старости. Так болезнь, возникшая на почве душевного недуга, открыла девятнадцатилетнему Гёте основы фаустовской алхимии и в то же время современной химии — науки, к занятиям которой он приступит лишь много десятилетий спустя.
Теперь, покуда он медленно выздоравливает, в нем пробуждается жажда знаний. Он сидит у себя в комнате и поглощает без разбора все: Манилия и Вольтера, Проперция и Квинтилиана. В детстве Гёте руководили его воспитатели, в Лейпциге он двигался вперед вообще без всякого руководства. Теперь великий дилетант устремляется в открывшееся перед ним безграничное пространство.
В этом году он почти не пишет. Самый верный признак, что в душе его зреют новые произведения. Он сжигает начатое было письмо, стихи. «Стихи не желают течь больше», — констатирует Гёте. В поисках новых путей познания он переходит от поэзии к критике. В душе его, подобно двум равнодействующим, борются рассудок и воображение, холодная проницательность и пламенное чувство. Прежде чем в его творчество властно влилась природа, он уже понял, сколь необходимо обратиться к ней. Он обрушивается на модные теперь воинственные песни. А картины сельской невинности? Это «искусственные картины, ибо господин автор никогда не видел природы. Всегда одни и те же выражения, жалкая мишура, и только». «Они были уместны в Аркадии; но, как известно, нимфы родятся под миртами, а не под германскими дубами. Самое невыносимое в этих картинах — ложь… Господа надеются, что их выручит иностранный костюм! Если пьеса плоха, разве спасут ее красивые одеяния актеров?»
Лейпциг остался где-то там, позади, все больше погружается в небытие. Только Эзер, подобно острову, высится посреди грустных вод. И только Кетхен продолжает жить в душе Гёте. Сладкая горечь, привкус первой страсти, — он будет ощущать ее еще много лет. «Вы навсегда останетесь для меня очаровательной девушкой, даже когда станете очаровательной женщиной. А я, я навсегда останусь Гёте. Вы знаете, что это значит. Когда я называю свое имя, я раскрываю и самую свою сущность».
В Страсбурге. — Выздоровление. — Закалка нервов. — Знакомство с Гердером. — Гомер. — Буря и натиск. — О немецкой архитектуре. — Страсбургский собор. — Шекспир. — Пантеизм. — Оссиан. — Фридерика Брион. — Зезенгейм. — Стихи, — Второе бегство. — Присуждение ученой степени, Отъезд из Страсбурга. — Вторичное возвращение во Франкфурт. — Пра-Гёц. — Дружба с Мерком. — Опубликование «Геца», Письма к Гердеру. — Странствия. — «Странник».
Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих; не стесняйся — пусти длиннее верви твои и утверди копья твои, ибо ты распространишься направо и налево.
В первый день по приезде в Страсбург, разместившись в маленькой комнате на Фишмаркте, Гёте наугад открывает новый молитвенник, подарок матери, и читает слова оракула, слова Исайи, вот эти самые. Они глубоко трогают его. Предчувствие овладевает им с огромной силой.
Гёте все еще худ и желт, но в нем бродят новые соки. На дворе весна…
«Нет, покуда мы молоды, — пишет Гёте приятелю, — мы не собираемся идти по среднему пути…
Изо всех сил будем мы наблюдать за окружающим и записывать в своей памяти все. Мы будем очень внимательны и не упустим ни одного дня, чтобы что-нибудь не приобрести. Мы все еще будем ничем, но уже захотим стать всем! А самое главное — мы никогда не остановимся, если только нас не принудит к этому усталый дух и тело…»
В то время Страсбург находился во владении Франции, и жители его назывались «sujets allemands du Roi de France» — «немецкие подданные французского короля».
Здешнее общество подражало французскому еще усерднее, чем в Лейпциге. Именно поэтому дальновидный родитель и выбрал для своего отпрыска именно этот университет. Ведь когда сын, наконец, станет доктором юридических наук, он поедет в Париж, увидит солнце мира. Разумеется, лучше бы в Италию, размышляет отец, но в наши дни стать человеком светским можно, лишь вращаясь среди французов. Тогда молодой человек сможет блистать и в родном городе. Разумеется, будь его сын потомственным патрицием… Только бы удалось дотащить его до брегов светского общества, а уж вплыть в это общество ему придется самому. Но удастся ли? Хоть на этот раз?
Юный Гёте все такой же чудак. Он по-прежнему любит одиночество. И нисколько не желает посещать людей с положением. Темный дремлющий инстинкт предохранил юного Гёте от влияния светского Лейпцига. Теперь он заставил его высмеять собственные стихи.
Очутившись в Страсбурге, охваченный самомнением юности, Гёте презирает все то, чего едва достиг. Он отказывается от своих вкусов, обвиняя старую культуру в том, что зашел в тупик. Со стороны может показаться, что юный эстетствующий литератор гневается на французский дух. Но по правде, он казнит самого себя, свои вчерашние вкусы.
Впрочем, роль здесь сыграло и то, что задето его самолюбие. Французским он владеет с раннего детства; но он испортил свой выговор, подражая жаргонам самых разных сословий. Он так много копировал слуг, сторожей, актеров, аббатов, что теперь страсбуржцы дразнят Гёте его простонародным жаргоном. Совсем как в Лейпциге, где издевались над его франкфуртским акцентом. Оскорбленный гордец решает раз и навсегда отказаться от французского языка. Отныне он настойчиво и серьезно будет совершенствовать только родную речь. Немцу Гёте понадобилось побывать на французской земле, чтобы в нем проснулся, наконец, немец.
В Страсбурге он далек от студенческого образа жизни. Богема отпугивает бюргерского отпрыска, юного нелюдима и чудака. Зато предубеждение против светского общества постепенно рассеивается. Ему стукнуло двадцать. Он не пренебрегает теперь картами, учится играть и в вист и в пикет. Но, даже став общительнее, он усердно оберегает свою свободу.
Отныне и до самой глубокой старости Гёте будет вести двойную жизнь — одну в светском обществе, другую в строгом уединении. Привыкнув таить от окружающих бездонные глуби своей души, он дал самое поверхностное объяснение своему поведению. Он-де унаследовал от отца серьезность, а от матери веселость. Поэтому он и кажется окружающим то скучным, то занимательным.
В Страсбурге Гёте вновь обрел естественность. Она раскрепостила лучшие стороны его души, она раскрепостила и его гений. Здоровье быстро вернулось к нему. Но он решил еще как можно больше закалить себя: укрепить свои нервы, избавиться от головокружений, не реагировать на резкие звуки, уродство, страдания. Он применяет к себе самые суровые меры — шагает рядом с барабанщиком, когда тот отбивает вечернюю зорю, вскарабкивается на верхушку соборной башни, вечером ходит на кладбище, а по утрам — в анатомический театр. И проделывает все эти упражнения, покуда может смотреть сколько угодно и на что угодно. Ничто уже не выводит его из равновесия.
Так проходит лето, заполненное бессистемными занятиями. Гёте совершает далекие прогулки, ездит верхом. Не работает, не сочиняет стихов, не делает набросков. Даже писем в это лето пишет меньше, чем обычно. Сохранилось всего несколько черновиков, напоминающих дневники, — свидетельства дней высокого раздумья, в которое погружена чего-то ждущая душа.
«Вчера мы целый день ехали верхом, но только-только добрались до Лотарингских гор… Я посмотрел направо и увидел зеленую глубь и тихо плывущую седоватую реку. Слева надо мной нависла темная тень, ее отбрасывала гора, поросшая буковым лесом… И в сердце моем наступила такая же тишина, как царившая вокруг. Какое счастье, когда на душе у нас легко и свободно! Мужество гонит нас навстречу препятствиям и опасности… Большую радость можно завоевать лишь в большом труде, и, вероятно, в этом кроется мое самое большое возражение против любви. Говорят, что любовь делает человека мужественным. Нисколько. Когда сердце наше мягко, оно слабеет. Когда оно так жарко бьется у нас в груди, и нам нечем дышать, и мы пытаемся подавить слезы, а они все текут, и нас охватывает неизъяснимое блаженство, о, тогда мы так слабы, что нас можно заковать и в цветочные цепи. Я говорю «любовь», а думаю о той зыби, которую ощущает наше сердце, когда оно словно плывет вперед, а между тем не двигается с места… Красота непостижима вовеки. Подобно скале, возникает она перед нами, когда мы смотрим на произведения великих писателей и художников. И в то же время это неясная, сверкающая тень, очертание которой теряет определенность».
Но Гёте мало одних ощущений. Сердце его жаждет человека, друга… В один сентябрьский день, взбежав по лестнице в гостиницу, Гёте сталкивается с незнакомым молодым пастором. На незнакомце черный шелковый плащ, полы которого подобраны и засунуты в карман, напудренные волосы завиты на затылке в крутой локон. Гёте тотчас угадывает в этом экстравагантном и элегантном священнослужителе Гердера. Немедля представляется он молодой знаменитости и, назвав ему свое, покамест еще никому не известное, имя, просит разрешения посетить его. Гердер любезно соглашается. Но почему, хотел бы он знать, студент обратился именно к нему? Да потому, что студент уже слышал за столом, что автор «Критических лесов» приехал в Страсбург на консультацию к окулисту.
Так, значит, юный литератор — поклонник теоретического труда Гердера? Напротив! Еще год тому назад юный литератор писал, что грозный завоеватель Лессинг наверняка наломает дров в «Критических лесах» господина Гердера.
Вскоре Гёте навещает Гердера и сразу же навеки покоряет его. Приходит раз, второй, третий… В тесной, затемненной палате глазной клиники сталкиваются два человека, столь различные по характеру, что между ними никак не могут возникнуть отношения равных. Их связывают скорей отношения учителя и ученика — не дружба, а ученичество.
Действительно, лишь по закону противоположностей могли они почувствовать влечение друг к другу. Один горит жаждой деятельности, но болен, скован, бесконечно одинок и поэтому счастлив негаданно найти столь способного ученика. Но тот, другой, вовсе не всегда хочет учиться. Правда, он никогда еще не находил настоящего учителя и теперь с неутолимой жаждой впитывает все, что только может дать ему новый друг.
В полумраке палаты четко выступает профиль с завязанным глазом. Жесткие черты лица, чуть курносый нос, рот, пожалуй, слишком чувственный для мыслителя. Таков Гердер, двадцатишестилетний воспитатель наследного принца, учитель и проповедник, овеянный громкой славой и спорами, первым открывший взаимосвязь между искусством самых различных народов. Сейчас он заключен в полутемную комнату и ждет выздоровления, У него гениальный ум и больные глаза. Бедный сын деревенского учителя из заброшенного богом селения в Восточной Пруссии, он не знает предела требовательности к себе. Первые свои сочинения он издал анонимно. И даже когда они приобрели известность, он все еще продолжал отрицать свое авторство. Но в душе он снедаем жаждой славы.
Гердер раздражителен по природе, а болезнь еще усиливает его нервозность. Он шлет мучительные письма своей невесте. Философ боится, что останется изуродованным на всю жизнь. Его пугает неясная будущность и необеспеченное материальное положение.
Сейчас перед ним сидит гость — чрезвычайно скромный юноша. Он не сводит глаз с Гердера, и кажется, зрение заменяет ему ум. Молодой студент, по виду не слишком блестящий, среднего роста, хорошо сложен, изящно одет, тщательно причесан. У него прекрасная голова, которую портит слишком большой нос. Зато благородно очерченный рот и высокий, ясный лоб делают лицо его привлекательным. Но самое замечательное в нем — темные глаза, мечтательные, сияющие, исполненные мысли, пытливости и огня. Целых восемь десятилетий будут они выдавать движения великой души, выдавать, даже когда он попытается их скрыть.
В этом студенте Гердер сразу обрел идеального слушателя. Ибо великое искусство Гердера, отличающее его от всех людей, — это его ораторский дар. В ближайшие годы Гердер будет говорить, проповедовать, убеждать, вести за собой. Гёте же разовьет свое писательское искусство. «В Страсбурге, — вспоминает впоследствии Гердер, — Гёте начал читать Гомера, и все гомеровские герои тотчас предстали перед нами, как прекрасные гигантские свободные бродяги». Правда, Гердер полагает, что молодой человек еще мало страдал, мало боролся и мало учился. Ибо сам он, Гердер, уже в двадцать лет был ученейшим из докторов наук. Но, поучая, Гердер тотчас же отравляет сарказмами все дары своего ума.
Вчера Гердер сочинил стишок, в котором высмеял имя Гёте, нынче издевается над его любовными приключениями, завтра станет порицать его за излишнюю чувствительность, которую проявил юноша. Он чувствует, что завоевал Гёте, но он хочет подчинить его себе всего без остатка. Но и Гёте тоже не отступает от него. Нервный, гордый, упрямый, он с каждым днем все больше сближается с этим трудным учителем. Он чувствует магическое влияние, которое, словно от Мефистофеля, исходит от Гердера. И впрямь в Гердере много мефистофельских черт, хотя он вовсе не Мефистофель.
Гёте прилежно учится у Гердера не только новой эстетике, но и ее моральным основам.
Главный труд Гердера уже почти готов. Это история духа, построенная на фундаменте, доселе неведомом. Читая еще не опубликованную рукопись о происхождении языка, ученик узнает из нее не только историю языка как явления. Гердер доказал питомцу рококо, что поэзия есть дар природы и народов. Она не может быть частной собственностью, которая передается по наследству, и оставаться достоянием только узкого круга образованных людей. В доказательство этого положения Гердер уводит прилежного ученика к самым истокам поэзии. Он принуждает его разглядеть в Гомере и в библии ряд последовательных картин — иносказаний и песен, сложенных пастухами, воинами и охотниками. Он заставляет Гёте переводить из первоисточников и внушает ему отвращение ко всем современным, прежде любимым, писателям. Исключение он делает для одного Клопштока. Наконец, в заключение он открывает ему все совершенство Шекспира. Так, в первые недели дружбы Гердер укрепил в младшем товарище (который втайне примерял к себе и к своим будущим творениям понятие «гениальность») то убеждение, которое уже зародилось в Гёте. Только свобода от парижско-аттических правил, только первобытность, только народные предания могут дать форму и содержание возрождающейся сейчас драматургии.
Столь велико воздействие Гердера на Гёте, возникшее здесь, в больничной палате, что даже почерк Гердера начинает обладать «магической силой». Гёте не в силах разорвать ни одной записочки, ни одного конверта, надписанного его рукой. Но гордость и чувство собственного достоинства скоро заставляют юношу вернуться в сферу собственной деятельности.
Ученичеству его навсегда приходит конец.
Саркастический учитель, прославленный мизантроп, доверяет ученику свое самое большое сокровище — свою едва оконченную рукопись. Ученик слушает, молчит и скрывает от учителя свои новые произведения, свои только что написанные наброски «Гёца» и «Фауста», хотя косвенно он обязан их возникновением ему. Но при всем великом уважении к Гердеру Гёте знает, что берет у него, в сущности, то, чем владеет сам. Ибо под снеговым покровом моды в душе Гёте уже проросли творческие ростки и готовы пробиться сквозь твердую почву.
Гердер рассказывает Гёте о Руссо, который страстно стремится вернуть общество к естественному состоянию. Но это только помогает Гёте понять собственные неясные стремления. Гердер увлечен неким англичанином, исполненным протеста против подражания древним, к которому призывает Винкельман. Англичанин восхваляет Гомера и Шекспира и полагает, что ему удалось открыть первоистоки поэзии в Оссиане. Но в воображении Гёте и прежде возникали картины туманной северной природы, а лучи южного солнца уже сами рвутся наружу.
Гердер ведет его к Ксенофонту, к Платону, но Гёте и без того достаточно восприимчив к чужим образцам. При случае он сумеет их использовать. И все-таки в сознании его еще царит сумятица. Он только поэт, а вовсе не исследователь, и эстетику свою формулирует на собственный лад: «Красота остается необъяснимой навеки».
Правда, важнейшее открытие, сделанное Гёте в Страсбурге, — возвращение к естественному состоянию — принадлежит вовсе не ему одному, а целому поколению. С бурного отрицания, с громкого «нет!» начинается новая эпоха, которой поэт Клингер дал название «Буря и натиск». Только «нет?». Это было направлено, скорей, против общепринятой манеры поведения, а не против сущности, явлений, и участвовали в новом движении, главным образом, писатели. Вот почему оно вылилось, прежде всего, в борьбу литературную. Только много позднее стали выкристаллизовываться ее общественные основы.
Естественность, а не манерность, народный язык, а не александрийский стих, природа, в которой мы рождены и которая нас окружает. Двадцатилетние немцы ищут дорогу не только к естественности, но и к подлинно национальному. С неожиданным восторгом обращает Гёте взоры на Страсбургский собор, прежде так оскорблявший глаз убежденного классициста. С высокомерием молодости ожесточенно топчет он гирлянды рококо, слишком долго преграждавшие ему путь к подлинным произведениям искусства.
Статью «О немецком зодчестве» Гёте пишет в стиле восторженной оды.
«Когда я блуждал вокруг твоей могилы, благородный Эрвин, — так обращается он к строителю Страсбургского собора, — в поисках камня с надписью, и никто из твоих сограждан не смог на него указать, я был глубоко опечален…
…Я впервые шел к собору, и моя голова была полна общепринятых теорий хорошего вкуса…
Но для гения принципы вреднее других примеров. Пусть до него отдельные кудесники работали над отдельными частями. Он первый, в душе которого эти части слились в единое целое».
«Гению!» — вот девиз молодого Гёте.
Весь охваченный внутренним кипением, замирает он перед поэтом, которого прежде, в лейпцигский период, отрицал. Именно от Шекспира, даже не от Гомера, исходит теперь такая сила, что юноша чувствует себя точно «слепорожденный, который вдруг прозрел от прикосновения чудодейственной длани. Я впервые вырвался на широкий простор и впервые почувствовал, что у меня есть руки и ноги». Словно молнию, пролетевшую сквозь столетия, воспринял поэт поэта далекого прошлого. Но удивительно, в речи, произнесенной Гёте в дни Шекспировских торжеств, преклонение перед английским поэтом переплетается с гордым самосознанием. Гёте кажется, что, обращаясь к друзьям, он говорит им о Шекспире, а на самом деле он говорит о себе самом. Речь его переходит в бурную ритмизованную исповедь.
«Эта жизнь, милостивые государи, слишком коротка для нашей души… ибо, если даже кому и посчастливилось на жизненной дороге, в конце концов, он все же падает… и считается ни за что. Ни за что!
Когда я для себя все, когда я все познаю только через себя. Так восклицает каждый, одаренный даром чувствовать себя, шествующий по жизни большими шагами… Шекспир, друг мой, если бы ты был еще среди нас, я мог бы жить только рядом с тобою. Как хотелось бы мне играть второстепенную роль Пилада, если бы ты был Орестом!»
Так впервые в беседе гения с гением душа его летит за облака, ибо каждый день предвещает ему, что в нем живет и должно проявиться нечто высокое.
В кругу молодежи, в котором вращается Гёте, скромность вообще неизвестна. Опьянение охватило всех поголовно. Каждый требует себе лаврового венка. Но никто не бросает столь дерзкого вызова гению, как Гёте, не создавший еще решительно ничего.
Полный наивности, которая так непосредственно звучит во всех его экстазах, он ставит себя рядом с Эрвином и Шекспиром, выводя весьма опасную формулу: «Зародыш заслуг, столь высоко чтимых нами, заложен и в нас самих».
Заканчивая статью о «Немецкой архитектуре», Гёте, как бы в восторге, снова обращается к себе:»Слава тебе, юноша, родившийся со зрением, зорко улавливающим пропорции… воспроизводящим всевозможные образы!.. Позднее уже с более мужественной силой забьется в твоей кисти могучий нерв страстей и страданий, и тогда примет его небесная красота, посредница между богами и людьми, ибо он быстрее Прометея сведет на землю с небес блаженство бессмертных».
Гёте минул двадцать один год. Постепенно исчезает все, что было заложено в нем воспитанием, детством. Исчезают и остатки церковной веры. Охваченный новым настроением, он пишет свою языческую обедню.
Новая вера, пантеизм, звучит и в других его стихах:
«Вся природа — мелодия, полная глубокой гармонии», — писал Гёте в дошедшем до нас отрывке из неоконченного романа. «Я весел, я счастлив. И все же моя радость — это только бурная тоска по чему-то, чего у меня нет, по чему-то, чего я не знаю».
С восторгом переводит он Оссиана. Впрочем, сейчас все увлекаются поэзией рапсодов — народных певцов и сказителей, все опьяняются словом и опьяняют им других. Монолитный «Свет», который прежде пользовался всеобщим уважением, и уважения которого так добивались, распался на множество самых разных кружков. Целый круг молодых людей козыряет своей оригинальностью. Ощущая родственность с персонажами Дидро, они сидят за бутылкой вина, распевая, по немецкому обычаю, песни.
Началась «эпоха гениальных дерзаний». Каждый полагается только на собственные силы и преувеличивает их безмерно. «Гении» изобретают для себя даже костюм особого покроя. Нашелся человек, который ухитрился описать эволюцию Гёте в связи с эволюцией в его одежде. «Не успело в нем проснуться сознание гения, как он начал появляться в потертой шляпе, небритый, в экстравагантном костюме, сшитом по собственной моде. Он бродил по полям, по горам, по долинам, всегда один, по нехоженым тропам. Взгляд, походка, разговор, палка все выдавало в нем человека необыкновенного».
По словам одного из страсбургских профессоров, Гёте вел себя так, что приобрел славу «остроумца, недоучки и безумного богохульника». И, наконец, третий свидетель сообщает, что однажды он вместе с Гёте стоял у городских ворот. При свете фонаря Гёте читал ему вслух Гомера и Оссиана, «впадая в совершеннейший восторг и вещая пророческие слова».
Но какое впечатление производил Гёте на людей посторонних и непредвзятых, лучше всех рассказал нам Юнг-Штиллинг.
Впервые явившись к общему столу в трактире, Юнг-Штиллинг обратил внимание на молодого человека прекрасного роста, с большими, необыкновенно ясными глазами и великолепным лбом, который непринужденно вошел в комнату. «Вот, кажется, замечательный человек», — заметил приятель рассказчика, и тот согласился с ним, хотя и подумал, что незнакомец доставит им не очень приятные минуты. Уж очень он был недоступен и слишком свободно держался.
Гёте двадцать один год, он бывает в обществе, танцует, ищет дружбы, жаждет впечатлений. Но все же его подстерегает тьма, царящая в его душе, и какой-то голос твердит ему, что друзья вовсе не склонны отдавать себя именно ему.
«Мы любим друзей, как любим свою милую…
Мы такие скупердяи, что хотим иметь всегда самое лучшее… Мы обманулись сами, но боимся заявить об этом во всеуслышание и делаем вид, будто нас обманули другие».
Какие тяжелые и зрелые слова! И как умен он был, не отправив этого письма, черновик которого попал нам в руки… Гёте всегда общителен и всегда одинок.
Только женщинам отдает он себя всего, без оглядки; и всегда дает им больше, чем получает от них. В эти месяцы он опять переживает любовь, но в ней нет бури и натиска, так характерных для этого периода его жизни.
Любовь-идиллия… Удивительно спокойным кажется сердечное влечение Гёте среди всех потрясений этого года. И кажется, оно вовсе не связано с ними.
Ни стихи, ни письма, ни рассказы очевидцев, ни даже поэтическая исповедь Гёте, в которой он в старости прославил свою любовь, — ничто не свидетельствует о страсти. Три женщины составили эпоху в его юности, но среди них нет Фридерики. И все же в тот год она светила ему, как кроткая звезда, и навеки осталась в его творчестве бессмертным стихотворением.
В дом зезенгеймского пастора Гёте вошел вовсе не на такой литературный манер, как он описал это впоследствии.
Он еще не прочел тогда «Векфильдского священника». Впрочем, некоторые искусственные истоки у его любви к пасторской дочке все-таки были. Он разыграл перед этими незатейливыми людьми роль таинственного пришельца, человека, поглощенного духовными интересами, который стремится ко всему естественному в искусстве, природе и любви. И все-таки, хотя его поведение питалось литературными корнями, он сразу и непосредственно почувствовал прелесть золотоволосой девушки, которую повстречал на своем пути.
Однажды, пробираясь верхом по гористой местности, Гёте увидел девушку в крестьянском наряде, и на него повеяло неожиданным очарованием. «Она шла, стройная, легкая, почти невесомая, и казалось, что шея ее слишком хрупка для огромных белокурых кос, свисавших с грациозной головки. Веселые голубые глаза девушки зорко-презорко глядели по сторонам».
Гёте стремится сейчас ко всему естественному, к природе. Вскоре он начнет собирать старинные песни, которые распевают старые эльзасские крестьянки. Ему нравится, что Фридерика не умеет исполнять романсы, аккомпанируя себе на фортепьяно. Зато, гуляя в поле, она поет очаровательные народные песни.
Гёте сразу же остается в Зезенгейме на несколько дней. Как всегда, когда он увлекается женщиной, его притягивает к ней все, что ее окружает, — родители, сестра, дом, деревья, домашние животные. «Я провел несколько дней за городом у чрезвычайно приятных людей, — пишет он, вернувшись домой, некоей даме. — Очаровательные дочери семейства, прекрасная местность и самые мирные небеса — все это пробудило в моем сердце уже уснувшие чувства, воспоминания обо всем, что я люблю… Только бурное счастье, которое мы оплакиваем и которое заставляет нас забыть самих себя, покрывает тьмой воспоминание о любимой. Но когда мы полностью владеем собой, когда мы спокойны и вкушаем чистую радость любви, тогда дружба, не нарушенная симпатией другого рода, неожиданно оживает в нас».
Фридерика принадлежит к тем женщинам, которые особенно выигрывают на лоне природы. Гёте-художник любуется ею, когда она взбирается вверх по тропинке, и с восхищением описывает ее. Особенно хороши в ней «солнечная веселость и наивность в соединении с сознанием собственного достоинства, жизнерадостность и благоразумие — свойства, казалось бы, несовместимые, но в ней они присутствуют все». Вернувшись в город, Гёте радуется ее письмам, написанным легким, красивым почерком. «Рядом с Фридерикой я был безгранично счастлив, разговорчив, весел, остроумен, дерзок, и в то же время меня всегда сдерживало чувство, привязанность и уважение». Он дарит ей свои стихи. От этих восемнадцати страсбургских месяцев их сохранилось шестнадцать (многие утеряны), восемь посвящены Фридерике, два он включил в сборник своей поэзии. Одно-единственное приобрело мировую славу. Это первое, написанное Гёте гётевское стихотворение. С него начинается новая лирика, новый немецкий язык, новая литература.
В этих стихах впервые изображена подлинная любовная жизнь поэта. Но ими открывается и тот маскарад, к которому всю жизнь будет прибегать Гёте. Он делает это в ущерб собственному творчеству, но оберегая женщину.
Гёте подолгу живет в Зезенгейме. Идиллия затягивается. В ней появляется привкус горечи. «Вокруг меня не очень-то весело, — пишет он в мае другу. — Малютка продолжает грустить, хворает, и это придает всему довольно неприятный оттенок… Если бы вы прислали мне две коробки сахарного печенья, вы дали бы мне возможность подсластить хотя бы уста, а уж от радостных лиц мы давно отвыкли. В троицын понедельник я и Старшая танцевали с двух дня до двенадцати ночи… Я просто растворился в танце. О, если бы только я мог сказать — я счастлив, кто был бы счастливее меня! Но кто смеет сказать: я, несчастнейший? — говорит Эдгар. Голова моя подобна флюгеру перед бурей, когда ветры дуют со всех сторон. До свидания. Любите меня». Через несколько дней: «Мир так прекрасен! Так прекрасен! Если бы только уметь наслаждаться им! Иногда я злюсь на него за это, а иногда провожу счастливые часы, радуясь моему сегодня… Приеду ли я или не приеду? Это станет мне ясно, только когда все уже останется позади. Идет дождь — на улице и на душе… Тяжело строить красивые фразы и все время ставить точки. Но девушки не ставят ни запятых, ни точек; не удивительно, что я перенял у них и девичий характер… Зато я хорошо усваиваю греческий… Читаю Гомера уже почти без подстрочника. А кроме того, я стал старше на целых четыре недели. Вы знаете, что для меня это много — не потому, что я много делаю, а потому, что делаю многое».
В конце июня: «Право же, мне пора вернуться. Я очень и очень этого хочу. Но что может поделать хотенье против людей, окружающих меня. Удивительно странно у меня на душе. Прелестнейшие места, люди, которые меня любят, круг друзей. «Разве не сбылись все грезы твоего детства?» — спрашиваю я себя, когда взор мой с наслаждением окидывает счастливые места моего блаженства, простирающиеся до самого горизонта. Разве не здесь сады феи, о которых ты мечтал? Да, это они, они! Чувствую это, дорогой друг, но чувствую также, что, достигнув желаемого, мы не становимся и на волос счастливее. Привкус, который судьба придает любому нашему счастью! Дорогой друг! Нужно очень много мужества, чтобы не стать угрюмцем в нашем мире!»
В этом письме ясно видно все: тяжелое душевное состояние Фридерики, глаза ее близких — они молча молят, вместо того чтобы гневаться,» — скука, раздражение и раскаяние молодого человека, которому не терпится удрать от милой. Здесь и Фауст и Мефистофель. Что остается делать Гёте? Он бежит.
Уже сидя на лошади, он протянул ей руку. «Ее глаза были полны слез, а у меня на душе было прескверно». Но прощается он с ней только в письме. Она ответила ему тоже письмом, которое «разорвало мне сердце», ибо «оно было написано в минуту, которая почти стоила ей жизни».
Нужно ли объяснять причины, которые заставили соблазнителя бежать? Он должен! И это все.
«Всю ночь я фантазировал, а утром фантазии заставили меня вскочить с постели. В голове у меня точь-в-точь как в комнате… На душе не очень-то весело. Я слишком трезв, чтобы не чувствовать, что гоняюсь за призраками. И все-таки завтра, в семь утра, моя лошадь будет оседлана — и тогда прощай!»
Как все дрожит в нем от нетерпения! Как мечут огонь глаза! Как он сразу забудет девушку! Через два года, послав сестрам Брион своего «Гёца», он цинично пишет другу: «Бедная Фридерика почувствует некоторое утешение, узнав, что неверного отравили». Да, снова подтвердился закон, властвующий над любовью поэта. Женщины, которыми он не обладал, сделали юного Гёте поэтом. Женщину, которая так легко ему отдалась, он забывает тотчас же.
Проходит много лет. Родители ее давно уже умерли. После долгих скитаний и злоключений Фридерика находит приют у дальних родственников. Над тихой обителью текут десятилетия. Незаметно для всех умирает шестидесятилетняя женщина. Но на пороге смерти она увидала сверкающий отсвет своей любви, запечатленной в «Поэзии и действительности».
В то самое время, когда Гёте бежит от любви, ломая на своем пути сердца, он бежит и от своих официальных занятий. Курс обучения формально закончен. Декан с холодной похвалой возвращает ему его дипломное сочинение, проникнутое сухой фридриховской логикой, дает разрешение к его печати, и Гёте покидает Страсбург.
Он снова дома…
Он появляется здесь во вкусе гениев своего времени. Три года тому назад он возвратился под отчий кров больной, бледный, разбитый. Теперь он телесно здоров, зато страдает таким нервным переутомлением, что о душевном здоровье и речи быть не может. А кроме того, приезжает он не один. Рядом с ним удивленные родители видят маленького арфиста. Накануне Гёте повстречал его в Майнце. Арфист понравился ему, и Гёте решил помочь мальчику попасть на ярмарку. Прошлый раз Гёте вернулся домой со стесненным сердцем, с помрачненным рассудком. Теперь он в экстазе. Всеобщий энтузиазм кажется ему чуть ли не законом. Он весь воплощение юношеской смелости — открыт, доступен всему на свете и тотчас приобретает друзей и приверженцев. Он всегда окружен большим обществом, а когда у него нет собеседника, тихонечко ведет диалог с собой.
Да, вот он снова торчит во Франкфурте, одаренный сын королевского советника. Снова в тюрьме, и теперь уже навеки. Ибо когда в день своего двадцатидвухлетия Гёте подает прошение с просьбой принять его в сословие адвокатов, это означает, что он должен стать деятельным гражданином подневольного. Вольного мещанского города, который ему не нравился никогда. Но внешне, наш штюрмер никак не проявляет свою революционность. Он сотрудничает во вновь открытой газете, и тут появляется его политический символ веры.
«Ежели мы находим место на земле, где мы можем обосноваться со своим имуществом, где у нас есть пашня, на которой мы можем пропитаться, и дом, где укрыться, разве не здесь наша родина?.. И разве тысячи людей не живут счастливо в скромной доле? К чему напрасно рваться к впечатлениям, которых у нас нет, да и быть не может?.. Римский патриотизм! Да хранит нас от него господь, как от злобного чудовища! Мы не нашли бы там ни стула, чтобы сидеть, ни кровати, чтобы лежать».
Кто это говорит? Очевидно, старец? Напротив, речь эту произносит двадцатитрехлетний юнец. Но в глубине души, в тайниках неясных стремлений беспокойный дух мечется между жаждой тишины и жаждой бури. Он втиснут в зажиточный, скучный дом отца и как будто вовсе не рвется в широкий мир. А все-таки грудь его стеснена, он не может дышать свободно и отдается своим фантазиям. «Грустно жить в таком месте, где вся наша деятельность должна сосредоточиваться на самом себе. Я сражаюсь с собой — на бумаге. Франкфурт так и остался гнездом, в котором удобно высиживать птенцов».
Что скрывается за этими ироническими каракулями, которые он таит от родителей, знакомых и клиентов? Что оживляет тесную мансарду, ту самую, в которой он жил еще мальчишкой?
Вот он здесь, Прометей, который ваяет образы, предстающие перед его внутренним взором, мечтая, чтобы они ожили. Вот он, Гёте, который предчувствует свои создания, хотя ни одно из них еще не вылепил окончательно. Но он всегда верит, что постепенно они созреют в нем.
«Если бы только я не предчувствовал так многого или так многое не всплывало бы иногда передо мной; если бы я мог надеяться; если бы красота и величие больше жили в моих чувствах, я бы совершал, высказывал и писал только хорошее и прекрасное, даже не подозревая этого!» И невольно мы вспоминаем лепет восьмилетнего ребенка, который каллиграфическим почерком вывел новогоднее поздравление деду и бабке. «Перо мое впредь достигнет большего совершенства», — обещал он им.
Он жаждет величия. Он ищет для творческого воплощения образ человека, наделенного волей, умом, мощью. В поисках героя он обращается к Цезарю, Сократу и Прометею, потом к Гёцу и Магомету…
Словно предвидя и предугадывая собственную судьбу, словно испытывая, есть ли в нем силы пророка и полубога, бродит Гёте среди великих образов легенд и истории. А комната, город и время замкнули его в свое тесное кольцо.
Покамест все, что он пишет, остается только в отрывках. Он и «Гёца» своего начал почти что случайно. Однажды читая «Жизнеописание Гёца фон Берлихингена», автобиографию рыцаря, жившего в эпоху Великой крестьянской войны, он стал придумывать для сестры разные эпизоды, в которых действовал этот самый Гёц. И вдруг почувствовал, что его манит записать их на бумаге.
Утром, без конспекта, без всякого плана Гёте пишет несколько сцен и читает их вечером Корнелии. Ей нравится, только она боится, что у него не хватит терпения дописать свою пьесу до конца. Неверие сестры подхлестывает Гёте. Он продолжает писать. Правда, он признается, что, имей он дело не с драмой, а с девушкой, его никогда не мучили бы такие сомнения, и никогда перед ним не возникало бы столько вариантов. «Негаданной» страстью называет он эту драму. Через шесть недель рукопись готова. Правда, Гёте говорит, что это лишь первый набросок, который требует кардинальной переделки. Но отныне природа его творчества ему ясна. Он называет «Гёца» верстовым столбом, от которого он отправится в далекий путь, и, «вероятно, на этом пути мне предстоят часы долгого отдыха». Слова, необычайно точно характеризующие гётевскую манеру работать.
Гёте всегда будет свойственно ощущение незавершенности, ощущение того, что созданное — это только одна из ступеней. И в то же время он всегда будет ощущать необходимость доводить все и на каждой ступени до совершенства. Вот почему в шестидесяти томах его произведений так много переработанных вещей и еще больше фрагментов.
Через полгода поэт опять берется за «Гёца», переписывает, очищает, отесывает, переставляет сцены, покуда не возникает уже новое произведение. Но и на него он смотрит только как на модель, которую нужно будет полностью еще переделать. Три раза Гёте писал своего «Гёца». Последняя редакция появилась спустя целых полвека. При жизни писателя «Гёц» прославил его больше, чем все остальные пьесы.
Но является ли он действительно его главным произведением? Что возникло в пьесе на основании личного опыта? А ведь личный опыт остается магической формулой для всех гётевских творений. Может быть, причина успеха в сострадании к угнетенным, которое рвется из пьесы? Или деятельное христианское чувство, которое переполняет рыцаря Гёца?
Нет, эта красочная картина занимает совсем особое место в галерее гётевских произведений, и не потому, что он никогда больше не смог создать что-либо подобное, а потому, что он быстро и сознательно забросил ее.
Основной герой пьесы более чужд Гёте, чем все другие его герои, которые так и остались незавершенными. Более чужд ему, чем Валтасар, Цезарь, Прометей, чем Фауст. Все эти персонажи были задуманы им еще в Страсбурге — может быть, даже и раньше. Изображение загадочных или аморальных натур стало впоследствии его особым искусством, а характеры, подобные Гёцу, были нужны уже только для контраста к ним.
В старой хронике «Жизнеописание Гёца фон Берлихингена» Гёте, ученика Гердера, привлекла, прежде всего, наивная простота, прямолинейная сухость их автора. Привлекает его и «немецкое» — в понимании его эпохи, иначе говоря, свобода от закона и сословных преимуществ, щедрость чувства, расточаемого на других.
Но образом и подобием самого Гёте является не Гёц, а его противники.
Дух Гёте прорывается в Вейслингене, пылает во Франце, сверкает в Адельгейд. Вейслинген, человек, наделенный добрым сердцем и слабой волей, так совпадает с Гёте определенного, более позднего периода, что он постоянно будет возникать в последующих его произведениях, особенно в «Клавиго».
Но где он видел портрет своей героической и аморальной Адельгейд? Это тоже одна из основных черт его поэзии. Так же как в своих мужских образах, Гёте всегда выражает себя и в женских, порой даже с большей силой. Впоследствии он сам признался, что во время работы над пьесой влюбился в злодейку Адельгейд. Она вытеснила для него Гёца.
Зато добродетельные женщины в пьесе — Елизавета и Мария, — как они безлики!
А вот прообразы Адельгейд и Франца заложены в нем самом. Его бурная жажда власти и жизни пылают в женщине, в Адельгейд. Его юношеские грезы, в которых соединились и вожделение, и служение женщине, горят в мальчике Франце. «Тысяча лет — это только полночи!» — восклицает Франц, лежа в объятиях Адельгейд.
Впоследствии Гёте — правда, всего только раз обратился к историческому сюжету. Но сейчас ему двадцать три года. Он слишком эгоцентричен, чтобы бесстрастно изображать личности исторические. Впрочем, ни в начале, ни в конце его жизни «Гёц» не был для него исторической драмой. Он остался глыбой застывшей лавы, эротическим валуном, возникшим из чувства свободы и природы, которым пылал тогда юный Гёте. Только в этой пьесе и подражал он Шекспиру. И все-таки она оказалась лишь «Драматизованным жизнеописанием Гёца фон Берлихингена».
Работая над «Гёцем», Гёте бросил все «парижские» правила. Гораздо чаще, чем его английский образец, меняет он место действия. И все-таки сцены вроде осады сохранили полностью эпичность хроники.
Вместо драматической четкости Шекспира в пьесе проступает чувствительность. Вместо твердого кристалла — вода. Пестрота красок, но слабость рисунка. Без падений, без подъемов разворачивается пьеса, как цепь картин и переживаний. За всеми сценами ясно проступает автобиография Гёца — единственный источник автора.
Неисчерпаемое богатство языка, которым уже овладел Гёте, прорывается только в последнем акте. Язык драмы вовсе не так смел и не так грандиозен, как в стихах и в письмах Гёте этого периода или в его «Гимне архитектуре».
Гёте, ученик Гердера, почитал силу народного языка, но, конечно, еще вовсе не знал народа. Впрочем, он никогда и не узнал его так глубоко, как, например, Лютер. Рыцарская речь, которой написана средневековая хроника, увлекла Гёте куда больше, чем речь современных крестьян.
Наконец пьеса готова. Тая робость в душе, отсылает Гёте своего «Гёца» Гердеру. Тому он не нравятся. Гердер бранит автора, говорит, что Шекспир испортил его вконец. Проходит два месяца, и Гёте сам полностью отдает себе отчет в своих возможностях и в своем произведении. Он еще гораздо худшего мнения о пьесе, чем Гердер. «Она вся насквозь выдумана, и меня это очень огорчает. «Эмилия Галотти» тоже придумана… поэтому я не люблю эту пьесу, хотя она настоящий шедевр, а уж мою и тем более».
Автору «Пра-Гёца» всего двадцать три года. Возвратившись домой, он проводит время то в светском обществе, то в полном уединении. Но в тишине его с особой силой терзают буря и натиск. Гёте нелегко под родной кровлей. Его причуды, его ночные прогулки раздражают отца.
Поэтические опыты юноши кажутся родным только вывертами, направленными против бюргерского общества. На матери лежит неприятная обязанность сглаживать семейные неурядицы. Отец чувствует разочарование. Он видит, что адвокатская мантия весьма пристала сыну. Тот носит ее с достоинством и с успехом. Но в качестве почетной формы она не имеет для него ровно никакого значения. Отец делает для сына все, что только может. Даже более широкий человек вряд ли мог быть еще щедрее. В первые девять месяцев, по приезде во Франкфурт, молодой Гёте получил от отца семьсот гульденов. Но первый литературный успех сына круто меняет настроение всей семьи. Гордый и разочарованный старик жаждет для своего отпрыска уважения, признания, славы — пусть даже их стяжают стихи. Старый чудак, прекрасно знающий жизнь, устремляет все свое честолюбие, чтобы помочь выдвинуться сыну. Но у молодого Гёте есть еще друг, куда более ловкий, чем отец. Это Мерк, человек светский. Он привык делить время между культурными интересами и коммерческими делами, умеет привлечь внимание окружающих к вспышкам бурного гения и направить в нужном направлении ток высокого напряжения. Уже много позднее Гёте признавался, что никто не оказал на него такого влияния, как Мерк.
Опять чудак, опять старший летами, опять тощий, длинный, с острым носом, с серо-голубыми глазами, в пристальном взгляде которых есть нечто тигриное. Мерку лет тридцать с небольшим. Он чрезвычайно искушен в делах света, решителен, быстр, сообразителен, прекрасно чувствует литературу. Мерк прирожденный критик и типичный издатель. Но общаться с ним могут только люди, не боящиеся его острого языка. По натуре своей, Мерк благородный, честный и надежный человек, но он озлоблен против целого света. Глядя на его силуэт, мы словно видим силуэт Мефистофеля. Как известно, Фауст всегда ищет Мефистофеля. А уж тем более ищет его человек, который по природе своей не только Фауст. Из чисто практических соображений Мерк уговаривает Гёте издать свои стихи. Правда, еще совсем недавно взимание денег за стихи приравнивалось к симонии. Но Клопшток чуть не вчера выпустил в продажу свое произведение и раскрепостил молодых поэтов, только и ждавших примера для подражания.
Молодые бунтуют даже против воздуха, которым дышат бюргеры. Они проникнуты такой жаждой жизни, что и жить хотят не по-бюргерски, а открыто и широко.
Гёте издает не все свои стихи сразу; бюргерский сын полон решимости потребовать от общества уплаты за свой ум, талант и труд. На протяжении шестидесятилетнего авторского пути Гёте станет самым высокооплачиваемым немецким писателем, вопреки тому, что только немногие из его книг снискали успех при жизни поэта.
Практическая сметка Мерка заставила Гёте переработать «Гёца». Мерк оплачивает набор, Гёте бумагу. И еще одно обстоятельство усилило удовольствие, которое он испытал, напечатав свою вещь. В детстве Гёте, по настоянию отца, каллиграфически переписывал и переплетал все свои сочинения. И впоследствии всегда с удовольствием упоминает о «чистых листах». Хаотичные наброски драмы мало-помалу превращаются в аккуратные гранки. Наконец друзья сами рассылают произведение неизвестного автора.
Успех пьесы грандиозен. Экземпляры расходятся молниеносно. Вскоре появляется второе издание. Автор получает множество поздравлений. Но деньги за проданные книги поступают туговато, и он не знает, как оплатить счет за бумагу, который весьма велик. Мерк полон надежд. Все уладится. Но Гёте уже в старости, словно крупный негоциант, повествуя о начале своей купеческой карьеры, кончает свой рассказ ироническим замечанием: «От всего этого я так ничего и не получил».
Впрочем, шумный успех «Гёца» явился следствием недоразумения.
Молодежь считала, что в своей драме Гёте прославил необузданность страстей. Старики возражали против воспевания кулачного права. Некоторые полагали, что автор ученый-филолог, и требовали, чтобы он дал научный комментарий к пьесе. Гёте сам способствует недоразумениям, ибо, будучи по природе самого мирного нрава, почему-то заявляет, что произведение его должно снискать особую популярность среди солдат. Впрочем, очень скоро пьеса отходит для него на задний план. Второе издание появляется без всяких изменений под предлогом, что «вещь эта только пробная, а поэтому пусть остается какая есть… Если когда-нибудь я еще напишу немецкую драму, в чем очень сомневаюсь, тогда все истинные ценители увидят, сколь много продвинулся я вперед».
Гёте взят в плен кругом молодых литераторов, щедрых на похвалу. Ему хочется сохранить их расположение, но он чувствует, сколь опасно пустое удовольствие, которое доставляет ему их восхваление. Он, болтая и слушая их, утратил собственный характер. Поэтому он избегает бывать в кружках, клубах и по-прежнему вращается, в сущности, только вокруг Гердера, по-прежнему прислушивается только к его словам.
Обстоятельства разлучают их. Но инстинкт Гёте подсказывает ему, как привязать к себе трудного друга, хотя бы с помощью писем. «Гердер, Гердер, оставайтесь для меня всегда тем же, что и сейчас! Если мне предназначено быть вашей планетой, я буду ею, охотно и преданно. Я буду верною луною земли. Но, право же, ощутите это всем существом вашим, право же, мне больше хотелось бы быть Меркурием, последней, вернее, самой маленькой звездой в Семизвездье, вместе с вами вращающейся вокруг солнца, чем первой среди пяти светил, которые сопутствуют Сатурну. Прощайте, дорогой мой человек. Я не оставлю вас. Яков сражался с ангелом господним. Пусть даже я останусь хромым!»
Посылая Гердеру «Пра-Гёца», Гёте признаётся ему, что вложил в эту пьесу лучшие силы своей души. Однако, добавляет Гёте, только суждение Гердера откроет ему глаза на собственное детище. Гердер читает пьесу. «Вас ждут часы божественной радости, — пишет он своей невесте. — В этой драме невероятно много немецкой мощи, глубины и правды, хотя местами она звучит только как выдумка писателя». Зато самому автору Гердер немедля посылает вместо ответа сатирические стихи. Как понять Гердера? «Я люблю Гёте, как свою душу, говорит он невесте. — Но должен ли я и могу ли доказать ему это?»
Невеста Гердера, Каролина Флаксланд, часто встречалась с Гёте за городом на пикниках. Она не устает твердить своему жениху, что он славный, веселый мальчик, добродушный бродяга, который любит играть с детьми. Впрочем, Гёте бывает и в обществе, ездит верхом, фехтует и в двадцать три года начинает, согласно моде того времени, заниматься еще одним видом искусства. Со стихами Клопштока на устах вскакивает он в одно прекрасное утро с постели и спешит на лед, где, таясь ото всех, начинает кататься на коньках. И это искусство становится для него средством духовного обогащения. Ибо когда он летит на коньках, он словно летит в неизвестное, и в этом полете быстрее созревают мысли, маячащие в его душе.
Полностью он обретает себя только во время своих странствий. Один бродит он по лесам, по горам, часто в дождь, часто ночью. Это его личная, гётевская, форма бури и натиска.
Однажды он направляется прямо навстречу буре и, столкнувшись с ней лицом к лицу, продолжает идти, страстно распевая свою песнь:
В длинных рапсодических строках, в одиноком гимне буре, которые схожи с одами Беришу, Гёте призывает муз и харит, ощущая свою тесную близость с природой.
Визит в Дармштадт. — Имперский суд в Вецларе. — Кестнер и Иерузалем. — Шарлотта Буфф. — Ухаживание вдвоем. Третье бегство. — Максимилиана Ларош. Снова Франкфурт. — Письма к Кестнеру и Лотте. — Поездка в Веймар. — Франкфуртский адвокат. — Корнелия выходит замуж. Иоганна Фальмер. — Критика во «Франкфуртских ученых записках». — Смерть Иерузалема. — Рисунки. — «Боги, герои и Виланд». — «Прометей». — Лотта выходит замуж. — Максимилиана Брентано. — «Страдания юного Вертера». — Письма Кестнерам.
Легкий вздох вырывается из груди утонченных дам. Они расположились кружком здесь, под буками, и Урания, которой юный Гёте посвятил эти стихи, невольно краснеет. Их очень мало, этих женщин, подстерегающих появление весны в светло-зеленом лесу. Почти каждая носит славное древнее аристократическое имя.
Но, кроме него, они присвоили себе и другое, романтическое. Психеей назвала себя Каролина Флаксланд, невеста Гердера. Волны пылкого мистицизма исходят от этих богинь. Особая атмосфера окружает девушек, посвятивших себя прекрасному. Юность их уже миновала, а они все еще не стали женщинами.
Но когда наш странник попадает в тесный круг дармштадтских друзей, где все дышит чистотой и в то же время чуть душной, приглушенной чувственностью, дух его успокаивается. Буря и натиск, грохочущие в нем, переходят в другую тональность: «Утренние туманы окутывают твою башню, Лила», — пишет молодой поэт.
Удивительное сообщество высокообразованных девушек. Расположившись возле грота, поросшего мхом, они читают и декламируют, томятся жаждой самопожертвования, но очень трезво анализируют окружающее.
Они одни. Гердер далеко, Мерк, которого, как Мефистофеля, тянет именно к этим женщинам, нисколько не поэт, и коллективная сестринская симпатия, естественно, обращается на Гёте.
Сердце его дрожит эротической дрожью, но оно скользит мимо подруг, ибо его связывает с ними не пламя, не свежесть чувства, а только ощущение общности культуры, тоска и томление.
В этот период Гёте, как и многие его современники, отличается особой чувствительностью. Его интерес колеблется между языческой и христианской символикой. Но здесь, в садах Дармштадта, перед поэтом высятся античные скалы: и кажется, среди них обитает бог природы — языческий Пан.
«Священные боги… даровали мне радостный вечер, я не пил вина, взор мой впитывал одну лишь природу… Душа моя всегда откликается в тот час, когда солнце давно уже зашло и ночь, встав с востока, простирает покров свой на юг и на север. И только еле светится еще вечерний сумеречный круг».
«Священные боги» — и это он пишет в сочельник! Но даже кроткая фройлейн фон Клеттенберг, с которой Гёте снова горячо спорит, прощает ему эти слова. Она знает, он никогда не мог справиться с христианской терминологией. Фройлейн улыбается, когда упрямец, читая отчеты миссионеров, загорается сочувствием к неграм и утверждает, что без миссионеров, им жилось куда лучше. Он решительно отходит от какой-либо религии. Правда, он пытается примкнуть, к ней, даже вступает в ее братство, но очень быстро остывает к учению гернгутовцев. Нет, он не может отказаться от веры в собственные силы и беспрерывно ждать благодати. Он слишком деятелен. Юноша ощущает, что в нем, как и во всех людях, живет сила творческой природы.
Философы, писатели, врачи, все и со всех сторон толкают Гёте к природе. Но он охвачен не чувством религиозного ожидания, а стремлением к энергичной деятельности. Поэтому он выходит из братства, желая разработать «христианскую религию для личного своего употребления». Он сочиняет веселый фарс и в нем устами Еврипида обращается к христианам и заявляет, что они принадлежат «к секте, которая желает уверить всех прокаженных, увечных, страдающих водянкой, будто по смерти сердца их станут тверже, дух отважнее, а костяк — тяжелее». В эту весну, когда Гёте живет погруженный в природу, сердце его смягчается. Письма его всегда оканчиваются словами «Любите меня!».
Как-то в конце мая Гёте попадает в очаровательную местность. Перед ним, расступаясь, словно кулисы, высятся горы, под ногами у него дымится долина, неподвижное солнце повисло над стеной дремучего леса. Гёте лежит в высокой траве, возле ручья, бегущего со склона, и видит «тысячи самых разных трав». «Когда я чувствую, как копошится этот крошечный мирок… совсем рядом с моим сердцем, тогда я чувствую и присутствие Всемогущего, создавшего нас по своему образу и подобию, я чувствую дыхание Всеблагого, который, паря в вечном блаженстве, держит и хранит нас в дланях своих.
Друг мой, когда сумерки опускаются перед моим взором и вокруг меня дремлет весь мир, а в душе моей, словно образ любимой, покоятся небеса, тогда нередко меня охватывает тоска, и я думаю: «О, если бы ты мог все это выразить, если бы ты мог вдохнуть в бумагу все, что живет в тебе так полно, так пламенно, она стала бы зеркалом твоей души!» А иногда он сидит за столом, потягивая деревенское вино, и читает Тибула и вдруг замечает служанку у колодца. Она ждет, пока кто-нибудь поможет ей поднять кувшин на голову. Гёте с улыбкой спешит ей на помощь. Иногда, взобравшись на холм, он играет с детьми, набрасывает их портреты… Приходит молодая мать и рассказывает ему, что муж ее в отъезде и давно не пишет. Гёте дает ребенку крейцер и уходит счастливый, спокойный.
Да, но где же это он так уединился? Возле забытого ручья? В горной деревушке? Вовсе нет. Он живет у самых городских ворот, в грязном и тесном Вецларе. Тем не менее, город этот знаменит, ибо в центре его высится здание Высшего апелляционного суда Священной Римской империи, при котором все германские герцоги и вольные города содержат своих послов.
Здесь обычно наводят последний лоск на молодых юристов. Такова традиция, давно уже превратившаяся в пустую проформу. Гёте, кажется, зашел в здание суда один-единственный раз, только чтобы внести свое имя в списки стажеров. Этого потребовал отец. С коллегами, которые пришлись ему по нраву, он встречается в трактире. Там они изображают рыцарей, пирующих за круглым столом.
Все они поддразнивают друг друга и уже окрестили Гёте «Честный Гёц».
Бременское посольство в трактире не столуется, а Гёте не бывает в суде. Поэтому на первых порах он не сводит знакомства с серьезным и умным посольским секретарем. Но тот знает — правда, лишь понаслышке, — что сюда из Франкфурта приехал молодой доктор, чудак, писатель, философ. Эстет. Кестнер скептически повторяет: «Гёте?» Проходят еще две-три недели. И как-то, гуляя за городом, Кестнер сталкивается с незнакомцем.
Растянувшись, в траве лежит худой, бледный молодой человек. Удлиненное лицо, чуть великоватый и крючковатый нос, темные волосы и темные глаза. Незнакомец лежит под деревьями и, опершись на мягкую, не очень красивую руку, горячо спорит с двумя молодыми людьми.
Кестнер прислушивается к спору. Да, это философы. Один эпикуреец, другой стоик, третий занимает промежуточную позицию. Их знакомят. Кестнер, человек светский, с опаской протягивает руку Гёте. Кестнеру уже под тридцать, а Гёте двадцать три. Шагах в двух от них стоит еще один коллега Кестнера — член Брауншвейгского посольства; кажется, он еще серьезнее Кестнера. Одет он тщательно, как англичанин. На молодом брауншвейгце голубой фрак, желтый жилет, сапоги с коричневыми отворотами. Фамилия его Иерузалем. Гёте редко встречается с ним и просто ничего о нем не знает. Вернее, знает лишь то, о чем говорят вокруг, — Иерузалем страстно влюблен в жену своего друга. Молодой дипломат и философ, обладатель загадочного имени, настроен в душе против этого Гёте, который спорит сейчас с таким ожесточением. Вернувшись домой, Иерузалем пишет приятелю: «Гёте был в Лейпциге в одно время с нами — он хлыщ. Теперь он пописывает во франкфуртских газетах».
Молодой человек, валяющийся сейчас в траве, скоро обессмертит обоих господ дипломатов. Но один уже не вкусит от своего бессмертия, а другой вкусит слишком много. И никто из них еще не предчувствует, что женщина и гений самым удивительным образом скуют всех троих.
Проходит еще неделя, и они снова встречаются на балу. Приезжает сюда и молоденькая девушка. Она много танцует с доктором из Франкфурта.
На ней простенькое летнее платьице, движется она весело и легко.
От этой бюргерской дочки так и пышет здоровьем. Она не жертвенная натура, как Фридерика, в ней нет и страстности Кетхен. Это просто грациозная и умненькая девушка. «Конечно, она не ослепительная красавица, — пишет Кестнер, с которым она помолвлена с шестнадцати лет, — но она хорошенькая девушка. Для меня красоту ее составляет доброе и привлекательное выражение лица. А кроме того, она умница, веселого нрава, забавна и мастерица на выдумки. И не забыть еще: у нее прекрасное сердце — она благородна, человечна, деятельно добра и великодушна». Вот именно такой и опишет ее поэт, с которым она сейчас танцует.
Лотта Буфф — женщина того типа, который всегда нравился Гёте. В юности он любил девушек стройных, легких, веселых.
Зато она, естественно, не понравилась Мефистофелю. Когда вскоре после их первой встречи Гёте, снедаемый волнением и любопытством, приводит к ней своего приятеля Мерка, тот устраивает ему взбучку и бранит за то, что он не добивается другой особы — молодой Юноны, которая к тому же еще и свободна.
В эту летнюю ночь поэт весь во власти ее чар и раскрывает перед ней все качества, которые должны ее прельстить. Разве не присутствуют в нем достоинства, которых не хватает ее жениху? Страсть, талант, да к тому же налет чужеземного. Правда, у Кестнера много качеств, которые начисто отсутствуют у нового знакомца Лотты, — знание света, ровность в суждениях, справедливость и такой такт, что с его помощью ему удастся провести сквозь трехмесячный роман, который сейчас начинается, в целости и невредимости невесту, себя и нового своего друга.
Ничто не свидетельствует так в пользу Кестнера, как то, что он сумел подняться над ревностью, завистью, над всеми препятствиями и стать другом Гёте. Он так изучил его, что смог высказать самое беспристрастное суждение о Гёте из всех нам известных: «Гёте необычайно талантлив, поистине гениален и обладает настоящим характером. Наделенный исключительной силой воображения, он говорит обычно только образами и сравнениями. И сам замечает, что всегда выражается ими приблизительно и никогда точно. Однако он надеется, что со временем, став старше, сумеет и думать и выражать свои мысли совсем точно. Он очень бурен в проявлениях своих чувств, однако часто прекрасно владеет собой. Образ мыслей его благороден и лишен предубежденности. Принуждение он ненавидит. Очень любит детей и способен подолгу возиться с ними. У него есть странности, и его манера держаться с окружающими подчас бывает неприятна… К женскому полу он относится с чрезвычайным уважением… Искушениям противится он еще слабо, но стремится утвердить себя в строгих правилах. О некоторых важных материях он говорит лишь с немногими; и не любит нарушать покой окружающих, разбивая их обычные представления о вещах… Скептицизм он ненавидит, стремится к правде… В церковь он не ходит, у причастия не бывает, молится очень редко… Иногда он спокойно относится к некоторым материям, иногда совершенно напротив… Верит в будущую жизнь, в иное, лучшее бытие… Словом, он человек весьма замечательный».
Это письмо — лучший из всех портретов молодого Гёте, оставленных нам его современниками. И так же умно, как о Гёте, пишет Кестнер и о развивающихся событиях. При этом он вынужден быть настороже. Кестнер всегда занят. Гёте всегда свободен. Когда бы ни вернулся Кестнер со службы, он застает молодого человека у своей любимой. «Он любит ее, и хотя он философ и расположен ко мне, он все-таки недоволен, когда прихожу я и когда мне хорошо подле моей невесты. А я, хотя я тоже хорошо отношусь к нему, но мне не нравится, что он остается с глазу на глаз с моей милой, что он занимает ее. Я вынужден уйти. К счастью, возвращается отец. Я ухожу спокойнее».
Все в этом доме восхищает поэта: отец семейства, куча братцев и сестриц — малышей, с ними весело возиться, подростков, с которыми следует держать ухо востро. Лотта вынуждена трудиться с утра до ночи, ибо она не только невеста, она еще и хозяйка дома и мать всем своим многочисленным братцам и сестрицам. Эта идиллия восхищает легко воспламеняющегося и привыкшего к домашнему уюту поэта. Она вселяет в него покой, бодрость, она служит рамкой для будущего его произведения. Впрочем, мещанская ограниченность, царящая в этом доме, лишила роман, переживаемый поэтом, решительно всех опасностей — в той же мере, в какой сообщила очарование роману, впоследствии написанному им.
Любовь поэта становится все более бурной, она близится к своему апогею. Сквозь чувствительный стиль эпохи слышится приближение подлинной катастрофы. В сердце нашего героя происходит борьба между долгом и любовью. Наконец в нем побеждает дружба к жениху любимой, и он отказывается от девушки, жертвует собой. И тут в нем происходит последняя борьба — борьба между жаждой жизни и отвращением к жизни.
Это развитие событий вытекало вовсе не из характера Гёте. Оно определялось всем, что носилось в воздухе, которым дышали молодые люди того времени. Тяга к печальным обстоятельствам, бесконечное цитирование самых меланхолических строк из Оссиана и Шекспира; при этом «каждый думал, что должен быть столь же меланхоличен, как принц Датский, хотя ему никогда не являлся дух и он не должен был мстить за короля-отца». Время, казалось, остановилось, в бездействии спит бюргерство, неудовлетворенные страсти переполняют сердца людей, и они требуют от себя невероятного.
Но хотя старый Гёте объяснял мировой успех своего «Вертера» тем, что он вышел из тех же источников юношеского безумия, которыми питалась и вся эпоха, юный Гёте нисколько не был затронут этим безумием.
Все глубже отдается он своей страсти, все больше привязывается к девушке. Его уже не утешает ее дружба. Для него уже нет наслаждения в отречении. Он мужчина, и он хочет обладать женщиной. Как всегда, он мечтает не столько об обладании, о страсти, сколько о тихой гавани — иначе говоря, о браке. Но девушка воспитана в мещанских предрассудках. Уже четыре года хранит она верность достойному Кестнеру. Она слишком ограниченна, слишком труслива, чтобы ответить на бурную любовь гения, на его клокочущую страсть. Лотта не в силах последовать зову сердца и поставить под угрозу покой отца, честь семьи и собственную судьбу, поэтому она подавляет, в себе свое чувство. Сохраняя самообладание, уверенность, душевное равновесие и веселость, она с большим душевным тактом держит Гёте в должных границах.
В сущности, Лотта не испытывает потрясений. Перед ней не возникает никакой альтернативы. Как все уравновешенные люди, она опирается на доводы привычки и рассудка и, взвесив обстоятельства, не колеблясь, решает в пользу Кестнера. Обо всем этом можно прочесть в дневнике самого Кестнера. Это зеркало умного, прямого и скромного человека, который старательно записывает все, но скрывает глубочайшие свои переживания даже от этих молчаливых страниц.
«13 августа. Вечером признание в поцелуе. (Гёте не появлялся весь день.) Маленькая размолвка с Лоттхен; впрочем, на другой день все забыто.
14-го. Вечером, возвращаясь с прогулки, Гёте зашел к ней во двор. Его встретили равнодушно, он скоро ушел…
15-го. Его послали в Атцбах, отнести абрикосы Рентмейерше. Вернулся около 10 вечера, когда мы сидели у ворот. Цветы были приняты равнодушно, они так и остались лежать на столе. Он почувствовал это, швырнул их прочь, потом стал болтать, делал разные намеки. Потом мы с ним еще гуляли по улице до 12 ночи. Странный получился разговор. Он был раздражен и нес невесть какую чепуху. В конце концов, мы остановились и, прислонившись к облитой лунным светом стене, принялись хохотать.
16-го. Лоттхен отчитала Гёте. Она заявила ему, что он может рассчитывать только на ее дружбу; он побледнел и казался совсем убитым… Вечером Гёте стриг фасоль».
В ближайшие дни то Гёте, то Кестнер ездят в Гессен, избегая встреч друг с другом. Гёте решает бежать, чтобы положить конец этой истории, и… остается. Кестнер все больше восхищается Лоттой, которая с таким тактом умеет держать на расстоянии своего обожателя.
«Он совсем потерял покой, — пишет Кестнер в письме к приятелю. — Я был свидетелем многих удивительных сцен, после которых стал еще больше ценить Лоттхен, да и он, как друг, мне теперь еще дороже. Но обычно мне было жаль его, и в душе моей возникала борьба. Он начинает понимать, что ради собственного покоя ему придется совершить насилие над собой».
Вот оно, самое существенное! Влюбленный никогда не утрачивает контроля над собой. Вернее, он тотчас же обретает его, как только после двух месяцев ухаживания прямо и решительно ставит перед Лоттой вопрос. Одну-единственную ночь проводит она без сна и выбирает не его, а другого. И в тот же час добрый гений уводит Гёте от темного порога.
Нет, если чувства, бушующие в его груди, не разорвали ее на части, значит этого не сделать никакой Лоттхен. Пусть с чудовищным усилием, но Гёте вырывается из оков любви. Он, мужчина, отвергнут любимой, отвергнут ради человека незначительного. Но со всей силой своей демонической природы Гёте утверждает жизнь — он бежит.
Как раз в эти дни Мерк приглашает его навестить общих друзей, живущих на Рейне. Какой прекрасный предлог! Ведь он часто говорил своим друзьям, что в один прекрасный день исчезнет, уедет, не простившись. Нужно только решиться.
Наступает последний вечер. Он сидит вместе с неразлучной парой и ведет спокойный, полный тайного значения разговор. Его затеяла Лотта. Они говорят о смерти, о свидании в загробном мире. Они обещают друг другу, что тот, кто умрет первый, подаст весть живым о том, что делается в том, в ином мире. Все трое обретают полную гармонию. Гёте спокойный, уходит. Он не говорит «прости».
И вдруг, какая перемена! С того самого мгновения, как любимая исчезает для него, с той самой ночи, как он укладывает свой чемодан, все только что пережитое приобретает роковой характер. Позади остался целый отрезок жизни, и, страдая во сто крат сильней, чем прежде, Гёте всем сердцем чувствует неизбежность всего, что произошло, неотвратимость пути, предназначенного ему природой.
До этого вечера все, что окружало девушку, привычная домашняя обстановка, мирный пейзаж, его поклонение, наконец, ее веселый, ровный нрав все заставляло его забыть, что он должен от нее отказаться.
Теперь в записках, которые он пишет на прощание обоим, бушует вырвавшаяся из потрясенного сердца стихия:
«Он уехал, Кестнер, когда вы получите эту записку, — он уехал… Я крепился, но наша беседа меня всего, переворошила. Останься я с вами еще мгновение, и я бы не совладал с собой. Теперь я один, и утром я уезжаю. О, бедная моя голова… Правда, я надеюсь вернуться, но когда, бог весть. Лотта, что я чувствовал, слушая твои речи, ведь я знал, что вижу тебя в последний раз. Нет, не в последний, и все-таки утром я уезжаю. Он уехал. Комната, в которую я уже не вернусь, добрый батюшка, который в последний раз проводил меня. А теперь я один и могу плакать. Я оставляю вас счастливыми и не исчезну из ваших сердец. Я свижусь с вами опять, только не завтра, а это значит — никогда. Скажите моим мальчикам: он уехал. Нет, я не могу больше».
Рано утром:
«Все уложено, Лотта, светает, еще четверть часа. и я уеду. Вы знаете все, знаете, как счастлив я был все эти дни. Теперь я еду к прелестнейшим, милым людям, только почему же уезжаю я от вас? Но это так, это судьба моя, и ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра я уже не смогу сказать того, что так часто говорил в шутку. Будьте радостны всегда, дорогая Лотта. Вы счастливее сотен людей, только не будьте равнодушны. А я, дорогая Лотта, я счастлив оттого, что читаю в ваших глазах, и знаю, вы верите, я никогда не изменюсь. Прощайте, тысячу раз прощайте. Гёте».
Так в третий раз бежит Гёте от любимой, и снова любовь его становится роковой, только когда она уже осталась позади.
Через неделю после своего бегства Гёте сидит в красивой вилле на Рейне. Здесь в роскошной обстановке живут светские, много путешествовавшие люди.
Гёте — гость умной, чувственной, остроумной и впечатлительной женщины. Хозяйка виллы Софи Ларош, бывшая возлюбленная Виланда, совсем недавно стала известна как писательница. Рядом с ней стоит ее дочь, Максимилиана. Ей шестнадцать лет, и она напоминает Лотту. Такое же открытое лицо, такая же светлая кожа, такие же черные-пречерные глаза. Только ростом она чуть пониже. «Какое удивительно приятное ощущение испытываем мы, — скажет впоследствии старый Гёте, — когда в нас начинает шевелиться новая страсть, а старая еще не отзвучала! Так бывает, когда солнце еще не совсем зашло, а на противоположной стороне небосклона уже восходит луна, и мы радуемся при виде сияния обоих небесных светил».
Однако не успел Гёте вернуться во Франкфурт, как он снова погружается в мир Лотты. Во-первых, уже через десять дней после безмолвного прощания он неожиданно встречает Кестнера, кидается ему на шею и «чуть не душит его в объятиях». Не успел Кестнер уехать, как Гёте начинает бомбардировать письмами его и Лотту. Очаровательно-требовательные письма, полные вожделения и отречения, где насмешка перемежается с изъявлениями обожания. Из надежной дали встают здесь и уверения в отречении, и окрашенные чувственностью воспоминания, и беспрерывно, бесконечно, вечно домогается он ее любви, ее воспоминаний о нем. Кажется, самое заветное его желание — навеки остаться в сердце девушки, отвергнувшей его.
«Лотта не видела меня во сне, я очень сержусь на нее за это, я хочу присниться ей нынче ночью, даже если вам этого не хочется… Еще бы, я же был рядом с вами душой и телом! И грезил о вас и днем и ночью…
Молю небо послать мне дни, столь же счастливые, как те, что я прожил в Вецларе, но боги не посылают мне больше таких дней; они умеют наказывать и делать Танталов. А все-таки я надеюсь на свидание, пусть хоть все пойдет кувырком. Но я не хочу увидеть Лотту, прежде чем смогу ей признаться, что влюблен в другую. Лучше бы я не писал вам и дал покой моему воображению. Но вот висит на стене ваш силуэт, а это уж самое худшее из всего, что могло случиться. Лента все еще точно такая же розовая, как была в коляске, только кажется мне, что она чуть-чуть выцвела с тех пор».
Он выпрашивает у нее гребенку, она слишком велика для нее. Он пришлет ей другую, поменьше, ибо «бедные мы чувственные люди… мне бы так хотелось иметь что-нибудь, что вы держали в своих руках, какой-нибудь осязаемый знак…
Думало Лотте больше, чем она обо мне, все три месяца. Но надеюсь со временем избавиться и от этой муки».
Проходит два месяца. Он не в силах выдержать больше. Под предлогом неотложных дел он едет в Вецлар, проводит там несколько дней. И накануне отъезда пишет:
«Я лишил себя поцелуя, в котором она не могла бы мне отказать. Чуть было не пошел к ней сегодня рано утром… Да, Кестнер, мне самое время уехать. Вчера, когда я сидел на кушетке, я только и думал, как бы повеситься, и, право же, достоин быть повешенным за одни мои мысли.
Я и ожидать не мог, что меня примут так мило. Я стал гораздо спокойнее… Да пошлет вам господь такую светлую жизнь, как те несколько дней, что я прожил возле вас».
Как окрепла, как выросла его страсть, как наслаждается он своими страданиями!
Когда ему разрешили в присутствии друга поцеловать подругу, в нем впервые поднялось, правда, еле ощутимо, отвращение к жизни. Но это продолжалось всего лишь минуту.
Покуда Гёте правит телегой жизни, он ощущает в себе энергию. Чем ближе, чем глубже разверзается пропасть, по краю которой проходит почти весь восьмидесятилетний его путь, тем увереннее держит он в руках поводья, подавляя мысль о том, как недостижима даже ближайшая цель путешествия, и спокойно занимается повседневными делами.
Вот и сейчас он становится франкфуртским адвокатом и формально остается им все три долгих года, которые вынужден прожить в родном городе. Двадцать восемь судебных процессов провел Гёте, выступая, главным образом, как защитник по делам франкфуртских евреев. Не очень-то много за четыре года адвокатской деятельности.
Впрочем, Гёте никогда не был сильным оратором, у него не было ни дара убеждения, ни темперамента борца, и, кроме того, он был начисто лишен суетного честолюбия, которое заставляет жаждать молниеносного успеха у окружающих. Словом, у него отсутствовали все качества, необходимые, чтобы стать крупным адвокатом.
Тем не менее, чувство реальности открыло Гёте доступ и к этой профессии. Только педантизм судопроизводства окончательно оттолкнул его от адвокатуры.
Первое выступление Гёте выдержано в поэтическом стиле страстного рапсода, и суд немедленно указывает ему на недопустимость подобного тона. Верный инстинкт Гёте заставил его отбросить качество, которое отличает адвоката от драматурга, то есть объективное отношение к обеим тяжущимся сторонам. Ведя первую защиту, Гёте старается вложить в свое выступление как можно больше страсти. Он защищает интересы сына, оспаривающего право отца на безраздельное владение фабрикой. Речь Гёте выдержана в самом причудливом ритме и занимает на бумаге целых десять страниц.
«О, — восклицает он, — если бы болтливое самомнение могло предопределить суждение мудрого судьи, а мерзкая грубость опрокинуть обоснованную правду!.. Трудно поверить, что противная сторона имела дерзость подать вам подобные документы, порожденные лишь безмерной ненавистью и страстью к подлейшей брани… О, уродливый ублюдок, зачатый в состязании между бесстыднейшей ложью, не знающей удержа ненавистью и наглейшей клеветой!..»
Заслышав такие речи, судьи, которые сидят, погрузившись в чтение сухих документов, с улыбкой качают головами. Адвокат противной стороны категорически отводит остроумную трепотню человека, высокомерие которого запомнилось ему еще с университетской скамьи. Но Гёте распаляется все больше.
Отвечая на реплику истца, он прерывает свою речь драматическим восклицанием: «Я не могу больше произносить свою речь, я не могу грязнить уста свои подобным богохульством… Чего же еще ожидать от такого противника?.. Нужны сверхчеловеческие силы, чтобы заставить прозреть слепорожденного, а держать в узде сумасшедших — дело полиции».
Тут уж и судьи, раздосадованные поэтическими пируэтами, выражают свое недовольство и делают выговор обеим сторонам.
Однако противная сторона справедливо указывает, что перебранку начала не она.
Гёте никогда не действует революционными методами. После первой атаки он быстро отступает на исходные позиции и лишь изредка разбивает деловой стиль своей защитительной речи неожиданными эпиграммами.
От процесса к процессу поведение Гёте выравнивается. Поэт превращается в адвоката. Может, в этом есть заслуга отца?
Элегантный старый юрист, получив титул имперского советника, уже не имеет права заниматься практикой. Однако негласно он многим помогает дружеским советом и, разумеется, весьма часто контролирует работу сына. Когда же сын приобрел писательскую известность, отец решительно и быстро изменил курс своего поведения. Старый честолюбец и человеконенавистник садится за стол, передвигает документы, папки, очки и линейку, покуда все они не принимают параллельное положение, и вместе с секретарем принимается подготавливать дела сыну. Медленно входит он в курс каждого дела, разъясняет молодому адвокату, как именно следует его вести; и тот удивлен — все становится неожиданно легким. Так отец освобождает сыну время, чтобы тот мог отдаться своим фантазиям. А если сыну захочется уехать, он может просто передать все дела отцу или шурину, ибо Корнелия вышла замуж за Шлоссера, тоже юриста.
Гёте начал ревновать сестру сразу же после ее помолвки. Он привык к своей подруге, привык делиться с ней планами, набросками, стихами, письмами, которые он получал, даже ответами, которые он писал. Консервативную часть его души всегда нервируют внешние перемены. Он тотчас же погружается в ипохондрию, сетует, что его бросили одного. И хотя в детстве и юности сестра была лишь его эхом и, быть может, робким союзником в борьбе с отцом, он хочет, чтобы она всегда была здесь, рядом, как только он возвращается домой, как только ему нужно излиться. Нервозность его снова усилилась. Это случается с ним периодически примерно каждые семь лет.
Но в этом году он становится известным. И будь он тщеславен, как бы тешила его слава! Да, «Гёц» прославил имя Гёте. Пьесу ставят и в северной Германии и в Вене. Правда, на сцене она не удержалась, зато как литературное произведение имеет большой успех. Гёте это забавляет. Он всегда добивался похвалы лишь немногих — и вдруг имеет успех у самого широкого круга читателей. «Мне бы хотелось, чтобы Лотта не отнеслась к моей драме равнодушно. Я получил уже много веночков, сплетенных из всяческой зелени и цветов, и даже из цветков итальянских. Я по очереди примерял их и, стоя перед зеркалом, смеялся над собой».
Он и сам пишет рецензии. «Франкфуртские ученые записки», орган литературных бунтарей, печатали критические статьи Гёте еще до того, как вышел «Гёц». Так что свой литературный путь он начал в качестве критика — нет, все-таки в качестве критического поэта или — так утверждает Гердер, как наглый молодой лорд, чудовищно шаркающий петушиными ногами. Ум так и брызжет со страниц гётевских рецензий. В каждой строчке иронических его замечаний звучит злая насмешка, столь излюбленная Мефистофелем, а в проклятьях — бесконечная дерзость молодых. Но чтобы стать действительно критиком, у сумбурного юноши отсутствует почти все. Иногда он воспринимает свою критическую деятельность только как неприятную обязанность. Тогда он сетует, что обречен сгубить лучшие часы жизни, тратя их на рецензии.
Зато каждый день он берет чистый лист бумаги и сегодня, и завтра, и послезавтра, и всегда… И среди всех своих дел и безделья он не устает домогаться девушки, твердя ей, что отказался от нее навсегда.
«Скажите Лотте, что я внушаю себе, будто в силах ее забыть. Но тут меня хватает за горло старый недуг, и мне становится еще хуже, чем было прежде». И тотчас же вслед за этим: «Какая прекрасная была жизнь, с какой радостью я вспоминаю о ней! «Он спрашивает о каждом из ребятишек, которые шумели в доме Лотты, он хочет знать обо всем, что делается в Вецларе. Он хочет знать обо всем, что знает Лотта…
Как вдруг Кестнер сообщает ему потрясающую новость. Один из членов Брауншвейгского посольства покончил с собой из-за несчастной любви. Брауншвейгского? Удивительно! Несколько недель назад стоял еще октябрь — он слышал от посольского секретаря, будто у них застрелился писатель Гуэ. Гёте тогда еще написал: «Я уважаю такие поступки, но оплакиваю человечество… Надеюсь, что никогда не обременю моих друзей подобным известием».
Впрочем, вскоре оказалось, что известие ложное. Гуэ жив. Зато теперь, все правда. Умер Иерузалем. Странный мечтатель, философ, литератор, немного еще и художник, собиратель пейзажной меланхолической живописи. Кажется, сын богатых родителей, образован, независим? И, кажется, у него был роман с женой друга?
«Несчастный, — пишет Гёте в письме, — бедный мальчик. Возвращаясь с прогулки, я увидел его при свете месяца и сказал себе: он влюблен. Лотта, верно, припомнит, я еще улыбнулся тогда. Видит бог, сердце его грызло одиночество. Я знал его целых семь лет, но я мало с ним разговаривал; уезжая, я взял у него книгу; я сохраню ее, и буду помнить о нем до конца моих дней».
Бедный мальчик, одиночество и конец… Вот что почувствовал Гёте, узнав о смерти Иерузалема. Но ведь он и сам живет и жил, как Иерузалем. Его страсть растет все эти семь недель после прощания с Лоттой. В ответ на его просьбу Кестнер присылает ему письмо с подробным описанием печальных обстоятельств. Гёте холодно пишет ему — да, все это очень интересно, он перепишет его письмо, и продолжает:
«Вчера я решил написать Лотте. Но потом я подумал, что она непременно ответит: давайте оставим все как есть. А застрелиться мне, покамест, еще не хочется.
Как вам хорошо и как не самоубийственно — так не может быть никому, кто поднимается по трем каменным ступеням в дом господина амтмана Буфф, я понял по вашему письму».
Но в этом длинном своем письме Кестнер описывал, как был отвергнут Иерузалем, открывший свою любовь жене друга. Назавтра ему отказали от дома, а еще на следующее утро его нашли мертвым. Гёте, сперва, и на ум не пришло сравнивать свою судьбу с судьбой Иерузалема. Потом он все-таки делает это сравнение и, как ни горько ему, не может удержаться от иронии. И свои переживания и переживания другого он воспринимает как поэт. Он должен перелить их в образы.
Но он чувствует, как сильно характер его отличается от характера Иерузалема. В одном из своих эссе Иерузалем писал, что стать рабом жалкой страсти презренно. А вот когда она охватила его, он безропотно пошел к ней в рабство, он покончил с собой. Разумеется, Гёте никогда не пустился бы в своих произведениях в подобные рассуждения, он всегда защищал любое проявление страсти. Но у него и мысли не могло возникнуть о самоубийстве. В те месяцы он всегда клал возле кровати драгоценный кинжал из своей коллекции. «Прежде чем потушить свечу, я всегда пробовал, удастся ли мне погрузить себе в грудь на несколько дюймов острый клинок. Но мне никогда это не удавалось, и, в конце концов, я поднял себя на смех, бросил ипохондрическое кривлянье и решил жить».
Жить? Но как? Куда девались огонь, жажда знаний, тяга к образованию, снедавшая его еще год назад? Он живет уединенно, вдали от общества, ум и чувства его глубоко потрясены. Он совершает далекие одинокие прогулки. У него нет друзей.
Наступает зима. Он молод, ловок, прекрасно выглядит. Он мог бы вести самую светскую жизнь. Но нет! Он наряжает своих приятельниц на карнавал, а сам остается дома.
«Вокруг все пляшут. В Дармштадте я сижу один в моей башне… Странная ждет нас весна. Не представляю себе, как разрешится все, что мы заварили, но продолжаю надеяться, а остальное в дланях богов… Вы жалуетесь на одиночество! Увы, такова участь благородных душ, напрасно вздыхают они по зеркалу, в котором отражено их собственное Я… Священные музы, даруйте мне aurum potabile из чаш ваших, я изнываю! О, как трудно копать колодезь в пустыне и сооружать хижину!.. Предоставляю все на волю Отца моего… Покуда я еще в силах! Но малейший надрыв и крепчайший канат, пусть даже сплетенный из семи волокон, лопнет!»
Некий друг советует ему оставить мрачный город и попробовать устроиться при каком-нибудь дворе. Гёте отрицательно качает головой: «Мои таланты и силы слишком нужны мне самому. Я издавна привык повиноваться только собственному инстинкту, а это не может прийтись по сердцу никакому герцогу. И потом, пока я еще не ощущаю политической субординации».
«Занятие, совершенно лишенное цели и плана», занимает Гёте. Его жизнь и искусство лишены опоры. Кажется, он непрерывно качается на волнах, скептически ожидая чего-то, и с любопытством глядит вперед в полной пассивности — ни дать ни взять, как несчастный влюбленный. «Не думаю, чтобы я так скоро написал что-нибудь имеющее успех у публики. Тем не менее, я работаю, словно водоворот событий сулит мне нечто стоящее», — пишет Гёте, закончив вторую редакцию «Гёца».
«Я все еще не играю никакой роли в жизни и поэтому лучшие часы трачу на то, чтобы зарисовывать собственные фантазии…» — пишет он в другой раз.
Фантазии… Иногда он рисует их карандашом. Бродя за городом, вытаскивает из кармана нож и обращается к нему, как к оракулу. Сейчас он бросит его в ручей. Если нож уйдет в воду — значит, он станет скульптором. Если застрянет в зарослях ивы — не станет. Но предсказание оракула темно и двусмысленно: нож ушел в воду, но ветви ивы не дают ему выплыть. И Гёте рисует черно-белые рисунки по серому полю — профили своих друзей. Но нет, этого мало… Он снова берется за стихи.
Вот один из его рисунков: группа из трех человек — его сестра и ее приятельницы, одеты по-городскому, обычный академический рисунок. Перевернем листок. Вот что там написано:
Какой слабый рисунок и какие пламенные стихи!
Но так зарождается страсть, которая в течение многих лет будет почти его трагедией. Только перешагнув за тридцать, Гёте поймет, наконец, что у него нет таланта к изобразительному искусству. А сейчас он пишет: «У меня замирает сердце. Сегодня я впервые возьму в руки кисть! Не могу выразить, с каким смирением, благоговением, надеждой; вся моя участь зависит от этой минуты». Вот как патетично берется Гёте за искусство живописца. Много лет готовился он к этой минуте — рисовал, гравировал, вырезал силуэты. Но ведь, глядя на белый лист бумаги, который предстояло покрыть буквами, он никогда не дрожал. Почему же он дрожит теперь? Может быть, он бесталанный? Может быть, у него нет дара живописца?
Вовсе нет. Он рисует уверенно, улавливает портретное сходство, владеет колоритом. И, право же, его лучшие живописные работы вовсе не хуже маленьких его водевилей. А все-таки в рисунках его нет настроения, души.
Просыпаясь по ночам, он видит не свои рисунки, нет! В голове у него теснятся стихи. Тогда он бросается к конторке и, повинуясь вдохновению, пишет строки наискось, через весь лист бумаги. А иногда сочиняет и на рассвете, только-только очнувшись от сна. «Достаточно было любого повода сколько-нибудь необычного, и я был готов сочинять».
В один прекрасный день в руки ему попадает журнал Виланда «Немецкий Меркурий». Здесь напечатана статья самого издателя, который берет под защиту свою комедию «Альцесту» и утверждает, что она выше Еврипидовой. Статья пробуждает иронию Гёте. Он садится за бутылку бургундского и пишет весь день с такой быстротой, что персонажей успевает обозначить одними лишь буквами. Так рождается сатира «Боги, герои и Виланд». Разве он ненавидит Виланда? Нисколько! Он так прислушивается к мнению литературного Папы предыдущего поколения, поколения, против которого борется, что даже заключил пари с друзьями, как выступит Виланд «за» или «против» «Гёца». Его задела только манера, с которой Виланд обращается с эллинскими богами, и он берет под защиту Еврипида. «Боги, герои и Виланд» — гениальнейшая сатира Гёте. Он кусается здесь, но добродушно. В великолепном образе Фавна он пародирует не только Виланда, а всех поэтов того направления, которое современники окрестили «Буря и натиск»; пародирует он и Руссо и его «естественное состояние». Но как все, что пишет сейчас Гёте, это еще только забава, попытка, это все еще не настоящее произведение искусства. Он и сам упоминает о нем мельком. Это только игра, которой он занимается иногда из упрямства, иногда в насмешку. Он хочет умилостивить Эрота, который, он чувствует это, все еще парит над ним.
А время идет. Свадьба Лотты приближается. Служебные обязанности призывают Кестнера в Ганновер. Нервозность Гёте достигает предела. Кажется, он всеми помыслами следует за влюбленными. И кажется, что все его эротическое возбуждение должно, наконец, разрешиться кризисом. Письма его в эти недели не похожи на все другие, писанные им в юности. Нет, он не приедет на свадьбу. Он хочет быть как можно дальше от них физически и как можно ближе духовно. Он теряет всякий масштаб в оценке их отношений. Он видит только себя и не видит все возрастающей тревоги жениха и невесты. Лихорадочно следит он за малейшим душевным движением влюбленных, словно страшась, как бы они не вытеснили его из своего союза, и предъявляет к ним бесконечные требования. Покуда идут приготовления к свадьбе, он приказывает брату Лотты сообщать ему изо дня в день обо всем, что делается у них в доме, дабы «подготовиться к тому дню, когда из кольца их похитят самый драгоценный камень. Ибо ради нее я буду любить всех вас всю мою жизнь, и ваши лица будут казаться мне ликами божества».
Но почему жених и невеста не разрешают ему купить обручальные кольца? Он все-таки заказывает для них эти кольца. «Я ваш, — пишет он, — но отныне я не хочу видеть ни вас, ни Лотту. Силуэт Лотты в день вашей свадьбы я уберу из своей комнаты и повешу его опять, только когда узнаю, что ей пришло время родить. Но тут начнется совсем новая эпоха: я буду любить не ее, а ее детей, немножко, правда, и ради нее, но это не имеет значения. Вы не приедете во Франкфурт, и я рад. Если бы вы приехали, я бы уехал».
Но влюбленные неожиданно сообщают ему, что они уже повенчались, и плененный гений испускает стон жгучей тоски по земному счастью: «В страстную пятницу я решил схоронить плащаницу, предать погребению силуэт Лотты. Но он все же остался в моей комнате и останется со мной до моей смерти. Я брожу по безводной пустыне, власы мои — тень моя, и кровь моя — мой колодезь. Меня радует корабль ваш, украшенный пестрыми флагами и звучащий кликами ликования, который вошел в гавань… Да, под небесами и над небесами Господа бога нашего я друг ваш и Лотты». Он без устали рисует себе радости своего соперника и в антично-наивной манере описывает их ему:
«Итак, господин Кестнер и мадам Кестнер, спокойной ночи!
Вы поглядите только, ложе мое бесплодно, как песчаная пустыня. Уйти от Лотты! Я все еще не понимаю, как это было возможно! Нет, скажите, что это — героизм или что-нибудь другое? Я и доволен собой, и недоволен. Мне это было не трудно, но все же не понимаю, как это было возможно… Видно, наш господь бог — прехладнокровный господин, раз он может оставить вам Лотту… Не знаю, почему я, дурак, так много пишу вам именно в ту самую минуту, когда вы у вашей Лотты и, конечно, не думаете обо мне. Но я охотно смиряюсь, согласно закону антипатии, по которому мы бежим от тех, кто любит нас, и любим тех, кто бежит от нас…»
Как дрожит в нем каждый нерв в эти свадебные дни, через семь месяцев после разлуки! Письмо написано не так, как другие его письма; оно написано дрожащим почерком, неряшливо, вкось. И еще, через несколько дней: «Нет, вы строите мне насмешливую гримасу и ложитесь рядом со своей женой, и вот это уж я считаю скверным… Называть меня завистником!.. О Кестнер, когда же я завидовал тому, что вы обладаете Лоттой в человеческом смысле, ибо, чтобы не завидовать вам в божественном смысле, я должен быть ангелом без легких и печени. Так вот, говорю я вам, если вам придет в голову ревновать ко мне, то я оставляю за собой право вывести вас на сцене, и над вами будут смеяться и евреи и христиане… Я ношу на моей шляпе цветы из подвенечного букета Лотты… Милый Кестнер, ты всю жизнь будешь держать в руке своей рог изобилия, и да пошлет тебе бог всяческих радостей. Я же, бедняк, взираю на пустынную скалу».
В эти дни Гёте весь трепещет от напряжения. Ему непрестанно мерещится любимая женщина в объятиях другого.
Но проходит три недели. Ему уже легче дышится, голос его звучит бодрее: «Мой добрый дух наделил меня сердцем, способным вынести все… Я спокоен, как никогда… Много работаю и весел. Одиночество мне на пользу». Наступает лето. Иногда еще он грезит о ней. «Вот так я грежу, — пишет он ей, — и, спотыкаясь, бреду по жизни, веду мерзкие судебные процессы, пишу драмы и романы и тому подобное». К осени он посылает ей пеньюар. Верно, он ей скоро понадобится. Чем ближе ее роды, тем дружественнее становится его тон. В канун Нового года он пишет одной из своих приятельниц: «За последние три-четыре месяца я поженил не то две, не то три пары, и никто еще не сообщил мне, что собирается разродиться».
И вот в то самое время, когда над водоворотом погибшей страсти, наконец, смыкается водная гладь, на горизонте появляется новый корабль под пестрым флагом.
Быть может, одинокий подсознательно позволяет прежней страсти погрузиться в глубину, ибо предчувствует приближение новой. Та самая девушка, которая приглянулась Гёте во время его бегства из Вецлара, ровно через год приезжает во Франкфурт. Но теперь она уже очаровательная женщина, да к тому же еще женщина непонятая.
А как раз в эти дни, прервав свою аскезу, которую он так долго соблюдал, храня память о Лотте, Гёте посвятил эротикон некоей безвестной Кристель и встречает семнадцатилетнюю Максу Ларош, охваченный тем предвкушением, на которое имеет право молодой человек, обладающий именем и занимающий определенное положение.
«Ее суженый производит впечатление человека, с которым можно ужиться и приумножить количество милых, но отнюдь не духовных существ. И поэтому я чрезвычайно занят тем, как бы изобрести что-нибудь более хорошее, славное и приятное, чем до сих пор. Я хорошо настроен, предвижу много неожиданностей, и уже несколько раз совсем готов был влюбиться. От чего да сохранит меня бог!»
Все готово в его душе. И нет ничего удивительного в том, что красивая, страстная женщина, только что ставшая женой пожилого коммерсанта и мачехой его детей, попав в мрачный дом франкфуртских патрициев, почувствовала разочарование. Она, конечно, здесь скучает. Проходит две недели, она неожиданно встречается с Гёте, и тот называет эту встречу «счастьем своей жизни». Впрочем, он подразумевает под этим не столько молодую женщину, сколько свое чувство к ней.
Супруг, господин Брентано, у которого, сперва, очевидно, нет повода для ревности, кажется ему человеком достойным, характером сильным и необычайно деятельным руководителем своего большого предприятия.
Впрочем, Мефистофель куда лучше знает, как именно обстоят дела.
«Гёте уже друг дома», — пишет Мерк своей жене.
Эта страсть Гёте была пылкой и короткой. Он вернул ей ее письма, а она, вероятно, вынуждена была уничтожить их. Сохранился только недописанный уголок одного письма. «Находясь в таком настроении, я могу долго глядеть на волосы, — пишет он, глядя на ее черный локон, — и предаваться своим фантазиям; и мне кажется, что они являются частью того, над чем я не властен, ибо некто из многих, живущих рядом с нами, приобрел их в свою собственность… Заступ вгрызается в землю и извлекает на свет божий все, что уже принадлежало мраку. И да не откажут нам в благословении. Вот и все счастье, которое я могу вам пожелать. И пусть бы я был счастлив, как вы…» Подобно таинственному пламени, полыхает в этом отрывке короткая его любовь, овеянная чувственным, тяжелым земным волнением. «Сегодня был жестокий мороз. Все прорвалось, все трещало, и выгибалось, и извивалось, и господин рыцарь вел себя, как свинья».
Проходит всего несколько недель, и все уже кончено. Вне себя от огорчения пишет госпожа Ларош о браке своей дочери.
Злобно подтрунивает Гёте над острым носом хозяина дома, так быстро обманувшемся в своей любви.
Чета Брентано приехала во Франкфурт в начале года, а в феврале супруг уже отказал доктору Гёте от дома. Гёте пытается сообщить об этом госпоже Ларош, объясняя все обычным светским недоразумением. Но он понимает, что мать его союзница, и поэтому делает ей признание, которого уже не может сделать дочери: «Я не могу забыть вашей Макс. Покуда я жив, я буду любить ее всегда».
Мать приезжает во Франкфурт; она приглашает к себе Гёте. Он гневно пишет в ответ: «Если бы вы знали, что я пережил, прежде чем оставить этот дом, вы не пытались бы заманить меня обратно, дорогая мама. В эти страшные минуты я настрадался на все будущие времена. Теперь я спокоен, и не лишайте меня моего покоя!» Они живут в одном городе, их разделяют только несколько улиц, но в этих двух записках — в той, в которой его приглашают, и в той, в которой он отказывается прийти, — слышны отдаленные раскаты страсти, потрясшей самые глубины его существа.
Разве эта маленькая женщина не третья, от которой Гёте вынужден отказаться, когда сердце его охвачено пламенем? Разве не бежит он каждый раз ради женщины, чтобы оберечь ее судьбу, безопасность, покой? Встречаясь с женщинами, юный Гёте отдается им весь, без оглядки. Но всегда в разгар самозабвенной страсти он бежит от любимой, чтобы спасти ее. Ее, но и себя тоже.
Ибо за этими женщинами, которыми он жаждет обладать — не на мгновение, нет, навсегда, на всю жизнь, — невидимо стоит на страже его добрый гений и, отгоняя злого демона, не дает Гёте измельчать в наслаждениях. Теперь, когда он снова пылает, когда его снова, на этот раз грубо, выгоняют из дома любимой, теперь, когда он, как беглец, снова возвращается в мансарду отчего дома, — теперь он вдруг вспоминает свою последнюю разлуку и начинает понимать, что он ушел вовсе не только потому, что повиновался решению любимой.
«По-другому, вот как сейчас на душе у меня, было, верно, на душе у молодого дипломата, у брауншвейгского философа, когда супруг любимой выгнал его из ее дома. Разве не застрелился он в ту же ночь? Иерузалем! Сегодня я понимаю тебя, я могу описать все, что делалось у тебя на душе. Описать! Разве не лежат вот там белые листы бумаги, год за годом впитывавшие в себя восторги и страдания моей души?»
Гёте садится к столу и без всякого плана, без единого наброска пишет «Страдания юного Вертера». Книга, которую он начал, словно лунатик, во сне, уединившись от всего света, закончена ровно через месяц, ибо не успел Гёте написать первое письмо Вертера, как он весь превратился в творческую волю.
Уже в самый разгар работы он пишет другу: «Мне и в голову не приходило сделать из этого сюжета что либо цельное». Но тотчас же пишет другому: «История милого юноши… В придачу к его страданиям я дал ему взаймы и мои собственные, и все вместе составило удивительное целое».
Непосредственно пережитое, поразительная свежесть делают для нас «Вертера» живым даже сегодня, когда давно умерли настроения его эпохи. Искусство Гёте кажется еще более замечательным благодаря приему, к которому он прибег. Очевидно, создавая свой роман, он взял у Мерка все письма, которые писал ему из Вецлара, и использовал их для своей книги. Это тем более вероятно, что в те времена письма писались и хранились, как литературные произведения, и роман в письмах только-только начал входить в моду.
Сходство между письмами Гёте и Вертера столь велико, даже в датировке, даже в расстановке знаков препинания, что, хотя роман написан через полтора года после разлуки Гёте с Лоттой и смерти Иерузалема, — долгое время спустя после пережитой страсти и в самый разгар новой, — мы смело можем принять душевное состояние Вертера, изображенное в первой части романа, за душевное состояние самого Гёте. Никогда раньше не изливал Гёте свои чувства, кроме как в коротких песнях. Сейчас он впервые и до конца раскрывает себя в большом произведении, где все его переживания растворяются в природе, а природа показана, как зеркало человеческого сердца.
Создавая «Вертера», Гёте перечитал и свои письма Кестнеру и письма Кестнера к себе, а из письма смерти Иерузалема он включил в роман целые куски.
Приближается день выхода из печати романа. У писателя становится все тревожнее на душе. «Скоро я пришлю вам друга, очень похожего на меня, и надеюсь, что вы хорошо его примете. Его зовут Вертер, и он есть, и был, — впрочем, он вам все объяснит сам!»
Прошло уже больше двух лет с тех пор, как Гёте простился с любимой. Теперь, помолодевший, поздоровевший, посылает он ей свою книгу. «Этот экземпляр так дорог мне, словно он единственный в целом свете. Прими его, Лотта, я покрыл его бессчетными поцелуями и запечатал, чтобы никто не мог к нему прикоснуться. О Лотта!» Только он забыл вложить в книжку записочку: «В Хурли, где я сейчас живу, шумит и орет ярмарка. У меня в гостях друзья. Прошлое и настоящее смешалось самым удивительным образом. Что же со мной станется? Любите живого и чтите мертвого».
Как далеко уже его сердце!
И вдруг Гёте поражает нежданный удар. Кестнер оскорблен, и, поскольку он сравнивает себя с Альбертом, совершенно справедливо. Но он оскорблен и за Лотту. Ограниченность Кестнера проявилась сразу и полностью. И право, нельзя ставить это ему в вину. Сенсация, которую вызвала книга, сулит множество неудобств автору.
Как поступит Гёте? Первые молнии неслыханной славы уже осветили отцовский дом, проникли в скромную комнату поэта.
Неужели он не крикнет приятелю: «Ты ничего не понимаешь, ведь это вопросы искусства!»
Нет, он молит, объясняет, обольщает: «Я остаюсь вечным должником вашим и детей ваших за скверные часы, которые вам доставил мой — называйте его как хотите. Прошу вас, будьте терпеливы… И когда вами овладевает недовольство, помните, что старый Гёте, ваш Гёте, всегда, вечно, и сейчас больше, чем когда бы то ни было, ваш!»
Кестнер готов примириться, и перо Гёте в дикой спешке снова бежит по бумаге: «Спасибо! О, если бы я мог кинуться тебе на шею, броситься к Лоттиным ногам!.. О вы, неверующие… О, если бы вы почувствовали хоть сотую долю того, чем является Вертер для тысяч сердец! Вы бы не стали подсчитывать причиненные вам убытки. Пожми от меня как можно нежнее руку Лотте и скажи ей, что тысячи уст с благоговением произносят ее имя; и право же, это достаточное вознаграждение за все страхи, которые она испытывает. Если вы будете хорошими и не станете терзать меня, я пришлю вам все письма, которые я получаю, сплошные стоны о Вертере… Лотта! Будь здорова, Кестнер! Любите меня и не терзайте меня!..»
Так он пишет, по-прежнему нежно поклоняясь. Но поклоняясь уже из далекой дали, летя вперед и вперед, и взмах демонических крыльев стремит его к новой любви.
Друзья о Вертере. — Клопшток. — Суждения о Гёте. — «Клавиго». — Спиноза. Великое одиночество. — «Эрвин и Эльмира». — «Пра-Фауст». — Гретхен, Мефистофель, Фауст. — Дружба с Лафатером. Физиономистика. — Дом Гете во Франкфурте. — Лили Шенеман. — Светская жизнь. Письма к графине Штольберг. — Помолвка. — «Стелла». — «Клодина де Вилла Белла». — Разрыв. — Четвертое бегство. Поездка в Швейцарию. — Возвращение с Сен-Готарда. — Встреча с Карлом Августом. — Кнебель. — Первые сцены «Эгмонта». — Отъезд в Веймар.
Если бы можно было продолжить цитату, мы бы окончательно убедились, что какой-то циничный пошляк ворвался в чувствительный мир Вертера, чтобы разорвать его сумеречные покровы. Разве не удивительно, что бюргер сочиняет такие простонародные стихи и в них от имени всех так называемых «здоровых» протестует против слезливой вертеровской действительности? И, тем не менее, это стихи Гете, вставленные в сумасшедший оркестр из «Свадьбы Гансвурста». Стихи, которые он вычеркнул впоследствии, но которые необходимы нам как документ. Именно в них яснее, чем где бы то ни было, чувствуем мы гигантский контрудар, нанесенный полярной душой Гёте после того, как был написан «Вертер». В раблезианских образах воплощает он свою гигантскую волю к жизни, обращенную против хилого отрицания жизни.
В период своей чистой любви Гёте с такой полнотой, с такой силой фантазии отдавался наслаждению отречения. Теперь жизненные силы, которые юноша подавлял в себе целый год, неизбежно должны вырваться наружу. Его пассивность уже истощила себя.
Но, кроме всего прочего, ему нужна разрядка после впечатления, произведенного «Вертером». Двадцатипятилетний писатель с удивлением и страхом видит успех, к которому он вовсе не стремился, успех, который никогда больше не выпадет на его долю. В часы скептического раздумья Гёте прекрасно понимает, что не столько его исповедь, сколько то, что она появилась после сенсационного для Германии происшествия, после таинственного самоубийства молодого немецкого дипломата, привело к такой невероятной славе. А поэтому ему важно лишь то, что говорят друзья. «Как поживает Фриц? (Якоби). Есть ли у него «Вертер»? Мне не хочется писать ему и посылать «Вертера», боюсь поставить его в неловкое положение, если он уже есть у него».
Сейчас трудно вынести все, что писали друзья о собственных впечатлениях и о впечатлениях своих друзей после прочтения «Вертера». Они «потрясены, они вне себя… Лицо его пылало, глаза были полны слез, грудь его вздымалась… Сегодня ночью я видел тебя во сне, и жена моя слышала, как я рыдал в твоих объятиях… Если бы только я мог быть с тобой всегда, ежедневно, есть с тобой с одной тарелки, пить из одного бокала, спать рядом на соломе, ибо ты единственный…»
Для большинства европейцев Гёте в течение полувека был и остался поэтом Вертера. В романе выражено настроение эпохи, которое у самого Гёте миновало чрезвычайно быстро. «Вертер» оказался столь же полезен для его автора, сколь вреден для окружающих. Все решительно надевают синий фрак и желтый жилет, все без конца плачут, и весьма многие кончают с собой. Не успела книга появиться, как ее тут же запретили в Лейпциге, и каждый хранящий ее подвергался штрафу в размере десяти талеров.
В Германии одно за другим вышло шестнадцать изданий «Вертера», во Франции — еще больше, книга проникла даже в Китай. Ее переделывают в пьесы, под нее пишут подделки, выпускают подражания и пародии. Впрочем, при виде пародий Гёте уподобляется странствующему певцу, который дает высмеивать свои авантюры, но не песни. Когда писатель Николаи в своих «Радостях юного Вертера» описал неудачную попытку героя застрелиться из пистолета, заряженного куриной кровью, и воспоследовавшую за этим свадьбу Вертера и Шарлотты, Гёте сначала любуется изящными виньетками в книге, вырезает их и в тот же вечер преспокойно садится за свою музыкальную комедию. Но забыть насмешку он не может и выражает свое возмущение в трех стихотворениях, во многих письмах и, наконец, пишет пародию на эту пародию.
Даже много лет спустя Гёте приходит в ярость, заслышав о Николаи, и заявляет, что в жизни не напечатает больше ни строчки. «Я сыт по горло эксгумацией и вскрытием трупа моего бедного Вертера. Куда ни войду, повсюду натыкаюсь на берлинскую сволочь. Кто хвалит, кто ругает, кто говорит, что книга все-таки ничего, а меня травят и те и другие». Шум, поднятый вокруг Вертера, убивает не только радость. Он заставляет Гёте увидеть истинную подоплеку славы. Пусть писатель вложил в это произведение самые тайные, самые интимные мысли и чувства. Но не успел он бросить его свету, как этот свет со всей страстью и со всей бестактностью желает узнать только одно: что из описанного в романе случилось на самом деле. «Любознательная публика сумела открыть сходство героини с самыми разными девицами; впрочем, и дамы не остались безразличны к тому, кого из них сочтут подлинной Лоттой. Это множество Лотт доставило мне невообразимые мучения, ибо всякий, кто только завидит меня, непременно желает узнать, где живет настоящая…»
Но столь добродушно Гёте говорит уже в старости. Тогда, в молодости, он так раздражен, что один его знакомец предупреждает в письме приятеля: пусть тот не упоминает при Гёте о Николаи, не то он бросится на него и растерзает, как лев.
Гёте всегда черпает свои произведения непосредственно из жизни, и ему приходится стирать из них ее следы. Через несколько лет он предпошлет своему роману стихи. В них он просит читателей не следовать примеру Вертера. Но проходит еще целая человеческая жизнь, и уже в совсем другом настроении вспоминает Гёте своего Вертера. И когда некий лорд упрекнет его в том, что роман повлек за собой смерть многих юношей, престарелый Гёте холодно и гордо ответит: «Жертвами вашей системы погибли тысячи, почему же несколько человек не могли стать жертвами моей?»
Удивительное взаимодействие между творчеством и жизнью Гёте раньше всех понял Мерк и очень остро сформулировал свое наблюдение. «Твоя прямая задача, — сказал он, — давать поэтическое обличье действительности, тогда как другие стараются воплотить в жизнь так называемую поэзию».
Но сейчас, после выхода «Вертера», Гёте вынужден вкусить последствия мирового успеха.
Несмотря на Огорчения, которые доставило ему любопытство окружающих, несмотря на недовольство, вызываемое аплодисментами у человека, презирающего внешний успех, перед Гёте встает видение Славы. В гуле, с которым проносится по миру его мелодичное имя, ему слышится и высокое его признание. Впервые, в недосягаемой дали и в осязаемой близости, встает перед ним его судьба. Преклонение обрушивается на него лавиной. Только в марте он с полным душевным спокойствием отложил перо.
Книга вышла осенью. И он пишет почти что в экстазе: «Вертер должен, должен существовать. Даже для спасения собственной жизни я не вверг бы его снова в небытие!»
Наконец-то уверенность! Он гордо отвечает своим хулителям. Его мнением интересуется сам Виланд. И когда во время одного путешествия друзья шутки ради выдают какого-то юношу из их компании за Гёте, окружающие с глубоким уважением обращаются к самозванцу. «Даже Эйнбек, город, где сроду никто ничего не читал, с быстротой пламени облетела весть о том, что сюда прибыл Гёте».
А Гёте уже предлагает берлинскому издателю свое новое произведение. Правда, сообщает он ему только заглавие. Какой каприз, говорит издатель, странно покупать кота в мешке! Тем не менее, не колеблясь, он решается на эту странность.
Да, Гёте уже может позволить себе капризы.
Он начинает публичный доклад о Цезаре словами: «Я не в настроении говорить сегодня о Цезаре», и, встречаясь с самыми знаменитыми писателями старшего поколения, держит себя с ними, как равный. «Почему бы мне не написать Клопштоку (самому знаменитому из всех)? — думает Гёте. — Почему не обратиться к живому? Ведь к могиле умершего я, конечно, совершил бы паломничество». Но маэстро сам посещает молодого поэта.
Так велика его слава, что уже теперь он пользуется репутацией человека, вооруженного универсальными знаниями. Между тем это решительное преувеличение. Для того чтобы приобрести эти знания, ему понадобится еще целая жизнь.
«Ему двадцать четыре года, — пишет некий современник. — Он хороший юрист, адвокат, читатель и знаток древних, в особенности греков, поэт, ортодокс, антиортодокс, балагур, музыкант, изумительно рисует, гравирует по меди, льет из гипса, режет по дереву — словом, он великий гений, но ужасный человек». Женщины судят о нем еще экзальтированней, и родной город так кишит небылицами, что Мерк берется составить книгу из одних сплетен о Гёте, которые каждый сообщает ему по секрету.
К Гёте обращаются за помощью нуждающиеся, у него занимают деньги проходимцы; он сам остается без гроша. И, осиянный этой славой, с раздражением отказывается от жалких норм поведения, принятых в повседневном быту.
В своем фарсе он заставляет окружающих потребовать от Гансвурста, чтобы тот хоть прикинулся нравственным. Так наступает двадцать шестой, решающий год в его жизни.
Крупнейшие физиономисты эпохи, внимательно изучив черты его лица, дали описание умственного и душевного состояния, в котором находился молодой Гёте. Как раз в эту пору художник Шмоль дважды писал его портрет, и перед одним из них в восторге остановился знаменитый физиономист Лафатер.
«Его разум, — с восторгом писал Лафатер, — всегда пронизан теплым чувством, а чувство всегда ярко освещено разумом. Обратите внимание на форму этого теплого лба, на этот быстрый, пронзительный, влюбленный и подвижный глаз, не очень глубоко сидящий под чуть изогнутыми веками, на выразительный нос, на этот, в сущности, столь поэтический переход к верхней губе, на мужественный подбородок и открытое крепкое ухо. Да найдется ли человек, который не видел бы, что это лицо гения!»
Но еще большее значение имеет критическое суждение другого физиономиста, Циммермана, который сказал, что видит «лучший портрет Гёте, ибо в нем передан всеохватывающий и всепроникающий орлиный взор, прекрасный, благородный и изящный нос, иронический и чувственный рот, хитрость и неверность во взгляде».
Никогда еще растерзанная противоречиями природа Гёте не проявляется с такой силой, как в этот двадцать шестой его год, когда великие полярности характера приходят в резкое столкновение друг с другом и гений поэта вступает в битву жизни.
Чувственный и сверхчувственный, аморалист и спинозист, эгоцентрик, способный на величайшие самопожертвования, Гёте то блистательно общителен, то грубо требует уединения.
Верующий и циничный, друг человечества и мизантроп, гордый и добродушный, терпеливый и вспыльчивый, чувствительный и порочный — таков сейчас Гёте. Он живет, погруженный в созерцание чистой формы, и, однако, жаждет деятельности.
Холодно и объективно созерцает он окружающее и помешан на себе. Он беспредельно мужествен и крайне женствен. Бесприютный странник пассивно отдается течению обстоятельств, но воля к жизни заставляет его жаждать меры и формы.
Лишь очень немногим известна двойственность Гёте. Письма современников, написанные в те годы, делают еще выразительнее его портрет:
«Ты бы обожал д-ра Гёте. Это самый ужасный и самый очаровательный человек» (Лафатер).
«Он весь сила, впечатлительность, воображение и, поэтому, действует, сам не зная как и почему, словно река, которая уносит его за собой!» (Лафатер).
«Как часто видел я его то размягченным, то беснующимся, и все на протяжении только четверти часа» (Штольберг).
«Удивительнейшая голова! Но я не хотел бы жить в городе, в котором треть жителей придерживается тех же мыслей, что он» (Дайнет).
«Гёте для меня слишком сильная личность. Вы правы, он женствен, но если в ближайшие годы он не сломается окончательно, мы непременно с ним сойдемся. Деятельный дух, который постиг слишком многое или которому уже нечего больше постичь, всегда обречен на гибель» (Шлоссер).
«Все только от любви», — говорит Гёте. Но все видевшие его знают, что он скрывает под очарованием твердость духа, а под любезностью сосредоточенность одиноких часов» (Циммерман).
«Он способен перевоплощаться в любых людей, находящихся в любых ситуациях, и тогда он излагает не свои, а чужие мнения. Мы боимся, чтоб его не испепелил собственный огонь» (Пассаван).
«Гёте живет, постоянно охваченный внутренней усобицей и мятежом; на него все оказывает впечатление необычайное. Создавать себе врагов, спорить с ними — потребность его души… С особо высоким уважением он говорил мне о тех людях, против которых выступал» (Кнебель).
«Гёте одержимый, он почти не в состоянии действовать по собственной воле… Было бы в высшей степени странно требовать от него, чтобы он думал и поступал по-другому…» (Якоби).
В этот период возникают самые великие замыслы и решения в творчестве и в жизни Гёте. Полярная его природа выступает в самых резких своих противоречиях. Гений и Демон Гёте вступают в борьбу.
«…Пусть бог или черт… мне все равно… ибо он брат мой. И поэтому во всем твоем существе я всегда ощущаю вечного брата, человека, бога, червя или шута», — так излагает он в пьесе «Клавиго» мораль исключительности, которой следует гений. Зато в «Пра-Фаусте» (его он пишет в течение последних двух лет, во Франкфурте) Гёте со всей силой изобразил борьбу совести. Это время, когда он начинает преклоняться перед самым нравственным изо всех известных ему философов — перед Спинозой. Он открыл его, как бы следуя закону противоположностей, ибо «…все примиряющее спокойствие Спинозы абсолютно контрастировало с моим стремлением к постоянному беспокойству…
…Именно упорядоченная система, управлявшая его действиями, которая, как полагали, не соответствовала нравственным объектам, сделала меня пламенным его учеником».
Но, сделав это признание, Гёте тотчас пишет в альбом изречение Шефтсбери: «Наиболее простой способ стать глупцом — стать им с помощью системы».
Впрочем, обращаясь к Спинозе, он обращается не столько к системе, сколько к человеку, который создал систему. Интерес его приковывают к себе личные качества Спинозы, его переписка, его манера обращаться с домочадцами, его умение оттягать наследство, его походная кровать, его слава государственного деятеля.
В центр всего Гёте ставит личность и требует от нее действий. Его друг Лафатер жалуется ему на некоего чиновника. Гёте тотчас же загорается. Он желает, чтобы Лафатер, не скромничая, описал ему все обстоятельства, дабы «я мог измерить тебя твоими делами. Такое дело стоит сотни книг, и если бы для меня вернулись прежние времена, я бы примирился с целым светом. Опиши мне все как есть, заклинаю тебя!» Гёте жаждет движения, активности: «Я не ленив и, покуда живу на земле, обрабатываю свой клочок земли каждодневно». Кое-что из этих настроений звучит в его сатирах и в критических статьях. Но бывают часы, когда он презирает свои статьи, как суррогат творчества, и восклицает: «Зачем судят нас по нашим творениям?.. Разве то, чем мы мараем бумагу, когда пишем или печатаемся, разве это наши плоды?» Стремление творить добро, заставляет нашего аморалиста быть внимательным к детям, к друзьям, даже к незнакомым. Он посылает книги братьям Лотты. Его долго огорчает размолвка с ее младшей сестренкой. Какому-то малышу дарит он новенький хеллер, какому-то музыканту пытается подыскать текст для музыки и добиться исполнения его произведений. Он дает возможность поэту Клингеру получить образование, заставляет его принять помощь, содержит его целый год.
Поступает он так вовсе не из чистой любви к человечеству. Ему гораздо более свойственны презрение и насмешка. Стремление найти дружбу и понимание в окружающих всегда борется в Гёте с нервической жаждой одиночества. Только этим объясняется и его тяга к друзьям и внезапное отталкивание от них, смена веселости и меланхолии. Встречаясь с самыми различными людьми, он всегда благороден, всепонимающ, терпелив. Но горе тому, кто вздумает высказать свое мнение и выступит — против его непогрешимых книг.
Нередко он собирает в своей комнате немногих верных друзей, устраивает поэтические пирушки. Они читают друг другу стихи, изливают сердце, мечтают. Во время поездки по Рейну, которую он совершает тотчас после выхода «Вертера», он буйно веселится. На одном светском приеме, не в силах усидеть на месте, он величает себя «дитятей мира», танцует вокруг столов, строит гримасы, бахвалится королевскими почестями, с которыми его встречают в избранном кругу. Но это не безоблачная, а какая-то бесовская веселость. «Бывая в обществе, — признается Гёте, — мы вынимаем ключ из нашего сердца и суем его в карман. А те, кто вынимает его оттуда, те просто дураки… Я бы многое сказал тебе, ежели бы ты не показывал мои послания всем, кому попало. А я не терплю, когда открывают мою сущность человеку, которому я не открыл бы и десятой доли того, что в них написано». Он и приглашение вступить в масонскую ложу отклоняет из того же «чувства независимости». Даже в своих воспоминаниях Гёте говорит: «Люди, полагавшие на основании моих сочинений, что я любезен, всегда разочаровывались, увидя человека холодного и отталкивающего».
Народ в массе ему чужд. Но люди из народа, с которыми он случайно сталкивается, ему всегда милы. Подслушав разговор своей матери с крестьянкой, он записывает пластические выражения деревенской речи и даже переносит их потом в новую записную книжку, в которой собирает народные выражения. «Лучшие люди встречаются только среди народа!» записывает Гёте в этой же книжечке. Он убедился в этом еще раз, когда принимал деятельное участие в тушении пожара, вспыхнувшего на Еврейской улице. Зато, попав в ярмарочную сутолоку, он тотчас вспоминает слова Аристотеля: «Толпа достойна умереть прежде, чем она родилась».
Впрочем, другой раз Гёте говорит: «Можете ли вы обвинять толпу за то, что она восстает, не желая, чтобы ее ворошили, теснили, отпихивали те, кто не имеет на нее никакого влияния?»
В этих словах предвосхищена позиция Гёте по отношению к революции, которую он займет через двадцать лет. Он любит народ как идею, он изучает в нем отдельного человека. Толпу он не любит и презирает.
«Я лежал, уйдя в себя и без конца вопрошая свою душу, достаточно ли во мне сил перенести все, что железная судьба предуготовила в будущем мне и моим близким? Найду ли я скалу, чтобы построить на ней крепость, куда в случае нужды смогу укрыться со всем моим имуществом?» — так пишет поэт своей подруге.
Не случайно этот юноша, прославленный, избалованный, богатый, стоящий в преддверии блестящего будущего, обращается к образу Вечного жида. В своей короткой музыкальной комедии «Эрвин и Эльмира» он заставляет бедного нежного Эрвина произнести вдруг следующие слова:
Так под спокойной поверхностью бушует стихия.
«Вы спрашиваете, счастлив ли я? Да, моя дорогая. Но даже если я и несчастлив, во мне, по крайней мере, живет глубокое ощущение радости и страдания. Никто, кроме меня самого, не мешает, не препятствует, не тревожит меня. Но я словно малый ребенок, видит бог!»
Так, сидя в повозке, которая мчится то в гору, то под гору, он видит, как навстречу летят, мелькая, события. А на облучке сидит время, оно гонит лошадей. Даже внешний вид гётевских писем того времени: расстановка знаков препинания, почерк — все свидетельствует о том, как он мечется, как загнан. Когда он посылает в печать свои рукописи, над ними еще приходится работать другим — дописывать в них буквы, выверять текст, исправлять орфографию. Рукописи его валяются в беспорядке, пишет один посетитель, он извлекает их из всех углов комнаты; и вдруг им овладевает такой педантизм, что, посылая какой-то свой рисунок приятельнице, он молит ее: «Только ради всего святого сохраните его аккуратнейшим образом. Вообще-то я очень небрежен, но даже морщиночка на подобном предмете приводит меня в бешенство». Две души, о которых гораздо позднее Гёте скажет в «Фаусте», вовсе не вмещают той борьбы, которая происходила в нем. И эту внутреннюю борьбу Гёте никогда не вмещал в одном персонаже. Ни один из гётевских образов не есть Гёте. Он всегда воплощал себя в двух противоположных образах, иногда даже в женских. Может быть, здесь мы найдем подлинное объяснение, почему поэт, по преимуществу лирик и эпик, пришел к драме и уже никогда не мог с ней расстаться. Еще в юности, когда его внутренний конфликт проявлялся с особой резкостью, он чаще всего пользовался диалогом и даже самой маленькой пародии придавал форму пьесы. Вовсе не каприз и не отсутствие самодисциплины повинны в том, что в этот период он заканчивает только небольшие вещи, а такие произведения, как «Фауст», «Прометей», «Магомет», «Цезарь», остаются фрагментами.
Даже в молодости Гёте говорит, что в его произведениях содержатся все радости и горести его жизни, и — совсем как Мефистофель — он пользуется своим искусством, чтобы перенести демонические свойства собственной души на окружающий мир. «Я устал жаловаться на судьбу рода человеческого. Я попросту изображу его, и пусть люди узнают в нем самих себя. А если они не успокоятся после этого, ну что ж, пусть начнут хоть сильнее беспокоиться».
Раздвоенность Гёте проявилась во всех его юношеских сочинениях, но только в «Пра-Фаусте» предстала она во весь рост. «Пра-Фауст» короче первой части «Фауста». Фабула здесь не так задавлена обилием размышлений и, поэтому, кажется более драматической. В этом фрагменте Гёте хотел показать не столько трагедию Фауста, сколько трагедию Гретхен. Однако проблема, лежащая в основе гётевской раздвоенности, раскрыта в монологах героя. Демоничны фигуры обоих персонажей — и Мефистофеля и Фауста. Но только в сумме своей выражают они настроения молодого Гёте.
Диалог, который ведут Фауст и Мефистофель, это тот же бурный диалог, который звучит в сердце Гёте. Ни один из партнеров не олицетворяет невинность, ни один из них не злодей. Мефистофель в «Пра-Фаусте» вовсе не черт. Он только наиболее умный, осторожный и сильный из партнеров. Впервые появляется он здесь с Фаустом в кабачке Ауэрбаха, среди студентов. Первый их диалог начинается на улице, когда мимо проходит Гретхен. Мефистофель, опытный кавалер, учит нетерпеливого Фауста всем тонкостям эротического соблазнения. Фауст примитивен в этом вопросе, Мефистофель утончен. Но вскоре они поменяются ролями.
Который же из двух голосов — Фауста или Мефистофеля — голос самого Гёте? Ведь каждый из их диалогов только разорванный на части монолог. Подлинные диалоги между Фаустом и Мефистофелем Гёте напишет через двадцать пять лет. Но колебания Гёте между бездействием и жаждой деятельности отчетливо выражены уже в грандиозном зачине «Пра-Фауста».
«Не бог ли я? — вопрошает Фауст. — Светло и благородно все вокруг меня…» Но дух Земли, к которому обращается Фауст, отвергает его, и Фауст в отчаянии говорит: «Я, образ божества, не близок и тебе».
И все-таки перед расколотой душой открывается спасение. «Где вы, сосцы природы, вы, дарующие жизнь струек благодатной?» — вопрошает Фауст. Ибо перед юным Гёте уже открылась природа центр его веры, его Полярная звезда.
«Почему природа всегда прекрасна, — вопрошает Гёте в одной из своих критических статей, — всегда прекрасна, прекраснее всего, значительнее всего? Может быть, потому, что природа находится в беспрерывном движении, что она вечно созидает, а мрамор, который кажется нам живым, навеки мертв?»
«Весенний воздух снова веет в моей душе, — пишет он в другом месте, — и надеюсь, что из моего стесненного горла еще вырвутся новые песни».
Гёте пошел уже двадцать шестой год. Он никуда не выезжает из Франкфурта. Но жизнь его столь сложна, «что в новых ощущениях и мыслях у меня никогда не было недостатка», — так пишет он далекому другу. Да, дружбу, любовь, понимание смятенная и одинокая душа Гёте ищет всегда, и с особой надеждой он обращается за сочувствием к литераторам.
Уже никогда больше не был он так тесно связан с писательскими кругами, как в эти франкфуртские годы. Если, вращаясь в большом свете, он отталкивался от него, то с писателями находился в самых гармонических отношениях. Впрочем, даже в старости он подчеркивает, что его доверие к дарованию писателей часто принимали за любовь к самим писателям, и ему приходилось немало страдать из-за этого.
Многие из его друзей-писателей копируют его, пристально следят за каждым его шагом; и нам становится понятно, почему Гёте постепенно отдаляется от них, даже от тех, с кем его связывала внезапно вспыхнувшая дружба. Действительно, молодой Клингер уважает его, но и завидует ему. Ленц питает к нему любовь-ненависть. Оба намного моложе Гёте, оба очень одаренны.
Трудно приходится Гёте и с Якоби. Отношения его с Гердером становятся все напряженнее. Целых два года они не виделись, не переписывались. Наконец Гердер переламывает себя. Он женился, получил почетную должность, и он первый пишет Гёте (прошло целых пять лет с тех пор, как они вели беседы в больничной палате). Гёте отвечает ему быстро, тепло и все же удивительно отчужденно: сердечно и в то же время сдержанно.
Но особенно сильному испытанию подвергает нервы Гёте его новый друг, Лафатер. Это первый случай — их будет очень немного, — когда Гёте доверился другому человеку. Разумеется, как поэту Гёте учиться у Лафатера нечему. Зато он учится у него новой науке, особой, индивидуальной, которую можно передать только из рук в руки.
Впрочем, великий физиономист, открывший засыпанные глубины человеческой души, вовсе не был ни психологом, ни знатоком людей, ни острым наблюдателем, все схватывавшим на лету. Но в рукописи основного произведения Лафатера, в его «Физиономике» есть страницы, на которых мы можем увидеть почерк не одного, а, очевидно, двух авторов. И тут нам сразу становится ясно все. Торопливые, косые, разбегающиеся во все стороны буквы написаны рукой Гёте, схватывавшего все на лету. Вокруг этой пылающей сердцевины рука Лафатера изящными вертикальными буквами начертала умный свой комментарий.
Лафатер всегда мечтает или порицает. Гёте всегда ищет и всегда выводит правило. Он не исследует портрет исторического деятеля, чтобы выявить черты, подтверждающие заслуги, и без того известные всем. Наоборот, Гёте обращается к портрету неизвестного и безошибочно устанавливает, чьим изображением он является. Когда мы слышим, как он говорит о некоем спорном бюсте, как он доказывает, что это и есть портрет Гомера, нам кажется, что мы видим Гёте, импровизирующего за бутылкой вина…
«Этот человек не видит, не слышит, никуда не стремится, ни о чем не спрашивает. Центр всех мыслей, теснящихся в его голове, помещается здесь, в верхней, неглубокой выемке лба, в резиденции памяти. Все мускулы лица подтянуты кверху, чтобы живые образы могли спуститься по ним вниз ко рту… Здесь все живое и все живет, одно подле другого и одно рядом с другим. Да, это Гомер! Это тот череп, в котором так много места отведено грандиозным богам и героям… Это Олимп, и, словно второй Атлас, несет его на себе чистый и благородный нос… Эти слепые провалившиеся глаза, это обращенное внутрь себя зрение выражают всю напряженную внутреннюю жизнь и придают законченность изображению отца всех поэтов… Послушный рот… лепечет, словно что-то ребяческое, в нем вся наивность первой невинности… Человек этот покоится, не зная страстей; он явился на свет, только чтобы существовать, и мир, который заполняет все существо его, является и содержанием его и его наградой».
Лафатер очень недолго руководил занятиями Гёте. Пиетизм Лафатера скоро начинает раздражать поэта. Еще в самом начале их знакомства Гёте в письме ему написал три простых слова: «Я не христианин». И Лафатер тотчас же объявил его атеистом. Наконец они решают писать книгу вместе. Гёте берет на себя всю организационную часть. Переписка с издателями, приложения — гравюры, силуэты, портреты — все проходит через его руки. Затем он предлагает систему, по которой расположить рисунки, иллюстрирующие исследование. Лафатер все принимает и ничего не выполняет. В конце концов, по его рассеянности выпадают лучшие страницы, написанные Гёте. И даже самое имя Гёте чуть-чуть не выпало из книги.
Друзья и знатоки человечества, входя в дом Гёте во Франкфурте, со странным чувством осматривают комнаты. Они надеются увидеть что-нибудь сенсационное. Здесь всем управляет молодой сын. Иногда любезно, иногда с раздражением приглашает он друзей отца, друзей дома, к столу. И тогда госпоже Айе, так зовут мать Гёте графы Штольберги, частенько приходится посылать в погреб за самым старым вином.
Этот старый дом — гавань Гёте. Однажды, это случилось как раз в недели, когда он вел жизнь самую рассеянную, у него начался катар горла. Гёте лежал в постели часов до десяти, «только чтобы воскресить ощущение домашнего уюта, которое совсем стерла проклятая суета, царившая все эти дни. Отец с матерью пришли к моей постели; мы поспорили, очень мирно, я напился чаю, и мне стало лучше; здесь, в этих четырех стенах, я снова почувствовал, что у меня есть дом». И разве не жалко, что сестра ушла отсюда? Дисгармонической душе Корнелии приходилось трудно под отчей кровлей. Будет ли ей светлее и легче в баденском городке, где получил хорошую должность ее тоже нелегкий супруг?
В старости, вспоминая свою дружбу с сестрой, Гёте пишет: «Она была свободна, спокойна, хотя иногда и дерзка… И мечтала прожить свою жизнь в этой сестринской гармонии». Гёте считал, что ей больше пристало бы стать настоятельницей монастыря, чем матерью семейства. Но холодность родителей и настойчивые домогательства молодого человека заставили ее выбрать гибельный для нее путь. В своем дневнике Корнелия напрасно старается «уничтожить свои высокие представления о супружеской любви… Впрочем, как могла бы я рассчитывать на подобное счастье, ведь я совершенно лишена очарования, чтобы вызвать нежность?»
Корнелии двадцать три года, Шлоссеру, ее мужу, тридцать четыре. Он тоже сын франкфуртского имперского советника, и Гёте зовет его своим антиподом. Но под тяжестью мрачного чувственного характера мужа Корнелия совсем увядает.
Прошло целых семь лет с тех пор, как Гёте уехал из Лейпцига. Его уже окутала слава. И вот впервые ему улыбается красота — легкомысленная, чарующая, притягивающая. Она улыбается ему из золоченой рамы, и, ослепленный, он покидает логово, где обитает его демон, и летит навстречу свободе. Омраченная душа Гёте верит, что в ней, в Лили, он обретет нечто бесконечно легкое. Стройная белокурая девушка кажется ему волшебницей. Слово «волшебство» наполняет стихи и письма, которыми он целых девять месяцев будет засыпать свою очаровательницу. Прекрасной, как ангел, называет он Лили. И даже, пятьдесят лет спустя, признается, что за всю свою жизнь любил одну ее.
В этом году Гёте в первый и в последний раз появляется в франкфуртском светском обществе. На катке, на карнавале, на балах всегда и всюду блистает он в обществе сыновей франкфуртских патрициев и молодых англичан. Он всегда с ними на равной ноге. Но они вовсе не считают его человеком своего круга, да и он никогда не причислил бы их к своим друзьям. Его тянет в их общество не столько сословная гордость, сколько любопытство. Для них он в гораздо большей мере гениальный чудак, о котором пишут в газетах, чем сын имперского советника. Поэтому ему прощают нарушение светского этикета, когда как-то вечером он в сопровождении одного из друзей неожиданно входит в дом франкфуртского банкира, в салон, обставленный в стиле рококо.
«Было уже поздно… Собралось многолюдное общество, посередине комнаты стояли клавикорды; единственная дочь семейства тотчас же села за них и принялась играть очень искусно и приятно. Я стоял у другого конца клавикордов; мне был хорошо виден ее стан, весь облик ее. В манере девушки было что-то детское. Движения ее во время игры были легки и непринужденны. Она кончила играть сонату и подошла ко мне. Мы поздоровались молча, потому что квартет уже начался… Я заметил, что она так внимательно меня разглядывает, словно я стою в витрине».
Так он впервые увидел Лили Шенеман, а вовсе не придумал эту сцену впоследствии, специально для «Поэзии и действительности». Он и вправду был сражен наповал с первого взгляда. Чувственно, с античной наивностью он впитал ее сразу всю. И только потом разглядел, увидел, что она высокая, белокурая, сияющая, синеглазая. А еще позднее заметил ее прическу, наряды, веера, верховую лошадь, коляску, парк и балкон — весь арсенал очаровательной элегантности. На первых порах ему вовсе не хочется видеть ее иной.
Вот оно, наконец! То, что он всегда ищет в женщинах, постоянное, привязывающее, поглощающее, гавань, дом, брак. Кажется, все уготовано ему здесь. Она, его землячка, свободна, богата. Постоянное его стремление бежать от тревог под надежную кровлю наконец-то будет удовлетворено. Прелесть семнадцатилетней красавицы, ее блеск и богатство, неосознанное его стремление создать семью и освободиться от внутреннего напряжения — все влечет молодого человека к Лили. Он готов броситься в вихрь беспечного карнавала, войти в богатое буржуазное общество вольного города, чтобы стать господином и слугою любимой. Запись из его приходо-расходной книги красноречивее дневника: «Цветы, картины, лошадь, золотое сердечко, восемь коробочек оловянных солдатиков, отказ от лошади, 100 штук голландских перьев, парики, цветы, украшения для шпаги, чистка кожаных перчаток, медные щиты, один лот итальянского мела для рисования, языки к серебряным пряжкам, 1/2 фунта дроби, 1/2 фунта пороха, кошелек для волос, цветы, белая венецианская маска, пара белых перчаток, 32 оттиска на меди господина Клопштока, фунт конфет, счет от портного, цветы…»
Вот реквизит к единственному светскому роману Гёте, роману, который подарил его счастьем и безумием, который он не забудет до конца своей жизни. И все-таки даже сейчас он не подражает молодым кавалерам. Элегантные обладатели денежных мешков отталкивают его; он сразу и безошибочно ощущает разницу между настоящим и мнимым большим светом.
Ибо в эту зиму он впервые присутствует за герцогской трапезой. Манеры его безупречны. «Гёте говорит много, хорошо, особенно, оригинально, наивно. Он удивительно занимателен и весел, — пишет сестре герцог Мейнингенский. — У него своя, совсем особая манера. Собственные идеи и мнения… Мягкость его чувств и точность выражений достойны всяческого удивления».
Но, бывая в обществе богатых бюргеров родного города, Гёте знает, что втихомолку они издеваются над ним, и он тоже презирает их и прикидывается этаким рубахой-парнем. «Гёте веселится, — пишет некий художник, — бывает на балах, отплясывает как бешеный. Разыгрывает кавалера, завидя прекрасный пол, — прежде с ним этого не бывало. И все же… во время оживленнейшей беседы может неожиданно вскочить, исчезнуть и уже не вернуться… В места, где все появляются в самом парадном платье, он приходит в самом домашнем виде, и наоборот…» Но эта внешняя форма протеста служит только выражением протеста внутреннего. Гёте всегда воспринимает любимых женщин вместе с их средой. Гениальный бюргерский отпрыск исполнен горечи. Он восстает, он упрямо накладывает вето на тот самый мир, из которого вышел. И, все-таки, вынужден признаться, что именно в этой рамке Лили становится еще прелестнее.
Проходят невыносимые полгода, и недоверие Гёте к бюргерскому обществу оказывается совершенно оправданным. Странное и глубокое недоверие. Оно возникло, когда он был весь поглощен ее образом, но оно омрачило его чувство. Недоверие звучит даже в трех песнях, которые он посвящает Лили, песнях легких, как ее ножки. Новая любовь, новая жизнь, а он стоит и оглядывается со страхом.
Гёте хорошо знает себя. Он не только чувствует пылом и жаром сердца. Своим ясным, холодным, всепроникающим взором он видит, какую двойственную роль вынужден будет играть. И, любя Лили, он любит еще и совсем по-другому, словно находясь не на этой земле, а на некоей далекой звезде, — любит молодую аристократку, с которой знаком только по ее письмам к брату. Юную графиню Августу Штольберг Гёте не видел никогда. Но в письмах ее он сразу узрел родственную душу. И, в смятении сердца, он шлет ей самые интимные послания своей молодости. Чем дальше она от него в старом северогерманском поместье, тем откровеннее кипит его беседа с самим собою, которую он адресует ей. Кажется, что только так, на расстоянии, в разлуке с нею, он чувствует себя застрахованным от всех разочарований, которые несет с собой действительность. Где-то там, вдали, строит он трепетными руками одинокую крепость. Но укрыться в нее от треволнений сердца остается лишь тщетной его мечтой…
Августа понимает всю необычность этой переписки. Чувство такта удерживает ее от свидания с Гёте. Переписка их обрывается. И только в глубокой старости они обменяются вновь двумя удивительными письмами. Гёте так никогда и не увидит графиню Штольберг. Но свои письма к ней он назовет дневниками, ибо в них, подобно Вертеру, говорит сам с собою о своем смятении.
«Если бы только вы могли вообразить себе Гёте в парадном кафтане, разряженного в пух и прах, когда в сиянии бальных свечей, роскошных бра и люстр он сидит в многолюдном обществе за карточным столом, у которого его удерживает пара прекрасных глаз; Гёте, который в вихре беспрерывных развлечений несется из гостей в концерт, с концерта на бал и, со всей легкомысленностью и усердием, ухаживает за маленькой блондинкой, вот тогда бы вы и увидели настоящего масленичного Гёте, который недавно излил вам в невнятном лепете темные свои чувства, Гёте, который не в силах вам писать и который по временам забывает о вас, ибо в вашем присутствии он кажется себе совершенно невыносимым. Но есть еще один Гёте, тот, который разгуливает в сером фланелевом фраке, в шелковом коричневом шейном платке и башмаках, и, который, в колючем покалывании февральского воздуха уже предчувствует весну, Гёте, перед которым скоро снова распахнется любимый широкий мир, Гёте, который, трудясь и пробиваясь, живет, уйдя в себя. Скоро, если только ему позволят силы, он попытается запечатлеть невинные переживания юности в коротких стихотворениях, крепкую приправу к жизни в драмах, а друзей своих, свои любимые места и свой милый домашний обиход изобразить мелом на серой бумаге… Ибо он работает всегда, словно поднимаясь со ступеньки на ступеньку, все выше и выше; ибо он вовсе не собирается лететь вдогонку за идеалом. Нет, борясь и играя, хочет он развить свои чувства, превратить свои способности в мастерство. Величайшее счастье этого Гёте — жить рядом с лучшими людьми своей эпохи…»
«Утром, когда я вернулся домой, мне захотелось написать вам. Но что же сказать, раз не могу рассказать обо всем, что со мной происходит. Будьте и впредь милы со мной. Как бы я хотел успокоиться в ваших объятиях, глядя в ваши глаза! Великий боже, что же такое сердце человеческое! Спокойной ночи. Я думал, мне станет легче после письма — напрасно! Голова моя слишком устала».
«Вот уже снова некоторое время мне так хорошо и так плохо, что я сам не знаю, жив ли я еще, и все же мне кажется, что я на небесах… Спасибо тебе за то, как ты описала и себя и свою жизнь. Как правдиво! Совсем так я и представлял себе. О, если бы я только мог! Люби меня!.. А теперь спокойной ночи, пора прекратить эту лихорадку! Но если ты страдаешь, напиши мне, я разделю с тобой все. О, не бросай меня в печали, которая уготована мне, если я скроюсь от тебя и от всех моих дорогих! Преследуй меня, молю тебя, преследуй меня твоими письмами и спаси меня от меня самого!..»
Проходит еще некоторое время. Гёте помолвлен.
Желание его исполнилось. Но это пугает его. Особенно недоволен отец. Он готов принять невестку, но, разумеется, не такую светскую даму. Нужно бы пристроить к дому еще одну спальню. Родители жениха и невесты знакомятся, но сблизиться никак не могут. Тому есть и трагическая причина: Шенеманы принадлежат к реформистской церкви, Гёте лютеране. Конечно, госпоже Айе хочется, чтобы в дом вошла новая дочка, и однажды сын застает ее на чердаке возле его старой колыбели. Оба стараются скрыть смущение и нарочно затевают спор, что удобнее для новорожденного — колыбель или корзинка?
Но как же будет Лили предаваться светским развлечениям в доме, где живут ворчливый, придирчивый свекор и деятельная хозяйка, которая, наработавшись, стремится к уюту и покою? Жених бегает от одного к другому, успокаивает недовольных, улещивает родных и друзей.
Адвокат, кавалер, знаменитость, в котором заискивают, — теперь он послушен желаниям Лили. Красавица покамест еще холодна, но когда она начинает кокетничать с другими, тогда человек, пылающий чувством, тогда мужчина реагирует на эту игру — следствие пошлого воспитания, — словно на удары плетью. Ему тягостно. И он старается найти отдушину в творчестве. Но, кажется, «Стелла» не очень-то удалась именно потому, что он писал ее, охваченный страстью, а не тогда, когда она уже миновала, как это было с «Вертером». И еще потому, могли бы мы добавить, что гений и демон связаны между собой, а вовсе не спасительно разлучены. Тем не менее «Стелла» пылает неистовым огнем, она по праву называется «пьесой для влюбленных». А кроме того, Гёте заканчивает, а затем переделывает, по желанию Лили, музыкальную комедию «Эрвин и Эльмира». Эльмира произносит все те прекрасные слова, которые ему так хотелось бы услышать из уст Лили, а самого себя он изобразил чуть ли не в ангельском обличье.
Недовольство знакомыми Лили поэт изливает в другой музыкальной комедии, в «Клаудине де Вилла Белла». «Я не выношу ваше бюргерское общество! — восклицает здесь благородный разбойник вернее, сам Гёте. — Я хочу работать, а я должен быть лакеем. Я хочу веселиться, а я должен быть лакеем. Разве же всякий, кто хоть что-то представляет собой, не должен бежать куда глаза глядят?» Но в промежутках между сценами и ссорами, какие легкие, радостные часы, сколько счастья в ее объятиях! «Прекрасна как ангел, а я не видел ее четыре дня!.. Вчера мы вместе ездили верхом. Посмотрел бы ты на нее, когда она в амазонке скачет на лошади… Я полон удивительными новыми чувствами. Через три часа надеюсь опять увидеть Лили».
Никто не знает, как именно складывались отношения влюбленных. Может быть, она и была его возлюбленной, недолго. В очень подробных биографических заметках есть несколько более поздняя запись: «Вступление. Приключение с Лили. Соблазнение. Оффенбаховская».
А затем наступает разрыв — еще не окончательный.
«Со мной происходит то же, что и с тобой, дорогой брат, — пишет он Гердеру. — Недавно я чуть было не вошел в гавань домашних наслаждений и не встал на твердую почву страданий и радостей, как вдруг меня нежданно-негаданно опять швырнуло в открытое море».
Четвертое бегство Гёте от женщины… Но не успел он сбежать, какую свободу он ощущает! Он величает себя медведем, сорвавшимся с цепи, удравшей кошкой. Он сразу перестает чувствовать тоненькую золотую цепочку, которой хотел было себя приковать. Он едет на юг. И хотя он все еще влюблен, но чувствует, что уже свободен. «Я просто парю в воздухе, и несколько дней я только и делал, что спал, ел, пил, купался, катался, ездил верхом». В таком настроении входит он в дом сестры. И душа его сразу омрачается. Неужели замужество Корнелии оказалось столь роковым? В первые же часы он убедился в том, о чем ему доверительно писал Шлоссер: «Моя любовь внушает ей отвращение».
Супруг Корнелии по утрам выполняет обязанности чиновника, после обеда возится в саду и токарничает, потом опять в канцелярию, потом час занимается греческим языком, вечера проводит с женой. Корнелия жалуется, что ей приходится вести хозяйство, она терпеть его не может. Со слезами в голосе заклинает она брата не жениться на Лили, не жениться вообще, ни на ком, никогда. Она требует, чтобы он обещал ей это. Но он не обещает.
Через год после их свидания Корнелия родила, но она не хочет видеть своего ребенка. Он раздражает ее, она отдает его чужим людям. Обнаруживается душевное заболевание. Ее пробуют лечить. Ей становится лучше, очень ненадолго. Вскоре она умирает.
Через несколько дней после приезда, брат, полный тревоги за сестру, оставляет ее и едет в Швейцарию. Но чем дальше уезжает он от Лили, тем сильнее жаждет вкусить прелесть ее привычной близости. Тем не менее, он получает удовольствие от своей поездки, разыскивает нужных людей, собирает различные предметы, без конца накапливает сведения. Вместе с друзьями едет на озера и в горы Немецкой Швейцарии, и нередко они «купались до двенадцати ночи, пьянствовали и строили планы».
Как быстро шумит жизнь! Лотта, к которой три года назад он пылал такой страстью, что отблеск ее пламени осветил весь мир, и другая, совсем уже позабытая подруга, — обе только кулисы для его новой любви.
Наконец приходит день, когда он вместе с другом взбирается на вершину Сен-Готарда. Они отдыхают на перевале, и Гёте рисует, не очень искусно, но с большим увлечением, себя и друга, горы и долину, которая виднеется за крутым обрывом, полого спускаясь к югу.
У ног Гёте простирается Италия. Италия, куда старый отец так хотел отправить сына. К нему подъезжает настоятель монастыря. Всего несколько дней тому назад монах преклонил колени перед розово-мраморным алтарем в Миланском соборе, и спутник уговаривает Гёте последовать его примеру. Они тоже увидят цветущие острова в просторах синего моря. Но Гёте стоит в нерешительности, смотрит на юг, не знает, как быть. Он велит собрать поклажу, остается один на своей скале.
Позади лежит Германия, такая привычная. Всеми помыслами стремится он туда, откуда явился патер…
Наконец он встает, низко кланяется монаху и безмолвно поворачивает на север.
Не успел он вернуться во Франкфурт, не успел, кипя восторгом, обнять девушку, которая с улыбкой встречает сумасбродного жениха, как тут же раскаивается в злополучном своем возвращении. Душа двуликого Януса охвачена смятением, сомнениями, жаждой одиночества. Он просит графиню Штольберг дать ему убежище. «Мне суждено еще долго скитаться, прежде чем отдохнуть миг один в вашем сердце! Всегдашний мой сон, надежда во всех страданиях! Я так часто обманывался в женщинах…»
Наступает осень. Начинается ярмарка. Во Франкфурт съезжаются деловые друзья отца Лили, они заполняют весь дом, обращаются с Лили, как со старой знакомой, заявляют свои права на нее. Никто из них не принимает всерьез странного жениха.
«Среди них были весьма красивые люди, которых отличали повадки обладателей солидного состояния. Но старые эти господа были просто невыносимы. Они вели себя, как добрые дядюшки, никак не могли держать свои руки в покое, лезли к ней обниматься и не только похлопывали ее самым омерзительным образом, но еще требовали поцелуя. Она безотказно подставляла им щеку. Они говорили только о пикниках, о балах, о вечерних прогулках, высмеивали смешных женихов — словом, делали все, чтобы возбудить досаду в сердце безутешного влюбленного. Впрочем, отвернемся от этой муки. Она почти невыносима даже в воспоминаниях…» — так через полвека говорит восьмидесятилетний старик.
Но иногда, плененный, он бродил в садах любви.
И, обращаясь к родным своей милой, беседовал с ними то иронически, то смиренно: «Посылаю вам сыр, милая дама, в погреб его, да поскорей! Погреб ни дать ни взять я; покуда он не чувствует солнца, а я не вижу Лили, мы оба крепкие, славные парни… Вчера злой дух привел меня к Лили в час, когда я никак не был нужен, и сердце мое чуть не разорвалось, и я быстрехонько убрался».
А вот записка к приятельнице: «Только что я вернулся с Оффенбаховской. Понятия не имею, что там происходит. Сердце мое — настоящий чулок, который выворачивают то на правую, то на левую сторону. Пожалуйста! Пожалуйста! Приглядите на ярмарке что-нибудь для Лили!! Безделушки, украшения, самые модные, самые элегантные. Только вы понимаете все и мою любовь в придачу. Но все строго между нами, и маме ни слова!.. И напишите, сколько это стоит!..»
А графине Штольберг он пишет: «Вы не угадаете, что меня занимает: маска для бала к следующему вторнику… Мой маскарадный костюм будет чем-то вроде старонемецкого наряда… Но нет, маска уже не нужна. Лили не едет на бал… Я хотел нарядиться только ради нее… 16 сент. Сегодня ночью меня дразнили несносные сны… Но вот взошло солнце, я мгновенно выскочил из постели и стал бегать по комнате и успокаивать мое сердце, и мне стало легко, и я обрел уверенность, что для меня есть спасение, что из меня еще что-то выйдет… Мы еще будем счастливы… Поеду сейчас в Оффенбах, чтобы не видеть нынче вечером Лили в комедии, а завтра в концерте… 17-го. Оффенбах. День прошел нормально и тупо, когда я встал, мне было хорошо, написал сцену из моего «Фауста», несколько часов проболтался. Несколько любился с девушкой… Удивительное она создание… А все-таки я чувствовал себя крысой, которая нажралась яда, мечется из норы в нору, лижет воду… а внутри ее жжет нестерпимый огонь. Сегодня неделя, как здесь была Лили.
И в этот час я испытал, могу сказать, самое ужасное торжественное, чудесное ощущение во всю мою жизнь!.. И сквозь жгучие слезы я глядел на месяц и на милый свет, и все вокруг было исполнено чувства».
«18 сент…Неужели мое сердце, наслаждаясь и страдая, испытает, наконец, захватывающее блаженство, которое дано человеку, а не будет трепетать, носясь между небом и адом? Сегодня после обеда видел Лили… Не мог с ней и словом перемолвиться и не перемолвился. Если б только освободиться от этого… И все-таки я дрожу при мысли, что придет миг, когда она станет мне «безразлична и я потеряю надежду… Толчея! Густхен! Меня швыряет в разные стороны, а я держусь за руль и стараюсь не сесть на мель. И все-таки сел. Я не могу оторваться от девушки, — сегодня сердце мое снова полно ею… Я бедный, заблудший, потерянный. Восьмой час вечера. Только что из комедии и переодеваюсь к балу… Я чувствую, как с сердца моего спадают и спадают покровы».
За всю свою долгую жизнь Гёте не создал документа, в котором так громко звучит диалог, происходивший в его душе. Это письмо — зеркало, в котором отражена внутренняя борьба поэта. Для потомства оно столь же важно, как «Вертер» и «Тассо».
Дни, к которым относятся эти воспоминания, были переломными в жизни Гёте. Поэт не только предается чувственным забавам с семнадцатилетней красавицей. Он много работает над «Фаустом» и в часы неутоленного вожделения переводит «Песнь песней» царя Соломона. Тон писем к Лили становится тверже, в них звучит мужское упрямство, время несет с собой перемены, и, словно герольд из большого мира, к нему явился посланец.
«На балу до шести утра, протанцевал всего два менуэта, составил общество милой девушке, она кашляла. Если бы я живо описал тебе — нет, ты бы не выдержал, я тоже, если бы природа в ее повседневных заботах не заставила нас проглотить несколько зернышек забвения… Поел, немного озабоченный, оделся, представился принцу Мейнингенскому, поехал за городские ворота, в комедию. Сказал Лили ровно семь слов. И вот я здесь. Решил сегодня нарядиться как можно лучше. Жду новый кафтан от портного, который мне на заказ выткали в Лионе, серый с голубой каймой. Жду с большим нетерпением, чем знакомства с просвещенной личностью, известившей, что сегодня она посетит меня в этот самый час… Мой парикмахер причесывал меня тоже целый час; но как только он ушел, я уничтожил следы его трудов, послал за другим и жду его, тоже сейчас. У нас был сумасшедший кутеж. Я даже не мог взяться за перо. Вчера сплошные светлейшества».
Светлейшества? И столько забот о портном и цирюльнике. Никогда, ни в одной записке и намека не было ни на что подобное. Письмо написано даже в полуироническом тоне. Кутили? А о принце Мейнингенском упоминает между покупкой и прогулкой, равнодушно, так, между прочим. Уж не начинается ли в его жизни новая полоса? Да, так он чувствует и на том же листке продолжает: «8 октября. Долго не писал. Мне то удивительно жарко, то холодно. Жду герцога Веймарского». Совсем по-княжески. Совсем как в романе.
Прошел почти год с того дня, когда на закате в его полутемную комнату вошел незнакомец, отрекомендовавшись посланцем Веймарского двора. Он назвал себя — Кнебель — и через несколько дней. явился снова, чтобы сопровождать Гёте в гостиницу, где остановился его государь. Восемнадцатилетний мальчик Карл Август только что взял бразды правления. В дверях гостиничной комнаты поэт склонился перед герцогом, поднял голову — и тотчас две пары глаз погрузились друг в друга. Впрочем, обладатели их, кажется, поменялись ролями. Глаза герцога полны любопытства, глаза поэта смотрят испытующе. Пауза. Не лежит ли на столе у поэта уже готовое патриотическое произведение? Вооруженный светским опытом поэт остроумно болтает о национальном моменте и сразу завоевывает приязнь наивного молодого государя.
Полковник Кнебель, придворный герцога Веймарского, скоро станет другом Гёте. Но сейчас письма Гёте к Кнебелю полны не столько сердечных излияний, сколько вопросов. Воздух двора для него необычен, но он вовсе не мечтательный поэт, роль которого столь блестяще играет. Глаз Гёте тотчас же разглядел плоды, которые могут для него созреть в чужих садах. Кажется, герцог и Кнебель едут сейчас в Карлсруэ, где герцога ждет невеста? Но ведь там живет Шлоссер. В первом же письме к Кнебелю Гёте напоминает: «Разузнайте, если возможно, что думают при дворе о Шлоссере», — и просит замолвить за него словечко.
«Любите ли вы меня еще? Напишите мне побольше о себе. О дорогом герцоге. Напомните ему, пусть он думает обо мне с любовью».
А ведь даже признака этой внезапной и взаимной любви нельзя было усмотреть ни во Франкфурте, когда они встретились в гостинице, ни позднее, в Майнце. Про любовь Гёте написал просто так, на всякий случай…
В третий раз Гёте встретился с герцогом у маркграфа Баденского. Там он познакомился и с его юной невестой. Пылкий молодой человек очень всем понравился. Его радушно приглашают в Веймар. В Бадене, в первый раз попав ко двору, Гёте держится «очень прилично для новичка. Правда, от него и требовалось быть естественным, хотя в то же время значительным». Молодого государя он разгадал тотчас же. Недаром изо всех своих произведений он выбирает для Карла Августа музыкальную комедию «Клодина». В самый раз для него: легкая, немного банальная, романтичная, с разбойниками. Среди дворян Гёте бывал и прежде, с князьями не общался еще никогда. Вступить в тесное общение с аристократическим кругом, например, жениться на аристократке, казалось бюргерскому отпрыску невозможным. «Густхен — ангел, — пишет он ее брату, графу Штольбергу. — Черт бы побрал ее рейхсграфство!..»
И вот сейчас, когда душевный кризис Гёте достиг апогея, когда он только и мечтает бежать от Лили, он снова, в четвертый раз, встречается с герцогом. И снова его настойчиво зовут в Веймар. Для слуха Гёте это звук рога в тумане. Все толкает его к бегству из Франкфурта, к пятому бегству в его юности.
Да неужели ему суждено поседеть в этом старом тесном городе? Навсегда остаться адвокатом? Жить всегда в доме под островерхой крышей? И все только ради Лили? Только чтобы навечно обладать этим золотом волос, свежестью, голубизной?
Гёте быстро принимает решение. «Разумеется, торопливо пишет он Мерку, — там будет тоже много хорошего — и целого, и половинчатого, и — да поможет нам бог!.. Если можешь, дай мне взаймы десять каролин, пришли их с ближайшей оказией».
Герцогская чета уезжает. За Гёте должны прибыть карета и придворный кавалер. Гёте укладывается, прощается со всеми, облачается в дорожное платье. Карета не приезжает. Отец — он гражданин имперского города, все эти герцогские замашки очень ему не по нутру, достичь почетного положения можно, разумеется, только во Франкфурте, — подтрунивает над герцогской каретой и пытается исподволь оказать давление на сына. Предлагает поехать в Италию, втолковывает, что такое путешествие может оказаться гораздо плодотворнее для искусства, чем путешествие в карете, которая не приезжает, да еще в маленький, захолустный городок, не имеющий вообще никакого значения. Может быть, последовать родительскому совету? Он и так чувствует себя очень неловко. Милые друзья ухмыляются. Только по вечерам, закутавшись в плащ, словно чужой, бродит он по улицам родного города. С Лили он не решился объясниться окончательно. Но он и не бывает у нее больше. Крадучись, проходит он мимо ее дома. Он слышит звук ее голоса — она поет его песню, видит ее стройную тень за гардиной. Он возвращается домой, и воображение его еще хранит ее образ. Он садится к столу, пишет — это первые сцены «Эгмонта». Читает их отцу, опять уходит, опять возвращается. Уж не стал ли он духом? Разве не чувствует он, что за эти двадцать дней оборвалось все, что привязывало его к родному городу? А теперь он должен красться по нему, словно изгнанник, словно умерший! Он садится «у чудесного огня, пылающего в камине, в низенькое кресло возле детского столика» и неожиданно вспоминает о поэте Бюргере. Давным-давно следовало ему написать. И он пишет, пишет после «самых рассеянных, запутанных, цельных, полнейших, пустейших, сильнейших и нелепейших девяти месяцев в моей жизни. Фея Счастье, а может, Злосчастье, не знаю, право, как ее и назвать, подарила мне к новому, 75-му году все противоречия, какие только может вобрать в себя человеческая природа. Что станется со мной, одному богу известно! Наверное, станет еще беспокойней, еще запутаннее, и тогда я с удовольствием вспомню об этой минуте, когда пишу вам. Часы бьют шесть. Среда. 18 октября, 1775».
Он чувствует, что стоит на распутье, что для него наступил исторический момент. Он размышляет. Но точно так же, как он не знает, куда девалась карета, посланная за ним, точно так же не знает, куда, в каком направлении пойдет завтра его жизнь. Впрочем, он полон упований, он мужественно принимает все, что происходит в эти часы, он верит, что все уладится как-нибудь. Но карета все не приезжает, ехать в Веймар самому ему кажется неудобным, отец продолжает отговаривать, Италия манит в туманной дали — и Гёте выбирает средний путь. Он едет по направлению к югу, навстречу карете. Прибыв в Гейдельберг, он на всякий случай оставляет распоряжение на почтовой станции: если карета все-таки прибудет… Карета прибывает. Галантный гофмаршал, рассыпаясь в извинениях, усаживает в нее гостя. И тот пишет почти неразборчиво, карандашом, другу: «…Ночь. Плыву в роскошном, бескрайнем, священном океане Отца нашего, непостижимого, неосязаемого. О брат, меня сотрясают понятные, но неисчерпаемые чувства… Позорно лежу, простершись в пыли, Фриц! И черви копошатся, клянусь тебе моим сердцем! Это все ребяческий лепет и шорох. Это Вертер и вся его братия выступили против тайных свидетельств моей души!»
И в сопровождении галантного гофмаршала Гёте едет в Веймар.
В Веймаре. — «Гениальствующие». — «Метр де плезир». — Виланд признает прибывшего. — В садовом домике. — Гердера приглашают в Веймар. — Тайный советник. Конфликт с Фричем. — Смерть Корнелии. Директор горных промыслов. — Военный министр. — Проект создания союза князей. Герцогиня Луиза. — Карл Август и Гёте. Воспитатель герцога. — Сад и дом. — Шарлотта фон Штейн. — «Брат и сестра». Письма к госпоже фон Штейн. — Фриц фон Штейн. — Корона Шретер. — Первая «Ифигения». — «Триумф чувствительности». Художник. — Путешествие по Гарцу. Ленц и Клингер в Веймаре. — Второе путешествие в Швейцарию. — С герцогом во Франкфурте. — Второе возвращение с Сен-Готарда.
«Жизнь моя мчится словно сани, быстро, весело, звонко — вверх-вниз. Бог весть, к чему предназначен я после всех испытаний. Но они дают моей жизни новый размах, все будет хорошо. Строить творческие планы сейчас не время, ибо я мечусь с утра до ночи между сложными служебными обязанностями и развлечениями… Живу я здесь словно среди родных, герцог дороже мне с каждым днем, мы с ним все больше сближаемся.
Правда, я здорово кучу… Вероятно, ты скоро услышишь, что я умею сочинять для театра импровизации. И неплохо выгляжу во всех трагикомических фарсах».
Впрочем, то, что кроется за этими словами (они взяты из писем Гёте, написанных в первые месяцы пребывания в Веймаре), вовсе не так страшно, как казалось его современникам.
Новый Веймарский герцог — так говорят и пишут по всей Германии — поселил сумасбродного Гёте у себя во дворце. Они швыряют из окон тарелки прямо на улицу. Они приказали прорубить прорубь во льду и купались в озере на Новый год. У них общие эфебы, общие любовницы, а бедная юная герцогиня сидит дома одна-одинешенька и горько плачет.
Мещанин находит, наконец, повод для подтверждения двойного недоверия, которое он питает, во-первых, к государю и, во-вторых, к гению. И когда друзья гётевской юности приезжают к нему в Веймар, Германию быстро облетает новое насмешливое словцо — «гениальствующие».
Между тем веселая жизнь Гёте не продлилась и трех месяцев. Все уже устали от бешеной скачки, охоты, от щелканья кнутов, попоек, пародий, да и от ласк крестьянских девок тоже. Веселый камергер срывает скатерть со стола, за которым ужинают, и убегает. Потом все играют в «жгуты», и какой-то придворный кричит: «Бейте! Скорей! Вам не так-то скоро удастся высечь своего герцога!»
А герцогу восемнадцать лет, он наделен вулканическим темпераментом, женат на робкой девочке, и его влечет к двадцатишестилетнему поэту. Две книжки этого поэта просто опьянили его. Крепкая немецкая речь Гёте, смелый взгляд на вещи, врожденная мужественность, романтичность, которой окружено его имя, хотя нисколько не присуща ему, — все привязывает к нему герцога. Карл Август бунтует против воспитания и традиций, от которых он только что освободился. Мятежный инстинкт влечет его к молодому бюргеру, хотя втайне он, может быть, и трусит. Он боится стычки со старыми придворными только что унаследованного им двора.
Но стычек нет. Правда, старый министр, отпрыск древнего аристократического рода, оскорблен тем, что уже не он является судьей в вопросах искусства, повсюду слышен завистливый шепот, тем не менее, решительно все — двор, дворянство, общество снимают шляпы перед выскочкой и тщательно запирают двери, прежде чем излить друг другу свое недовольство «гениальствующим». Нет, разве не фаворит этот молодой господин? Разве это может длиться долго? Государственные соображения непременно встанут между герцогом и поэтом. Впрочем, он очень мил. Скоро дамы признаются по секрету друг другу, что этот дикарь, — о его дурачествах и попойках в Тюрингском лесу они не устают говорить в своих будуарах, — все-таки настоящее приобретение для Веймара! Всегда галантен, всегда остроумен, иногда, правда, безумствует, но даже и тогда не переступает границ дозволенного.
Наконец-то у них появился элегантный «метр де плезир». Все чаще устраиваются балы и маскарады, все мужчины без исключения одеваются а-ля Вертер, а если у кого-нибудь нет денег, чтобы сшить себе соответствующий костюм, то герцог выдает ему этот наряд вместо мундира бесплатно. Появились новые сюжеты и для придворных разговоров. А разве мог бы кто-нибудь, вот как этот молодой поэт, на память процитировать все, что написано в новом «Альманахе муз», который передают сейчас из рук в руки за чайным столом? Кто еще способен иронизировать в стихах любого размера и по поводу присутствующих и по поводу отсутствующих?
Премьер-министр тоже сидит за чайным столом.
«Хорошо, — думает он, — кабы поэт развлекал герцога вечно. У государя наконец-то будет занятие, и он не станет соваться со своими младоглупостями в управление государством. Делами он, кажется, совсем не интересуется, этот поэт. Теперь, когда ему повезло, он быстро забудет, что был когда-то юристом. Только бы не вторгался в мою область, а двор пусть развлекает себе на здоровье. С Виландом все было точно так же. Но, между прочим, что говорит Виланд? Ведь молодой человек совсем недавно так атаковал его…»
Но Виланд, который вот уже несколько лет является духовным главой города и двора, которому, в сущности, и грозит опасность, ибо доныне он один пользовался безраздельным влиянием на подрастающего герцога, Виланд в восторге и разыгрывает еще больший восторг, ибо, будучи человеком светским, он, подобно стареющей метрессе, знает, что самое умное в подобных обстоятельствах — аплодировать своей преемнице.
Но это и не трудно ему. Виланд наделен тончайшим чутьем к поэзии. Давно он издали уже почувствовал: этот новый поэт — сильнейший.
Виланд — истинный художник жизни. Он не склонен хитрить в безнадежной борьбе, в жизни и в поэзии. Он ученик Эпикура. Не успел Гёте приехать, как Виланд берет свою лютню, которой он владеет виртуозно, и начинает воспевать новое светило.
В ближайшем же номере своего «Меркурия» он помещает «Оду в честь Гёте». Пусть немецкие литераторы знают, что Виланд, который после долгого искусного плавания прибыл в эту светлую гавань, отнюдь не неудачник, которого более молодой соперник лишил герцогской милости. Но он знает, что ум его известен Германии, и решает, поэтому, придать своим галантным стихам чуть-чуть скептическое звучание.
Виланд не только предвидит, какая участь ждет Гёте при этом дворе. Он угадывает до некоторой степени и его характер и пишет сразу штук шесть писем наиболее прославленным литераторам. Пишет с той самой экзальтацией, которую всегда высмеивал. Да, он очарован Гёте, почитает, любит его, как взрослого сына. Умный Виланд просит друзей уничтожить его прежние письма, там написаны всякие глупости о Гёте. И все-таки, хотя он много лет прожил в дружбе с Гёте, он так никогда и не включил эту хвалебную оду в собрание своих сочинений!
А пока что, опираясь на авторитет своего имени и возраста, Виланд узаконил положение Гёте в Веймаре. Ибо Виланду сорок два года, и в этом молодом кружке он самый старший. Оберштальмейстеру фон Штейну — сорок, жене его — тридцать три, Кнебелю — тридцать два, герцогине-матери — тридцать шесть, герцогу и герцогине нет и двадцати, а Гёте по возрасту занимает некое серединное положение. Зато душою он гораздо зрелее всех в кружке, да и ум его искушен намного больше.
Неужели при этом умном дворе никто не заметил, что юный фаворит прекрасно разбирается не только в окружающих людях, но и во всех веймарских делах? Что он имеет в виду нечто несравненно большее, чем Веймар? Неужели сумасшедший Гёте и впрямь сумасшедший?
Нет. Образ жизни, который должен льстить самолюбию бюргера, ему вдруг делается противен. Гёте покидает и герцога и двор. И хотя он приехал в Веймар только в начале ноября, он уже на рождество вместе с несколькими друзьями бежит в горы. Бодрый, веселый, пишет он герцогу из своего убежища письмо: обо всем вперемежку. Ему приснился счастливый военный поход. Один из их компании опасно захворал тяжелой формой похоти. Сам он посылал к пастору за Гомером, а получил от него библию. Он раскрыл ее, и вот на каком месте из Исайи: «Посмотри, господь опустошает страну, и разрушает, и уничтожает в ней все, и рассеивает ее обитателей — вино иссякает, лоза увянет, и все, кто веселился в сердце своем, теперь стенают… Никто не зовет к питию, и лучшее питие стало горьким».
Гёте продолжает: «Коньки позабыты, я топал ногами и ругался и целых четверть часа стоял, надувшись, у окна».
Потом они обменялись платьем. В голубом кафтане с красным воротником, он выглядел настоящим шалопаем. «Спокойной ночи еще раз!»
Осторожно, так, чтобы герцог ничего не почувствовал — ведь он будет без конца перечитывать остроумные строчки и завидовать: вот бы и мне быть с ними! — итак, совсем осторожно, наш ментор, укрывшийся в горах, сквозь гримасы и смех, шепотом дает наставления и указания своему юному воспитаннику.
А сейчас он один смотрит в зимнее небо, ищет в нем утреннюю звезду. Он сделает ее эмблемой в своем гербе, и «в голове и сердце у меня теснится одна и та же проклятая мысль, остаться в Веймаре или уехать?».
Но проходит полтора месяца, Гёте принимает решение. Только Мерку, ему одному, открывает он причины, удерживающие его в Веймаре: «Я принимаю самое непосредственное участие во всех придворных и политических делах, — пишет он «другу человечества», — и, вероятно, уже не смогу уехать отсюда. Положение мое весьма выгодно. Как бы там ни было, герцогства Веймар и Эйзенах — это все-таки арена, на которой я смогу попытаться сыграть роль в мировой истории. Поэтому я и не тороплюсь. Но свобода и досуг — вот главные условия, без которых я не соглашусь занять мое новое положение. Впрочем, здесь я больше, чем когда бы то ни было, в состоянии разглядеть всю пакость бренной роскоши».
Конечно, эту циничную программу он набрасывает специально для Мефистофеля, но и набрасывает ее Мефистофель. Зато домашним он пишет совсем в другом тоне:
«Вероятно, я останусь здесь, и буду играть свою роль как можно лучше… Пусть я продержусь всего год, все лучше, чем бездеятельное прозябание дома… Как-никак, а тут в моем распоряжении, два герцогства».
Герцог старается удержать его всеми средствами: дарит ему загородный дом; пишет его родителям; вопреки возражениям большинства духовенства приглашает свободомыслящего пастора Гердера и ставит его во главе веймарской епархии. Прошло четыре месяца после приезда Гёте в Веймар, когда он записывает у себя в дневнике: «Я уже испробовал жизнь придворного, теперь хочу испробовать власть, и так шаг за шагом».
Кажется, Мефистофель опять раскрывает свои самые заветные планы? Но только ли Мефистофель? А что говорит об этом плане Фауст? О, Фауст прекрасно понимает, от чего он отказывается. Вовсе не опьянев от успеха, берется он за свои начинания. Он жаждет великих дел. Гёте знает герцога, и хотя любит его и готов ему служить, он прекрасно понимает и опасность, которая его поджидает. И все-таки он хочет рискнуть. Да, он хочет сделать большим человеком маленького государя. Он хочет придать маленькой стране блеск великой гуманности. Он желает только во имя духа сделать то, что обычно делают только во имя сословных интересов.
Гёте жаждет широкой деятельности, он хочет влиять на окружающий мир, он хочет до устали сражаться — не с невидимыми тенями, как прежде, а с реальными людьми. «Я должен изо дня в день употреблять все мои способности; я должен затрачивать все силы моего ума и сердца, чтобы бороться с тысячами больших и малых сил и отражать любовь и ненависть, коварство и насилие». И где-то в пути Гёте пишет свою «Ночную песнь странника».
Лишь один человек в Веймаре понимает, что замыслил Гёте. «Но, увы, — пишет Виланд через три месяца Лафатеру, — насколько больше мог бы сделать, нет, сделал бы этот замечательный ум, не погрязни он в хаосе, из которого, невзирая на всю его волю, на всю его мощь, он все-таки не сможет создать хоть сколько-нибудь сносное общество. Разве мне не было уже тридцать восемь, когда я позволил увлечь себя волшебному внушению, а вернее, колдовскому соблазну, при мысли, что, приехав к этому двору, я смогу совершить столь много доброго и великого, что это будет иметь значение в веках… И разве не пустился я в эту опасную и, если смотреть трезво, безнадежную авантюру? Гёте всего двадцать шесть. Как же он мог, сознавая в себе такие силы, устоять против соблазна еще большего?..
И все же посмотрим! Даже если станет здесь менее скверно, чем было бы без него, если здесь будет сделано хоть что-нибудь хорошее… значит, игра стоила свеч… Его положение представляется мне схожим с игрой в фараон. Герцог держит банк, Гёте понтирует. Он ставит один, два, три, четыре раза подряд, еще, и еще, и все на одну и ту же карту. Иногда он проигрывает, но все-таки продолжает ставить. Ведь ему нужно одно-единственное трент-леве… и он отыграется».
И Виланд пытается утешить себя тем, что хотя «как поэт Гёте, по крайней мере на ближайшие годы, потерян для мира, ибо Гёте ничего не делает вполовину, и, раз вступив на новую стезю, он не успокоится, прежде чем дойдет до цели, зато он будет столь же велик как министр, сколь был велик, будучи сочинителем».
Виланд пророчески предвидит и путь, и результат, к которому придет Гёте. Среди всех суждений того времени нет ни одного, свидетельствующего о столь глубоком понимании вещей.
Зато Веймар воспринимает происходящее с чрезвычайно банальной точки зрения. Едва только герцог приказывает ввести Гёте в свой Тайный совет, то есть в центральный правительственный орган, как в Веймаре образуются две партии. Меньшая, состоит из придворных, которые крепко держат сторону фаворита, и из убежденных сторонников новшеств. Во вторую входят строгие защитники дворянства и традиций, осуждающие вторжение в их среду бюргера и дилетанта. Во главе этой партии стоит министр-президент фон Фрич. Он был верным слугой герцога в период регентства, и, разумеется, его нельзя уволить в отставку. Вдовствующая герцогиня Анна Амалия поощряет привязанность сына к Гёте; тем не менее, ее радует, что сын, которому хотелось бы управлять государством сам-друг, отводит приятелю последнее место в Тайном совете и дает ему чин всего лишь тайного советника с жалованьем 1200 талеров в год.
Один только Фрич протестует против назначения Гёте. Он пишет герцогу: «…ибо не могу я заседать далее в коллегии, членом которой теперь будет упомянутый д-р Гёте; и поскольку не смею надеяться служить вам в вышеупомянутой с пользой для вас и с честью для себя, я слагаю с себя занимаемый мною доныне пост к стопам вашей светлости… и ухожу в отставку».
Герцог решительно встает на сторону своего друга.
«Мнение света, который не одобряет то, что я ввел д-ра Гёте в важнейшую мою коллегию, хотя он не является амтманом, профессором, камергером и статским советником, решительно ничего не меняет. Свет судит на основании предрассудков, я же тружусь не для славы… а дабы держать ответ перед богом и собственной совестью… Гёте честен и обладает удивительно добрым и чувствительным сердцем…» Фрич остается и работает десять лет вместе с Гёте.
Не колеблясь, поэт принимает свое назначение. Он делает ответственный шаг и делает его с полной решимостью. До сих пор он держал двери открытыми.
Три месяца он в нерешительности стоял на пороге и ждал. Теперь он захлопывает за собой дверь и отбрасывает все, что осталось за ее порогом. Навсегда оставляет он молодого человека из Франкфурта, вождя литераторов, воздыхателя юной девы, друга многих друзей, даже сына и брата. Всего лишь полгода тому назад отсылал он свои страстные дневники графине Штольберг. Теперь он прощается с ней в суровом молчании и со всеми вопросами велит обращаться к его сестре. А сестру, которая как раз в эти дни признается ему в своей болезни и взывает о помощи, он отсылает к новой своей приятельнице. В течение целого года он пишет Корнелии одно-единственное письмо.
Два года душевнобольная Корнелия не виделась с братом. Наконец она умирает, и он пишет в своем дневнике: «Темный, растерзанный день. Страдания и мечты». Зятю, с которым он был дружен многие годы, — ни слова соболезнования. Гёте не может долго скорбеть.
Родителям он пишет часто приветливо-отчужденные, полные деловых поручений письма, очень ясные, редко веселые. Но в двух тысячах писем, которые в первые десять лет жизни в Веймаре Гёте написал другим лицам, имя госпожи Айи вряд ли встречается десять раз. Когда герцогиня-мать пожелала, чтобы мать его приехала в Веймар, Гёте воспротивился этому.
Зато, прощаясь с юностью, Гёте запечатлел эту разлуку в стихах. На пороге новой жизни он написал свое «Морское плавание», великолепную поэтическую аллегорию. Вот сидят в гавани приятели, ждут отплытия своего друга. Заранее радуются они добыче, с которой он приплывет обратно. Но вдруг поднимается буря, сулит опасности мореплавателю, и друзья, стоя на берегу, в страхе за него восклицают:
Властно? Нет, вовсе не мир и не власть распахнут врата перед исполинской душой Гёте.
Он современник эпохи, когда Фридрих Прусский, Иосиф Австрийский и Людовик Французский еще олицетворяли всю Европу. Что же мудреного, если герцогства Веймар и Эйзенах кажутся Гёте тоже некоей частью вселенной и ему хочется управлять хотя бы ими? Однако в Тайный совет крошечного государства Гёте вступает как самый младший из семи его членов. У него нет даже определенного круга обязанностей, и единственное его назначение — служить опорой герцогу в борьбе против старых суровых чиновников. Внешней политикой Гёте ни тогда, ни позднее не занимался. Только осязаемое, конкретное, только мир труда притягивает к себе деятельный его ум. Он хочет заправлять, разрабатывать, улучшать то, что заложено в этих герцогствах. Пусть хоть в самых малых пределах, но он хочет выполнить свой долг и как можно теснее связаться с этой землей и с ее народом!
И действительно, чем бы ни занялся Гёте в первые четыре года своей государственной деятельности, он всегда и всюду приносит пользу. Больше сорока лет заброшены горные разработки в Имельнау. Давнишнее желание веймарской династии — возобновить их, и Гёте берется за дело. Он организует специальное ведомство — Управление горными промыслами и лично руководит им. Проходит еще три года, и на Гёте возлагают надзор за рекрутским набором, за провиантской частью и вооружением. Ему поручают и дорожное строительство. Гёте минуло тридцать лет, а он занимает пост военного министра и министра общественных работ. Но он берет на себя все решительно, ибо храбро верит, что «нет ничего на свете, чего нельзя было бы преодолеть».
Наконец, наконец-то он действует, и не в эмпирическом, а в конструктивном смысле!
Совершая бесчисленные служебные поездки по всей Саксонии, Гёте всюду находит подтверждение своим идеям развития экономики страны, безразлично, касаются ли они заброшенного крестьянского двора или всего герцогства в целом. «Идеи эти столь просты, что, право, для усвоения их не надобно совершать далекие путешествия. Мы видим все у себя дома».
Неожиданно в Апольде вспыхивает пожар. В то время деревянные села часто сгорали дотла. Гёте галопом мчится на место происшествия, «целый день кипит и жарится на пожаре… Мои планы, мысли, время, кажется, кипели заодно. Вот так мы и живем, покуда не умрем, вот так будут жить после нас и другие… Мои мысли касательно организации пожарного дела подтвердились еще раз. Особенно в отношении населения. Ведь к нему здесь относятся, как и ко всему прочему, словно в карточной игре, когда игроки видят только те карты, которыми играют в данную секунду. Герцог вынужден будет, наконец, мне поверить. Глаза жжет от огня и дыма, а подошвы ног болят. Правда, мало-помалу несчастье начинает казаться прозаичным, как огонь в камине. Но все равно я не откажусь от своей мысли, все равно буду сражаться с неким ангелом, даже если и вывихну при этом себе бедро. Ни одна душа не знает, с каким множеством врагов я сражаюсь, чтобы провести в жизнь хоть самую малость. О всевидящие боги, молю вас, не смейтесь, глядя на мои усилия, на борьбу и старания! В крайнем случае, улыбнитесь, но помогите мне».
Через три года, став военным министром, Гёте записывает у себя в дневнике: «В связи с военной коллегией возникают новые пренеприятные обстоятельства». «5 января: Занимаюсь военным хозяйством». «13-го: Взял на себя военную коллегию. Первое заседание. Ум мой тверд, спокоен и остр. Все последние дни занят только этим делом. Плаваю в нем и не питаю надежду на то, что все будет хорошо. Уверен, что проявлю терпение. Груз дел весьма полезен для души. Освободившись от него, она ощущает свободу и наслаждается жизнью. Не может быть ничего более жалкого, чем достойный человек, пребывающий бездеятельным; прекраснейший из даров вызывает у него отвращение…»
Постепенно и без всякой системы Гёте вырабатывает собственные формы деятельности. Он судит о положении в стране только на основании того, что видит. Поэтому ему удается отклонить в Совете проект нового устава для мануфактур. Он без конца путешествует по стране, стремясь досконально изучить ее и ее обитателей. Его интересует уголовное право, а занятия военными делами заставляют его обратиться даже к вопросам политики. Так обязанности, открывшиеся Гёте в маленьком государстве, становятся для него мостом в мир большого искусства государственного управления. И Гёте сумел им овладеть. Когда «старый Фриц», который Гёте и в глаза не видел, в одном из старческих своих сочинений набросился на «Гёца», министр не стал ему возражать. Но когда король потребовал от Веймара рекрутов, тут уж поэт-министр, в свою очередь, напал на короля.
На беду Карл Август, этот герцог-солдат, решил позволить королю солдат, своему идеалу, провести набор в своем герцогстве. Тогда Гёте подал длинную докладную записку, в которой предупреждал своего государя о политических последствиях, которые шаг этот повлечет за собой в Вене.
Наконец из чисто практических соображений у Гёте возникает идея создания Союза государей Средней Германии, который должен противостоять обеим враждующим великим державам — Пруссии и Австрии.
Лишь однажды прозвучал в его дневнике громкий крик. Это случилось в Вартбурге. Он один, погружен в мысли о саде, об отрешенности, о тишине. Он укрылся здесь от всех, даже от друзей. И вдруг в его записях звучит слово-крик: властвовать! Но крик замер так же внезапно, как прозвучал.
Гёте никогда не притворяется, особенно при дворе, хотя в начале своей деятельности он один делает там погоду. «Нужно оставаться просто самим собой, здесь теперь такая политика», — иронически пишет он Гердеру. Но царящий в веймарском великосветском обществе стиль аффектированного гениальничанья только на первых порах облегчил ему его роль. Двор скоро привыкает к Гёте, а Гёте привыкает к этому двору; и когда мода на аффектацию проходит, он, оказывается, давно уже оценил преимущество аристократических манер. Случается, его называют даже чопорным.
К великому облегчению Гёте, страсть герцога к охоте, к поездкам, к скачке по безлюдной местности не утихает. Государь предпочитает управлять своим государством, находясь вдали от столицы. «Вот уже три недели, — сообщает господин министр одному из своих друзей, — как я живу среди лесов, пещер, рек, дубрав, водопадов и подземных духов и наслаждаюсь прекрасным божьим миром».
Веймарские придворные исподтишка подсмеиваются над поэтом, который летним вечером в Тифурте читает вслух свои стихи и баллады. А бюргеры живут столь замкнуто, что никогда не допустят в свой круг дворянина. К тому же они не доверяют выскочке, который сумел пробраться ко двору. Но разве он пробрался туда?
Гёте — искусный режиссер. Он так умеет сочетать светскую жизнь с искусством, что это в диковинку даже избалованным придворным. В один прекрасный день он приглашает герцогиню и ее друзей в свой садовый домик. Слуги обносят их старым «иоганнесбергом», а он читает им свои новые стихи. Тихо отворяются двери, и в рембрандтовском полумраке белеют берега маленькой реки. Придворные в восторге. Но придворно ли настроение его души? Вот он весь перед нами: «После ужина, великогерцогские дурачества. Охота в саду. Ночной бал. Не в силах ощущать природу… Поездка в Тифурт; все раздражало меня в этих людях, и я вернулся домой… Все было мне противно. Жаль придворных; удивляюсь, как это большинство из них еще не превратилось в василисков и жаб. Герцоги Саксонские — не то четверо, не то трое в одной комнате — не слишком-то занимательные собеседники. Только наш герцог находится еще в процессе роста. Другие давно уже превратились в деревянных марионеток; осталось только раскрасить их».
В первый год пребывания в Веймаре Гёте устраивает у себя в парке «приют для бедных, больных, удрученных сердец». Но проходит два года, и придворные начинают жаловаться на то, что поэт не очень-то приятный собеседник. Осенью герцогская чета возвращается в город. Гёте все приготовил к их приезду. С горечью он замечает, что «наконец-то освободился от забот о полах, печах, лестницах, стульчаках, покуда все не начнется сначала».
Но кто же тот, ради которого поэт терпит такую жизнь? Что за человек герцог?
Охота на дичь и на кабанов, ночевки в чистом поле, попойки и пирушки с деревенскими девками, вот чем до изнеможения занимается юный герцог, ибо никак не может осуществить свою самую страстную мечту — мечту о войне. Зато Гёте нисколько не охотник и отнюдь не привержен к вину. Лишь на первых порах участвует он в герцогских кутежах. Проходит несколько месяцев, и он присутствует на охоте уже скорей в роли художника, чем стрелка.
Но все-таки он пытается незаметно влиять на герцога. Иногда, даже напрямик высказывает ему свое мнение. «Я должен прочесть вам нотацию, — пишет Гёте Карлу Августу. — По дороге я размышлял о преувеличенной горячности, которую вы выказываете в подобных случаях. Право, вы поступаете если и не несправедливо, то бесполезно и без нужды тратите силы — ваши и ваших близких». Во время долгих бесед Гёте, вероятно, сотни раз читал ему поучения. Он часто ночует в покоях герцога. В первые два года они видятся чуть не ежедневно.
Господином, иногда Юпитером называет Гёте герцога в своих дневниках.
Некий горный советник спустя полстолетия запечатлел в своих воспоминаниях первые годы Гёте в Веймаре. Автору воспоминаний, тогда еще юнцу, приходилось иногда участвовать в попойках. «Все, пишет он, — должно было быть, во что бы то ни стало, естественным». Юнец тоже решил дать себе волю и разгуляться вовсю. Но тут Гёте ему шепнул: «Только держитесь от них подальше, и, ежели им вздумается поколотить вас, не противьтесь их веселым колотушкам».
А все-таки умный Мерк выражает, быть может, мысли самого Гёте, когда спустя два года пишет из Веймара: «Гёте любит герцога, как никого из нас, вероятно, потому, что никто не нуждается в нем так, как нуждается герцог. Отношения их будут длиться вечно».
Свет недоволен поэтом. Гёте молча сносит насмешки, которые, расползаясь из Веймара, паутиной опутывают Германию, но вдруг против него выступил человек, которого он уважает. Сам Клопшток обратился к нему с письмом, прося его не разжигать бешеные страсти Карла Августа. Гёте приходит в ярость. Немедля он пишет мастеру, которого всего два года назад называл отцом: «Избавьте нас на будущее от таких писем, дорогой Клопшток! Они совершенно бесполезны и только отравляют нам настроение. Поверьте, что у меня не осталось бы и часа времени, если бы я начал отвечать на письма, подобные вашему, на все подобные предостережения!» Клопшток читает послание, передает его ученику и говорит: «Отныне презираю Гёте». И пишет ему, что рвет с ним навсегда.
Тем временем Гёте учит герцога презирать внешнюю форму власти, но почитать ее содержание. В письме, которое они сочиняют вместе, герцог высмеивает «заседание благородного совета», в другое они вставляют свои стихи.
А затем Гёте пишет свою «Молитву короля». Она, очевидно, посвящена герцогу:
Покуда кругом кипит суета, Гёте пытается спастись от света и его влияния, уйти в тишину, в самоограничение, самоуглубление. Он удаляется в свой сад.
За городскими воротами, неподалеку от дворца, но вдалеке от шума придворной жизни стоит старый домик. В нем всего четыре комнаты.
Домик окружен большим садом, за которым простирается парк. Почти целых семь лет служил он приютом Гёте, и именно эти годы, как ни были они заполнены самой разнообразной деятельностью, были годами внутреннего роста поэта. Он многим обязан земле этого сада. Ей отдает он свою любовь, а она дарит его счастьем.
Разве не мечтал он долгие годы оставить тесные городские улицы и уйти на землю? Теперь он жертвует ей добрую часть своего времени. Он хочет научиться растить свой сад. Это так же ново, как и все его прочие дела. Целые дни в первое, такое загруженное время Гёте занят обработкой и культивированием сада, различными постройками и перестройками в нем. «По-прежнему стоят великолепные дни», записывает он в дневнике. Правда, в Тюрингии все кажется ему беднее. Как о юге, вспоминает он о Майне, о Рейне. Потихоньку жалуется, что весна здесь такая короткая, а зима суровая. На Рейне не бывает ни такой засухи, ни таких морозов. Он выписывает из Франкфурта лозы ивы и винограда. На Лейпцигской ярмарке заказывает заодно с «Небесной философией» Сведенборга и «Акцизами курфюршества Саксонского» и «Сокровища сада» Рейхарта.
Рано утром, после ночи, которую он чуть не всю напролет протанцевал, проболтал, проскакал на коне, Гёте просыпается в своем уединении. Полной грудью вдыхает он возвышенную тишину.
Гёте никогда не работал по ночам, ни в какую полосу жизни. Даже в старости, рассматривая проект своего памятника, он просит убрать в нем светильник — символ прилежания, ибо он всегда творил только по утрам, в часы, «когда снимаются сливки с дня; остальные уже идут на сыр». Как любит он бодрость, которую несут с собой эти утренние часы, проведенные в саду. Новоиспеченный придворный гордится своим убежищем-садом больше, чем всеми трапезами во дворце и танцами на сверкающем паркете.
Вечером возвращается он домой, долго ищет огниво, напротив дворец сияет огнями, «а я ищу хоть искру одну и все же знаю, что герцог с удовольствием поменялся бы со мной». Завернувшись в плащ, он ложится майской ночью на балконе; начинается гроза, но природа так милостива к нему, что он не просыпается.
Он купается в реке, протекающей за оградой, в ноябре после заката, в декабре рано поутру, в январе — дабы «вдохнуть бодрость в печально ковыляющих духов», — он умывается снегом. Гёте отказывается от кофе, пьет меньше вина, ибо стремится развить в себе предельную работоспособность. Он сам говорит о тощем своем сложении, а слуга его уверяет, что без труда носит своего господина на руках. Гёте решительно сбрасывает парик, вместе с ним и дух рококо. Волосы его падают свободно.
Вслед за ним все расстаются с пудреными париками.
В эти годы Гёте увлекается всем, что, как кажется ему, приносит пользу, — разводит пчел, прививает плодовые деревья, даже любовные письма его написаны руками, перемазанными древесной смолой. Он пишет любимой, что нынче уже слишком поздно уничтожать гусениц — «все откладывал с часу на час. Поэт и любовник — плохие хозяева». А однажды отмечает в своем дневнике одно-единственное дело за целый день: «Потихоньку копался в саду у берега, среди скал», 26-го — еще: «Я сажаю деревья, подобно тому, как сыны Израиля закладывают обетные камни».
Впрочем, в жизни его нет ничего романтического. Просто человек в возрасте между двадцатью и тридцатью годами пытается укротить свои страсти и здесь, на природе, среди безмолвной тишины, обратиться к разумной, полезной деятельности. На жизнь, на природу Гёте смотрит сейчас не с поэтической, а скорее с практической точки зрения.
Этот маленький уголок земли служит ему макетом, по которому он изучает всю страну, а улучшить жизнь в стране он считает своим призванием и долгом.
Впрочем, деятельность его всегда направлена не вширь, а вглубь. «Ограничивать себя, нуждаться, в сущности, в одном или в нескольких предметах, любить их по-настоящему, привязаться к ним, поворачивать их в разные стороны, слиться с ними — вот что делает нас поэтом, художником, человеком». Безмерная душа Гёте, словно боясь раствориться в пространстве, ищет точки опоры. Грандиозный дух пытается ограничить себя узким кругом деятельности. Поэта начинают занимать вопросы не только экономики, но и экономии, которую необходимо навести в Веймарском государстве. Он и сам становится бережлив. Раньше ему почти всегда не хватало денег. Он занимал их то у Мерка, то у Якоби. Теперь он наводит порядок в собственном хозяйстве. Гёте хочет, во что бы то ни стало, оздоровить финансы Веймара.
Однажды, возвращаясь из служебной поездки, Гёте останавливается у водопада и слушает песнь духов воды. «В этой песне я различил удивительные строфы, только вряд ли смогу их припомнить», пишет он. И тут же, еще вспоминая, Гёте указывает педантически точно, в каком именно порядке брошюровать его письма-дневники. «Сперва, дневник за 16, потом песня, потом описание долины».
Даже к творческим своим замыслам он подходит иногда с точки зрения выгоды, которую они сулят.
Листки, которым он доверяет свои большие мысли о малых делах, вскоре превращаются в коллекцию из 1700 записок и писем. Целых десять лет хранятся они в шкатулке женщины. Никогда, никому не поклонялся Гёте так, как поклонялся ей. Душа ее была огромной чашей, в которую струились воды его души и откуда они выходили очищенными. Но эта женщина любила понятие «Гёте», а не его самого. Да и он любил не живую женщину, а только идеальный ее образ. И это объясняет все прекрасное и плодотворное, что было в их взаимном влечении. Но все эти десять лет они прожили, вращаясь в узком кругу, в маленьком городишке, среди предрассудков и интриг, и, хотя они не разлучались никогда, они всегда жили в разлуке. Так возникли разочарование и горечь, которую они испытывали друг к другу. Их любовный роман — это не счастливая история с трагическим концом. Это длинная переменчивая история из сотен высоких мгновений и тысяч мучительных часов.
Миниатюрная, изящная Шарлотта фон Штейн никогда не была хороша собой. Впрочем, ее кроткое продолговатое лицо, несомненно, отличалось привлекательностью. Гёте встретился с ней, когда ей минуло уже тридцать три года. Нервная, хрупкая, болезненная, Шарлотта казалась почти бесплотной. Позднее она превратилась в здоровую, цветущую женщину, но в год их встречи она была задумчива и меланхолична. В ней привлекало все — открытый нрав, нежный и печальный голос, страждущая добродетель, серьезная простота, безукоризненные манеры. При дворе она отличалась свободой и непринужденностью манер.
«Когда видишь, с каким артистическим совершенством она танцует, — пишет один из друзей Шарлотты, — кажется, что тихий свет полуночной луны наполняет ее сердце божественным покоем».
У Шарлотты красиво очерченный рот, узкие губы и большие итальянские глаза, похожие на глаза Гёте. Но его глаза сияют и пронзают, как молнии, а ее горят тихим и ровным пламенем. Оно никогда не вспыхивает и никогда не гаснет. В Шарлотте нет ни страстности Гёте, ни бесстрастия его сестры. Лучшие ее портреты дают представление о женщине разочарованной, но отнюдь не испытывающей отвращения к любви. Впрочем, прошлое Шарлотты вовсе не способствовало тихому горению души. Дочь придворного чудака, известного своими странностями, и весьма суровой и многоопытной светской ханжи, Шарлотта фон Штейн выросла в мрачном, чопорном доме. Целых шесть лет болезненная и робкая девушка влачила жалкое существование фрейлины при весьма шатком дворе некоей герцогини, племянницы Фридриха II. Эта повелительница, чуть постарше самой Шарлотты, была уже вдовой. Трепеща от страха, следила она за всеми перипетиями Семилетней войны, от которых зависела и собственная ее неверная фортуна.
Наконец Шарлотте все-таки удалось пристроиться. Она вышла замуж за совершенно чуждого ей, примитивного, добронравного и тупого здоровяка обершталмейстера фон Штейна. В тот самый год, когда шестнадцатилетний Гёте оставил школьную скамью, Шарлотте исполнилось двадцать три, и у нее родился первенец. В течение восьми лет она родила еще семерых детей. Частые роды окончательно подорвали ее силы. Из всех ее детей в живых остались только два сына. Когда Гёте вошел в дом Шарлотты, младшему мальчику, Фрицу, было три года. Целых десять лет после замужества Шарлотта жила очень уединенно — летом в своем маленьком имении неподалеку от Веймара или на водах, где она лечилась. Кроме мужа, никогда ни один мужчина не приближался к ней.
Гёте разбудил ее. В письме, которое читают в его пьесе «Брат и сестра», звучит тихий голос Шарлотты. Как сладостно пробуждение к жизни, хотя оно совершается почти против ее воли! «Я снова полюбила мир, а ведь я так отдалилась от него! Я полюбила его благодаря вам. Мое сердце упрекает меня. Я чувствую, что готовлю мучения и вам и себе. Только полгода назад я хотела умереть, теперь я не хочу умирать».
Однажды — это было за несколько месяцев до того, как они встретились, — Гёте показали силуэт незнакомки. Он тогда еще написал: «Как прекрасно видеть, что мир отражается в этой душе!» — и словно по наитию приписал: «Побеждает сетями!» Это было в июне. А в декабре в сопровождении герцога он впервые вошел в салон Шарлотты фон Штейн.
Всего через несколько дней Гёте едет в Лейпциг и здесь, мгновенно теряя голову, до безумия влюбляется в певицу Корону Шретер. Еще в августе он начал писать пьесу в стиле Боккаччо и собирался придать ее героине черты Лили. Сейчас он решил влить в этот образ хоть «несколько капель» от духовной сущности Короны.
Все это нисколько не мешает беспокойному поэту изливаться в любви единственной, которую он обожает. «Ты единственная из всех женщин вложила в мое сердце любовь, дающую мне счастье…
Ты единственная, которую я могу так любить, и любовь эта не мучает меня, хотя я живу в вечном страхе. В тебе я обрел сестру. Думай обо мне, приложи к губам свою руку… Спокойной ночи… На маскараде я опять видел только твои глаза». Написано в полночь через два месяца после знакомства.
В следующих письмах одурманенность и смятение влюбленного все растут:
«Ты единственная женственность… Ты сама пожелала бы мне счастья, если бы я мог полюбить другую больше, чем тебя. Как счастлив должен я быть! Или как несчастлив!.. Фриц (ее трехлетний сын) был у нас… Я без конца целовал его… Доброй ночи, мой ангел, я вижу тебя спящую… Шретер — ангел. Послал бы мне бог такую жену, и я бы оставил вас в покое, но она недостаточно похожа на тебя… Мы никем не можем быть друг для друга, мы слишком много один для другого… Я не хочу видеть тебя, только — ты знаешь все — у меня есть сердце. Все, что я мог бы сказать, — глупо. Я вижу тебя в бесконечной дали, вот как видишь звезду! Думай об этом… Сегодня я не хочу вас увидеть. Вчера ваше присутствие произвело на меня столь удивительное впечатление, что я и сам не знаю, что это — блаженство или боль… Ты святая, но я не могу причислить тебя к святым. Мне только и остается, что беспрерывно терзать себя тем, что я не хочу терзаться… Но для вас моя любовь только длительное меланхоличное созерцание. Пусть же она и дальше останется такой».
Во всех этих отрывочных строчках звучит только один голос — голос Гёте. Но мы ясно ощущаем борьбу, которую ведут двое.
Женщина, она старше и опытнее влюбленного, хочет удержать молодого, страстного мужчину в границах сердечной дружбы. И снова поэт — желанный, прославленный, полный огня и очарования, молящий, как ребенок, страстно вожделеющий, — стоит перед закрытой дверью, и, что самое ужасное, перед полузакрытой. Неужели прошло целых десять лет с тех пор, как энергичная Кетхен, устав от любовной борьбы с сумасбродным студентом, заставила его занять позицию, на которую, впрочем, он и сам отошел? Неужели прошло уже четыре года с тех пор, как благоразумная Лотта отвергла его ради давнего своего покровителя? И всего только несколько месяцев с тех пор, как легчайшая, воздушная Лили сводила его с ума игрой своих глаз, своих вееров? Неужели в четвертый раз повторится все та же участь?
Но что мешает обожаемой женщине стать возлюбленной Гёте? Разве поэт кажется ей недостойным? «Разумеется, — признается Шарлотта своему другу-врачу, — падшие ангелы умнее других… Что он сделает из меня? Когда он здесь, он кружит вокруг меня неотступно. Но, покамест еще, я зову его моим святым».
Может быть, Шарлотта любит своего мужа?
Нет, он чужой ей, да и дети тоже. Она так холодна к старшему сыну, что он жалуется на нее посторонним. Привязана она только к Фрицу, меньшому, да и то потому, что новый друг относится к нему, как к собственному ребенку. Может быть, она боится молвы? Но о них все равно уже сплетничают после первых посещений Гёте. А кроме того, в светском Веймаре гораздо больше браков, которые скрашиваются присутствием третьего лица, чем счастливых супружеских пар. Традиции родительского дома не связывают Шарлотту. Сестру ее только что выдали замуж за человека с самой чудовищной репутацией.
Проходят три месяца. И Гёте доверяет тайну своей любви стихам:
Шарлотта требует от Гёте самоотречения, чистой дружбы, идеального сродства душ. Но он молодой мужчина, и он жаждет обладать женщиной.
Никогда способность Гёте страдать не проявлялась так полно, как в отношениях с этой требовательной подругой. Он служит ей безгранично, но не обладает ею. Он страдает молча, Шарлотта изливается в горячих жалобах. «Вы все еще упрекаете меня в том, что я люблю вас то меньше, то сильнее, — пишет он в ответ на ее упреки. — Это неверно. Но хорошо, что я не каждый день ощущаю, как сильно я вас люблю. Когда меня нет с вами, вы любите представление, которое вы составили обо мне. Я же люблю вас гораздо больше, когда вы возле меня, нежели когда вас нет. Вот почему я думаю, что моя любовь, более настоящая, чем ваша».
Она умеет унизить его в присутствии всего двора, ибо двор и душа давно и неразрывно слились в ней. Сегодня поведение ее с ним отличается свободой, назавтра она чопорна донельзя. Если ей надо принять решение, она всегда считается с мнением двора, а не с желаниями друга.
Впоследствии Шарлотта потребовала у Гёте все свои письма и уничтожила их. Она всегда прикрепляет свое небесное чувство к столь презираемой ею земле. При всей ее спокойной мудрости и достоинстве у нее мало сердечного обаяния.
Наступает вторая годовщина со дня приезда Гёте в Веймар. Он пишет письмо Шарлотте и, бросая взгляд на прошедшее, сравнивает себя с ивой, у которой обрубают ветки, дабы она давала все новые и новые побеги. Вот и ему кажется, что у него отрастают сейчас новые ветви. Шарлотте нравится этот образ, но, развивая его, она не согласна с Гёте. Дерево, которое недавно обрубили, пишет Шарлотта, не дает ни тени, ни приюта.
Получив это письмо, Гёте чувствует себя униженным. А ведь она пишет ему обидные слова, когда он полон забот о ее новом доме, о ее печах, о ее кроватях. Как всегда, Гёте любит все, что окружает любимую. Чувство к ней он распространяет на ее дом, родню, детей. «Твоя сестра — прелестное создание. Как я мечтал бы обладать таким существом и любить ее одну! Я устал делить свое сердце».
Сейчас ему особенно хочется иметь детей. «Малышам» посвящены сотни, его писем, он делает им подарки, учит их. Фриц по целым дням играет у него в саду. Гёте собирает с ребятишками растения, жарит им яичницу, устраивает пасхальный «праздник яиц», учит их ходить по канату, показывает им тьму фокусов. Когда между ним и Шарлоттой происходит первая размолвка, он больше всего страдает из-за мальчика, которого она выслала из комнаты.
Несмотря на бесчисленные занятия, обязанности, творчество, Гёте несет к ногам любимой женщины всю непотускневшую нежность юных лет. Он выпрашивает у нее талисман, чтобы замуровать его в фундамент садовой беседки. «Если когда-нибудь я вернусь на нашу землю, — пишет он, — я буду молить богов, чтобы они позволили мне любить один только раз. И не будь вы врагом этого мира, я бы молил вас подарить мне себя, мою милую подругу».
Прошло четыре года, а он все еще прячется в кустарнике у дороги, чтобы поглядеть, когда она проедет в город.
Как милость принимает он от нее разрешение учить ее, одарять, обожать. Он диктует ей, рисует, читает, учит ее английскому языку, естественной истории. Он тот, кто дает все. Она — ничего. Разумеется, ее душевный покой целителен для его двойственной души, непрерывно вспыхивающей беспокойным пламенем. Но Шарлотта только успокаивала его и никогда не вдохновляла. Нет ни малейшего указания на то, что ее суждения об искусстве, литературе имели для него хоть какое-нибудь значение. Правда, вначале он руководствовался ее мнениями о светском обществе. Но очень скоро он и здесь стал вполне самостоятелен. И все-таки, ни одна женщина, которых Гёте встречал прежде, не оказала такого влияния на творческую его фантазию, как Шарлотта фон Штейн. Им он посвящал идиллии. Она же послужила прообразом для двух его героинь.
Зато произведения, посвященные самой Шарлотте, — одна идиллия да несколько небольших стихотворений — занимают самое неприметное место в его наследстве. Как ни удивительно, невзирая на множество любовных увлечений, всю первую половину своей жизни Гёте почти не писал любовных стихов. Несколько стихотворений, посвященных Фридерике и Лили, не идут ни в какое сравнение с любовной лирикой второй половины его жизни.
Да и потребность Гёте исповедоваться своей подруге, столь сильная вначале, прерывается часто. Особенно во второй год их знакомства — этот год составил целую эпоху в его жизни — Гёте все больше отдаляется от Шарлотты. Они не видятся по целым неделям. Отчуждение Гёте началось, как только он осознал свой внутренний рост. Он уезжает на Гарц и оттуда пишет Шарлотте, что счастлив своим одиночеством. «На этой неделе я много катался на коньках, настроение почти безоблачное. Прекрасная ясность во всем, что касается меня самого и наших дел, тишина в предвкушении мудрости. Я все больше отдаляюсь от людей. Спокойствие и определенность в жизни и в поступках. В воображении моем теснятся веселые, пестрые картины».
А потом наступают долгие недели полного молчания.
Это отчуждение наступает чаще и чаще. Он прямо говорит, что Шарлотта становится ему все милее и все дальше. Он скрывает от нее даже, что едет на несколько месяцев в Швейцарию.
В дневниках Гёте Шарлотта фон Штейн фигурирует под символом «Солнце», хотя она гораздо ближе луне. Истинным солнцем, сиявшим для поэта, была красавица Корона Шретер.
С этой лейпцигской певицей Гёте познакомился вскоре после того, как подружился с госпожой фон Штейн. Его ввел к ней герцог, который тоже ухаживал за Короной. «Я все еще не могу оторваться от Шретер, — пишет Гёте своей подруге в Веймар. — Чрезвычайно благородное и своеобразное создание. Ах, если б она могла побыть хоть полгода с вами!» В последующие пять лет он уже не осмелился бы сделать подобное признание своей ревнивой подруге.
В начале осени Гёте привез Корону в Веймар.
Но прежде чем приехать за актрисой, он забрасывает письмами своего друга и ее поклонника. «Утешьте ангела! Если бы я мог побыть с ней хоть час… Бросьте носовые платки! Купите платье». Он посылает двадцать луидоров ей на туалеты и благодарит своего посредника. До нас дошли только немногие из этих писем. Среди них ни одного, написанного Короне. Но даже в том немногом, что сохранилось, раскрывается история молниеносной страсти. Поэт находит взаимность у артистки, придворный не скупится на подарки певице. «Пришлите мне счет, пишет он своему посреднику. — За судьбу Шретер я не боюсь. Она связана с моею».
С первого же дня приезда в Веймар Корона становится украшением придворной сцены. Высокая, стройная, величавая, как Юнона, она держится с изысканной простотой. У Короны ослепительная кожа, крутые каштановые кудри. Голова двадцатилетней красавицы напоминает голову молодой львицы. На костюмированных балах она появляется всегда в тунике. Ее называют гречанкой, музой. Слепок с изумительной руки Короны восхищает нас и поныне. Она играет на цитре, на флейте, на клавикордах. Чистый, мягкий, чуть глуховатый и одухотворенный голос Короны звучит, как голос жрицы. Пафос его никогда не утомляет. Корона слишком робка, непрактична, чтобы выступать в профессиональном театре. Она далека от повседневности, по характеру нисколько не актриса и вовсе не жаждет дышать воздухом двора. Зато она быстро входит в тесный круг интимных друзей Гёте.
Корона обладает ясным умом, широко образованна, свободно владеет тремя языками, она одаренный живописец и композитор. Помимо всего, она отличается удивительным здоровьем, необычной выносливостью, никогда не болеет. Тело Короны само совершенство. Неужели прекрасная, одаренная артистка не захватит поэта целиком? Гёте никогда не видел подобной женщины. Неужели его не соблазнит образ юной музы? Разве не обладает она всеми качествами, которых не хватает Шарлотте? И разве не присущи ей многие качества Шарлотты, которая старше ее на целых восемь лет? Никогда больше не встретит Гёте женщину, в которой так гармонично сливаются искусство и красота. Так же стремительно, как в Лейпциге, ведет он наступление на красавицу и завоевывает ее. Госпожа фон Штейн выдворила его из своего поместья и заставила дожидаться ее в городе. В начале ноября она возвращается, наконец, в Веймар. Но, одновременно с ней, приезжает и Корона, и немедленно начинает репетировать вместе с Гёте в его «Совиновниках».
Мы не располагаем письмами этого периода к Короне. Зато у нас есть дневник Гёте, и он говорит очень громко обо всем, о чем автор его хочет молчать. «16-го ноября. Репетиция. Ночью Корона!» (Знаки препинания расставлены так, как никогда прежде.) «17-го. К Мизель! (Корона) Репетиция!.. Корона», 17-го. (Вместо «к Солнцу» сказано просто: «К Штейн. Обедал там. Английский».) И в письме к ней: «Я должен немедля послать за лошадью, ибо сегодня опять не знаю, куда деваться от беспокойства» (написано днем в ноябре). Девять дней он не кажет глаз к госпоже фон Штейн — «был зол на весь свет, поэтому и не приходил». Следующие письма его к Шарлотте тоже холодны: «Увы, за эти два месяца, — пишет он, подразумевая время ее отсутствия, — во мне многое засыпало пеплом. Но я по-прежнему остаюсь вполне чувственным человеком». Вот оно, самое важное признание. Но, вместо того чтобы радоваться чувству к красивой, талантливой женщине, Гёте терзается раскаяниями и исповедуется в нем другой женщине, хотя и скрывает от нее свои похождения. Ревнивая подруга отказывает ему в своей близости, но запрещает ему близость с другими женщинами. Она не приходит на представления его пьес, не видит «Совиновников», «Брата и сестру», «Лилу», ибо во всех этих спектаклях Корона играет вместе с Гёте. Кто знает, может быть, вовсе не она, не Шарлотта, муза поэта? Незаметно в их отношения закрадывается ложь, так чуждая Гёте. Ибо Гёте молчит о бесконечно многом, но он не лжет никогда.
Имя Короны, сопровождаемое любовными эпитетами, постоянно встречается в дневниках Гёте. Она поет у него дома в сопровождении арфы. Она исполняет, под аккомпанемент цитры, песни Руссо, и арии Глюка, и «Римские письма», которые Гёте перевел для нее на немецкий язык, а она положила их для него на музыку.
Но вскоре и в этой страсти возникают осложнения. Соперником Гёте выступает сам герцог. Никто не знает доподлинно, что именно произошло между государем, поэтом и актрисой. Между государем и министром. Между друзьями. Может быть, Гёте, страдавший от угрызений совести и невозможности выбрать между двумя женщинами, был даже рад появлению соперника. Тем более что возрастающая меланхолия все больше отдаляла поэта от искрящейся жизнерадостностью Короны. Сохранилась одна-единственная фраза, которая как-то раскрывает отношения между тремя молодыми людьми. В феврале Гёте записал в дневнике: «Застиг вечером Корону и герцога у Л.». В другой раз знаток людей Виланд встречает всех троих по дороге к гроту и с восторгом пишет об аттической изящности утонченной нимфы. А с начала лета Корона появляется в саду Гёте уже не иначе, как в сопровождении тучной и пожилой приятельницы.
Проходит год. У Гёте и госпожи фон Штейн снова возникают размолвки и отчуждение. Он пишет ей одну-единственную записку за целый месяц. И дневник опять предательски доносит: «Неподвижные, замкнутые дни… Ночью к Короне».
Только эти скупые свидетельства и бросают свет на его отношения с обожаемой подругой — с другом души его. И право, не надо пытаться договорить до конца все, что осталось недоговоренным.
Пьесу «Ифигения в Тавриде» Гёте закончил на четвертый год пребывания в Веймаре. Тема ее возникла у него давно, еще когда он только приехал в герцогскую резиденцию. Но тогда он находился под сильнейшим обаянием госпожи фон Штейн. В духовном богатстве Ифигении, бесспорно, отражена богатая душа Шарлотты, но в облике ее нашла отражение красота Короны.
В те шесть недель, когда Гёте писал свою драму, полностью раскрылась его двойная жизнь. Вот что он записал в серый февральский день, когда начал диктовать пьесу, — в тот день, когда он гулял, купался и получал донесение о дезертировавшем гусаре. «Целый день корпел над «Ифигенией», покуда не одурел окончательно. Когда так несобран, когда едешь, вдев лишь одну ногу в стремя поэтического Пегаса, право же, очень трудно создать что-либо стоящее… Я вызвал к себе музыкантов, чтобы успокоить душу и раскрепостить духов». А неделей позднее: «Прекрасные звуки постепенно высвобождают мою душу из хомута протоколов и документов. Рядом, в зеленой комнате, играет квартет, а я сижу и тихо призываю к себе далекие образы».
И опять четыре дня подряд: комитет, военная коллегия, набор рекрутов, инспектирование дорог.
«1-го марта. Вечер для себя. «Ифигения». «2-го марта. Служебная поездка верхом в Роттенштейн, по дороге осмотр тоннеля возле Майе». «3-го марта. Вычитка. Потом в одиночестве работал в новом дворце над «Ифигенией». 5-го, в письме к Кнебелю: «Должен признаться, что в качестве странствующего поэта я надорвался окончательно… Здесь ни на что не надеюсь, может быть, в Альтштедте. Однако добрые духи часто обитают там, где мы никак не ожидаем их встретить». А перед тем: «Теперь я живу бок о бок с людьми этого круга… но почти не замечаю их, ибо внутренняя жизнь неустанно идет своим путем… Живу рядом с этими людьми, разговариваю, слушаю, что они рассказывают… Мне опять многое становится ясно… К тому же надеюсь, что 11-го или 12-го, когда я вернусь домой, пьеса моя будет уже готова. Одиночество — прекрасная вещь, когда живешь в ладу с самим собой и когда есть определенное занятие».
На другой день он пишет из Апольды, жалуется на шум и дела: «Драма не двигается с места, проклятие, а ведь царь Тавриды обязан разглагольствовать так, словно в Апольде и намека нет на голод среди чулочников». И далее следуют длинные заметки об апольдских ткачах, которых фабриканты безжалостно обирают при взвешивании пряжи.
«9-го марта. Вечером один. Закончил три акта. Возвращение в Веймар. Чтение пьесы герцогу и Кнебелю. Переписка ролей». Еще одна поездка в связи с рекрутским набором, «17-го. Фарфоровая мануфактура. Инспекция, осмотры, возвращение домой. Военная коллегия. Совет, посещение герцога». «27-го. Вечером закончил «Ифигению». «29-го. Безумный день. От одного к другому с пяти утра. В Тифурте читал «Ифигению». От малого к большому и от большого к малому. Все это время настроение было такое же, как погода, — ясное, хорошее, веселое». «1 апреля. Детский праздник — праздник лета. Репетиция «Ифигении». Добывание реквизита». «6-го. Сыграли «Ифигению». Очень большое впечатление, особенно на людей чистых. Военная коллегия. Заседание…»
Сохранилось письмо одного зрителя, присутствовавшего на «Ифигении». Он описал впечатление от спектакля, в котором Гёте играл Ореста, Корона Ифигению, Кнебель — Фоанта, и какой-то принц, а впоследствии сам герцог, — Пилада. Все они, впервые на немецком театре, появились одетые не по французской моде, а в древнегреческих костюмах. «Век не забуду впечатления, которое на нас произвел Гёте, одетый в греческую тунику. Казалось, перед нами явился сам Аполлон. Никогда еще не видели мы столь полного слияния, столь большого совершенства, физического и духовного».
Хотя слова эти заимствованы из воспоминаний шестнадцатилетнего юноши, хотя они стали известны много позднее, чем были написаны, для нас они интересны как единственное свидетельство, которое утверждает, что Гёте был прекрасен, как Аполлон. Утверждение это полностью противоречит всем портретам молодого Гёте. Оно возникло, очевидно, лишь благодаря одежде, в которой появился поэт. И все-таки вопреки всему потомство настаивает именно на этой характеристике. Так возникает легенда.
Первую прозаическую редакцию своей «Ифигении», которая прославила его, Гёте называл «наброском».
Позднее, в Италии, перелагая эту драму в стихи, он отлил ее в более прекрасную форму. Но и в первой своей редакции драма отличалась законченностью. Ни одну из сцен не понадобилось перестраивать или переделывать. В этой прозе, возникшей в промежутках между служебными командировками, уже дремал, словно в коконе, стих и отчетливо слышалось чередование прекрасных ритмов. В главном, и даже в мелочах, «Ифигения» была закончена сразу; и кажется, что среди всей житейской суеты она расцвела, подобно одинокому цветку, который вырос на обочине почтовой дороги.
В «Ифигении» Гёте делает патетическое усилие он хочет вырваться из хаоса, окружающего его. Всего год назад он грубым пинком прогнал чувствительность, которая главенствовала в его творчестве. И прогоняя ее, сочинил фарс «Триумф чувствительности».
Герой этого фарса, некий принц, повсюду возит с собой декорации, изображающие путешествие, и куклу, в которую страстно влюблен. «Скажите, — вопрошает своих приближенных принц, — скажите, заряжены ли мои пистолеты?» — «Как всегда, но… бога ради, не застрелитесь!..» Наконец распарывают туловище куклы; в нем среди отрубей и соломы находят только «Новую Элоизу» и «Страдания юного Вертера».
И тотчас вслед за этим принц произносит великолепные стихи:
И тут же следуют новые безумства, новые пародии. Но вдруг звучит «Увертюра, предвещающая чувства удивительные», появляется Арлекин — садовник преисподней, — за ним выступает Прозерпина и в сопровождении хора исполняет длинную оду, смертную жалобу, которую Гёте, по счастью, сочинил для чьих-то похорон.
В этом гениальном фарсе, который поэт написал на третий год пребывания в Веймаре, со всей силой проступает двойственность Гёте. Стоит ему только дать себе волю, как он тотчас оказывается во власти бушующих противоречий.
Но у него есть успокаивающее средство — это рисование. Целых пять лет он очень много рисует, чтобы «отвлечься». Порой радуется, что прошел день, а он ни о чем не думал, порой благодарен, что прошел еще день, когда он рисовал с утра до вечера.
Однако он глубоко чувствует несовершенство своих попыток и говорит, что рисование — это его соска. Вроде той, что дают дитяти, чтобы не плакало и уснуло и, жуя пустышку, думало, что его и вправду покормили. В эти годы, когда слетаются тихие лирические часы, Гёте берет в руки карандаш. Только он предпочитает писать им не стихи, а рисунки. И эти рисунки дороги ему, как нам дороги фотографии — свидетельства далеких путешествий. Но вскоре им овладевает недовольство. Он сетует, что никогда не станет живописцем. Отношение Гёте не только к искусству, но и к природе отчетливо выражено в его «Письмах из Швейцарии».
«Стоит мне увидеть написанный, нарисованный ландшафт, как меня охватывает невыразимое беспокойство, Я чувствую, как дрожат кончики мизинцев у меня на ногах, словно стремясь прикоснуться к земле, как судорога сводит мне пальцы на руках, и тогда я бегу от людей и бросаюсь навстречу роскошной природе. Я сажусь на самое неудобное место, пытаюсь охватить, просверлить ее взором, хочу запечатлеть ее и поэтому мараю листок, на котором так ничего и не отражено, но который бесконечно дорог мне, потому что напоминает о счастливой минуте, которую доставило мне мое кропанье. Но что же это такое, это странное стремление от искусства к природе, а от природы к искусству? И если оно сулит мне наслаждение, почему я не могу постичь его?»
Удивительное состояние духа, совсем как у Фауста. В эти годы оно делает Гёте и грустным и счастливым и повергает в неистовство. Об этом свидетельствуют сотни его писем. Гёте пытается обрести твердость, но сомнительность его положения становится ему яснее и яснее.
Светская суета все больше засасывает его. Он боится израсходовать свои силы, которые прежде уходили в поэтическое творчество, в круговороте житейских дел.
Он уже редко творит. Порой он и сам пугается, глядя на свой образ жизни. «При этом случае, пишет он герцогу, стараясь говорить его языком, — я вижу, что уж слишком кавалерственно обращаюсь с прекрасным даром небожителей, и, право же, мне самое время рачительнее отнестись к моему таланту, если только я собираюсь еще что-нибудь сочинить».
Да, в первые четыре года жизни при веймарском дворе, он написал мало стихов. Правда, ему кажется, что его новая деятельность оказала на него благодетельное влияние. «Невозможно охарактеризовать пользу, — пишет во время одной из служебных поездок Гёте, — которую оказывает на мою фантазию общение лишь с людьми, которые заняты определенным, простым, постоянным и важным делом. Это как холодное купание, оно снимает с нас утомление от обывательско-сладострастного существования, и мы возвращаемся к жизни с новыми силами».
И все-таки к чему все это? — снова спросим мы. К чему это строительство дорог, и рекруты, и служебные интриги, и врачевание душ при дворе? Зачем учиться повелевать и повиноваться, зачем утомлять себя повседневными делами так, что уже нет сил создавать новые произведения?
Вот зачем:
«Как бы долго ни продолжалось мое теперешнее положение, а всё-таки я с полным удовольствием отведал кусочек, образчик пестрой сутолоки жизни…» И еще он говорит, что счастлив, попав в страну, где может вести «самое звонкое существование в вечной смене удовольствия и недовольства».
На третий год он пишет: «Вчера вечером я подумал, что боги, вероятно, считают меня прекрасной картиной, раз они пожелали заключить ее в такую чудовищно дорогую раму».
Но он не хочет быть такой картиной. Недаром, когда ему было двадцать семь лет, он сказал Лафатеру: «Все твои идеалы не помешают мне быть правдивым, добрым и злым, как природа!»
Полярность, основная черта его юности, ярко прорывается, в тридцать лет, когда он сказал актеру Ифланду: «Послушайтесь моего совета, играйте крайности. Все самое неожиданное, самое низменно смешное, всегда играйте как высокую трагедию! Только глупец держится середины, когда у него есть материал, чтобы сыграть нечто исключительное! Уф-фф!! Напрягайте каждый нерв. Выше! Выше! Или оставайтесь в своем дерьме!»
И все-таки бывают часы, когда он чувствует себя счастливым. «Я вынужден признаться, что моя возлюбленная — мое счастье». Однажды, заканчивая записку к госпоже фон Штейн, он пишет без всякой связи с предыдущим: «Счастье жизни тяжко лежит на мне!»
Проходит еще два года. Оставив герцога пьянствовать и дебоширить с приятелями в Эйзенахе, Гёте уединяется в Вартбург. Ему мешает даже Кнебель, который вскоре приехал за ним сюда. Много недель живет Гёте наверху один, в полной бездеятельности. Некий незнакомец, которому удалось прорваться к нему, утверждает, что Гёте немногословен, как англичанин, серьезен, холоден и погружен в сплин.
Но Гёте вынужден принять и еще одного гостя путешественника, навестившего его по пути из Петербурга в Париж. Гёте всей душой ощущает, что ему решительно не о чем говорить с этим светским посетителем. В письме к другу Гёте пишет, что живет погруженный в полное молчание. Тем временем близкие развлекаются, придумывая о нем всякие небылицы. Совсем как раньше, когда он сам развлекал их небылицами.
Да, ему минуло уже двадцать восемь. Он писатель, овеянный мировой славой, министр, друг государя, замечательных женщин и выдающихся мужчин. В самый разгар зимы с ее празднествами и увеселениями, с ее обязанностями и проектами он внезапно уезжает на Гарц. Восхождение на Брокен вызывает в нем пафос необычайный. Повстречавшийся ему лесник считает, что взойти на Брокен в это время года невозможно. Но Гёте охвачен библейскими настроениями:
— Я молил богов, чтобы они изменили и сердце этого человека и погоду — и тут наступила тишина. И лесник сказал мне:
«Сейчас вы сможете увидеть Брокен». Я подошел к окну, и Брокен возник передо мной столь же ясно, как лицо мое в зеркале. Сердце мое переполнилось, и я воскликнул: «Так неужто же я не взойду!..» И лесник сказал: «Я тоже пойду с вами…» Тогда я вырезал знак на оконном стекле — свидетеля радостных моих слез». Даже через год празднует он этот день и радуется, что сбылись все тогдашние предзнаменования.
Чем глубже погружается он в дела света, тем больше старается бежать, отходить от темных его сторон. «Стоит только выйти из своего дома, как тотчас же попадаешь в дерьмо», — пишет Гёте после какого-то заседания.
Очутившись в Берлине, в самом центре воинственных настроений, Гёте чувствует себя здесь совсем чужим, он молит богов ниспослать ему чистоту помыслов и спокойствие, ибо видит, как в нем вянут ростки доверия и откровенности. «Душа моя была подобна городу, обнесенному низкими стенами, за которыми на высокой горе высилась цитадель. Я охранял замок, но город оставил беззащитным и в дни мира и в дни войны. Теперь я начинаю укреплять его… Ах, железные обручи, стягивающие мое сердце! Они так впились в него, что сквозь них уже ничто просочиться не может. Чем огромнее мир, тем отвратительней фарс, и, клянусь, все непристойности и глупости Гансвурста не столь омерзительны, как нутро великих, а заодно и малых сих, всех вперемешку. Но у меня недостанет смелости поклясться им в вечной ненависти».
Гёте делит свое сердце между делами, уединением, подругой и герцогом, но для радости в нем остается мало места. Многие покидают Гёте, потому что он покинул их. Прерывается переписка с Кестнерами. Идеальные узы с графиней Штольберг рвутся тоже. Ленц и Клингер, друзья Гётевой юности, скоро последовали за ним в Веймар, но отнюдь не по его призыву. Ему вовсе не хочется, чтобы веймарцы вспоминали, кем он был прежде. Вскоре оба уезжают.
Да, отношение Гёте к людям изменилось. Даже Мерк получил от него нахлобучку за то, что вел себя бестактно и мог повредить положению, которое с таким искусством создал себе Гёте в Веймаре. Гёте решительно запрещает ему писать что-либо о веймарском обществе и дворе. И все-таки свои тайные мысли он доверяет только Мерку, Мерк все еще Мефистофель, даже в большей мере, чем прежде. Это о нем пишет двадцативосьмилетний Гёте: «Он единственный вполне понимает все, что я делаю и как делаю». Тем не менее, Мерк рассказывает по секрету, впрочем, нисколько не обиженный, что Гёте частенько принимает его сухо и холодно, словно слугу.
За двадцать лет, проведенных при дворе и в свете, Гёте приобрел единственного друга — майора Кнебеля. С Виландом его связывают сердечные, но не близкие отношения. Зато на горизонте вновь появляется Гердер. Гёте сам вытребовал его в Веймар, приготовил для него квартиру, устроил ее, заранее рассчитав, в какой комнате будет рожать фрау Каролина и где поместить няньку и детей. Гердер приезжает, очень скоро начинает воевать с двором и с обществом, и младшему другу невольно приходится выступить в роли его покровителя. Зато, приехав в Веймар, Гердер положительно оживает. Он приступил здесь к работе над своим вторым, главным произведением.
Гердер, его жена Каролина, Кнебель, Виланд, госпожа фон Штейн составляют интимную аудиторию Гёте. Им он читает новые сцены и главы из своих произведений. Зато любовь Гёте к Лафатеру уступает место нарастающему раздражению. И когда Лафатер пытается обратить своего языческого друга к религии, Гёте поясняет ему, что он вполне человек земли. Сеятель, Блудный сын для него святее, чем все семь епископов, светильники и посвящения. Он принадлежит к тому миру, в котором действуют пять органов чувств.
Гёте минуло двадцать девять лет. Он снова едет в Швейцарию. Но на этот раз это не бегство. Мощное чувство жизни владеет им: «Удивительное чувство вступления в тридцатый год! — пишет он в своем дневнике. — Изменение многих точек зрения». Он понимает, что четвертое десятилетие — это пограничный камень на рубеже двух эпох.
Он предчувствует разлуку с молодостью. Ему кажется, что и герцог достиг уже зрелости. Вероятно, это заблуждение. Он думает, что в это лето его друг очень вырос. «Мне кажется, — пишет Гёте, — что и с Короной отношения мои стали лучше, прочнее».
Действительно, в начале августа красавица приезжает к нему. «Нам очень хорошо вместе, ибо мы оба в одинаковом положении: моя любимая уехала, а ее царственный друг пошел новыми путями».
В начале августа Гёте начинает подводить итог уходящему XVIII веку: разбирает, сжигает бумаги и со смирением описывает свою молодость.
«Я спокойно взираю на прошедшую жизнь, на смятение, суету, на жажду знаний, свойственную юности, которая стремится поспеть повсюду, чтобы найти то, что ее удовлетворяет. Особенное удовольствие мне доставляли тайные обстоятельства, неясное и воображаемое. Как поверхностно касался я научных вопросов, чтобы тут же забросить их! Какое пошлое самодовольство пронизывает все, что написано мною в ту пору! Какую близорукость проявлял я во всех делах божеских и человеческих! Как много дней растратил попусту, — не на полезные размышления и творчество, а на чувства и призрачную страсть, которые лишь расхищают время. Как мало пользы принесло мне все это! А теперь половина жизни прошла, пути назад уже нет. Я подобен человеку, которому удалось спастись из потока, теперь он стоит и сушится на благодатном солнце. Но время, которое с октября 75-го года я провожу в светской суете, я не решаюсь даже и обозреть… Пусть же идея очищения, простирающаяся на каждый кусок, который я кладу себе в рот, все ярче и ярче горит во мне». В эти самые дни он пишет домой, извещая родителей, что приедет к ним с герцогом. В письмах явно чувствуются холод и отчуждение. Так повелительно пишет маршал, состоящий при своем государе.
Но вот наступает день рождения Гёте, и неожиданно он почувствовал себя «свободным и веселым».
«Словно чудом, после дня моего рождения, — пишет он чуть позднее, — я оказался в самой гуще современных событий… Откровенно весел, и мерзости не оказывают решительно никакого влияния на мое настроение… Получил приказ, в котором мне дали тайного советника. Меня закружили водоворот земных дел и разные неприятные ощущения. Но писать о тайных этих ощущениях не подобает и мне».
Поездка домой — это смотр, который он производит собственной юности. Насмешливо и дружественно взирает он на Франкфурт. В длинных письмах к подруге описывает глетчер, на который взобрался по дороге к родителям. Но о свидании с близкими пишет всего несколько слов: «Старые мои друзья и знакомые мне очень обрадовались… Отец изменился, стал молчаливее, и память его слабеет, мать бодра по-прежнему и все так же мила».
В Страсбурге он оставляет своих спутников и один едет верхом в Зезенгейм. «Младшая дочь когда-то любила меня больше, чем я заслуживал… Я вынужден был покинуть ее в минуту, которая едва не стоила ей жизни. Она кротко молчала о прошлом и только рассказала мне, какие следы оставила в ней болезнь. Она была так очаровательна, она выказала такую сердечную дружбу, как только я нежданно появился перед ней на пороге. Она водила меня по всем уголкам. Я сидел в тени деревьев, и мне было хорошо. Стояло прекрасное полнолуние; я расспросил ее обо всем. Какое счастье, что теперь я могу с радостью вспоминать об этом уголке и жить в мире с духами-хранителями девушки, примирившейся со своей участью». Неужели прошло всего восемь лет, с тех пор как он ускакал отсюда? Как далеко его душа!
Тотчас же после этого свидания он едет в Страсбург, к Лили. «Я застал красивую проказницу, забавляющуюся с семинедельной куклой. Мать была тоже здесь, Я и ее расспросил обо всем, заглянул во все углы. И к восторгу своему, увидел, что милое создание счастливо в замужестве. Муж ее… кажется, славный, разумный и деловой человек. Он зажиточен, у них хороший дом. Я веду себя с этими людьми совсем прозаически. Старые друзья и их судьба кажутся мне столь же далекими, как страна, на которую смотришь с вершины высокой горы или с высоты птичьего полета».
С высокой горы или с высоты птичьего полета?..
Гёте и вправду скоро окажется на глетчере. Он стоит на нем, погруженный в размышления. Мысли его патетичны, как патетичен окружающий пейзаж. Он стоит в задумчивости, созерцая природу, словно себя самого. Но высокую душевную настроенность разбивает герцог, который жаждет «похулиганствовать».
Стоя на глетчере, оба швыряют камни вниз.
Путь их ведет не только через глетчеры, но и через города. Правда, шумных сборищ они избегают. Они путешествуют, словно скромные бюргеры-родственники. В Женеве тридцатилетний писатель впервые слышит хвалу своему «Вертеру», произнесенную на чужом языке. На обратном пути они посещают княжеские дворы Южной Германии. До сих пор Гёте знал только поэтический веймарский двор. Он изощряется в насмешках над наследными принцами и принцессами и отклоняет все новые знакомства. Устал он до изнеможения. «Все они живут в плохих условиях, их окружают почти исключительно болваны и мерзавцы… Встречаясь с так называемыми светскими людьми, я пытаюсь понять, в чем же, наконец, их сущность». Он составил длинный сатирический список придворных, о которых собирается написать пьесу. А в самом конце этого списка поместил и слугу, у которого «больше ума, чем почти у всех у них вместе». Беспристрастно наблюдает он теперь природу и людей. И только раз за время всего путешествия перед ним возникает соблазн. Это случилось в Лозанне, во время визита к маркизе Бранкони.
Впервые встречает Гёте красавицу большого света.
Впрочем, нет. Разве не видел он ее прежде? В тот самый день, когда ему, тогда еще юноше, показали силуэт госпожи фон Штейн, рядом с этим изображением положили и то, другое — силуэт незнакомки, маркизы Бранкони. Он еще написал тогда под изображением госпожи фон Штейн: «Побеждает сетями», а под силуэтом красавицы: «Побеждает стрелами».
И вот он стоит перед ней… Кажется, мало женщин в Европе, а тем более немок, которым сама судьба предназначила пересечь путь Гёте, как этой совершенной красавице, маркизе Бранкони. Немка, бывшая возлюбленная некоего герцога, маркиза славилась не меньше, чем впоследствии леди Гамильтон.
Она сразу поняла, кем может стать для поэта, и сразу же пригласила его к себе. Глядя на нее, Гёте вслух вопрошает: «Неужели она и взаправду так хороша? Ум! Жизнь! Открытость! Право, можно потерять рассудок». Но нет! Ему вовсе не хочется стоять на безнадежном посту ее поклонника и «по обязанности таять целый год, словно масло на солнце». Он уходит от нее. Обращаясь к ее чичисбею, он говорит: «Подумать только, что могла бы сделать эта женщина из мужчины!» Но такова уж судьба Гёте. Он обречен вечно кружить вокруг мгновения, никогда не решаясь схватить его. Разве не превосходит маркиза Бранкони во всех смыслах Шарлотту фон Штейн? Разве не делала она поэту авансов? И все же он боится утратить себя, утратить свою личность. А в этом глубочайшая причина отречений Гёте-художника от жизни.
Он снова стоит на Сен-Готарде. Снова смотрит с перевала на юг. Но и теперь «Италия не манит меня. Я знаю, что сейчас эта поездка не принесет пользы герцогу, что нехорошо оставаться дольше вне дома, что я хочу увидеть вас всех. Все это заставляет меня вторично отвести взоры от благословенной страны (впрочем, надо надеяться, что я все-таки не умру, не увидев ее) и уводит мой дух под бедную кровлю, где я с большей радостью увижу вас вновь у моего камина и попотчую славным жарким…».
Да, юность, очевидно, отгорела. И когда Лафатер посылает к нему своего ученика, Гёте пишет в дневнике: «Он чувствует близость ко мне и доверие. Но, к сожалению, я чувствую свои тридцать лет и свое мировое значение! Я стою уже в некотором отдалении от того, что в нем только еще формируется, распускается. Правда, я смотрю на юношу с удовольствием, душа моя еще близка его душе, но сердце мое уже далеко. Душу мою наполняют великие мысли, которые вовсе чужды юноше. Они занимают ее в новом царстве, и поэтому я в полной безопасности могу спуститься в долину, где бабочки и нежные горлинки предаются любви на заре».
Отчуждение от друзей. — «Птицы». — Прощание с Короной. — Опять и опять госпожа фон Штейн. — Разочарование в Карле Августе. — Три музыкальные комедии. — Государственный деятель. — Президент палаты. — Дом на Фрауенплане. — Геология. Остеология. — В Иене. — Ода к природе. «Вильгельм Мейстер». — «Эгмонт». — «Пра-Фауст». — Письма к госпоже фон Штейн. Дружба с Гердером. — Снова одиночество. Слуга Филипп Зейдель. — Поездки в Иену. «Границы человечества». — Отпуск. — Карлсбад. — Пятое бегство.
В том самом году, когда Гёте минуло тридцать лет, он в знак признательности и молений воздвиг в Веймарском парке памятник трем божествам. В центре группы стоит Тиха — доброе смирение. Справа от нее Терминий — мудрый советчик, охранитель границ; в руках у него посох, увитый змеями. А слева, вздымая факел, мчится, увлекая за собой остальных, стремительный гений.
Гёте пошел уже четвертый десяток. Он стал вполне светским человеком, серьезным, трезвым, лишенным фантазий. Улыбаясь, слушает он, как противники на все лады восхваляют его путешествие. Они надеются, что герцог возвратился в Веймар успокоенным и возмужалым. Гёте тоже кажется, что друг его вступил в новую эру и не подозревает, что она продлится всего один год.
Гёте вполне удовлетворен своей деятельностью.
«Я занят делами с утра до вечера. Если быть умереннее, можно бы сделать гораздо больше, даже просто невероятное. Но, разумеется, мне еще солоно придется… Иногда я готов, подобно Поликрату, бросить в море мое любимое сокровище. Мне удается все, за что бы я ни брался».
Никогда уже не произнесет Гёте столь радостных слов. Радость, которой он охвачен, слишком искусственна и даже надуманна, чтобы звучать долго. Внезапно настроение его меняется.
Тиха, которая только что улыбалась ему, неожиданно поворачивает свою голову двуликого Януса. Грозные тяжелые глаза мрачной судьбы глядят на Гёте. Словно стеклянная стена вырастает между ним и окружающими. «Железное терпение, каменная выдержка! — восклицает он. — Если бы только люди не были столь нищи духом, а богатые столь ничтожны!»
Неприметно в нем, в человеке, действующем на благо общества, нарастает презрение к тем, для кого он трудится. «В юности мы думаем, что будем строить для людей дворцы, а когда доходит до дела, мы только и делаем, что убираем за ними дерьмо».
Тем не менее, он все еще полон решимости браться за любое начинание, даже если оно кажется непосильным. «Самое сложное для меня, — признается Гёте, — в том, что я совсем не понимаю пошлости. Просто непостижимо, что между мной и явлениями, которые с легкостью понимает и к которым легко приспосабливается самый ничтожный человек, лежит бездонная пропасть. Но нужно трудиться, и как можно прилежнее. Только на пользу. Иногда у меня просто подкашиваются ноги под невыносимой тяжестью креста, который я вынужден нести почти один…»
И все-таки даже в эти минуты ему кажется, что он проходит некую школу, поднимаясь со ступеньки на ступеньку вверх. «Мне открылись новые тайны. Меня ждет еще много всякого разного, и я закаляю себя, чтобы быть готовым ко всему. Ни одна душа в мире не знает, что приходится мне терпеть и за себя, и за других. Самое прекрасное — глубокая тишина, в которой я сейчас живу, уединившись от мира. Здесь я расту, здесь я беру все, чего они не могут отнять у меня ни огнем, ни мечом». — Так пишет Гёте.
Впрочем, он давно уже не пишет, а диктует. Процесс письма нервирует его, рассеивает внимание. Правда, иногда он составляет предварительный конспект. Однако во время диктовки — будь то стихи, проза, письма — написанное неизбежно приобретает оттенок устной речи. Да и вообще хорошие мысли приходят ему обычно, лишь когда он ходит взад и вперед по комнате и думает вслух. Он решает впредь только диктовать.
Гёте так зависит от освещения и температуры воздуха, что сравнивает себя с цветком, у которого закрываются лепестки, как только заходит солнце.
«Я почти не пью вина, — пишет Гёте. — Зато с каждым днем все больше наблюдаю окружающих и все больше участвую в деятельной жизни». Между прочим, и в жизни герцога. Он снова охраняет его, как в первые дни знакомства, снова объясняет молодостью его грубые прихоти и прощает их. Он снисходительно улыбается, когда герцог приказывает всем своим придворным последовать примеру Гёте и остричь волосы. Он иронизирует, прочтя список членов совета. Он смеется, узнав про затруднительное положение, в которое попал герцог, случайно отправив не по тому адресу посла с любовным поручением. Он пишет герцогу, который находится в отсутствии, длинное письмо, полное придворных сплетен, начиная с гарнизонной школы, кончая забрюхатевшей камеристкой герцогини. Но ирония Гёте добродушна. В нем вновь ожили надежды, которые он возлагал некогда на государя. Он все еще надеется, что друг сумеет обуздать себя, как это сумел сделать он сам. Возвышенный покой, которого так пламенно жаждет Гёте, заставляет его отдалиться от друзей, даже от Гердера, даже от Каролины. Его радует общество только одного человека, поэт называет его чуть ли не сыном. Это не герцог, не поэт, не профессор, не философ. Это сельский помещик Батти, и он привлекает его к управлению экономикой государства.
Но чем дальше отходит Гёте от людей, тем любезнее он в обращении с ними. Стиль его писем так приближается к стилю адресата, что уже по одному звучанию можно понять, к кому они обращены, к Бранкони, Ларош, к Мерку или Кнебелю. Гёте теперь реже бывает в свете, зато вступает в братство Свободных каменщиков. Правда, он надменно поясняет, что, шаг этот сделал лишь потому, что ищет общения.
Гёте — придворный поэт и по обязанности выполняет все, что от него требуется: организует зимние карнавалы, продумывает их почти как пьесы, акт за актом. Помечает у себя в дневнике, что все роли между участниками праздника уже распределены. Вообще он занимается сейчас искусством, как одной из своих министерских обязанностей: изучает биографию далекого герцогского предка, чтобы использовать ее для пьесы; приглашает из Лейпцига своего учителя Эзера и поручает ему переписать заново некоторые декорации в Веймарском театре; репетирует пьесу, которая ему не нравится, «исключительно по долгу службы». Сам играет в ней чрезвычайно добросовестно и с большим успехом самую бездарную из всех ролей.
В середине года он задумывает «Тассо», но не пишет ни единого слова и почти не прикасается к «Вильгельму Мейстеру». Но когда во время служебной поездки, сидя на лошади, Гёте дописывает мысленно любимую свою главу, он вдруг разражается слезами. Он плачет оттого, что при нем нет писца, а он хорошо знает, что между часом вдохновения и завтрашним утром расстояние такое же, как между сном и явью. И по той же причине у него пропадает целая сцена из новой пьесы. Тщетно старается он ее восстановить.
В такие минуты искусственная жизнь, которую он ведет, кажется ему бесцельно нелепой, и он признается в этом: «Часто, когда я сижу на моем клеппере и еду к месту служебного назначения, мне кажется, что кобыла подо мной превращается в удивительнейшее существо — крылатое, стремительное и уносит меня прочь отсюда».
На тридцать первом году Гёте пишет, в сущности, только пародию на критиков и литераторов. Но и она написана в строго придворном вкусе.
«Напишу-ка я «Птиц», — сообщает Гёте. — Они привлекут зрителей, позабавят принца, и дам ему в них большую роль, это заставит его покинуть Тифурт». И он начинает диктовать пьесу — правда, только по воскресеньям. Ни дать ни взять как чиновник, перегруженный делами, который сочиняет просто так, между делом, в часы досуга. «Птицы» последняя пародия Гёте. Отныне много десятилетий юмор его будет таиться, запертый в темном углу. Не мудрено, что, когда юмор этот вновь вырвется на свет божий, он окажется таким колючим.
В это время у Гёте впервые возникает предчувствие смерти. Через несколько дней после дня своего рождения, Гёте пишет на дощатой стене, под картиной, изображающей тюрингский пейзаж, свои удивительные стихи:
Неужели любовь бессильна? Неужели не может отвратить мыслей Гёте от неизбежного конца?
Вернувшись из Швейцарии, он продолжает навещать и Корону, и госпожу фон Штейн. Но уже через неделю его начинает мучить недовольство Шарлотты. Им овладевает глубокая печаль. Проходят два месяца, и он, очевидно навсегда, расстается с Короной. Может быть, потому, что он находился в таком антипоэтическом, таком антиэстетическом настроении, артистичная Корона стала ему чужой. Может быть, разрыв ускорило то, что Гёте ревновал к ее прошлому, к герцогу и к другим. А может быть, в этом повинно и скептическое отношение Короны к госпоже фон Штейн. Как бы там ни было, он сообщает своей подруге, что порвал с Короной. Сообщает тем откровеннее, чем тщательнее скрывал от нее свои интимные отношения с актрисой.
«Вчера вечером, — докладывает Гёте госпоже фон Штейн, описывая ей репетицию своей пьесы «Калисто», — прекрасная Мизель, подобно комете, сорвала меня с привычной орбиты и увлекла к себе домой. Репетиция сопровождалась весьма дурным настроением». И в тот же день он делает своему дневнику совсем другое признание. «Вечером репетиция «Калисто». О Калисто! О Калисто!» Как звучит здесь боль расставания с женщиной, возлюбленным которой он был в этот самый вечер.
Этот вечер — кризис в их отношениях, его прощание с певицей. На следующий вечер она вместе с приятельницей заходит к Гёте и застает у него герцога. «Но так как все мы больше не влюблены, пишет поэт в своем дневнике, — и на поверхности лава уже застыла, то все прошло как нельзя лучше. Вот только надо соблюдать осторожность и не попадать в трещины. В них все еще полыхает огонь».
Проходит еще полгода, и Гёте записывает: «Корона утешилась». Вероятно, в это время он написал письмо, единственное, которое дошло до нас:
«Как часто хватался я за перо, пытаясь объясниться с тобою! Как часто объяснение было у меня на губах!.. Но я не хочу оправдываться, чтобы не задеть струны, которые не должны больше звучать. Молю бога, чтобы ты и безо всяких объяснений примирилась со мной и простила меня… Если я в чем и виноват пред тобой, ведь это так человечески… Ведь и я простил тебе многое. Давай жить в дружбе. Мы не можем уничтожить прошлое, но мы вольны в будущем, если только будем умны и добры. Я ни в чем не подозреваю тебя. Не отталкивай же и ты меня, не отравляй мне часы, которые я могу проводить с тобою… Но, если ты требуешь большего, то я готов сказать тебе все… До свидания! Как бы я хотел, чтобы наши отношения, которые так долго были зыбкими, обрели, наконец, твердость! Г.
Спасибо тебе за пирог и за песню, посылаю тебе в благодарность пеструю птицу».
Как ощущается в этих строчках тяжесть, которая давит душу. И, кажется, мы видим лицо тридцатилетнего человека, которое дышит грустью и изборождено морщинами. Таким и изобразил его ваятель Клауэр, сделавший пять скульптурных портретов Гёте.
Летом в Веймар приезжает маркиза Бранкони — очевидно, только чтобы повидать Гёте. Он любуется ее красотою, но скорее как художник, чем как поэт.
«Лишь теперь, — пишет Гёте после отъезда маркизы, — почувствовал я, что вы были здесь. Так чувствуешь вкус вина только через несколько минут после того, как его выпьешь. В вашем присутствии хочется иметь как можно больше глаз, ушей, ума, чтобы видеть вас, верить и понимать, что и небу захотелось… создать нечто подобное вам».
Очевидно, маркиза старалась завлечь его, потому что он пишет: «Я вел себя с вами, как с королевой или святой. Может быть, это безумие, но я не хочу, чтобы пошлое мимолетное вожделение замарало образ, который я нарисовал себе. А уж от более серьезных уз избави нас боже. Ведь с их помощью вы похитили бы у меня душу из тела».
Гёте пытается уйти от чувственного воздействия женщины. Ему хочется дышать более чистым воздухом в более высоких слоях атмосферы.
И все-таки, какой вымученный год, год застоя! Человек уходит от света, чтобы сделать своим идолом меланхолическую придворную даму. Чем глубже погружается Гёте в практическую деятельность, чем больше отходит он от поэзии, тем ближе ему Шарлотта фон Штейн. Немолодая дама, намного старше его, она целых двадцать лет провела при дворе, теперь она становится советчицей Гёте во всех его делах. Шарлотта фон Штейн вовсе не хочет быть музой поэта, она вовсе не хочет заставить его вернуться в то, другое, царство поэзии. Она хочет только, как можно крепче, удержать его в этом, в земном. Шарлотта стала естественной спутницей Гёте. Постепенно она унаследовала все чувства, которые он питал к другим женщинам, стала для него матерью, сестрой, наконец, возлюбленной. Обычно он легко справляется с неровностями ее настроения — посылает ей маленькую метелку, чтобы она вымела свои обиды на него. Шарлотта ревнует его к своим кузинам, которым он посвятил какие-то стихи, он обещает ей впредь этого не делать. Он доверяет ей все, что его волнует, и уже не чувствует стремления излиться перед нею в стихах. Именно ее отсутствием (она как раз куда-то уехала) объясняется то, что первый акт его «Птиц» написан так быстро. «Ведь когда вы здесь, мне слишком хорошо в часы досуга… Всегда, как только возможно, стараюсь я излить вам все, что поминутно волнует мою душу. Когда вас нет, мне некому исповедаться, и я вынужден искать другую отдушину».
И все-таки у нас есть свидетель, который утверждает, что именно в этом году Гёте чрезвычайно много утаивал от своей подруги. Никогда больше не станет Гёте так перегружать исповедями свой дневник, который по краткости обычно напоминает календарь. Зато в бесконечных письмах к Шарлотте он вовсе не исповедуется. Наоборот, он постепенно развивает в себе полную скрытность и не говорит ей о том, что происходит в его душе.
Проходит еще год. Гёте минуло тридцать два.
Вот уже пять лет, как он живет в Веймаре. И неприметно в нем начинается внутренний поворот. Он все еще любит свою подругу. Но его жизнь, вращавшаяся вокруг нее, изменилась. В течение всех этих лет только эта женщина составляла центр и содержание его бытия. Она должна, наконец, принадлежать ему, мужчине.
Кризис начинается с вопля. Впервые прорываются темные силы, так долго лежавшие под спудом. «Мне было очень больно, — пишет Гёте Шарлотте, — от слов, которые вы сегодня произнесли. Не будь герцога, который поднимался вместе с нами в гору, я бы наплакался вволю. Да, только ненависть к собственной плоти может заставить несчастного искать облегчение в том, чтобы оскорблять любимую. И будь это только припадком, капризом. Но ведь я со всеми тысячами моих мыслей превратился в ребенка, который не знает, что происходит с ним, который не разбирается в себе. А ведь в душу других я всегда вторгаюсь словно светлый, всепожирающий огонь. Нет, я не успокоюсь, покуда вы не дадите мне полный отчет на словах в нашем прошлом и не постараетесь на будущее изменить свои сестринские помыслы, недоступные для других чувств. Иначе мне придется избегать вас именно в те мгновения, когда вы мне более всего нужны. Чудовищно, что я гублю с вами лучшие часы моей жизни. А ведь я согласился бы вырвать волос за волосом из собственной головы, только бы доставить вам счастье. Быть такой слепой! Такой черствой! Сжальтесь же надо мной!»
Шарлотта читает это письмо и приходит в замешательство. Платоническая подруга видит, что здание, которое она воздвигала целых пять лет, готово рухнуть. Очищение Гёте от страстей, очищение его души ограничилось только пределами искусства. Античная часть его существа восстает против ее аскетизма.
Природа Гёте — вся солнце или вся ночь — содрогается. Он ведет на нее штурм, а она стоит безмолвная и оглушенная. Он и сам сейчас бледен, растерян. «Сжальтесь же надо мной!»
Проходит несколько дней. Гёте уезжает к графине Вертерн, возлюбленной герцога. Из ее замка он пишет Шарлотте: «Я сравнил свое сердце с разбойничьим замком, который вы завоевали. Вы прогнали оттуда подлую сволочь и полагаете, что теперь он стоит того, чтобы его охранять. Но удержать завоеванное можно, только ревностно его оберегая. Оно досталось вам не при помощи насилия или хитрости. Однако с человеком, который сдается добровольно, необходимо обращаться самым благородным образом и вознаградить его за доверие».
Охранять, ревностно оберегать, награждать и доверять…
В устах Гёте это новые выражения. Но он еще усиливает атаку, воспевая прелести другой, более прекрасной и молодой женщины. Он живет сейчас в ежечасном общении с нею, и это дает ему оружие против подруги. Никогда за все одиннадцать лет не изливался так Гёте госпоже фон Штейн, никогда не делился с ней восхищением, которое он испытывал к другой. Владелица замка нравилась ему уже давно. Но прежде он исповедовался в этом чувстве только своему дневнику. Сейчас графиня становится для него средством в любовной игре. Иначе, почему бы он столь многословно признавался далекой подруге в своей слабости к прекрасной даме?
«Графиня раскрыла мне значение некоторых новых для меня понятий… Как часто слышал я «свет, большой свет, светское общество», но это ровно ничего мне не говорило. Графиня обладает гениальностью, которая обычно проявляется в искусстве, но она обладает ею в искусстве жизни. У меня осталось всего три дня, и все эти дни я употреблю на то, чтобы смотреть на нее и запомнить еще некоторые ее черты».
Но наступает конец марта, и в письмах его начинает звучать новый, юношеский тон, тон победы, одержанной после долгой борьбы: «Твоя любовь для меня звезда утренняя и вечерняя… Не могу тебе сказать, да я и сам еще не понимаю, как твоя любовь перевернула все в моей душе. Такого ощущения, я еще не знал… До свидания, моя Новая… Фрица я расцеловал, словно твою душу. О, если б только я мог выразить, как я обязан тебе! Будь здорова и знай, что ты делаешь меня бесконечно счастливым…»
И так без конца целых десять дней, одни только восторги и образы, которых не было уже пять лет. Он бесконечно счастлив, доволен, удовлетворен, спокоен. И снова шейный платок для нее, и снова Фриц — посланец любви…
Удержать возлюбленного, и удержать его навсегда — вот в чем высокое искусство Шарлотты! И все же она потеряла его, и потеряла именно в ту самую минуту, когда ей казалось, что завоевала навеки. Справедливость, присущая законам любви, заставила ее расплатиться за слишком долгие свои колебания, Много лет тому назад, когда ее удерживала вера в чистоту души и светские предрассудки, она могла стать спутницей Гёте: Только она умела создавать атмосферу, в которой его раздвоенная душа обретала покой. Но теперь она уже перестала пьянить его, В ее недоступности еще было очарование. Отдавшись ему, она утратила его. Уже в мае тон его писем делается до странности спокойным: «Если бы ты позволила мне сказать, что я люблю и уважаю тебя всегда!» Она посылает ему свой силуэт. «Нет, ты не можешь стать мне еще ближе и ощутимее, — уверяет Гёте, — и все-таки мне доставляет радость каждая цепочка и каждая новая цепь. До свидания.
Конечно, мы увидимся сегодня с тобой». И он не боится даже приписать: «Вертерн вернула мне «Вильгельма Мейстера» с очень милой записочкой. К обеду придет Шретер. Я был и остаюсь любимцем женщин, так что придется и тебе любить меня».
Гёте никогда не называл себя «любимцем женщин». Да он и не был им в обычном смысле слова. Но в эти месяцы во всех письмах и записочках к Шарлотте звучит уверенность обладателя, уже готового отречься от любимой. Ибо впервые над вратами, ведущими в новую эпоху, Гёте пишет слово «ОТРЕЧЕНИЕ». И на всех удивительных дорогах его жизни это слово будет возникать опять и опять, даже в самые последние его годы: Но теперь, в период между тридцать первым и тридцать седьмым годами, это вовсе не то отречение, которое возникало в меланхолические ночи Вертеровой поры. Нет, это мужественный, твердый и спокойный отказ от жизни, которой он жил в Веймаре. В первые годы Гёте казалось, что его практическая деятельность только подготовка к дальнейшему, только широкое поле, на котором он сможет впоследствии проявить все свои возможности. Потом он решил, что только эта деятельность и есть призвание, достойное человека, и что даже гений должен радостно служить задаче, поставленной ему жизнью. Теперь он с величайшим трудом выполняет ее. Все быстрее растет переутомление и усталость. Он мечтает стряхнуть с себя служебное бремя. Но только после шестилетней борьбы ему удастся бежать на свободу. Гёте все откровеннее жалуется близким на тяжесть своего положения. В письме к матери он, словно с вершины высокой горы, окидывает взором страну, которой управляет, и прощается со своей властью.
Внешним поводом, который вызвал эту перемену в настроении Гёте, явилась ограниченность возможностей управления, которые он хотел использовать, чтобы упорядочить дела в государстве и пороки в характере герцога, которым он намеревался руководить. Но тупой свет чинил всяческие препоны гению, очутившемуся у кормила власти. «Разве мог я желать положения более счастливого, чем то, в котором я нахожусь и в котором таится нечто неисчерпаемое? Право, только исключительно важные причины… могли бы заставить меня покинуть мой пост. Непростительно даже в отношении меня самого, если бы я бросил все только оттого, что не все меня устраивает, и лишил бы себя и тени и плодов моего урожая. Поверьте, бодрость, с которой я работаю и несу мои обязанности, проистекает от сознания, что все жертвы я приношу добровольно. Стоит только приказать заложить почтовых лошадей, и я снова обрету у вас все приятности жизни и покой. Не будь у меня этой перспективы, я считал бы себя в часы огорчений крепостным и поденщиком, который работает лишь по необходимости, и многое показалось бы мне куда более горьким».
Вот как критически оценивает Гёте свое положение. А ведь он привык таиться не только от матери, но и от ее друзей, которые читали вместе с ней его письма и выбалтывали все, о чем бы он ни писал.
Но хотя практическая деятельность превращается для Гёте в проклятие, он берет на себя все больше и больше дел. Нагрузка его удваивается. Он становится президентом герцогской палаты и «все туже затягивает на себе панцирь». Как нарочно, сын того самого гофмаршала, который почти восемь лет назад в придворной карете привез Гёте в Веймар, растратил казенные деньги и вынужден уйти с поста президента палаты. Все дела, связанные с реформой и государственными делами, переходят к Гёте.
Окруженный завистью, поэт занимает место за письменным столом уволенного в отставку придворного. Но является он сюда отнюдь не как победитель. Он снова слишком положился на свое знание страны и людей, которых тщательно изучил. Он снова преуменьшает неповоротливость и громоздкость старой феодальной машины управления. В качестве президента камеры Гёте приходится иметь дело с четырьмя правительствами, тремя областями, четырьмя сословиями. Все они утверждают законы, договоры, государственный бюджет и налоги. Все привыкли и полны решимости впредь все так же неравномерно распределять бремя, возлагаемое на граждан их страны. А Гёте решил вести борьбу против маклеров и перекупщиков земли. Он разрабатывает проект снятия налогового бремени с земледельцев, ибо во время служебных поездок, которые совершал в течение многих лет, он убедился, как порочна налоговая система. Однако скоро у него опускаются руки. Ибо уже через два года Гёте понял, что нельзя в полном одиночестве одержать победу над представителями старого порядка, связанными неразрывной круговой порукой. В тридцать лет Гёте узнал, почему нищает крестьянин. В тридцать два он пришел к твердому убеждению: чтобы помочь крестьянству, необходимо раздробить большие майораты на мелкие участки и раздать их множеству мелких арендаторов. Теперь ему тридцать четыре, и, присутствуя на заседании ландтага, он уже «совсем успокоился» и «отказался от своих туманных и дурацких стремлений. К сожалению, из ничего, ничего и не получится. Я прекрасно знаю, что надо делать вместо всей этой суетни и беготни, предложений и резолюций: надо поливать собственный сад, раз мы не можем дать дождя всей стране».
Гёте полон горечи и разочарования во всем, что касается социальных вопросов. Опыт, который он приобрел, заставит его позднее презирать человечество, стать скептиком и консерватором.
«Над нами тяготеет проклятие — высасывать все соки из собственной страны… Поэтому нам не суждено вкусить благословенный покой… Я латаю и латаю нищенский плащ, который того и гляди свалится у меня с плеч. Под нашим моральным и политическим миром лежат заминированные переходы, подземелья и клоаки; и никто и думать не думает о том, как они соединены между собой и в каком положении находятся их обитатели. Но человек, хоть сколько-нибудь осведомленный о положении дел, нисколько не удивится, если под ним неожиданно провалится земля и странные голоса раздадутся из бездны». Так писал Гёте, находясь в Тюрингии, за восемь лет до того, как в Париже разразилась великая революция.
В «Эгмонте» герой трагедии говорит Оранскому:
«Он (новый штатгальтер) приедет с большими замыслами и планами, с идеями, как навести порядок, и все подчинить себе, и прибрать к рукам. Но сегодня одна загвоздка, завтра другая». Читая эти слова, мы невольно вспоминаем признание Гёте: «Я чувствовал себя невыносимо скверно, сидя в моем мягком кресле на государственном собрании, где князья бесконечно обсуждали, а потом еще много раз возвращались к вопросу, который легко было решить тотчас же, и мне казалось, что темные стены, балки и потолки зала обвалятся и раздавят меня».
Гёте подробно пишет о том, как он поливает собственный сад, как ведет собственное хозяйство. Вот перед нами его три письма к герцогу. Из них мы узнаем, как Гёте руководит вновь организованным горным промыслом в Ильменау, как организует мастерские и посещает суконные мануфактуры, для которых привез узоры и трафареты, как пытается завести новшества в торговле лесом, как исследует ископаемые в шахтах и воду в источниках, как покупает лабораторию, приказывает реставрировать герцогский замок, снести старый госпиталь, очистить арку моста, и как выдирает у некоего принца двадцать луидоров. А еще он взыскивает с придворного кавалера налог на иезуитов, устанавливает обжигатель на кирпичном заводе и высчитывает, какую выручку при благоприятной конъюнктуре получат они от продажи герцогского зерна, — разумеется, за вычетом того, что потребуется для двора, челяди и армии.
Мелкие дела нисколько не раздражают Гёте напротив, после всех бессмысленных совещаний, после возни с дурацкими документами они действуют на него освежающе. Много недель подряд он трудится, пытаясь возродить разработку заброшенных рудников. Гёте создает целый комитет добровольцев, которые совершенно безвозмездно разрабатывают вместе с ним планы, нанимает самых квалифицированных рудокопов и в своей речи на открытии рудника с гордостью говорит об идеальном бескорыстии своих помощников.
Целый счастливый день он проводит в обществе горного советника и горячо поддерживает его, когда тот говорит, что предпочел бы остаться горняком и, что бы ему ни сулили, никогда бы не стал министром.
Но министр Гёте торопится в Иену. Там свирепствуют ледостав и наводнение. На пожаре Гёте первым бросался в огонь. Сейчас он первым бросается в воду и, лавируя между льдинами, борется со стихией и руководит борьбой других. Самые приятные его часы — это прогулка верхом рядом с другом, с помещиком Батти. У Батти нет никаких теорий, зато его практика совпадает с теориями Гёте. Использовать все случайное, все, что под рукой, — вот первейший закон противника всех систем. Гёте поручает некоему молодому человеку организовать кабинет минералов, от музея они, покамест, вынуждены отказаться. Гёте ведает теперь государственными финансами — следовательно, не имеет права расходовать их на удовлетворение собственных склонностей. Какого-то цюрихского музыканта он просит прислать программу математики, принятую в Цюрихском университете, чтоб ввести ее в Веймарской академии. Эти маленькие дела поднимают его настроение. «Я должен быть неизменно деятелен, пусть в самом заброшенном селе или на необитаемом острове, иначе я просто не смогу жить».
Пять лет назад герцог и поэт, который взял на себя роль друга и ментора, вступили на общий путь. Они выработали совместный план деятельности, столь удивительный, столь прекрасный и редкостный, что Гёте посчитал не слишком дорогой ценой пожертвовать для его выполнения многими годами собственной жизни.
Но Карл Август оказался бы единственным абсолютно неудавшимся произведением Гёте, если бы Гёте не получил его уже наполовину готовым.
В то время как Гёте все глубже и серьезнее погружается в изучение божества и людей, мира и одиночества, природы и ее истоков и всегда, неизменно искусства, герцог бежит и от друга и от своих обязанностей, от семьи и от собственного духовного начала. Зимой он занят охотой в горах на кабанов, кормит восемьдесят человек прихлебателей, содержит свору обнищавших дворян, которые не испытывают к нему никакой благодарности, и вызывает ненависть крестьян, землю которых они вытаптывают. Охота и скачки, кутежи и любовные похождения государя ложатся бременем все возрастающих налогов на маленькое государствице.
«Если бы, — пишет после одной из таких охот Гёте, — мы стали богаче хоть на одну провинцию, ну что ж, я счел бы это похвальным. Но ведь все наши развлечения кончаются лишь сломанными ребрами, загнанными лошадьми да пустым кошельком. Нет, я не желаю иметь ничего общего со всем этим, разве только сумею урвать что-нибудь от роскошеств и сунуть их в мою политико-моральную драматургическую суму».
Единственная форма существования, при которой Карл Август мог бы утихомириться и в то же время отличиться, — война, о которой он мечтает, к которой рвется всей душой. К счастью, покамест, она ему недоступна.
Гёте нисколько не разделяет воинственного пыла герцога и все больше избегает его общества. И когда они как-то вместе отправляются в горы, поэт с горечью вспоминает об ушедших веселых днях. Он рвется домой и отклоняет приглашение герцога отправиться вдвоем в путешествие.
Даже к письмам герцога Гёте относится холодно и отвечает на них со скрытой иронией: «Я понял из этого, что, находясь на вершине дел человеческих, окруженный любовью и дружбой, вы наслаждаетесь созерцанием дел замечательных». И тут же, обращаясь к своей подруге, поясняет: «Герцог, в сущности, человек с очень ограниченным кругозором. Все его смелые начинания только угар. У него нет ни последовательности в идеях, ни подлинной выдержки, чтобы провести в жизнь план, смелый по содержанию и форме, но требующий времени для осуществления».
Смелый план — это оздоровление государственных финансов. Гёте развивает его во всех своих пространных докладах. Однако герцог уклоняется от обсуждения проекта и, видимо, пытается внешними почестями вознаградить друга за то, чего не в силах сделать для министра. Вероятно, поэтому в день тридцатидвухлетия Гёте герцог поставил в его честь торжественный спектакль и добился от императора Иосифа возведения своего друга в дворянство.
Гёте остается холодным ко всем милостям.
Прежде, когда он стал тайным советником и достиг высшей ступени, на которую в ту пору мог взойти бюргер в Германии, что-то дрогнуло на мгновение в его душе, и он доверил по секрету своему дневнику, что не в силах выразить словами свое волнение. Но теперь ему уже тридцать два года, и он переходит в другой общественный слой, в тот самый, который так часто его разочаровывал. Вот почему Гёте «создан столь странно», что получение дворянской грамоты не вызывает у него ни мыслей, ни ощущений. В течение целого года он даже официальные письма и доклады подписывает точно так же, как прежде. Но он человек светский и вынужден выбрать эмблему для своего герба. Он выбирает утреннюю звезду. Она давно принадлежит ему как поэту.
Гёте и Карл Август уже не славят друг друга ни в праздничных представлениях, ни в одах. Герцог поступает даже наперекор мнению Гёте — не спросивши у него совета, не пригласив его с собой, Карл Август уезжает в Швейцарию.
Правда, Гёте даже не его премьер-министр. Их связывают только общие обязанности, а разделяют только слабости. Герцога вряд ли интересует творчество Гёте, а Гёте ненавидит герцогских кабанов. В письмах к герцогу Гёте никогда не пишет о своих произведениях. Лишь однажды в длинном деловом отчете он мельком сообщает: «Я уже закончил пятую книгу «Вильгельма Мейстера» и жду теперь, как его примут». Зато он пространно и категорически требует покончить с охотой на кабанов. Не говоря об убытках, которые терпят крестьяне, какое впечатление производит это занятие на подданных, которые не знают, чем объяснить подобное пристрастие государя? И, наконец, после долгих увещеваний Гёте заканчивает свою атаку в полуюмористическом тоне:
«Я видел, что вы способны отказать себе во многом, и надеюсь, что пожертвуете и этой страстью, обратив ее в новогодний подарок своим близким и в вознаграждение мне за все беспокойство, которое мне причиняет проклятое стадо с момента его появления. Я сберегу только череп праматери всего премерзкого рода и с особой радостью выставлю его в моем кaбинeтe».
История с этерсбахскими кабанами явилась как бы поворотной точкой, с которой началось расхождение между Гёте и государем. Дружба их мало-помалу переходит в неприкрытую вражду. Внутренние противоречия между герцогом и его министром тотчас отражаются и на внешней политике.
Герцог уже трижды выезжал в военные лагеря, расположенные по соседству с его владениями. Теперь он требует увеличить бюджет для армии. Герцоги Баденский, Брауншвейгский, Дессауский и прочие стараются вовлечь Веймар в Союз немецких князей под эгидой Пруссии против Австрии. Некогда Гёте тоже носился с подобным проектом. Но теперь он советует герцогу действовать как можно осторожнее. Однако герцог, пылая жаждой военных подвигов и видя, наконец, возможность утолить свои вожделения, торопится, не обращает внимания на оговорки, включенные в договор, и соглашается на все условия, поставленные союзниками. Его слишком откровенные действия возбуждают подозрение Вены. Словом, герцог поступает прямо наперекор советам Гёте, который, лавируя между противниками, пытается выиграть время, полагая, что точно так же будет действовать и старый король Фриц.
Но герцог бредит битвами. В Веймаре входит в моду воинственность. «Как парша, зудит она у всех наших князей, а меня утомляет, словно дурной сон… Надо надеяться, что мудрое поведение великих мира сего избавит малых от предложений, которые их правители охотно делают за счет других. Что касается этого пункта, то тут я не знаю ни сострадания, ни участия, ни надежд, ни пощады».
С точки зрения мировой истории прав Гёте. Он государственный деятель и судит правильно, а герцог поступает неправильно. Возникновение Союза князей (пусть даже он заключен тайно и существует лишь на бумаге) действует как угроза. Без единого удара мечом Вена отказывается от всех своих притязаний. Но отныне воинственность Карла Августа толкает его лишь к политическим средствам воздействия. Взоры его неотрывно прикованы к прусским солдатам. Еще быстрее, чем прежде, отдаляется он от Гёте.
Гёте бежит к своему другу Кнебелю в Иену, ищет спасения в занятиях естественной историей, просит, чтобы с него сняли хоть часть обязанностей в Совете. Он желает уйти в отставку. Но герцог удерживает его. Он увеличивает жалованье Гёте на целых двести талеров и посылает ему еще шестьдесят луидоров, специально на поездку в Карлсбад. Гёте, неподкупный, как Мефистофель, называет все эти любезности «очисткой совести». Но, по существу, он уже отказался от борьбы. Об этом свидетельствуют его циничные слова: «Герцог счастлив со своей новой сворой. Пожелаю ему счастья. Распускает приближенных и набирает собак, всегда и всюду одно и то же. Сколько шума, чтобы загнать зайца! А мне нужно почти столько же усилий, чтобы сохранить зайца». Денег нет, табльдот во дворце отменяется, все едят у себя по комнатам. Гёте жалуется на скудный стол; впрочем, скоро он станет еще хуже.
При дворе творятся все более странные дела.
«Я знаю, чтобы спасти внешний декорум, необходимо окончательно погубить внутренний, но я никак не могу согласиться с этим. Мы часто прикрываем маскарадами и блестящей мишурой чужую и собственную нищету». Гёте вынужден ехать к соседнему двору. Но мысль о необходимости встретиться с двумя молодыми принцами ужасает его. Тем не менее, он строго придерживается этикета и отказывается принять участие в катании на санях, поскольку ему прислали сани недостаточно роскошные.
Три музыкальные комедии — «Рыбачка», «Шутка, хитрость и месть» и «Ярмарка в Плундерсвейлерне» да еще несколько карнавальных шествий — все это, так сказать, полуслужебные произведения, созданные придворным поэтом. Но когда, читая их, мы поднимаем глаза и смотрим на бюст Гёте, вылепленный в те же годы, мы не знаем, чему нам больше дивиться — способности самоотречения, которую с предельной силой проявляет Гёте в этих пошлых пьесах, или поэтической мощи «Тассо», над которым он работал в эти же дни.
В эти дни Гёте заключает свой первый большой договор. Через доверенное лицо он сообщает владельцу издательства, что не отступит от назначенной им суммы гонорара. А сумма эта по тем временам очень высока — две тысячи марок. При этом Гёте требует одинакового гонорара и за неопубликованные произведения и за те, которые уже публиковались. Ибо, как утверждает поэт, в переработанном виде они «будут производить впечатление новых». Кроме того, он приказывает выслать ему тысячу экземпляров нового издания в Карлсбад, дабы он мог распространить их лично. А затем берет у Мерка деньги в долг, чтобы погасить другой долг, на который нарастают большие проценты.
Он экономит деньги, экономит все, и прежде всего, — время. Он уже редко дочитывает книгу до конца, только в самых экстренных случаях, когда это необходимо. Так, например, в дорогу он берет одну-единственную книгу — ботанику Линнея.
Огромную рукопись Дидро Гёте осиливает за шесть часов. В одинаковых выражениях сообщает он одни и те же сведения разным лицам. Письма к друзьям он диктует и уже почти отвык писать. Визитерам, которые навещают его проездом через Веймар, он через полчаса предлагает посмотреть свою коллекцию костей. «Им становится скучно, и они откланиваются».
Даже место действия его жизни теперь меняется, и это тоже символично. Прежде, даже сделавшись советником и превосходительством, Гёте оставался в своем саду. Теперь президент палаты фон Гёте переезжает в большой дом в самом центре города. Но не гордость, а смирение и глубокая печаль наполняют его при этой перемене. Он прекрасно сознает всю невозвратимость своей утраты; и хотя по видимости он преуспел, но в душе снова заставляет себя отречься.
В жизни за городом все еще было что-то романтическое, случайное, что-то, что легко оборвать. У министра все еще было прибежище там, за рекой, за деревьями, под звездами. Теперь он переезжает в большой дом на Фрауенплане, живет, окруженный чужими людьми, заводит большое хозяйство. На восьмой год пребывания в Веймаре Гёте, наконец, бросает якорь, чтобы уже никогда не сняться с него. Ровно полвека прожил он в своем доме. В нем он и умер.
Всего за три недели до того, как снять этот дом, Гёте пишет, что никогда не покинет свой сад, никогда не переедет в город, даже если бы у него и была городская квартира.
И все-таки ему приходится распрощаться с садом.
Но тогда бурное юношеское чувство захлестывает его. «Каждая роза говорила мне: «И ты хочешь отдать нас?» В эту минуту я почувствовал, что не смогу жить без моей мирной обители… Я бродил вокруг моего покинутого домика, словно Мелузина, которая уже не смогла войти в старое свое жилье, и думал о прошлом, в котором ничего не понимаю, и о будущем, о котором ничего не знаю. Как много утратил я!..»
За всю долгую жизнь вокруг Гёте было мало людей, с которыми он расставался бы так тяжело, как с деревьями, которые сам посадил.
Ему минуло уже тридцать три года. Большой дом не только пышная декорация, которую он выставляет напоказ свету. Для него этот дом лежит на пути в науку. Разве еще мальчиком не коллекционировал он все, что возможно: сведения, идеи, предметы? Разве восприятие собственной жизни, как примера для других, не заставило юношу, еще пылавшего страстями, приступить к собиранию документов человеческой деятельности? Теперь их собирает уже зрелый человек. В комнатах его дома постепенно накапливаются гравюры и рисунки, картины и книги, силуэты и бюсты, но, прежде всего, камни, кости, растения. Кажется, этот собиратель считал себя бессмертным в самом буквальном смысле — так много он собирал. Но нужно помнить, что в маленькой герцогской резиденции совсем не было никаких коллекций, а Иенский университет находился в нескольких часах пути на лошадях. Человек, посвятивший себя науке, должен был волей-неволей обеспечить себя и объектами для изучения.
Гёте был самоучкой в полном смысле этого слова, всегда и во всем — и в самых ранних своих работах и на всех путях к науке. Тиха — вот богиня, которая первая открыла перед врагом систем новые «провинции» мысли и исследования.
Его служебная поездка преследует чисто практические цели: Гёте изучает состояние поместий, которые, по его мнению, следует разбить на множество участков и раздать мелким арендаторам. Но мысль, направленная на социальные явления, приводит его и к геологическим взаимосвязям. Перед ним предстает удивительное зрелище. Он как бы видит процесс образования Земли, изменения, которые с ней происходят, и богатства, которые извлекает из нее человек. Гёте, бесспорно, единственный ум, который, наблюдая постоянный рост жизни, мог сказать: «Космогония и новейшие открытия в этой области, минералогия (которой недавно решился я заняться), наконец, естественные науки — все они окружают меня, подобно великому Соломонову храму, о котором говорит Бэкон».
В жизни и в творчестве Гёте никогда не обрывается длинная цепь, в которой каждое впечатление связано с предыдущим и последующим, где каждый поступок и каждое произведение образует в целом единый гибкий механизм.
Участие Гёте в разработке ильменауских недр, естественно, привело его к геологии. «Горы и пропасти сулят мне много интересного. Правда, они уже не кажутся столь живописными и поэтическими, но, когда я взбираюсь на вершины, передо мной открывается живопись и поэзия совсем другого рода».
Ощущение новое для Гёте. Можно подумать, что он постарел. Но вот во время одной служебной поездки он с опасностью для жизни вскарабкивается по крутому обрыву, взбирается на плечи своего молодого спутника и ощупывает интересную прожилку, которая пролегла между первичной породой красным гранитом — и иссиня-черной глиной, покрывшей его. Спутник кричит, чтобы он взбирался осторожнее, но Гёте восклицает: «Прочь! Вперед! Прежде чем мы сломим себе шею, нам нужно покрыть себя славой».
Рудокоп и минералог, рапсод и эпик слились воедино в Гёте, когда он сделал следующее признание:
«Я не боюсь, если мне укажут, что только дух противоречия мог подвигнуть меня перейти от наблюдения и описания человеческого сердца — самой подвижной, самой изменчивой части творения к наблюдению над самым крепким и несокрушимым сыном природы… Да будет дозволено мне, который так много страдал и страдает от переменчивости человеческих настроений, насладиться возвышенным покоем, даруемым нам тихой близостью великой, чуть слышно говорящей природы. Сидя на высокой голой вершине, я могу сказать себе: ты отдыхаешь сейчас на том самом пласте, который уходит в глубочайшие недра земли. Ты проходишь здесь не по сплошной могиле, как когда идешь по прекрасной и плодородной долине… Такое одиночество чувствует человек, который открывает свою душу лишь самому древнему и значительному, самому глубокому чувству — правде».
Смотреть для него — все. Рафаэль без рук был бы плодовитее, чем Гёте без глаз.
Но еще один путь привел Гёте к науке, этот путь рисование. По временам у него случались настоящие приступы «рисовальной лихорадки». В тридцать пять лет он забросил, наконец, занятия живописью, ибо понимал, что здесь ему ничего не схватить на лету. Правда, в жизни, в науке Гёте привык терпеливо созидать и постепенно накапливать знания. Но в искусстве он слишком избалован гением поэзии. И в живописи он не в силах продвигаться медленно. В эти годы Гёте начисто лишен лиризма, его нисколько не тянет рисовать. И все-таки он вынужден взяться за рисунок. Его приводит к этому наука. Не успел он пройти курс анатомии в Иене, как тотчас же вводит специальный семинар по анатомии для учителей и учащихся в Веймарской школе рисования. Семинар этот служит для него тренировкой перед публичными выступлениями. А кроме того, «в последовательности природы он находит утешение в непоследовательности человека».
Изредка, на какую-нибудь неделю, накоротке, удается Гёте улизнуть в Иену для занятий остеологией. «На наше счастье, только что умерли двое несчастных. Мы тотчас же помогли им освободиться от грешной плоти и ободрали их до костей».
Равнодушно стоит исследователь, занеся нож над мертвыми телами. Он любил их, когда они были полны жизни, теперь он анатомирует их холодно и бесстрастно. Точно так же поэт нередко взирает на души, которые уже умерли для него.
И вдруг, совершенно неожиданно, Гердер получает записку от Гёте: «Иена, 27 марта, ночью. Я нашел — нет, не золото и не серебро, но нечто, что доставляет мне радость неизреченную. Я нашел межчелюстную косточку человека! Вместе с Лодером занялся я сравнением черепов людей и животных, напал на след, и, погляди-ка, вот она! Только, прошу тебя, никому ничего не говори, пусть это, покамест, остается в тайне. Но тебя это должно очень обрадовать — ведь я нашел ключевой камень, замыкающий все строение человеческого скелета. Погляди-ка, вот он, на месте! Да как!»
На тридцать пятом году жизни Гёте сделал свое открытие. До сих пор межчелюстная кость была известна только у животных. Некоторые ученые полагали, что она должна быть и у человека, другие отрицали это; они утверждали, что отсутствие ее служит, признаком, отличающим человека от обезьяны.
Почему же Гёте нашел то, что укрылось от внимания специалистов? Да потому, что, будучи дилетантом, не связанным никакими теориями, он, изучая череп, посмотрел на него со стороны, свежим, непредвзятым взглядом. А глаз его приучен видеть вовсе не то, на что ему указывают системы и учителя. Глаз Гёте думает; и когда поэт глядит на явления природы, он видит и взаимосвязь между явлениями, и переход от одного явления к другому, и постепенность развития.
«Какая пропасть, — читаем мы в его статье о костях, — лежит между черепом черепахи и слона! И все-таки даже здесь мы можем установить ряд промежуточных форм, связующих обоих. Явление, которое никто не станет отрицать, рассматривая организм целиком, можно проследить на маленькой его частице. Мы можем окинуть взором воздействие живой природы во всей ее совокупности; мы можем, наоборот, расчленить то, что осталось от ее уже отлетевших духов. Она остается всегда неизменной, всегда достойной нашего непрерывно возрастающего изумления».
Но в этой, тогда не опубликованной, статье, копию с которой он дал прочесть лишь нескольким ученым (ибо заранее уверен в скептической их оценке), он предусмотрительно умалчивает о конечных выводах, к которым пришел. «В деталях, — пишет Гёте, — нельзя найти никакого различия между человеком и животным. Напротив, человек в высшей степени родствен животному. Лишь в своем единстве каждое существо представляет собой то, что оно есть, и человек является человеком даже благодаря форме и характеру последнего сустава на мизинце своей ноги. Вот почему каждое существо — это лишь оттенок звука в великой гармонии, его нужно изучать, в общем и целом, ибо в отдельности оно только мертвая буква». Но все эти мысли Гёте скрывает от окружающих. Он знает наперед, что они не поверят ему.
Уже первые шаги Гёте в естествознании вызывают оппозицию ученого мира. Лишь столетие спустя эта оппозиция перешла в изумление перед даром научного предвидения Гёте. Да и в нем самом, вместо патетически рвущегося к познанию доктора Фауста, выступает злой и остроумный Мефистофель.
«Я готов поверить, что профессиональные ученые не доверяют своим пяти чувствам. Их редко занимает живое содержание явления. Им важно лишь то, что о нем говорилось».
В ближайшие десятилетия Гёте работает все больше и больше. Когда в рукописном издании Тифуртского общества любителей природы появляется «Гимн природе», Кнебель утверждает, что автор этого анонимного произведения, несомненно, Гёте. Правда, Гёте отрицает свое авторство, но не желает раскрыть имя сочинителя. Он признается только, что автор «Гимна» часто говорил с ним обо всех занимающих его проблемах и что, читая эти строки, он, Гёте, наслаждался легкостью и мягкостью, которые сам он вряд ли сумел бы придать своему творению.
«Природа! Мы ею окружены и объяты, — бессильные выйти из нее, бессильные глубже в нее проникнуть. Непрошеная, она без предупреждения вовлекает нас в свой хоровод и кружит, покуда мы, уставшие, не выскользнем из ее рук… Мы живем среди нее, но мы ей чужды. Непрестанно говоря с нами, она не выдает нам своей тайны. Мы постоянно на нее воздействуем, но власти над ней не имеем.
Индивидуальность как будто бы главное для нее, но индивидуумов она и знать не хочет. Она вечно строит и вечно разрушает, и мастерская ее неприступна.
Она вся живет в своих детях. Но сама мать, где она? Величайшая художница, она от простейшей материи поднимается до величайших контрастов; безо всякого видимого напряжения — до величайшего совершенства; до полнейшей точности, и все под покровом какой-то мягкости…
Она разыгрывает действо: видит ли она его сама, мы не знаем, она разыгрывает его для нас, стоящих поодаль… Она изменяется вечно, не зная ни единой минуты покоя.
Но самое противоестественное, — тоже природа.
Тому, кто ее не видит повсюду, она не откроется нигде. Она себялюбива и бесчисленным множеством глаз и сердец вечно прикована к себе. Она размножила себя, чтобы собой наслаждаться. Она постоянно растит новых обожателей и, ненасытная, отдается им.
Ее радуют иллюзии. Того, кто их разрушает в себе ли, в других ли, — она карает, как жестокий тиран. Того, кто доверчиво идет за ней следом, она прижимает к сердцу, как ребенка.
Действие, которое она разыгрывает, всегда ново, ибо она непрерывно поставляет себе новых зрителей. Жизнь — прекраснейшая из ее выдумок. Смерть — художественный прием для создания новых жизней.
Она обволакивает человека мраком и вечно гонит его к свету. Она делает его зависимым от земли, неповоротливым и тяжелым, чтобы снова и снова поднимать его ввысь…
Каждому дитяти она разрешает мудрить над ней, каждому дурню судить ее, тысячам — тупо идти по ней и ничего не видеть…
Несколькими глотками из кубка любви она вознаграждает за все тяготы трудной жизни.
Она — все. Она сама себя награждает, сама наказует, сама себе радуется и сама себя мучит.
Она груба и нежна, страшна и прельстительна, бессильна и всемогуща…
Она добра. Я славлю ее во всех ее творениях…
Она хитра, но во имя благой цели, и самое лучшее — не замечать ее хитрости…
Она всегда целостна и никогда не бывает закончена…
Она ввела меня в мир, она же и уведет из него.
Я доверяюсь ей. Пусть распоряжается мною. Она не возненавидит свое творение, не я говорил о ней.
Нет, все, что здесь правда, и все, что здесь ложь, сказано ею. Все — ее вина, все — ее заслуга».
В этом гимне звучит не только чувство природы. Гораздо больше отражена в нем личность его автора. Только в том, как он постигает природу, можно до конца понять и природу самого Гёте, понять, почему он проявляет себя даже в самой маленькой своей вещи, но раскрывается до конца только во всей совокупности своих творений. Право, не трудно заменить в некоторых из этих ритмических строк слово «Природа» словом «Гёте».
Жизнь, протекающая столь эпически, как течет в эти годы жизнь Гёте, неизбежно требует развития эпической формы, и Гёте развивает в эти годы роман. Герой его романа «Годы учения Вильгельма Мейстера» часто глядит сквозь решетку искусственно зарешеченной жизни, но не находит в ней разрядки своей напряженности. В романе о Вильгельме Мейстере нет критики, направленной на его эпоху и на его окружение. Вернее, эта критика есть, но она относится к уже ушедшему времени. Несмотря на все параллели, которые так легко провести между тем, что описано в книге, и событиями из жизни писателя, когда он ее писал, произведение это все-таки остается больше взглядом назад, чем взглядом, обращенным на то, что делается вокруг. Действие романа построено больше на вымысле, чем на реальных событиях; и даже в старости Гёте все еще будет жаловаться на ужасное одиночество, в котором он его писал.
Разумеется, можно указать на конкретных людей, послуживших прототипом некоторых персонажей романа. Например, герцогиню Луизу, которая явилась моделью графини из книги. Но самые полнокровные образы в «Вильгельме Мейстере» — старик арфист, девочка Миньона, актриса Филина, возникли как плод фантазии писателя, а не как портреты реально существующих лиц. Да и вообще здесь гораздо меньше героев, заимствованных из действительности, чем, например, в «Вертере» или в «Тассо».
«Прежде всего, сам Вильгельм, герой «Пра-Мейстера», как называют первую редакцию романа, если и кажется слепком с самого писателя, то только по тому социальному положению, которое он занимает, а вовсе не по своему душевному складу. Вильгельм Мейстер, невзирая на путаницу, царящую во всех его замыслах и начинаниях, представляется нам гораздо более светлым и жизнерадостным, чем Гёте. Но в свой роман писатель вплел все, что в эти годы бродило в нем самом, о чем он втайне фантазировал. В ограниченном, мрачном существовании Гёте тех лет этот роман кажется разросшимся язычески-пестрым садом, который раскинулся в монастыре, окруженном со всех сторон суровыми крытыми галереями, а по ним размеренно движутся Сосредоточенность, Самоиспытание и Тягостный труд.
Даже язык, стиль, даже внешний вид рукописи свидетельствуют, как тяжко было поэту дышать в те годы. Первая книга «Пра-Мейстера» написана, когда Гёте еще не было тридцати. Она настолько ярче, пестрее и легче всех последующих пяти книг, насколько его первые веймарские годы светлее, ярче и жизнерадостнее последующих. Но Гёте переработал «Пра-Мейстера» и так же, как Гёца и «Фауста», лишил его многих драгоценных страниц.
«В сущности, я рожден, чтобы быть писателем», наивно удивляется Гёте, но продолжает жить двойной жизнью. С горькою усладой открывает он своему другу Кнебелю причины, которые лежат в основе этого существования, и следствия, из него вытекающие. «Вся жизнь герцога заключается в охоте и травле. Герцогиня живет только придворными интересами. Обоих я вижу редко. Только теперь начинаю я снова жить для себя и обретать себя. Сумасшедшая мечта, будто прекрасные зерна, которые зрели во мне и в моем друге, смогут взойти на местной почве, будто драгоценности, совлеченные с небес, могут украсить венцы земных царей, покинула меня навсегда. Зато я снова обрел счастье юности. Подобно тому, как, живя в родительском доме, я и помыслить не мог, что можно совместить поэзию с юридической деятельностью, точно так же и сейчас я отделяю тайного советника от моего другого Я, без которого прекрасно может существовать тайный советник. Лишь в самой глубине моих планов, замыслов и дел я остаюсь верен себе и завязываю в незримый узел мою светскую и поэтическую, моральную и политическую жизнь».
Борьба между государственным деятелем и поэтом, происходившая в Гёте, разумеется, выражена и в «Тассо», центральном произведении этого периода.
Уже гораздо позднее Гёте охарактеризовал своего героя как порождение творческой фантазии поэта. Он «наградил его всеми глупостями его автора и, наконец, дал ему имя Тассо».
Некий француз назвал как-то Тассо Вертером, но на более высокой ступени. Гёте сравнение понравилось. Действительно, «Тассо» в гораздо большей мере принадлежит перу тридцатидвухлетнего человека, который задумал и стал писать эту драму, чем тому, старшему, который ее закончил.
Прошло ровно пять лет с тех пор, как Гёте начал свою министерскую деятельность. И вот он обрел в ней образы для своей драмы. Однако не надо думать, будто он воплотил себя именно в образе Тассо. В такой же мере он нашел свое воплощение и в образе Антонио.
Когда по ходу действия царедворец Антонио побеждает поэта Тассо, в этой победе отражена борьба Гёте с самим собой. В графине Санвитале мы узнаем графиню Вертерн, которую уже знаем по письмам Гёте. В принцессе — идеализированный портрет возлюбленной поэта, госпожи фон Штейн, со всеми ее добродетелями. Впрочем, когда Гёте писал последнюю бурную сцену своей драмы, сам он давно успокоился. Он воспел беспокойство уже минувших дней.
Счастливый покой — вот состояние, наступившее, как только госпожа фон Штейн стала его возлюбленной. Три года, с тридцати двух до тридцати пяти лет, Гёте вкушает время покоя, любовь их достигла вершины, кризис миновал. Обожание его утратило исступленность. Впрочем, даже обладая этой женщиной, Гёте не перестает ей поклоняться. По-прежнему называет он себя ее рабом. Его радует, что листва уже облетела, что он может без помехи смотреть на ее окна. Он хранит ее перчатку — залог дружеского расположения. «Твой образ и твоя любовь всегда и всюду сияют мне навстречу, и, словно к любимой родине, я всеми помыслами стремлюсь всегда к одной тебе. Для меня началась новая жизнь. По-новому отношусь я теперь к людям. Любовь твоя ярчайший свет, озаривший мои дни. Твое одобрение — величайшая моя слава; и если я дорожу добрым именем у окружающих, то только ради тебя, только оттого, что не хочу, чтобы ты стыдилась меня».
Он переезжает в городской дом. Задняя стена его почти соприкасается с садом Штейнов. Гёте надеется, что ближайшую зиму они проведут счастливо, ибо «вход через сад не последняя из приятностей этого жилья». Но чем интимнее становятся их отношения, тем строже соблюдает госпожа фон Штейн приличия перед своими детьми, а может быть, и перед потомством. Когда друг в иронически гневных и, очевидно, чрезвычайно интимных выражениях разбранил свою возлюбленную за то, что она написала ему «вы», Шарлотта, которая заботливейшим образом сохранила все 1700 его писем и записок, вырезала именно эти пять строчек.
В садовом домике Гёте госпожа фон Штейн дает герцогине завтрак. В его резиденции она рядом с Гёте принимает его гостей. Шарлотта нарочно придает своим отношениям характер публичности, чтобы подчеркнуть их невинный характер. Впрочем, это не мешает ей, когда она хочет сохранить тайну, приходить к нему через заднюю калитку по заснеженному саду или оставлять свою коляску далеко на мосту. Уезжая, Гёте оставляет ей ключ от своего письменного стола. Он добывает деньги для ее матери, он сам заказывает своей милой ботинки, он посылает ей сорочку. Число его писем все растет.
Чем больше окружает она его атмосферой супружества, тем увереннее она в его чувствах. «Конечно же, мы женаты, — пишет Гёте, — то есть, вплетены в общий том, страницы которого состоят из радости и любви, а переплет из креста, горестей и бед». Как отец, заботится он о ее детях, приводит врача к заболевшему мальчику; меньшого, Фрица, забирает в свой дом, чтобы снять хоть одну заботу с семьи, которая часто находится в стесненных денежных обстоятельствах. Милой нет сейчас с ним, но способный мальчик служит для него залогом. Он разглядывает с ребенком английские гравюры, обучает его только что введенному в обиход латинскому шрифту, объясняет свою теорию развития вселенной, посылает к своей матери во Франкфурт, чтобы поглядеть на первый в мире воздушный шар. Он так по-отцовски относится к мальчику, что даже предлагает просватать его за маленькую дочку своего друга Якоби. Инстинкт отцовства явственно проступал у Гёте, еще когда он был студентом. Уже тогда ему хотелось, чтобы все было по-хозяйски, и он любил не только свою милую, но весь ее дом вместе со всей ее родней.
Первичный инстинкт всегда толкал Гёте к браку. И только вторичный заставлял бежать от него. Однажды на пасху к Гёте заходит посетитель. Поэт устроил детский праздник у себя в саду. Мальчишки и девчонки ищут в кустах крашеные яйца. «Среди этого веселого роя, подвижного, как ртуть, появляется Гёте в синем, шитом золотом кафтане для верховой езды. Он кажется благожелательным и строгим отцом, внушающим к себе любовь и уважение. И он остается с детьми до захода солнца».
Теперь, когда у них есть и дети и дом, когда они вместе бывают в обществе, вместе занимаются и ведут как бы супружескую жизнь, между ними возникает гораздо меньше трений, чем бывало прежде.
Правда, Шарлотта старается оказать на него давление, хочет заставить его работать, нарочно заявляет, что не верит в осуществление его замыслов. И, как прежде, это является иногда причиной внутреннего их отчуждения.
И вдруг в один июльский день его необычайно задевают чрезмерно резкие слова подруги. Немедленно она получает записку, написанную дрожащей рукой:
«Скажи мне, это нечто физическое, или, может, ты таишь в душе что-то, что так тебя оскорбляет? Я не хочу быть навязчивым, я хочу только сказать, что, право, не заслужил такого отношения. Что я чувствую это. И молчу». И на другой день: «Значит, благодарение богу, одно только недоразумение заставило тебя написать мне записку. Я все еще словно оглушенный. Это было подобно смерти: произносишь слово — и представления не имеешь, что это такое». И на третий: «Я потрясен до самой глубины существа моего… Меня пугает твоя боль. Если тебе уже не может быть хорошо со мной, значит у меня нет никакой надежды хоть на один радостный час». И на четвертый: «Я все еще сижу, уставившись в одну точку, во мне какая-то бесконечная пустота». На пятый: «Как человек, сраженный молнией, я даже не чувствую, что меня парализовало… Но стоит мне вспомнить об этом, и меня снова охватывает страх». И наконец: «Я не смогу успокоиться, прежде чем не буду спокоен за будущее».
Гёте тридцать два года. Наступил седьмой год его любви. Как крепко связан он всем существом своим с этой женщиной, как нежно! Но как легко может порваться эта цепь…
Чем интимнее становятся их отношения, тем ревнивее делается госпожа фон Штейн. Она переступила последнюю грань, и в ней проснулась женская гордость. Она уже не потерпит соперницы рядом с собою. Корона, которую он привлек для совместной работы, перекладывая «Ифигению» из прозы в стихи, должна исчезнуть из его жизни. А если он бывает у нее иногда, он вынужден потом извиняться, оправдываться, давать бесконечные заверения. Находясь в Мейнингене, он не только иронически, а почти серьезно просит у Шарлотты позволения оказывать любезности принцессам и фрейлинам. Во время другой поездки, когда он непрерывно посылает ей письма, исполненные обожания, и не обращает внимания ни на одну из прелестных женщин, составлявших украшение тамошнего двора, Шарлотта довела его до сильнейшего нервного напряжения бесконечными вопросами о его верности. Он горько жалуется на ее безмерную недоверчивость и, исполненный печали, испускает глубокий вздох:
Во время этой поездки Гёте впервые почувствовал всю тяжесть, которую накладывала на него требовательная и покровительственная любовь Шарлотты. «Я более не индивидуальное и не самостоятельное существо. Я открыл тебе все мои слабости, ты прикрываешь все, что во мне беззащитно, и восполняешь все мои недостатки». Первый, еще приглушенный крик любящего сердца и сильного духа о свободе. «Нет, любовь моя, мое чувство к тебе, это уже не страсть, это болезнь, которой я дорожу больше, чем самым превосходным здоровьем, и от которой я не хочу выздоравливать». Сознание этой болезни очень медленно зрело в Гёте. Но понадобится еще целых два года, прежде чем он сумеет освободиться и от этой болезни и от всего больного вообще.
В последние годы их любви Гёте испытывает все большую тягу к одиночеству. Он часто подолгу остается в Иене. И хотя уверяет Шарлотту, что ему очень не хватает ее, но чувствует себя там «почти что в преддверии рая». Правда, он все еще продолжает писать вымученные слова любви, а в Новый год шлет ей чрезвычайно двусмысленное и запутанное послание: «Оставайся со мной, даже если сейчас мы с тобой разлучены, как никогда прежде, и хотя часто это для меня непереносимо».
Когда Гёте написал эти слова, Шарлотте фон Штейн пошел сорок пятый год.
Из всех друзей, с которыми Гёте общался в первые, веймарские, годы, у него осталось лишь двое Кнебель и Гердер. Как далеки теперь друзья юности! Со всеми своими личными и денежными делами, камнями, костями Гёте по-прежнему обращается к Мерку. Но когда герцог решил пригласить Мерка в Веймар, Гёте отсоветовал ему это. Не годится пересаживать старые деревья в новую почву. Но почему он не хочет, чтобы Мерк жил рядом? Уж не боится ли он, в годы, когда он делает попытку самоочищения, слишком тесной близости с Мефистофелем?
Мать существует для Гёте разве еще только в идее. Правда, после смерти отца, который впал в слабоумие, она воспрянула духом, но письма сына становятся все реже и нисколько не делаются теплее. Нет, пишет сын, это просто сплетни, он нисколько не разжирел и не отрастил себе брюха. Совершенно естественно, что, занимаясь серьезными делами, и сам становишься серьезнее. Если бы пятнадцать лет тому назад ей предсказали его судьбу, она была бы в восторге. «Будьте благополучны и любите меня». Холодно, гордо, отчужденно.
Но кто в этом узком кругу понимает и любит произведения Гёте? Кто по-настоящему глубоко сочувствует ему и понимает, почему его творческое развитие совершается такими скачками? Гёте, столь щедрый к окружающим, стоит, словно нищий, когда просит деятельного участия к себе. Пожалуй, только Шарлотта и Кнебель лучшие из его слушателей. Гёте просит Кнебеля в письме написать ему как можно подробнее о «Вильгельме Мейстере». «Тогда у меня хватит духа работать дальше… Я дорожу каждым замечанием, особенно твоим». Стоит Гердеру поинтересоваться его стихами, и он тотчас же с радостью ему их посылает. Критическое ухо Виланда слышит прекрасно, но умный его рот редко высказывает суждения. Герцог как слушатель почти отпадает. Лафатер, который почти всегда получает почтой все, что вышло из-под пера Гёте, погруженный в полную неразбериху и мечась между своими корректурами, Христом, посетителями, масонством и пр. и пр., — пишет ему в трех строчках об «Ифигении», спустя два года о «Тассо» и, наконец, еще через два года одну строчку о «Вильгельме Мейстере».
Вот и вся маленькая аудитория Гёте, поскольку литературное общение с кем-либо вне Веймара у него почти отсутствует. Но недаром Гёте устами своего Вильгельма Мейстера говорит: «Писатели, которые утверждают, что произведения их предназначены исключительно для знатоков, а всех, кому они не нравятся, причисляют к профанам, попросту притворяются или страдают самомнением».
В первые семь лет пребывания в Веймаре, Гёте почти ничего не опубликовал. Слава его меркнет. Только в торжественных случаях выставляет он ее напоказ, словно нацепляя ордена. В день, когда Гёте минуло тридцать два года и его чествовали, как владетельного Князя или прославленного старца, разыгрывая всевозможные аллегорические зрелища в Тифуртском парке, он написал своей подруге:
«Спектакль был весьма приятен, трюки весьма забавны, и, принимая во внимание ограниченность пространства и времени, все было сыграно очень хорошо». Гёте внимательно читает критические статьи о своих сочинениях. Ему самому и в голову не приходило, пишет он скромно, считать свои творения образцовыми; так что критик совершенно справедливо называет их только экспериментом.
Погруженный в светскую жизнь, Гёте чувствует себя все более одиноким. Впрочем, он вовсе не всегда ищет одиночества. Наоборот, разъезжая по служебным поручениям, он использует свои поездки, чтобы завести самые разнообразные знакомства. Общаясь с разными людьми, он старается взять у каждого полезное для себя; он только никогда не стремится к шуму, к рассеянию. Наблюдать и собирать — в этом и состоит его двойная миссия писателя и друга человечества. Правда, вселенная, доступная его наблюдениям, умещается целиком в двух тюрингских герцогствах. Брауншвейг для него заграница; а когда он изредка наезжает в Лейпциг или в Берлин, они кажутся ему столицами далеких государств. Но в этом ограниченном пространстве дух его создает целый мир.
Разумеется, реже всего Гёте соприкасается с нижними слоями общества. Однако и в юношеские годы и в веймарский период это соприкосновение оставляет в нем глубокий след. Сколько бы мы ни искали, мы никогда не найдем у Гёте слов презрения по отношению к народу, подобных тем, которые он так часто высказывал в адрес дворянства и двора. А ведь мы знаем только очень малую часть того, что он сделал для многих молодых людей, которые по причинам социального или личного порядка очутились на «дне» общества.
Меланхоличный юноша — Гёте называет его Крафт — совершил, очевидно, какое-то преступление. Скрываясь, он обратился из своего убежища с письмом к Гёте. В течение ряда лет Гёте посылал ему деньги, платье, писал дружеские и сердечные письма. «Станьте опять твердо на ноги! Мы живем только раз. Я прекрасно понимаю, что значит, в добавление ко всем прочим тяготам, навязать себе судьбу чужого человека, но вы не должны погибнуть». Гёте предлагает ему поступить в Иенский университет, обещает посылать деньги, показывает несостоятельность страхов, терзающих юного мизантропа, но «поступайте только так, как подсказывает вам ваше сердце; и если мои доказательства не доходят до вашей души… будьте уверены, что я соглашусь со всем, что только может вас успокоить… Желание делать добро — смелое и гордое желание. Нужно испытывать великую благодарность к судьбе, если человеку удается удовлетворить хоть малую его долю». Так мало-помалу Гёте удается вернуть сломленного человека к общению с людьми.
В Швейцарии живет некий музыкант. Гёте посылал ему тексты для его пасторалей. Теперь он советует ему поехать в Вену. Дает ему не только деньги и рекомендательное письмо к Глюку, но пишет, какой плащ должен он взять с собой, сколько денег и в какой валюте, да еще посылает дорожный маршрут. А взамен требует только одного: пусть музыкант проявит полностью свой талант.
Но во всем, что касается не отдельных людей, а общегерманской политики, Гёте придерживается консервативной линии. Это вытекает из его тяги к порядку и спокойствию. Даже в юности, даже во времена Прометея, восстающего против богов, он всегда был сторонником сохранения существующего государственного строя и противником перемен. Теперь, будучи министром, он тем более защищает эти воззрения. Именно его государственная деятельность и заставила его полностью отделить государство, заключенное в тесные границы герцогства Веймарского, от безграничного царства духа. Не прошло и десяти лет, как он кончил университет, а он требует применения драконовых мер, направленных против первого объединения иенских студентов; составляет длинные доклады, в которых требует создать особые карательные органы, для уничтожения первых землячеств. Государственный деятель выступает как защитник авторитарной власти, как заядлый консерватор. Рвение, которое проявляет молодой министр, свидетельствует о том, что он прекрасно понимает смысл первых предзнаменований грядущих перемен. И действительно, не пройдет и трех лет, как по ту сторону границы во Франции раздастся первый раскат грома Великой революции.
Однако в полную противоположность своим выступлениям против «бунтарей» Гёте в отношении народа действует абсолютно демократично. Во всяком случае, гораздо демократичнее, чем подавляющее большинство немцев его времени. Вся система сельского хозяйства, которая разработана Гёте, рассчитана на то, чтобы отнять землю у феодалов и передать ее крестьянам. Он один из первых потребовал ликвидации доменной собственности и передачу ее безземельным и малоземельным крестьянам. Но эпоха — иначе говоря, ландтаги и феодалы — не позволила ему осуществить его замыслы, и ему пришлось от них отказаться.
В своих начинаниях он, разумеется, не мог рассчитывать на длительную поддержку герцога. Может быть, поэтому в первые годы их дружбы он от лица крестьянина напоминает Карлу Августу:
В обширном докладе, занимающем восемь страниц ин-фолио, Гёте дает свое заключение по вопросу о наложении церковного покаяния на крестьян.
«Нужно предостеречь провинившихся, — пишет Гёте, — но нельзя исключать их из церковной общины… Какую любовь почувствовал я снова к тому классу людей, — пишет он после одной из служебных поездок, — который зовут низшим, но который для господа бога, несомненно, является высшим! В нем собраны все добродетели: непритязательность, довольство малым, прямота помыслов, верность, умение радоваться всему мало-мальски хорошему, простодушие, терпение, упорство…»
В последний год пребывания на служебном посту Гёте вызывает как-то к себе переплетчика. Ему надо переплести одну из частей своего романа. Переплетчик работает и рассказывает писателю о своей жизни и имущественном положении, а тот слушает, и перед мысленным его взором встает Вильгельм Мейстер, который не может оторвать взгляда от натруженных рук мастерового. «Каждое его (переплетчика) слово было тяжело, как золото, и я отсылаю тебя к десятку Лафатеровых плеоназмов, дабы ты понял, какое уважение почувствовал я к этому человеку».
Слуга Гёте, Филипп Зейдель, — Гёте вывез его из Франкфурта — моложе своего господина, весьма остроумен и переимчив. Он чуть ниже ростом, чем Гёте, чрезвычайно похож на него сложением, подражает его манерам и стилю беседы. Постепенно он начинает считать себя сотрудником Гёте и, наконец, берется за сочинительство. Ритм гётевской речи он ощущает в такой степени, что, читая многие письма, написанные Зейделем под диктовку Гёте, мы уже по одному тому, как расставлены знаки препинания, а их расставлял Зейдель, как бы слышим голос Гёте.
Записки хозяина к слуге — это всегда короткие приказы. Но стоит царственным гостям уйти из садового домика, как оба садятся на кухне у очага и принимаются болтать. Во время служебных поездок они ночуют в одной комнате, и Гёте подолгу спорит с Зейделем о том, когда народ счастливее — в свободном состоянии или находясь в подчинении.
Теперь Гёте уже не живет, как прежде, среди природы. Ничто так не угнетает его в трудные годы, как жизнь в четырех стенах, на которую он часто обрекает себя по целым неделям. Плаванье, верховая езда, катанье на санях — об этом и речи больше нет. И только когда он видит, наконец, горы, с уст его спадает долгое заклятие:
Так говорит Гёте, очутившись в Ильменау. Заточенный в темницу своих обязанностей, Гёте разучился парить. Странник превратился в делового человека, поэт утратил былую общительность.
«Я положил для себя законом хранить со всей добросовестностью молчание о себе и обо всем, что меня касается». Раз в неделю он устраивает официальный прием, при этом говорит: «Я с отвращением думаю о моем чае». В другое время он почти никого не принимает. Даже музыка редко проникает в его дом, хотя, в первые, веймарские, годы он подолгу слушал музыкальные сочинения герцогини Анны Амалии и сам играл на Виландовом спинете. Даже на театре он не хочет больше выступать.
Он решительно отказался от мысли сделать Веймар центром духовной жизни Германии. Для того чтобы заниматься этим, у него нет настроения, у герцога — понимания, у двора — денег. Он часто спасается в Иену, чтобы работать там в тишине. Располагая в Веймаре тридцатью комнатами, Гёте вынужден приезжать в Иену обязательно по воскресеньям, ибо комната во дворце, которую он там занимает, расположена рядом с концертным залом, и поэтому он живет в ней с понедельника до воскресенья, покуда праздничная музыка не гонит его прочь.
Мало-помалу поэт превращается в одинокого чудака. В первые годы после приезда Гёте в Веймар Виланд говорил, что он кроток и простодушен. Даже три года спустя, посетив Геттингенский университет, Гёте очаровал тамошних профессоров. Но уже очень скоро официальный посетитель находит, что Гёте снисходителен и немногословен. Поэту Глейму он кажется холодным придворным. Как-то он приходит к Штейнам к концу ужина. Присутствующие решают, что этот тридцатипятилетний человек отвратительно напыщен и молчалив. А однажды во время обеда во дворце он начинает громко разговаривать сам с собой, решительно забыв о своей соседке по столу. «Вы и сейчас все считаете?» — спросила та, в ужасе вытаращив на него глаза.
Гёте сам подводит итог своему настроению: «Мне нравилось в моих творениях изображать внутренний мир, только покуда я не знал внешнего. Но когда я убедился, что мир действительно таков, как я представлял себе, он стал мне отвратителен, и у меня отпало всякое желание его изображать».
Все брюзгливее становится Гёте, все худее. Об этом свидетельствуют и скульптурные портреты работы Клауэра и письма друзей. В запавших чертах появилось выражение замкнутости, и людям посторонним лицо Гёте кажется неприветливым, утонченным и лукавым.
Незаметно ему минуло тридцать семь лет. И тут неожиданно наступил кризис. Рушится все: и внешнее положение, которое он искусно создавал себе в течение семи лет, и чувства, которые он культивировал целое десятилетие. До последнего мгновения Гёте держит себя так, словно ничего не произошло, как вдруг все прорывается наружу.
Где же покой, за который он сражался целых десять лет? Чего достиг этот беспокойный человек, который хотел быть «добрым и злым, как природа»? Удовлетворил ли он требования, которые поставил себе?
Медленно, ощупью пробирается Гёте в своих «Границах человечества» к новому пониманию вещей».
И только с трудом он снова обретает себя:
Двумя руками защищает он теперь природу от философии. Даже в том, как он понимает и толкует Спинозу, проявляется антифилософская природа Гёте. Правда, он уверяет, что «Этика» Спинозы очень близка собственным его воззрениям, — в этой книге Спиноза не занимается доказательством бытия божьего, он только говорит, что «бытие — это бог».
«Прости мне, — пишет Гёте Якоби, — что я предпочитаю молчать, когда речь заходит о божественном существе». Божественное, Гёте ищет в растениях, в камнях. «Господь покарал Якоби метафизикой, говорит он, — меня же, наоборот, благословил физикой, дабы я радовался, любуясь его творением. И если ты говоришь, что в бога можно только верить, то говорю тебе — я со всей силой верю только в то, что вижу».
Прошло целых одиннадцать лет с тех пор, как Гёте приехал в Веймар. Приводя в порядок бумаги, он в изумлении останавливается перед своим прошлым и все меньше понимает, «что он такое и что из него должно стать».
Лучше всех понимает его в эти годы Кнебель:
«Я прекрасно знаю, что он вовсе не всегда любезен и что у него есть отвратительные черты. Но если брать его как человека, целиком, — он хорош бесконечно… Клянусь тебе, что направление его отличается прямотой, а намерения чисты и прекрасны. О нем нередко судят ложно, да и сам он, по-моему, судит ложно о себе. Красота, скрывающаяся под маской, всегда дразнит его. Он самая удивительная смесь — вернее, двойственная натура, в которой соединены герой и комедиант, однако герой всегда побеждает. Он еще настолько тщеславен, чтобы не обнаруживать свои слабости, поэтому он часто маскирует их или прикрывает, чтобы к ним не прикоснулись посторонние… Гёте дальновиден — пожалуй, слишком дальновиден для своего положения, но он часто судит о явлениях, находясь слишком близко от них. И это сбивает с толку окружающих. Он видит, что многие явления, которые кажутся уже существующими, возникнут только через несколько лет, зато другие он, напротив, умеет извлечь издалека и приблизить их к нам. Но благодаря неотвратимой судьбе крылья у Гёте связаны так же, как у других».
И вот неожиданно эта большая хищная птица, которая сама заточила себя в клетку, вновь расправляет свои огромные, связанные судьбой крылья. Неожиданно для современников, но не для потомков, которые держат в руках документы, свидетелей давних лет.
На тридцать седьмом году Гёте убыстряет темп своей жизни. Все, что угнетало его, становится еще более гнетущим. Все, что радовало, радует еще сильнее. Одиночество, молчание, тоска достигают такого предела, что Гёте решает либо покончить с этим состоянием, либо погибнуть. Вот дела, осуществленные им в последнее министерское лето…
Он страстно борется с движением иенских студентов. Лихорадочно изучает алгебру. Следит за прохождением Меркурия. Составляет план шести следующих частей «Вильгельма Мейстера». Камуфлирует свои любовные стихи, пряча их под общими рубриками в собрании сочинений. Перерабатывает «Вертера» и считает, что автор поступил скверно, не застрелившись после написания романа. Исследует под микроскопом инфузории. «В моей душе опять бушует царство растений. Все снова ворвалось в меня и томится… Ни на мгновение не могу от него отделаться. Все несется навстречу мне, и бесконечное царство умещается в моей душе. Будь у меня время, я в оставшийся короткий отрезок жизни занялся бы всеми областями природы, всеми ее владениями».
А между тем вот уже много месяцев, как в голове его созрел план бегства.
Бегство — единственное средство, которое еще может спасти Гёте, вырвать из благоустроенных квартир, из крепких укрытий. Еще пять лет назад он в отчаянии признался Шарлотте, что когда он в поездках, злобный гений, пользуясь отсутствием его подруги, «рисует мне самые тяжелые стороны моего положения и советует спастись бегством».
Правда, Гёте жаждет не только свободного времени и тишины. Он жаждет еще мира и тепла. Италия — единственная цель, которая влечет к себе усталого. Дважды глядел он на нее с Сен-Готарда, дважды возвращался с перевала. Еще в прошлом году, составляя расписание своей жизни, он написал: «Поездка в Италию решена».
Он перемахнет туда из Карлсбада. Никто не посвящен в его тайну. Его повелитель и друг, его повелительница и возлюбленная, с которыми он прожил бок о бок десять лет, знают только, что он будет сопровождать их в Карлсбад, а оттуда собирается отправиться еще куда-то. Так одинок сейчас Гёте… Совершенно сознательно заканчивает он целый период жизни. Он бежит от возлюбленной, от высокого служебного положения, от своего герцога, ибо чувствует, что близок к катастрофе опасной и необратимой. Гёте хочет, во что бы то ни стало, обрести свободу, поэзию, тепло и новую юность. Карл Август и госпожа фон Штейн уезжают из Карлсбада. Камер-президент фон Гёте испрашивает отпуск у герцога и остается там еще на некоторое время. Быстрее и нервнее, чем всегда, работает он над своими произведениями, готовит в печать первые тома собрания сочинений. Письма его становятся все лихорадочнее, все патетичнее, совсем как в романах перед началом новой части. Отчуждение, царившее в последнее время между ним и его возлюбленной, очевидно, исчезло. Но при расставании он лишь туманно намекнул ей на свой план. «И тогда в свободном мире я буду жить с тобой (то есть без тебя) и в счастливом одиночестве, не имея ни имени, ни положения, стану ближе к земле… Я много пережил, таясь, и ни о чем не мечтал столь страстно, как о том, чтобы между нами установились отношения, над которыми не властно никакое насилие. Иначе я уже не смогу жить возле тебя и предпочитаю остаться один, вдали от света в ином, одиноком мире, в который я сейчас ухожу». Так пишет мужчина, который решил, наконец, перевести эти изматывающие нервы отношения с сорокачетырехлетней меланхоличной женщиной из области ревнивых эротических содроганий в область спокойной дружбы. Это голос человека, решившего, наконец, получить свободу. Голос этот звучит решительно, как никогда, как ультиматум. Куда он едет? На сколько? Об этом Гёте не говорит. В конце сентября она узнает, куда ей писать.
Карлсбадские друзья тоже не подозревают, что он завтра едет. Он ведет себя все таинственнее, все больше его лихорадит. Последние письма звучат совершенно так, как если бы он взял их у Вертера. «Ночь, одиннадцать. Наконец, наконец-то я готов, и все-таки не готов, потому что по-настоящему у меня дел еще на неделю, но я уезжаю и в последний раз говорю тебе: прости. Будь здорова, душа моя! Я, твой Гёте».
Он дарит ей всю нежность сердца, чтобы смягчить ожидающий ее удар. Но зато своему повелителю он питает всю правду:
«Простите меня за то, что при расставании с вами я так неопределенно говорил о моем отъезде, о пребывании за границей… Вы счастливы. Вы идете навстречу желанной и избранной цели. Дома у вас все благополучно, вы на правильном пути, и я знаю, вы разрешите мне подумать о себе». В общем Гёте не очень нужен сейчас герцогу. Личные свои дела он привел в такой порядок, что спокойно может умереть. Вот почему он испрашивает отпуск на неопределенное время, дабы насладиться полной свободой, открыть свою душу новым впечатлениям и спокойно издать свои сочинения. «Все эти и еще многие другие обстоятельства принуждают меня затеряться в том уголке земли, где меня никто не знает… Будьте здоровы, желаю вам этого от всей души, и любите меня… Желаю вам счастья и успеха во всех ваших делах». И приписка, в которой Гёте завещает своему преемнику в военном министерстве скрупулезно выполнять свои долг.
В пятый раз бежит Гёте. И не только от женщины, но от угнетающего его образа жизни. Лишь один слуга Зейдель знает его адрес: «Господину Жану Филиппу Меллеру. В Риме».
«Сперва, людям было со мной неловко, потому, что я заблуждался, затем, потому, что я был серьёзен; но какую бы позицию я ни занимал, я всегда был один».
Рим. — Путешествие. — Ученик. — Больше предметы, чем люди. — В Сицилии. — Климат. — Пейзаж. — Палладио. — Музыка. Переработка «Эгмонта». — «Тассо», «Навзикая». — Инкогнито. — Художник Тишбейн. Историк искусства Мейер. — Анжелика Кауфман. — В духе Антихриста. — Письма госпоже фон Штейн. — Письма Карлу Августу. — Помощник Зейдель. — Дружба с Гердером. — Собрание сочинений. — Счастливец. — Римский карнавал. — Везувий. Второе пребывание в Риме.
В нише окна стоит молодой человек в шлепанцах на босу ногу. Пол прохладного зала выложен каменными плитами, и северянин зябнет на юге. Правда, на дворе почти весна. Девушки, спешащие по Корсо, несут в руках ветви миндаля. Девушки идут, покачиваясь на высоких каблучках, и смеются, поглядывая в окно, там только что приоткрылся ставень. Ибо сейчас еще рано, а обитатели Корсо спят долго, у них есть деньги, а может быть, они прикидываются, будто есть. А может быть, девушки смеются потому, что он не причесан, или потому, что он так пристально и серьезно глядит на них. Интересно, сколько ему лет? Хорошо этим безбородым! Всегда выглядят молодыми, если смотреть на них издалека.
Впрочем, этот, кажется, вовсе и не собирается скрывать ранние морщины на своем лице. Иностранец он, что ли? Глаза у него большие и темные, как у уроженца Рима, зато нос… Кроме того, разве римлянин будет стоять в семь часов утра у окошка? Нет, вероятно, бедный немецкий художник. Ах, как глядит! Как глядит!.. Видно, высматривает, кого бы нарисовать.
Так, вместо того чтобы заигрывать с незнакомцем, юные итальянки без конца судачат о нем, а он смотрит на них все внимательнее, все пронзительнее и разглядывает их со всех сторон. Все видит он и оттенок кожи, и овал лица, и походку, и движения рук, и цвет передников, и фасон чепцов. А еще он замечает вставшую на дыбы лошадь, впряженную в телегу с бочками, и форму бочек, и физиономию, которую скорчил возница. А еще он замечает, что ветер дует сегодня с Порта дель Пополо, а не так, как последние дни, — интересно знать почему? Все еще погруженный в мысли, он поворачивается лицом к залу. Внимательный взгляд падает на горшочки, в которые он посадил семена и косточки, на абрикосовое деревцо, которое заботливо выращивает. Он весь поглощен изучением листьев, их расположением, чередованием, формой. Здесь кроется тайна. Потом переходит к другой стене — посмотреть, удался ли вчерашний набросок с Виа Аппиа? Все правильно, только индивидуального почерка в его рисунках нет. Но почему же вон в тех, в рисунках Тишбейна, этот почерк всегда есть? За работу!
Он тихонько вздыхает и идет в маленькую комнату, где его ждет «Эгмонт». Каждое утро посвящает он ему один час. Лучше сесть за рукопись сразу, покуда друзья еще не встали, не то опять начнутся нескончаемые дебаты. Чего только не городит Мориц, нападая на Микеланджело! Правда, вот эта… Он выходит в дверь и останавливается. Высоко на пьедестале, касаясь прической нарисованного на стене покрывала, покоится гипсовая маска Юноны, «непостижимой, как песнь Гомера». Долго вглядывается он в дышащие жизнью черты, потом переводит взгляд на ее соседку. Это Медуза. Кажется, она вся дрожит, колеблясь между смертью и вожделением. Но куда же девался цвет мрамора? Неужели он потащит домой весь этот гипс? В душе еще живет священный оригинал.
Он снова сидит в своей комнате над пожелтевшими листами «Эгмонта». Когда-то, десять лет назад, быстрая юношеская рука писала эти листки. А вот и другие, те, что написаны в первые, веймарские, годы. Невольно он переносится в мансарду под родительским кровом, потом в зеленую комнату в садовом домике на опушке дворцового парка. И перед ним разворачивается его жизнь. Она несется, никем не управляемая. Она течет плавно, словно во сне. Она уверенно движется, движется вперед. А Гёте казалось, что она только порождение его фантазии, что она вся взята из «Вильгельма Мейстера». Изо всех сил цепляется он за эти старые листы, за верных молчаливых спутников своей судьбы, за единственных свидетелей, которые знают, что все минувшее не сон.
А эта комната? Она и вправду на Корсо, в Риме? Неужели римское солнце освещает его страницы? А если выйти? Стоит только свернуть налево, и через полчаса он окажется у Капитолия. Но он продолжает сидеть, точно пригвожденный к стулу. Сочиняет, пишет, ибо издатель в Лейпциге должен сдать в набор уже четвертый том, и Гердер в Веймаре того и гляди потребует у него рукопись, чтобы держать корректуру.
Лейпциг и Веймар? Они совсем не те, что прежде. Тогда, во Франкфурте, в мансарде на Оленьем рву, когда к нему являлась тень Эгмонта, и черновики летели на пол, и он набрасывал первые мысли на эти вот страницы, — для чего, в сущности, для каких слушателей? Он и сам не знал, его не ждал ни один издатель. Но не успел он начать своего «Эгмонта», как его призвал юный герцог в маленький чужой тюрингский городок, и он последовал за ним и, сложив страницы, забыл о них надолго. Как далеко теперь все это — еще дальше, чем времена в Оленьем рву! Тогда еще была Лили, очаровательная мучительница, и он уезжал к ней на Оффенбахштрассе, а с его адвокатскими делами возились отец и зять. Тогда еще были пикники, коньки, музыка, свобода. А в Веймаре? Нет. «Лучше умереть, чем жить, как в эти последние годы!»
Как далеки они сейчас — его подруга, его друг.
Но разве оба они не думают, прежде всего, о себе? Разве гордость и ревность Шарлотты не волнуют его больше, чем ее дружба и любовь? Разве военные забавы не увлекают герцога больше, чем все наставления друга? «Я излечился от мучительной страсти и болезни, — думает Гёте. — Не приди я к своему решению, я бы погиб окончательно, я стал бы ни к чему не пригоден…» Свобода! Но разве только свободой наслаждается он в Риме? И разве можно назвать наслаждением чувство, которое он испытывает сейчас?
Сентябрьским холодным утром Гёте бежал из Карлсбада. Он даже не ехал в Рим — он летел. И все-таки путь его продолжался пятьдесят шесть дней, а курьер проделывает эту дорогу за шестнадцать. Зато он успел осмотреть половину Верхней Италии, кое-что в Средней. Неодолимое предчувствие гнало его вперед, словно он боялся, что в самую последнюю минуту у него могут отнять цель, так долго маячившую в его воображении.
В первый же день пути Гёте переваливает через Альпы и прибывает в Триент. «Право, я снова верю в господа бога! — восклицает Гёте. — Мне кажется, будто я родился и вырос здесь и теперь возвращаюсь из Гренландии, где охотился на акул…» Никто не знает его настоящего имени, и Гёте радуется, словно для него наступила вторая юность. Как весело есть груши прямо на дороге, болтать со случайными встречными, расспрашивать о пути каждого нищего! С ним только дорожный мешок да ранец. Смотря по погоде, он надевает то куртку, то редингот. А приехав в Верону, наряжается итальянским горожанином, усердно изучает жителей итальянских местечек, жаждет спуститься еще на ступеньку по социальной лестнице. В Виченце он играет с ребятишками посреди рыночной площади. Ему хочется понять простой народ. Он изучает его в самой гуще, как бывало во время тайных своих поездок на Гарц. Пренебрегая дворцами, он шатается по рынкам и, разумеется, идеализирует итальянцев. «Нет, — восклицает с восторгом Гёте, — вы только поглядите на здешних ребятишек и на простой люд!» Ему кажется, что местный климат благоприятно влияет даже на нищету. Самые недостатки народа вызывают его уважение, Гёте рад, что обходится без слуги. Расставшись с сидячим образом жизни, он гуляет и бегает повсюду.
Не прошло и недели, как Гёте приехал в Италию, а он уже чувствует упругость в мыслях. Ведь когда пользуешься услугами посторонних, сам преждевременно стареешь, слабеешь. Теперь ему приходится делать все самому, «следить за курсом валюты, менять, платить, брать на заметку, писать тебе, в то время как прежде я только и делал, что думал, желал, размышлял, приказывал и диктовал».
Гёте прожил в Италии целых два года, но, в первые два месяца, он был особенно весел. Он похож на принца, который, надув своего гофмейстера, удрал от принцессы, навязанной ему в невесты, и, не успев выбраться на дорогу, повстречал возлюбленную из далеких заморских краев, о которой уже так долго мечтал.
Начало итальянского путешествия Гёте напоминает приключение. Он наслаждается ролью странствующего школяра, виноградом, фигами, теплой осенью под голубыми небесами, языком и народом. Но проходит всего месяц, и Гёте уже не хочется ни менять деньги, ни тратить их. Ему хочется желать, думать, размышлять и приказывать — все как прежде. Венеция скоро утомляет его; он рад, когда через две недели ему можно уехать. Рим, гигантский магнит, все больше притягивает его. Галопом проносится он через Феррару, Болонью, Флоренцию, последние ночи пути спит не раздеваясь. «Завтра вечером я буду в Риме. И тогда мне уже нечего будет желать. Разве только увидеть в добром здоровье тебя и немногих близких. Только очутившись у Порто Пополо, я поверил — да, я действительно в Риме… Значит, я выполнил все, чего требовали закон и пророки. И теперь духи Рима оставят меня навсегда в покое. Только сейчас начинаю я жить… Я здесь, я спокоен и буду спокоен, вероятно, до конца моих дней».
Оглушенный, ничего не видя, не слыша, падает Гёте на ложе. Он избавился от своей навязчивой идеи. Он добрался до Рима, и никто не в силах это отменить. На другой день он холодно и сухо сообщает, что видел собор Святого Петра и «наиболее важные руины».
«Здесь в точности, как я себе представлял, и все совершенно для меня ново», — пишет Гёте в первые дни пребывания в Святом городе. А приехав в Неаполь, добавляет: «Какое рано все знающее и поздно все делающее существо человек!» И лишь одного он не знает — чем кончится его путешествие… «У меня только одна жизнь. Я поставил ее на карту, всю, без остатка, и тем не менее я все еще продолжаю ставить. Если только я останусь невредим телом и душой, если моя природа, мой дух, мое счастье преодолеют этот кризис, я возмещу тебе сторицей все, что только можно возместить. А если погибну, ну что ж, значит погибну. Все равно я был уже ни на что не годен».
Гёте приехал в Рим на пороге своего сорокалетия. Он живет в чужом большом городе — ученый без звания, без имени, безвестный немец, любитель изящных искусств, без определенных занятий, без женщин, без общества, почти ничего не создающий, и главное, без прошлого. Он долго живет в большом чужом городе, преследуя единственную цель — как можно больше пополнить свое образование. Ибо это и есть цель его поездки. Гёте приехал в Италию вовсе не в поисках наслаждений, а чтобы учиться.
Живя в этой веселой стране, он почти всегда охвачен серьезным настроением. Художник Тишбейн хорошо уловил это. На большом и спокойном полотне он изобразил путника, отдыхающего среди развалин, под которыми погребены мертвые культуры, и погруженного в размышления об ушедших в вечность веках. Только легкий налет романтизма, присущий картине, противоречит характеру Гёте, ибо на исходе третьего десятка он стремился к ясности и к правде — и в искусстве и в природе. Никогда глаз его не был острее и пристальнее, чем в Италии. Никогда Гёте не был настроен так нелирически, как в эти годы и в последующие десятилетия.
Им владеет тяга к учению, очень редко к творчеству и еще реже к наслаждениям. В Неаполе, в столице эпохи Рококо, где даже тяжеловесных немцев соблазняла легкая жизнь, Гёте остается, «как всегда, спокойным, и только когда все уже очень беснуются, я широко открываю глаза… Здесь все ходят, словно пьяные, живут не оглядываясь. Я тоже с трудом узнаю себя. Мне кажется, я стал совсем другим человеком. В столь большом обществе, среди непрерывного движения я чувствую себя особенно спокойным и одиноким. Чем больше беснуются на улицах, тем бесстрастнее я становлюсь. Путешествовать я во время этого путешествия научился. А вот научился ли жить — не знаю. Люди, которые, кажется, умеют это делать, так отличаются от меня характером и поведением, что я не имею никакого права претендовать на подобный талант».
Приехав в Рим, Гёте полностью проявил свой великий дар видеть сущность явлений, проникать взором в самый процесс созидания. Здесь, где все манит наслаждаться сегодняшним днем, Гёте занят исследованием прошлого — ведь из него возникало настоящее. Он исследует Рим так же, как исследует природу. Его интересует зарождение города, развитие, формирование; горы и полеводство, ордера колонн и повозки; все предметы, которые он видит, вместе с их родословной.
Вот он входит в античный храм в Пестуме. Усеченные колонны давят на него своей тяжестью. Но проходит час, и они уже нравятся ему, ибо он проник мыслью в далекие времена, когда возникла эта архитектура. Попав в Венецию, он не впадает в романтические восторги. Напротив, история и местоположение города объясняют ему законодательство Венецианской республики. Одежда жителей Верхней Италии отнюдь не кажется ему капризом моды. Он понимает, что она порождена необходимостью, она весьма удобна для людей не слишком чистоплотных, но бывающих много в обществе.
Путешествуя под чужим именем, он имеет возможность беспрепятственно ездить повсюду, и это способствует развитию его демократических настроений. Он восхищается Венецианской республикой. Она кажется ему великолепным памятником, воздвигнутым не по капризу отдельных властителей, а самим народом. На юге люди различных классов свободно общаются между собой. Тем сильнее ощущает Гёте социальную бессмыслицу карликовых германских государств. Коррупция же, разъедающая церковное государство — Рим, вообще не занимает Гёте.
На всех этапах своего путешествия он остается, прежде всего, страстным исследователем, естествоиспытателем. На третий день путешествия он подбирает какой-то обломок кварца с вкрапленной в него яшмой, изучает его до самого Бреннера, везет с собой в Рим и в конце концов привозит в Веймар. Внимание Гёте приковывают облака, меняющие очертания в зависимости от ветра; он создает собственную теорию погоды, в общих чертах правильную.
Гёте усердно исследует сочные морские водоросли на Лидо, обращает внимание на лаву. В сущности, говорит Гёте, ему следовало бы посвятить остаток жизни наблюдениям над природой; вероятно, он многое бы еще открыл. Действительно, в Южной Италии ему попадается тьма неизвестных растений и рыб. Он чувствует искушение отправиться в Индию, «не для того, чтобы открыть новое, а чтобы с собственной точки зрения взглянуть на то, что уже открыто… Как я и предсказывал, я наблюдаю здесь все явления в гораздо более развернутом и развитом виде, чем на севере. Многое из того, что у себя дома я только предполагал и искал под микроскопом, я вижу сейчас невооруженным глазом. И это реально». В этих словах как бы выражен смысл его путешествия. «Во мне бушует царство растений», — записал он незадолго до своего бегства. И вот теперь, даже не стремясь к этому, он открывает явление, за которым так долго охотилось его воображение. Сперва, в Падуе, потом, в Палермо, он замечает пальму, при виде которой у него возникает «идея пра-растения». Гёте чувствует, что почти подошел к тайне возникновения растительного мира. «И, право же, она проще, чем мы это себе представляем; пра-растение окажется столь удивительным созданием, что мне позавидует сама природа. Имея перед собой эту модель и ключ к ней, мы проследим развитие растений, начиная с бесконечно далеких времен. Этот закон мы сможем, очевидно, применить ко всему живому миру».
Даже через десять лет Гёте все еще утверждает, что мгновения, когда он сделал свое открытие, были счастливейшими в его жизни. А еще через двадцать, когда он давным-давно закончил морфологию растений, он снова вспомнил свое ощущение и описал его пламенными словами. «Постичь это понятие, выносить его, открыть, наконец, в самой природе — вот задача, которая вызывает в нас сладостное и суровое волнение».
В Италии Гёте — самоучка во всех областях науки — собирает растения всюду, где только может их найти: в садах, в полях, на дорогах. Попав в Сицилию, он отказывается от поездки в Сиракузы, только чтобы поглядеть на зреющую в полях рожь, от которой пошло название острова. С веселым цинизмом натуралиста рассматривает Гёте череп Рафаэля. «Какое прекрасное сооружение из костей, — восклицает он, — в нем удобно разгуливать прекрасной душе!» Неаполитанские друзья просят Гёте не пить воду из стакана, в котором плавают букашки, — он преспокойно ее выпивает. «Едим же мы раков и угрей», — успокаивает он приятелей. Эти малюсенькие насекомые не сделают ему плохого, разве что утолят его голод. Так велико благоговение Гёте перед природой. И не мудрено, что в ослепительном сиянии дня он с недоверием заглядывает в полумрак мистических явлений.
Антиромантический, трезвый характер Гёте особенно проявляется в общении с природой. В его письмах и дневниках почти отсутствуют описания итальянского пейзажа. В стране, где немцы обычно только и делают, что мечтают, Гёте остается спокойным и трезвым наблюдателем. Он живет под голубыми небесами, в тени садов, по которым тосковал и которые воспевал, находясь в Тюрингии, но теперь он уже не посвящает им стихов.
Холодно и трезво описывает он итальянский ландшафт; и даже когда он обращается к огнедышащему Везувию, его интересуют не красоты вулкана, а лишь сокрытое в его недрах. Луна, сообщающая предметам нечто неясное, редко встречается в посланиях Гёте. Даже море, по-видимому, не потрясает его. Взобравшись на башню собора Святого Марка, Гёте видит его первый раз в жизни. Но описывает он не море, а корабли, лагуны и окружающие горы, исследует водоросли и морских улиток. Впервые он физически соприкасается с морем: «Какая великолепная вещь живое существо! Как гармонично в своем явлении, как правдиво, как осязаемо!» — восклицает Гёте.
Уже позднее, в конце путешествия, Гёте признался, что, приехав в Италию, ровно ничего не смыслил в изобразительном искусстве. Его восхищало в нем только отображение природы.
Оказавшись в Верхней Италии, Гёте прилежно изучает постройки Палладио. Античный дух этих зданий отвечает его стремлению к ясности, спокойствию, к четкой линии. Но, находясь во Флоренции и Перуджии, он вряд ли изучал зодчество Возрождения, а барокко осталось ему и вовсе чуждым. Кривые башни раздражают Гёте нисколько не меньше, чем архитектурные причуды сицилийских князей.
В слепой злобе издевается он надо всем, что кажется ему готикой. Да, он настроен сейчас против всего самобытного. Только строгая линия, только спокойствие притягивают его внимание. Впрочем, осматривая памятники зодчества, он не минует ни одного из них, даже чуждых ему и враждебных. Лишь однажды прервал он свой осмотр. Это случилось в катакомбах, которые показались ему столь отвратительными, что он тотчас вернулся наверх.
В Ильменауских каменоломнях, вооружившись молотком геолога, Гёте часто спускался в недра земли. Здесь, в этих христианских усыпальницах, он задыхается и спешит вернуться на свет дня. Впрочем, вначале гораздо больше, чем зодчество, его привлекала и волновала скульптура. Очень скоро он научился определять эпохи, к которым относятся различные греческие статуи и геммы.
Опираясь на знание анатомии, Гёте и сам усердно рисует, пишет головы и торсы, страстно увлекается лепкой. «Нет, — повторяет он опять свои любимые слова Иакова, — я не оставлю тебя, покуда ты не благословишь меня, и пусть даже, сражаясь с тобой, я останусь хромым».
Тот же клич, с которым он в двадцать лет сражался за Гердера, за его учение о народе-творце. Слова эти были молитвой тридцатилетнего, когда он бился, стараясь навести порядок и ясность в финансах герцогства Веймарского. Сейчас ему сорок, и он молит богов даровать ему руку ваятеля.
В Риме его впервые окружают настоящие художники и настоящее искусство. Впервые ощущает он столь тесную близость между искусством изобразительным и поэтическим, что употребляет теперь слово «художник» в двойном его смысле.
Всю вторую римскую зиму Гёте страстно пытался стать живописцем. Он думал, что открыл какие-то новые принципы в живописи и скульптуре, ему удалось изваять очень неплохую голову Геркулеса.
Но это уже последние попытки. Гёте окончательно отказался от мысли стать художником, ибо он «рожден для поэзии».
Живя в Риме, Гёте много занимался и музыкой: изучал оперу-буфф; очень многое дало ему слушание органа и хора в Сикстинской капелле. Начало его «Навзикаи» — сцена с девушками, играющими в мяч, — кажется, создано для музыки. Некий профессиональный музыкант, много беседовавший с Гёте, поражался тому, как хорошо знает Гёте старинных композиторов. Зато театр Гёте уже перерос. Ему скучно и в опере и в драме. Только фарсы еще забавляют его, ибо действующее лицо в них народ. Как поэт, Гёте мало что почерпнул из итальянской поэзии. Здесь, на родине великих поэтов, он не читает ни Данте, ни Ариосто, ни Петрарку, ни Тассо, ни даже римских лириков. Места действия шекспировских пьес его не интересуют. При виде городов, описанных им в собственных драмах, он испытывает одно лишь разочарование. Темница Тассо превращена в конюшню. Могила Тассо оставляет его равнодушным. Даже посмертная маска Тассо не возбуждает его интереса. В одном остроумном письме Гёте утверждает, что его положительно преследует рок. В своих вымыслах он не только всегда предвосхищает действительность, он предвосхищает даже то, что случится с ним самим. Вот сейчас он получил извещение о выходе собрания его сочинений. И значит, обязан еще в текущем году влюбиться в принцессу — иначе ему не дописать «Тассо» и продаться черту — не то он не справится с «Фаустом».
Действительно, в те самые дни, когда, сидя в Риме, Гёте перерабатывает своего «Эгмонта» он узнает из газет, что в Брюсселе начались беспорядки, очень похожие на те, которые он описал в своей пьесе еще десять лет тому назад.
Разумеется, находясь в садах Флоренции, он посвятил несколько часов и своему «Тассо» а в стихах новой «Ифигении» чувствуется атмосфера юга, которой он дышит.
Но все это ничуть не опровергает основной закон творчества Гёте — закон предвосхищения. Как всякому большому писателю, ему вовсе не нужно видеть ландшафты, пейзажи, костюмы, которые он собирается описать. Свою архинемецкую «Кухню ведьм» он сочиняет, гуляя в парке Боргезе, а в апельсиновых рощах Неаполя записывает одну-единственную фразу: «Миньона недаром тосковала по этим местам».
Голубое весеннее утро сияет над Палермо. Гёте направляется в городской парк, с твердым намерением продолжить свои поэтические грезы, он сочиняет «Навзикаю». «Но не успел я опомниться, как мною овладел другой призрак, который крался за мной все последние дни». Здесь, в парке, среди субтропических растений, Гёте тотчас начинает искать пра-растение, в существовании которого убежден. Он смотрит, сравнивает, ищет свой образец — и не может его обнаружить. И тотчас «пропало все мое славное поэтическое намерение, исчез сад Алкиноя, передо мной раскрылся другой сад — Вселенная. Почему мы, новое поколение, так рассеянны! Почему нас влекут задачи, до которых мы не доросли, и выполнить которые еще не в силах!»
Так ученый-исследователь борется в Гёте с поэтом. Но исследователь приобрел в Италии очень много, а поэт — гораздо меньше. Даже для элегий, которые он напишет вернувшись домой, Рим послужил скорее рельефом, а не содержанием. Гёте не привез с собой на родину ни стихов, ни новых пьес. Но чтобы закончить свои старые фрагменты (а в этом и состояла его поэтическая задача), Гёте нужна была не столько Италия, сколько раскрепощение духа.
Странные чувства овладевают Гёте, когда в одно прекрасное утро он вскрывает почтовую бандероль. Сюда, в Рим, пришли первые четыре тома его сочинений, «результат половины жизни».
Много труда кладет он сейчас на «Ифигению» чтобы склонить хрупкое произведение под ярмо стиха и при этом не сломать его. Иногда среди одиночества своего путешествия, среди чужого народа, он хватается за эту драму, как за твердь, по которой сможет вернуться к своему прошлому. Свою работу над ней он называет переписыванием, а не переработкой. Точно так же совершенствует он и «Тассо» но вовсе не потому, что на него оказывает влияние Италия. В Неаполе Гёте испытал искушение швырнуть эту драму в огонь. Но тут он увидел — и при этом с удовольствием, — как ему грозит издали наборщик, И Гёте смирился перед этой угрозой.
Работа над образом Тассо раскрывает процесс завершения всех произведений Гёте. Если заглянуть в глубину этого творческого процесса, то большинство его произведений должны бы остаться фрагментами, ведь для него они только опыты. Лишь очень немногие стихи Гёте закончил в силу внутренней потребности, они сами вылились у него на бумагу. Точно так же было с Леонардо да Винчи. Обуреваемый бесконечными мыслями и планами, Леонардо закончил лишь очень немногое из того, что начал, да и то, пожалуй, случайно.
Гёте неоднократно готов был бежать от капризов своего Тассо. Но поэт вложил в другого поэта слишком много своего Я. Он уже не может его оставить. Через семь лет после того, как написаны первые, еще туманные сцены, Гёте перелагает их в стихи. Путешествуя по морю, отъединенный от мира, Гёте использует досуг и внешнюю разрядку, чтобы погрузиться в состояние внутренней напряженности. Он и тут продолжает дорабатывать свою пьесу. Наконец, возвращаясь на родину, Гёте берет с собой рукопись. В нем еще живет тоска по Италии, она звучит и в его пьесе. Расставаясь с чужой страной, он хочет, чтобы пьеса помогла ему оставаться в ней.
Две музыкальные комедии, написанные еще во Франкфурте, становятся сценичнее в римской обработке, зато искусственная симметрия губит непосредственность, присущую первому варианту. В Гёте нет уже ни задора, ни юности, которые сверкали в старых его шутках.
К «Фаусту» Гёте в Риме вообще почти не прикасается. Его удерживает от этого добрый гений. Поэт мечтает вернуться к молодости и обманывает себя. Ему кажется, что достаточно взяться за «Фауста» да подкупить бумаги, на которой будут писаться новые сцены, и никто никогда не узнает, когда именно они написаны. И действительно, он пишет две сцены, но тотчас же забрасывает их.
Для романа «Вильгельм Мейстер» Гёте удалось «здорово насобирать» в Верхней Италии. Впрочем, облик Виченцы только подтвердил его предчувствие — да, здесь родина Маньоны!
Два драматургических замысла Гёте так и остались фрагментами. Вернее, почти и не были начаты. Сцены из «Навзикаи», написанные в Италии, исполнены высокой красоты, но свидетельствуют о том, что сицилийский пейзаж может вполне заменить величественный пейзаж Греции, зато облечь в драматическую форму великий греческий эпос решительно невозможно.
«Итальянское путешествие» осталось тоже только фрагментом, при этом в нем исчезло очарование дневника. Зато какое богатство заключено в письмах Гёте! Впрочем, они также предназначены для определенного, правда, узкого, круга читателей, и при этом они олитературены. В первые недели своего путешествия Гёте ведет еще и дневник. Он предназначен только для госпожи фон Штейн, и Гёте придает ему огромное значение.
Наконец, в Риме Гёте пишет свои заметки. Они не сохранились. Но во время всего путешествия Гёте ощущал живейшую потребность писать и отдавать себе отчет в собственной жизни. Только благодаря этой потребности до нас дошли все его произведения, вся грандиозная исповедь, как называет он свое творчество.
Гёте скоро сорок. Он дворянин, министр, европейская знаменитость, но, кроме нескольких недель в Карлсбаде, он никогда не бывал в большом свете, не видел Парижа, Лондона, Вены. Он и Берлин-то посещал почти мимоходом, в Дрездене бывал только проездом. И ни в Страсбурге, ни в Лейпциге не принадлежал к высшим слоям общества. Франкфурт — бюргерский город, Веймар — крошечная захолустная резиденция; лишь в далекой дали видел он отсвет своей славы. Теперь он перешагнул, наконец, границу, за которой властвует немецкий язык. В «мировом городе» в «столице мира» поэт и министр легко мог бы войти в правящие круги. Он мог бы путешествовать, как Вольтер, беседовать с выдающимися умами Италии, общаться с ними на уровне самых высоких духовных интересов; он мог, наконец, сравнивать себя синими. Ничего подобного не произошло. Когда на пути в Рим его опознал какой-то книготорговец, Гёте изо всех сил пытался уверить его, что он вовсе не Гёте. Правда, в Риме инкогнито раскрывают очень скоро, и все проживающие там земляки сообщают интересную новость домой. Некоторые совершенно серьезно намерены венчать на Капитолии немца и протестанта. Однако Гёте не соглашается играть роль протагониста в подобной комедии; он чует, какая мелочная групповая борьба кипит за намерениями его земляков. Как бы то ни было, он называет себя живописцем Меллером, и это избавляет его от необходимости делать визиты и представительствовать в свете.
Только в Сицилии Гёте никак не может этого избежать. В Палермо, в одном из дворцов, он знакомится с неким рыцарем Мальтийского ордена. Рыцарь тотчас начинает расспрашивать его о Германии, которую посетил лет десять тому назад. Между прочим, спрашивает о Веймаре и, наконец, о некоем молодом человеке, который делал тогда погоду при тамошнем дворе, — это автор «Вертера». Гёте называет себя, и рыцарь выказывает величайшее удивление. «Очевидно, у вас очень все изменилось» замечает он. Гёте улыбается. Привыкнув таить свои мысли, он уклончиво говорит: «О, да, проехав от Веймара до Палермо, я нашел всюду очень много перемен». Проходит несколько дней, и Гёте случайно попадает на рыночную площадь в Сицилии. Увидев немца и его спутника, старые крестьяне начинают расспрашивать его о великом короле. Гёте садится с ними рядом и рассказывает о деяниях Фридриха, но не говорит, что он уже умер. Ему не хочется их огорчать…
Гёте ведет в Италии самый простой образ жизни.
В первый раз после Страсбурга он чувствует себя вполне здоровым. Он приписывает это благодатному югу и боится, что, вернувшись в Германию, снова начнет хворать.
Портрет Гёте, написанный в ту пору Тишбейном, несколько стилизован. Впрочем, Гёте считает его удачным. На портрете лицо Гёте хранит неизъяснимую серьезность.
«Еще, что мне в нем очень нравится, — пишет Тишбейн домой, — это его простая жизнь. Он попросил меня дать ему самую неприхотливую еду и маленькую комнатушку, где он мог бы спать и работать без помехи. Он и сейчас сидит там. Как и каждое утро, до девяти работает над своей «Ифигенией» которую решил непременно закончить, а потом уходит осматривать великие произведения искусства. Высокопоставленные лица его не занимают, он ни у кого не бывает и никого не принимает, кроме художников». Гёте едет в Венецию.
По вечерам за столиками на площади Святого Марка сидят и спорят ученики Каналетто, возлюбленная Казановы смеется в ложе Комедии, венецианцы упиваются осенью Рококо. А тридцатисемилетний Гёте сидит, запершись в номере гостиницы, и штудирует труд латинского автора о зодчестве эпохи Августа.
Уже много позже Гёте нарисовал бесстрастную картину римского карнавала. Но когда он читает свое описание, карнавал нравится ему куда больше, чем тогда, когда похитил у него «целую прекрасную неделю». Тогда, в Риме, он показался ему столь безвкусным, что навсегда излечил от желания побывать на нем еще раз. А когда однажды он все-таки попадает на карнавал, то убегает с него уже через полчаса.
Гёте приезжает в Неаполь. Лень и пестрота тамошней жизни гонят его оттуда. Она нравится ему, эта жизнь. Только она не для него. Когда он встречается здесь со светскими людьми, ему становится еще яснее, почему он не может быть таким, как они. Только мельком упоминает он в одном из писем, что получил приглашение от вице-короля Палермо, но он не желает бывать ни у него, ни в римском обществе.
Однажды Гёте приходит на концерт. Его узнают и предлагают пройти на передние места. Он вежливо отклоняет эту любезность: ему и отсюда прекрасно слышно. И вообще — так пишут о нем — он производит впечатление приветливого, скромного, даже робкого человека. Только в одно римское общество соглашается он вступить. Это «Аркадия» — общество любителей изящной поэзии, существующее уже сто лет.
Но, даже вращаясь в столь узком кругу, Гете реже бывает один, чем бывал в последние годы. В Италии — только здесь — он общается исключительно с художниками. Правда, с одними немцами. И разговаривает с искусствоведами он в Италии всегда по-немецки.
Чаще всего Гёте бывает с Тишбейном. Художник отличается естественностью манер, образован и в течение многих месяцев составляет общество Гёте. Сбежав из своего серьезного, чинного дома на севере и попав в дом Тишбейна, где все, как и хозяин, полно веселостью, Гёте наслаждается живительным воздухом, которым дышат художники, попавшие на юг. И на первых порах чувствует себя превосходно.
В среде друзей Гёте только просвещенный, общительный товарищ, немецкий живописец, совсем как они, работающий, как они, и непритязательный. Он решительно ничем не выделяется — правда, от него исходит особая, только ему присущая властность. Но в одном превосходит Гёте своих товарищей — в доброте. Никогда прежде не был он так добр. Не успел он познакомиться с молодым искусствоведом, как пишет длинное письмо Виланду и рекомендует ему молодого человека как сотрудника журнала, — юноше нужны деньги. Тишбейн проживает в доме какого-то выжившего из ума старца. Гёте отправляет в Веймар и пристраивает там сына этого старика. С психически больным Морицем случился припадок, он вынужден слечь. Гёте ухаживает за ним, навещает по нескольку раз на дню, дежурит у него по ночам, приводит земляков, распределяет между ними по жребию ночные и дневные дежурства; и больной целых полтора месяца ни разу не остается без ухода.
Но, даже находясь в кругу товарищей, Гёте почти всегда задумчив и так одинок, что уже через год пишет домой: здесь нет никого, кому бы он мог открыться. Только позднее встречает он человека, который будет иметь для него большое значение в течение всей жизни. Это Генрих Мейер, посредственный живописец, но большой знаток искусства, скромный, верный, швейцарец до мозга костей.
В Риме Гёте бывает в одном-единственном доме — у Анжелики Кауфман. Анжелика — добрая женщина, способная и профессионально сильная художница. В Риме она в моде, много зарабатывает. Муж ее — старый скупой итальянец. По воскресеньям они заходят за Гёте, вместе осматривают какое-нибудь собрание картин, потом обедают у Анжелики.
Второе пребывание в Риме, которое должно было продолжаться месяц, длилось целых одиннадцать.
Гёте решил как можно основательнее изучить художественные сокровища города. И скоро жизнь его подчинилась такому же строгому распорядку, как в Веймаре. В самый разгар лета Гёте работает вместе с друзьями в Сикстинской капелле, они копируют нижние головы Страшного суда. В августе здесь прохладнее, чем где-либо в другом месте. Они дают на чай сторожу, раскладывают еду и питье, которые принесли с собою, и, устроившись поудобнее, принимаются за работу. Но великий язычник, сморенный полуденным зноем, засыпает на папском престоле…
Изредка Гёте отправляется за город. Там он молод и легок. Однажды они целой ватагой отправляются в Кампанью, к известному антиквару и анималисту, и проводят две недели в доме, окруженном большим садом. Они чувствуют себя как на курорте, и тут Гёте влюбляется. Но уже не как юноша.
Больше года он прожил в Италии, не зная женщин. В письмах к герцогу, который любит рассказывать о своих похождениях, Гёте объясняет свое воздержание различными причинами: он-де боится «французского влияния» он не хочет осложнений с замужними женщинами; наконец, не желает отвлекаться от своих занятий. Даже увидя живые картины с участием леди Гамильтон, а для того времени это было утонченно эротическое и эстетическое зрелище, Гёте сухо замечает, что леди очень хороша собой и что представление это «единственное в своем роде».
И вот здесь, в Кампанье, он вдруг встречает прелестную миланку. Согласно некоему таинственному закону ее облик, характер, судьба напоминают ему женщин, которых он любил. Она тоже принадлежит к среднему сословию, он тоже знакомится с ней без всяких светских церемоний. У нее тоже светло-русые волосы, ясные глаза, нежная кожа и открытый нрав, «не столь богатый, сколь жадно вбирающий в себя впечатления». И хотя Гёте видит голубоглазую девушку рядом с другой, римлянкой, смуглокожей, с героической внешностью, он, как всегда, выбирает ту, что мягче, нежнее, светлее.
Гёте кажется чуть ли не ее отцом. По-отечески, как и пристало человеку пожилому, он по просьбе девушки начинает учить ее английскому. Свое ухаживание он начинает с существительного, взятого из предложения в «Тайме» затем переходит на прилагательное — все в том же бодром, но, весьма наставническом, тоне. Затем ведет ее к столу, где появление ее всех несколько удивляет. И тут он слышит, что она невеста, и приходит в ужас. «Но я был уже достаточно зрел годами и опытен, чтобы тотчас же, хоть и с болью, овладеть собой. «Не удивительно ли, — воскликнул я, — если бы участь, подобная Вертеровой, настигла тебя в Риме и погубила бы все, что для тебя так важно, и что, до сей поры, ты сумел сберечь!..»
Но пройдет некоторое время. Девушку бросит жених, она тяжело заболеет. Гёте часто спрашивает о ней. Потом, на одно мгновение, видит ее на карнавале, в коляске, уже выздоровевшую. Она благодарит его за внимание. Он проходит дальше, охваченный спокойным и радостным чувством.
Такова сцена в изображении старца. Она находится в полном противоречии со счастливым и жизнерадостным настроением Гёте в последние месяцы его пребывания в Риме. Настроение это ясно сквозит и в письме к герцогу, которому он рассказывает о своих любовных похождениях, и в стихах, в которых он повествует о своей длительной любовной связи. Впрочем, может быть, любовь Гёте к миланке и вправду носила платонический характер. Но, значит, у него была и другая любовная связь. И этой другой женщине посвящены и стихи и элегии, которые он вскоре напишет. Кто бы ни была его «Фаустина» она не фантазия поэта. Она женщина, принадлежавшая ему в Италии.
Но не только любовные приключения ожидали его в этой стране. Храбрость и выдержка Гёте тоже подверглись жестокому испытанию. Однажды летней ночью он возвращался на паруснике из Мессины. Судно уже приближалось к Капри, как вдруг его понесло прямо на прибрежные скалы. На палубе поднялась паника. Один только Гёте обратился к плывущим со словами успокоения. Он произнес настоящую проповедь, напомнив перепуганным людям о Христе на волнах, и под конец заставил их молиться — иначе говоря, успокоиться.
От личности Гёте, когда ему доводилось появиться перед толпой, исходило огромное воздействие. Он тоже мучился морской болезнью, он говорил на чужом языке, но в минуты смертельной опасности поэт показался окружающим священнослужителем, наставником и мудрецом.
Успокоив своих спутников, Гёте в полубессознательном состоянии опустился на тюфяк. Но он испытывал «приятное чувство, которое, вероятно, следует приписать воспоминанию о Тивериадском озере, ибо перед взором моим явственно предстала гравюра из библии Мериана». Он тотчас заснул и проснулся только от скрипа каната о палубу. Матросы брали рифы, спасительный ветер снял судно со скал. Даже в этой позднейшей записи, к тому же отредактированной уже в старости, интересно поведение самого Гёте. Он вовсе не молится, хотя и призывает молиться других. Но, очевидно, в минуты смертельной опасности в нем воскресают чувства и воспоминания детства. Он пережил все, что спустя много лет заставил пережить в пасхальную ночь своего доктора Фауста — столь же неверующего, как и он.
Здесь, в Италии, антихристианское сердце Гёте подняло еще небывалый мятеж. Посещая местные церкви, он видел, какой урон нанесли христианские легенды творчеству великих мастеров. С Тициановой Ассунтой его примиряет только ее исполненный человечности взгляд, устремленный на землю. Рафаэлеву Мадонну делла Седиа он величает «наша прекрасная богиня-мать». В Болонье, где речь заходит «о дурацком, омерзительном сюжете, на котором свихнулись решительно все» он говорят в столь несвойственном ему резком тоне: «Можно подумать, что сыны божьи обвенчались с дочерьми смертных, и от этого брака родились чудовища… Только и видишь, что разъятые трупы, эшафоты, живодерни, всегда только страдания героев, и никогда никакого действия… Или преступники — или блаженные, или убийцы — или идиоты…»
Гёте весь обращен к правде и к современности. Любовь к античности еще больше настраивает его против искусства католицизма. Его радует, что античных лошадей на соборе Святого Марка не перелили на канделябры или кресты, что в греческих усыпальницах не стоит коленопреклоненный рыцарь, закованный в латы, в ожидании радостного воскресения.
Подавляя в себе неприятное чувство, Гёте отправляется в собор Святого Петра. Сам папа служит обедню на празднике тела господня. Но, не успев даже войти в собор, Гёте восстает против католических соблазнов. Нет, он не в силах принять их. «Это спектакль, единственный в своем роде. Но я состарился в служении Диогену, и это зрелище никак не может мне нравиться. Все усилия вдохнуть жизнь в ложь кажутся мне пустыми, и маскарад, который нравится детям и сладострастникам, предстает безвкусным и ничтожным, даже когда я смотрю на него глазами поэта».
Во время своего долгого путешествия Гёте не переставал писать герцогу и Шарлотте. В первом же письме к Гердеру (только ему в эти годы доверяет Гёте самые интимные свои переживания) он просит примирить друзей с его бегством. Но подруга непримирима. Все два месяца на пути в Рим он ведет дневник для нее одной, но она не пишет ему ни строчки. Правда, письма его звучат дружественно, но не нежно. Он сетует на то, что рядом с ним нет Фрица (Фрица, а не ее). Но, подъезжая к Риму, он начинает тосковать и, чуя недоброе, шлет ей строки, словно взятые из романа: «Прожить с тобой десять лет, быть любимым тобою — и вдруг очутиться в одиночестве в чужом мире. Я знал все это наперед, и только крайняя необходимость могла заставить меня принять такое решение. Пусть же единственной нашей мыслью будет окончить жизнь нашу вместе».
Предчувствие не обмануло его. Шарлотта действительно ничего не подозревала. Прожив рядом с ним целых десять лет, она даже представить себе не могла настроений, владевших им на чужбине… Письмо, исполненное печали, растрогало бы Гёте. Но Шарлотта становится в позу оскорбленной придворной дамы. И первая мысль, посещающая ее после «оскорбления» — спасти свою репутацию, то есть вернуть свои любовные письма.
«Так, значит, это все, что ты могла сказать другу, возлюбленному, так долго мечтавшему получить от тебя ласковое слово? Не стану говорить тебе, что твоя записка разорвала мне сердце». Он заклинает ее не открывать ящик с письмами, прежде чем она получит весть о его смерти. «Ты решила молчать? Ты решила отнять у меня свидетельство твоей любви? Нет, ты не можешь это сделать, не страдая сама жестоко; и в страданиях этих виновен я. Но, быть может, письмо твое сейчас в пути? Оно идет ко мне, чтобы воскресить меня и утешить. Может быть, ты получила уже мой дневник? Прошу тебя, заклинаю на коленях, облегчи мне возвращение к тебе, не заставляй меня остаться навеки изгнанником на чужбине. Прости мне великодушно мои вины перед тобой и подними меня… Не считай, что я ушел от тебя. Ничто в мире не сможет заменить мне того, что я теряю в тебе, в моих отношениях к тебе. Ведь я сражался на жизнь и на смерть, и ничей язык не сможет описать, что происходило во мне. Только мое крушение заставило меня вернуться к себе самому». Так пишет своей возлюбленной одинокий, обожающий, объятый пламенем Гёте. Но с этой самой минуты образ ее быстро тускнеет в его душе. Недаром столько лет Гёте превыше всего ценил присутствие Шарлотты. Теперь он быстро оправился от потрясения; следующие его письма свидетельствуют, что он бодр и весел. Он пользуется своей свободой. Он должен идти вперед. Он не может обращать внимание на ее капризы.
Правда, тон ее писем становится дружелюбнее.
Но она требует, чтобы он тут же и немедленно сжигал их. Письма Гёте по-прежнему полны сердечности, но он пишет все реже, утаивает все свои планы на будущее. Наступает второй год его пребывания в Италии. В первую половину этого года он пишет ей всего девять раз, во вторую, когда переживает любовное увлечение, — ни одного.
Зато его отношения с герцогом остаются прекрасными. Герцог отправился, наконец, на войну. Он рад, что Гёте не может ему воспрепятствовать. Карл Август стоит перед пушками, Гёте — перед статуями, — расхождение их путей обозначилось с полной ясностью. Но, находясь на столь далеком расстоянии, они могут обмениваться приветствиями самыми дружескими. В письмах к герцогу Гёте шутит над тем, сколь противоположен образ их жизни; он весело болтает, описывает тьму забавных случаев из римского быта, занимает герцога историческими воспоминаниями о битвах за Рим, посылает ему осколок чана для воды, который германские легионеры бросили некогда здесь в горах.
И лишь однажды просит его не делать безумств, ибо только что Гёте с ужасом, гневом и возмущением узнал о новом поражении немецких войск. Впрочем, все два года Гёте старается уверить герцога и двор, что он в любую минуту готов прервать свой отпуск и явиться по первому зову. Просто для завершения занятий ему очень полезно пожить в Италии еще несколько месяцев. И, между прочим, осведомляется он у друзей, как обстоят дела дома, какое там настроение.
Герцог охотно соглашается продлить отпуск своему другу на сколько угодно. Чем дольше хочется поэту пробыть на чужбине, тем охотнее разрешает это герцог, тем сердечнее, в свою очередь, благодарит поэт. Решительно, чем дальше они друг от друга, тем сильнее их дружба. Они снова Художник и Меценат.
А между тем Карлу Августу вовсе не легко сохранить дружбу с Гёте. Все больше сплетен при дворе, все больше слухов ходит по городу. Недоброжелатели завидуют отсутствующему. Шиллер, впервые приехавший в Веймар, пишет в самых мрачных выражениях: «Покуда он рисует в Италии, фойты и шмидты трудятся до седьмого пота и надрываются, как вьючные животные, исполняя его обязанности. Он бездельничает в Италии и за свое ничегонеделанье получает 1800 талеров жалованья, а они за половинное вознаграждение несут двойное бремя обязанностей». Гёте так никогда и не узнал об этом письме Шиллера. Зато ему передают, что на родине его считают помешанным. Тогда Гёте решил опровергнуть «доброе мнение» своих друзей примерно так, как это сделал Софокл, написавший в подобном же случае своего «Эдила в Колоне».
Обо всем, что делалось в Веймаре, подробнее и чаще, чем кто бы то ни было, сообщал ему Филипп Зейдель.
Слуга все больше переходит на положение доверенного помощника. Он получает деньги, стережет дом, передает адресатам письма. Гёте относится к нему, как к своему ангелу-хранителю. Их переписка окончательно утрачивает официальный характер. «Будь здоров, люби меня и передай привет всем, кто меня еще любит» — пишет Гёте. И в тоне этих слов, обращенных к слуге, явственно звучит снедающее его на чужбине одиночество, тоска по родине. Зейдель пишет своему хозяину, что он лично находит нужным сохранить «Ифигению» в ее первой редакции. Вторую он считает неудачной. Гёте просит его еще раз перечитать пьесу — всю целиком. Зейдель сам убедится, что она выиграла в стихотворном варианте. Но Зейдель остается при своем мнении, и Гёте обещает оставить «Ифигению» в прозе. Впрочем, слуга тоже начал писать. Гёте советует ему не торопиться. Пусть он даст своему второму произведению созреть. Первое же следовало бы напечатать анонимно. Неискушенному автору полезно проверить впечатление, которое оно произведет на публику. Тем временем Зейдель начал заниматься естествознанием. Гёте хвалит его и, желая завоевать полное его доверие, ставит его на одну доску с собой: «Может быть, мои мнения и сопоставления превосходят твои, но твои наблюдения мне очень полезны».
Зато друзьям и коллегам Гёте отвечает редко и всегда в шутливом тоне. Он никогда не спрашивает их ни о герцоге, ни о веймарской жизни. Только развитие горных промыслов в Ильменау вызывает искренний его интерес.
Тем не менее, в Италии Гёте всегда не хватает его маленького города и, особенно, друзей. Слишком прочно вошел он в их круг, он не может не вернуться к ним. Из всего прошлого в памяти его, кажется, только и остался, что Веймар. Матери он за два года послал всего семь писем, шесть из них она затеряла, да еще по холодному и короткому письму Мерку, Шлоссеру, Кестнеру и Якоби.
Зато детям — маленьким Гердерам, Фрицу фон Штейну — он пишет тьму всякой всячины. Рассказывает им и об апельсинах на деревьях, и об электрической рыбе, и о снятом отце, восседающем на своем престоле, и о том, что здесь только что закололи тысячу свиней. Всегда он остается в кругу детских интересов, всегда говорит с малышами доступным им языком. Он и у родителей спрашивает, что привезти ребятишкам, посылает им подарки — маски, карнавальные костюмы, просит прощения у Фрица за то, что не взял его с собой в Италию, обещает ему рассказать все, как только вернется. Но оскорбленная Шарлотта уже забрала из дома Гёте его приемного сына. Тогда Гёте обращается к герцогу. Он просит его взять ребенка под свое покровительство, уберечь от дурного влияния, которое в годы, когда формируется личность, легко может испортить мальчика навсегда.
Интимными своими переживаниями Гёте делится только с Гердером. Научные поиски истины, которыми занят Гердер, совпадают с устремлениями самого Гёте. Ему необходим друг-ученый, исследователь в самом широком смысле этого слова. Живя в Вечном городе, Гёте всегда с нетерпением ждет суждений Гердера. Он беспрестанно спрашивает у друга, какое впечатление произвел на окружающих «Эгмонт». С «Ифигенией» у него вышло что-то странное. В первые месяцы в Риме Гёте читал ее трижды, и все три раза слушатели остались холодны. Они ожидали, что он даст им нечто противоположное античной драме. «Античность», которая и так окружает их здесь со всех сторон, решительно разочаровала всех. А теперь и из Веймара до него доходит плохо прикрытое разочарование. Там откровенно предпочли первую редакцию произведения.
Гёте выглядит помолодевшим, более свободным и, главное, счастливым. Но существо его осталось тем же. Изменить его не могут ни путешествия, ни женщины, ни деятельность, ни даже познание. Все та же раздвоенность, только принявшая новое обличье, живет в его душе. Сейчас он ищет успокоения в античности, как ему кажется, она все еще живет среди южной действительности, непрестанно встающей перед его глазами.
И все же единственная сцена, которую Гёте добавил в Италии к своему «Фаусту» (это вообще единственная новая сцена из «Фауста» которую Гёте написал в промежутке между своими двадцатью пятью и пятьюдесятью годами), «Кухня ведьм» — поистине антииталийская, антигармоническая, она выдержана с северным упрямством в стиле барокко.
Гёте трижды взбирается на Везувий. Его влечет туда не только как геолога. Через все описания Неаполя у Гёте проходит мысль, что здесь с потрясающей наглядностью проступают ошеломляющие противоположности, таящиеся в природе. Да и люди в Италии предстают такими, какие они есть на самом деле, ибо чувствуют себя зажатыми между богом и сатаной.
В Риме Гёте читает вторую часть «Идей» Гердера. Он согласен с основным выводом их автора. Да, разумеется, гуманность в мире, в конце концов, победит. «Но только я боюсь, что к тому времени весь мир превратится в огромный госпиталь и все люди станут гуманными сиделками друг при друге».
Какие цинически-взволнованные слова! Они свидетельствуют о том, что Гёте видел моральное начало во всем. И в то же время он не видел его ни в чем.
Сильнее всего полярная душа Гёте выразила себя в монологе Фауста, который написан в Риме и звучит как лирическое стихотворение. Так много изучив, узнав и постигнув, Гёте, словно отдыхая на горном привале, окидывает взором уже пройденный большой путь.
И вот, достигнув вершины и даже полного душевного покоя, Гёте продолжает свой разговор с собою:
В этом признании, где с предельной глубиной сформулирована проблематика Фауста, уже слышится отказ Гёте от чистой гармонии. Он понял ошибочность пути, по которому шел, увлекаемый на него своей подругой. Иначе он не бежал бы от нее. Впрочем, отречение и духовная чистота, полное искоренение желаний и противоречий — все это было не только самообманом. «Я узнал счастливых людей: они счастливы только потому, что они натуры цельные. Даже самый незначительный человек может быть счастлив и, в своем роде, достичь совершенства. Вот этого я и хочу и должен достичь, и я могу это сделать, ибо знаю по крайней мере, где это совершенство находится и в чем оно состоит. Я невероятно много узнал о себе самом во время моего путешествия».
«Я могу!» — восклицает Гёте. Но если бы он действительно мог, он не вернулся бы на родину или на нее вернулся бы новый человек, а не Гёте.
Гёте не устает подчеркивать, что в Риме он снова обрел себя как художник. Это означает лишь, что он отказался от светской жизни, но вовсе не от жизни в науке. Здесь, в Италии, так пишет Гёте, он решил взять все, что только можно, из области изящных искусств и навсегда запечатлеть в душе их священный образ; зато, вернувшись домой, он примется за изучение химии и механики, «ибо время прекрасного миновало, и только нужда и самая строгая необходимость управляют нашими днями». В этих словах явственно звучит предощущение надвигающихся мировых событий.
«Я стар для всего, только не для истины… Нет ничего великого, кроме истины; даже самая маленькая истина обладает величием. Как я рад, что посвятил свою жизнь истине». Уже гораздо реже обращается он за сравнениями в прошлое, чтобы постичь жизнь, мир и людей. Мистика становится ему окончательно чуждой. Он откровенно предпочитает ясность античного искусства воспаряющей духовности Рембрандта. И когда, приехав в Палермо, он проникает под вымышленным именем в семью Калиостро, его толкает на этот шаг вовсе не ореол мистики, окружающий авантюриста, а только желание сорвать с него покров таинственности, в которую он никогда не верил.
Быть может, стремление к истине есть только признак уходящей молодости? В Италии Гёте часто твердит, что он уже стар для многого. Ранние произведения так удались ему потому, что они возникли из юношеского огня. Теперь ему осталось работать лет десять, не больше. Жизнь его, давно отданная трудам, близится к концу, и он хочет прожить свои последние годы веселее.
Как-то вечером, уже незадолго до отъезда из Рима, Гёте, охваченный грустью, набрасывает рисунок своей будущей могилы у пирамиды Цестия. «Растушую ее, когда будет время, и пришлю тебе».
Он и не подозревает, что скоро ему суждено встретить женщину, которая родит ему сына, и сын этот будет похоронен у древней пирамиды.
Но, несмотря на то, что Гёте искренне охвачен настроением конца, в Италии он молодеет. Не столь основательно, как его Фауст, ибо он и прежде отнюдь не прозябал в каменной келье. Не пьет он и волшебного зелья, пусть даже из римских кубков. И все-таки, насколько допускает его медленно формирующийся характер, он переживает обновление. Он почти излечился от всех недугов, терзавших его дома. Путешествуя по Верхней Италии, как, бывало, во время одиноких странствий по Тюрингии, он чувствует себя бодрым, энергичным, юным.
Но приходит конец его путешествию. Он должен ехать на север, на родину. И тотчас же им овладевает демоническая печаль. «В великой печали всегда заложено зерно безумия. Нельзя долго растить и вынашивать ее». Наступает канун отъезда. В саду Анжелики Кауфман Гёте сажает маленькую пинию на память о себе. Уже через много лет он признается, что все последние дни в Риме он плакал, словно малый ребенок. Но гораздо больше, чем расставание с югом, его гнетет предчувствие свидания, которое его ждет на севере, — свидания, к которому он так стремится и о котором мечтает. Еще год назад Гёте несмело написал своей подруге, что хочет быть хоть несколько дорог тем, к кому он возвратится. Эти робкие намеки и вопросы о том, что ждет его дома, Гёте повторяет все чаще. Трогательным призывом звучат слова: «Любите меня, желайте меня, желайте, чтобы я вернулся к вам радостным».
Уже в Милане на него подуло севером. Покинув статуи и голубые небеса, он приближается к горам. Этот холод кажется ему предзнаменованием. Вчера еще он шутил в своих письмах. Сегодня пишет Кнебелю слова, полные внутренней дрожи и верного предчувствия: «Не знаю, сумеете ли вы насладиться всем, что я принесу с собою». И тут же неожиданно узнает, что человек, на которого он рассчитывал больше, чем на всех других, разминулся с ним в пути. Гердер уехал в Рим.
Гёте уже на германской границе и в последний раз как бы видит блаженные недели, ниспосланные ему на юге. «Если ты попадешь в Кастель-Гандольфо, — пишет он Гердеру из Констанцы, — то спроси там про пинию… Она была у меня перед глазами, когда я так страстно хотел тебя увидеть… Желаю тебе счастливого пути и доброго здоровья, когда ты откроешь мое письмо в тех самых местах, где я впервые в жизни был безоблачно счастлив».
Опять в Веймаре. — В кругу друзей. Разрыв с госпожой фон Штейн. — Жена Гердера. — Герцогиня. — Министр культуры. — Шиллер в Веймаре. — Незримая гётевская академия. — Мейер становится другом дома. — Оптика. — «Общество пятницы». — На вершине трудоспособности. Христиана Вульпиус. — «Метаморфоз растений». — Сын. — Жажда реальности. — Новые любовные стихи. — Поездка в Венецию. — «Великий Кофта». — Мерк взывает о помощи. — Поездка к матери. — Недели, проведенные с Якоби. — Сплетни о Христиане. — Герцог — крестный отец. — Поведение госпожи фон Штейн. — «Дидона». Собрание сочинений. — Снова «Тассо». — Том стихов. — «Римские элегии». — Непонимание со стороны публики. — Позвоночная теория черепа. — Пра-растение. — «Учение о цвете». — Вальми, Майнц. — «Мятежные». — «Гражданин-генерал». — «Рассказы немецких переселенцев».
Бельведер. Чай в маленькой гостиной у герцогини. Теплый августовский вечер. Все окна распахнуты настежь.
Гёте стоит у стола. Он разложил на нем все свои рисунки, привезенные из Рима. Они аккуратно наклеены на картон, некоторые даже — окантованы. Сейчас он положил поверх них развернутую карту с планом Рима и, склонившись над герцогиней, показывает ей место, где он жил. Подавшись вперед, герцогиня напряженно разглядывает большую карту.
Карл Август сидит, откинувшись в глубоком кресле, в котором его внесли в гостиную. На лице его написано страдание. Он опять свалился с лошади и повредил себе ногу, когда гнал обессилевшего коня, торопясь вернуться до ночи домой. Неужели ему всего тридцать два года? Сейчас его коренастая солдатская фигура не видна, но даже по лицу ему можно дать гораздо больше. Государи начинают жить рано, особенно если приходят к власти в восемнадцать лет. Вперив глаза в пространство, герцог молча курит. Зато мать его кажется едва ли не моложе своего сына. Прямая как свеча, сидит она на канапе. Ей уже пятьдесят, но у нее все еще очаровательная фигура и осанка. В руке она держит маленький рисунок и показывает его Виланду, а тот, склонившись над ней, чуть не касается тонким длинным носом ее оголенной спины и, вытянув одухотворенную руку, указывает на группу в стиле рококо, виднеющуюся сквозь нарисованные на картине пинии. Слева, отодвинувшись от стола, сидит Каролина Гердер. Она не замечает молчания своего соседа Кнебеля. Глаза ее, как всегда, устремлены только на мужа. Вот он стоит, углубившись в альбом с рисунками статуй Ватикана. Не помешает ли она, если подойдет к нему? — спрашивает себя Каролина.
Напротив, опершись красивой стареющей головой на узкую руку, глядит Шарлотта фон Штейн. Она все время молчит и только холодно и вежливо отвечает на обращенные к ней замечания герцога, когда он изредка высказывает свое мнение о рисунках. В открытых дверях, ведущих на террасу, стоит камергер и рассказывает тайному советнику пикантные анекдоты о молодости своего государя. Но советник почти не улыбается. Как и у всех этих людей, которые сейчас разговаривают или слушают друг друга, мысли его витают далеко-далеко отсюда.
«Жаль! — думает тайный советник. — Грезят об античных временах, словно о потерянном рае, вместо того чтобы постараться вернуть Гёте к прежней деятельности. Интересуется ли он еще горным делом? Правда, не успел он увидеть меня, как тотчас же начал расспрашивать о разработках в Ильменау. Но говорил он так коротко, так отрывисто, словно хотел только выудить у меня нужные ему сведения; а с тех пор ни слова вот уже полтора месяца. Вчера он в течение получаса дважды спросил меня об одном и том же. Прежде с ним такого не случалось. Чересчур наглотался солнца; видно, не годится больше для наших канцелярских дел. Enfin, ну что ж, может быть, он теперь счастливее».
«Как же здесь все чинно-благородно, — размышляет, стоя рядом с советником, камергер. — Ни дать ни взять античная академия. Вот уже две недели, как все бредят Фидием, все прикидываются, будто читают Винкельмана. Да неужто же сейчас везде такая скука, или мы состарились? Хоть бы один римский анекдот рассказал нам, так нет! Все о серьезных предметах, которые решительно никому не интересны. При первом же случае уеду в Готу».
«Да стоит ли ехать всего на два месяца? — размышляет, листая альбом, Гердер, который, оказывается, вовсе и не уезжал. — Не всякий может позволить себе отсутствовать два года, разве такой вот счастливчик. Удивительные вещи он видел. И удивительно увидел он их. Да, но кто был его путеводителем? Ведь это мои «Идеи» водили его по Риму. Даже находясь вдали, я давал ему самые точные указания. Право, нам, которые носят столетия в собственном сердце, можно и не путешествовать. Но как же вырваться из этой дыры? Генерал-суперинтендент. О, это далеко не то, о чем я мечтал, далеко, далеко не то! Куда девались юношеские мечты твои, Иоганн Готфрид Гердер? Король духа, абсолютный монарх? Ты стал всего-навсего герцогом. Гёте — да, он был единственным, за которым я признавал право на царствие. Его новые стихи: «И наслаждаясь, снова страсть питаю…» Как прекрасно! Почти синтез из Фауста и Мефистофеля. Каролина, ну что ты смотришь на меня глазками Гретхен? Ах, моя милая, все обстоит вовсе не так, как тебе кажется!..»
«Как долго слушает его герцогиня! — думает Каролина. — Необходимо, чтобы Гердер поехал в Рим. Эта поездка слишком выдвинула Гёте. Если бы только знать наверное, что Дальберг оплатит все расходы! Должны же они, наконец, прибавить нам жалованье. Гёте обязан похлопотать об этом. Ведь это он привез нас сюда! Из любви к нам? Никак не могу отделаться от чувства, что он всегда делает только то, что выгодно ему. Может быть, он богаче, одареннее Гердера, но уж, во всяком случае, не так глубок, конечно, нет! А что касается славы — так ведь наши «Идеи» гремят по всей Германии, а разве хоть один человек говорит об «Эгмонте»?..»
«Все, о чем он тут говорит, совершенно его не занимает, — думает Кнебель. — Вот в субботу вечером он был совсем другой. Мы спускались с ним по Тифуртскому шоссе, и он вдруг остановился, сорвал маленькую незабудку и принялся ее ощипывать и разламывать. Он долго рассматривал ее и молчал. Он был так увлечен нашими камнями, а теперь мечтает и о растениях. Одинокая душа, ты бежишь от меня, ты боишься, что я понимаю тебя…»
«Словно нас и на свете нет, — думает герцогиня Анна Амалия, вспоминая, с каким восторгом рассказывал Гёте о парке на вилле Боргезе (она как раз держит ее изображение в руках). — Конечно, мне тоже очень хочется поехать в Италию, но все-таки я бы никогда не могла забыть свою родину! Вчера, когда у нас наконец-то стало прохладнее, он сетовал на дождь и на холод. Слава богу, мы тоже живем не на полюсе. И почему, в сущности, он возвратился? Все они таковы, эти бюргеры…»
«Fine mouche — тонкая бестия! — думает Виланд, который, словно бы не глядя, разглядывает рисунки. — Всегда и все делает изящно. Только вернулся, как тотчас заметил, что без него мы времени не теряли. Так, чтобы не отстать от других, он тоже заводит себе девчонку! Говорят, она a la Juno, mais plus gentille, — вроде Юноны, но милее. Среди римского изобилия он воспевал Купидона.
Говорят, молода, с каштановыми кудрями, и притом даже девственна. Что же еще ему нужно? Вот будет славная сцена, если шталмейстерша его застукает!»
«Словно в стеклянной клетке, — думает молодая герцогиня, следя за пальцем Гёте, который двигается по плану. — Помолодел, загорел, весел, а все-таки кажется, будто носит маску. Ах, понимаю, он несчастлив».
«Он стал просто молод! — думает герцог, который все утро проболтал с Гёте. — Наконец-то уразумел, что в тридцать с лишним мужчина далеко еще не старик. Раз уж приходится так тяжело работать, как работаем мы, — значит, нужно рассеяние. Если я долго не смогу ходить, девчонка непременно с кем-нибудь спутается. Да и парад уже скоро. Нет, подожду до воскресенья, а там все равно поеду, черт бы побрал эту ногу! И Гёте поедет. Теперь он уже не сможет сослаться на службу. Держу пари, он вошел во вкус, и будет рад поехать бесплатно. Parbleu, черт побери, когда же кончится этот чай!..»
«Кончено безвозвратно! — думает госпожа фон Штейн, меланхолично глядя на друга своими итальянскими глазами. — Безвозвратно! Стоит и читает лекцию, совсем как Лодер или еще какое-нибудь там иенское светило. Потолстел, расползается… А какие у него были узкие бедра! Какая нежная линия подбородка! Теперь появляется и второй. Видно, любит покушать. А какое выражение рта! Уж конечно, его так целуют… О Шарлотта, почему ты не держала его крепче?! Почему?.. И не только в плену любовной тоски. Там он испил юность всех этих женщин. Что ж, им доступны только его поцелуи. Нет, никто никогда уж не будет владеть им так, как владела я с первого дня. Никогда и никто не будет так владеть мною, как он! Он осиротел и поэтому ищет наслаждения. Что ж, низменное счастье найти легко. Ушло, безвозвратно ушло все, что я давала тебе, гений! Но почему не могу я тебя ненавидеть?»
«Где я? — думает Гёте, все еще показывая и объясняя. — Неужели это мои друзья? Те, к которым меня так влекло, которым я собирался рассказывать длинными вечерами? Моя публика, мои ученики, мои учителя, моя повелительница и повелитель? Так критически разглядывают меня, что мне все время хочется поправить не то пояс, не то чулки уж не спустились ли, когда я, здороваясь, пожимал их руки? Не знаю, может, мне показалось, но руки были такими холодными! Только сейчас я чувствую, от чего отказался. Нет, я должен совладать с собой непременно и не злиться на этих на всех. Может быть, меня и вправду так угнетает это небо? Нет, дело не только в небе. Ведь девочка с каштановыми кудрями тоже родилась здесь, а обольстительна, как римлянка.
Прошло всего несколько дней, как Гёте вернулся в Веймар. Предчувствие не обмануло его.
«Почему ты вернулся?» — читал он во взорах друзей.
«Почему я вернулся?» — спрашивало собственное его сердце.
Никто и ничто не заставляло его вернуться. Никто не звал его, никто в нем не нуждался. И все-таки, словно в тумане, маячили где-то на горизонте город и управление, политика и двор маленького государства, которое двенадцать лет назад он знал разве что по названию, с которым его не соединяло ничто, кроме воспоминаний. Поэт и ученый, он не был связан ни с какой страной. Он мог остаться в любом государстве, мог занять там то положение, которое ему нравилось. Почему же он возвратился? Да потому, могли бы мы сказать, что ему уже тридцать восемь, а в Веймаре его ждет почет, дом и жалованье. Он вынужден зарабатывать. Отцовское наследство все еще не перешло к нему, у него нет состояния. Совершить путешествие, которое требовало таких денег, он мог только на министерское жалованье да на гонорар за собрание своих сочинений. Сомнительно, чтобы впредь он много заработал на своих книгах. Он уже не молод, ему не хватает авантюрной жилки, которая позволила бы ему рисковать; и хотя ему приходится обеспечивать только себя и никого больше, он уже избалован своим положением и образом жизни. Правда, он готов довольствоваться и мансардой в Риме или двумя комнатушками в Веймаре. А все-таки не хочется расставаться с большим красивым домом, где можно разместить все свои коллекции и устраивать приемы. Правда, во время путешествия он отказался от своего имени, а все-таки хочется как можно дольше им наслаждаться. Но для этого ему нужно положение, осторожность, удобства, провинциальность… Да, только филистерские мотивы приводят его вторично туда, куда впервые привел его гений.
И все-таки не только… Нет! Он вернулся домой, потому что душа его не была создана ни для воздушных и гармонических дней, проведенных на юге, ни для безбрежных просторов Рима, ни для чарующей свободы на чужбине. Душа его нуждалась в ограниченном круге жизни, в твердо очерченных обязанностях, в том северном небе, от которого хочется бежать до конца своих дней.
Гёте покинул Италию, ибо полярной его природе необходима была борьба между желаемым и осуществленным. Ведь не только Мефистофель, но и Фауст не могут вынести того, что уже существует. Стремление к борьбе определило весь жизненный путь Гёте.
Не успел он вернуться домой, как уже страстно тоскует по всему, что оставил. Чем недоступнее для него Рим, тем больше рвется он к нему, тем сильнее мечтает о нем в глубине сердца. «Равнодушие ко всему после утраты римского счастья» — так определяет Гёте свое состояние. В Веймаре, под мрачным небом, он пишет светлые стихи:
Только к осени Гёте, наконец, приходит в себя и начинает думать, как же построить свою жизнь. Прежде всего ему необходимо пристанище, где он разместит коллекции и предастся своим мыслям.
Затем нужен доход, не зависящий от успеха его сочинений, близость университета и круг слушателей и учеников. А поэтому, невзирая на отказ от главного своего поста, невзирая на отчуждение от общества, невзирая, а может быть и благодаря своему одиночеству, он должен остаться здесь навсегда. Да, навсегда! Ибо для того, чтобы устроиться накоротке, человек со складом характера Гёте не стал бы делать столь обширных приготовлений. Итак, во-первых, надо выяснить все касающееся занимаемых им постов. Разумеется, он остается членом Тайного совета. Но так как еще до поездки в Италию кресло Гёте за столом заседаний много лет оставалось пустым, то теперь его убирают совсем. Взамен Гёте получает право на случай, если бы ему вздумалось появиться в совете, занимать кресло самого герцога. Правда, Гёте, кажется, никогда больше там не появился. Однако мысль о кресле, которое ждет его много десятилетий, поддерживает в нем уверенность в своей власти, которую он так презирал, покуда она принадлежала ему на деле.
Теперь он свободен от всякой ответственности и никогда ни в чем не предостерегает ни герцога, ни двор, ни правительство. Лишь изредка в нем прорывается бережливый министр финансов, и тогда он пишет герцогине-матери в Неаполь и напоминает, что ее экскурсия может привести к непомерным расходам: «Прошу Вашу Светлость простить это мнение, высказанное с самыми лучшими намерениями, хотя и отдающее экс-президентом палаты». И в том же письме просит герцогиню оказать материальную поддержку его друзьям, немецким художникам, проживающим в Риме. Письма Гёте к герцогине Анне Амалии холодны до высокомерия. Освобожденный от служебных обязанностей, он говорит со своими государями еще свободнее, еще смелее, чем прежде. Не расточителями должны они быть, а меценатами! Впрочем, он и теперь многое делает для двора: руководит перестройкой старого дворца, заботится о друзьях, выхлопатывает им должности, устраивает своего старого слугу на место, которое впоследствии даст ему пенсию, возглавляет работы по горной добыче.
Официально он является министром культуры, то есть берет на себя руководство и надзор за университетом и факультетами, за Академией художеств и театром. Но для него это больше чем должность. Власть, которой он обладает, становится теперь инструментом просвещения. Он не может быть духовным руководителем всей Германии. Что ж, он будет им хотя бы в масштабе маленького герцогства! Ибо не успел он вернуться в Веймар, как тотчас почувствовал — дух литературы изменился совершенно. Здесь царствуют теперь другие боги. Покуда Гёте жил в Риме, в Веймаре появился Шиллер. По всей Германии ставят его пьесы, об «Ифигении» Гёте в новой редакции никто и не говорит. Следом за «Ифигенией» вышел «Тассо». Вокруг него царит то же молчание. Пройдет целых двадцать лет, прежде чем его поставят в Берлине. Зато Шиллеровым «Дон Карлосом» бредит весь мир, в том числе и герцог Веймарский и кузен его — Мейнингенский, который пожаловал Шиллера титулом гофрата.
Для Гёте, как он пишет впоследствии, «Разбойники» Шиллера отвратительны, «ибо в них мощный, но незрелый талант излился в неудержимом и стремительном потоке театральных парадоксов, от которых я стремился очиститься. Меня ужаснул всеобщий успех, который выпал, на долю этого уродливого произведения… Я готов был вообще отказаться от литературного творчества, ибо в чем же я мог почерпнуть надежду, что мне удастся превзойти эти произведения, гениальные по содержанию, но дикие по форме? Вообразите себе мое состояние!»
На первых порах Гёте сооружает для себя крепость, чтобы, укрывшись за ее стенами, без помехи отдаться творчеству и науке. Он одевает эту крепость еще и броней. Он пытается превратить ее в опорный пункт, который не так-то легко взять врагу, кем бы он ни был. Мало того, он использует свой пост министра культуры, чтобы воздвигнуть в крепости внутренний бастион. Он полон решимости не отдавать духовное руководство своим государством ни Шиллеру, ни кому другому. И срочно принимает ряд необходимых мер.
Как нарочно, сразу после возвращения Гёте из Италии Шиллер вместо приветствия печатает критическую статью об «Эгмонте» полную почтительнейшего осуждения. Прочтя ее, Гёте немедленно выдвигает кандидатуру неудобного ему поэта на должность профессора истории в Иенском университете, иначе говоря, ссылает его. Из Академии художеств Гёте убирает всех преподавателей, направление которых ему чуждо, и заменяет их новыми, разделяющими и проводящими его идеи высокого стиля в области изобразительных искусств.
Все больше ощущая себя ученым-исследователем и специалистом в области эстетики, Гете нуждается в сотрудниках. Поэтому он приглашает референтов, которые за хлеб и за место снабжают его материалами, необходимыми ему для занятий. Так возникает другая, незримая академия с резиденцией в собственном его доме.
Он выкинул теперь новый лозунг — превратить столицу Веймарского герцогства во вторую Флоренцию! Ему нужны руки, способные рисовать и выжигать, гравировать и писать. В Риме Гёте окончательно убедился, что он не живописец. Как ни тяжело ему было, но он отказался от мысли стать художником. Зато он перетягивает на север своих римских друзей. Ведь он уже не несет ответственности за финансы страны, ему легко делать из герцога мецената. Впрочем, Гёте никогда не стремился иметь собственность. Его приобретения всегда обогащают не его лично, а только дворец, город и академию. Полтора миллиона израсходовало по его почину крошечное государство на великие цели. Таков итог, который Гёте подвел через сорок лет своей деятельности.
Но социальная мысль Гёте тоже нуждается в некоем центре. Так возникает «Общество Пятницы». Раз в неделю собираются у него ученые, художники и просто любители и читают свои доклады. На открытии этого общества речь произносит Гёте. Он подчеркивает, что художник не должен, подобно Прометею или Пигмалиону, творить в одиночестве. Тем большей пользы ждет он от совместной работы ученых.
Работоспособность Гёте достигает своей вершины.
Он просит коллег являться для беседы с ним в одиннадцать вечера или в шесть утра. Много выступает публично, читает фрагмент из «Фауста» — три раза подряд. Часто ездит в Иену. Вместе с Фихте, Гумбольдтом и Мейером идет он ранним утром, пробираясь по снегу, в анатомичку, они занимаются десмологией. Днем он едет в гости, потом на чай, вечером — на балы и концерты и не устает без конца рассказывать об Италии, ибо эти рассказы особенно занимают слушателей.
Да и вообще случайные знакомые знают о нем сейчас больше, чем близкие друзья. Гёте ищет блеска, движения. Он жаждет юности.
Прошел месяц с тех пор, как Гёте вернулся в Веймар. В одно июльское утро он выходит в парк. Девушка, точно такая, как описано в стихах, подходит к нему, кланяется и просит его заступиться за ее брата. Брат — писатель, у него нет ни хлеба, ни должности.
Девушка напомнила ему римлянку, которую он оставил два месяца тому назад.
Гёте тридцать девять лет. Христиане Вульпиус двадцать три. Сохранились рисунки Гёте, на которых он запечатлел ее, цветущую молодостью. Иоганна Шопенгауэр, сестра философа, очень выразительно охарактеризовала Христиану той поры: она напоминала молодого Диониса.
И Гёте, который мог быть почти ее отцом, припадает к ней, словно к кубку. Он пьет, чтобы заглушить беспокойство и сумятицу, терзающие его, и не спрашивает, какого сорта, какого вкуса это вино. Ему нужна даже не эта вот Христиана Вульпиус, ему нужна юная и пламенная женщина. А Христиана первая такая женщина, которая повстречалась изгнаннику, приговоренному к пожизненному заточению на севере.
Как отнесется к ней Гёте?
Тот самый Гёте, который в Венеции разъяснял своему слуге значение Палладио, который пытался раскрыть маленькому мальчику явления природы, который так молчалив и недоверчив в общении с посторонними, но предан всем, кто ему близок, который никогда еще не жил под одной кровлей с женщиной.
Да неужели он выключит ее, свою первую, из собственного сердца и, словно пошлый выскочка, сделает из нее только предмет вожделения? Неужели он будет оставлять ее постоянно одну, погруженную в кухню и в хозяйство, и вести вторую жизнь в обществе других женщин и мужчин? Нет, этого не будет даже много десятилетий спустя.
На первых порах он даже труд свой не отделяет от Христианы. Конечно, она лишена культуры и широты, которые образование дало Шарлотте. Христиана вообще некультурна. Зато она чрезвычайно быстро воспринимает все, чтобы ни говорил Гёте. Ей доступны даже его оптические, опыты, как только он разъясняет ей их сущность. И с трогательной нежностью отвечает он в стихах на ее вопрос, что означает метаморфоз растений.
Христиана — героиня его «Римских элегий», которые Шиллер ценил превыше всего, что было доселе написано Гёте. И если впоследствии брак Гёте с Христианой оказался неравным браком, то первые десять лет своего супружества он был безоблачно счастлив с ней. Гёте даже в юности мечтал о детях. Теперь ему сорок. И, может быть, не помышляя еще о браке, он непременно хочет иметь детей.
Все первое десятилетие в Веймаре Гёте не брал в свой дом женщину. Он был долго в связи с первой фрейлиной двора. Он был недолго возлюбленным красавицы актрисы. Но он никогда не жил с ними под одной кровлей. Теперь он связал себя с этой девушкой, с дочерью архивариуса, которая, оставшись без всяких средств после смерти отца, вынуждена была поступить работницей на фабрику искусственных цветов. Она весела, естественна, хорошая хозяйка. Правда, она любит веселиться и танцевать, но репутация ее безупречна. Поначалу он встречается с ней только в садовом домике. Но проходит два года. Вместе со своей матерью она переезжает в его веймарский дом. Жениться на ней он не думает. Но он хочет иметь пристанище, женщину, сына. Он хочет создать для сына очаг. «Я женат, только без церковных церемоний» — говорит Гёте и празднует годовщину своей свадьбы.
Веселый нрав Христианы, даже ее пристрастие к вину напоминают ему родину. Целых пятьдесят лет он тщетно пытался полюбить тюрингский пейзаж. Ему всегда не хватало ручьев и озер. Он тосковал не только по Тибру, но даже по Майну, по Рейну. «Люби меня и думай обо мне, — читает Гёте в письмах, когда ему приходится отлучаться из дому. — Я вспоминаю о тебе каждую минутку и только и думаю, как привести хозяйство в порядок, чтобы порадовать тебя; ведь ты делаешь меня такой счастливой».
Разве когда-нибудь прежде Гёте читал такие нежные слова, полные такой робкой заботы? И еще ему пишут, что малыш спрашивает: «Неужели папа не послал мне в письме поцелуй?» Нет, Гёте не хочет больше ни грез, ни психических эксцессов. Он стремится познать реальность. Он жаждет любви со всей ее жизнью и дыханием. В один прекрасный день Гёте открывает свой шкаф. И там под привезенным из Италии черепом Рафаэля находит свои последние любовные стихи. Они попали сюда как-то случайно. Он усмехается. Стихи написаны им для Христианы и, начиная с первых, с «Посещения» и «Утренней жалобы» пронизаны уверенной жизнерадостностью мужчины, которого осчастливила даже не возлюбленная, а сама любовь. В стихах этих пылает страсть, которая трепещет в его теле; в них все игра, все любовь и никакой мистики; в них обычно нет даже рифмы, есть только напев:
А бывает, он входит к ней в комнату. Она спит. Он описывает ее спящую в своей песне, а потом запечатлевает в рисунке, и так, вовсе нечаянно, первый раз в жизни иллюстрирует собственные стихи.
Проходит несколько месяцев. По своему обыкновению он отодвигает эпизод чуть-чуть вдаль, так, чтобы его можно было окинуть взглядом весь целиком, но не утратить ни одну из подробностей. Ведь Гёте стремится к античной простоте. Возлюбленная кажется ему столь естественной, столь бесхитростной, как римлянки, которых он познал в Риме и которых некогда встречал Гораций. Вот почему в элегии портрет ее, чуть измененный, входит в картину, где Рим, Фаустина, Христиана сливаются в единый образ.
Проходит полтора года. Христиана рожает ему первенца. Первые недели ребенок плохо прибавляет в весе, и это тревожит отца. Сам он сейчас в Венеции и пишет оттуда Гердеру, пишет о женщине, которой обладает вот уже два года и которая дарит его счастьем.
«Я очень беспокоюсь о тех, кого оставил дома, и сознаюсь тебе, что люблю эту девушку страстно. Только во время поездки я почувствовал, как привязан к ней».
Да, ему суждены долгие годы сердечного влечения. Эрос воцаряется в его доме. Любимые сильные руки окружают, наконец, порядком и уютом беспокойного человека, который мечтал о них вот уже двадцать лет. Возмужалый, обращенный наконец-то к земному, одинокий гений чувствует себя счастливым в узком домашнем кругу. Он мечтает сделать свою семью еще крепче и многочисленнее. Но один за другим, как некогда в его отцовском доме, умирают четверо новорожденных, и это омрачает счастливое настроение Гёте.
Сейчас он рвется домой. «Мне нечего больше искать в этом мире… — пишет он из Венеции, — повсюду одна только мерзость да жульничество. Право, у меня не было и часа приятного с тех пор, как я ужинал с вами (с Гердерами) и спал у моей милой. Если вы и впредь будете любить меня, если немногие славные люди сохранят ко мне свое расположение и милая будет мне верна, если ребенок мой будет жив и здоров, а печь моя жарко натоплена, то, право, мне нечего больше желать».
Прошло четыре года с тех пор, как заключен союз Гёте с его милой, и впервые мы слышим голос, обращенный к Христиане: «Совершенно бессмысленно разлучаться с любимыми… Ангел мой дорогой, я твой весь… Поцелуй малыша, о котором я часто вспоминаю. Да и обо всем, что только возле тебя, — о брюкве, которую мы с тобой посадили. Если бы только ты опять была со мной! Здесь повсюду большие широкие кровати, тебе не пришлось бы жаловаться на них, как иногда случается дома. Ах, любимая моя! Нет ничего лучше, чем быть вместе. Давай же твердить это, когда будем вдвоем. Иногда я мысленно ревную тебя и воображаю, что вдруг другой понравится тебе больше, чем я, ведь я нахожу, что очень многие мужчины куда красивее и приятнее меня… Но ты-то этого находить не должна, ты должна верить, что я самый лучший, потому что я ужас как тебя люблю, и, кроме тебя, мне никто больше не нравится… Покуда я не обладал твоим сердцем, что проку было мне во всем прочем, но теперь я им обладаю и очень хочу его сохранить. Зато и я твой — весь… Давай же крепко держаться друг за друга, ибо лучше мы никого не найдем. Если я написал тебе что-нибудь, что могло тебя опечалить, прости меня, пожалуйста. Любовь твоя мне так драгоценна, потеряй я ее, я был бы самый, что ни на есть, разнесчастный. Придется тебе простить, если я немножко ревную и тревожусь… А правда, платье и шаль очень красивые? Желаю тебе хорошей погоды, чтобы ты почаще могла в них наряжаться».
Так звучит голос Гёте, обращенный к жене на пятый год их любви, среди всей сумятицы и напряженности его жизни. И во всем эпистолярном наследии писателя нет письма, которое дышало бы такой естественностью, в котором так ясно видно, как погружен мужчина в простые отношения с женщиной.
В первые годы своего свободного брака, став мужем и отцом, Гёте живет в тихом и простом мире. В этой форме бытия он надеялся найти покой и обрести свободу для своего гения.
В большом доме, куда Гёте переехал еще перед отъездом в Италию, хлопочет теперь заботливая хозяйка. Отправляясь опять за границу, Гёте приказывает сделать в доме ремонт. Вскоре герцог дарит ему в полную собственность и участок и жилье. Гёте встраивает в дом лестницу на римский образец. Так возникает диспропорция между торжественными парадными сенями и низковатыми комнатами, которая как бы символизирует борьбу в самом Гёте — его стремление к античности и смятение немецкой души. Все удобнее, все просторнее становится дом. Все обширнее хранящиеся в нем коллекции. Все чаще устраиваются здесь приемы. Хозяин сам заботится о кухне и погребе, выписывает из Гамбурга честерский сыр и сушеную рыбу.
Ему нужно теперь гораздо больше денег, чем дает его жалованье, и он умеет добыть их. Вернувшись в Веймар, он немедленно предложил Виланду для «Меркурия» отрывки из своего «Итальянского путешествия», которые должны печататься в пятнадцати номерах. Разумеется, публикуя их, Гёте преследует лишь одну цель — получить гонорар.
Зато другой гонорар, полученный за пьесу «Великий Кофта» он отсылает весь целиком семье Калиостро, которого именно в этой же пьесе разоблачил как мошенника. Свой дар Гёте сопроводил письмом, заверяя родных авантюриста, что деньги им посылает сам Калиостро. И вообще, даже замкнувшись в кругу семьи и все больше отдаляясь от спутников своей юности, Гёте продолжает заботиться о друзьях.
Неожиданно в Веймар приходит потрясающее письмо — крик о помощи. Мерк, истерзанный тяжкой нуждой, взывает к другу своей юности. Гёте тотчас же добывает у герцога необходимое поручительство и приказывает своему франкфуртскому банкиру вручить Мерку требуемую сумму. Но он не находит сердечных слов, чтобы утешить друга, который цепляется за него, словно утопающий. Проходит еще два года, и, измученный депрессией и страхом банкротства, Мерк стреляется…
Но напрасно искать выражения участия у Гёте.
Кажется, он боится впустить в себя хоть частицу смятения, которым охвачен его друг.
Конечно, это вовсе не равнодушие. Некогда Гёте часто сравнивал Мерка с Мефистофелем; и, быть может, когда Мерк погиб, поэту казалось, что вместе с ним гибнет и частичка его, Гёте. В судьбе Мерка он как бы увидел прообраз собственной судьбы. Даже в старости, когда бы ни заходила речь о гениальствующем друге, Гёте решительно избегал давать объяснения его причудливо мрачному концу.
Мать свою Гёте навестил, когда ему минуло тридцать. Он увиделся с ней вновь только через тринадцать лет. А ведь за это время она потеряла мужа, а он успел съездить не только в Сицилию, но даже в Галицию.
Правда, когда Франкфурту угрожал неприятель, Гёте предлагал ей убежище в своем доме. Но мать бесстрашна, как он, и остается у себя. Тогда он настоятельно советует продать их фамильный дом.
Она следует его совету и переезжает в наемную квартиру. Все, что отец собрал в течение жизни, идет с молотка. Даже от ценной отцовской библиотеки, и от той Гёте отказывается. Он отказывается навестить умирающую племянницу, хотя ее письма его трогают. Он не хочет видеть «второй раз» как умирает сестра. Но ведь долгие годы, покуда Корнелия страдала, болела и умирала, он и ее не хотел видеть.
Можно ли быть еще враждебнее к собственной юности? Один только Гердер по-прежнему близок Гёте.
«Я сказал ей (Христиане), — пишет Гёте в письме к Гердеру на пути в Венецию, — чтобы в самом крайнем случае она обратилась прямо к тебе. Прости!!»
Да, Гёте нуждается в верном друге. Веймарцы прощали своему герцогу и его придворным любую авантюру. Но сейчас они дружно обрушиваются на странного фаворита, в поведении которого столько лет тщетно пытались найти хоть что-нибудь предосудительное.
Супругу обершталмейстера ему простили. Но работницу с цветочной фабрики! Ведь это же скандал!!! Светское общество оскорблено тем, что прославленнейший его сочлен ввел в свой аристократический дом юную плебейку.
Гердер советует ему не переиздавать «Римские элегии» Виланд величает его сына Августа «сыном кухарки». Гёте все чаще бежит от этих сплетен в Иену. «Чистилище, — пишет он другу, иронизируя над Веймаром, — становится все ужаснее…»
Но все-таки косые взгляды причиняют ему много боли. Он, не таясь, пишет об этом в своей шестой элегии:
Он уже не отрабатывает свое министерское жалованье, не платит арендную плату за дом, не загружен безмерными обязанностями на посту президента Тайного совета.
«Значит, он живет, как рантье» — твердят завистники и недоброжелатели; и веймарцы без устали судачат обо всем, что делается в большом доме. Один только герцог не присоединяется к общему хору. Он берет под защиту любовь Гёте. Он выступает в качестве крестного отца на крестинах маленького Августа. Должно быть, ему кажется, что вторая молодость Гёте узаконивает задним числом и его собственное поведение в молодости, когда Гёте пытался вернуть его к герцогине. Вот почему герцог опять читает его стихи, проводит долгие часы в его обществе, приглашает путешествовать вдвоем. Он снова интересуется научными работами Гёте и высказывает о них суждения, часто ясные и здравые. Зато бывшая возлюбленная поэта потеряна для него даже как друг. Шарлотта восприняла весть о его новой любви как истинная фрейлина двора.
Сперва она ничего не знает, а узнав, делается больна.
«Прошу тебя, — пишет ей Гёте в одном из своих многочисленных писем, — подари меня снова своим доверием, взгляни на все, что случилось, с естественной точки зрения». В ответ она пишет драму «Дидона» пропитанную чувством мести. И тогда, как бы заканчивая историю своей самой длинной любви, Гёте сочиняет меланхолическую и нарочито трезвую эпиграмму:
Будто тяжелые двери захлопнулись в чьем-то доме. Но человек, который вышел из них, вовсе не помышляет отправиться в путь, устланный вздохами. Напротив! Он спешит в свое новое, только что построенное им пристанище. Ни песня, ни элегия, ни образ, ни тень не последует за ним сюда. Две процитированные строчки написаны сатириком; поэт безмолвствует все эти годы. Безмолвствует, как еще никогда.
С усилием, без всякого увлечения завершает он собрание своих сочинений. «Фауст», окончить которого он намеревался еще в Риме, появляется только в виде фрагмента. А фрагмент этот очень мало отличается от «Пра-Фауста». Все сцены, написанные пятнадцать лет тому назад, остались без всякого изменения. Гёте только кое-что немного сократил, вычеркнул конец, переложил «Ауэрбаховский кабачок» написанный прозой, в стихи да приписал две новые сцены.
Обе они написаны как диалог между Фаустом и Мефистофелем, но тон в них задает Мефистофель, достигший вершин своего скепсиса. Звучание центрального произведения Гёте так далеко от итальянского классицизма, что обложку его поэт украсил головой Фауста, взятой с картины Рембрандта.
Гёте издает также свои стихи. Итогом целой жизни называет он этот том. С него начинаются та стилизация и затемнение своего жизненного пути, которые Гёте превращает в принцип. Он до тех пор сглаживает, смещает, опускает в своих стихах жизненные подробности, покуда никто уже не может понять, когда возникло стихотворение, какое реальное переживание в нем отражено. Стремление Гёте как можно больше объективизировать свою поэзию вступает в самое причудливое противоречие с его страстной потребностью в исповеди. Человек, который утверждает, что все его творчество — одна непрерывная исповедь, в то же время самым старательным образом затушевывает все конкретные подробности в этой исповеди.
Сейчас он готовит к печати три последних тома своих сочинений, но это отнюдь не творческий процесс. Во весь этот период Гёте ни разу не овладело поэтическое неистовство. Все созданное им сейчас только интермедия между ранними и поздними вещами. Впрочем, вся жизнь Гёте в эти годы тоже интермедия, тоже выжидание. И хотя он ведет теперь совершенно независимый образ жизни, но точно так же, как когда он был студентом и адвокатом, министром и путешественником, он ставит перед собой совершенно определенные задачи. Его угнетает новая ответственность — ответственность, лежащая на свободном человеке. Он не знает еще, в какую форму выльется это новое для него существование. Вот почему в декабре он задумывается, с чего начать новый год. Нужно, «хоть насильно, прислониться к чему-то».
И, тем не менее, все, что он пишет, порождено его бурным временем. Иногда это непосредственно плод времени, иногда его отображение. Гёте перерабатывает средневековый роман «Рейнеке-Лис». Эта работа для него отдых после потрясений революции, а также способ научиться писать гекзаметром. Но в то же время он сочиняет две комедии непосредственно из эпохи революции — «Великий Кофта» и «Гражданин-генерал». Правда, они не имеют художественного значения. Зато третья пьеса, «Мятежные» тоже на тему революции, очень значительна и написана в самом современном стиле. Впрочем, она так и осталась незаконченной.
Писать пьесы в высоком стиле, в духе «Ифигении» Гёте сейчас решительно не в состоянии. У него нет для этого ни необходимого покоя, ни соответствующих актеров. Поэтому он сочиняет только комедииоднодневки, а в дневнике своем утверждает, что отныне он намерен «оказывать наибольшие почести слову «стиль» дабы сохранить для нас понятие, под которым скрывается наивысшая степень, которую когда-либо достигало или сможет достигнуть искусство. Понять, что эта степень существует, само по себе великое счастье». Понять! Вот к чему стремится теперь Гёте в искусстве. И в словах, обращенных к ученику в «Апофеозе художника» выражено кредо самого Гёте.
Только двадцать четыре элегии, написанные в этот период, стали большим вкладом в творчество Гёте. Это стихи, новаторские даже для его поэзии. В них он снова обрел свежесть, присущую его юношеской поэзии. Но, кроме того, им присуще новое духовное содержание, и они облечены в совершенно новую художественную форму. Впрочем, и эти элегии долгие годы пролежали в ящике его письменного стола.
Долгие годы… Ибо все попытки Гёте создавать произведения высокого стиля терпят крушение прежде всего потому, что для них нет публики. Если в эти годы лицо Гёте превращается в окаменелую маску, если, спасаясь от бурь времени, он бежит на остров домашнего уюта и науки, то в этом повинна и перемена во вкусах публики, той самой публики, которую он всегда презирал, покуда она у него была.
Действительно, разве не трагично, что именно сейчас, после всего, что он пережил и усвоил в Риме, сейчас, когда он понял, что античное искусство велико, потому что создано народом, народ Гёте отвернулся от него и пошел за новыми писателями. Только в юности Гёте познал короткое счастье ощутить связь с лучшими людьми века. Переехав в Веймар, он утратил эту связь. Даже первое издание его сочинений уже не имело успеха. Революционный дух эпохи отвернулся от абсолютной красоты. Все требуют современности, вторжения писателя в действительность. Эти качества они находят у других писателей. Все восхваляют «Ардингелло» Гейнзе. Но о появлении трех основных произведений Гёте — фрагмента из «Фауста» драмы «Тассо» и «Стихотворений» — можно встретить упоминания, да и то весьма критические, только в письмах специалистов, интересовавшихся вопросами эстетики.
Что же удивительного, если душу, которая и без того отворачивается от искусства, непонимание современников еще больше отдаляет от муз? Настроение поэта и настроения эпохи, одиночество и стремление к правде — иначе говоря, внутренние мотивы и внешние обстоятельства толкают Гёте от искусства к природе, к познанию и проникновению в нее. «Я понял, что впредь буду заниматься, вероятно, исключительно этим». И действительно, между сорока и сорока пятью годами, Гёте создал свои самые важные научные труды.
Как Леонардо, как Кеплеру, Гёте тоже важнее всего подмеченное случайно. «С этими феноменами, пишет Гёте, — у меня происходило совершенно то же самое, что со стихами: не я делал их, а они делали меня».
Ни как художник, ни как государственный деятель Гёте никогда не стремился установить некий незыблемый закон. Он только предчувствовал, что такой закон существует. Все научно-естественные труды Гёте возникли как результат того, что он увидел непосредственно глазами и лишь потом углубил и обобщил на основании интуиции. Его научные работы только памятки на пути, по которому следует двигаться дальше, чтобы открыть некий существующий закон. Но установить эти законы самому ему мешали частью дух его времени, частью собственная чувственная и антифилософская природа. Все открытия Гёте в научной области носят печать его индивидуальной манеры, и даже его логические ошибки оказываются плодотворными, ибо и в этих ошибках содержится психологическая правда.
«Подобному открытию, — скажет впоследствии Гёте о своей позвоночной теории черепа, — всегда присуще нечто эзотерическое… Его можно изложить в общем и целом, но доказать его истинность нельзя. Его можно продемонстрировать на частностях, но нельзя показать в завершенном и готовом виде». Гёте никогда не стремился (об этом он говорит даже в старости) немедленно доказать свою правоту перед природой. Наоборот, «наблюдая и испытывая, я шел лишь следом за ней и был весьма доволен, если при случае она была столь любезна подтвердить мое мнение. А если она не делала этого — значит, она заставляла меня прийти к другому заключению. Вопрос о цели — вопрос: для чего? — отнюдь не научен. Плодотворнее поставить вопрос: как, каким образом? Когда я спрашиваю, каким образом у быка появились рога, то это заставляет меня обратиться к вопросу о строении скелета быка в целом и получить также ответ на вопрос, почему у льва нет рогов, да и не может быть».
Гёте всегда смиренно взирал на природу. И в некоем смысле все его открытия происходили случайно. Это не значит, что он проводил свои научные исследования недостаточно тщательно. Он проявляет большую осторожность, чем многие ученые, и никогда ни один противник не мог обвинить его в недостаточно тщательной постановке опытов. Наоборот, он сам всегда предостерегает от слишком поспешных заключений.
Но свежесть и наивная бессистемность самоучки позволяют Гёте смотреть на природу непредвзятым взглядом. Он делает открытия не потому, что стремится к определенной цели, как Васко да Гама, и не как Колумб, который сделал открытие обходным путем, на пути к своей цели. Нет, Гёте открывает новые земли, как Эрик Рыжий, свободный мореходец, бороздивший великий океан. Но в то же время он открывает и по-другому, ибо предчувствует, что перед ним лежит новый, еще неведомый материк. И все же порой кажется, что этому интуитивному первооткрывателю не суждено открывать там, где он ищет, ибо, когда он разыскивает свое пра-растение, оказывается, что найти его невозможно.
Это случилось в Падуе. Прогуливаясь однажды по городу, Гёте увидел веерную пальму. Остановившись, он стал разглядывать ее так любовно и вдумчиво, словно перед ним было не растение, а человеческое сердце. Он глядел на пальму, как восемнадцать лет назад на башню Страсбургского собора, когда ему показалось, что он видит его впервые, и вдруг по отдельным частям он восстановил весь план незавершенной постройки. Вот и теперь Гёте увидел, что листья переходят в стебель, что они подобны лепесткам цветка, а лепестки, в свою очередь, превращаются в тычинки. И тут ему открылась тайна.
Лист — вот основа растительного мира, та форма, которая непрерывно переходит из одной в другую! Открыв этот закон, Гёте создает новую науку — метаморфоз растений.
Не случайно, что и другой исследователь, который вскоре собственными путями пришел к мысли, схожей с мыслями Гёте, тоже писатель. Но еще более удивительным покажется это сходство, когда мы услышим имя писателя, — Эразм Дарвин. Это дед того Дарвина, которому суждено было на высочайшем научном уровне подтвердить открытие Гёте. Даже сегодня мы, потомки, дивимся прозорливости, с которой Гёте проник в самую суть явлений, прозорливости, которая подтвердилась лишь через несколько поколений. И невольно мы испытываем искушение чтить самого Гёте, как первичное явление природы, которое он так страстно искал повсюду, словно видя в нем отражение собственного существа.
Это явление он нашел, прежде всего, в животном мире, когда, устремив взор на череп человека, увидел в нем межчелюстную кость. Каждая форма способна изменяться и стираться, сказал себе Гёте, но все они происходят от одной общей, первичной формы. Органы, даже став ненужными, все еще присутствуют в организме в виде рудиментов.
Теперь, увлекшись ботаникой, Гёте ищет черты сходства между явлениями, в которых современные ему ботаники отмечают одни лишь различия. Гёте полагает, что развитие растения из листа подобно развитию бабочки из куколки. Вступив в противоречие со всеми основными идеями, царившими в современной ему ботанике и зоологии, он не отступает от своих мнений, наоборот, идет еще дальше и пытается найти взаимосвязь между всеми явлениями космоса. До этих идей Гёте додумался уже давно. Но вот однажды в Венеции, когда он гуляет на кладбище, на том, что расположено на Лидо, слуга его поднимает с земли череп и, смеясь, преподносит своему господину, думая, что это череп какого-то еврея. Однако Гёте сразу видит, что это не человечий череп, а уже развалившийся череп овцы. И как это было десять лет тому назад, когда глаз его извлек межчелюстную кость из черепа человека, так и сейчас он видит то, чего еще никогда и никто не видел. Он видит, что череп состоит из отдельных пластин — иначе говоря, позвонков.
Значит, любая кость, говорит себе Гёте, — это только часть, или фрагмент, позвонка. Так он первый приходит к основной идее сравнительной анатомии. Но и этого мало. Вскоре он делает еще одно заключение: «Единый тип, который постепенно при помощи метаморфоза достигает все более высокого развития, проходит через все органические создания. Он наблюдается на всех ступенях, и низших и средних; и мы видим его даже на высших ступенях человечества, там, где он смиренно отходит на задний план».
Так Гёте высказал основную идею дарвинизма, к которой пришел за семьдесят лет до Дарвина-младшего. И только один-единственный раз во всех своих изысканиях Гёте делает роковую ошибку. Глаз обманул его, и он впал в заблуждение, из которого не мог выпутаться целых сорок лет. Это случилось, когда он создал собственную теорию цвета и, стоя на ложных позициях, упорно и бесплодно полемизировал с Ньютоном. Но борьба, которую пришлось вести Гёте, отстаивавшему на этот раз ложные позиции, превратилась для него в символ борьбы с новым, чуждым миром. Все громы, которые он в эпиграммах, письмах, беседах обрушивал на ограниченных и самоуверенных ученых эпигонов, вызваны единственным случаем, когда правы оказались ученые и не прав гётевский гений. И все же у него были все основания не доверять ученым, которые, подобно римской церкви, сжигали еретиков.
Разве не отрицали они его межчелюстную кость, а потом его метаморфоз? Что ж, разве друзья признавали его открытия? Сомнения Гумбольдта заставили даже Гёте усомниться в своем дарвинизме. Да и материалов для дальнейших исследований ему не хватало. Тридцать лет пролежали научные труды Гёте в ящике его письменного стола, и только выступление того, другого, заставило его, наконец, заявить о своем приоритете.
Разочарование в Германии, страх перед стужей, случайность, но, прежде всего, трепет беспокойного, все еще чего-то ждущего сердца гонят его опять на чужбину. Четыре раза за четыре года покидает Гёте Веймар. Но то самое беспокойство, которое гнало его прочь из Германии, всегда гонит его обратно. Последнее его пребывание в Венеции заставило его горько разочароваться и в Италии. Впрочем, истинной причиной разочарования оказалась тоска по Христиане.
Первое путешествие Гёте в Италию было бегством от стареющей возлюбленной, ставшей для него символом дряхлеющей эпохи. Он надеялся, что на юге к нему вернутся молодость и веселость. Теперь, во время второй поездки, он полон тоски по молодой возлюбленной, оставленной дома. Взгляд его блуждает по сторонам в поисках легкой замены, И снова в поэзии Гёте возникают два античных образа, две женщины: одна — та, что живет на юге, другая — там, на севере.
Вот он стоит у вечернего моря и смотрит на непрерывно меняющиеся закатные краски:
«Край, как и прежде, прекрасен, а я Фаустины не вижу; это Италия, да, но уж не та, что была!» Пылающее кольцо окружает плывущий корабль. А Гёте вспоминает об Афродите, из пламени которой родился их сын, его и любимой.
Постепенно тоска его переходит в меланхолическое раздумье. С горьким высокомерием взирает он на чужой народ. Единственное желание этих людей нажраться, народить детей да накормить их досыта. С циничной грустью поэт замечает:
Охваченный тоской и вожделением, Гёте еще решительней, чем в первый приезд, избегает светского общества. Он много шатается по кабачкам и тратториям. Наблюдает, рисует, запечатлевает в шифрованных эпиграммах девок, торговцев, поэта, покорителя женщин. Ему нравятся мальчишки-акробаты, маленькие уличные танцовщицы. Словно ища забвения, восклицает он в совсем новом, не свойственном ему тоне:
Но тут в Венецию приезжает герцогиня Веймарская. Гёте уже поджидал ее. Он тотчас надевает маску придворного. И все, что осталось от этой поездки ему и нам, — тетрадка с эпиграммами, да рисунок, изображающий канатную плясунью, да овечий череп, загадку которого он разгадал.
В том же году ему пришлось поехать совсем в другом направлении. Он сопровождает герцога в Силезию, где проводится подготовка к новому походу. Но и здесь, среди шума и гама, Гёте сохраняет спокойную сосредоточенность.
Точно так же, как овечий череп, найденный им на Лидо, заставил его равнодушно взирать на краски и картины моря, точно так же среди шума и грохота военного лагеря в Бреславле он слышит только те голоса, которые беседуют об анатомии.
Оказавшись на линии фронта во Франции, здесь ему исполнилось сорок три года, — Гёте кажется тут человеком совершенно случайным. Впрочем, он и попал-то сюда случайно. «Прямо непростительно, что я ни разу еще не присутствовал на военном параде» — писал Гёте герцогу за год до развернувшихся событий. Бесстрастный наблюдатель захотел увидеть поля, усеянные не камнями и растениями, а сражающимися. Впрочем, вернее всего, он приехал даже не из любопытства, а только чтобы сделать приятное герцогу. Но, может быть, и сюда его пригнало вечное беспокойство одинокой души?
«Мы ведем очень беспокойное и очень скучное существование. Жизнь моя самая простая… Я почти не выхожу из палатки, редактирую «Рейнеке» и пишу труд по оптике… Вижу много людей, с которыми у меня мало общего. Ринуться в опасность я не собираюсь: никто нас за это не похвалит, а ущерба от этого бывает много».
В лагере царит плохое настроение, и вечером он рассказывает друзьям о приключениях Людовика Святого, которому доставалось еще труднее. По ночам читает герцогу фривольные французские романы и, словно заправский адъютант, пишет оставшемуся дома приятелю: «Наш милый герцог здоров, свеж и бодр, он шлет вам привет… и ценит вас соответственно вашим заслугам». Так и кажется, что мы слышим голос Гёте, напоминающего своему суверену: пожалуйста, пошлите несколько милостивых строк старому ворчуну.
Полночи гуляет Гёте с неким принцем в виноградниках за батареями и до самой зари объясняет ему свою теорию цвета.
Дилетант-доброволец, он решает испытать на себе все опасности войны — и выходит под дождь ядер. Ему показалось, так уверяет потом Гёте, что он очутился в раскаленной печи и превратился в такой же расплавленный элемент, как и все окружающее. Как на судне, терпевшем крушение у берегов Капри, Гёте остался спокоен перед лицом смерти. Что касается проблемы войны как таковой, то в конце XVIII века она вряд ли уже волновала Гёте.
«Несчастные раненые и убитые лежали повсюду, а за Майнцем всходило великолепное солнце». Вот и все, что он записал.
Даже когда началось тяжелое отступление, Гёте лишь в общих чертах говорит о заботах, лишениях, несчастьях, перенесенных «нами». Впрочем, он утверждает, что готов уверовать в бога, и даже дает полушутливый обет никогда впредь не сетовать на скуку, царящую в Веймарском театре. Там хоть сидишь под надежной крышей. Но, когда начинается паника, и все бегут, Гёте, сидя в повозке с походной кухней, изучает справочник по физике. Он захватил эту книгу с собой именно потому, что от нее легко оторваться. Тем не менее, он рад, когда ему удается раздобыть верховую лошадь. Наконец-то он возвращается домой! Порядок, постель, еда… И Гёте запевает самый радостный из всех псалмов Давида.
Сомнения нет, его волнует горькая доля людей, вовлеченных в войну, но вовсе не судьба князей и принцев. Нет, его трогает участь пастухов, у которых отнимают стада, а взамен суют в их загрубелые ладони бумажонки, уже утратившие всякую цену. Страждущие бедняки, спугнутые войной с насиженных мест, близки теперь Гёте. И невольно он сравнивает их судьбу с судьбой героев античных трагедий.
Находясь все время в палатке главнокомандующего, Гёте чрезвычайно быстро ориентируется в создавшемся положении, он не в силах не презирать окружающих. «Мы то разыгрываем смельчака-разрушителя, то изображаем кроткого вдохновителя, мы заучиваем громкие фразы, чтобы в самых отчаянных обстоятельствах вселять надежду и мужество в людей. Поэтому у нас процветает ханжество особого сорта. Оно на свой манер отличается от ханжества попов и придворных… Мы разыгрываем самое настоящее «Парадное и торжественное действо» в котором я, на собственный лад, исполняю роль Жака Меланхолика».
Гёте — сын скептического века и поэтому в происходящем видит не столько трагедию, сколько трагикомедию. И поэтому избегает писать отчеты о военных действиях. Он не описывает происходящего, ибо то, о чем он должен писать, ему неинтересно, а о том, о чем хочется, он писать не может. Впрочем, с большинством офицеров Гёте поладил, и весьма скоро. Они ожидали встретить в поэте человека неловкого, изнеженного. Подтянутость и светские манеры Гёте их удивили.
Только однажды, увлекшись, Гёте принялся разъяснять специалистам, как следует наводить орудия. Старый офицер из Померании тотчас же грубо его оборвал. Все смутились. Гёте покраснел. «Да, господа померанские офицеры, — сказал он, — вы, право, откровенны… И дали мне жестокий урок. Впредь я никогда уже не осмелюсь…» И к удивлению присутствующих, Гёте протянул обидчику руку. Впоследствии он часто беседовал с этим офицером и, повстречавшись с ним через год, пригласил бывать у себя почаще. Даже спустя двадцать лет он дружески принимал его в своем доме.
Книги «Кампания во Франции» и «Осада Майнца» написаны Гёте через двадцать восемь лет после событий, о которых в них идет речь. Разумеется, они менее существенны для нас, чем письма, писавшиеся непосредственно с поля боя. В этих письмах мы вообще не нашли бы картин времени, если бы в них не сверкали то тут, то там сцены, подмеченные случайно. Нет, не злоба дня оказала влияние на Гёте, а все столетие в целом. В годы волнующих событий он бежит все дальше от политических интересов, которыми живут окружающие, пытаясь спастись от них под кровлей своего дома.
В тесном семейном кругу, в любви, в научных исследованиях и занятиях Гёте мечтает укрыться от сумятицы века. Участник военной кампании, он наперекор собственной воле оказался в стане монархистов, боровшихся против революции, за восстановление легитимной власти. Но вместо того чтобы вступить в Париж (он заранее уже заказал у полкового переплетчика визитные карточки для этого случая), Гёте вместе со всей роялистской армией стремительно бежит назад. И мы вынуждены признаться, что он познакомился с революцией на практике только в качестве ее противника, потерпевшего безусловное поражение.
Гёте с ужасом видит, что был прав во всех своих предвидениях. «Я с огорчением узнал, что Тайный совет не замедлил объявить эту войну войною имперскою. Значит, мы вместе со всем стадом бросимся навстречу собственной погибели» — пишет он при виде всеобщего смятения одному из своих коллег.
Подобно огненному видению, будущее дважды предстало перед Гёте. Первый раз это случилось за четыре года до взятия Бастилии, когда до него дошла «История с ожерельем». Она произвела на него впечатление столь ужасающее, что ему показалось, будто он увидел голову Горгоны. «Я напал сейчас на след — вернее сказать, у меня есть прямые доказательства чудовищного обмана, который притаился во мгле. Поверь мне, что под наше общество, под его политические устои, подложены мины. Они лежат в траншеях, подземельях, клоаках…»
Второй раз видение возникло на четвертый год революции, когда Гёте оказался свидетелем того, что армия народная наголову разбила армию наемников.
После поражения под Вальми генералы и офицеры собрались вечером у костра. Охваченные ужасом, ибо произошло нечто опрокинувшее все их расчеты, утратив последнее мужество, они вопрошали друг друга: что же дальше? И, наконец, обратились с тем же вопросом к единственному здесь штатскому. Как-никак он поэт, философ. Может быть, хоть у него найдется слово утешения, чтобы взбодрить их? И тут, в этом мундирном кругу, раздался голос Гёте: «Здесь и сегодня начинается новая эра мировой истории, и вы можете сказать, что были тому свидетелями».
Гёте совершенно точно сформулировал, что именно произошло. Он сформулировал идею безусловной и неотвратимой победы нового и сделал это мгновенно, в одной-единственной фразе в самый вечер поражения.
Но проходит всего год, и Гёте оказывается в лагере победителей. Майнц, где засели якобинцы, пал. Стоя у окна дома, в завоеванном городе, Гёте наблюдает за трагическим отступлением разбитых французов. Побежденным дозволено беспрепятственно оставить Майнц. И они уходят под звуки «Марсельезы».
Гёте-поэт смотрит на побежденных и сочувствует им. «В этом революционном Те Deurn звучит нечто печальное, некое предчувствие, хотя его исполняют чрезвычайно бравурно. Но на этот раз они играли очень медленно, в такт медленному шагу своих коней. Трогательное, страшное и серьезное зрелище. Истощенные, уже немолодые люди. Выражение их лиц вполне соответствовало мелодии, с которой они медленно приближались к нам. В отдельности каждый напоминал Дон-Кихота, но в массе своей они являли зрелище, достойное величайшего уважения».
Тем временем возле герцогской палатки толпа бюргеров собралась линчевать одного из отъезжающих членов Якобинского клуба. И тут навстречу им грозно выступил Гёте. Они не вправе вымещать свои обиды на одном человеке. Республиканцам дозволено уйти беспрепятственно. Судить их будут бог и власти. Мало-помалу он успокоил толпу.
При виде побежденных, Гёте безоговорочно встает на их сторону. Он судит их с позиций чистой человечности. Но бывают другие минуты, когда, скованный своими чинами и должностями, он запутывается в противоречиях.
В те самые дни, когда происходят события в Майнце, в Иене вспыхивают студенческие волнения. Поводом к ним послужило введение в город карательного отряда численностью в пятьдесят солдат. И тут министр культуры Гёте теряет всякое самообладание, что ему так несвойственно. Любое Неповиновение неизменно выводит его из себя. Правда, он всегда стоял за самые мягкие меры воздействия. Вот и сейчас в качестве дипломата он выступает посредником между студентами и солдатами. Отряд выводят из города. Но во время этих волнений Гёте наблюдает такое количество «интересных сцен» что ему не хочется ехать в предусмотренную поездку. Когда Гёте видит события непосредственно, когда он смотрит на них невооруженным глазом, его демон переступает все границы официально дозволенного.
Воображение Гёте уносит его вдаль. В пьесе «Мятежные» некий магистр завидует графине, только что возвратившейся из Парижа, — ведь она имела счастье быть очевидцем величайшего из всех мировых событий, «очевидцем счастливого волнения, охватившего великую нацию в мгновение, когда она впервые почувствовала себя свободной и избавленной от оков». Графиня скептически опровергает магистра, а он говорит: «Тот, кто ошибается из великих намерений, всегда поступает похвальнее, чем тот, который поступает всегда лишь согласно своим мелким намерениям».
Но любовь к порядку — третья основная черта в характере Гёте — заставляет его отшатнуться в испуге от явления, которое ему кажется хаосом и анархией. «Такова уж моя природа. Я предпочитаю поступить несправедливо, но я не могу терпеть беспорядок». Недаром целых четверть века он так жестоко боролся с демоном, пытавшимся унести его в бесконечность.
Теперь Гёте иронизирует над беспочвенными мечтателями. По-мефистофельски издевается он над всеми, кто восхваляет свободу и равенство, «только дабы составить себе имя, только дабы действовать, безразлично каким способом». В пьесе «Гражданин-генерал» Гёте ядовито высмеивает маленького человека, польстившегося на посулы подстрекателя. Впрочем, не меньше высмеивает он и судью, который, стремясь спасти существующий порядок вещей, с усердием дурака пытается, во что бы то ни стало, открыть заговорщиков. И только «идеальный» дворянин выступает здесь как мудрый и демократичный посредник всех спорящих.
«Несвоевременное наказание, — говорит примерный дворянин, — лишь вызывает зло. В стране, где государь не замыкается от своих подданных, где все сословия с уважением думают друг о друге… там не возникают и партии».
В сатире «Путешествие сыновей Мегапарцона» Гёте издевается над лихорадкой времени. Он называет ее «газетной лихорадкой» и, сравнивая с инфекцией, которая передается по воздуху, предостерегает окружающих от мании приносить все в жертву слепому безумию. Но точно так же иронизирует он и над островом монархоманов, где на отвесном скалистом берегу, крестьянин растит свою рожь. В этом государстве существовал древний закон, согласно которому землепашец в награду за труды мог пользоваться частью взращенных им плодов. Однако под угрозой тяжкого наказания ему запрещалось наедаться досыта. «И поэтому, — поясняет Гёте, — второго такого счастливого острова не было в целом свете. Землепашец трудился всегда G охотой и с аппетитом; аристократы, у которых желудки обычно работали плохо, обладали достаточными средствами, чтобы есть вкусно, а король всегда делал вид, будто делает все, что хочет».
Но даже в этой своей сатире Гёте пытался найти для себя точку опоры. Впоследствии он назовет ее беспартийностью.
Однако когда в первые годы революции фон Гагерн обратился к «лучшим умам немецкой нации» с призывом объединиться вместе с князьями в некое подобие духовного союза, дабы спасти Германию от анархии, Гёте отказался вступить в этот союз, заявив, что «князья и поэты вместе действовать не могут».
Истину эту он выстрадал давно и глубоко…
Вопреки своей «беспартийности» Гёте пытается воплотить современные события в драматургической форме. Он попробовал сделать это сатирически, в двух своих маленьких пьесах и в «Рассказах немецких эмигрантов» он пытался символически выразить это в «Сказке» идиллически в «Германе и Доротее» трагически в «Побочной дочери». Теперь он пишет комедию «Мятежные» — по собственному его признанию, политический символ веры, который он исповедовал в ту эпоху. С точки зрения стиля эта комедия принадлежит к наиболее совершенным фрагментам Гёте.
Хирург, магистр и управляющий пытаются толкнуть крестьян на путь насильственного разрешения конфликта, который владельцы поместья, опираясь на Имперский верховный суд, ведут с ними уже долгие годы. Но графиня, владелица поместья, только что вернулась из Парижа, и события французской революции заставили ее понять, что самый правильный путь разрешения всех конфликтов — это путь терпимости. «Когда я убедилась, — говорит она своему собеседнику, — как легко нарастает несправедливость из поколения в поколение, как великодушные действия по большей части совершают только отдельные личности и одно только своекорыстие передается по наследству, когда я собственными глазами увидела, что хотя человеческая природа до последней степени пала и принижена, но никак не может быть раздавлена и уничтожена совсем, — тут я твердо решила строго воздерживаться от всякого действия, которое мне представляется несправедливым, и всегда громко высказывать свое мнение о несправедливых поступках в кругу семьи, в обществе, при дворе, в городе. Я не хочу больше молчать ни перед никакой неправдой, не буду переносить никакой низости под прикрытием высокой фразы, даже если меня станут поносить ненавистным именем демократки».
К мнению графини он присоединяется и теперь, скажет Гёте уже в глубочайшей старости, А когда он писал свою пьесу, оно было просто его собственным. «В награду меня наградили таким титулом, который я не могу повторить. Но я был совершенно уверен, что великая революция никогда не возникает по вине парода, а всегда только по вине правительства. Революции невозможны, покуда правительства действуют справедливо и неизменно проявляют чуткость, то есть, покуда они своевременно принимают меры, чтобы улучшить положение народа, а не противятся этому до тех пор, покамест необходимые улучшения насильственно проводятся снизу». В этом реалистическом суждении выражена политическая позиция Гёте по отношению к революционной эпохе.
К той эпохе, когда острее, чем когда бы то ни было, проступила двойственная природа Гёте. Впервые в своих произведениях говорит он о своих «двух душах» хотя лишь много позднее, в формулировке Фауста, слова эти станут источником для понимания творчества и личности Гёте. Впервые он чувствует, что существует философское обоснование, узаконивающее природу этой двойственности. Он находит его в учении Канта: притяжение и отталкивание неотделимы от свойств самой материи, и отсюда для него вытекает «вечная полярность всего сущего».
Это основной закон, управляющий им самим.
С тех пор как десять лет тому назад он создал Тассо и Антонио, чтобы объясниться с собой и понять себя, он уже не вступал в диалог со своим вторым Я. Но теперь он опять заставил зазвучать старые голоса, не звучавшие пятнадцать лет, опять заставил говорить Фауста и Мефистофеля; и только теперь в двух новых диалогах происходит кардинальное объяснение между этими полярными силами, ибо в «Пра-Фаусте» спор шел, за исключением двух коротких сцен, только о вопросах злободневных, только о Гретхен.
С точки зрения драматургической, сцены, написанные сорокалетним Гёте, не имеют особого значения. Пожалуй, они даже лишние в построении трагедии. Но в них с предельной отчетливостью видно грандиозное качание маятника, ось которого — душа поэта.
Эти сцены так прочувствованы Гёте, они так лишены всякой драматургической условности, что Фауст начинает свой монолог прямо с середины фразы, а Мефистофель вообще неизвестно как и почему оказывается возле него.
Фауст
Мефистофель
В этих строках громко звучит спор, который ведется в груди самого Гёте между сорока и сорока пятью годами. Она служат комментарием ко всем потрясающим картинам, которые казались непонятными его современникам и остались непонятными потомству. В них заключена глубочайшая теска Гёте по гармонии. Это самая высокая точка его самоанализа. И, разумеется, точка поворота.
Здесь звучит голос Одинокого, жаждущего услышать человеческий голос.
Шиллер. — «Оры». — Переписка. — Союз. Самый здоровый период в жизни Гете. «Герман и Доротея». — Смерть второго ребенка. — 1000 двустиший. — Сын. — Карлсбад. — Дневники. — На заработках. — Первое, коттовское издание. — Покупка имения. — Мадам де Сталь. — Графиня Эглофштейн. — Кунст-Мейер. — Министр Фойт. Столкновение с герцогом. — «Магомет». Постройка нового дворца. — Смерть Гердера. — Постановка «Ифигении». — Якоби наносит визит. — Пролог к «Фаусту». — Драматург и режиссер. — Стообразная деятельность. — «Винкельман». — «Годы учения Вильгельма Мейстера». — Баллады. — «Фауст». — Карлсбад. — Веселье и Эрос. Сильвия фон Цигезар. — Предполагаемая поездка в Италию. — «Аминт». — Тяжелая болезнь. — Смерть Шиллера. — Битва под Иеной. — Нападение. — Христиана-спасительница. — Венчание.
В зале, сверкающем ледяным блеском, стоят, построенные шеренгой, человек двести воспитанников. Задрав головы, сомкнув каблуки и выпятив грудь, стоят они как вкопанные, вперив глаза в мрачного и грозного своего повелителя.
Старый герцог Вюртембергский производит смотр своей военной школе. За ним полукругом стоят придворные, вполголоса разговаривая между собой. Присутствуют тут и посторонние — кузен Евгения Вюртембергского, молодой герцог Веймарский и друг его — поэт и министр.
Старый герцог выражает похвалу самым старательным и прилежным ученикам, затем берет у надзирателя список и выкликает лучших воспитанников. Поглядев на питомца не столь благосклонно, сколь сурово, герцог вкладывает ему в руку награду. Не сводя глаз с государя, ибо они боятся его, награжденные молча склоняются, как предписано по уставу, и возвращаются на свое место.
Только один из присутствующих не смотрит на герцога, не слышит, не видит, не знает, кому дали награду. Впрочем, он тоже не прочь ее получить… Он стоит, впившись взглядом в незнакомца в темном костюме, который высится несколько поодаль. О, как хочется юноше проникнуть в душу Молчаливого! Значит, так выглядит поэт в сиянии славы и почестей? Не более сверкающим? Не более прекрасным? Какой он бледный, худой, почти как его Вертер!
«Вот сейчас, сейчас поглядит на меня своими большими, испытующими глазами… Поглядел! О, если б я мог приковать его взглядом к себе, если б я мог броситься ему на грудь и крикнуть: «Et in — Агcadia ego» И я рожден в Аркадии! Но ты горд, поэт, ты не смотришь на меня, ты не угадываешь, что делается со мною. Зато как низко ты склоняешься, когда к тебе обращается твой государь! Как улыбаешься и киваешь! Ты стал просто герцогским прислужником, просто придворным… О, как ненавижу я их! Всех! И тебя. За то, что ты обманул своего гения.
Твоя бледность — только следствие высокомерия, худоба твоя — порождение распутства. Нет, ты уже не поэт более.
— Фридрих Шиллер! — громко выкликает герцог, глядя в список.
Юноша вздрагивает. Растерянный, выходит он вперед, целует, как положено, край герцогского кафтана и, почти не чувствуя награды в руке, словно лунатик, возвращается в строй. «Книга! — соображает он, наконец. — Ты вложил мне в десницу книгу, герцог! Скоро я вложу тебе в сердце книгу, от которой оно окаменеет. Так, значит, вот она, ваша награда? Мне только двадцать. Но погодите, мне будет тридцать, как этому там, и тогда на главу мою возложат награду из вечнозеленых листьев. И пусть он увидит, что возложила ее вся нация!..»
Проходит восемь лет. Тихий августовский вечер. Шиллер сидит за бокалом рейнвейна в садовом домике Гёте. Он бежал из полка герцога Вюртембергского, но посреди всех скитаний, славы и бедствий он всегда помнил Гёте, который молчал и даже не заметил, как у него на глазах вручили награду гению. В Веймар Шиллер приехал совсем недавно. Лучшие умы герцогства оказали ему самый радушный прием. Но ему, чужаку, в этом обществе не хватает человека, в присутствии которого он испытал восхищение и зависть, недоброжелательство и почтение, восторг и недоверие. Гёте сейчас в Риме, и видеть можно только его дом, да и то загородный. Но сегодня день рождения Гёте, и здесь собрались его друзья, они пригласили с собой и Шиллера. А теперь он чокается с Кнебелем и пьет за здоровье отсутствующего хозяина.
Все, что он услыхал в Веймаре об этом странном человеке, право, достаточно удивительно. Многие говорят о нем только дурное. Другие — правда, их немного — одно только хорошее, и при этом со страстью.
«Как везет этому человеку! Как легко складывается его судьба, в то время как нам, другим, приходится вечно бороться! Неужели он выше нас? Нет, у него было только более благополучное детство, он получил лучшее образование. Он просто счастливее да к тому же и старше нас на целое десятилетие» И Шиллер, не смущаясь, повторяет в беседах и в письмах злобные сплетни о Гёте, которые слышит со всех сторон.
Проходит еще год. Наступает июнь. Гёте, наконец, возвращается. Любопытство Шиллера достигает высшей точки. «Мне не терпится увидеть его. Мало кто из смертных меня так занимает». Шиллер просит друзей передать Гёте «все самое хорошее, что только возможно».
«Неужели он не пожелает меня увидеть?» И, в совершенном заблуждении, Шиллер пишет одному из друзей: «Разумеется, Гёте навестил бы меня, если бы знал, что, возвращаясь в Веймар, он проехал чуть не мимо меня. Мы были всего в часе пути друг от друга».
Проходит несколько недель. Воскресенье. Стоит солнечный сентябрьский день. Все стремятся провести его за городом. В многолюдном обществе помещиков и придворных, в обществе, где присутствуют Гердеры и госпожа фон Штейн, они, наконец, встречаются.
«Наконец-то могу написать тебе о Гёте, — пишет Шиллер своему другу Кернеру. — Первое впечатление, которое он производит, весьма поубавило высокое мнение, которое мне внушили об этом привлекательном и прекрасном человеке. Гёте среднего роста, походка и манеры его чопорны, лицо замкнуто, глаза чрезвычайно выразительные и живые, и смотреть в них приятно. Лицо его, невзирая на серьезное выражение, кажется очень благожелательным и добрым… Знакомство наше произошло весьма быстро и без малейшей принужденности. Правда, общество было слишком многочисленно, и все слишком ревновали к нему друг друга, так что мне не удалось пробыть с ним наедине сколько-нибудь длительное время и побеседовать о чем-нибудь, кроме как на самые общие темы. Сомневаюсь, что мы когда-нибудь сойдемся близко. Многое, что мне все еще интересно, к чему я стремлюсь и на что надеюсь, он уже изжил, так же как его эпоха. И мне кажется, он так далеко ушел от меня, что нам уже не суждено будет повстречаться в пути… Его мир — не мой мир, представления наши об окружающем, очевидно, существенно отличны… Как все получится — покажет время».
Время проходит. Шиллер ждет. В то самое воскресенье, когда он напрасно надеялся, что Гёте обратится к нему хоть с одним словом, статья Шиллера об «Эгмонте» вернее, статья Шиллера против «Эгмонта» уже отправилась в печать. Вскоре Гёте прочел эту статью и увидел в ней выражение общего настроения, которое встретило его, когда он вернулся в Веймар. Шиллер с неприязнью взирает на Гёте, на этого узурпатора в царстве муз, который без всякой внутренней борьбы с окружающей действительностью покоряет ее себе. Двадцать лет боролся Гёте, чтобы одолеть хаос и прийти к совершенству формы. И вдруг видит, что весь разработанный им гениальный процесс добывания золота в рудниках самого сатаны поставлен под сомнение. Молодой человек, певец хаоса, приводит в неистовый восторг немцев. Пусть даже Гёте не питает ненависти к Шиллеру.
Но идея Шиллера внушает ему отвращение.
С октября и всю долгую зиму Шиллер живет в маленьком городке рядом с Гёте.
От него к нему просто рукой подать. Шиллер постоянно общается с его друзьями, всегда бывает с Кнебелем, с Морицем, а тот и пальцем не пошевелит, чтобы с ним повидаться. Правда, раз они все-таки встретились, но Гёте тотчас же вежливо отделался от него. Шиллер впадает просто в отчаяние. Со дня на день надеется он услышать, что Гёте говорил, наконец, о его «Дон Карлосе». Ибо антипатией Шиллера управляет только одно желание: он хочет, чтобы тот, поэт, судил его, как поэта, даже если он и осудит его.
Но Гёте не хочет ни говорить, ни судить. Он хочет только выдворить Шиллера из своего гнезда. Ему мешает даже деликатное напоминание о нем. Вернувшись в Веймар, Гёте и так нашел во всех друзьях перемену — они мрачны, рассеянны. Он вовсе не желает, чтобы ему навязали еще одного противника.
Творчество и замыслы Гёте заставляют Шиллера пылать враждебностью. А Гёте вообще не питает ни малейшего интереса к творчеству Шиллера. И только чтобы выставить его из Веймара, наконец, придумывает для него профессуру в Иене. Министр культуры Гёте дает поэту Шиллеру звание профессора истории. И Шиллер вынужден явиться к нему, чтобы выразить свою благодарность.
«Я побывал у Гёте, — пишет Шиллер. — Он проявил чрезвычайную энергию в этом деле и чрезвычайно большой интерес к тому, что, как он полагает, послужит к моему счастью».
Но неужели Шиллер, искушенный в делах света и знаток людей, не понимает, какие мотивы руководят его партнером по игре?
Нет. Проницательного ослепляет одно обстоятельство, и Гёте прекрасно учел это. Целых десять лет Шиллер вел изматывающую кочевую, мрачную жизнь.
Ему пошел уже тридцатый год, и он жаждет легализовать свое положение, иметь дом, должность, покой. Он хочет получить, наконец, возможность сосредоточиться и творить. Правда, в беседах с сестрами Ленгфельд, которым он всегда и во всем исповедуется, Шиллер принимает патетическую позу «героической меланхолии». Его-де застали врасплох. Он откажется от этого предложения. Он гордится своей золотой свободой. По правде, он не получил еще формального назначения и мог отказаться от него в любую минуту. Но он решил бросить якорь. Пытаясь выпутаться из своей связи с «гениальной» госпожой фон Кальб, которая слишком уж его утомляет, он подыскивает себе аристократическую и богатую невесту. Он хочет, наконец, приобрести деньги и значение.
Правда, он никак не может решить, на какой из аристократических сестер Ленгфельд остановить выбор, объясняется в любви обеим, обсуждает со своим другом еще несколько возможностей. Всего за два месяца до помолвки Шиллер просит Кернера подыскать ему подходящую партию и называет минимальную сумму, необходимую ему в качестве приданого.
Тем временем приятельница невесты, госпожа фон Штейн, наконец, узнала о связи Гёте. Атмосфера, в которой живет Шиллер, до предела враждебна Гёте, хотя сестры Ленгфельд преклонялись и преклоняются перед гением Гёте.
Но терпение Шиллера, наконец, истощилось. «Этот человек, этот Гёте вечно стоит мне поперек, дороги» восклицает он, уже не таясь перед другом. Снедаемый честолюбием, Шиллер в ярости сетует на судьбу, позволившую тому, другому, без всякого труда добиться преимущества во времени, которое ему, Шиллеру, невозможно наверстать. Перед отъездом в Иену он изливает в письме всю любовь-ненависть, которую ему внушает Гёте: «Он пробудил во мне совсем особое чувство — смесь ненависти и любви. Чувство, не вовсе чуждое тому, которое Брут и Кассий, должно быть, питали к Цезарю. Я готов был убить его дух, и в то же время я любил его всем сердцем… Ум его созрел окончательно, и суждение его обо мне скорей враждебно, чем благоприятно. Но для меня самое важное слышать о себе только правду, и поэтому из всех окружающих лишь он один может оказать мне эту услугу. Вот почему я хочу окружить его соглядатаями, ибо сам никогда не спрошу его, какого он обо мне мнения».
Этой исповедью Шиллер заканчивает на время главу, название которой — Гёте.
Проходит полтора года. Шиллер женат, он породнился с тюрингским дворянством. Он профессор, почитаемый студентами, учеными и писателями. Живет он в Иене, в собственном доме, обставленном с большим вкусом. Жену его Гёте знал, когда она была еще ребенком, время от времени они встречаются у общих друзей. Нет ничего удивительного, если раз (а может быть, и несколько) Гёте посетил Шиллера. Разговор, как сообщает Шиллер, скоро коснулся Канта. «Гёте совершенно неспособен чистосердечно присоединиться к чему бы то ни было. Философия кажется ему слишком субъективной. Представление его о явлениях всегда слишком чувственно и, как мне кажется, слишком осязаемо. Но дух его влияет на все, исследует во всех направлениях и стремится повсюду создать нечто целостное. Именно поэтому я и считаю Гёте великим человеком. Впрочем, живется ему не очень-то сладко. Он стареет; и любовь к женщинам, в чем он так часто грешил, теперь, кажется, собирается ему отомстить. Боюсь, он совершит глупость и разделит общую участь всех старых холостяков. У него есть милая, некая мамзель Вульпиус, и ребенок от нее. Ребенка он, кажется, очень любит и даст уговорить себя, что он женится на этой девице исключительно из любви к сыну, а поэтому брак его не покажется окружающим слишком нелепым».
В этом письме звучит совсем новая интонация.
Много лет Шиллера терзала зависть к общественному положению Гёте, хотя он совершенно бескорыстно восхищался его талантом. Теперь он впервые почувствовал, что он занял положение в свете куда лучше, чем его противник.
Зятья Шиллера, кузены и кумовья — дворяне. Он представлен ко двору. Он высокообразованный кантианец, член многих научных обществ. Театры и издатели по всей Германии заискивают в нем. Он даже почти здоров.
А тот удивительный человек занимает какое-то подпольное положение в свете. Все еще занят изучением предметов, которые мы, философы, уже давно воспринимаем как существующие лишь в нашем представлении. Пьес его никто не ставит, много лет он не пишет ничего нового. Он стареет, едва достигнув сорока, живет с какой-то мамзелью, которую не приглашают ни в одно общество, и с ее внебрачным ребенком и непременно попадется на удочку, на которую попались многие другие. Шиллер гордится тем, что может жалеть Гёте. И только неподкупный его гений мешает ему ставить себя выше своего соперника.
Проходит еще два года, и Гёте — тут уже ничего не поделаешь — ставит на своем придворном театре «Дон Карлоса». Но отношения между писателями остаются холодными.
Положение Шиллера становится все более блестящим. Он полон самых житейских планов. Профессура ему скоро приелась, да и обаяние его как лектора потускнело. Он подумывает, не стать ли воспитателем наследного принца, чтобы обеспечить свое будущее. Впрочем, он и сейчас получает солидное вспомоществование от некоего графа и некоего принца. Он издает свои произведения у четырех издателей сразу. Ведет обширнейшую корреспонденцию, которая позволяет ему быть в курсе всего, что только говорится и пишется в мире. Организует в Иене кружок единомышленников. Да, он только критик, сейчас — только философ. В промежутках между двадцатью восемью и тридцатью семью годами Шиллер не написал ни одной пьесы и очень мало стихов. И только грудная болезнь, сопровождаемая спазмами, парализует до некоторой степени его предприимчивость. Только она помешала ему согласиться на предложение Котты, издательство которого приобрело особое влияние, и взять на себя руководство новой правительственной газетой.
Котта сразу угадал в поэте талант большого политического журналиста. Они вместе организуют литературный журнал. Авторов привлекает к новому органу не только имя Шиллера, но и высокие гонорары. Шиллер уже соблазнил Фихте, братьев Гумбольдтов, которые в расцвете молодости и сил работают сейчас в Иене, и многих других. А теперь он решил поймать в свои сети трех самых крупных щук Гердера, Канта и Гёте. От имени «безгранично уважающего их общества» он посылает им персональные приглашения.
Получив это письмо, Гёте понимает, что, продолжая избегать Шиллера, он нанесет больший ущерб себе, чем Шиллеровой газете. Мудрость советует ему использовать новую трибуну. Он рад ответить согласием на союз «со столь достойными людьми»; редактируя черновик своего ответа, он мало-помалу придает ему более теплый тон. Через месяц после обмена посланиями оба поэта встречаются на воистину нейтральной почве — в Иенском обществе любителей природы. Случайно они покидают собрание вместе. Шиллер сетует на то, что метод, при котором природа рассматривается в мельчайших ее частностях, приводит к тому, что непрофессионал оказывается изгнанником даже в обществе любителей. Гёте, который рядом с философом чувствует себя настоящим ученым-исследователем, соглашается с его мнением. Но, говорит он, существует и другой, прямо противоположный способ исследования, при котором отдельные явления рассматриваются только как часть всей действенной и живой природы. Философ задумывается. От целого к частностям? Неужели к этому выводу можно прийти на основании опыта?
Тем временем они подошли к дому Шиллера.
«Беседа, — рассказывает Гёте, — заставила меня войти в дом. Я с живостью изложил сущность метаморфоза растений и нарисовал ему символическое пра-растение. Он слушал и смотрел на все с огромным интересом, обнаруживая грандиозную способность восприятия. Однако когда я кончил, он покачал головой и сказал: «Нет, это не опыт — это идея». Я замолчал, несколько раздосадованный, ибо он самым резким образом обозначил точку, нас разделявшую… Во мне снова зашевелился былой гнев, но я взял себя в руки и сказал: «Мне, право, очень приятно, что, сам того не зная, я обладаю идеями и даже вижу их глазами».
Шиллер, который был гораздо более светски воспитан и искушен, чем я, и которому в интересах «Ор» хотелось не оттолкнуть меня, а, наоборот, привлечь, возразил, как и следовало образованному кантианцу. Однако мой упрямый реализм дал ему много поводов для оживленных споров. И мы принялись ожесточенно сражаться, пока не объявили перемирия. Ни один из нас не мог счесть себя победителем, хотя и не признавал себя побежденным. Меня повергали в совершеннейшее отчаяние изречения, вроде следующих: «Разве может, — говорил Шиллер, — существовать опыт, который соответствовал бы идее? Ведь в том-то и заключается своеобразие последней, что опыт никогда не совпадает с ней».
Наконец Гёте оставляет Шиллера. Он идет один по июльским вечерним улицам. И вдруг говорит себе: «Если Шиллер считает идеей то, что я называю опытом, значит должно существовать и нечто среднее между ними». На другое утро он уезжает в Веймар. Шиллер как мыслитель неподкупен. Он ни на йоту не отступит от своих убеждений. Однако, будучи человеком светским, он умеет самым почтительным образом не отпускать от себя Гёте. Недаром Гёте говорил, что Шиллер удерживал в своей власти все, что только приближалось к нему. Да и жена Шиллера делала для этого все, что было в ее силах. Именно эта особая, шиллеровская смесь из бескорыстного стремления и умного житейского поведения и полонила Гёте. Ему всегда нравились люди, которые пытались достичь своей цели при помощи мягких средств воздействия, даже если они были его врагами. На другой день после вечернего разговора Гёте отсылает Шиллеру пакет для «Ор» и, пользуясь случаем, делает приписку: «Сохраните обо мне дружескую память и верьте, что меня живо радует возможность обмениваться с вами идеями». А Шиллер, в свою очередь, пишет:
«…В вашей верной интуиции содержится в гораздо более полном виде все, к чему другие с трудом стараются прийти при помощи анализа, и только потому, что вы владеете идеями во всей их полноте, ваше собственное богатство остается для вас скрытым… Поэтому умы вашего типа редко знают, как далеко они ушли вперед и как мало у них причин заимствовать что-либо у философии, которой остается только учиться у них. Давно, хотя и из большого отдаления, следил я за направлением вашего ума, и, со все возрастающим изумлением, взирал на путь, который вы себе предначертали. Вы ищете необходимость развития природы, но вы ищете на самом трудном пути… Шаг за шагом поднимаетесь вы от простейшего организма к более сложному, чтобы обосновать, наконец, самый сложный изо всех — человека, как генетически обусловленного всем зданием природы… Вы строите его, следуя природе, и тем самым стремитесь проникнуть в ее скрытую технику. Великая и воистину героическая идея…
Разумеется, вы никогда не могли надеяться, что вашей жизни хватит на осуществление подобной цели, но даже сделать первые шаги по такому пути означает больше, чем пройти до конца другой, и вы, как Ахилл в «Илиаде» сделали выбор между Фтией и бессмертием.
Родись вы греком или итальянцем, ваш путь был бы гораздо проще, а может быть, он был бы даже излишен. Уже с первого взгляда на вещи вам открылась бы и необходимость их формы, и с самым первым опытом в вас развилось бы понятие большого стиля. Но вы родились немцем, ваш греческий дух оказался брошенным в северный элемент; у вас не было другого выбора, кроме как стать северным художником или восполнить силой воображения то, чего вы были лишены в действительности… вы должны были рациональным путем создать сами себе Грецию… Итак, вам пришлось проделать еще одну работу, ибо как только вы пришли от созерцания к абстракции, вам пришлось задним числом превратить понятия в интуицию, а мысли в чувства, ибо гений может выразить себя только через них.
Вот примерно так я рисую себе ваш духовный путь, а прав ли я, это лучше всего знаете вы сами. Но вы вряд ли знаете (ибо гений всегда является величайшей загадкой для себя) прекрасную гармонию, царящую между вашим философским инстинктом и чистейшими выводами спекулятивного разума… Правда, интуитивный ум имеет дело только с индивидуумами, а спекулятивный — только с видами. Но если интуитивный ум гениален и если в эмпирическом он открывает характер необходимости, он всегда будет создавать индивидуумы, но с характером, свойственным целому виду. А если гениален спекулятивный ум и если, поднимаясь над опытом, он все же не забывает о нем, тогда он создает, правда, только виды, но такие, в которых ощущаются жизнь и оправданные связи с реальными объектами.
Но я вижу, что готов написать вместо письма реферат… и если в этом зеркале вы не увидите своего изображения, то прошу вас все-таки не бежать из-за этого от меня».
И Шиллер спрашивает Гёте, нельзя ли опубликовать в «Орах» «Вильгельма Мейстера». «Мои друзья, а также моя жена просят вас вспомнить о них с благожелательностью, я же остаюсь с величайшим уважением вашим покорнейшим слугой Ф. Шиллером».
Письмо написано философом и светским человеком. Поэта мы в нем не видим. Правда, в письме впервые, и при этом с гениальной глубиной, охарактеризовано творческое развитие Гёте. И раньше и позже Гете чрезвычайно редко приходилось читать столь глубокие суждения о себе. Однако целых одиннадцать лет, вплоть до смерти Шиллера, невзирая на самое тесное общение, Шиллер даже не пытался запечатлеть в художественных формах характер Гёте, а это удивительно со стороны столь глубокого психолога. Очевидно, их отношениям Шиллер придавал чисто духовное значение. И поэтому ни один из них никогда не пытался изобразить в своих произведениях другого.
Зато в приведенном письме полностью проявилось искусство Шиллера-дипломата. С какой тонкостью обращается он к Гёте, как к наивному гению, который совершенно не разбирается в себе, а ведь он прекрасно знает, что Гёте знает о себе все! С какой гордостью выключает он его из своих владений, из владений философов. С какой смелостью заявляет, что осуществить стремления Гёте невозможно, ибо он не рожден на юге. Как деликатно предлагает всего себя в его распоряжение. Да, письмо это сплошное предложение услуг, реверансы перед человеком более великим, заслуги которого он признает. И делает он это в самом рыцарственном тоне, с одним существенным добавлением: он, Шиллер, уверен, что его разум полностью совпадает с инстинктом Гёте, ибо Гёте гений интуитивный, а Шиллер спекулятивный, и, следовательно, один только Шиллер рожден понимать Гёте.
Нет, никогда еще не держал в своих руках Гёте такого письма. С какой вершины его здесь рассматривают! Как исторически, как героически! И в благодарность Гёте делает то, что делает лишь в самых редких случаях, — он первый произносит слово «дружба». Он принимает Шиллерово объяснение в любви, как изысканная и умная женщина, которая вовсе не отвечает своему ухаживателю той же страстью, с которой он относится к ней.
Вот это удивительное письмо с объявлением помолвки:
«В день моего рождения — мне минуло сорок пять лет — я не мог получить подарка более приятного, чем ваше письмо, в котором вы дружеской рукой подводите итог всей моей предшествующей деятельности и с таким участием побуждаете меня более усердно и энергично использовать все мои силы».
Очевидно, Гёте тоже ведет счет новой эпохе с того дня, как состоялась их беседа. Он полагает, что жизненный их путь «после столь неожиданной нашей встречи мы должны будем продолжать уже вместе… Я всегда умел ценить честную и столь редкую серьезность, проявляющуюся во всем, что вы писали и делали, и отныне смею рассчитывать узнать от вас самого о развитии вашего духа, особенно за последние годы… Теперь, когда мы взаимно уяснили себе, до какого предела мы в настоящее время дошли, мы тем беспрепятственнее сможем работать вместе. Каким большим преимуществом будет для меня ваше участие, вы сами увидите при ближайшем знакомстве, открыв во мне своего рода тьму и колебания, над которыми я не властен, хотя и ясно сознаю их… Надеюсь вскоре провести у вас несколько дней, и тогда переговорим о многом». «Вильгельма Мейстера» он уже отдал издателю. «Будьте здоровы и вспоминайте обо мне в вашем кругу».
Шиллер чувствует себя победителем, и с полным правом. Ведь он приступом завоевал доверие Гёте, а своими делами надеется пробудить и его интерес. Шиллер поборол свою обидчивость, и слова Гёте, о взаимном пройденном пути, толкует в том смысле, что они вместе пройдут весь путь, который им «еще суждено пройти, и это с тем большей пользой, что у людей, которые стали попутчиками, только когда каждый прошел уже большой отрезок дороги, есть особенно много что сказать друг другу».
Ибо не только пожизненную дружбу утверждает Шиллер. Он утверждает такую дружбу, что даже, придя к концу жизни, Гёте причисляет ее к лучшему изо всего, чем он обладал.
С любовью, именно так, как и хотелось младшему, читает Гёте его письмо и зовет Шиллера к себе в Веймар. Тот немедленно принимает приглашение.
Двухнедельный визит Шиллера к Гёте превратился в инвентаризацию имущества, которое каждая из сторон приносит при вступлении в брак. А затем они составили программу, в которую входит обмен письмами по эстетике, с последующей их публикацией. «Теперь, мой дражайший, — пишет Гёте Шиллеру после его отъезда, — теперь, после нашей двухнедельной конференции, мы знаем, что орбиты наших восприятий, мыслей и деятельности частью совпадают, частью соприкасаются. И это сулит много хорошего нам обоим». Так начинается переписка. Так начинается совместная работа в журнале «Оры». Так возникает новая партия в Германии.
При вступлении в союз, который с незначительными перерывами просуществовал, без малого, одиннадцать лет, одному из союзников было сорок пять, а другому тридцать пять лет. Но болезнь уже наложила свою печать на младшего — он худ и бледен. Зато старший крепкий, загорелый и, кажется, совершенно здоров. Шиллер выше ростом, худ, аскетичен.
Гёте шире, приземистее; он начинает тучнеть. У Шиллера овальное лицо, лихорадочные глаза, великолепный, большой, готический лоб. Его бледный чувственный рот напоминает рот священнослужителя. Ястребиный короткий нос с большим горбом кажется дерзким и вызывающим, линия его с особой силой подчеркивает патетическое выражение лица.
Голова Гёте несколько квадратна. Над надбровными дугами вздымается высокий лоб. Изогнутая линия его длинного носа почти классически спокойна по сравнению с носом Шиллера. Спокойны сомкнутые узкие губы. Но глаза по-прежнему сияют темным огнем и впитывают в себя весь мир. Буквы Шиллера несутся великолепными волнами по бумаге. Гёте тщательно вырисовывает свои характерные знаки.
Новоиспеченный придворный и гофрат, Шиллер, наряжается с величайшей тщательностью, покупает самое дорогое сукно для фрака, у него открытый дом, он заводит коляску и лошадей. В первый же год после женитьбы в сопровождении лакея и горничной он едет в Лейпциг. Здесь он блистает в обществе и производит столь потрясающее впечатление в своем парадном мундире, что мадам де Сталь, повстречавшись в приемной с этим тридцативосьмилетним придворным, принимает его за офицера в высоких чинах.
Гёте, напротив, держится очень просто, не носит парика и буклей, почти не появляется при дворе и очень редко бывает в свете. Он живет, как частное лицо, много молчит.
Шиллер привык учиться не столько у жизни, сколько у книг. Он не бывает на природе, болеет чахоткой, живет в вечном страхе перед приступами болезни. Большую часть времени он проводит в комнатах, совсем не занимается спортом, в долгие летние месяцы не выходит из дома, живет при закрытых окнах — курит и чихает. По ночам его томит бессонница. По утрам он не может заниматься никакими делами, обедает только в восемь вечера, в плохие дни вынужден подбадривать себя алкоголем. Работается ему лучше всего при низком атмосферном давлении.
На Гёте благоприятно действует сухая погода, ложится он рано, ест регулярно, пишет только по утрам, живет по нескольку недель в своем садовом домике, снова ездит верхом и катается на коньках. В возрасте между сорока и пятьюдесятью годами он здоров, как никогда еще не был. Воздух, которым дышит Шиллер, Гёте называет «отравой». Войдя однажды днем к другу и почувствовав запах гнилых яблок из ящика письменного стола, Гёте вынужден немедленно открыть окно; ему становится попросту дурно.
Шиллер так запутался в своих бесконечных делах и так много болеет, что не в силах писать. Гёте немедленно кончает со всеми деловыми обязательствами, чтобы остаться наедине со своими фантазия ми и образами. Шиллер гораздо больше, чем Гёте, нуждался в четкой границе между делами и музами, ибо практические интересы поглощали его гораздо сильнее.
В ту пору, когда Шиллер вступил в союз с Гёте, ему грозила опасность уйти в журналистику. Гёте всегда говорил, что Шиллер мог бы быть превосходным редактором. Многие издатели стараются заполонить этого гениального, политически и эстетически остро мыслящего человека, который изо всех сил рвется к власти и к богатству. И не будь Гёте, Шиллер, может быть, и пошел бы этим путем. Друзья его юности считали, что он будет дипломатом, а Гёте говорил, что он так же велик в гостиной, как был бы велик и в государственном совете, Шиллер умеет завербовать первоклассных авторов для своего журнала, он превосходный агитатор и любит заниматься пропагандой. Когда через три года «Оры» вынуждены прекратить свое существование, Шиллер предлагает напоследок напечатать несколько безумно смелых статей, которые непременно повлекут за собой запрещение журнала. Уж лучше, говорит он, взорвать себя, чем предоставить другим тихо тебя похоронить. Беспокойство и вечная спешка гонят Шиллера прочь от всех должностей, издателей и газет, и Гёте никак не может рассчитывать на его действенную поддержку. «Ждать помощи Шиллера в конкретных делах не приходится» — пишет он Мейеру. У Шиллера тьма замыслов, но его терзает такое внутреннее беспокойство, что практически он ничего не в силах осуществить.
Зато Гёте проявляет прямо противоположные душевные свойства.
Правда, предприимчивый дух Шиллера устремлен вовсе не только на погоню за деньгами. Его воодушевляет желание власти. Вероятно, это и подразумевал Гёте, когда в старости сказал Эккерману: «Шиллер, который, между нами будь сказано, был в гораздо большей мере аристократом, чем я, но гораздо более осторожен в своих высказываниях, имел удивительное счастье слыть самым горячим другом народа». Это верно. Когда юный Шиллер восклицал «свобода!» он подразумевал под этим, прежде всего, личную свободу. Даже в анонсе и в предисловии к «Разбойникам» двадцатидвухлетний поэт подчеркивал, что пьеса его не представляет опасности для государства и нравственности. А когда спустя пятнадцать лет он получил права гражданина Французской республики, они интересовали его только с точки зрения интересов его сына.
Когда Шиллер творит, он видит перед собой не только современников — он видит потомство. Поглощенный критической работой, огорчениями, конкуренцией, сплетнями, распрями между партиями, он успевает вести обширнейшую переписку. И хотя Шиллер-драматург пожинает одни только успехи, его огорчает малейшая неудача Шиллера-журналиста.
В нем возмущается кровь, он оскорблен до глубины души, когда его «Альманах муз» раздирают на части между похвалой и порицаниями. А Гёте, который уже двадцать лет тому назад отказался от мысли нравиться немцам, улыбается и успокаивает его своей зрелой мудростью: «Человек, который не хочет уподобиться неразумному сеятелю из евангелия и разбрасывать зерна куда попало, не спрашивая, что и где из них взойдет, не должен вообще никогда обращаться к публике».
Даже в сфере эротики стремление Шиллера властвовать находится в полной противоположности к женственной жертвенности Гёте. Шиллер чувствен и властен в любви. Гёте отдается всем существом своим. Он верен всегда одной женщине, и никогда у него не было двух возлюбленных одновременно. Зато к этой одной он обращается с такими словами, что, когда вдова Шиллера прочитала письма Гёте к госпоже фон Штейн, — она в страхе отпрянула, опаленная их огнем. «Нет, Шиллер никогда так не любил, — признается она. — Да он и не мог так любить. Он был для этого слишком страстен».
Зато как мыслитель Шиллер был тоже более страстен.
Перед тем как заключить союз с Гёте, Шиллер целых три года занимался, кроме истории, почти исключительно философией Канта. От Канта ведет он свою эстетику, которая оказала решающее воздействие на все его творчество.
Со всей энергией пытался Шиллер приблизить к Канту и Гёте. Но Гёте очень мало воспринял от кантовских идей. Он не нуждался в философии, ни чтобы справиться с внутренним своим смятением, ни чтобы разобраться в себе. Напротив, она была нужна ему, только «чтобы отойти от себя, а это мне тем легче, что природа моя подобна ртути: распавшись на капли, она легко и быстро соединяется вновь».
Нам кажется трогательным и немножко смешным, когда мы читаем строки, написанные рукой Гёте, в которых он советует нам читать «Антропологию» Канта только весной, когда нас радуют цветы. Когда Гёте творит, он отрицает философию полностью.
«Она разрушает поэзию. Потому что я никак не могу ограничиться чисто спекулятивным мышлением, я тотчас же для каждой фразы ищу зрительный образ и, следовательно, немедленно уношусь в природу». В периоды творчества Гёте избегает даже общения с Шеллингом, учение которого ему ближе всех других. Когда Гёте творит, он не в состоянии мыслить абстрактно, «ибо я могу думать только в процессе самого творчества».
Зрительное впечатление для него есть и останется всем. Без остальных органов чувств он мог бы и обойтись, по крайней мере, так ему кажется.
Занимаясь Челлини, Гёте утверждает, что эпоха Челлини открывается для него гораздо больше, когда он смотрит на нее глазами этого необыкновенного человека, чем когда слушает доклад самого хорошего историка. Он не согласен с тем психологом, который назвал свое сочинение органом души. Его следовало бы назвать органом нервных окончаний, лежащих в мозгу.
Помешательство на Канте, охватившее Иену, да и всю Германию, ему скоро решительно надоедает. Он стремится вырваться из окружения, где все тяготеет к спекулятивной философии, и вернуться к искусству. И до глубокой старости он сожалеет о том, что Шиллер так долго терзал себя философией. Духовное противоречие между собой и Шиллером Гёте выразил в гениальной фразе, подобно метеориту пробившей гладь его дневников: «Опыт почти всегда пародия на идею».
«Шиллер, — как говорит Гёте, — всегда видел предмет только с внешней его стороны. Проследить процесс постепенного развития изнутри было не его делом».
В этих словах Гёте совершенно точно охарактеризовал и величие Шиллера, и границы, и отличие его творческой манеры от своей. Шиллер ищет сюжет, Гёте случайно его находит. Шиллер выбирает сюжет. Гёте его переживает. Шиллер тяготеет к аллегории, у Гёте сюжет дорастает до значения символа. Спекулятивная философия вовсе не является врагом Шиллеровой поэзии, она скорей союзник ее. Только в равновесии между мечтой и мыслью черпает Шиллер вдохновение для творчества. Он сам сетует на это. У него, очевидно, вовсе отсутствует третий, самый действенный пособник поэта — наглядность, жизнь, случайность, природа. Кажется просто странным, когда Шиллер, который так много общается с людьми, сетует, что у него нет возможности их изучать.
Чем больше осознает Шиллер свою сущность как писателя, тем глубже постигает прямо противоположную ей сущность друга. И он смотрит на него, как на явление природы. «Покуда вы работаете, вас всегда окружает тьма, свет горит только внутри вас. Но когда вы начинаете размышлять, внутренний свет исходит из вас и освещает и для вас и для других все окружающие предметы».
Действительно, невзирая на склонность к самоанализу, Гёте, в противоположность Шиллеру, никогда не может сказать заранее, что именно он сочинит, ибо раз «отрегулированная сила природы» не подлежит уже дальнейшему управлению. Вот почему внутренний голос повелевает ему таить от окружающих свои планы. Даже в глубокой старости он еще сожалеет, что один-единственный раз поделился с друзьями своим замыслом и, последовав их совету, забросил его. Шиллер же, напротив, все свои поздние пьесы сцену за сценой всегда обсуждал с Гёте. Шиллер работает быстрее. Он обладает поразительным даром сосредоточенности. Его манера творить — смелая, сильная, стремительная. Она подобна его манере ездить верхом, играть в ломбер. Гёте, напротив, всегда ждет случая, чтобы взяться за работу, и в своей поэзии он все чаще употребляет не слово «работа» как бывало прежде, а «игра». Даже в манере читать свои произведения отразились свойства их творчества. Шиллер читает бурно, патетично, подчеркивает диалоги, но чтение его оставляет слабое впечатление. Гёте, согласно всем свидетельствам, читает мастерски.
Очевидно, темперамент и дар Шиллера толкают его к театру. Девять его пьес воистину обогатили немецкий театр. Зато крупнейшие драмы Гёте только сбивали этот театр с пути. Лишь в наши дни мы начинаем постигать внутреннюю драматичность, заложенную в пьесах Гёте, лишь теперь они приобретают некоторую известность. Но пьесы Шиллера и через сто лет не утратили своей ударной силы. Они построены, как чистая трагедия. В них нет места для юмора. Из сюжетов, которые он всегда выбирал с холодным расчетом, Шиллер выжимает все до последней возможности. Каждому из своих действующих лиц он придает предельную выразительность. И со всем присущим ему неистовством пытается вздыбить и образы Гёте. Когда в Веймаре, наконец, поставили «Эгмонта», Шиллер потребовал, чтобы за спиной героя, осужденного на смерть, появлялся, упиваясь своей местью, Альба. В «Ифигении» больше всего сомнения Шиллера вызывал образ Ореста. «Без фурий нет и Ореста» — утверждал Шиллер.
Гёте, напротив, не хочет, чтобы его произведения оставляли слишком сильное эмоциональное впечатление. Для него гораздо менее существенны абсолютно ясно сформулированные выводы из его «Мейстера» чем содержание романа в целом. Гёте сравнивал себя с человеком, который нарочно делает ошибки в длинном столбце цифр, чтобы затем «капризно спутать итог». Сочиняя для театра, Гёте перелагает прозаические сцены в стихи (так он сделал с «Пра-Фаустом»), «чтобы идея, в них заключенная, просвечивала сквозь прозрачную пелену и этим смягчалась грандиозность впечатления». С возрастом чувство юмора у Гёте все возрастало. Он все чаще вводил в свои произведения чисто игровые моменты.
Творения Шиллера отдаленно напоминают Рубенса. Творения Гёте — Рембрандта. И все-таки, невзирая на их полярную природу, этим поэтам, как и обоим великим живописцам, присущи общие черты. Только эти черты и сделали возможным их сближение, их длительный союз.
Среди все усиливающихся националистических настроений в Германии, они крепко стоят на своих позициях. «Патриотизм, — писал Гёте Шиллеру, — если он устремлен только к личной выгоде, изжил себя, подобно поповству и аристократизму». А Шиллер, который почти все сюжеты заимствовал из иностранной истории, говорил: «Какой мелкий и жалкий идеал писать только для одной нации» И хотя у него не было поводов жаловаться на свою публику, он все-таки твердил, что «немцы жаждут чувств. Но чем более пошлы эти чувства, тем они им приятнее».
Как правило, друзья стояли вовсе не на одинаковых, а на противоположных позициях, да и характеры их совершенно различны.
Шиллер стремится повелевать, Гёте — воздействовать. Шиллер никогда не отдается до конца другому, он принадлежит только своему творчеству. Гёте всегда и целиком принадлежит тому, кто его любит. Шиллер с холодной страстью кует свои произведения. Гёте ваяет их любящей рукой. Для Шиллера жизнь следует за творчеством, поэтому он так дисгармоничен в своей погоне за наслаждениями. Для Гёте корень поэзии — жизнь. Поэтому и поэзия его расцветает словно сама собой. Шиллер размышляет всегда, даже когда чувствует. Гёте глядит всегда, даже когда он размышляет. Шиллер сажает уже взрослые деревья, Гёте всегда бросает в землю только семена.
Но Шиллер умеет ненавидеть с такой же силой, как и любить, и, так же как Гёте, он всегда выступает партнером своих героев. Только герои Шиллера принципы, а герои Гёте — сложные люди. Совсем как так называемые герои нашего общества, они «добры и злы, подобно природе».
Только один-единственный раз Шиллер написал собственный обобщенный портрет. Это случилось, когда он создал своего Валленштейна. Как и Валленштейн, он громко спорит со всем миром. Зато Гёте ведет спор тихо, да и то только с собственным демоном. Шиллер борется, Гёте — растет.
Но есть одна особенность, и она накладывает на образ Шиллера тусклый налет, подобный патине, покрывающей благородную бронзу. (А фигура Гёте с ее живым дыханием вечно стремится вырваться из беломраморной глыбы). Шиллер непрестанно ощущает смерть; и если бы человек, даже не знающий этого, прочел в последовательности все его произведения, он понял бы, что создатель их умрет ранней смертью, с которой он так ожесточенно сражается. Не случайно друг Гёте Мейер, повстречав как-то Шиллера в аллее Веймарского парка, записал у себя в дневнике, что лицо поэта напоминает лик Иисуса, распятого на кресте. А ведь эта встреча произошла за много лет до Шиллеровой смерти.
Внутренняя лихорадка заставляет Шиллера все быстрее устремляться вперед. Порою кажется, что он, задыхаясь, скачет день и ночь на черном коне, спасаясь от черного всадника. И каждое утро он оборачивается и смотрит назад — не нагнал ли его уже всадник?
И снова и снова он мчится вперед много лет подряд. Вот почему в это последнее, самое насыщенное успехами десятилетие, при самых блистательных обстоятельствах им владеет одно стремление создать как можно больше трагедий.
Серьезно, участливо, с грустным предчувствием взирает друг на это трагическое действо. Жизнь Гёте рассчитана на восемь долгих десятилетий. Болезни его всегда разрешаются жестокими, но короткими кризисами. Он верит в жизнь, избегает трагедий, и смерть ему не враг. С самого рождения живет он с ней в любовном содружестве, ибо верит в перевоплощение душ. Но в этом, теперешнем своем воплощении, томимый духовным одиночеством, преследовавшим его долгие десятилетия, Гёте только сейчас обрел душу, способную его постичь.
Так что же приобрел в этом союзе Шиллер?
Друга!
Больное бессилие и слабые нервы, отсутствие житейского опыта и безмерные притязания к жизни все заставляет его искать помощи. А где еще может он найти ее в такой мере, как в доброте Гёте, в его знании жизни?
Гёте неустанно заботится о Шиллере. Он снимает и обставляет для него дом в Веймаре. Он продает его домик в Иене. Он выбирает для Шиллера обои и спрашивает его в августе, сколько дров запасти ему на зиму. Он поселяет Шиллера, на несколько месяцев, в своем садовом домике, обставляет для него с женой помещение во дворце, предлагает ему деньги, забирает к себе его сына, устраивает его шурину должность при веймарском дворе.
Но Гёте отдает Шиллеру не только свое сердце, он открывает ему и свой ум. Он высвободил гений Шиллера из лап философии, точно так же как за четверть века до того Гердер сорвал с Гёте душившее его жабо рококо.
Только Гёте побудил Шиллера написать самые значительные его произведения. За восемью годами бесплодия, когда Шиллер занимался почти исключительно вопросами философии, последовали девять лет, в которые писатель сочинил шесть грандиозных пьес и все свои баллады. Короче говоря, девять лет, когда были созданы чуть не все произведения Шиллера. Но самое большое влияние на Шиллера оказали произведения Гёте, резко противоположные его собственным. Особенно роман «Вильгельм Мейстер» заставил Шиллера, по собственному его признанию, расстаться со спекулятивной философией и обратиться к живым образам. Беседы с Гёте, переписка с ним будят творческую фантазию Шиллера. Он надеется извлечь квинтэссенцию из общения с другом и обогатить им свои произведения. «Не было случая, — говорит Шиллер, — чтобы я ушел от вас, не посадив новых ростков в моей душе».
Творческую руку Гёте можно обнаружить во всех пьесах Шиллера. Даже сюжеты он заимствует у Гёте: например, сюжет для баллады «Ивиковы журавли» или сюжет для пьесы «Вильгельм Телль», который Гёте и сам уже стал было обрабатывать в эпической форме. Гёте помогал практическим советом Шиллеру и в руководстве «Орами». Он рекомендовал ему написать благожелательную статью о мадам де Сталь: это-де сделает журнал популярным во Франции. Он заполнял пробелы в шиллеровском «Альманахе муз» и рисовал для него обложку. Гёте собирается ехать в Италию, и Шиллер боится этой разлуки. «Вы все больше отучаете меня от тенденции идти от общего к индивидуальному и ведете меня от единичного и случайного к великим закономерностям».
Но, прежде всего, Гёте снял с Шиллера все заботы о постановке его пьес. Он предоставил Шиллеру сцену, на которой ставились все его произведения — все без исключения, и старые и новые. Он сделал его своим сорежиссером и консультантом. Не было ни одного немецкого драматурга, которому были бы предоставлены такие возможности, как Шиллеру, и при этом в течение целого десятилетия. Вначале в новом Веймарском театре пьесы Шиллера шли каждый пятый вечер, потом и каждый третий. «Валленштейн» «Дон Карлос» «Мария Стюарт» ставились чаще, чем излюбленнейшие пьесы Коцебу.
Вновь отстроенный театр должен был открыться «Лагерем Валленштейна». Больше года Гёте обсуждал с Шиллером его трилогию. Наконец Гёте сочинил песню, которой открывается пьеса. Кое-что они вместе дописали, изменили, подчеркнули. Гёте сам отдает в переписку роли, заказывает музыку, хлопочет об атласных костюмах. Шиллера, как нарочно, в это время в Веймаре нет. Потом он приезжает, и репетиции продолжаются. И при этой и при последующих постановках шиллеровских пьес огромное несходство в темпераменте обоих поэтов, которое приводило их даже к стычкам, шло на пользу искусству. По свидетельству очевидцев, Шиллер заставлял актеров вдуматься в чувства и в мысли героев, а Гёте добивался жизненности драматургических образов.
Даже в день премьеры «Лагеря Валленштейна» Гёте еще пишет Шиллеру о какой-то кирасе, берете, об алом плаще. Он отсылает длинную рецензию в одну из центральных газет и разъясняет своим соотечественникам, в чем достоинства пьесы. И, наконец, предлагает Франкфуртскому театру поставить трилогию Шиллера целиком еще прежде, чем она написана, — и требует за нее шестьдесят дукатов. И все это Гёте делает для художника, в славе которого меркнет его собственная, для младшего поколения, которое совершенно разрушает результаты его культурной работы в Германии.
И только одна отрицательная сторона есть для Шиллера в союзе, принесшем ему такое огромное счастье. В минуты просветления он чувствует, что стоит и останется стоять на втором месте; и, прочтя «Вильгельма Мейстера» он, хотя и явно преувеличивая, говорит: «Нет, просто невозможно, испытав такое наслаждение, кропать свои собственные вещи» Но Гёте? Что обрел он благодаря Шиллеру?
Прежде всего, более твердую позицию, хотя и позицию бойца. Гёте рад, что у него есть «Оры». Ему так долго не хватало подобного органа печати. Теперь он может опубликовать многое, что хранилось долгие годы в ящиках письменного стола. Он знает вдоль и поперек «дурацкую жизнь немецких писателей» и его охватывает желание взяться за руководство журналом. «Сколько уже времени прошло, размышляет Гёте, — с тех пор как я не читал рукописей, не писал критических статей, не составлял номеров газеты? Двадцать? Куда ушли друзья тех лет? Мерк умер. Шлоссер замкнулся в себе. Лафатер превратился в мономана. Только Гердер по-прежнему со мной. Но неудачи и вечное недовольство сделали его преждевременно стариком».
В «Орах» появляются совсем новые имена — Фихте, Гумбольдты, Шлегели. Разумеется, всех превосходит блеском и фантазией Шиллер. Но он жаждет признания публики. А Гёте, наоборот, требует, чтобы все его, гётевские, статьи печатались анонимно. Иначе, при занимаемых им постах, он будет лишен возможности сотрудничать в журнале «свободно и с удовольствием».
«Оры» действительно служили для Гёте местом встречи с единомышленниками. А кроме того, «мы сможем занять большую территорию, — говорит Гёте, — если одной рукой будем сдерживать врагов, а другой распространять наши идеи так далеко, как только нам позволит природа».
Но самое важное, что обрел Гёте в Шиллере, он обрел в нем гениального слушателя. Он нуждался в таком слушателе всегда и находил очень редко. А если и находил, то слушатель этот не был поэтом, а следовательно, не мог оказать творческого воздействия на Гёте.
Шиллер, единственный изо всех, угадал в Гёте поэта неповторимого, поэта такого же типа, как Гомер и Шекспир. Насколько чужды были Шиллеру драмы Гёте, — да это и естественно: ведь признай он их, он должен был бы осудить собственную драматургию, — настолько близки ему романы и элегии Гёте, чуждые ему жанры искусства. Но они с необычайной силой будят в нем вопросы эстетического порядка. Общаясь с Шиллером, Гёте почти удовлетворил свою потребность в критике на высшем духовном уровне.
Наступает третий год союза писателей. Их дружба достигает апогея. Никто, кроме Шиллера, не проявлял такого понимания произведений Гёте. Он посвящал им длинные письма, особенно «Вильгельму Мейстеру».
И это больше всего привлекало Гёте в общении с Шиллером. Никто не был способен так зрело, как Шиллер, разрешать вопросы эстетики. Через три года их дружбы Гёте благодарит Шиллера за то, что он вернул ему молодость и сделал из него поэта. Разумеется, никто и никогда не делал Гёте поэтом. Но так же, как прежде Гердеру и Шарлотте фон Штейн, он пишет Шиллеру о научных своих открытиях, в которых никто из всех трех друзей не разбирался. Просто Гёте чувствовал потребность, чтобы друзья его радовались вместе с ним. Поэтому Шиллер немедленно узнал об особенностях роста крыльев у бабочки, и Гёте был ему благодарен навек за то, что философ углубился в его «Учение о цвете».
Все предыдущие годы одиночества и ожидания Гёте провел в каком-то оцепенении. Теперь восторженный призыв Шиллера разбудил его. Разумеется, вовсе не Шиллер (хотя Шиллер и утверждал это) заставил его обратиться к балладной форме. Самые прославленные свои баллады Гёте написал чуть не двадцать лет назад. Но Шиллер обращается и к главным произведениям Гёте. Он торопит закончить их. Он указывает на высокое мастерство и завершенность «Германа и Доротеи» и на незавершенность «Вильгельма Мейстера» к которому с годами начинает относиться скептичнее.
Но Гёте чувствует потребность в высокоинтеллектуальной критике. Он терпеливо спрашивает суждения Мейера о «Германе и Доротее». Правда, все хвалят этот эпос. А все-таки ему хочется, чтобы он прошел и высшую инстанцию — оценку Шиллера. В эти годы выходит из печати «Фауст»(фрагмент). Гёте просит Шиллера как-нибудь поразмыслить над ним в бессонную ночь и йотом, как истинный пророк, разъяснить и растолковать эти творческие сны.
Но тут ясно проступает граница критики и участия Шиллера в творчестве Гёте. Они приносят практическую пользу, только когда дело касается вопросов второстепенных. Например, по совету Шиллера Гёте вычеркивает некоторые длинноты из «Вильгельма Мейстера» переделывает кое-что в биографии своей Миньоны или мальчика Феликса. Но когда Шиллер начинает углубляться в пьесы Гёте, которые успели стать чуждыми и самому автору, когда он хочет вернуть на подмостки «Эгмонта» и, даже, «Ифигению», это вовсе не имеет такого значения для Гёте, какое имела постановка «Валленштейна» для Шиллера.
Чего же не хватает Гёте в союзе с Шиллером? Прежде всего, доказательств истинной дружбы.
Гёте всегда отдает себя целиком. Шиллер всегда отделяет свой ум от сердца.
Наступает третий год союза поэтов. Дружба их достигает апогея, письма так и летят взад и вперед, все чаще навещают они друг друга. И все-таки ни на одно из произведений Гёте Шиллер не оказал решающего воздействия. Ни по одному существенному пункту Гёте не последовал его совету.
Их самая длинная и интересная беседа завязалась по поводу «Вильгельма Мейстера». Когда возник дружеский союз, роман был написан только наполовину, и не будь Шиллера, он, может быть, так и остался бы великолепным торсом. Но Шиллер заставил Гёте дописать его до конца; и, кажется, именно влияние Шиллера сделало последние части романа бесцветными и безжизненными. Впрочем, споры, разгоревшиеся вокруг этого произведения, нашли непосредственное отражение и в самом романе. Одна из глав последней части так и начинается: «Однажды вечером, собравшиеся принялись спорить, чему следует отдать предпочтение — роману или драме?» И дальше следует насыщеннейший мыслями экстракт, извлеченный из переписки по вопросам эстетики между Гёте и Шиллером.
Указующий перст Шиллера-драматурга подчеркивает, какие именно персонажи в романе следует обрисовать яснее. Гёте отказывается это сделать, ссылаясь на «некий реалистический тик». Он почти ничего не делает, чтобы придать ясность своим персонажам. В конце концов, советы Шиллера начинают надоедать Гёте, ему не хочется больше показывать Шиллеру «Вильгельма Мейстера», покуда тот не выйдет из печати. А «Герман и Доротея» и «Побочная дочь» появляются на свет совершенно неожиданно для Шиллера. Теперь он советует другу снова взяться за «Фауста». Однако Гёте никак не может заставить себя расшнуровать папку с рукописью. Когда, же он все-таки берется за «Фауста» Шиллер приятно поражен.
Лишь в двух произведениях Гёте ощущается непосредственное влияние Шиллера: в театральном варианте «Гёца» (где в угоду сценичности произведение много утратило из своего очарования) да еще в мертворожденной «Ахиллиаде», которую Гёте построил, строго следуя теории сюжета и формы. В это время Гёте уже заблудился в чаще эстетических теорем, а в Шиллере он обрел страстного эстетика, которого так искал, хотя и с трудом переносил. И только через пять лет у Гёте, наконец, лопнуло терпение, и с внезапной решимостью он отказывается от всяческих теорий во имя спасения художественности произведений. Однако Шиллер и теперь настаивает на своей философской видимости и продолжает утверждать, что философия есть главное звено во всей эстетической цепи.
«Что стало бы со мной, не влияй на меня Шиллер?» — патетически вопрошает Гёте уже в старости. Мы ждем, что тут-то и последует перечень главнейших произведений, написанных в период дружбы с Шиллером. А Гёте говорит: «Располагай мы рукописями для «Ор» я не написал бы «Беседы немецких эмигрантов» не перевел бы «Челлини». А уж элегии и вовсе не появились бы, да и «Ксении» конечно, не начали бы жужжать».
Ну что же! За исключением трех-четырех стихотворений, эти вещи смело могли бы и не появиться, и, право, творчество Гёте нисколько не пострадало бы.
В часы других настроений Гёте и сам прекрасно видел, как ничтожен урожай по сравнению с затраченными на него трудами. «Сколько времени мы с Шиллером попусту убили на «Оры»!.. — сердится старик. — Вспомнить не могу без досады обо всех делах, которые ровно ничего нам не дали».
Но особенно сожалел он о той единственной работе, которая нашла наиболее громкий отклик, и которую он действительно проделал с Шиллером, о «Ксениях».
В период, когда Гёте оказался в одиночестве, когда он стал предметом нападок, и его чуть было не свергли с престола, он увлекся пародиями. Впрочем, враждебность, которой он проникся к окружающим, носила не личный, а скорее отвлеченный характер. С тех пор как ему минуло двадцать лет, Гёте никогда не вел полемики с конкретными лицами.
И вдруг в один прекрасный день ему пришла в голову безобидная мысль. Он предложил Шиллеру ввести в «Оры» раздел критических писем. Но Шиллер тотчас перевернул замысел Гёте. Он превратил журнал в настоящее поле сражения. Вопреки желанию Гёте Шиллер решил не допускать в новый раздел ни писателей, ни читателей. Он требует, чтобы в нем выступили только сами издатели и, опираясь на собственные силы, повели самое широкое наступление. «Те же, кому вздумается защищаться, вынуждены будут принять наши условия. Начать нужно не с предложений, а прямо с дела, и пусть нас сколько угодно считают невежами и грубиянами».
Гёте уступает шаг за шагом и, наконец, принимает все предложения Шиллера. Наиболее удобной формой для атаки кажутся ему эпиграммы Марциала, и, подражая им, он швыряет с десяток собственных двустиший. Они просто электризуют Шиллера, и тот немедленно публикует их, а с ними вместе и собственные шестьдесят шесть дистихов. Сперва, Гёте намеревался подвергнуть атаке лишь партии и учреждения. Но Шиллер уже охвачен боевым задором. Он нападает на отдельных лиц, да еще с громкими именами, нападение ведет, иногда в открытую, иногда прикрываясь прозрачной маской. Наконец, он требует немедленного объявления войны, и тут ему удается разбудить гётевского демона.
Хотя это не соответствует ни возрасту его, ни настроениям, Гёте поставляет все, чего требует Шиллер, и, в свою очередь, настаивает на педантическом сочинительстве «Ксений». Оба друга пишут около тысячи двустиший, многие из них, совместно. Штук пятьсот они публикуют в своем альманахе, и, тотчас же, человек восемьдесят писателей почитают себя оскорбленными смертельно.
«Ксении» Шиллера резче, остроумнее, ядовитее.
Они лучше написаны. Он серьезнее относится к публике, к критике, к конкурентам — ведь он твердо намерен прийти к власти.
Впечатление, которое произвели «Ксении» повсеместно, чудовищно. Все кричат, что Гёте совратил Шиллера. И лишь близкие друзья в толк не возьмут, как же мог Гёте, этот «медлительный медлитель… позволить соблазнить себя и пойти на столь юношеское озорство». Все оскорбленные немедленно отвечают собственными стихами, при этом весьма остроумно и зло. Шиллер скрежещет зубами: как смеют они так обращаться со столь прославленными именами! И тотчас же возражает обидчикам новыми «Ксениями» и тоже со всей страстью. Гёте, напротив, с полным спокойствием ждет очередных ответов. Вскоре, однако, теряет самообладание и он. Тем не менее, Гёте решает впредь действовать осторожно и бракует черновик Шиллера, написанный в слишком резком тоне. Он намерен позабавиться, и как следует. И впрямь «дело пошло веселее… мы выиграли время».
И вдруг, когда Гёте собирается в самом сатирическом тоне отбить все атаки врагов, Шиллер объявляет перемирие. В нем победил житейский опыт. Страсть его погасла. Он хочет добиться взаимопонимания и воссоединения с противниками. Гёте с облегчением вздыхает. Опасность миновала…
На этом эпизоде и кончается «отрицательное» влияние Шиллера на Гёте. Несмотря на то, что Шиллер гениально проникал в произведения Гёте, он совершенно не понимал природу его личности. Ему казалось, что человек в сорок семь лет уже завершил процесс развития, что единственная его задача — воплощать свою, уже вполне сложившуюся, личность во все новых и новых образах.
Но если уж этому знатоку душ оставалась невидимой вечная борьба его друга, как же велико было одиночество Гёте! Если величайший ум того времени не понимал, что происходит в его душе, кто же помог ему вынести столь безмерное одиночество? Только его возлюбленная, только его подруга.
В те самые годы, когда близость Шиллера так благотворно влияла на мысли Гёте, преданность Христианы, ее наивный, непритязательный нрав радовали его сердце.
Десятилетие, которое Гёте прожил бок о бок с Шиллером, было счастливейшим и в жизни Христианы. Только смерть детей омрачала ее счастье. Но теперь по-настоящему проявился ее спокойный, деятельный и веселый характер.
Когда бы ни вернулся Гёте домой, он видит обращенное к нему лицо — открытое, здоровое, молодое. Всегда довольное, всегда разумное, всегда понимающее. Только один вопрос читает он в ее глазах: «Что ты хочешь? Что тебе дать? Что для тебя сделать? Ничто в мире мне не интересно, только бы заботы не омрачали твой взор».
Христиана добра и благодарна по натуре. «Молю бога, — пишет она на шестнадцатом году их совместной жизни, — чтобы он воздал тебе сторицей за всю твою доброту ко мне… А я буду тебе благодарна даже на небесах».
Она заботится не только о своих сестрах, о братьях, о детях Шиллера, но и о великом множестве неизвестных людей. Никогда Христиана не скрывает, что принадлежит к третьему сословию. В ней нет и тени «девчонки из низов», которая при помощи прекрасных глаз пробилась к богатству и к положению. В разлуке с другом она всегда тоскует о нем. Вероятно, работая в Иене, Гёте не раз улыбался, когда наспех читал ее письма и видел трогательную настойчивость, с которой она старалась заманить его домой: «Твои комнаты и весь дом уже в полном порядке и с превеликим нетерпением ждут своего хозяина. Может, в этот раз тебе будет лучше работаться, чем обычно? Ты и здесь сможешь диктовать в постели, как в Иене, и я не стану входить по утрам к тебе в комнату, покуда ты сам меня не позовешь… Без моего драгоценного, мне в доме тошно… Завтра начну гладить белье, чтобы скоротать время».
Когда от него нет писем, она не ест, домашние жалуются на ее капризы, и даже через тринадцать лет она все еще считает дни и ночи до его возвращения и радуется, что осталось «еще на одну ночь меньше». Иногда она пишет, что ребенок очень тоскует по отцу, но ничего, «пусть он не обращает внимания, ведь мы и вправду были виноваты в том, что он не мог дописать стихотворения».
Гёте с волнением читает ее любовные трогательные письма.
Вместе едут они на Лейпцигскую ярмарку. Вернее, он выехал вперед, а ей приказывает ехать следом в хорошем экипаже; туда едут гости, разряженные в пух и прах.
Шиллер, да и все другие, утверждают, что Гёте не терпит и слова дурного о Христиане. Впрочем, появляться с ней в обществе он начал, только когда ему перевалило за пятьдесят, да и то не в Веймаре. Враги и друзья Гёте по-прежнему враждебны Христиане, и не только Шиллер, но и Гумбольдты повторяют о ней небылицы.
А как прекрасно они понимают друг друга — гений в обличье седеющего светского человека и бюргерша, полная жизни и ясного здравого смысла. Как просто и гармонично, без всяких претензий звучит в письмах их диалог! Христиана всегда быстро приходит в хорошее настроение, и Гёте зовет ее маленьким духом природы, домашним своим духом, и с нежностью улыбается, когда на тюрингском диалекте она пишет ему «единолюбый» выводит каракули на бумаге и придумывает удивительно смешные метафоры, чтобы сообщить ему о своей беременности. Христиана всегда сбивается в обращении, не знает, где писать «вы» где «ты» совсем как госпожа советница, или Лотта Шиллер, или герцогиня Амалия, которые путаются в синтаксисе и в орфографии. Гёте улыбается. Он ведь и не думал искать себе в подруги образованную женщину. Она не нужна ему. А кроме того, он сам, создатель современного немецкого языка, до конца дней своих не мог совладать со знаками препинания.
Что пишет Христиана сегодня? Что еще придумала, чтобы его повеселить? «Досадно, что роман не двигается с места, да нет, конечно же, сдвинется.
Только не надо сразу впадать в отчаяние. Мы прилежно прядем». Какая бодрость, как деликатно сравнивает она его работу со своей! Или, может быть, она делает это бессознательно?
Может быть. Но она умела понимать трудного человека. И это хорошо описала жена Кнебеля, которая так же, как Христиана, долгое время была возлюбленной, потом стала женой человека с загадочным характером и в течение двух десятилетий часто бывала в доме Гёте. «Христиана, — пишет она после ее смерти, — обладала очень большим, естественным, светлым умом, веселым характером. Она умела вливать в него бодрость и прекрасно знала, какой тон оказывает на него благотворное влияние. Гёте, при его характере, не мог сыскать себе более подходящей жены… Он часто говорил нам, что, если в душе он весь поглощен произведением, если идеи так и теснятся в нем и он иногда уже не в силах в них разобраться, он идет прямо к ней, как можно проще рассказывает ей всю вещь и невольно дивится, когда она со свойственной ей естественной проницательностью сразу улавливает именно то, что нужно. Он многим обязан ей, даже и в этой области».
Гёте рассказывал Христиане про «Германа и Доротею» еще прежде, чем начал писать свой эпос. Христиана жарко молится, чтобы он ему удался. Но тут Гёте приказывает прислать ему в Иену дорожное одеяло. И тогда ей вдруг кажется, что замысел ему не удается, и «значит, молитва моя на этот раз не помогла». Она чрезвычайно пластично описывает ему в письмах какого-то бешеного студента, который прямо-таки буйствовал в театре, разные бытовые сцены и типы. Побывавши в каком-то замке, она сразу обращает внимание на картины Кранаха — они там самые лучшие. А потом до полуночи не в силах оторваться от «Геновевы» повести Тика. Гёте вовсе не хочет ее образовывать. Ему нравится ее естественность. Однажды — прошло двадцать лет их совместной жизни — Христиана задает ему какой-то уж очень наивный вопрос. Гёте оборачивается к другу, сидящему с ними за столом, и говорит: «Вот это мне в ней и нравится — видишь, она нисколько не меняется и остается, какая есть».
Разумеется, Христиана состоит не из одних добродетелей.
Она любит вино, как, впрочем, и Гёте. Сначала пьет меньше, потом все больше, тоже как он. Впрочем, никто никогда не видел, чтобы она перешла границы дозволенного. Светское общество не признает ее, и поэтому она заводит знакомства с актерами. Ее можно встретить на всех маскарадах в компании молодых людей.
Она любит смеяться и петь. Больше всего ее влечет театр. Он заменяет ей общество, которого она лишена. Она рассказывает директору Гёте обо всем, что там делается: какие пьесы пользуются успехом, как реагирует на спектакли публика.
Христиана быстра и ловка, любит скакать верхом, в старости научилась править упряжкой. Но больше всего на свете любит она танцевать. Это ее единственная, ярко выраженная страсть. Любой кавалер кажется ей недостаточно прекрасным и элегантным. Она страшно гордится тем, что ее пригласили на десять танцев сразу. Она столько танцевала на балу, что ее новые туфли прохудились до дыр. Но в доме у нее царит полный порядок. Здесь не знают праздности и безделья. Все рано ложатся. В шесть утра хозяин сидит за работой, а хозяйка сажает картофель в саду. Христиана знает толк в лошадях, умеет продать и купить коня, приобрести участок под огород. Она посылает супругу в Иену пиво, вино и мясо, а он шлет ей оттуда фрукты.
Христиана обязана доставать ему нужные книги, распоряжаться деньгами, отвечать на все запросы; и если по пятницам к ней никто не приходит на чай, она сетует, что только даром перевела дрова, топила камин. Она продает спаржу со своего огорода, поношенные платья, перешивает старье.
Такова она, Христиана, очень бережливая, немного тщеславная, работящая, вся отдающая себя другому, чуть похожая на Терезу, которую именно в это время описал Гёте в своем «Вильгельме Мейстере». Но никто не знает, что она может быть и Клерхен. Это ей еще предстоит доказать.
Несмотря на всю прозаическую повседневность, Гёте остается ее возлюбленным и много десятилетий с нежностью служит ей. Правда, не так, как служил когда-то Лили или Шарлотте. Однако повелевать ею, как повелевает женщинами Шиллер, он тоже не хочет. Перед целым светом выражает он свое отношение к этой женщине. Составив завещание и назначив наследником сына, он оставляет ей в пожизненное пользование весь свой капитал.
Он и впрямь относится к ним к обоим, словно к детям, а они к нему, как к отцу. «Ты только вообрази себе, как любят тебя твои оба зайца. Когда ты уехал от нас в Кетшау, вышли мы на дорогу и увидели на горе коляску, она все удалялась. Тут мы оба начали голосить, и оба признались, что нам куда как грустно».
О, он хорошо знает, как они любят его! И преданную мольбу их облекает в нежные стихи.
Проходит пятнадцать лет. «Пришли мне с ближайшей оказией твои последние, новые, до дыр протанцованные туфли, о которых ты мне написала. Мне хочется иметь хоть что-нибудь твое, чтобы я смог прижать к моему сердцу» — пишет пятидесятипятилетний Гёте, отец пятнадцатилетнего сына.
Но все-таки, даже эту свою милость, Тиха не отдаст задаром его трудной жизни. Он и за нее должен будет платить.
Через пять лет после начала его связи, к нему в дом переезжают сестра и тетка Христианы и остаются здесь до конца своей жизни. Да и брат ее живет у них подолгу. Спокойные люди Вульпиусы, а все-таки они целая семья, связанная общими привычками, отношениями, желаниями, совершенно чуждыми Гёте. Они вовсе не хотят жить прихлебателями. Но чем больше они стараются быть полезными в доме, тем больше шума поднимают. Трое скучных мещан вносят нежелательное оживление в аристократический дом. Они не имеют никакого отношения ни к светской, ни к семейной жизни Гёте. Правда, между ними никогда не бывает ссор и даже размолвок. Однако, позаботиться о безработном брате все же необходимо, и Гёте пишет тьму писем. А у сестры Христианы любовник, молодой дворянин; он удрал из отчего дома, и вот является пастор из поместья отца и просит Гёте повлиять на юношу, уговорить его вернуться домой. Гёте приходится всем отвечать, помогать, решать… Врожденная доброта не позволяет ему выгнать из своего дома семью своей подруги.
И поэтому, сами того не желая и не сознавая, они выгоняют его. Свой самый изысканный дом в Веймаре Гёте предоставляет маленьким мещанам, с которыми даже и в родстве-то не состоит, и ведет в близлежащей Иене холостяцкое существование. Иенское его убежище состоит из двух апартаментов во дворце. Отопить их очень трудно. Иногда он снимает комнату у кого-нибудь из горожан. Не будучи женат, Гёте вынужден нести все тяготы женатого человека. Четыре, иногда даже шесть месяцев в году он проводит в Иене. Впрочем, его гонит из Веймара суматоха, постоянно окружающая министра, директора и светского человека. Даже Шиллер, переехавший в Веймар, время от времени убегает работать в Иену. Тут они опять становятся поэтами. Тут воскресает их дух. Стоит только Гёте очутиться в старых, давно пустующих апартаментах Кнебеля, в которых тот давно уже не живет, и ему кажется, что нигде не проводил он столь плодотворных часов. Только приказывает прислать ему сюда штук десять гемм из его коллекции, чтоб иметь «хоть какие-то предметы, на которых можно отдохнуть взором».
По вечерам он дискутирует с Шиллером или сидит в кругу ученых и друзей и называет свое времяпрепровождение «сказкой о феях».
Изредка он разрешает Христиане приехать в Иену с мальчиком или одной. Раза два он и сам тайком приезжает в Веймар поздно вечером, велит не запирать заднюю калитку в саду и спозаранок уезжает, проводя в пути по три часа в конец. Разве не звучит это как рассказ о любовных приключениях наследного принца, который прокрадывается к своей возлюбленной тайком, ибо ее стерегут со всех сторон, и проводит с ней ночь?
И все-таки он вынужден постоянно бежать от Христианы, он с полной ясностью сказал об этом Шиллеру: «Я не мог уехать в Иену, и поэтому уехать пришлось моим домашним. Ибо, раз навсегда, я не могу создать даже самый пустяк не в абсолютном одиночестве. Не только посторонние разговоры, даже присутствие в доме людей, которых я люблю и ценю, заставляет течь мои поэтические источники совсем по другому руслу».
Чем старше он становится, чем ближе ему делаются Христиана и сын, тем чаще и серьезнее приходится ему покачивать головой. Именно он, Гёте, который целых двадцать лет так безупречно держался в этом государстве, вынужден смиренно просить какого-то маленького чиновника выдать «паспорт на проезд госпоже Вульпиус с сыном». Три дня гостят они у его матери во Франкфурте, но он все же считает за благо вызвать их поскорее домой.
Да и вообще, — спрашивает себя иногда Гёте, проводив из Иены жену с сыном и снова в тишине склонившись над страницами рукописи, — разве не странно, что короткая приятная встреча переросла в мою судьбу, а ведь я и не помышлял об этом. Неужели нам никогда не суждено познать мимолетное наивное чувство, чувство, которое исчезает так же, как зародилось, беспричинно, как летнее утро? Неужели и эти античные отношения онемечатся, отяжелеют? Разве не лучше мужественно расстаться, и пусть каждый вернет себе свободу, от которой он сам добровольно отказался? Вероятно, в таком настроении пребывал он в осенний день, когда, уехав в Швейцарию, вдали от подруги, остановился возле ручья у дерева и, глядя на него, увидел воплощение своей любви и своей судьбы.
В этом стихотворении — оно называется «Аминт» — выражена вся сущность гётевского брака. И нам, потомкам, уже нечего добавить к его словам.
Воспитание мальчика страдает от противоречивых влияний — повседневности и искусства. Это противоречие сказалось с особой силой в самый решающий период воспитания Августа — между шестью и восемнадцатью годами. Гёте, знаток и друг детей, который почти один вырастил Фрица фон Штейна, который так много сделал для сестер и братьев Шарлотты Буфф, для детей Карла Августа, Гердера, Якоби, разумеется, занимался собственным сыном, особенно когда тот был мал. Мальчик любит отца, он откровенен с ним и относится к нему, как к другу. Наряженный в одежду горняка, Август принимает участие в праздничном шествии в Ильменау, и отец сам укладывает его вечером в кровать. В Иене, во дворце, мальчик играет с маленькой девочкой. Оторвавшись от рукописи, Гёте подходит к окну и замечает детей. Он привязывает по кусочку пирога к двум веревочкам и спускает их вниз во двор. Ему весело смотреть, как прыгают дети, стараясь схватить гостинец. Гёте делает им из тыквы голову черта, глаза которого мечут огонь, рисует декорации для кукольного театра. И как некогда отец, Август смотрит спектакли театра теней. Здесь и доктор Фауст, и черт… Но самое смешное, что навсегда запомнилось мальчику, — кошка опрокинула, свечу!..
И все-таки, может быть, пятидесятилетний Гёте слишком стар, может быть, он слишком ушел в себя? Ясно одно: между отцом и сыном не было постоянного общения, первого условия настоящего воспитания. Гёте опоздал воспитывать сына.
То немногое, что известно о ребенке, мы знаем из его же собственных писем. Правда, они написаны под диктовку учителя и выдержаны в гётевском стиле. Впрочем, даже из них видно, что Август развитой, дерзкий, практичный, грубоватый паренек, который подсмеивается над матерью, когда ее огурцы поднимаются хуже, чем у него. Смеется он и над своим товарищем, сыном Шиллера, потому что тот всегда всего боится. Однажды он купил «тьму-тьмущую чижиков» зато отдал редкостную птичку — ему не хочется возиться с кормом для нее. Он убивает крота и любит слушать, как орут свиньи, когда их режут. Он нашел в саду обломок серебряной монеты и продал ее за грош. Языки даются ему легко. У него хорошая память. Когда отец читает ему Шиллеровы новые «Загадки Турандот» он отгадывает их быстрее, чем сам Гёте.
И еще одну черту унаследовал Август от отца.
В шесть лет он уже отказался ходить в церковь, и Гёте написал веселое изречение о наследственном язычестве.
Уезжая на воды, отец берет подростка с собой. Но во время поездки жизнерадостность мальчика гораздо больше влияла на старшего попутчика, чем воспитательное воздействие отца на сына. Мальчик явно не создан подражать манерам Гёте и брать с него пример. Ему гораздо больше по душе общество матери. Она всегда берет его в театр, и Гёте не препятствует этому. Мальчик растет неорганизованным, несобранным.
«Вместе с отцовскими чувствами к нему пришли и все добродетели бюргера. Он почувствовал это, радость его была беспримерна… О, поразительные требования бюргерского общества, которые, сперва, запутывают нас и сбивают с пути, а потом, требуют от нас большего, чем сама природа!.. Человек рожден, чтобы жить в обстоятельствах ограниченных. Он может уразуметь лишь простые, близкие, определенные цели.
…Но как только перед ним открываются просторы, он не знает, ни чего он хочет, ни что он должен делать, безразлично, рассеивает ли его количество многообразнейших явлений или выбивает из колеи их возвышенность… «Я думал, что в Америке я смогу действовать, — сказал Лотарио, — как по-другому смотрю я на вещи теперь, и как дорого, драгоценно стало для меня то, что находится возле меня».
«Я прекрасно помню письмо, — возразил Ярно, — которое получил от тебя из-за моря. Ты мне писал: «Я возвращусь, и у себя дома, в моем саду, в кругу моей семьи скажу: «Здесь или нигде Америка» Здесь или нигде!.. В конце «Годов учения» перечислены причины, которые заставили обуржуазиться Гёте, когда ему было уже под пятьдесят. Но, кроме того, в них содержится и некое обобщение. «Цель жизни — сама жизнь» — пишет Гёте Мейеру и в сочетании со всем, что он теперь делает или пытается сделать, начинает, забрасывает, отрицает, возвышает или порицает, эти слова значат, что Гёте пришел к глубокому реализму. Возникнув в бурном водовороте времени, реализм этот превратился постепенно в широкую реку, которая терпеливо несет на себе суда и грузы и спокойно течет по широкой равнине. Но Гёте становится бюргером.
Когда он был еще юношей, кипевшим восторгом, бюргерская кровь заставляла его опомниться. В тридцать пять, когда им овладело отчаяние, она заставила его закабалить себя государственными обязанностями. Когда ему минуло сорок, превратила его в спокойного, не знающего приключений путешественника. А в пятьдесят он стал бюргером с женой и ребенком и легионом обязательств, которые он добровольно возложил на себя. Педантически аккуратный, чуждый мировым событиям, далекий даже от духовных центров своей родной страны, «образованнейший человек нашего столетия» как злобно называют его враги. Какой-то беспримерный, непрерывно растущий ум. Он и внешне изменился и не решается даже послать почитателю свой портрет. А писали его в эти годы многие: Бури, Ягеман, Мейер, Тик, Бардуа. Со всех портретов на нас глядит тучный, коренастый человек с толстыми пальцами и мясистым лицом, с двойным подбородком, с мешками под глазами, с пресыщенными умными глазами, который все чаще пользуется лорнетом. И в том, как он живет и действует в течение целого десятилетия, в нем с полной отчетливостью проступают черты буржуа.
Вот он, бюргер, который лучше всего чувствует себя дома, покуда, как объясняет он в своих стихах, «далече в Турции народы бьются». Напрасно Гумбольдт зовет его в Париж. Он сидит в своем надежном Веймаре, где даже приезд мадам де Сталь составляет эпоху, восхищается колыбелью нового времени, завидует всему, что видят и чем наслаждаются в Париже Гумбольдт и Котта, а сам, и то уж, в крайнем случае, едет на Лейпцигскую ярмарку и смотрит там панораму Лондона. Ни в письмах, ни в дневниках его не упоминается о Европе. А в дни, когда заключается Рейнский союз, Гёте записывает в дневнике: «Ссора между лакеем и кучером на козлах взволновала нас больше, чем крушение Римской империи».
Вот он, бюргер по рождению, решивший использовать выгоды своего благоприобретенного дворянства, которому прежде придавал так мало значения. Некогда он состоял членом обоих веймарских клубов. Теперь он выходит из бюргерского, хотя по-прежнему не принимает решительно никакого участия в жизни дворянского. Впрочем, на его вечерах и чаях присутствует все больше представителей дворянских фамилий. Герцог превращает его маленькое поместье в наследственный лен, дабы Гёте мог стать членом ландстага; и члены ландстага в награду за его заслуги на посту министра «жалуют Гёте двумястами талерами» употребляя то самое выражение, которое употребляет и Гёте, когда дает на чай своему лакею. Разве не приходят нам на память слова Прекрасной души в «Вильгельме Мейстере»: «Слабости людей выдающихся особенно бросаются в глаза, а ведь хотелось бы, чтобы избранные натуры были их вовсе лишены»?
Вот он, бюргер, который строже, чем прежде, следит за общественным порядком. Свободолюбие Фихте приводит его в гнев; и как ни ценит Гёте идеи этого философа, он подписывает его отставку с должности профессора.
Некий бурный гений, бежавший со своей невестой, пробился к Гёте и просит принять его в актеры. Но Гёте приказывает ему немедленно вернуться домой, дает ему денег на дорогу, уплачивает за него в гостинице и требует у кучера, вернувшегося обратно в Веймар, шестнадцать талеров и семнадцать грошей, которые он истратил на юного беглеца.
Вот он, бюргер, достигший вершины своего бюргерства, обожающий всяческие папки и во время служебных поездок собирающий сведения, которые нынче содержатся в справочнике Бедекера.
Дневники его производят теперь странное впечатление. В них все больше проступают черты отцовского характера.
Вот он, бюргер-чревоугодник, для которого пришло время спокойно и вкусно поесть. Ему уже перевалило за сорок, он пристрастился к вину, и осушает бутылку, а то и две каждодневно. Пьет он до самой смерти, да и сам говорит, что питается почти только мясом и вином. Некий книгопродавец из Бремена сумел подольститься к Гёте, прислав ему ящик хорошего вина; в благодарность Гёте отдает ему вторую часть своей «Волшебной флейты», а гонорар предоставляет на усмотрение книгопродавца. Тот посылает и второй ящик… В дневнике, между стихами и делами, Гёте сообщает о молодой спарже, а во второй «Эпистоле» воспевает и плавающие в уксусе огурцы. Вот он, бюргер-добытчик, делающий деньги. Мысли его заняты теперь цифрами больше, чем, даже в те времена, когда он был президентом палаты. Правда, и сейчас — ему уже минуло пятьдесят — единственный твердый источник его существования все еще составляет министерское жалованье. Гёте — владелец пожалованного ему дома, но состояния у него нет. В течение тридцати лет он получал 1600 талеров ежегодно. А ему хочется жить широко, приобретать для своих коллекций гравюры, геммы, приборы, необходимые для опытов. Ему хочется вести открытый дом — хотя он и не слишком дорожит людьми, каждым в отдельности, — давать приют друзьям, делать дорогие подарки. Вот он и наводит справки, так, между прочим, «нельзя ли будет после ожидаемой кончины нашей доброй обер-маршальши приобрести недорого городской экипаж или что-нибудь из хозяйства».
Его преследует желание, доселе ему чуждое: он стремится не только выгодно продавать свои произведения, но как можно больше производить на продажу. Это одна из причин необозримого количества писанины, которую он печет теперь наряду с очень небольшим количеством поэтических произведений. Войдя в контакт с быстро богатеющим издателем Коттой, Гёте не рвет и с другими издателями. За свои статьи в «Орах» и в «Пропилеях» Шиллер и Гёте получают гонорары, в Германии, дотоле, невиданные. Так что понятно, почему Гёте переводит для этих журналов всего Челлини или отрывки из книги мадам де Сталь.
В конце этого десятилетия Гёте продает Котте еще одно свое новое издание, хотя в него вошло очень мало новых вещей.
Своего «Германа и Доротею» Гёте решил отдать издателю Фивегу для его альманаха. Однако эпос готов еще только на две трети, а в таком виде он не хочет показывать его. Фивег вынужден купить кота в мешке — иначе говоря, поэму в две тысячи гекзаметров, да еще выдать под нее аванс. Свои условия Гёте вручает не издателю, а третьему — доверенному лицу. Они лежат в запечатанном конверте. Если издатель предложит меньше, чем запросил Гёте, значит сделка не состоится. Если больше — остаток суммы будет ему возвращен. Издатель Фивег дивится, раздумывает, наконец предлагает 1000 талеров. Посредник вскрывает конверт и читает: «За мою поэму я требую тысячу талеров золотом. Гёте».
Продавши столь мистическим образом свой эпос, Гёте совершает единственную хозяйственную ошибку. Очевидно, Христиана убедила его купить маленькое именьице под Веймаром, которое до заключения купчей он ни разу не видел. Отныне он проводит там иногда по нескольку недель, прокладывает извилистые тропинки в парке. И однажды даже все видели, как Гёте — министр, ученый, поэт и чудак — покупает лошадей на конном рынке. Вскоре у него начинаются распри с арендаторами; одного он прогоняет за мошенничество, потом находит другого, который якобы разбирается в плодоводстве. Сельские праздники, гости и пивоварня приносят великому экономисту, сумевшему оздоровить финансы двух герцогств, такой дефицит, который огорчает нашего бюргера особенно потому, что свидетельствует о полном беспорядке в его хозяйстве.
Впрочем, убыток вовсе не удивляет Гёте. С самого начала он говорил о своей земельной собственности иронически и даже смущенно; и словно, чтобы выразить непричастность к этой стороне своей жизни, приезжая в деревню, он живет обычно не в собственном доме, а по соседству, у пастора.
Быть может, он купил именьице лишь для того, чтобы сделать Христиану помещицей, — необходимость заключить формальный брак маячила перед ним долгие годы — и тем облегчить ей переход в привилегированное сословие. Переход, который затрудняли интриги, господствовавшие в столице.
Даже Христиана, обладавшая практической сметкой, обрадовалась, когда через пять лет ей удалось без особых убытков избавиться от столь сомнительного удовольствия. В старости, заканчивая описание этого эпизода, Гёте с улыбкой замечает: «Единственного, чего не хватало во всем этом деле, была польза». Впрочем, продав свою собственность, Гёте по обыкновению тотчас придает этому событию символический смысл. Собственность ему не нужна, ибо «он навсегда отказался от земли — и в эстетическом и в экономическом смысле».
Сомнительное и, во всяком случае, не типическое изречение. Оно опровергается всей его жизнью в этот период. Ибо, приближаясь к пятидесяти годам, Гёте уже не прежний мыслитель, стремящийся всегда только к правде и только ввысь. И еще не поэт, которым вскоре станет, — жизнерадостно взирающий на окружающее и взмывающий к новой свободе. У него все еще бывают припадки человеконенавистничества, когда, избавившись от докучных посетителей, он думает, как бы поднять еще выше стену, которую он воздвиг вокруг себя. Как-то, исповедуясь Шиллеру в очень значительных своих ощущениях, Гёте рассказал ему о «реалистической причуде», которая заставляет его скрывать от окружающих свою жизнь и свои сочинения. «Я всегда люблю путешествовать инкогнито, носить не лучшее, а самое худшее мое платье и в разговоре со знакомыми или полузнакомыми говорить о вещах незначительных, во всяком случае, употреблять выражения самые заурядные. Мне нравится прикидываться легкомысленнее, чем я есть на деле, и становиться, если можно так выразиться, между собой и собственной персоной».
Так, прикидываясь незначительным, пытаясь обезопасить себя от окружающих, Гёте опять начинает появляться в обществе. Писатель и ученый, он кажется более общительным, чем в те времена, когда был государственным деятелем. Иенские профессора почитают его и боятся. А когда молодые люди, которые были ему представлены, описывают первое впечатление, произведенное на них Гёте, кажется, что его боятся решительно все. Некий свидетель повествует о том, как он встретился с Гёте на приеме в ученом обществе. В сиянии люстр и свечей Гёте важно стоял у стола, а перед ним полукругом выстроились ученые, внимавшие ему с необыкновенным любопытством. Свидетелю (им был писатель Жан Поль) очень хотелось как можно больше выведать о работах Гёте. Но тот оставался в течение всего вечера загадочным, как игрок за шахматной доской, так что единственное оружие, которое смог употребить против него юный муж и восторженный скептик, — это, составив очаровательное описание своего визита, воскликнуть: «А еще он очень много жрет». От мадам де Сталь, которая как раз в это время делает вояж по Германии, все записывает и всех интервьюирует, Гёте пытается сперва улизнуть. Но потом, то упираясь, то галантно, с полным почтением к ее уму и такой же антипатией к ее языку, ему удается привести ее в веселое замешательство, из которого она тут же с юмором выпутывается. Однако, когда мадам де Сталь доверительно сообщает ему, что опубликует во Франции каждое его слово, он становится сдержаннее и осмотрительнее в выборе своих выражений.
Друзей, которым он мог бы открыть свое сердце, у него почти нет. Шиллер полон собственных планов, болеет. Он обычно работает по вечерам, когда Гёте хочется поболтать. Тем не менее, только Шиллер и является собеседником Гёте в эти годы.
Мейер, который живет в доме Гёте на полном пансионе, женится и переходит уже на роль учителя и докладчика, а не собеседника. Впрочем, ни к кому больше Гёте не относится с такой нежностью, как к нему. Мейер, единственный из всех, не стремится извлечь выгоды из его власти и ума. Напротив, он всегда дает ему все, что только в силах.
Есть еще Кнебель. Но Кнебель чувствует, что Шиллер давно уже заменил и вытеснил его из мыслей Гёте.
Почти не омраченными и все более близкими оказались отношения с Фойтом, которого некогда отметил Гёте среди прочих судейских чиновников и сделал сначала превосходительством, а потом первым министром герцогства Веймарского. Фойт благороден, деятелен, опытен и бескорыстен. Он неизменно благодарен Гёте и всегда верит в его сердце. «Мне бы хотелось, чтобы вы всегда были возле меня, пишет ему Гёте, — и хочется быть и для вас чем-то… Ведь я просто не в силах представить себе мою жизнь без вас».
А другие? Участники его увлеченья, его борьбы? Те, что сопутствовали Гёте в первое веймарское десятилетие? Куда девалась их любовь? Жизнь гения разочаровала друзей. Они требуют, чтобы он шел именно тем путем, который они ему предначертали. Правда, ненависть Шарлотты угасла. Ей почти шестьдесят. Волосы ее побелели. Сын ее женился, у нее есть уже внук. И она обменивается с Гёте не только официальным поклоном. При посредничестве Шиллера она помирилась с ним. Некогда она послала к нему своего сына, чтобы он образовывался возле него. Теперь он посылает своего Августа к старой женщине. Нет, Гёте никогда не отрицал силы ее духа! Он хочет, чтобы сын его дышал чистым горным воздухом, которым тот, правда, не умеет дышать.
А потом наступает минута, когда Гёте может опять услужить своей врагине-подруге. Он хлопочет у герцога о переводе Фрица фон Штейна на прусскую службу, и впервые через семь лет Шарлотта читает записку, написанную рукой Гёте.
«Позвольте же и впредь бедному моему мальчику наслаждаться возможностью быть рядом с вами и образовываться, глядя на вас. Не могу думать без чувства умиления, что вы так расположены к нему».
«Моему бедному мальчику» — читает Шарлотта и берет перо и за тем самым столом, который ей изготовили двадцать лет назад по рисунку Гёте, пишет: «Вы знаете мое сердце и должны почитать совершенно естественным, что я так люблю вашего ребенка».
Гёте читает и улыбается. Всего несколько недель тому назад, подходя к концу своих «Годов странствий» он заставил некую покинутую душу сказать: «Такая уж особенность у нас, женщин, мы любим всем сердцем детей наших возлюбленных, даже если никогда не видали их матери или ненавидим ее всей душой» Через несколько дней, Гёте, ведя за руку семилетнего сына, проходит мимо дома Шарлотты. Она сидит в саду под апельсиновыми деревьями. Гёте входит в калитку. Поэт и сын Христианы целуют руку Шарлотты. Никому не рассказал он об этой сцене, но Шарлотта, удивленная и пристыженная, написала приятельнице: нет, она сама не понимает, как могла она так долго судить о нем ложно!..
Все-таки, через год, она дает Шиллеру свой памфлет, направленный против Гёте.
А он опять приглашает ее в свой дом, обычно вместе с ее племянницей или с другими дамами. Опять посылает ей фрукты. Опять показывает ей свои монеты; и по временам словно слышатся старые звуки, когда он пишет: «Смею ли просить вас рассеять печаль этого утра вашим присутствием?».
Вскоре после проигранной кампании, затеянной против революции, герцог, генерал прусской, службы, вышел в отставку. Уж не вспомнил ли он — правда, слишком поздно — о предостережениях самого старого своего друга? Может быть. Но только это отнюдь не усилило расположения герцога к Гёте. Карл Август — он тоже начал седеть — решительно предоставляет путь к мудрости другу. Но военные обязанности уже утомили герцога, и он принимается несколько энергичнее управлять своим государством. Вот тут-то у него и начинаются стычки со своим министром культуры и директором театра. Гёте вполне понимает герцога. Зато герцог уже не понимает Гёте. Впрочем, он находит чрезвычайно меткие слова для характеристики путевых писем поэта. «Просто удивительно, — говорит герцог в беседе с Кнебелем, — до чего торжествен стал этот человек» Интерес герцога к произведениям Гёте, очевидно, угас окончательно.
Правда, Карл Август проявляет все больший интерес к естественным наукам, и это заставляет его опять сблизиться с Гёте. Их связывают доклады, пополнение коллекций. И мы вынуждены воздать должное скромности государя, которая сквозит во всех его вопросах и распоряжениях. Но уже очень редко пишет он: «Дорогой, милый старина» — и почти никогда: «Люби меня».
Но Гёте уже не дает выманить себя из бастиона формальностей. Только через Фойта испрашивает он отпуск. Частные его письма к герцогу начинаются со слов «Милостивейшее послание вашей светлости» и заканчиваются «Всеподданнейший Гёте».
Куда ушли времена, когда они по-братски делили проказы и замыслы, идеалы и глупости?
Очень редко появляются они вместе. Впрочем, их все еще связывает интерес к эросу — правда, интерес мужчин, которым перевалило за сорок. Через несколько лет после начала связи между Гёте и Христианой герцог, устав от бесконечной смены любовниц, создает вторую семью. Избранница его тоже дочь веймарского архивариуса. И вскоре Гёте появляется в роли крестного отца на крестинах сына Каролины Ягеман, точно так же как герцог был крестным сына Христианы. Но Каролина — актриса придворного театра, который содержит герцог и которым руководит Гёте. Все три персонажа поставлены в ситуацию, на которой можно построить хоть десяток комедий. Зато когда ситуацию эту впоследствии распутывает жизнь, она оборачивается почти что трагедией.
Впрочем, трения начинаются сразу. Гёте устал от руководства театром. Он просит уволить его в отставку. Герцог его не отпускает, и Гёте вынужден опекать Ягеман, которая непрерывно восстанавливает против него герцога.
И еще одного друга, имевшего на него самое сильное влияние в юности, теряет Гёте — Гердера. Впрочем, он потерял его еще тридцать лет назад. Чудовищный критицизм Гердера всегда отталкивал Гёте и всегда притягивал его вновь. Дружба-вражда всегда связывала их, всегда разделяла. В каком-то, очень глубоком смысле, образ Гердера воплощен в Мефистофеле. Но никогда мефистофельское начало в Фаусте, а фаустовское в Мефистофеле не проступало так ясно, как в истории этой дружбы-вражды.
Гердер умирает в Веймаре, но Гёте, который находится в Иене, не приезжает на его похороны. Ни в дневнике, ни в заметках он и словом не упоминает об этом событии. На следующий же день после смерти Гердера он посылает письмо и выражает в нем свою радость по поводу приезда мадам де Сталь. «Остроумный характер этой дамы, — пишет он, — способен разогнать даже образы смерти, порождения зимней ночи». Только в этих словах и прорывается потрясение, которое он таит от себя. Цинично-трагический дух Мефистофеля проглядывает сквозь горечь, с которой Гёте пишет об отвратительном времени года. «Я хорошо понимаю, что Генрих II приказал застрелить герцога де Гиза только оттого, что стояла такая же мерзкая погода, как сейчас, и я завидую Гердеру, которого хоронят». Этот вечер Гёте провел у знакомых, в кругу молодых людей, ухаживающих за прекрасной девушкой.
Но пройдет двенадцать лет, и в «Поэзии и действительности» Гёте напишет грандиозный эпилог к жизни единственного человека, которому он обязан огромной благодарностью. Там, обрисовав исполинский дух загадочного человека, он воздвигнет ему нетленный памятник.
Совсем незадолго до смерти Гердера Гёте без всякого волнения прочел о кончине Лафатера. Не тронула его и смерть Короны Шретер. Быть мо, всего за несколько месяцев до своего конца она присутствовала на премьере «Ифигении» в постановке Шиллера. И может быть, глядя на игру молодых, Корона вспомнила о том, другом спектакле, когда в присутствии молодого, веселого двора они играли Ореста и Ифигению. Двадцать три года тому назад!..
Тогда тоже стояла весна. Но все было забавой, гениальной песней, которую он сочинил в несколько недель и, едва дописав последнюю строку, перенес на сцену. Помнишь ли ты об этом, Орест? Ты чопорно восседаешь сейчас в директорской ложе и следишь, как бы не вышло неполадок. Помнишь, как рука обожателя возложила лавровый венок на ее каштановые кудри? А сегодня они сидят в своих пустынных ложах и разглядывают зал. Вот там старый Кнебель со своей молодой женой. Помнишь, он был тогда Пиладом, быстрым, звонким? А вот там, в герцогской ложе, сидит повелитель — короткошеий, неподвижный и раздраженный. Тогда он захотел, во что бы то ни стало, сыграть Пилада, чтобы даже на сцене не разлучаться с другом.
И Гёте кажется, что у него галлюцинации. Словно видения, проносятся перед ним пестрые картины. Он видит себя тогдашнего, но это еще не он… Он видит себя сегодняшнего… И отведя глаза от сцены, он смотрит в сумеречный зал, где в молочном полумраке перед ним встают старые его партнеры. Вот поседевшая голова Шарлотты. Тогда она не пришла, ревновала его к Короне. И вдруг он сам, Орест Гёте, входит в роль, и, как тогда, как двадцать три года назад, душа его обращается к другим душам:
Иногда, словно выходцы с того света, появляются еще более далекие образы. Лили выражает желание повидаться со старым другом; просьбу ее выполняют очень холодно. Лотте Кестнер хочется, чтобы Гёте рекомендовал ее сына в качестве врача. Она гостит сейчас в Вецларе, пишет Гёте и, по женскому обычаю, не может не намекнуть на старые времена. «Желаю вам всяческих благ, — пишет ей в ответ Гёте, — и вспоминайте обо мне, когда будете в местах, где некогда мы провели так много приятных часов». Неужели это звучит еще недостаточно черство? Впрочем, даже и эта фраза кажется ему слишком чувствительной, и он вымарывает ее из черновика. Однако через месяц ему снова приходится написать ей, и тут, на несколько секунд, он дает волю чувству: «Как бы мне хотелось снова оказаться рядом с вами на берегу прекрасной Ланы!..», И сразу же обрывает себя.
Лерзе и Клингер! Славный мальчик и бешеный парень. Один стал надворным советником, другой статским. Гёте это весьма на руку. Клингер, который служит в Петербурге, помогает ему пристроить там одного знакомого. А Лерзе посылает ему из Венгрии редкостные минералы.
Все более показные письма пишет он своей старой матери; и только когда она радушно приняла его Августа (пятнадцатилетний паренек все время болтает о бабушке), Гёте, которому в Веймаре пришлось молча снести столько оскорблений из-за жены и сына, становится к ней теплее: «Мы все очень благодарны тебе и шлем наши самые горячие приветы».
Словно защищаясь от внешнего мира, Гёте погружается в самую разнообразную деятельность. Он укрывается за ней, как за десятью валами. Правда, вернувшись из Италии, он ушел от государственных обязанностей. Давно не участвует он в делах Тайного совета и выполняет обязанности только министра культуры. Но и на этом посту дел хватает. Не так-то просто в столь бурное время, преодолевая сопротивление враждебных партий, управлять университетом, построить дворец вопреки вкусу своего повелителя, создавать новые культурные учреждения. Но Гёте не способен руководить только при помощи директив. Даже сейчас, когда безграничные силы его юности поубавились, он все еще с жаром занимается министерскими обязанностями. Он не только подписывает бумаги — он ведает и руководит всей служебной корреспонденцией; и вот какие темы входят в нее и берутся на заметку: освободить садовника от военной службы; хозяин харчевни просит разрешения поставить у себя бильярд; в ботанический сад забыли прислать поддоны; необходимо установить разряды для мастеров, подмастерьев и каменщиков, работающих на постройке дворца; составить меню обеда, который должен выдаваться из дворцовой кухни архитектору-иностранцу, и определить, какие инстанции должны поставлять для него пиво, хлеб и столовое белье; фасон и полировка полок для вновь организуемой библиотеки: возок, на котором надлежит как можно дешевле перевезти от каменотеса камень, предназначенный для надгробного памятника. И еще послания в полицей-президиум — об условиях, на которых может быть принята обратно на место искусная стряпуха, уволенная за дерзость; о взятии под стражу лакея, взбунтовавшегося во время поездки.
Глядя на неоглядную громаду всех дел, Гёте вздыхает и пишет Шиллеру: «В сущности, с нами, поэтами, следовало бы поступить так же, как герцоги Саксонские поступили с Лютером: схватить нас посреди дороги и заточить в замок на горе. Мне бы хотелось, чтобы со мной поступили так сегодня же. И тогда к св. Михаилу моя часть работы была бы готова».
Через два года после возвращения Гёте из Италии, ему поручили руководство театром. В первое время он относился к этому равнодушно. Как некогда в бытность военным министром, Гёте жалуется на новое, теперь «театральное мучение». Очень скоро ему пришлось убедиться, как трудно писателю его типа писать игровые пьесы. Они ему не удаются. Работая над «Гражданином-генералом» он вынужден прибегнуть к помощи третьего лица. Но сотрудничество Шиллера пробуждает в нем самый живой интерес к театральной жизни. Ему удается многое сделать для реформы театра. Гёте не согласен с делением актеров на определенные твердые амплуа. Он старается воспитать художников, способных создать любой образ. Поэтому актеру, отличающемуся страстным темпераментом, он поручает роль флегматика, «дабы он научился отказываться от самого себя и входить в образ другого человека». Гёте требует, чтобы актер не только создавал яркий внешний образ, но играл его в определенной исторической обстановке. Для «Валленштейна» он заказывает костюмы по старинным гравюрам. Ставя греческую трагедию, заставляет актеров изучать позы античных статуй, вплоть до положения пальцев рук. Он рисует мантию Магомета и указывает ширину золотого кружева, которым она должна быть украшена. От постановки собственных пьес он давно отказался. «Я писал антитеатрально» — говорит он о своих произведениях.
Но Гёте сделал очень много для всего немецкого театра. Он первый открыл театральное училище и выработал основные правила актерской игры, построенные на основе музыкальных понятий. Ведя репетиции, Гёте словно дирижировал оперой, указывая темпы для драматического спектакля — крещендо, фортиссимо. Он заставлял актера отрабатывать каждый шаг и мельчайший жест и требовал, чтобы молодежь относилась к своему делу так же серьезно, как относится он. Вот он сидит в первом ряду партера, в высоком кресле, отдает распоряжения, иногда поднимается на сцену, чтобы указать, как читать роль, и читает сам с легким диалектом, как уроженец Южной Германии, получивший образование в Северной. Окружающие молча ему внимают. Впрочем, судя по всем свидетельствам, Гёте никогда не был деспотичен с опытными актерами. «Да, неплохо, хотя я представлял это себе несколько по-другому. Давайте-ка поразмыслим еще до следующей репетиции, а там посмотрим, как нам прийти к соглашению». Но даже и в этом зрительном зале вслед за пылкой речью Гёте вдруг становится холоден, и это сбивает с толку окружающих. Только что он обратился с горячей речью к молодым актерам, едва поступившим в театр, о высоком назначении искусства и вдруг, к вящему их испугу, заключает: «Итак, начнем с походки».
В те времена, когда на актеров все смотрели, как на цыган, Гёте пытался возвысить их общественное положение. Наиболее выдающихся он приглашал в свой дом, и это заставило некоторых жителей Веймара, и даже за его пределами, последовать его примеру. И уже тут Христиана лучшая его помощница. На афишах он не писал перед фамилией актеров ни «господин» ни «мадам» поясняя, что «господ» на свете очень много, а художников весьма мало. Когда администрация решила отвести под актерскую ложу самую маленькую ложу в зрительном зале, он с возмущением назвал ее клеткой и отказался от нее. Какой-то театральный чиновник решил уволить нескольких актрис за «сомнительное времяпрепровождение с офицерами». Но Гёте наложил запрет на его приказ, ибо «частные дела никак не могут занимать внимание учреждения». Гёте требовал от актеров строжайшей дисциплины, но ой был всегда абсолютно справедлив и относился к ним с самым высоким уважением, как к настоящим художникам и членам сословия. Зато в той же мере, в какой Гёте уважал актера, он презирал свою публику. Может быть, поэтому он не только не продвигал свои пьесы, но вовсе не ставил их. Чтобы сыграть «Ифигению» «Тассо» или «Фауста» у него не было ни зрителей, ни исполнителей. В репертуаре удержались только маленькие его пьесы: «Клавиго» «Брат и сестра» «Совиновники»; они шли крайне редко, не чаще раза в неделю, а то и вовсе не шли. Да и другие немецкие театры тоже не ставили его пьес.
Итак, он министр культуры и директор придворного театра. Но это только две формы проявления многоликого Протея. Кроме служебных постов и поэзии, на Гёте лежало такое количество обязанностей, что это кажется почти невероятным. Универсализм Гёте достиг опасной высоты.
«Известно, что чем дольше падает камень, тем быстрее становится его падение. Очевидно, то же происходит и с жизнью. Моя, например, хотя со стороны она кажется очень спокойной, все быстрее мчится вперед. Множество нитей от науки, искусства и дел, которые я начал тянуть в ранние годы, сплетаются теперь, перепутываются, соединяются, и я вынужден со всей силою опираться на мою привычку к порядку, чтобы не вышла ужасная путаница… Многообразие моих занятий требует от меня огромных сил, и хотя оно обогащает меня, но грозит стать очень уж утомительным… Жизнь моя принадлежит бесконечному множеству дел, и внимание мое не может целиком сосредоточиться на той точке, которая находится передо мной в данную минуту… Так и течет бесконечно бессмысленно-утомительная жизнь, словно сказка из «Тысячи и одной ночи» где каждый новый сюжет сам собой вплетается в предыдущий». Даже в этом отрывке из письма раскрывается неисчерпаемо многосторонняя деятельность Гёте, в которую входит и труд, посвященный болезни слоновой кости, и жизнеописание найденного во льдах тигра. Но еще гораздо более выразительная картина Гётевой деятельности возникает при чтении его дневников, смахивающих уже на календарную запись. Вот несколько примеров из того, что он записал в Иене: «Рано утром привел в порядок 4-ю песнь «Германа и Доротеи» и отдал переписать. Читал «Фрошмойзелера» разное о насекомых. Днем химические опыты с Г., касающиеся насекомых. Продолжение гальванизма. Герцог пробыл весь день в Иене. Вечером — к Шиллеру. О влиянии разума и природы на поступки человека. Утром правил поэму, потом анатомировал лягушку. Утром в новом саду Шиллера обсуждали, что надо там сделать. До того еще раз просмотрел первую и вторую части поэмы. Утром таблицы цветов. Вечером на ужин устрицы. После обеда «Золотая свадьба» Оберона.
Письма Гумбольдту и Фивегу… Идеи по поводу путешествия. Вечером — к Шиллеру. Совещался с ним по этому поводу. Поездка в Веймар, смотри том писем. Индийский романс, конец. Просмотрел статью Шлегеля… Вечером — лорд Бристоль. Утром характер лорда Бристоля. Пришли В. и Ст. С одним говорил о предполагаемой негоции, с другим — о желательности наклонной насадки над сваями ледореза. К Шиллеру, разное о характерах. Шиллеров романс «Пловец». О комедии. Вечером к Лодеру. Бильярдный шар в желудке собаки. За сутки переварила его на одну треть. Рано утром корректура последнего куска «Челлини». Письмо герцогу. Статья о новой наклонной насадке над сваями ледореза. Вечером совещание о театральных делах. О различных эпохах в архитектуре собора Св. Петра. Вечером к Шиллеру. О наивной и сентиментальной поэзии в применении к нашим индивидуумам. Курьер из Веймара. Решение уехать».
Летом Гёте — ему уже шестьдесят — проводит шесть недель в своем старом садовом домике и составляет следующий отчет:
«1. Собрание моих маленьких стихов. 2. В связи с этим изучение ритмики. 3. Просмотрел письма Винкельмана. 4. В связи с этим прочитал его уже напечатанные письма и первые сочинения. 5. Читал «Фрагменты» Гердера, относящиеся к литературе того времени. 6. Знакомился со строением луны при помощи телескопа и селенотопографии. 7. Начал читать «Атеней». 8. Наладил все для скорейшего строительства дворца. 9. Обсуждали прейскуранты. 10. Пришло длинное письмо от Гумбольдта, выправил и включил в «Пропилеи». 11. Присутствовал на нескольких репетициях любительского кружка. 12. Несколько раз посетил выставку рисовального училища».
Так управляет Гёте разными «провинциями» своей души. Во второй половине его жизни трудовой день Гёте гораздо больше напоминает день крупного организатора, чем поэта, ученого и даже министра. Существенной частью гётевских трудов являются теперь письма. Каждый год они составляют большой том. Деловые, холодные, предназначенные решительно всем. А иногда только официальные, часто задуманы как эссе или сообщение, предназначенное для дальнейшей публикации. Секретарю Гёте приходится вписывать целые страницы из письма к Христиане в письмо к Шиллеру. Только обращение и конец в этих письмах различные. Гёте уже почти никогда не пишет «любите меня». Лишь изредка в этих строчках прорывается теплота, но и она исчезает, ибо Гёте изобрел новую форму, выражающую его отношение к адресату. Иногда он собственноручно приписывает в конце письма: «Любовь и доверие. Гёте». Да, он сейчас схематизирует все, ибо хочет все удержать в своей памяти, которую сравнивает с бочкою Данаид.
Писательская деятельность Гёте сводится уже не столько к деятельности открывателя, сколько собирателя. Даже как естествоиспытатель, он уже не исследует новое и выступает, скорее, как энциклопедист. Замысел «Вильгельма Мейстера» — основного произведения этой поры — относится к более раннему времени. Однако большая часть романа написана именно теперь. Слишком долго возился с ним Гёте, так что под конец роман начал на него давить. Вторая часть «Мейстера» утратила свободу и легкость, которые были так свойственны первой. Усталый приходит Гёте к его концу. Но против обыкновения он называет свой роман великим произведением. Шиллер, который высказал о «Мейстере» много самых высоких слов, хвалит Гёте за то, что в конце романа серьезность и шутка как бы растворяются в игре теней и лишь один-единственный элемент господствует над всем произведением — легкий юмор. Шиллер полагает, что в книге серьезное — тоже только игра. Игра составляет единственный и настоящий элемент романа. Боль здесь «только кажущаяся, а покой единственная реальность». Чрезвычайно глубоки эти замечания Шиллера. Он предчувствует, что в Гёте начинает господствовать новое настроение. Скоро и мы убедимся в этом.
Стареющий писатель-бюргер повсюду, где мог, ввел в свой роман пояснения, которые должны были смягчить гениальную непосредственность первых, написанных в юности, частей романа. Единственное значительное произведение, созданное Гёте в десятилетие дружбы с Шиллером, — это «Герман и Доротея». Ведь «Вильгельма Мейстера» и «Фауста» оставалось уже только завершить. Сюжет для написания идиллии Гёте почерпнул из рассказов о событиях в Зальцбурге.
Фон поэмы составляют очень слабые отзвуки революции, Гёте вовсе и не стремился хоть сколько-нибудь обрисовать ее.
Поэма была задумана и написана так быстро, как Гёте уже не писал со времен «Вертера». Да и по краткости, по завершенности в ней тоже много общего с «Вертером». Она написана чуть ли не в девять дней. «Герман и Доротея» имела почти такой же успех, как «Вертер» — правда, не столь бурный.
Но успех этот был вызван недоразумением.
Германии показалось, будто она получила истинно германский эпос. И действительно, в своей идиллии Гёте уловил и интимность северной живописи, и мещанский уют эпохи, и голландские элементы, свойственные собственному его характеру. Имена, ландшафт, домашняя утварь, уклад бюргера, его тревоги, его спокойная ограниченность — все нашло отражение в поэме. Именно эти качества так привлекли немецкого мещанина. Он с благодарностью принял поэму, как только она появилась на свет. Гёте читал ее вслух охотнее и чаще, чем все другие свои произведения, и нередко, растроганный, «таял на жаре собственных углей».
Но, разумеется, народ не знал, да и не мог знать, что на самом деле думает Гёте по поводу немецкого характера своей поэмы. «Что касается сюжета, — писал Гёте, — то в «Германе» я пошел, наконец, навстречу пожеланиям моих немцев, и они бесконечно довольны. Теперь я подумываю, не написать ли мне в этом же роде еще какую-нибудь пьесу. Разумеется, ее играли бы на всех немецких театрах и сочли бы великолепной все без исключения, хотя сам автор был бы о ней совершенно противного мнения». Как громко звучат здесь высокомерие, отчужденность и горечь, наполняющие поэта, так долго непонятого и, наконец, снискавшего национальный успех! Впрочем, свое отношение к поэме Гёте выразил даже еще явственнее. «Будь я моложе, пишет он французскому переводчику «Германа и Доротеи» в Париж, — я бы решился вас навестить, дабы подробнее изучить нравы и обычаи Франции, особенности ее обитателей, а также их духовные и нравственные потребности после великого кризиса, который они пережили. И может быть, тогда мне удалось бы написать поэму, которая, соперничая с «Германом и Доротеей» и переведенная вашей рукой, осталась бы не без влияния на читателей». А тем временем «Германа и Доротею» перевели даже на латынь.
«Герман и Доротея» нашли дорогу к сердцу читателя, хотя и были написаны по рецепту Фосса, который рекомендовал облекать современный сюжет в античную форму. А все-таки ритм этого произведения навсегда остался чужд немецкому читателю. Как много драгоценных произведений, созданных Гёте в этот же период, произведений, которые так и рвались в песнь или в сказание, навсегда остались чужды народу из-за классической формы, в которую он их облек!
Разумеется, он и сам глубоко почувствовал и трагически пережил жертвы, принесенные им в угоду своей теории античности. Уединившись в старом садовом домике, чтобы составить сборник новых стихов, Гёте утешал себя тем, что былую энергию и сочность его поэзии восполняют теперь больший вкус и широкий кругозор. Но кое-чему удалось продраться даже сквозь эстетические предрассудки эпохи и найти спасение в естественной форме, как, например, балладам Гёте.
Наконец, наконец-то сбросил он с себя античную тогу и остался в коротком плаще! Наконец-то он слышит, как гуляет вольный ветер в его стихах!
Разве какое-нибудь стихотворение Гёте начиналось с такой забавной забавы, с такого летящего полета, как «Волшебная сеть»? Да и много других стихов, предвещающих новую меланхолическую легкость, которая стучится к нему в душу.
В своих балладах Гёте избегает трагических мотивов. И в то время как Шиллер все трагичнее смотрит на мир, Гёте вспоминает о своем коротком трагическом периоде — о «Вертере» «Клавиго» «Стелле» и не хочет больше возвращаться к нему.
Две свои вещи — «Фауста» и «Учение о цвете» — Гёте называет «навязчивыми привидениями», от которых ему нужно, наконец, отвязаться. И действительно, только принуждая себя, поэт завершил первую часть «Фауста». Но для этого он написал еще целую треть стихотворного текста в дополнение к тому, который был уже напечатан, значит, нужно переплавить все заново, и Гёте дает переписать и новый текст, и старый. «Старая, еще пригодная, впрочем, чрезвычайно нелепая рукопись переписана, и отдельные части разложены согласно подробной схеме отдельными пачками, под номерами, одна за другой». Расположившись со всеми удобствами, вооружившись легкой иронией, свойственной образованному в классическом духе художнику, Гёте вновь принимается за свою «варварскую композицию». Он полагает, что ему удастся, может быть, «слегка поправить ее, но уж никак не выполнить высочайших требований искусства… Ведь рассудок и благоразумие, словно двое забияк, станут ожесточенно драться друг с другом, а по вечерам мирно отдыхать вдвоем. Но я все же постараюсь, чтобы все части произведения были приятны и занимательны и дали пищу для размышлений».
Так антидемонично, благодушно и бодро собирается Гёте раскалить, чтобы заново перековать этот некогда дышавший жаром обломок. Тот же добродушно-насмешливый тон сохраняет он и в разговорах с посторонними. Когда Котта предлагает ему заказать для «Фауста» гравюры на меди, Гёте добродушно отклоняет его предложение. «Надеюсь, чародей и сам как-нибудь да пробьется». Он привык к тому, что все главнейшие его произведения остаются не понятыми Германией, но со свойственным ему реализмом предвидит влияние, которое «Фауст» окажет на читателей.
И все же в часы одиночества он молча, вопрошая, страдая, замирает перед фрагментом, в котором заколдована его юность — нет, вся его жизнь. Он все еще, и теперь особенно, ощущает «Фауста» не только как мировую поэму, но как песнь своей жизни.
Об этом свидетельствует «Посвящение» к ней, когда, глядя на старые свои образы, он говорит:
И все-таки ни после шутливых слов, с которыми Гёте обращается в прологе поэмы к издателю, ни после волнующих призывов, обращенных к себе самому, он не сделал сейчас ничего значительного, и ему опять не удалось завершить свое произведение. Дважды откладывал он эти страницы, и над ними проходят долгие годы. С пятидесяти двух и вплоть до семидесяти шести лет Гёте не прикасается к «Фаусту». В работе над этой трагедией наступает полное затишье. Оно продолжается, покуда Гёте не начинает писать «Фауст. Часть II».
Но ведь, в сущности, только интерес к античности заставил его вернуться к «северному варварству» к его произведению. Это случилось в те самые дни, когда Шиллер, который без конца убеждал Гёте взяться, наконец, за трагедию, сказал Котте, что уже не верит в завершение «Фауста».
И вдруг Гёте, который во время путешествия неожиданно наткнулся на античный миф о Елене, тут же вводит ее в свою трагедию. Впрочем, она встречается и в старом народном действе и в народной книге о докторе Фаусте.
Гёте без передышки пишет все триста стихов, с которыми выступают Елена, Форкиада, Хор. Стихи античные и по размеру своему и по настроению. Отрывок этот так свободен и так завершен!.. Кажется, он не будет иметь никакого отношения к старой трагедии. «Я так увлечен красотой истории моей героини, что, право, меня огорчает необходимость превратить ее в какую-то уродливую рожу. Нет, мне нисколько не хочется строить на этом эпизоде серьезную трагедию».
С точки зрения Гёте, литературная форма, сложившаяся на юге Европы, настолько выше и изысканнее северной поэзии, что при мысли о необходимости сочетать отрывок о Елене со своим старым фаустовским миром, он называет этот мир рожей. Нет, он все еще не нашел в него мост.
И вдруг, не успев завершить свою «Елену» он тяжело заболел. А как только выздоровел, немедленно извлек старые, написанные в юности страницы. Он твердо намерен заполнить все пробелы, дописать трагедию до конца. Он спешит, совсем как Фауст. «Лучше пусть лишусь дыханья жизни, чем решусь теперь с тобой расстаться!..». И пишет все сцены, которых еще не хватало: смерть Валентина, интермедию к Вальпургиевой ночи и даже заполняет зияющий пробел между первым монологом и сценой со школяром. А потом заканчивает первый монолог, пасхальную заутреню, пишет прогулку у городских ворот, второй монолог, договор с чертом.
За два месяца — ему только что исполнилось пятьдесят два года — Гёте диктует «Фауста. Часть первую» до конца. И часть эта лежит еще четыре года уже в своем окончательном виде. Наконец он решает издать ее — правда, опять только в качестве фрагмента. Однако война еще целых три года мешает отдать вещь в печать. Кажется, над произведением, которое Гёте начал сорок лет тому назад, тяготеет проклятие.
Наступают двадцать четыре года полного затишья с «Фаустом». Гёте минуло семьдесят шесть лет. И он начинает писать «Фауст. Часть II».
Но не эти новые сцены, не все другие произведения, а только идиллия «Герман и Доротея» заставили Германию вспомнить о своем полузабытом поэте. Стоит Гёте покинуть тесный круг друзей, как его ужасает полное отсутствие понимания литературы у немецкой нации.
«О писателе Гёте здесь имеют самое туманное представление, — пишет он из Карлсбада. — Все питаются только устарелыми воспоминаниями о нем. Его путь и развитие известны лишь очень немногим». Некая приятная дама, разговаривая с Гёте, полагает, что перед ней находится Клингер. Среди немецких поэтов, стихи которых кладутся на музыку, Гёте стоит на тринадцатом месте. «Даже если бы границы Германии, — пишет он Мейеру, который находится в Италии и жалуется на проживающих там земляков, — простерлись до самого Рима, то и туда ее сопровождала бы пошлость, как англичанина его чайник».
Но еще гораздо больше огорчает Гёте непонимание, на которое он наталкивается у друзей.
«Вильгельма Мейстера» и элегии осуждают все, почти без исключения. Не следовало, говорят они, вводить Прекрасную душу в «Вильгельма Мейстера» в этот бордель. И нечего было пускать проституток в «Оры». Штольберг, тот даже торжественно сжигает роман и дает переплести для себя лишь исповедь Прекрасной души. Женщины, которые знают Гёте больше двадцати лет, так изъясняются о «Мейстере»: «Где только не возникнут благородные чувства, — пишет госпожа фон Штейн, он тотчас же хоть немножко, да вымажет их грязью, чтобы не оставить в человеческой природе ничего святого». «Никогда нельзя понять, — пишет госпожа Гердер, — что он защищает: истину или ложь… Он выбрал слишком двусмысленный путь».
Терзает его и фаланга новых врагов. Взявшись за сочинительство «Ксений» Гёте, конечно, поступил неосторожно. Задетые его стихами величают его в ответных эпиграммах «козлом» «бараном» издеваются над его внебрачным сыном. Наконец, Коцебу, раздраженный тем, что его изгнали из общества, сколачивает в Веймаре партию против Гёте. Он предлагает устроить чествование Шиллера, но хочет придать ему столь помпезный характер, который непременно оскорбит Гёте. Гёте-министр официально запрещает празднество и, разумеется, поступает неразумно. Противники имеют теперь право упрекнуть его в зависти, хотя союз Гёте и Шиллера решительно опровергает подобные утверждения. Несколько молодых поэтов восхваляют «Мейстера» и сами становятся предметом нападок его врагов, как только делается известно, что Гёте оказывает им покровительство и собирается ставить их пьесы.
И тут впервые Гёте самодержавно посягает на свободу печати. Он не потерпит, чтобы в Веймаре бранили его правление. Когда на премьере шлегелевской пьесы в зале раздается смех, Гёте встает и грозным голосом кричит из своей ложи: «Не сметь смеяться» На другой день редактор газеты не сразу подчиняется требованиям Гёте, и тогда министр обостряет конфликт до крайности. Он грозит апеллировать к герцогу. «Я требую, чтобы меня либо немедленно освободили от должности, либо гарантировали на будущее от подобных безобразий. Я требую, чтобы вы представили мне свои объяснения до четырех часов дня. Ровно в четыре я доложу обо всем его светлости герцогу». Критическая статья в адрес Шлегеля не появляется. Но Гёте идет дальше. Он требует от Виланда, чтоб тот навсегда закрыл доступ в свой журнал Коцебу.
Непокорные иенские студенты устраивают в театре демонстрацию в честь Шиллера, и это приводит к самым опасным результатам. Летят послания иенскому факультету, сыплются выговоры профессорам, по поводу недостойного поведения их сыновей. В ответ раздается взрыв негодования, вызванный самодержавным поведением Гёте. Многие профессора переходят в другие учебные заведения, прославленная литературная газета переезжает в другой город. Коцебу торжествует, а знаменитому Иенскому университету грозит всеобщий бойкот.
И тут, чтобы отразить штурм, Гёте развивает самую лихорадочную деятельность. Он решил все сохранить и все загладить. Ведь он любит Иенский университет, как свое детище. Почти целых четыре месяца посвящает он ликвидации инцидента: лично обращается к различным специалистам, прося их сотрудничать в новой литературной газете, которую он с величайшим трудом организует в Иене на месте старой, переехавшей в Галле.
Несмотря на всю свою внешнюю любезность, Гёте держится сейчас гораздо более официально, гораздо больше как должностное лицо, чем в годы, когда служебная деятельность поглощала его почти целиком. Но теперь, когда он давно уже отказался от мысли, что эта деятельность носит некий идеальный, некий вневременный характер, он, очевидно, решил казаться таким, каким хочет его видеть «малый мир» то есть саксонским министром и немецким писателем. Для поведения Гёте столь же характерно чувство бюргерского достоинства, как и гениального презрения. Ему доставляет даже удовольствие, что художники и писатели вообще не знают его в лицо. Гельдерлин, застав его как-то у Шиллера, вовсе не понял, что перед ним Гёте. «А Гёте и звуком не выдал, что в нем есть хоть что-то особенное».
С трепетом и страхом входит к Гёте молодой Жан Поль. Он уже слышал, что каждое слово Гёте подобно ледяной глыбе. Вместе с Кнебелем дожидается он в приемной. Картины и статуи окончательно устрашают его. «Наконец входит Гёте — холоден, односложен, однотонен. Кнебель докладывает ему, что французы вступают в Рим. «Гм» — произносит бог. Лицо его дышит энергией и страстью, глаза излучают свет… Наконец не только шампанское, но и разговоры об искусстве, о публике и прочих предметах разгорячили его — и мы очутились у Гёте.
Он говорит не так цветисто и гладко, как Гердер, зато чрезвычайно определенно и спокойно. Чтение его подобно глубоким раскатам грома, сквозь который доносится еле слышный лепет дождя. Оно не сравнимо ни с чем! Под конец Гёте прочел — вернее, сыграл — нам свое великолепное, еще не напечатанное стихотворение. И тут из сердца его вырвалось пламя, пробило ледяную кору. Он пожал руку трепетавшему от восторга Жан Полю… Клянусь небом, мы все-таки полюбим друг друга».
Нечто похожее описывает и мать философа Шопенгауэра. Когда Гёте приходит в гости, он всегда молчалив, как-то смущен, покуда не узнает, кто именно здесь находится. Он строг, тщательно одет в черный или темно-синий фрак, причесан, напудрен. Но когда он оттаивает и начинает говорить, он играет всех, всех, о ком рассказывает. Вот почему и суждения о Гёте всегда так противоречивы. Впрочем, когда мы слышим скептические суждения, это только означает, что собеседник не сумел возбудить в нем интереса. «Гёте холоден и сух, — говорит о нем одна из дочерей госпожи Брентано, — он похож на франкфуртского виноторговца». А в то же время дочь Моисея Мендельсона рассказывает о нем с обожанием и в выражениях, преувеличенных до противного.
Больше всего Гёте любит теперь общаться с молодежью скромной, трудолюбивой. Он относится к юношам, как отец, хотя обращается с ними, как с равноправными друзьями. Кажется, что, общаясь с ними, он надеется омолодиться.
Фрица фон Штейна он просто не отпускает от себя.
Юный Фосс имеет право входить к нему в любое время. Облачившись в шлафрок, Гёте читает с ним Софокла. Он закатывает пир, когда Фоссу присуждают докторскую степень. Он гуляет и философствует с ним часами.
«Все, что сейчас растет и распускается, чужие ли это дети, мои ли собственные, — все равно, но это жизнь, не правда ли, это жизнь? Что же еще может напомнить мне, что я есмь и каков я есмь?»
Уже издавна преследовала Гёте мысль о нераздельности природы и искусства. В бесчисленных статьях, напечатанных в «Пропилеях» он излагает свою эстетику. Это эстетика созидания. Она чужда описательности и черпает свои представления непосредственно из самой жизни. «Человек не может ничего узнать и ничем насладиться без того, чтобы тотчас же не начать созидать нечто новое. Таково глубочайшее свойство человеческой природы».
Спекулятивная философия Шиллера всегда отпугивала Гёте. Может быть, именно поэтому пятидесятилетний поэт пишет свое философское стихотворение «Душа мира» в форме застольной песни; в нем он излагает свое мировоззрение.
Полярность, основное свойство Гёте, становится менее заметна в его бюргерское десятилетие.
Зато она с особенной силой выступает в новых сценах из «Фауста». Недаром Шиллер говорил, что двойственность человеческой природы — эта неудавшаяся попытка объединить божественное и физическое в человеке — составляет основную идею всего произведения. «Благодаря своему реализму, — добавляет он с гениальной прозорливостью, — черт оказывается прав перед рассудком, а Фауст — перед сердцем. Но иногда они, кажется, меняются местами, и тогда черт берет человечье сердце под защиту от Фауста».
Вообще в последние годы этого периода Мефистофель (который в «Пра-Фаусте» нигде не выступает как сила разрушительная, а всегда как равноправный партнер Фауста) бесконечно занимает Гёте. В беседе с молодым профессором истории, с Шиллером, Гёте все время становится на сторону Мефистофеля и осуждает Фауста. А в прологе к трагедии сам бог свидетельствует в пользу черта:
Да, в конце этого периода бури, бушевавшие в душе Гёте, утихли.
Уже редко упоминают окружающие о вспышках у него гнева. Только юный философ Шопенгауэр видел его как-то в такой ярости, что «даже радужка в глазу, у него побелела».
Ни в стихах, ни в прозе, ни в письмах — нигде, кроме великого проклятья Фауста, не раздается больше вопль души, алчущей воздуха, желаний, вселенной. «Лучше раз и навсегда отречься от всего, чем сходить с ума от бешенства изо дня в день» так говорит Гёте. Он чаще уходит в меланхоличное размышление, чем вспыхивает огнем. Разбирая материалы к своему «Учению о цвете» и боясь утонуть в бесконечных бумагах, Гёте утешает себя тем, что это занятие «является упражнением ума и заменой страстей».
Но среди грандиозного количества документов этих двенадцати лет (а они составляют двадцать томов с лишним) находятся и такие, в которых пылает зловещий огонь, огонь, по-прежнему горящий в его груди. «Меня пугает мысль писать мою трагедию, и я почти уверен, что даже попытка приняться за нее погубит меня».
Но впервые страх Гёте перед его трагедией приводит к благотворным результатам. Он решил преодолеть его и начинает медленно взбираться по склонам вверх, к зеленым вершинам бодрости и покоя.
Опасные бури Гётевой юности миновали. Сатира смягчилась. Юмор его стал бюргерским, благодушным. Он шлет веселое приглашение соседу Виланду, зовет его к себе, в новое имение: «Пусть возлюбленный брат во Аполлоне и Церере покинет свои дворцы и направит стопы свои в наши хижины, дабы откушать скудный юридическо-экономический обед». Он посылает Шиллеру комическое перечисление всех даров, которыми его одарили друзья в Иене за последнюю неделю — от ампутированной ноги до вареных раков. Шиллер все еще никак не может решиться отослать ему своего «Валленштейна». И Гёте шлет к нему курьера, который «представляет собой отряд гусаров с приказом, во что бы то ни стало, взять Пикколомини, отца и сына. По приказанию комиссии Мельпомены, созданной по высочайшему распоряжению специально на погибель Валленштейна. Гёте и Кирмс». Все чаще встречаются упоминания о светских вечерах, для которых придумал шутки Гёте. В своих статьях он нередко употребляет теперь слово «веселье» и, даже в критических обозрениях замечает, что автор должен был многое высказать веселее. Сочиняя стихи, он пишет пародию на обитателей города Мены. Но это только первые шаги Гёте на новом пути, ибо на этом пути обитает и эрос, вначале грубый, мужицкий. Самые соленые изречения Мефистофеля и Хора в «Фаусте» написаны, несомненно, в эти годы, да и строки из Вальпургиевой ночи тоже. Стихи, посвященные Христиане, полны чувственности, которая со времен «Римских элегий» стала еще более зрелой.
Неутоленной любви ты яд пленительный знаешь? Он освежает, и жжет, и, изнуряя, крепит. Этой атмосферой эротикой пропитаны и «Аминт», написанный на девятый год их сожительства, и третья редакция «Гёца», в которую вернулись многие пламенные сцены из первоначального варианта. «Алексис и Дора» пылают чувственностью и вожделением, а обе великие баллады — «Бог и баядера» и «Коринфская невеста» торжествуют, как пламя горящего в них костра.
Но вскоре юмор и эротика Гёте становятся мягче, тоньше. Самое дорогое и любимое остается навеки «неназванным и неизвестным, все, что каждый должен отыскать или создать сам».
Эта эволюция сказывается и в лирике Гёте. Сначала в ней звучит прозаический юмор. Потом песнь его взлетает ввысь, в голубизну. Новое, светлое счастье наполняет цепь веселых коротких стихов. Вот уже тридцать лет, как он не писал их. Да и те, что он писал в юности, конечно, не были ни такими зрелыми, ни такими нежными.
Тиха, древняя богиня, не очень-то заботилась в это десятилетие о Гёте. Зато она сделала чрезвычайно много для его потомков. Это она сохранила листок, более драгоценную историю его души, чем тысячи фолиантов. Листок написан в самом начале этого десятилетия, а нашли его только спустя сто лет среди неопубликованных бумаг Гёте. Клочок без начала, без заголовка, написанный от третьего лица, вероятно, из боязни выдать подлинный его смысл секретарю, которому он продиктован. Но в нем Гёте дал очерк своей жизни и деятельности вплоть до пятидесятилетнего возраста.
«Неизменно деятельное, обращенное как внутрь, так и наружу, поэтическое влечение к самовоспитанию всегда было центром и фундаментом его существования. Стоит только усвоить это положение, и все кажущиеся противоречия тотчас разрешаются сами собой. Но так как влечение это не прекращается никогда, то, чтобы не терзать себя бесплодно, он вынужден обратиться к внешнему миру и, будучи натурой не созерцательной, а практической, начинает влиять в этом направлении. Вот почему у него появилось ложное стремление к изобразительному искусству, к которому у него нет дарования, к деятельной жизни, для которой он недостаточно гибок, к наукам, для которых он недостаточно упорен.
Но, поскольку он относится ко всем этим областям творчески, поскольку он всегда и всюду настаивает на реальности материи и содержания и на соответствующей им форме, то деятельность эта, направленная даже по ложному пути, не осталась бесплодной ни с внешней, ни с внутренней стороны…
Что касается деловой стороны жизни, то он может быть полезен и здесь, если только за этой деятельностью следуют конкретные результаты, если она приводит к созиданию каких-то предметов или, по крайней мере, помогает что-то создать. Натыкаясь на препятствия, он не проявляет гибкости; он тотчас же уступает или сопротивляется изо всех сил, обнаруживает терпение или сразу все забрасывает. Все зависит от того, что диктуют ему в данную минуту его убеждение или настроение.
Он не мешает делаться ничему, что делается, ничему, что рождается в результате потребностей искусства или ремесла, и отводит глаза, только если люди поступают, повинуясь своему инстинкту, но похваляются, что действуют, преследуя определенные цели. С тех пор как он убедился, что при занятиях науками не столь важен самый предмет изучения, сколь образование ума, который им занимается, с тех пор ему стало важнее и милее то, что прежде казалось только случайным, неопределенным стремлением, — поэзия.
Впрочем, он не вовсе отказался и от первых двух направлений, но занимается ими только при случае. Характер его, характер поэтически-воспитующего начала, пусть определят другие. К сожалению, во всем, что касается содержания и формы, поэтическая его природа развивалась, преодолевая множество препятствий и затруднений; поэтому только позднее сможет он начать действовать до некоторой степени сознательно, тогда, когда уже минует пора его наивысшей энергии. Особенность, характерная для него — и для художника и для человека, — это его возбудимость и подвижность, благодаря которым он немедля заражается настроением окружающего, что и заставляет его либо бежать прочь, либо слиться с ним».
Такова кратчайшая биография Гёте, и, конечно, в ней не отражены те четыре кризиса, которые потрясли его в, казалось бы, самую мирную его, бюргерскую эпоху.
Первый из этих кризисов Гёте вызвал сам. Он задумал новую поездку в Италию. Вместе с Мейером собирается он написать большую работу об этой стране, начиная с характера ее почвы и кончая необходимостью итальянского искусства. Но в действительности, хотя он и не вполне это сознает, здесь кроется нечто другое. Он должен вторично бежать от мешающей ему светской суеты и от женщины тоже, которая сейчас, как некогда Шарлотта, символизирует душевное его состояние. Да, он замыслил вторичное бегство из Веймара и посылает Мейера на разведку. Однако проходят дни, а потом и годы. Военные действия надолго разделяют друзей. Гёте так отрешен от политики, что в имени молодого генерала, о котором он услышал впервые, ему чудится только предвестие бури, грозящей разрушить произведения искусства, и он надеется, что «картина, отправленная Мейером, счастливо избежала всюду поспевающего тирана Бонапарта». На всю современную историю Гёте взирает теперь только с одной точки зрения — отделяет ли его война от Рима, или он все-таки сможет проехать туда? Тем временем Мейер заболел и уехал на свою швейцарскую родину. И точно так же, как в первый раз, Гёте сообщает герцогу и Христиане, что собирается ненадолго уехать в Швейцарию, к Цюрихскому озеру.
Однако разноречивые известия по-прежнему заставляют Гёте метаться между отчаянием и надеждой. Наконец он решает ехать через Триест и Анкону, чтобы миновать долину По, в которой свирепствует война. Но неприятель уже взял Мантую, так что и эта дорога закрыта. Нетерпение Гёте принимает болезненный характер. Наконец поездка, кажется, осуществима. Гёте приводит все в порядок, назначает своим наследником сына, заставляет старуху мать официально отказаться от прав на его состояние, сжигает многочисленные письма, свидетельства своей жизни и любви, сожалеет об этом и уезжает. И сразу же чувствует себя в непривычном одиночестве. «Что значит в мои годы отправиться на далекую сторону» — вздыхает сорокавосьмилетний бюргер.
Какой тяжелой походкой приближается он к стране, в которую мчался десять лет назад, когда, так стремительно, перелетел через Бреннер, когда восхищенный взгляд его с благодарностью останавливался на каждом плоде, на каждом женском платке, на каждом голубом утре! Сейчас он много недель проводит с Мейером на Цюрихском озере, собирая все, что только можно собрать окрест. Два чудака в глухом швейцарском селе, чего-то там изучая, размышляя, все что-то собирая. Только изредка, например, на Рейнском водопаде, вдруг что-то рвется из глубин его души.
Вот он снова стоит — последний раз в жизни на Сен-Готарде. И снова его волнует символическая граница, которая пролегла между двумя странами, языками, климатами — между двумя мирами. Он принадлежит к обоим, и хотел бы принадлежать им еще больше. И снова — в третий раз! — он поворачивает с Сен-Готарда обратно.
С войной сейчас как будто поутихло, он может беспрепятственно ехать — другие ведь едут. Война вовсе не решающий повод для его возвращения. Так почему же с самого порога Италии Гёте возвращается в третий раз?
Да потому, что он супруг и отец и его тянет обратно. В первый раз он бежал от Шарлотты, теперь его влечет к Христиане. И не потому, что он любит ее сильнее, а потому, что он счастлив в этой любви. «Если ты отправишься в Италию, — пишет ему Христиана, — или куда-нибудь еще надолго и не возьмешь меня с собой, мы тогда вместе с Густлем усядемся прямо среди дороги, потому что я готова скорее сносить ветер и непогоду… чем снова так долго жить без тебя».
Голос этот трогает поседевшего Гёте. «Что касается опасностей, то я смело могу ехать в Италию, — пишет он Христиане, — но я не в силах уехать так далеко от вас. Мне хочется быть с тобой, пожелать тебе доброго утра и доброй ночи в нашем зеленом алькове, получить завтрак из твоих рук… Тяжелое это дело — уехать, почти то же самое, что умереть». Он и Шиллеру пишет, что спокойно уехал бы, если бы «некоторые мысли» не удерживали его дома. Стихотворение «Аминт» которое он сочиняет сейчас, — свидетельство его колебаний между севером и югом. Так миновал его первый кризис.
Вскоре наступил второй. Впервые за двадцать лет Гёте заболел, и почти смертельно. Великой и жестокой болезнью называет он свой недуг. У него воспаление почек, столь обычное для людей пьющих. Гёте мечтает иметь такие почки, как «здоровяки русские, которые пали под Аустерлицем». Катастрофа надвигалась постепенно. Сначала он простудился во дворце, потом совсем расхворался. Это случилось в январе — месяце, которого он боялся всегда. Жар в течение целой недели, чувство ужаса, когда он вдруг потерял зрение, паника домашних, растерянность герцога. Христиана слышит, как он читает в бреду стихи, — вероятно, «Нисхождение в ад Спасителя». Он написал их, когда ему было шестнадцать лет.
Впрочем, даже во время болезни Гёте не прекращает своих научных наблюдений, на этот раз над самим собой: каждый день диктует для записей в дневник, как протекала болезнь накануне. На другой день после кризиса он продиктовал: «Ночь была тоже очень беспокойна. Высшая точка. Утром в восемь заснул, спал три часа, судороги прошли, зрение вернулось на одну треть» Первое, чего он потребовал, была музыка. И в первых его письмах тоже, словно звучит музыка, он опять дышит, видит и быстро нащупывает сотни нитей, связывающих его с жизнью. «Ни одна не оборвалась, мысль работает, как встарь, и новое произведение как будто уже поджидает в углу».
И вот оно выступило оттуда. Старая поэма его юности, казалось обреченная остаться навеки грандиозным торсом. Сейчас она энергично зашевелилась, пробивается на передний план, наполняется новой жизненной силой. Словно благодарственная жертва за побежденную смерть, «Фауст» таинственным образом соединил обе болезни Гёте, грозившие ему гибелью. Первая болезнь заставила девятнадцатилетнего скептика взяться за мистические книги и элементы веры и суеверия слились в первоначальном образе Фауста. А вторая увела пятидесятилетнего реалиста назад и позволила ему продолжить монолог Фауста, который оборвался тогда на столь раздирающей и диссонирующей ноте. Без этих сильнейших физических потрясений вряд ли возникла бы грандиозная поэма и вряд ли была бы завершена.
Даже четыре года спустя, уже в год Шиллеровой смерти, Христиана пишет, что Гёте «и часа не бывает здоров». Все время повторяются полосы, когда, кажется, что он умирает… Припадок случается обычно раз в месяц, сопровождается страшными болями, и каждый раз Гёте вынужден слечь. В этот год слег и Шиллер, чтобы больше не встать. Прежде, когда Шиллер болел, Гёте всегда служил ему опорой. Уже одно присутствие Гёте казалось Шиллеру призывом к жизни. Теперь оба грустны, больны, постарели. Шиллер говорит, что организм его разрушен до самого основания. Они лежат или сидят в своих жарко натопленных комнатах, всего в двух шагах друг от друга. Они привыкли ободрять друг друга, а теперь вынуждены обмениваться только записками, словно арестанты. «Кажется, — пишет Гёте, — у меня, наконец, идет на поправку. Я жажду увидеться с вами». — «Может быть, — отвечает Шиллер, — если ветер стихнет, я отважусь завтра выйти и навещу вас».
Болезнь Гёте постепенно идет на убыль. Зато Шиллеру делается все хуже. Гёте навещает его ровно за неделю до его смерти. Шиллер собирается на спектакль в театр. Гёте чувствует себя плохо. Они выходят вместе. Гёте в последний раз прощается с Шиллером. Через несколько дней, он посылает ему отрывок из своего «Учения о цвете». «Желаю вам скорейшего выздоровления» — пишет Гёте. Но обоим становится хуже. Христиана боится за Гёте. Шиллер работает лихорадочно — и вдруг теряет сознание.
Он умирает. Никто не решается сказать об этом Гёте. У Мейера слова не сходят с губ. «Вижу, — замечает Гёте, — что Шиллер очень болен». Христиана говорит, что у него был глубокий обморок, и притворяется, что заснула, чтобы ничего не сказать. Утром Гёте говорит: «Не правда ли, Шиллеру вчера было очень плохо?» Христиана всхлипывает. «Он умер?» — твердым голосом спрашивает Гёте.
И плачет. О жалких похоронах Шиллера он так ничего и не узнал. «Я думал, что я потерян, а потерял друга и вместе с ним половину собственной жизни. По-настоящему, я должен начать новое существование, но в мои годы это уже невозможно. Живу только текущим днем и делаю самые неотложные дела» — пишет Гёте.
Но как только он начинает думать, какие почести воздать умершему, он сразу оправляется от пережитого потрясения. После непродолжительной депрессии к нему быстро возвращаются утраченное здоровье и энергия.
И тут в ближайшие годы разражается новый кризис. Происходит крушение общественного порядка, которое, кажется, грозит раздавить и погрести под собой и его. Но вместо этого Гёте наполняется юношеским жаром. Удивительным образом скрещиваются и переплетаются теперь нити его личной и общественной жизни.
Христиана, возлюбленная, мать и хозяйка, в последние годы становится его сиделкой. Отношения их мало-помалу изменились. Стареющий, больной, все более одинокий человек — ему уже почти шестьдесят — находит поддержку в здоровой, бодрой женщине, которой едва минуло сорок. Эрос отступил на задний план, и место его заняла Тиха. «Спасибо тебе за всю любовь и преданность, которую ты выказала мне в последнее время. Желаю, чтобы тебе всегда было хорошо; я же буду делать для этого все, что от меня зависит» — пишет Гёте Христиане в лето после смерти Шиллера. Это лето он проводит в Карлсбаде, Христиана — в Лайштедте; в сентябре оба возвращаются в свой веймарский дом.
И вдруг всю страну объемлет ужас.
Победоносные армии Наполеона наступают на Среднюю Германию. Многие бегут. Гёте не трогается с места, даже рукописи свои не переправляет никуда. Кажется, он подобен Дантону, с которым его связывает гордое презрение к человечеству. Кажется, он думает: они не осмелятся! В положенный час, как всегда, он велит начать спектакль. Актеры не хотят играть — театр почти пуст. Гёте входит в свою ложу и дает знак поднять занавес. Дрожащими голосами актеры поют арии из дурацкой оперетки. Наконец со сцены объявляют спектакль, который состоится завтра.
Завтра — 14 октября 1806 года.
Под Иеной разыгрывается битва, которая меняет ход мировой истории. Пруссия разбита, с ней заодно и герцог Веймарский, теперь опять генерал прусской службы.
Гёте слышит гром пушек, в город врываются беглецы, театр превращен в лазарет, французы приближаются. Вечером без боя они берут беззащитный город. Никто не знает, куда девался герцог. Герцогиня-мать, ее двор и великое множество чиновников сбежали сразу же после сражения у Заальфельде. Только правящая герцогиня Луиза и полномочный министр Гёте остаются на своих постах. На карте стоит его жизнь, ибо Наполеон поклялся уничтожить герцога и вместо сбежавшего Карла Августа прекрасно может схватить его министра.
Сообразуясь с создавшимися обстоятельствами, Гёте высылает сына и секретаря с вином и пивом навстречу французским гусарам, въезжающим в город через Фрауэнтор, а сам с неприятельским офицером отправляется во дворец. Неизвестно, отрекомендовался ли ему молодой офицер. Это сын Лили, состоящий на службе у французов. Враги назначают комендантом города некоего уроженца Пфальца, который учился в Иене. Тот посылает записку Гёте: «Прошу господина гофрата Гёте не тревожиться.
По приказанию маршала Ланна и из уважения к великому Гёте нижеподписавшийся комендант города употребит все средства, имеющиеся в его распоряжении, дабы обеспечить безопасность господина Гёте и его дома».
На постой к Гёте назначают маршала Ожеро.
Однако вместо маршала в дом вваливаются шестнадцать эльзасских кавалеристов; шумные, усталые, они требуют еду и питье. Кроме того, во дворе гётевского дома собираются покинувшие свой кров горожане, которые, словно бы во храме, ищут спасения у своего поэта и министра. Христиана без передышки раздает еду, платье, предоставляет убежище, кров, расставляет сорок кроватей; скатерти идут в дело вместо простынь.
Глубокой ночью раздаются удары прикладами о парадную дверь.
Два стрелка, парни из так называемой «гвардии ложки» вооруженные до зубов, требуют, чтобы их впустили. Но те, что расположились в доме, вовсе не хотят их впускать. Стрелки рвутся в дом. Наконец секретарь Ример отворяет двери, приносит им еду и выпивку. Однако стрелки требуют, и во что бы то ни стало, хозяина. Гёте, который до сих пор оставался в своих комнатах, появляется в шлафроке, со свечой и спрашивает, чего им надобно. Разве не получили они все, чего желали? Вселяющий почтение облик Гёте, очевидно, внушил уважение даже этим молодцам. Они молча наполнили вином бокалы и попросили его чокнуться с ними. «Он выполнил их желание, — сообщает Ример, — и тотчас же удалился». Однако не успел он уйти, как оба стрелка, опьянев от битвы и вина, начали скандалить еще сильнее. Они требуют кроватей, но кроватей больше нет, и они врываются в спальню Гёте, угрожая ему оружием. Они готовы убить его, эти пьяные солдаты, явившиеся к нему ночью прямо из битвы под Иеной…
Но тут Христиана взбегает по лестнице, ведущей из сада, и бросается между Гёте и солдатами. Со сверхъестественной силой, которую ей придала опасность, она вышвыривает их из комнаты и запирает дверь на засов. Ругаясь и спотыкаясь, летят пьяные кувырком по широкой итальянской лестнице тихого дома и бросаются на еще не смятые постели, приготовленные для маршала и — его приближенных. На рассвете приходит адъютант и прогоняет пьянчуг ударами сабли.
Во время короткой стычки Гёте стоял недвижимо, словно тяжко больной. Но наутро кризис миновал, и Гёте превратился в сплошную энергию. В ближайшие дни маршалы французской революции, заботясь о безопасности немецкого поэта, выдали ему охранную грамоту, в которой значилось, что Гёте «человек знаменитый в полном значении этого слова». Денон, генерал-директор парижских музеев, который сопровождал Наполеона в походах и знал Гёте еще по Венеции, оказался теперь его гостем и тотчас же заказал для себя портреты Гёте и Шиллера.
Тем временем Гёте печется о своих друзьях.
Он отправляет в Иену список из двенадцати имен и просит расписаться на нем всех, кто еще не бежал. «Скажите мне, чем я могу вам служить, — пишет он Мейеру. — Сюртук, жилет, рубашку — все пришлю с удовольствием. Может быть, вы нуждаетесь в продуктах?». И еще некоторым друзьям: «Мы живы» Кнебелю он посылает вино, другим — деньги, герцогу пишет множество писем — и тотчас же рвет их. Наконец, через несколько недель, он отсылает письмо, написанное в самом непринужденном тоне, совсем как в давно минувшие дни. Нисколько не формальное, нисколько не педантичное, так вперемежку обо всем, что нужно знать герцогу: и о том, что резиденция его в целости и сохранности; и о том — а это особенно важно для Гёте, — что парк нисколько не пострадал; и о том, что люди оправились от первого испуга и уже опять обнаглели. Гёте настоятельно просит Денона позаботиться об Иене, ибо, спасая Иенский университет, он спасет труд, которому Гёте отдал большую часть своей жизни. Настроение и тон всех его писем чрезвычайно приподнятые. Париж явился к Гёте. Империя у него в гостях. Ситуация кажется ему чрезвычайно интересной. Впрочем, как и в самые спокойные времена, он аккуратно ведет свой дневник. Никогда не кажется он столь комичным со всем своим педантизмом, со всей своей мелкобуржуазной важностью, как в дни битвы при Иене. Просто невозможно поверить, что каждая из записей следует непосредственно за событиями. Можно подумать, что Гёте хватает огромными щипцами добела раскаленные часы истории и, дабы обезвредить их, погружает в холодную ванну своей биографии. «14 октября. Рано утром канонада под Иеной, затем битва у Кетшау. Бегство пруссаков. В пять часов вечера ядра пробили городские крыши. В 6 1/2 вошли стрелки. В семь — пожар, грабеж, ужасная ночь. Наш дом сохранился благодаря мужеству и счастью… 15-го. Маршал Ланн на постое. 16-го. Ланн отбыл. За ним прибыл маршал Ожеро. В промежутке величайшее беспокойство… Обедал с маршалом. Множество знакомств. 17-го. Маршал Ожеро отбыл. 18-го. Приезд Денона. С Деноном у герцогини. Дома. Поздно вечером при дворе… 19-го. Венчание».
«В эти дни и ночи, — пишет Гёте придворному пастору, — во мне окончательно созрело давнишнее мое намерение: я хочу вполне и публично признать своей женой маленькую мою подругу, которая так много для меня сделала и которая и в эти часы испытания была со мной… Пришлите немедленно ответ с моим посланцем, если он вас застанет дома. Пожалуйста! Гёте». Разве Ромео, бросившийся с просьбой к монаху Лоренцо, спешил больше? Но, может быть, этой спешке способствовал маршал Ожеро. Говорят, это он посоветовал Гёте воспользоваться всеобщим замешательством. Кроме того, отсутствовал герцог, у которого полагалось испрашивать разрешения. Как бы то ни было, Гёте приказал выгравировать на обручальных кольцах дату того дня, когда едва не погиб вместе со своим герцогом и своим государством, которому он так долго служил.
В первое воскресенье после битвы при Иене Гёте обвенчался с Христианой в ризнице дворцовой церкви, на девятнадцатом году их совместной жизни. Свидетелями при бракосочетании были семнадцатилетний сын и его воспитатель.
Друзьям дома и деловым знакомым Гёте представил свою жену со словами: «Она была моей супругой всегда». Герцог и Кнебель прислали ему дружеские письма. Некоторые дамы неожиданно открыли, что Христиана отнюдь ничуть не хуже, чем все другие. Обращаясь к одной из местных аристократок, Гёте сказал: «Представляю вам мою жену и свидетельствую, что с тех пор, как она впервые вошла в мой дом, я обязан ей только счастьем». Когда же в одной из газет появилось сообщение о том, что под гром иенской канонады Гёте обвенчался со своей экономкой, он в официальном порядке отослал номер газеты Котте, указав ему на все неприличие подобной заметки. «Я недостаточно аристократичен для того, чтобы домашние мои обязательства заслуживали статьи в газете. Однако если уж о них упоминают, то полагаю, что отечество обязано со всей серьезностью относиться ко всем моим шагам, ибо я всегда вел серьезную жизнь, да и сейчас веду таковую».
Его спасла женщина. А женщинам он служил неизменно.
Всегда, когда Гёте сталкивался со смертью — когда она забирала его друзей или приходила за ним, она вселяла в него новые жизненные силы. И теперь он тотчас же берется за работу: отсылает Котте рукописи, с которыми так долго медлил и без которых нельзя выпустить последние тома его сочинений. «Дни нерешительности и часы, когда мы прохлаждались, уже миновали, и мы льстим себя надеждой, что закончим наши опыты и выполним все, что задумали».
Это новые звуки, не правда ли? Пламенное дыхание быстро мчащейся жизни захлестывает нерешительного, медлителя, бюргера. Кажется, Гёте подразумевает вовсе не только фрагменты своих сочинений. Он предчувствует, что под исполинским натиском жизни родится новое, исполинское его творение. Долгое странствие по плоскогорью окончено. Гёте подошел к величайшей своей эпохе.
«Только человек, наделенный особой чувствительностью, может стать самым холодным и самым твердым. Он вынужден облачаться в твердый панцирь… Но панцирь этот часто становится ему в тягость».
Книготорговец Фроман. — «Пандора». Цахария Вернер. — «Сонеты». — Минна Херцлиб. — «Избирательное сродство». Карлсбад. — Любимец женщин. — Сильвия. — Война. — Аристократия. — Частые разлуки с семьей. — Гости. — Цельтер. Музыка. — Бетховен. — Клейст. — Романтики. — Каролина Ягеман. — Взгляд назад. — «Поэзия и действительность». «Учение о цвете». — Символисты. — Смерть Виланда. — Полигистор. — Олимпиец. Бонапарт. — Встреча с Наполеоном. Против войны и национализма. — Крушение Наполеона. — В Богемии. — Геология Китая. — «Шекспир и несть ему конца». Гафиз. — Слава. — Виллемер. — Марианна. «Кроткие ксении». — Фрайгер фон Штейн. В Гербериюле. — Песни Марианны. Шестое бегство.
Висячая лампа под широким зеленым абажуром освещает стол, на котором разложены книги и рисунки, но собеседники, сидящие вокруг, остаются в тени. Лишь в другом конце комнаты, на фортепьяно, ярко горят две восковые свечи. В мягком золотистом свете вырисовывается девичья фигура. Кого же она напоминает ему? Неужели ее самое в детстве? Дух гуманности царит в доме Фромана, просвещенного иенского книготорговца. Здесь говорят не только о французских шпионах и контрибуциях, здесь погружаются в мир возвышенной тишины. На столе лежат стихи Петрарки. Хозяин дома только что издал их, хотя его великий веймарский друг и советчик, в сущности, против сонетов. Сейчас друг скептически берет в руки книжечку, листает, рассматривает набор, бумагу, переплет, а хозяйка тем временем наливает ему чай.
Вот уже несколько недель, как Гёте опять живет в Иене и с удовольствием проводит время в доме Фромана. Все длиннее становятся ноябрьские вечера, а в короткий день ему не хватает света, воздуха. В недолгие светлые часы между лабораториями, библиотекой и прогулками со старым Кнебелем не успеваешь доделать всего. В туманные утра и вечера он быстро ходит взад и вперед по своей маленькой комнате во дворце. Здесь он работает, ест, диктует статьи, отчеты, письма. Вкусная еда, удобная постель, услуги, которыми избалован стареющий человек, большие парадные приемные, разнообразнейшие коллекции — ничего этого у него в Иене нет. А все-таки только здесь покой и сосредоточенность. Только здесь ни двора, ни театра и, прежде всего, семьи. Поскорей бы миновал самый короткий день в году — великий его враг! Тогда можно будет вздохнуть вольнее и спокойно дожидаться все еще далекой весны…
Тихо звучит пассаж, исполненный на фортепьяно.
Все умолкли и поворачивают кресла. Что она сейчас споет? «Лесного царя» — думает Гёте, услышав первые звуки голоса, и мелодические волны окутывают его облаком минувшего… Неужели прошло уже двадцать пять лет с тех пор, как мы разыгрывали пастораль в Тифуртском парке, и Корона пела эту песнь? Неужели всего только двадцать пять лет, а не много столетий, с тех пор как я, Петрарка, поклонялся прекрасной Лауре? Какой прекрасной стала девушка, так незаметно расцветавшая здесь! А ведь всего три-четыре года назад она была длинноногим ребенком в коротких юбочках. Впрочем, даже тогда она казалась мне маленькой девушкой, вот как сегодня кажется еще ребенком. Какой одухотворенный облик, всегда в белом платье, как мечтательно смотрят большие темные глаза на нежном, бледном лице! Полны тоски и мудрости, как ее таинственный глуховатый голос. Эти косы, обвивающие головку, не случайно так густы. Блестящие, черные, они свидетельствуют о страстях, еще не изведанных в восемнадцать лет. Этот точеный нос тоже станет когда-нибудь более дерзким. Вот открываются ее тонкие бледные губы, сейчас запоет старые мои стихи…
Душа девушки подобна матовому серебру, но все в ней юность и красота. Впервые за двадцать лет они волнуют пятидесятивосьмилетнего Гёте. Впрочем, когда ей было всего пятнадцать, его уже трогала нежная властность Минны Херцлиб, и, молчаливый наблюдатель, он много вечеров провел в доме ее приемных родителей, чтобы видеть ребенка.
С тех пор как пришли дни войны и смертельной опасности, с тех пор как вдали возникла фигура Наполеона, с тех пор как опыты, теория и полемика Шиллеровых времен, подобно странному воспоминанию, остались позади, — с тех пор Гёте окреп, раздался телом, в нем снова забилось желание жить и творить. Сегодня вечером эта девушка кажется ему предвестницей возвращающейся молодости.
Слишком поздно! Он может быть ей только отцом.
Ах, зачем вел он так долго такое скучное существование! Зачем спорил, придумывал! Все живут, действуют, движутся, и только наш брат сидит, вечно погруженный в мечты, и создает образы ушедших красавиц, которыми обладал так недолго. О Эпиметей! Настоящее! О вовеки неизведанное мгновение!
Прощаясь с девушкой и ее родителями, он решает впредь избегать дом, где ему грозят восторги и опасности. Действительно, он не приходит больше. Друзья удивляются. А он, очутившись в тесном своем жилище, не может уснуть. Без конца возвращается он к своим желаниям. Чувствует себя отвергнутым, старым, обреченным на отречение, а ему так хотелось бы обладать! Утром впервые после долгих лет, почти того не желая, почти без всякого плана, движимый одним лишь поэтическим чувством, свободно, как когда-то, Гёте садится и начинает писать. И вот какие стихи он пишет:
Он пишет каждое утро и за двенадцать дней, что не видит девушку, в которую влюблен, создает свою «Пандору». С этого великолепного фрагмента начинается музыкальное десятилетие Гёте. В нем начало новой его поэзии, рождающейся всегда из лично пережитого. Сейчас она взошла после пятнадцати засушливых лет.
В поэме на фоне величественного пейзажа поднимаются фигуры братьев, Прометея и Эпиметея, и их детей.
В «Пандоре» с еще большей силой, чем впоследствии в «Фаусте» поэт изобразил историю своих страстей и своих отречений. Гёте казалось, что его «Пандора» написана в манере Пуссена. Нам она кажется освещенной магическим светом, наподобие поздних картин Рембрандта.
Из мрака ночи медленно поднимаются фигуры братьев-врагов, которых Гёте вечно носит в себе. Они властвуют над обеими частями картины, как властвуют и над обеими половинами его души. Вечно деятельный Прометей, который в седой древности принес огонь людям, хвалит свое деяние:
А поэт Эпиметей все еще спит, и ему грезятся дары Флоры:
Прометей тихо приближается к спящему брату:
Поэт сам обитает в этих двух образах. Впервые благодаря сдерживаемой страсти обретает он здесь покой. Деятельный и грезящий! Только терпение объединяет обе половины его души.
Но где же Пандора, где сама красота? Неужели поэт не решится выпустить ее из царства сновидений? Эпиметей спит и вспоминает о былой своей любви. «Вернется ли она к нему опять?» вопрос, который мучает сейчас и Гёте. Пьеса должна бы, в сущности, называться «Возвращение Пандоры». Да, клянется себе поэт, да, она, его любовь, Пандора, вернется к нему!
Никогда еще со времен «Тассо» не выражал Гёте свою любовь в таких страстных, захватывающих стихах… Перед ним оживает образ девушки в белом платье, с темными глазами и волосами. И тут, словно греза, перед спящим отцом появляется дочь Пандоры — Эльпора:
Как нежно, как робко воссоздал он здесь хрупкий, парящий образ Минны! Но вдруг происходит нечто небывалое. Разрушая фантазии, порожденные его отречением, в дверь к нему стучится сама жизнь, и в грезящем пробуждается прометеевское мужское чувство.
Декабрь. Утро. В комнату к Гёте входит человек с лицом фавна — гениальный, раздвоенный, гротескный и романтичный молодой Цахария Вернер. Пьесы его облетели всю Германию. Они вызвали куда больше шума, чем все пьесы Гёте. Вернер дитя духа, которому Гёте останется чужд на протяжении всех восьми десятилетий. Но он приехал в Иену, только чтобы увидеть маэстро. Впрочем, он привез с собой также рекомендательное письмо к Фроману. В своей противоречивости Вернер кажется Гёте «интересным и даже приятным». На следующий вечер они вместе отправляются к друзьям.
Беспокойный, капризный, Вернер читает собравшимся свои стихи и сцены из пьес. Гёте слушает его с интересом. Для него Цахария — объект для изучения современной молодежи. Почти каждый вечер встречаются они у Фроманов. Неожиданно Вернер начинает сочинять сонеты и читает их тут же, прямо за столом. Постепенно сотрапезники заражаются от него — они принимаются сочинять тоже.
Пространство под висячей лампой превращается в ристалище, на котором разыгрывается состязание певцов. Но состязающимся нужен кумир для поклонения. Естественно, им становится Минна Херцлиб. Воспевая ее, Вернер слагает в ее честь сонет-шараду, в котором зашифровано ее имя.
Гёте, разумеется, понимает, что состязание это — состязание поклонников. Его охватывает вполне понятная ревность. Он проводит вечера в доме у девушки, деля время между стихами, музыкой и волшебным фонарем, и почти забрасывает свою «Пандору».
Но поэт уже вырвался из отречения. Юность и искусство освободили его. Гёте любит, Гёте сочиняет сонеты. И хотя вся любовная история, как указывается в дневнике, длилась всего две недели, от нее тянутся глубокие следы, ведущие вперед.
«Сонетное бешенство» — так называет Гёте охватившее его настроение. Образцом ему служит Петрарка. Но с гораздо большей страстью, чем итальянский поэт, он заключает, пусть только в сонетах, возлюбленную в свои объятия.
Порой в венке этих шедевров — всего их семнадцать, и под названием «Сонеты», они затерялись где-то среди прочих стихов в бесконечных томах собрания его сочинений — звучит и отцовское чувство: ведь она могла бы быть его внучкой. Поэт описывает свое долголетнее тайное ухаживание за девушкой:
Потом он снова отдается поэтической игре, заставляет любимую усомниться в серьезности, в тайном смысле его стихов:
Соревнуясь с Вернером, он тоже разлагает на составные части ее эротическое имя, он тоже прячет его в своих стихах и тоже зовет ее к себе.
И вдруг старого Гёте постигает участь, постигшая когда-то молодого. 17 декабря он еще у своих друзей, у любимой. Один только Кнебель знает, что завтра он уедет. Да, он бежит из Иены, как бежал и сорок лет тому назад, и тридцать, как бежал из Зезенгейма, из Лейпцига, из Вецлара, из Франкфурта, а в последний раз из Карлсбада, когда он бросился в Италию. Жизнь Гёте всегда строится на любовных катастрофах. На другой день он укладывается и исчезает не попрощавшись. «Внезапная разлука» так написано карандашом над стихотворением, которое пылает огнем. Впоследствии он включил его в свои сочинения под бледным заголовком «Прощание».
Он едет домой. Сейчас мы будем опять в Веймаре, опять министр, опять супруг и отец. И неизвестно зачем рассказывает он секретарю Римеру про свою любовь к Лили.
Но, увы! «Пандора» стала ему такой же чужой, как и ранние его стихи, которые, бывало, он создавал так, без труда, от случая к случаю. Но эрос уже проснулся в нем, и уснет он не скоро. Впрочем, из этой короткой зимней любви возникли не только драмы и сонеты. Она породила и еще одно произведение — роман.
В творческие декабрьские дни, которые Гёте называет «временем лентяйничанья», он задумал свое «Избирательное сродство», сперва, только как новеллу. В нем, в противоположность «Пандоре» и «Сонетам» где он вознес Минну Херцлиб на поэтическое небо, Гёте запечатлел земные ее черты.
Сироту Минну, дочь пастора, взяли на воспитание добрые Фроманы. «С детства она была здоровой, но духовно развивалась очень медленно. Ей нельзя было поручать длительной и напряженной умственной работы, в ней всю жизнь было что-то мечтательное… Всегда благожелательная, скромная, преданная, внимательная ко всем нуждам и ко всем невысказанным желаниям окружающих» Не правда ли, это портрет Оттилии из романа «Избирательное сродство»? Нисколько! Это портрет Минны, нарисованный ее названым братом. Точно так же, как Лотта из «Вертера» родственна Лотте Буфф, так же и Минна Херцлиб, безусловно, родственна Оттилии из «Избирательного сродства». А вторая героиня романа, Шарлотта, во многом списана с Шарлотты, которой Гёте, поклоняясь и обладая ею, служил всегда. С Шарлотты, из-за которой он то испытывал счастье, то страдал десять лет. Обе Шарлотты воплощают воспитующее начало, которое исходит от умных, бесстрастных, стареющих женщин. Подобно Шарлотте фон Штейн, Шарлотта в романе, тоже наделена способностью разрушать самые дерзкие планы, напоминая, «во что они нам обойдутся». И мы слышим голос бесплодно терзающей себя Шарлотты фон Штейн, когда Шарлотта в романе говорит: «Стоит только вспомнить, как многих людей мы видели и знали, и признаться себе, как мало значили мы для них, а они для нас. И как же становится тогда у нас на душе».
Когда, в конце романа, Шарлотта стоит возле своего мертвого ребенка, право, можно подумать, что это сама холодная госпожа фон Штейн. Когда она дает отставку капитану, человеку, которого любила, и поясняет: «Мы ни в чем не провинились так жестоко, чтобы заслужить наше несчастье, но мы не заслужили и того, чтобы быть вместе» — так и кажется, что эти слова поэт заимствовал из сотен писем, которые он получал в первые годы от своей возлюбленной.
Сам поэт в отличие от того, как это было во времена «Вертера» ни по характеру, ни по настроению нисколько не похож на героя своего нового романа. «Вертер» весь монологичен. Кроме лирики, это единственное монологическое произведение Гёте. В «Избирательном сродстве» в романе старости, Гёте, как и во всех своих произведениях, выступает не только как основной герой, но и как его антипод. Здесь, тоже как во всех произведениях Гёте, есть персонажи и похожие и не похожие на него. В каждом из них есть еще как бы некоторый излишек, который они берут вовсе не у него, а у других.
Вовсе не у Эдуарда, основного героя романа, а у его антипода, у капитана, широкая гётевская, нисколько не «прекрасная» рука. И именно этой гётевской рукой капитан чертит планы построек, прокладывает дороги в парке, составляет счета, сооружает стеллажи, линует ведомости. И этой же самой рукой он, в конце концов, сдерживает свое сердце, ибо решил сохранить покой любимой женщины и своих друзей. Образ капитана поэт мог увидеть, глядя на себя в зеркало. Но только это образ стареющего Гёте.
А вот Эдуард — тот моложе. Он молодой Гёте или отчасти Гёте. К нему, как и к молодому Гёте, вполне относятся слова: «Любовь его была безмерна. Он жаждал сблизиться с Оттилией, он стремился бесконечно поклоняться ей, одаривать, обещать». Так же, как Гёте, Эдуард вопрошает себя: «Если она меня любит, — а я верю, я знаю, что это так, — почему же она не решается? Почему не отваживается лететь ко мне, и кинуться в мои объятия? Она должна, она может сделать это». И так же, как Гёте, он говорит: «…Я пишу себе от ее имени нежные, доверчивые письма, и отвечаю ей, и храню эти листки». И, наконец, в одной смелой характеристике Гёте берет под защиту все поступки Эдуарда. «Я считаю Эдуарда, — пишет Гёте одному другу, — человеком бесценным, ибо любовь его беспредельна».
Только это чувство, ничто другое — тема романа, только бушевание страсти. Ни разу после «Вертера» Гёте не изображал ее столь обнаженной. Вот почему, невзирая на полную противоположность манер, в которых написаны оба романа, «Избирательное сродство» напоминает «Вертера».
А это первый, ярчайший признак того, что Гёте помолодел. На шестидесятом году жизни он создает произведение, посвященное страсти, которая и не грезилась ему с тех пор, как ему минуло двадцать пять. Слишком уж затянулся средний период его жизни, отданный исследованиям, опытам, «Земному духу». И сейчас он мстит запоздалым огнем, который будет сжигать его даже в последнее его десятилетие. Демон вырвался вновь и на первых порах является в самом фантастическом обличье. Шестидесятилетний Гёте с гневом отметает многое из своего прежнего мировоззрения: «Несчастный! — восклицает Эдуард в ответ на предостережения своего друга Миттлера. — От него требуют, чтобы среди ужаснейших физических и моральных страданий он принимал самые благородные позы, дабы снискать одобрение окружающих, и чтобы он умирал благопристойно, как гладиатор. Они на прощание наградят его аплодисментами» Разве не звучит в этом крике гневный протест против идеала абсолютной красоты, который некогда поэт проповедовал вместе с Шиллером? «Великие страсти подобны безнадежным болезням… А средства, которые могли бы от них исцелить, делают болезнь только еще опаснее. Страсти — это пороки и добродетели, только усиленные». Вот как толкует Гёте тему своего романа; и мы не понимаем ни его современников, которые объявили книгу безнравственной, ни потомков, которые заявили, что она содержит в себе апологию брака. Нет, книга написана в те годы, когда вокруг Гёте распалось множество браков. Развелась пожилая графиня Эглофштейн, старшая дама Погвиш. Каролина Вольцоген, Каролина Шлегель — весь мир разводится, и Гёте, когда к нему обращались за советом, вовсе не советовал не разводиться.
Правда, именно к этому времени относятся и другие слова Гёте. «Брак — начало и вершина культуры, — сказано в «Избирательном сродстве». Он смягчает душу дикаря». Но говорит это только второстепенный персонаж — Миттлер, а вовсе не герой романа и не его антипод. Да, в этот период Гёте, бесспорно, отрицает самый институт брака.
И все-таки время, в которое уместилась жизнь целого поколения, и, которое прошло между «Вертером» и «Избирательным сродством», неизбежно сказалось на внутренней теме романа. В противоположность «Вертеру» «Сродство» пропитано мудростью, и в этом нет ничего удивительного, как нет ничего удивительного и в том, что здесь, как и во второй части романа «Годы учения Вильгельма Мейстера» многое, в том числе, к сожалению, и расшифровка самого прекрасного из гётевских заглавий, делается несколько педантично. Гораздо более удивителен мистический элемент, который звучит в обоих романах, построенных на предопределении, на абсолютной несвободе воли, на понятии судьбы. Перед смертью Вертер тоже мог бы написать любимой слова, которые написала, умирая, Оттилия: «Даже если бы я сумела примириться с собой, враждебный демон, который получил надо мною власть, все равно не даст мне покоя».
Существует некое избирательное сродство, утверждает Гёте, которое обусловлено сродством и тяготением друг к другу не только определенных элементов, но и людей. Наш выбор не свободен, даже если сперва и кажется таковым. Закон страсти неумолимо притягивает друг к другу влюбленных с такой силой, что женщина даже в объятиях нелюбимого зачинает ребенка с чертами любимого человека.
«Есть явления, которые упрямо осуществляет сама судьба. И напрасно разум, добродетель, долг и все, что только есть святого, преграждают ей путь. Все равно свершится то, что кажется правильным судьбе и кажется неправильным нам. Сопротивляйся мы сколько угодно, она все равно поставит на своем». Слова эти принадлежат даже не Эдуарду. Они принадлежат Шарлотте — самой холодной и самой трезвой из всех четырех, и именно поэтому мы имеем право принять их, как конечный вывод из романа.
Свое трагическое «Избирательное сродство» Гёте придумал зимою, в мрачные и нервные иенские вечера. Написал же он его через полгода, в самые приятные летние месяцы, в оживленном, светском Карлсбаде. Первый вариант был закончен в семь недель, быстро, почти как «Вертер» и даже с еще более поразительной быстротой, ибо Гёте пишет, не закрывшись, как тогда, в комнате, а среди приключений, поездок, разговоров, среди сутолоки светской жизни, окруженный владетельными князьями и прелестными женщинами.
В этом году он неожиданно оказался в обществе женщин. На водах можно, по обычаю молодых людей, которым он никогда не следовал в юности, и выбирать и менять своих дам. Гёте пошел шестидесятый год, но никогда еще не был он в столь прекрасном настроении. Он действительно любимец женщин.
Они дарят ему розы, картины, обожают его, соблазняют. Они становятся его возлюбленными или сладостной его мечтой. Вслед за Минной Херцлиб в жизни Гёте появляется вереница женщин. Восемнадцать лет хранил он верность своей возлюбленной, в первый же год их формального брака он нарушил ее.
Вовсе не, как принято думать, с Беттиной Брентано. Эта дочь Максимилианы, которую во времена «Вертера» так недолго и страстно любил поэт, неожиданно приехала в Веймар. В те самые дни, когда он влюбился в Минну Херцлиб, Беттине минуло двадцать два года; и, хотя она называет себя «ребенком», вряд ли это соответствует ее возрасту. Она полна эстетического стремления к самопожертвованию, но нисколько не способна на него. Беттина всегда неестественна, всегда экзальтированна, чувственна и нисколько не способна на страсть. Сладострастно-набожная, сосредоточенная только на себе, она беспрерывно разыгрывает роль, хотя вовсе лишена наивности комедианта. Беспрерывно имитируя чувства и повадки дитяти, Беттина по природе своей антинаивна. Правда, она обладает поэтическим даром, и все-таки она нисколько не поэт. Она просто последний дурман-трава ложной романтики. И, может быть, поэтому бесчисленные буржуазные эпигоны романтизма в течение целых ста лет так цеплялись за Беттину, именно за нее. Для жизнеописания Гёте она не имела бы никакого значения, как не имела и в его жизни. Но она умудрилась издать «Переписку Гёте с ребенком» и так исказить его образ, как этого не удалось сделать даже злейшим его врагам. Необычайно сложному и закрытому характеру Гёте, Беттина сообщила как раз те качества, которых в нем вообще не было. Она сделала его романтичным, слащавым, выспренним. Только много позднее исследователям удалось доказать, что часть ее «Писем» просто фальшивка, а это поставило под сомнение даже рассказы о детстве и юности Гёте, которые якобы поведала ей его мать.
Сначала Гёте терпеливо сносил бомбардировку посланиями, подарками, объяснениями, которую вела по нему Беттина. Но «ребенок» хочет стать возлюбленной, а вот это ей не удается никак. Вероятно, он разгадал ее после первых же истерических писем. «Эти несколько строчек, — пишет Гёте Христиане, которая терпеть ее не может, — больше повредили ей в моих глазах, чем все злословие твое и Виланда». Правда, он говорит Беттине «ты», как требует «ребенок», он пишет ей порой «моя славная девочка… Моя маленькая подружка… Твои письма напоминают мне время, когда я был, вероятно, таким же глупышом, как ты… В сущности, я ничего не могу тебе дать, потому что ты все сама создаешь и все сама берешь». Беттина выходит замуж за писателя-романтика Аахима фон Арнима и опять приезжает к Гёте. Чтобы как-нибудь отвлечь ее от любовных излияний, Гёте показывает ей комету в небе. «И тут уж ей пришлось сдаться, — пишет Ример. — Комета, точно розгой, отогнала своим длинным хвостом эту назойливую муху, этого старого, уже замужнего ребенка, которому так хотелось усесться на колени к Гёте».
Наконец Беттина публично оскорбила жену Гёте.
Она обругала ее самым грубым образом, и Гёте отказал ей от дома. И так как она не могла ему больше писать, она нашла себе новое занятие. Она достала его сонеты, посвященные Минне Херцлиб, пересказала их прозой и превратила в письма, которые Гёте якобы адресовал ей. Впрочем, у нее хватило ума опубликовать их уже после его смерти. Он же, повстречав ее однажды на водах, пишет: «Об Арнимах я и слышать не желаю. Очень рад, что избавился от этой помешанной». Даже в глубокой старости, когда Гёте так любил приукрашивать былое, он называл Беттину «несносным старым слепнем».
В это влюбленное карлсбадское лето Гёте занимают несколько женщин. Юная, породистая, сдержанная, с чрезвычайно немецким характером Сильвия Цигезар. Эту «доченьку» своего приятеля-помещика, проживающего под Иеной, он тоже знал с самого ее детства.
Встречается ему и зрелая, смуглая, очень интеллектуальная, очень светская, чистокровная еврейка, красавица Марианна Мейер, супруга его старинного друга Эйенберга. Влюблен он в обеих, но возлюбленной его стала Марианна. Впрочем, и это не доказано. Разумеется, он тотчас бежит от Марианны в соседний Франценсбруннер. Жене пишет, что принимает здесь ванны, лечится от ревматизма, — и проводит все свое время в обществе Сильвии. Она — его звезда, и он воспел ее в длинном стихотворении.
По вечерам он остается с ней вдвоем, ведет к боскету, они прогуливаются в окрестных садах, он читает ей отрывки из своего «Тассо». Через две недели Гёте уезжает.
Словно юноша, едет он звездной летней ночью обратно в Карлсбад к той, к другой. Но не успела Марианна уехать из Карлсбада, как он увлекся еще одной женщиной, тоже красавицей — фон Кнабенау, фрейлиной некой весьма расположенной к нему герцогини. Как и другим, читает он ей отрывки из своих последних новелл. Уезжая, дама посылает ему нежные строки в розовом конверте. А он ухаживает еще за четвертой — Полиной Готтер, подругой Сильвии.
Но проходит год-другой, встречи и письма становятся все холоднее, Марианна кажется ему слишком политичной, фрейлину он не навещает и только Сильвию, самую юную, самую свежую, никак не может забыть.
И вообще, он ведет в Карлсбаде жизнь самую рассеянную. Три лета подряд проводит Гёте на этом курорте; живет здесь месяца по четыре, вращается в великосветском обществе. В Веймаре он от этого общества бежал, визиты к другим немецким дворам ненавидел. В Италии жил в безвестности, общаясь только с художниками. Даже на фронте присутствовал лишь в качестве безмолвного наблюдателя. А теперь он ищет общества веселых, любезных, культурных, много путешествовавших людей. Без жены, без сына, сопровождаемый секретарем и слугой, живет он на курорте. Он занимает высокий пост и лишь так, между прочим, иногда сочиняет. Сочинительство продвигается сейчас очень успешно. Им руководит его гений. Его не терзает демон. Он любит, любим, он наслаждается жизнью.
Отголоски войны, которая в промежуток между битвой под Иеной и битвой под Лейпцигом беспрерывно сотрясает Германию, только глухо доносятся сюда, в вечно веселую Австрию, к ее целительным источникам, к богатым, обычно столь беззаботным людям. Перенаселенные курорты, расположенные вблизи от Вены, служат местом, где встречаются и изгнанные дворяне, и авантюристы, и спекулянты на военных поставках. Ненависть к французам здесь почти неведома. «Весь мир взбудоражен войной и политикой, а тут так спокойно — я и выразить тебе не могу, как мы счастливы, живя в мирной стране, среди приятных людей и с полным комфортом».
Гёте не приходится здесь экономить, не то, что дома. Австрийская валюта обесценена. Он не проживает и половины своих денег. Зато покупает для жены, для сына и для веймарских принцесс тьму всякой всячины: сервизы, фарфор, богемское стекло.
Впрочем, как ни заботится он о жене и сыне, все-таки он рад, что они так далеко. Однажды он вызвал Христиану в Карлсбад. Он безмерно благодарен всем, кто любезно ее принимает, однако очень скоро покидает их общество. Август тоже гостит у него, и тоже очень недолго. Он всегда относился к обоим, как отец, как очень снисходительный отец, и никогда ничего не требовал. Правда, он вспоминает теперь всю любовь, которую ему дала Христиана. «Ты украшаешь мою жизнь… Поэтому и я всегда потихонечку забочусь о тебе и о славном Августе… Наслаждайся же тем, что тебе послала судьба и что ты сама завоевала, и старайся сохранить эти дары. Мы же с тобой сохраним нашу любовь».
Она и держится за него, как за скалу. И когда пишет ему свое трогательное предостережение, то сквозь смех и слезы в нем звучит и веселость первых лет, и серьезность всей жизни: «Разве Беттина не приехала в Карлсбад, и фрау Эйенберг? А здесь говорят, что Сильвия и Готтер отправились туда же. Что же ты станешь делать со всеми этими глазками? Право, их чересчур много. Смотри не позабудь меня, твою старейшую, прошу тебя, вспоминай иногда и обо мне. Я же все равно буду твердо верить в тебя, пусть говорят что угодно. Ведь только ты один и думаешь обо мне».
В поисках культурного общения Гёте в Карлсбаде больше всего общается с дворянами. Прежде он не любил аристократию. Достаточно вспомнить скептическое отношение к знати, много десятилетий отвращавшее его от придворной жизни. Но в тот период немецкую историю делали почти одни дворяне. В Карлсбаде Гёте беседовал со Штейном, Блюхером, Меттернихом, с Лихновским, Лихтенштейном, Колоредо. Много недель подряд общался он с экс-королем Голландии, братом Наполеона, который занимал комнату рядом с ним. Встречался он с епископами и с герцогами, с силезскими и польскими графами, с прусскими генералами, с лордами и эмигрантами.
Позже, когда он четыре недели провел в Теплице, Гёте общался даже с молодой, красивой и болезненной императрицей австрийской.
Общаясь с этими людьми, Гёте как бы ведет спор с современной историей. Он никогда не мог постичь явлений природы без того, чтобы непосредственно их не осязать. И для того чтобы постичь современность, он тоже должен был непосредственно видеть и слышать тех, кто управлял ею. Этот интерес к сегодняшнему дню — результат его новой молодости. «Я провожу свои дни, словно только еще собираюсь начать думать, как мне жить в этом мире». Гёте жадно впитывает все происходящее вокруг, записывает тьму анекдотов. Как острый наблюдатель, он ловит приметы времени и извлекает из них сюжеты, как романист. Тут и остроты о Наполеоне, и анекдоты о евреях, и рассказ о похищении польских фамильных драгоценностей, и парижская непристойность. Именно в то время, когда немецкие писатели становятся все больше националистами, Гёте раздвигает рамки своих сюжетов, делая их все более интернациональными.
Однако даже когда Гёте вращается в кругах знати, ранг и титул не производят на него никакого впечатления. Несмотря на общительность, на рассеянный образ жизни, он и здесь строго распределяет свое время. В Карлсбаде он отделывается от общества филолога Вольфа, который пытается непрерывно составлять ему компанию, зато целых полдня проводит с безвестным специалистом по сельскому хозяйству, от которого узнал много нового. По шесть часов кряду гуляет он со стариком — любителем камней. Как и тридцать лет тому назад, ведет длинные беседы со специалистами-профессионалами о строительстве, о школах, о падеже скота. Исследует, откуда берется известь, которой так много в Богемии. Вычисляет, какую сумму могла бы сэкономить дирекция водолечебницы на пробках для бутылок с водой. Отмечает, что встретил в Эггере старого кельнера из Эрфурта. Записывает меткие слова своего кучера. Точно так же, бывало, он студентом записывал выражения крестьянки, которая носила его матери яйца.
Все больше отвыкает он от воздуха Веймара, порой заражавшего и Иену. Он счастлив оттого, что много месяцев не читает никакой немецкой литературы, совсем-совсем не занимается наукой, не видит газет, не ходит в театр. «И поэтому мне кажется, что я живу в золотом веке, в раю, где царит невинность».
Еще несколько лет назад он почувствовал унижение, когда к нему обратились как к автору чужого произведения. Теперь он смеется, услышав, что его посвящение к «Фаусту» толкуют как непосредственное выражение грозной и смутной современности. Он утешает себя тем, что «публика не всегда разбирается в стихах, а уж в поэте и вовсе редко». Кажется, ему весело играть в прятки с окружающими.
Произведения этих лет он пишет в самом радостном настроении. Он и раньше мало сочинял зимой. Теперь, хотя он ведет самую рассеянную жизнь, эти летние месяцы становятся его рабочим временем. Его преимущественно влекут к себе произведения эпические. Даже роман «Избирательное сродство», который он задумал еще зимой в Иене, впитывает в себя атмосферу легкости, царящей на курорте. Но проходит год, и когда в Иене он опять берется за скомпонованное уже произведение, работа двигается к завершению так же медленно и тяжело, как быстро и легко двигалась вначале в Карлсбаде. Но начало романа уже пошло в печать. Только это и заставило Гёте с превеликим трудом дописать его.
Настроение, владевшее Гёте в Богемии, с особой прозрачностью отразилось в рассказах, которые он включил потом в свои «Годы странствий». Это «Новая Мелузина», «Опасное пари», «Пятидесятилетний мужчина», «Смуглая девушка». Гёте без устали читает обществу свои новые стихи и новеллы, иногда даже незаконченные, улыбаясь, позволяет использовать себя как придворного и городского поэта. Он пишет неуклюжие вирши — приветствие австрийским величествам — и великолепные стихи от имени австрийской королевы. И, в то же время, прилежно изучает геологию Богемских гор.
Даже «Учение о цвете», которое наконец-то вышло из печати, и которому специалисты, одни вслух, другие потихоньку, дают уничтожающую оценку, неожиданно входит в моду в кругах знати. Гёте, который с железным упрямством защищал свое произведение от всех профессионалов, веселится от души, видя, в какое смущение повергает он своих новых кротких знакомых, вручая им два толстых ученых тома. Однако, прослушав его сообщение, они в голос твердят, что «при первой же возможности проштудируют это сочинение и сделают из него все необходимые выводы!..». Один дипломат заявил даже, что «сообщение Гёте — великолепно написанный манифест». «Некий философ объяснил мне подробнейшим образом, что я ввел субъект в область физики… Но больше всего меня удивил государственный деятель, который употребил весь свой отпуск на то, чтобы спокойно и не спеша прочитать мою работу… а затем сделал доклад о ней на сессии министерства. Как я слышал, его весьма забавляет то, что он доставил тьму хлопот господам специалистам».
И все это после того, как много лет Гёте задыхался под тяжестью человеконенавистничества и раздражения и осмеливался вольно дышать только в заботливо охраняемом им одиночестве и тишине.
Самое светлое, что ему принесло время его освобождения, — это завершение «Пандоры».
В первый раз дионисовское начало прорывается не только в созданных им образах, но и в самих ритмах, которыми он пользуется.
Так заканчивает Прометей, который сорок лет назад с такой гордостью говорил о людях.
Иена и Веймар, куда в эти счастливые годы Гёте все-таки вынужден возвращаться на зиму, неизбежно разочаровывают его. Впрочем, Гёте владеет искусством жизни. Он поддерживает огонь своего настроения даже в течение долгих зим. Первая уловка, к которой он прибегает, быть как можно чаще и как можно дольше в разлуке с семьей. Они живут в наилучшем согласии, но, как правило, на расстоянии. Он и Христиану приохотил к Иене. У нее там друзья, и он превесело играет с ней в жмурки. Как только он со своим секретарем оставляет Иену, чтобы ехать домой, ей приходится тут же вместе со своей молодой компаньонкой, которую он приставил к ней для декорума и развлечения, оставлять дом и ехать в Иену. И так продолжается до тех пор, покуда компаньонка Христианы и секретарь Гёте женятся. Переезды происходят быстро и весело. Никто не обижен, никто не опечален. «Таким образом, мы застаем свое гнездо во вторник свободным. Нам удобно, мы распоряжаемся своим временем в Веймаре, и все устраивается ко всеобщему благополучию».
Христиана по-прежнему домовита и полна благодарности. Хотя теперь она госпожа тайная советница и превосходительство, она по-прежнему без устали хлопочет о маленьких людях: вступается за писца, которого Гёте в раздражении уволил, крестит ребенка у поденщицы, убирает столовое серебро, когда Гёте уезжает из дому, и ест из оловянных приборов. Она рада, что ей не часто приходится появляться при дворе. Правда, Гёте принуждает ее бывать в обществе — и это его ошибка. Он просит ее делать визиты веймарским дамам, «пусть хоть на четверть часа». Он заставляет ее посетить нескольких лиц во Франкфурте и, единственный раз за все тридцать лет, обращается к ней с приказанием: «Это мое желание. Ты знаешь, я не люблю говорить: я требую».
Окружающие разделяют их больше, чем различие в характерах. Она не любит общаться с его друзьями, а он, тем более чужд, ее приятелям. В хорошем настроении он подшучивает над ее беспокойным нравом и пишет ей грациозные стихи:
Но страсть к пляскам, на которую он добродушно взирал, когда ей было тридцать, теперь, при ее тучности, производит комическое впечатление. Ей стукнуло уже сорок три, а она все еще берет уроки танцев и трясется в коляске целых три часа, чтобы попасть в Иену на бал. Все свое время Христиана проводит со студентами и офицерами; и в городе начинают поговаривать, что гётевские дамы, словно коршуны, слетаются туда, где стоит армия. Когда же им приходится бывать вместе, ее приверженность к вину, к которому оба питают одинаковое пристрастие, не очень-то хорошо влияет на его настроение.
Чем более бурную и нездоровую жизнь ведет Христиана, тем больше утрачивает она интерес к его нуждам. Все чаще и настойчивее приходится напоминать ей, чтобы она выполнила его тщательно перенумерованные поручения; «и чтобы не делала все в страшной спешке, которая ведет только к недоразумениям. К сожалению, это уже не раз случалось». Он «настоятельнейшим образом просит» регулярно посылать жаркое и вина в Иену. Напоминает ей о саде, о цветах, о поливке, ибо Христиана уже редко прикладывает к чему-нибудь руки.
И все-таки, взаимная приязнь продолжалась бы и дальше, если бы время от времени пути их, все-таки, не перекрещивались. Через два года после свадьбы Гёте герцогиня разрешает, наконец, представить ей на бале-маскараде его жену. Проходит час после этой церемонии, и супруга Гёте на глазах у всех усаживается за стол вместе со своей компанией. «Бурно веселясь, сидели они за столом, шампанское бросилось им в голову; пробки хлопали, дамы визжали, а Гёте, строгий и молчаливый, стоял в углу».
Сын растет. Чем старше он становится, тем больше отдаляется от него Гёте. Былая привязанность уже не соединяет их. На мальчика отец еще возлагал какие-то надежды. В студенте нет решительно никаких талантов; и, должно быть, странные мысли овладевают Гёте, когда он учит рисовать сына Кнебеля или вспоминает, как старательно он развивал способности в юном Штейне и в молодом Гердере. Человек такого грандиозного ума с гордостью записывает остроту сына или отмечает у себя в дневнике: «Сон Августа о золотой искре, которую он поймал рукой и выбросил в окно». Но когда он ищет хоть какую-нибудь искру в Августе, он натыкается только на тупость и мрак; и единственное, что его радует, это педантизм, который и в третьем поколении проявляется в нумерации писем да в изготовлении папок для бумаг.
А вообще Август тщеславный семнадцатилетний парень, то апатичный, то шумливый. «Не спи» прикрикивает на него уже в первом учебном семестре отец. В разговоре с Христианой он величает его маменькиным сынком. Зато сынок умеет превосходно ездить верхом, щеголять в роскошных жилетах, ценить шелковые чулки, выпрашивать у отца все новые пистолеты и красивую саблю, хотя он вовсе не офицер. Мать уезжает на воды, и отец просит ее подыскать какого-нибудь солидного человека, ибо «я настоятельно прошу тебя, не вздумай оставлять дом на Августа или на служанок. Это сулит нам очень большие неприятности».
Наконец он отсылает сына в Гейдельберг изучать юриспруденцию, хотя ему почему-то неприятно, что «сын будет заниматься профессией, которая не стала профессией отца». Впрочем, он утешает себя мыслью, что в юности и он больше разбирался в юриспруденции, чем в учении о цвете. Он шлет письма сыну, холодные и благожелательные, весьма безличные, часто довольно скучные, но никогда не говорит он в них о себе, никогда не подписывается отец. Зато вежливо поучает сына и безуспешно разъясняет ему, почему требует от него бережливости или почему желает, чтобы Август затрачивал больше времени на свои письма, — они будут тогда разборчивее.
Ему часто приходится просить друзей извинить невежливость Августа. Иногда, в хорошем настроении, он выражает надежду, что «из мирового материала Август скроит себе сюртук и плащ по мерке, и это даст ему большое преимущество перед другими». Саморазрушительное начало в Августе еще не проступило наружу, а может быть, взгляд отца слишком затуманен, и он не видит опасностей, которые грозят разрушить его трезвые, практические расчеты. Вот было бы у Августа твердое положение! И Гёте посылает герцогу «верноподданническую просьбу, милостивое удовлетворение которой я приму с живейшей благодарностью, а отказ — с радостной преданностью». Гёте просит герцога ускорить производство Августа, и Август становится камер-асессором. Отныне он фигурирует в дневниках отца уже только как «асессор».
Проходит еще год, и Гёте выпрашивает у герцога официальную должность для сына, о чем «отец и сын снова верноподданнически просят вашу светлость. Они не упустят возможности доказать своей преданной деятельностью, что умеют ценить и чтить милостивое ободрение и величайшее доверие вашей светлости». Вот в таком раболепном и униженном тоне вынужден писать первый поэт Германии, министр, занимающий свой пост свыше тридцати лет, друг герцога и всей его семьи. Кажется, Гёте обречен нарушить основной закон своего одиночества, пожертвовав своей гордостью для сына.
Так это и продолжается. Расхождение между отцом и сыном растет. Свое творчество и свою сущность Гёте скрывает от Августа, как от чужого. Никогда не подпускает он его к своим произведениям, очень редко — к письмам, никогда не спрашивает, понравились ли они ему. Он заботится о сыне.
Это все.
Только в одном поступке Гёте проявилось нечто вроде родственной жилки. Когда сын подрос, он передал ему на хранение ненапечатанные свои стихи. Большинство из них посвящено разным людям и злободневным событиям. Как бы символически Гёте превращает сына в своего архивариуса и душеприказчика.
Зато он чрезвычайно умно делает все, что может, в интересах близких. Когда Котта, пользуясь своим правом, хочет издать еще новое, совсем небольшое собрание сочинений Гёте, тот заявляет протест. Он пишет издателю одно из мудрых и в то же время сердечных писем, которыми некогда обезоруживал герцога, когда у них случались размолвки. В самых изысканных выражениях, с глубочайшим уважением и доверием Гёте грозит прекратить издание своей автобиографии, если ему не уплатят по 200 талеров за каждый том сочинений. И, разумеется, добивается заключения нового договора. Гёте согласен предоставить Мангеймскому театру своего переработанного «Гёца» но при одном условии: ему должен быть передан в качестве «бенефисионных» сбор с каждого третьего спектакля. Театр, поясняет Гёте, дает столь скудные доходы, что просто не хочется браться за перо или отдавать пьесу в переписку. «У меня лежит множество планов, готовых и полуготовых произведений, весьма значительных, но, вероятно, они будут лежать вечно, как окончание «Побочной дочери» или трагедия из времен Карла Великого… Теперь я предпочитаю всему роман, ибо он вознаграждает автора за все то, что на театре обращается к его невыгоде. Если бы мало-помалу спустить со стапелей все начатые работы, я мог бы закончить и «Брута», который заказан мне весьма высокопоставленным знатоком театра».
В очень преклонном возрасте умирает мать Гёте.
Он получает отцовское состояние, собранное дедом — дамским портным. Номинально оно составляет 50 тысяч марок. Но идет война, и реальная сумма означает гораздо меньше. Только этот растаявший капитал и получил от своих предков Гёте. Да и то на шестидесятом году жизни, когда уже не нуждался в нем.
Христиана становится все ленивее, все равнодушнее к хозяйству. А у Гёте в его творческий период больше свободного времени, он хорошо настроен, больше занимается своим домом. В дневнике Гёте несколько раз пишет о кусте можжевельника, который буря сломала в саду. Возвращаясь из своих путешествий, он привозит различные хозяйственные вещи: например, ящик, в котором лежит тысяча пробок. К этому времени относится записка, которую по праву можно назвать всемирно-исторической запиской мелкого буржуа. «Император Франции еще не проехал… посылаю тебе множество семян резеды, а семян анютиных глазок очень немного, они редкость. Прикажите очистить от сорняка землю за камнем и посейте там эту малость».
Гёте опять много времени проводит дома. Он занялся рисованием, только уже так, для забавы. Он пишет портрет Кнебеля. Иногда вечером они сидят за столом рядом. Гёте рисует и завидует другу, который предается любимому своему занятию — чистит канделябры. Август тоже сидит с ними и читает книгу, которую отец его читал сорок лет тому назад, — «Жизнеописание рыцаря фон Берлихингена». Иногда к ним приходит вдова Шиллера; он показывает ее мальчику свои монеты. В зимние дни он играет в вист с женой и однажды записывает в дневнике: «Разные занятия, чтобы убить время». Изречение уникальное, первое и последнее за все восемьдесят лет его жизни.
К столу он выходит редко, иногда разве к чаю, но в его прежде недоступном доме теперь толпятся гости. Зимою к обеду или по вечерам здесь сходятся друзья и посторонние. Ему особенно приятно, если приходят молодые герцогини или красивые актрисы. В старости, в общительнейшее время своей жизни, он живет, как жил в юности его Вильгельм Мейстер, — круг его знакомых составляют одни только люди знатные и актеры. Впрочем, старые друзья умерли, да Гёте и не хочется видеть старые лица. Он любит молодость и особенно женщин. От первых веймарских времен ему остался один только Кнебель. После смерти Шиллера они сблизились еще теснее. Фойта он всегда любил. Но Фойт, все-таки, значительно моложе, и, кроме того, невзирая на всю свою гуманность, он, прежде всего, чиновник.
Шарлотте фон Штейн скоро минет семьдесят. Она часто принимает у себя Гёте и часто получает от него письма, содержательные, но лишенные личного отношения. Они, очевидно, предназначены для всех придворных дам, ибо старая подруга служит удобным посредником между поэтом и двором. Он посылает ей также свои рисунки и шутливо пишет, что, «к сожалению, им присущи все его старые недостатки, но в них отсутствуют все его новые добродетели…». Он знает, что она улыбнется, читая эти слова. В благодарность она дает ему однажды цветок, словно знак старой любви; и каждый понимает, что думает при этом другой. Шарлотте неприятно встречаться с Христианой, но раз уж он «так любит эту маленькую тварь, я могу ему доставить разок такое удовольствие»… Через двадцать лет после разрыва! Ее ненависть вечна.
Но и Гёте раскрывает свое непреоборимо скептическое отношение к Шарлотте; он пишет Христиане об одной приятельнице — она занятна, но все-таки от нее всегда уходишь в каком-то раздражении. И тут же поясняет: «Совсем как когда бываешь на Акерванде» улице, на которой живет госпожа фон Штейн.
Зато в сердце и в мысли Гёте вошел новый друг. Это Цельтер. Правда, Мейер, фактически его референт по вопросам изобразительных искусств, остается его закадычным другом — молчаливым, услужливым, добрым. Но теперь рядом с ним появляется и другой референт — по музыке.
Музыка Цельтера давно привлекала к себе Гёте.
Но в еще большей степени заинтересовал его сам Цельтер, о котором ему рассказывал Шлегель. Профессиональный каменщик, дилетант без специального образования, Цельтер берет на себя руководство певческим кружком. Через несколько лет кружок этот превращается в певческую академию. В качестве парламентера города Берлина Цельтер ведет переговоры с французами. Он печатает статьи по музыке и пишет биографию своего учителя. При всем том он по-прежнему каменщик и, кроме пятидесяти подмастерьев, содержит еще жену и одиннадцать человек детей; среди них — своих пасынков. Но вот в каком гордом тоне обращается каменщик Цельтер к Гёте в самом начале их знакомства: «Ваша «Ифигения» меня убедила, что в совместной работе мы найдем друг друга, и, может быть, для того, чтобы никогда больше не разлучаться».
Получив это послание, Гёте немедленно приглашает Цельтера к себе. Визит длится пять дней, и Цельтер становится жрецом и слугою Гёте. «Благодарю господа и ежечасно преклоняю перед ним сердце мое за то, что, наконец, сподобился увидеть вас». Но и Гёте вполне оценил Цельтера. «Провести несколько дней с этим превосходным человеком доставило мне большую радость». «Вашей манере жить, пишет Цельтеру Гёте, — присуще воистину нечто прометеевское. Могу только удивляться и восхищаться вами. Будьте здоровы, дорогое, милое солнце, продолжайте греть и светить нам». Когда Цельтер сообщил Гёте о самоубийстве своего пасынка, Гёте написал ему в ответ: «Твое письмо, дорогой друг, явилось ударом, который заставил меня согнуться, ибо настигло меня в минуты, когда я был погружен в весьма серьезные размышления о жизни… На черном пробном камне смерти ты выдержал испытание, как самое чистое золото».
Цельтер становится посланником Гёте. Все, что делалось в те годы для пропаганды в широких кругах Берлина гётевских идей, делалось, прежде всего, благодаря Цельтеру.
Разумеется, не Цельтер пробудил в Гёте интерес к музыке. Но он ориентировал его в этом вопросе. Некогда Гёте нашел и завладел Гердером, Шарлоттой, Шиллером, Мейером, он нуждался в них для своего самовоспитания. Сейчас он нуждается в музыке, и он завладел Цельтером.
По примеру Цельтера Гёте создает у себя маленький хор. Несколько зим подряд, каждый четверг вечером, певцы репетируют у него в доме, а каждое утро по воскресеньям, выступают перед приглашенными. Позднее Гёте начинает посылать свой маленький хор в театр. Прежде, ставя драматические спектакли, он действовал как дирижер. Теперь, будучи дирижером, он выступает как драматург: раскрывает певцам содержание песни, настроение, определяет темп исполнения, упорно требует четкой дикции. Иногда Гёте оскорбляет пошлый текст песни, и он быстро сочиняет новые слова на старую и прекрасную мелодию. Так появляется «Жалоба пастуха». Сочиняет он и множество веселых песен. Иногда их кладет на музыку Цельтер, иногда ее наскоро придумывает кто-нибудь другой, специально для домашнего хора Гёте. В его доме впервые гремит «Ergo bibamus» и среди других голосов слышится сочный бас Гёте. Программа гётевских концертов, страстность, с которой он выпрашивает у Цельтера классическую и даже церковную музыку, абсолютное предпочтение, которое он отдает Баху, Генделю, Гайдну, Глюку и Моцарту, все обнаруживает музыкальные склонности Гёте, его музыкальную культуру. Живя в маленьком курортном городке, он часами слушает произведения семейства Бах, исполняемые органистом, и сравнивает фугу Баха с «математической задачей, темы которой так просты, а результаты так поэтичны». На музыку Глюка он уже очень давно (когда ему было всего тридцать) написал свою «Прозерпину».
Но с особой глубиной Гёте постигал Моцарта.
Это он ввел его музыку в Веймаре, это он всегда требовал исполнения моцартовских вещей. Уже в глубокой старости он постоянно сравнивал Моцарта с Рафаэлем и говорил, что «Фауста» можно переложить на музыку, только подобную музыке «Дон Жуана». «Дон Жуан» стоит совершенно особняком, и смерть Моцарта уничтожила надежды на то, что может появиться еще что-либо подобное».
Впрочем, когда старый Гёте мечтал о музыке к своему «Фаусту», подобной музыке к «Дон Жуану», ему грезился тот Моцарт, который был близок Бетховену. И какая ошибка судьбы, что Гёте и Бетховен повстречались, когда «демонический» период в жизни Гёте уже миновал.
Во времена «Пра-Фауста» молодой Гёте мечтал для своих стихов и видений о другом композиторе. Он мечтал только о Бетховене. В тот период Бетховен был близок ему, как брат. Даже очень облегченный отзвук бурного времени, трагедию «Эгмонт» простолюдин Бетховен воспринял со страстью необычайной. Но вот сорокалетний необузданный Бетховен, весь погруженный в свое пылающее мрачным огнем творчество, впервые встретился с шестидесятилетним Гёте.
Все, что удалось Гёте в течение целой жизни отвоевать у демона, все оказалось поставленным под сомнение, как только он увидел лик Бетховена, как только слуха его коснулись роковые бетховенские звуки. Случись эта встреча в середине жизни Гёте, поэт грозно крикнул бы чужому пришельцу: «Ступай, не трогай мои чертежи». Хаос, из которого Гёте вырвался с таким трудом, борьба Прометея, которая осталась уже позади, все-все вернулось опять, как только явился Бетховен. Перед Гёте возникла собственная молодость, которую он сурово клял эти годы. Едва взобравшись победителем на вершину пути, едва выйдя в свет, в ясность, он повстречал грандиозного демона. И понял его. Впрочем, он чувствует себя забронированным против любого соблазнителя. Ведь он встретил Бетховена в самый моцартовский свой период. Отсюда его восторг перед гением Бетховена, отсюда и его отчужденность.
Как только Гёте узнал, что Бетховен написал музыку к «Эгмонту» он заявил, что поставит его в Веймаре. Он надеялся услышать исполнение на рояле самого Бетховена и «выразить искреннюю благодарность за все хорошее, что вы уже сделали для меня». Наконец он услышал эту музыку, правда в другом исполнении. Сомнения нет, ее написал грандиозный гений.
Проходит год. В Теплице в те самые дни, когда Гёте ежедневно видится с императрицей, окружен князьями и красавицами, когда он «осторожен, как старец, оживлен, как юноша» он встретился с Бетховеном. С ним он проводит дня три-четыре, посвящает ему свои вечера, выезжает с ним, слушает его игру.
Вот он сидит в маленькой голой комнатушке, снятой внаем, помолодевший, красивый, богатый, раскрепощенный, властелин жизни, господин своего демона. А рядом с ним, за скверным клавесином, взлохмаченный, бледный, больной, полуглухой Бетховен; пальцы его, буйствуя, мечутся по клавишам. За окном летний вечер. Колеблется пламя свечи. «Он играл изумительно. Более сосредоточенного, энергичного, проникновенного артиста я не встречал никогда».
Мы не знаем, что играл в этот вечер Бетховен.
Разумеется, не вокальную музыку, не мелодии на слова Гёте. Но позднее бетховенская стихия вторглась и в творчество Гёте, и он слушал ее пораженный. В музыке Бетховена на свои песни он узнал свое отражение — увеличенное, сгущенное, с примесью чего-то, что он не может определить. «Бетховен совершил настоящее чудо» — говорит Гёте. Но этого чуждого, мрачного короля он почитает, покуда гостит в скалистых бетховенских горах. Стоит Бетховену ступить упрямой ногой в благоустроенное царство Гёте, и старый повелитель боится, как бы пришелец не разбил здесь вдребезги все.
Поведение и манеры Бетховена, разумеется, должны произвести самое отталкивающее впечатление на Гёте. «Его талант, — пишет он Цельтеру, — поверг меня в изумление. Но, к сожалению, он совсем дикий человек. Конечно, он совершенно прав, считая наш мир отвратительным. Однако это не делает его приятнее ни для себя, ни для других. Глухота его тем тяжелее, что она портит его характер. Бетховен и без того молчалив, а из-за болезни молчалив вдвойне». Все это прекрасно понимает и сам Бетховен: «Какое терпение проявил со мною великий человек! Как много он для меня сделал» И тут же присовокупляет: «Гёте любит воздух двора больше, чем пристало поэту».
Вот из этого впечатления Бетховена Беттина и соткала после своего разрыва с Гёте пресловутую легенду о совместной прогулке. И потому, что эта легенда вполне отвечает распространенному фальшивому портрету Гёте, она причинила столько зла. Правда, Беттина опубликовала свой рассказ только спустя двадцать лет и только после смерти обоих. Но немецкий читатель с радостью предпочел «демократа» «придворному» и целых сто лет противопоставлял «свободного» Бетховена «раболепному» Гёте. Только позднее исследователям, опираясь на даты, указанные Беттиной, удалось доказать, что вся эта сцена выдумана с начала до конца.
Через одиннадцать лет после знакомства с Гёте Бетховен разослал немецким дворам и меценатам подписной лист. Ему нужны были деньги, чтобы издать «Торжественную мессу». Обращаясь к Гёте, Бетховен сопроводил свою просьбу трогательными и смиренными словами: «Я много написал, но почти ничего не заработал. Теперь я не один. Вот уже более шести лет я отец мальчика, сына моего умершего брата. Несколько слов от вас осчастливили бы меня». Когда письмо старого Бетховена пришло в Веймар, престарелый Гёте лежал при смерти. Врачи заявили, что он безнадежен. Сама судьба закрыла глухому, нищему гению источник материальной и духовной помощи, ибо в эти годы душа Гёте, разумеется, открылась бы пророку борьбы и страданий. Когда же Бетховену предложили написать музыку к «Фаусту» он, широко раскинув руки, воскликнул: «Вот это была бы работа! Вот тут, я мог бы кое-что создать! Только я давно уже должен приняться за три вещи… Как только закончу их, возьмусь, наконец, за «Фауста».
И еще другие чрезвычайно сложные отношения вошли в жизнь старого Гёте. Отношения с молодыми романтиками, и особенно с крупнейшим из них, с Генрихом Клейстом.
Гёте признает клейстовский дар, но он отрицает его направление. Когда появляется «Пентезилея» (трагедия Клейста на античный сюжет), Гёте кажется, что весь воскрешенный им античный мир находится под ударом. Он считает, что в некоторых пьесах Клейста — например, в комедии «Разбитый кувшин» — с огромной силой отражена действительность. Но в других его пьесах Гёте отпугивает смесь мистики и эротики.
Узнав об этих суждениях, Клейст, который изо всех сил старался завоевать расположение Гёте, конечно, не остался в долгу. В газете, в которую он старался привлечь Гёте, Клейст обрушивается на него с эпиграммами. Но и этого мало. Он решил вызвать Гёте на дуэль, ибо комедия Клейста «Разбитый кувшин» поставленная Гёте в Веймаре, не произвела решительно никакого впечатления на зрителя и премьера закончилась настоящим скандалом. Уже много позднее Гёте признался: «Хотя я относился к нему с искренним интересом, но этот писатель всегда вызывал во мне содрогание и отвращение, словно тело, прекрасно сформованное природой, но пораженное неизлечимой болезнью». Как явствует из его суждения, Гёте разгадал болезнь не только Клейста — он разгадал болезнь всего немецкого романтизма. И все-таки, прежде чем порвать с романтиками, Гёте делал грандиозные усилия договориться со своими противниками. Однако это вовсе не значит, что он изменил свою позицию, что он примкнул к романтизму, а потом отошел от него. Нет, Гёте был и остался великим антиромантиком. Всех «молодых» начиная от Шлегеля и кончая Жан Полем, он всегда воспринимал как своих противников. Тем не менее, на первых порах он отнесся к ним благожелательно и был даже связан на какой-то манер со Шлегелями, с Тиком, с Жан Полем. Сблизился он и с Цахарией Вернером.
«Удивительный человек» заинтересовал Гёте своим веселым сладострастием, которое заразило весь тихий иенский кружок. Гёте привлекал «небесноадский» элемент в Вернере, его исполненное фанатизма лицо фавна. В каком-то фантастическом отдалении оно напоминало ему друзей собственной юности. Его забавляло, когда ему докладывали, что «за вечерним чаем во дворце, парень декламировал о необходимости эротического воздержания, а ночью дебоширил в самых непристойных домах Веймара». Гёте взял под свое покровительство пьесу Вернера. Он даже сам тщательно подготовил постановку этой пьесы, которая заставляла дрожать бюргеров. Но прошло некоторое время, и Вернер написал из Рима, что самоубийство Оттилии (героини «Избирательного сродства») заставило его перейти в католичество. Гёте ответил ему с благожелательной усмешкой, но при этом погрозил, словно Гёц, железным кулаком: «Только не вздумайте швырять мне под ноги колючки из своего тернового венца». В Гёте прорывается былая страстность. «Если бы у меня был блудный сын, — пишет Гёте, — я бы предпочел, чтобы он валялся в борделях и в свинарниках, чем угодил в проклятое дерьмо, которого так много развелось в последние дни». «Новопоэтических католиков» Гёте сатирически изобразил в стихотворении о попах. Он всегда пренебрежительно отзывался о них и в беседах. А однажды, сидя в коляске, разразился такой непристойной бранью в их адрес, что даже кучер тайного советника и тот обернулся. Видно, ему почудилось, что, сидя на облучке, он принял чей-то голос за голос своего хозяина.
В романтической молодежи Гёте, который всю жизнь упорно работал над собой, больше всего раздражало их легкое отношение к труду, спесивость, небрежность, проповедь хаоса, их вымученная веселость — в противоположность, например, истинно веселому и поэтому нисколько не романтичному Моцарту. «Подумаешь, какое искусство пускать свой талант на все четыре стороны, было бы только самому удобно!.. И очень скверно, что юмор у них под конец всегда оборачивается тоской и скверным настроением… Правда, многие имеют представление о цели, к которой они идут, но им бы хотелось достичь ее, прогуливаясь, да еще по самым извилистым дорожкам».
Гёте выступал против самоуверенных мечтателей, как боец, который стремится придать четкую форму своей жизни и своему искусству. Он упрекал романтиков в претенциозности, в высокомерии, в эгоизме. Он категорически отказался слыть их покровителем. И тогда они напали на него с той же страстью, с какой доселе поклонялись ему. «Я не сержусь на них, — говорит Гёте, — но я не собираюсь добродушно обманывать себя, а тем более способствовать против собственного убеждения достижению чуждых мне целей». Он всегда восхищался умом Фридриха Шлегеля, но выступление Шлегеля в роли апостола католицизма бесконечно сердило Гёте. «Обращение» Шлегеля казалось Гёте поучительнейшим примером того, «как даже самый сильный разум и талант старается потушить собственный светоч, чтобы под покровом мрака заниматься дурацкими фокусами».
И все-таки Гёте смотрел на современную молодежь с широкой точки зрения. Его благожелательные и проницательные, зрелые и спокойные мысли с особенной ясностью выразились в письмах к Якоби: «Разве ты станешь сердиться на детей за то, что они предпочитают лакомиться в вишневом саду, где ягоды сами лезут им в рот, а не гулять в молодой сосновой роще, в которой только через сто лет их внуки и правнуки найдут какое-то удовольствие и пользу?» А кроме того, он полагает, что немецкое искусство неизбежно должно было пойти по этому направлению. «Современное искусство исходит из нравственно прекрасного начала, которому, если угодно, противостоит начало чувственное; и я нисколько не осуждаю тебя, если ты видеть не можешь, как они скучают, или, вернее, смешивают прелестное с прельстительным. Так возникают и пьесы Вернера, похотливые произведения, напоминающие не то маскарад, не то бордель. И постепенно они будут становиться все хуже».
Молодые таланты и сами чувствуют это. Поэтому они так страстно жаждут, чтобы их чтили, словно пророков. Все эти романтики — художники и даже ученые — «странные, наполовину идеальные, наполовину чувственные люди. Все они кажутся массе не то шутами, не то преступниками. Что же удивительного, что в этой касте разочарованных появляются люди запуганные, которые понимают, что из создавшейся путаницы есть только один выход — вознестись в брамины, если только не в самого Браму».
В его теперешнем настроении, Гёте гораздо легче нести свои обязанности, чем прежде, когда его гигантская воля к познанию и созиданию разбивалась об ограниченность, царящую в герцогстве Саксонском. Он так долго жил вблизи двора, что, подобно представителю древней аристократии, воспринимает его уже почти без всякой критики, как нечто неизбежное, как закон природы. Правда, созидать Веймарское государство ему уже не хочется. Но и былого гнева он тоже не чувствует.
Герцог отдаляется от него все больше. «Я был бы очень счастлив, — пишет Гёте в письме к герцогине, — почтительно приветствовать в его резиденции, пусть даже всего на несколько дней, этого превосходного государя, которому я из убеждения и симпатии посвятил свою жизнь». Можно ли в более незначащих словах говорить о друге юности, который только что вернулся с войны?
Окончательно их разлучает вторая жена Карла Августа, актриса Ягеман. Влияние ее на герцога все растет. Она пытается отстранить Гёте от театра. Она хочет все забрать в свои руки — репертуар, роли, спектакли. Однако Гёте решил потягаться с этой женщиной. Ведь уже двадцать лет, как Веймарский театр — его создание и его оружие. «Долго так продолжаться не может, — пишет он, когда опять начались раздоры, — но я не хочу, покуда могу хоть что-нибудь предпринять, дать себя так нелепо одурачить». В конце концов, в конфликт вмешивается герцогиня, и Гёте совершает ошибку — он остается директором.
Ему исполнилось шестьдесят. Он почувствовал искушение оглянуться назад. Может быть, он вспомнил те дни, когда молодой, кипящий жизнерадостностью герцог вместе со всем двором в стихах и в пьесах чествовал своего серьезного поэта, которому минуло тридцать лет? И другие дни, когда юная возлюбленная, носившая в чреве его первенца, скрасила одиночество сорокалетнего человека. И еще другие дни, когда многообразные интересы заставили пятидесятилетнего человека устремить из старого своего сада телескоп на луну. А может быть, в этот день он сравнивает произведения, которыми закончил каждое из своих десятилетий? Сначала «Ифигению» потом «Римские элегии» потом баллады. И вот сейчас он почти дописал «Избирательное сродство».
В августовское утро Гёте сидит в саду у старого Кнебеля и его красивой жены, в приятном обществе, согретый любовью друга, не тревожимый обязанностями, славой и двором. Но вот подъезжает в коляске Христиана. На всякий случай она прихватила с собой трех молодых актрис. Она знает: Гёте минуло шестьдесят, и он хочет чувствовать себя молодым.
Вскоре после этого дня Гёте подвел последнюю черту под своим романом. Он боялся скопления бумаг и всегда устраивал аутодафе. Но теперь он отыскивает самые старые свои дневники и, как только крепчает холод, совсем по-зимнему усаживается у камина и начинает прясть «Сказку своей жизни». Скоро ему становится ясно — он поставил себе огромную и новаторскую задачу. И он приступает к изучению огромного материала, вот как тогда, когда собирался написать историю герцога Бернгарда Веймарского. Только теперь он закладывает фундамент под историю собственной жизни: просит родных прислать ему гравюры с изображением старого Франкфурта; изучает историю города; собирает гербы сенаторов, управлявших Франкфуртом в дни его детства; добывает кубок, жезл и перчатки, которыми пользовался городской староста — его дед. Ведь прежде чем изобразить, он должен увидеть все собственными глазами. Он просит и Беттину записать сказки и анекдоты, которые рассказывала ей его мать. Потом читает множество биографий, написанных в XVIII веке, и, наконец, опять берется за произведения мастера, который неизменно сопровождал его с самой юности, — за Плутарха.
Гёте так тщательно изучал свой материал, ему так чуждо тщеславие, что заголовок, появившийся впоследствии: «Поэзия и действительность» нужно толковать только как оговорку писателя. «Поэзией» он называет трансформацию действительности, неизбежную, когда смотришь на времена столь отдаленные. На деле исповедь Гёте изобилует фактами, важными не только для его биографии; они имеют самое первостепенное значение как первоисточник для любого исследователя-историка.
Гёте часто приходилось говорить о живых людях.
Тогда он приукрашивал действительность или просто молчал. Весь мир с нетерпением ждет сейчас историю возникновения «Вертера». Но Гёте предпочитает разочаровать читателей и вовсе опускает рассказ о своем вецларском романе. Ему не хочется причинить лишнее беспокойство овдовевшей Лотте Кестнер — даме, проживающей в Ганновере. И поэтому он описывает ее только в самых общих чертах и только раз употребляет очаровательное выражение: «Лотта — ибо так будет она зваться» Фридерика на пороге смерти успела прочитать историю своей жизни. Но вот он доходит до описания Лили и не в состоянии молчать или затушевать сильнейшую свою страсть, прерывает свое повествование и возвращается к нему только много позднее, уже после смерти Лили. А о матери почти и вовсе не пишет.
С мужчинами, с друзьями своей юности, ему справиться легче. Большинство из них — Бериш, Зальцман, Ленц, Лафатер, Гердер — умерли. Якоби он изображает с большой любовью. А Клингер, которого он некогда выжил из Веймара, и который теперь проживает в Петербурге, в качестве статского советника на русской службе, неожиданно получает от него теплое письмо.
Гёте с великой благодарностью вспоминает всех своих старых друзей, как бы велико ни было его расхождение с ними. Больше всего об этом свидетельствуют воспоминания о Гердере и Лафатере. Подобно доскам с надгробными эпитафиями, прислонены они к могучему древу его жизни.
Но как же он изобразил себя? Ведь он выступал всегда под таким количеством масок! Всегда показывал только некоторые стороны своего существа. А теперь он должен дать полное свое изображение, создать скульптуру, обозримую со всех сторон, простую, правдивую. Откуда же взять таинственный художественный прием, чтобы создать подлинный автопортрет? Вот что записывает Гёте в своем дневнике, приступая к работе над книгой «Поэзия и действительность»: «Иронический в самом высшем смысле взгляд на жизнь, благодаря которому биография поднимается над жизнью. И суеверный взгляд, благодаря которому она снова соперничает с жизнью. В первом случае мы льстим разуму и рассудку, во втором — чувственности и фантазии. Но в основе всего должна лежать психология. Каждому, кто пишет исповедь, угрожает опасность впасть в жалобный тон, в ламентации, в слезливость. Ведь мы всегда исповедуемся лишь в своих недугах и грехах и никогда не имеем возможности исповедаться в своих добродетелях». В этой программе изложены и программа жизни и прекрасно продуманный художественный прием. Автобиографическое сочинение не должно быть слишком серьезно, напоминает нам Гёте. Необходимо сообщить ему некоторую легкость, ибо при помощи этого сочинения Гёте хочет первый раз в жизни оказать влияние на массы. «За все прежние труды я принимался ради себя, — пишет он, — вот почему я мог спокойно ждать лет двенадцать и даже больше, пока они дойдут до читателя. Но сейчас, когда я пишу эту вещь, мне хочется, чтобы она доставила удовольствие не только мне, но моим землякам и особенно друзьям». Медленно, постепенно, год за годом, по частям публикует он свою книгу. Когда же читатели проявляют, наконец, нетерпение, Гёте только саркастически улыбается. Ни одно его сочинение, кроме «Германа и Доротеи» и «Вертера» не приобрело популярности так быстро, как «Поэзия и действительность». На этих воспоминаниях зиждется слава, которую он завоевал в старости. Они проложили путь многим его произведениям, которые только после появления этой автобиографии стали рассматриваться как часть единого целого. Весь мир ждет «Поэзию и действительность» и просит продолжения.
Но вдруг, после блестящего описания своей юности, Гёте по соображениям личного и придворного характера перескакивает через самое важное — через первое веймарское десятилетие и продолжает повествование прямо с того места, когда «дитя природы, доселе скованное и запуганное, обретает, наконец, свободу и начинает дышать с новой силой». Иначе говоря, вслед за насыщенными жизнью главами третьей книги он сразу диктует более гуманистические, но куда менее горячие части своего «Итальянского путешествия».
Но вот мы перечитываем биографию Гёте раз, другой, третий — и она производит гораздо менее радостное впечатление, чем хотелось бы ее автору. Каков же итог жизни, который подвел писатель, укрывшись за своей иронической манерой? Мы находим его в набросках к произведению, где неожиданно натыкаемся вот на какие слова: «Жизнь моя сплошная авантюра, ибо я всегда стремился не только развить то, что заложено в меня природой, но добыть и то, чего она вовсе мне не дала. В стремлении достичь всего, что только возможно, было столько же истинных, сколько ложных тенденций, и поэтому я всегда лишь терзался, но не ведал истинных наслаждений». Так говорит Гёте в самый светлый период, окидывая взором свое гигантское странствие по бесчисленным запутанным дорогам жизни. И по собственным его словам, он рассказал о нем в своей автобиографической повести лишь тысячную долю.
В эти же годы Гёте закончил и опубликовал третье основное свое произведение — «Учение о цвете». В намеренно сухой манере начал он писать эту книгу, когда ему было сорок лет. Теперь ему шестьдесят, и он мечтает превратить свое сочинение в роман. Впрочем, даже в дидактической части «Учения», написанном в далеком прошлом, сквозь нарочито педантичную манеру и, очевидно, против желания автора прорывается поэт. Гёте трудно выражаться абстрактно. Он старается писать совсем просто, подробно описывая свои опыты, популярно излагая и предмет исследования и свой исследовательский метод. И все-таки по временам, как, например, в зачине предисловия, звучат ритмы, которыми написана «Ода к природе». «Цвет — вот деяния света; деяния его и страдания». И один за другим, словно в грандиозном праздничном шествии, выступают цвета, описанные, каждый в отдельности. Великолепно описывает Гёте чувство, лежащее в основе его веры в природу: «Глаз обязан своим существованием свету. Только свет извлек его из среды равнодушных животных вспомогательных органов. Ибо только на свету формируется глаз, дабы вбирать в себя свет».
Историческая часть «Учения о цвете» написана совершенно в духе эпохи. Но под пером Гёте она вырастает в некую всеобщую историю наук. Он сам называет ее «большой фугой» ибо в ней, вступая один за другим, звучат голоса всех народов. Правда, эта, более поздняя часть сочинения производит впечатление неровное. В ней не так фанатично отстаивается основная мысль Гёте, как во всей книге. Зато гораздо больше места отводится фантазии, а на многих страницах вообще не упоминается о цвете. Когда же автор, говоря о теориях различных исследователей хроматики, переходит к характеристике исследователей и к причинам, которые привели к созданию их теорий, он, словно мимоходом, дает серию великолепных психологических портретов. Кроме того, здесь рассеяны мысли, касающиеся самых различных предметов. Тут и рассуждения о мудрости, и о языке древних, и анализ языка античных поэтов. Лукрецию Гёте посвящает длинное стихотворение. О магии говорит в таинственных выражениях. В истории учения о цвете в течение многих веков существовал пробел. Дойдя до этого места, Гёте так и пишет «пробел» но тут же заполняет его самыми различными мыслями, как бы громоздя их одну на другую.
Гёте много лет ожесточенно полемизировал со всеми своими противниками. Но в ту минуту, как он закончил свой самый объемистый научный труд, он утратил и всякий интерес к этой полемике. «Такого полного равнодушия и отталкивающего недоброжелательства я еще не видывал». Вот и все, что сказано о его противниках в эпилоге. Признают ли его, это дело будущего. «Да разве возникла бы эта книга, восклицает он, — если бы тридцать лет тому назад я вместе с моими друзьями уехал в Америку и не слышал ни о Канте, ни овеем прочем» Отличие его мировоззрения от мировоззрения окружающих не позволяет им разобраться в его произведении. «Мне часто приходится твердить себе: с одним только богом могу я беседовать, что означают те или иные явления природы. Но какое дело до этого всем остальным» И, как бы в раздражении, он окончательно отбрасывает остатки логики, которую с таким трудом навязали ему Шиллер и иенские профессора. А тут ему еще пришлось прочитать у Гегеля, что плод есть отрицание цветка. И хотя Гёте чрезвычайно ценил молодого Гегеля, терпению его приходит конец. «Пытаться уничтожить вечную реальность природы при помощи дурного софизма… да при этом изуродовать и самую идею» Он обращается к своим «Вопросам к природе» пишет большой набросок о ее образовании и преобразованиях в ней. Гёте кажется, что самая важная идея заключается во взаимосвязи между природой, искусством и творческой волей.
Отрывки из писем и бесед Гёте, которые посвящены мыслям о природе, все больше напоминают дневник Леонардо. Гёте высказывает предположение, согласно которому все растения и животные развились, быть может, из одного первоначального вида. Он вступает в спор и с химиками и утверждает, что «настанет время, когда наиболее светлые умы окончательно забросят представление о механическом и атомистическом строении мира. На смену ему придет представление, что все феномены суть динамические и химические соединения, и, таким образом, можно будет все глубже проникать в божественную жизнь природы».
Часто тоже, как Леонардо, он в случайной заметке высказывает свежие и глубокие идеи.
В научных интересах Гёте происходят перемены.
Разве не относился он прежде скептически к математике и к астрономии, как к наукам невидимым? Разве не держался вдалеке от звезд и от чисел, потому что тут оказывались бессильными его пять священных органов чувств? А теперь он превозносит астрономию, как единственную науку, которая покоится на абсолютно твердой основе и с полной уверенностью может шагать сквозь бесконечность. «Разделенные морями и сушами астрономы, самые общительные из всех отшельников, делятся друг с другом открытыми ими элементами и на них строят свою теорию, как на несокрушимой скале». Прежде он нападал на Ньютона, потому что его гётевский глаз не видел того, что вытекает из опытов Ньютона. А теперь он снова спорит о том же предмете с Шопенгауэром, с молодым кантианцем. «Как, — восклицает Гёте, — свет существует только, поскольку вы его видите? Нет! Вас самого не было бы на свете, если бы свет не видел вас».
Как и в юности, Гёте продолжает верить в наличие животного магнетизма, в воздействие его на психику человека и описывает это в «Избирательном сродстве». Гёте считает, что удивительные открытия в химии неопровержимо свидетельствуют о магических свойствах природы. «А природа, — смиренно говорит Гёте, — это нечто неизмеримое. Тот, кто хочет изучить ее до конца, подобен человеку, пытающемуся вычислить квадратуру круга».
Продолжая заниматься метаморфозом, Гёте устанавливает определенные ступени развития живого организма. Как-то днем к нему приходит посетитель. Он застает поэта в саду. На столе в сахарнице лежит маленькая змейка. Шестидесятилетний Гёте набирает в трубочку гусиного пера молоко и поит ее.
«Эта голова должна была сформироваться иначе, говорит Гёте, — но ей помешали неповоротливые кольца, да и руки и ноги природа ей задолжала… Впрочем, она вообще многим должает, хотя отдает впоследствии всегда и все. Разве скелеты морских животных не свидетельствуют о том, что природа, создавая их, носилась с мыслью о более высоких видах, обитающих теперь на суше?»
Однажды в зимний вечер, сразу же после похорон Виланда, к Гёте приходит Фальк. Он видит, что хозяин дома расстроен. Но Гёте переводит разговор на общие темы. Он говорит о грандиозном единстве вселенной, в которую входит все, даже звезды. «Момент смерти очень удачно называют моментом освобождения. Ибо властительная монада освобождает своих бывших подданных от верной их службы… Но по природе своей эти подданные столь неистребимы, что даже в момент смерти не прекращают своей деятельности; напротив, в этот же миг они продолжают развивать ее дальше».
Погруженный в изучение природы, шестидесятилетний Гёте, казалось бы, достигал гармонии — впрочем, насколько это возможно для такого противоречивого существа. Во времена «Вертера» признается Цельтеру Гёте, да и много позднее он всегда с большим трудом спасался при кораблекрушениях. Однако буря проходила, и ему всегда удавалось доплыть до берега и обсушиться на утреннем солнце. Впрочем, он вовсе не верит, что в мире, наконец, воцарилась гармония. «Когда видишь, как весь свет, особенно молодежь, отдан во власть своей похоти и страстям, как грандиозная глупость, присущая нашей эпохе, уничтожает все самое высокое и лучшее, что есть в людях, тогда, право же, нас не удивляют злодеяния, с которыми человек в бешенстве обрушивается на себя и на окружающих. Я мог бы написать нового «Вертера», от которого у народа волосы стали бы дыбом еще больше, чем от первого».
Но, произнося эти слова, полагая, что он в полной безопасности и благополучно выбрался на берег, Гёте и не подозревает, что за первым эпилогом последует второй, уже последний, и совсем особого рода. Гёте твердо ощущает себя хозяином жизни. Он верит, что в «Учении о цвете», которое он наконец-то закончил, он смешал свет и тьму и, что ночь оказалась сильнее дня. «Ибо как сильно туман и тучи ни затемняют свет, он охотно и всегда равномерно струится к нам от солнца… Это наблюдение заставило меня… в поэтических, научных и художественных высказываниях утверждать господство ясного над туманным, очевидного над предчувствием так, что при изображении внешней стороны явления мы всегда можем прочитать то, что заложено в нем внутри».
Это чувство успокоенности отразилось и на лице помолодевшего и похорошевшего Гёте. Весной, когда ему пошел шестидесятый год, его впервые увидел поэт Бодесен. «Клянусь, — повествует Бодесен, никогда я не встречал более красивого шестидесятилетнего человека! Лоб, нос, глаза Юпитера Олимпийского. Глаза, те просто неописуемы и бесподобны. Я не мог досыта налюбоваться этими прекрасными чертами, этой великолепной смуглой кожей. Когда же Гёте принялся оживленно рассказывать и жестикулировать, оба черные солнца стали еще вдвое больше, и они блистали и сверкали так божественно, что я просто не понимаю, как же можно, когда он гневается, вынести их молнии… Гёте утратил былую тучность, и фигура его отличается совершенной пропорциональностью… Разговаривая, он жестикулирует пылко и с очаровательной грацией… Говорит он тихо, но великолепным тембром голоса, ни быстро, ни медленно. А как входит в комнату, как стоит, как двигается! Вот прирожденный король мира».
Кюгельген в лучшем из трех своих портретов Гёте сумел, хоть и весьма несовершенно, передать что-то от этого облика. Из всех одиннадцати художников, рисовавших Гёте, он лучше других запечатлел облик писателя в десятилетие его расцвета.
Таким был Гёте телесно и духовно, такой степени гармонии он достиг, когда произошли два события, самые важные во вторую половину его жизни. Гёте повстречался с Наполеоном и с Гафизом.
Судьба его складывалась так — впрочем, это явилось следствием его образа жизни, искусственно отграниченной от внешнего мира, — что немногие люди, с которыми он мог бы померяться силами, никогда не соприкасались с ним. Так было в Лейпциге, где он не повстречался ни с Лессингом, ни с Винкельманом. Вольтер уехал из Швейцарии как раз, когда туда приехал Гёте. Клопшток в те несколько часов, когда они были вместе, произвел на него впечатление человека изысканного, но светского. Гердер сделал все, чтобы окончательно уничтожить в Гёте верное представление о себе. Виланда было слишком легко разгадать. Что касается Шиллера, то этот случай так сложен, их дар и природа, их характеры столь противоположны, что связывало их, пожалуй, только товарищество по искусству. А во всех других писателях своего времени Гёте мог найти разве что частицу самого себя. Крупных немецких художников тогда вообще не существовало. Кант не покидал своего города на востоке Германии, куда Гёте нисколько не влекло, как, впрочем, не влекло и к самому Канту. Шеллинг и Гегель, помимо всего прочего, были чересчур молоды для Гёте. Моцарт, которого он слышал в детстве, родился слишком рано. Бетховен явился слишком поздно.
Столь деятельному человеку, как Гёте, должны были импонировать прежде всего люди действия. Он всегда мечтал увидеть человека, которого можно было бы воплотить в повести или легенде. Романтические характеры были и остались ему чужды. Правда, было одно явление, которое могло заинтересовать и, вероятно, даже увлечь его, — дыхание Парижа в девяностых годах, Мирабо, которого столь чтили друзья Гёте и перед умом которого они преклонялись.
Но вот появился генерал Бонапарт, и Гёте был тотчас же взят в полон, хотя по складу своего характера вовсе не был склонен восхищаться воинственными подвигами. Даже Цезаря он ценил больше как правителя, чем как полководца. И все-таки две особенности притягивали его к молодому герою: масштаб его дерзаний и размер его успеха. Во время консульства Наполеона Гёте сомневался, «удержится ли столь великолепное и властительное явление». Но когда через несколько лет походы Наполеона приняли размеры грандиозные, когда в сокровищнице анекдотов, исполненных обожания и ненависти, фигура маленького человека превратилась в великого демона, когда античная энергия, наивная агрессивность и безграничная свобода действий привели тридцатилетнего лейтенанта, сына безвестного адвоката, к обладанию величайшей властью на земле, тогда Гёте зачеркнул все. Он забыл и монархическую основу этого восхождения, и многострадальную кампанию за восстановление власти Бурбонов, в которой участвовал сам. Он простил своему новому герою и революцию. Он считал, что Наполеон оправдал ее задним числом. Начиная с Аустерлица, он зовет Бонапарта своим императором.
Гёте лично никогда не стремился к власти. Но он любил власть. Об этом со всей силой свидетельствует любовь, которую он питал к величайшему выскочке своей эпохи. Последователь Платона ощущал себя родственным этому императору, который некогда был якобинцем. «Наполеон, — заявил Гёте, — искал добродетели — и, не найдя ее, пришел к власти».
Тиха сделала все, чтобы не омрачить позднее счастье Гёте. Она не дала государству, министром которого он был, пасть под молотом Наполеона. Она избавила государственного чиновника от разрешения неразрешимой дилеммы. Карлу Августу всего несколько недель удалось продержаться в качестве прусского генерала и врага Бонапарте. Через немного месяцев после Иены Гёте, до которого доходили мрачные слухи из Берлина, пишет Кнебелю: «Мы не хотим, пока только возможно, слышать о чудовищных вещах и обороняемся от всех подробностей, из которых они рождаются. Но когда очевидцы описывают нам этого императора и его окружение, мы убеждаемся, что ничего подобного ему не было и, вероятно, не будет». Здесь сказалась любовь Гёте к древнему Риму: «Мне импонирует этот великий разум, этот порядок во всех вещах».
Наполеона Гёте воспринимает как некое мистическое явление. Об этом он говорил неоднократно и дважды засвидетельствовал в своих стихах. Одно стихотворение было написано, когда пришло известие о смерти Наполеона. Другое — еще «раньше, когда, прикрываясь политической полупридворной маской, он по просьбе карлсбадских бюргеров написал приветственные стихи в честь Марии Луизы Французской.
Характеризуя Наполеона, Гёте отмечает, прежде всего, двойственность его характера. «С одной стороны, мечтатель-фантаст, с другой — человек, обладающий зрением, реалист».
В момент свидания Гёте с Наполеоном поэту пошел шестидесятый год, Наполеону сороковой. Случись эта встреча на пять лет раньше, Наполеона разочаровал бы жирный Гёте; на пять лет позже Гёте разочаровал бы жирный Наполеон. Так что минута оказалась самой благоприятной для обоих.
В конце сентября 1808 года, перед походом в Испанию, Наполеон приезжает в Эрфурт. Он уже три года император, он еще супруг Жозефины, он стоит на вершине своего успеха. Четыре короля и тридцать четыре герцога съехались в Эрфурт, чтобы воздать почести безвестному выскочке. И все-таки Наполеон охвачен внутренним волнением. Он достиг вершины, он это знает, и он предчувствует конец. Чем же еще объяснить беспокойство, которое вызывает в нем союз с Россией? «Царь Александр и вправду меня очень любит? — спрашивает он Талейрана, единственного конгениального ему человека, в котором он нуждался, и, которого ненавидел, и, который запечатлел эту беседу в своих мемуарах. — Почему же он все еще не подписал договора о союзе?» В волнении ходит Наполеон по комнате. «А знаете, почему никто не хочет заключить союз с моим счастьем? Почему все медлят? Потому что у меня нет детей, и все полагают, что только на этой вот паре глаз все и держится. Очень худо для всего мира; с этим надо, наконец, покончить».
Вместе с царем, который проездом в Эрфурт побывал в Веймаре, приехал и Карл Август. Он в самом прекрасном расположении духа. Царь — брат его невестки, и поэтому веймарские владения сейчас в безопасности. Император заискивает в русском царе. Герцог появляется в Эрфурте в сопровождении большой свиты.
Один только Гёте остается дома, хотя в эту суетную эпоху все должно манить его в Эрфурт. Может быть, он боится великого разочарования, которое таит в себе реальность? Через несколько дней его вызывают. Впрочем, приглашение исходит только от его государя, и поэтому он все еще медлит. Лишь верный инстинкт Христианы заставляет его, наконец, отправиться в недолгую поездку.
В странном настроении едет Гёте в Эрфурт. Только месяц тому назад он вернулся из Карлсбада, прервав прелестное времяпрепровождение. Все четыре женщины, в которых он был влюблен, уехали. Он томился одиночеством. В Веймар, где, по слухам, царит полная неразбериха после того, как там стояли войска, ему возвращаться не хотелось. Так что он поехал сначала в Иену и просил Христиану встретиться с ним в нейтральном месте. «Как же мне хочется увидеться с тобой, чтобы сказать тебе, как сильно я тебя люблю!» И в ожидании этой счастливой минуты уезжает в загородное поместье повидаться с Сильвией.
Не успел он вернуться в Веймар, как приходит весть о смерти его матери. Несколько холодных благодарственных писем к друзьям, которые заботились о ней перед ее кончиной, записка Сильвии о грустном своем возвращении — вот и все свидетельства его печали. Через несколько недель приезжает царь. Следуют приемы, отъезд государей, вызов из Эрфурта, записка к Сильвии. И Гёте едет к Наполеону. В Эрфурте он попадает в невиданную сутолоку. Дипломаты, военные, представители всех наций… На второй вечер, за чаем, он знакомится с министром Маре. На следующий же день тот докладывает императору, что Гёте здесь. Ему немедленно назначают аудиенцию. Вечером он присутствует на спектакле во Французском театре. На следующее утро является к леве, вспоминает о веселых временах в этом маленьком дворце, когда он жил здесь вместе с штатгальтером Дальбергом. Ланн, который два года тому назад попал на постой к Гёте — это случилось тотчас же после нападения французских стрелков, которые чуть не убили хозяина дома, — сердечно приветствует немецкого поэта. Он представляет ему нескольких французских генералов. Неожиданно среди них появляется Талейран. Гёте смотрит на него и, как ему кажется, видит за ним тень Мефистофеля. Уже позднее, рассматривая портрет Талейрана, Гёте сформулировал впечатление, которое произвело это лицо на него. Можно понять, что таится под спокойным, неуязвимым выражением, которое оно сохраняет при всех бурях, но невозможно понять, как эти бури выдерживает он сам, ибо «взгляд Талейрана самое непостижимое изо всего, что существует на свете… Он не устремлен ни внутрь себя, как взор мыслителя, ни вперед, как взор наблюдателя. Глаза эти устремлены только на самого себя. Да и весь его облик свидетельствует не то чтобы о самолюбовании, но о полном отсутствии интереса ко всему происходящему вокруг».
Какое же впечатление произведет на Гёте Наполеон?
«Меня приглашают в кабинет к императору. В ту же минуту просит доложить о себе и Дарю, его пропускают. Поэтому я не решаюсь войти. Меня приглашают вторично. Вхожу. Император сидит за большим круглым столом и завтракает; справа от него в некотором отдалении стоит Талейран, слева, поближе, Дарю… Император делает мне знак приблизиться. Я останавливаюсь на подобающем расстоянии. Он смотрит на меня внимательно и говорит: «Vous etes un homme!»(«Вы настоящий человек!») Я кланяюсь.
— Сколько вам лет? — Шестьдесят.
— Вы прекрасно держались. Я знаю, что вы первый драматург Германии».
Гёте возражает и указывает на Шиллера и Лессинга. Наполеон читал только «Тридцатилетнюю войну» Шиллера, она ему не понравилась. Гёте берет под защиту Шиллера. Наполеон прерывает его и спрашивает, есть ли в Веймаре писатели-академики. Гёте указывает на Виланда как на самого знаменитого среди всех. Наполеон просит пригласить его в Эрфурт.
Слово берет Дарю. Он повторяет похвалы в адрес Гёте, которые дошли до них в Берлине, указывает на его переводы с французского, особенно Вольтерова «Магомета».
— Немедля справлюсь, — говорит император, нельзя ли здесь сыграть эту пьесу. Вы должны услышать это произведение на французском языке, но пьеса не хороша.
И он подробно разъясняет, как не пристало покорителю мира давать столь нелестную характеристику собственной особе.
Потом Наполеон переходит к «Вертеру». Он читал его семь раз и даже брал с собой в Египет. Император делает множество замечаний, которые Гёте считает совершенно справедливыми, и говорит: — Мне не нравится конец вашего романа.
— Не думаю, что вашему величеству нравится, когда у романа есть конец.
Императору кажется неверным, что одним из мотивов самоубийства Вертера является честолюбие. — Это не соответствует природе Вертера и ослабляет представление читателя о могущественном влиянии, которое оказывает на него любовь. Зачем вы так сделали?
Гёте смеется (как он пишет в своих письмах) или улыбается (как значится в его гораздо более позднем, все сглаживающем рассказе) и говорит, что, хотя ему никто еще не делал подобного упрека, он кажется ему вполне справедливым. Он признает, что это место романа, может быть, действительно противоречит правде. Но все-таки поэту простительно прибегать к определенному художественному приему, чтобы произвести впечатление, которого он не может достичь естественным путем.
«Император, казалось, остался удовлетворен этим объяснением, вернулся опять к драме и сделал ряд очень существенных замечаний, словно судья по уголовным делам, который с величайшим вниманием следил за развитием трагедии и чрезвычайно глубоко пережил отход французского театра от природы и правды. Он отрицательно относится и к трагедии судьбы, она возникла в мрачные времена.
— Какой смысл имеет сейчас судьба? Политика — вот судьба, — говорит Наполеон».
И снова обращаясь к Дарю, он продолжает обсуждать с ним вопрос о контрибуции. Гёте отходит в эркер и, оглянувшись, замечает Бертье и Савари. Входит высокий длинноволосый маршал Сульт и докладывает о Польше.
Наконец «император встал, направился ко мне и при помощи некоего обходного маневра отрезал меня от шеренги, в которой я стоял. Повернувшись спиной к окружающим и понизив голос, он принялся расспрашивать, женат ли я, есть ли у меня дети, и т. д. И, наконец, нравится ли мне здесь.
— Очень. И надеюсь, что дни эти пойдут на пользу и нашей маленькой стране.
— Счастлив ли ваш народ?
— Надеюсь, что да.
— Мосье Готт, вам следует оставаться с нами, покуда мы будем пребывать здесь, и описать впечатление, которое произведет на вас сей грандиозный спектакль.
— Для этого надобно перо античного писателя…
— Ваш герцог пригласил меня в Веймар. Некоторое время он был здорово зол, но потом исправился.
— Если он и был зол, сир, то наказание оказалось слишком суровым. Впрочем, быть может, мне не подобает судить об этих предметах? Мы все, во всяком случае, обязаны его почитать».
Император в третий раз возвращается к вопросу о трагедии.
— Она должна являться школой для государей и народов. Вот величайшая цель, которой только может достигнуть писатель. Вам следует написать «Смерть Цезаря», но самым достойным образом, с большим величием, чем это сделал Вольтер. Труд этот должен стать главной задачей вашей жизни. Вы должны показать всему миру, что Цезарь осчастливил бы человечество, если бы ему дали время осуществить свои обширные планы. Приезжайте в Париж! Я требую!
И приглашает Гёте вечером в театр. Там будет множество государей.
— Вы знаете князя-примаса? Нет? Тогда вы увидите вечером, как он будет спать на плече у короля Вюртембергского. А русского царя вы знаете? Вам следовало бы написать стихи об Эрфурте и посвятить их ему.
— Я никогда не делал подобных вещей, дабы не раскаиваться в них впоследствии.
— При Людовике Четырнадцатом наши великие писатели поступали иначе.
— Несомненно, сир, однако неизвестно, не раскаивались ли они в этом.
Гёте отвечал очень естественно.
«Император, казалось, был доволен и переводил мои слова на собственный язык, только в несколько более определенном тоне, чем мог бы выразиться сам… Слушая, он редко оставался неподвижен. Он либо раздумчиво кивал головой, либо говорил «да», «хорошо»… и обычно прибавлял: что скажете, monsieur Gott, господин бог?
Наконец я воспользовался случаем и сделал знак камергеру, означавший, могу ли я уйти. Он кивнул утвердительно, и я тут же откланялся».
Аудиенция, которую Гёте и Наполеон дали друг другу, длилась более часа.
Гёте долго хранил молчание об этой встрече. Он не отвечал на расспросы герцога и даже через шесть лет все еще отказывался подробно рассказать о ней. Он боялся сплетен. Но что самое удивительное, Гёте ничего не записал. Только через шестнадцать лет продиктовал он набросок, который и сам охарактеризовал как далеко не достаточный. Гёте умолчал и о разговоре на политические темы, о котором сохранились лишь две-три фразы, и о всех высказываниях Наполеона во славу Гёте, и, наконец, о своих удачных ответах, о которых мы узнаем лишь косвенным образом из его писем. Но разговор этот удалось восполнить по воспоминаниям канцлера фон Мюллера, который составил о нем мемуар специально для Талейрана, и, наконец, из воспоминаний самого Талейрана.
«Вы настоящий человек!»
Разве мог Наполеон воздать большие почести немецкому поэту, чем предложив ему написать произведение на ту же тему, что и Вольтер? И даже лучше, чем Вольтер? И это вместо того, чтобы хвалить французскую драматургическую школу, у которой следовало учиться некультурным побежденным! Да, Наполеон откровенно высказался против французского театра, который кажется ему фальшивым и неестественным. Но тут приходится вспомнить, что говорит это вовсе не француз; и естественно, почему Гёте, быстрее, чем французы, достигает понимания с полуитальянцем. И, наконец. Наполеон приглашает в Париж немца писать для его, императорского, театра. Наполеон прекрасно знал, что оскорбляет этим французских писателей. Для чего же он это сделал? Ответ дает репертуарный план, составленный специально для Эрфурта. Когда Наполеон говорит о важности трагического театра, это вовсе не пустая фраза. Он тщательно изучил этот театр, он сам писал в юности трагедии. Среди всех государственных дел, он самолично и тщательно отобрал пьесы, которые должны были идти в эти дни. Пьесы, которые должны были заставить задуматься его царственных гостей. Ведь теперь судьба — это политика! Талейран лишь с трудом достал для Гёте место в переднем ряду. Все первые ряды были отведены исключительно для коронованных особ. Вторые — для наследных принцев.
Присутствуя на «Митридате», Гёте убедился, как велика ненависть Наполеона к Англии. А явившись на «Ифигению» Расина, он слышит Тальма, который декламирует согласно указаниям, полученным из высочайших уст, стихи о славе, завоеванной исключительно благодаря собственным усилиям.
Когда же в «Магомете» один из приверженцев пророка восклицает: «Кто увенчал его? Кто сделал королем? Победа лишь!», Гёте видит, как взоры всех устремляются к императорской ложе. И, наконец, когда Омар вещает, что пророк хотел бы променять свое имя завоевателя и триумфатора на имя носителя мира: «Не победителя его прельщает путь, к тому, кто мир творит, намерен он примкнуть», — Наполеон, сидя в ложе, делает жест, подтверждающий, что такова и его воля.
Вот в эту минуту Гёте должен был понять, сколь высоко чтит его завоеватель мира, раз он пытается сделать его провозвестником величия Цезаря, а следовательно, и своего.
Проходит несколько дней. Наполеон отправляет своих актеров в веймарский дворец. С утра большая охота в окрестностях Иены, на том самом поле, где два года тому назад разыгралась великая битва. Вечером идет «Смерть Цезаря» в исполнении Тальма и его труппы в том самом гётевском театре, на который совсем недавно падали ядра из наполеоновских пушек, затем бал во дворце. Императора проводят по роскошным залам. Он спрашивает имена красавиц и просит пожаловать к себе Гёте, Виланда и других «академиков».
Сделав комплимент Виланду, Наполеон опять возвращается к трагедии, восхваляя ее, как школу высоких умов, и, перейдя к Тациту, критикует его за то, что он изображает всех властителей как преступников или тиранов. «Но я наскучил вам, мы здесь не для того, чтобы говорить о Таците. Поглядите, как прекрасно танцует царь Александр».
И тут, на изысканнейшем французском языке, берет слово семидесятипятилетний Виланд. «Я не знаю, зачем мы здесь, но знаю, что ваше величество сделало меня в эти минуты счастливейшим из смертных. Кажется, что видишь перед собой не владыку двух тронов, а слушаешь литератора, и поэтому, сир, позвольте мне ответить писателю». И в длинной речи, с цитатами из Расина, блестяще, свободно, законченно по форме Виланд защищает Тацита. Но Наполеон говорит:
— Вы знакомы с господином Иоганном Мюллером?
— Конечно, сир.
— Значит, он писал вам, что я против Тацита. Я не считаю себя побежденным, мосье Виланд. Мы еще побеседуем об этом.
Чрезвычайно характерный разговор между художником и узурпатором.
Зато в дневнике Гёте мы встречаем одни лишь бесцветные записи: «Леве. У императора. Обед у герцога… Застал гофрата Моргенштерна». Только Римеру он сказал: «Удивительные слова императора, которыми он меня встретил, — «Vous etes un homme» — стали широко известны. Все решили, что я законченный язычник, раз слова «Ессе homo» применены ко мне в обратном смысле. И на груди у «национального писателя», как символ единения Запада и Востока, появились орден Почетного легиона и российская Звезда.
Не только для Гёте, но и для Веймара последствия этих дней оказались очень важны. «Наполеон наш святой, — пишет министр Фойт, — Веймар освобождают от воинских наборов».
Убытки Иены компенсируются денежными пособиями. Виланд с глубочайшей иронией, которую он прячет под маской придворного, называет Наполеона «кротчайшим» и «непритязательнейшим» из людей в целом мире. Гёте бредит Тальма, а императорский комиссар, который послан в Эрфурт, чтобы выуживать там прусских шпионов, переводит «Фауста» на французский язык.
Гёте не едет в Париж. Почему же? План поездки занимал его даже как будто бы долго. Он неоднократно наводил справки, сколько это будет стоить и можно ли там устроиться. Но когда через год он получает письмо из Парижа, он замечает в своем мефистофельском тоне: «Между нами будь сказано, пусть там скопились и сказочные богатства, но, право, там образовалось чрезвычайно тщеславное и пустое общество, и единственная приятность, которую оно извлекает из жизни, — это то, что каждый может приобрести хоть какое-нибудь ничтожное значение, дабы и самому стать ничтожным Нечто».
Не успела миновать короткая буря, связанная с прибытием Наполеона, как гладь в душе Гёте смыкается снова. В первые же дни после отъезда императора из Веймара, он записывает в своем дневнике: «Библиотека. «Минна фон Барнгельм». Кое-что окантовал — гравюры, рисунки… Статья о переизданиях».
И шлет нежнейшие строчки своей приятельнице в Карлсбад.
Проходит две недели после беседы с властелином мира, который задумал подвести новую и столь блестящую базу под существование Гёте. А он сидит у своей молодой белокурой подруги и мечтает остаться с ней «сегодня, завтра, послезавтра и так без конца… в надежде». И заключает свое письмо жалобой: рассеянная жизнь не давала ему работать целых шесть недель. С этими удивительными словами Гёте отвращает взор от солнца чужой галактики и потихоньку возвращается в собственную сферу, Разве не рвался он целых полжизни к сегодняшнему дню? Разве не жаждал самозабвения? В Риме, в Неаполе, погруженный в размышления, он стоял на обочине дороги, по которой мчался карнавал. Он всегда оставался зрителем жизни, а ведь знал, что поэты южных стран и теперь и в древности были желанными гостями судьбы. Она дружески их принимала всегда. Когда юношей, скрываясь под маской Фауста, он стремился на вольные просторы; когда трижды с тоской взирал с Сен-Готарда на низины; когда в Триенте, едва спустившись с перевала, почувствовал себя возродившимся; когда сетовал на то, что не родился среди светского шума свободным англичанином; когда, уроженец Южной Германии, он всю жизнь жаловался на суровые зимы Тюрингии; когда завидовал Вольтеру и Руссо, Тассо и Ариосто, которые разбудили национальное эхо; когда, как Вильгельм Мейстер, бежал к актерам, только чтобы жить вне буржуазного принуждения; когда он растворялся в античном мире, стремясь изобразить светлых богов и людей под голубыми небесами; когда Шиллер в том, в первом своем письме указал ему, какого огромного окольного пути он избежал бы, родись он в Италии, — во всем этом таилось лишь древнее стремление Фауста. И это стремление вылилось в страстную тоску по красоте и теплу, по воздуху и свободе, в мечте бежать из Германии. И все-таки все восемьдесят лет Гёте почти не покидал Германии. Даже из единственного большого путешествия на юг он вернулся скорее, чем предполагал.
Всю свою жизнь, и всегда по-новому, дух Гёте погружался в обличье мага и врачевателя, чья тень сопутствовала ему с первых юношеских шагов до самой кончины. Северный поэт, он больше всего любил южные сюжеты, но главному его произведению присущи столь глубокие северные черты, что глубже уже быть не может. Не только Фауст, но и Мефистофель всегда и неизменно выступал партнером Гёте. Галльский, южный, быстрый, сухой, лукавый, подхватывающий все на лету, язвительный дух, словно южный ветер, налетал на немецкого поэта.
Гёте любил Германию и все-таки хотел оставаться вдалеке от нее. Он хотел отделаться от Германии, но он не мог без нее жить. Вот почему он критиковал Германию с большей суровостью и с большей любовью, чем все немцы до него. Великое одиночество, которое он почувствовал, когда от него отвернулись его земляки, еще увеличивало его суровость и недовольство. Он приходил в ярость, когда видел, как быстро они отошли от него. Они, которые на короткий миг и с таким восторгом приветствовали его первые тоненькие книжки. И когда Германия оказалась завоеванной, Гёте всем разумом был убежден в том, что она заслужила свою участь.
«При Иене немецкие силы пошли к чертям, потому что у немцев отсутствует разум… Германия ничто, хотя каждый немец в отдельности значит многое. Впрочем, они внушают себе как раз обратное. Подобно евреям, немцы должны быть рассеяны по всему свету. Только тогда сможет полностью развиться тьма хороших свойств, заложенных в них, и при этом на благо всем другим народам… Сколько голов, столько умов — вот настоящий девиз нашей нации… Ими владеет порок, заставляющий их уничтожать все, что уже достигнуто. Их требования всегда преувеличенны, а живут они только за счет посредственности… Я так сыт дрянью, наспех сработанной во всех областях, что немцы, даже те, которых постигло несчастье, кажутся мне смешными. Ведь, в сущности, они в отчаянии только оттого, что не могут заниматься пустословием… Дураки немцы все еще вопят об эгоизме. А дал бы им бог уже давно и честно заботиться о себе и о своих ближних, тогда, может быть, сегодня все выглядело бы по-иному!.. Если немцев не тронуть реально, то уж идеально их сдвинуть с места трудно!»
В эти самые тяжелые годы во всех интимных письмах и беседах Гёте можно найти бесчисленное множество подобных высказываний. У него есть для них особые основания. В самом деле, что ему за дело до Пруссии? Разбито ведь не его герцогство. Разбита только эта Пруссия. Невзирая на многолетние возражения Гёте, герцог вмешался в войну и чуть не погубил свое государство. Но ведь разбит только Берлин, средоточие литературных врагов Гёте. Когда король Пруссии приехал в Веймар, он, кажется, даже и не подозревал, что находится в государстве Гёте. Нет, жители Берлина отвратительны поэту по всему своему складу. И неужели ему надо стремиться к тому, чтобы оказаться в подчинении у Пруссии или под гегемонией Австрии, а чего доброго, и России над герцогствами Веймар и Эйзенах? Право, уж лучше владычество Франции. Хотя в Средней Германии в это время приходилось жить тоже с большой опаской. Тут сидел комиссар, который всюду чуял измену и чуть было не расстрелял сына Фойта, отправившего шифрованное письмо.
Правда, герцог со своим прусско-солдафонским воспитанием проклинает французов. Но когда Фальк, уже упомянутый комиссар и почитатель Гёте, жалуется на Карла Августа, Гёте без всяких обиняков говорит ему прямо в лицо: «Чего же хотят французы? Они считают заговором поддержку, которую герцог оказывает раненым и лишенным жалованья прусским офицерам… или то, что он оказал материальную помощь нашему герою Блюхеру? Только так и должен поступать герцог, и никак не иначе. Пусть даже он лишится из-за этого своего государства и подданных».
Но так заступается он за своего герцога, когда обвинителем выступает французский чиновник. Политически же Гёте мыслит совсем иначе. «Мы никогда не были значительными с политической точки зрения, — умно и гордо пишет он Когте, явно рассчитывая на то, что слова эти попадут в газету. — Все наше значение состояло в развитии искусств и наук, которое протекало диспропорционально нашему политическому положению. Покуда положение Германии в целом не станет более определенным, германские государства, а малые в особенности, имеют все основания желать, чтобы их игнорировали».
Гёте не хуже Наполеона делается страстным врагом немецких идеологов, которые хотят бороться против пушек Бонапарта при помощи своей образованности. «Упрямо и упорно противостоять врагу на том основании, что нас напичкали греческим и латынью, а он в них мало что смыслит или даже, может быть, ничего. Какое ребячество и даже пошлость! Ведь это профессорская гордость, точно такая же, как ремесленная или мужичья или еще там какая-нибудь, делающая обладателя ее смешным в той же мере, в какой она вредит ему». Гёте глядит на явления с все более объективной точки зрения и поэтому, в полном противоречии с пафосом, которым охвачены массы. Мнение большинства не имеет для него никакого значения. Он решительно отказывается ненавидеть врага. Для него существуют только культура и варварство. А большой частью своей образованности он обязан Франции. С каким-то особым упрямством он углубляется в чужие литературы. Так же, как в XVIII веке он предвосхитил XIX, так сейчас, в самом начале XIX века, он предвосхитил ведущую мысль XX во всем, что касается международного положения. С решимостью пророка и в предельном одиночестве выступает Гёте против войны и национализма.
Война — это болезнь, говорит Гёте, при которой все силы организма используются только, чтобы питать нечто чуждое и противное природе. Он верит, что солдат «разумнее и умереннее судит о событиях, чем большинство праздно взирающих со стороны филистеров».
Все отвращает его от разъединения народов, все влечет к их объединению. «Наша жизнь, — говорит Гёте сразу же после битвы при Иене, — ведет нас не к обособленности и к отделению от других народов, а, наоборот, к все большему общению с ними.
Наше теперешнее бюргерское существование отлично от существования древних народов. Мы живем гораздо свободнее, мы гораздо менее стеснены, мы не знаем ограниченности, в которой жили древние. Кроме того, государство уже не предъявляет к нам таких требований и нам не приходится ради вознаграждения подчиняться его целям, иначе говоря, целям патрицианской аристократии. Все развитие нашей культуры, даже самой христианской религии, ведет нас к общительности, к сотрудничеству, к уступчивости и ко всем общественным добродетелям. Мы должны уступать и идти на соглашение с собственными чувствами, ощущениями и даже правами, которыми можем обладать, лишь оставаясь в состоянии грубой первобытности».
Вот почему Гёте считает первейшей задачей показать в своих произведениях, и, прежде всего, в автобиографии, смену поколений и эпох. Не зная устали, он призывает друзей науки и искусства «сохранить священный огонь, пусть даже он засыпан золою, для следующего поколения, которое будет так в нем нуждаться».
Тем временем наступает историческая минута, путь Наполеона приходит к концу. Начинается решающий год. В одно майское утро Гёте, который едет в Богемию, видит, что через Германию идут, направляясь в Россию, итальянские полки. Телеги, скот, упряжь и язык — все напоминает ему о юге, но направление, по которому они движутся, магически предвещает восток. В каком-то месте на дороге он замечает в обозе тяжело навьюченного, терпеливого, как сама вечность, верблюда. Фантастическая судьба, пригнавшая его с востока на запад, гонит его теперь обратно на восток. Гёте чувствует, что приближается час, когда решатся судьбы человечества. В августе в одном из своих писем он говорит: «Но что вы скажете, если не в моей власти датировать это письмо иначе как «день торжества Наполеона при оглушительном колокольном звоне и громе пушек. 1812 год».
А в октябре он читает о пожаре Москвы, о поражении Наполеона. Останется ли он верен ему? Нет! Для него Наполеон уже перешел в легенду. Не все ли равно, чем она кончится?
Проходят еще два месяца. Наполеон бежит с востока на запад. Он все еще считал, что участь его это участь Европы. Мысли Наполеона в Париже.
Он все уже взвесил и рассчитал. На всем пути его бегства расставлены лошади, сани и экипажи. День и ночь повелителя непрерывно ждет подстава.
Ночь. Он на какой-то станции. В его экипаж впрягают свежих лошадей.
— Где мы?
— В Веймаре, сир!
Он вспоминает: а, это здесь живет тот, которого однажды он назвал Человеком. Неужели прошло всего четыре года с тех пор, как они встретились в Эрфурте?
Остановившись в Веймаре, Наполеон спрашивает о Гёте. Потом в Эрфурте. Оба раза приказывает своим подчиненным передать ему привет. «Что он говорит, мосье Готт?» Когда Карл Август, заядлый враг Наполеона, сообщает об этом Гёте, он злорадно добавляет: «Как видишь, тебе строят глазки и небо, и ад».
Наступает год освобождения Германии. Пруссия поднимается. Молодежь распевает воинственные песни и потрясает мечами. В Тюрингии разброд в партиях и в полках. Мелкие герцоги не знают, на что решиться. В Средней Германии начинаются стычки между французами и австрийцами.
Иене и Веймару предназначено, очевидно, стать опять полем битвы. Гёте весьма скептически взирает на немногочисленные прусские полки, охраняющие Веймар и «пытающиеся уверить нас, что под их защитой мы в безопасности. Добровольцы ведут себя безобразно и не вызывают к себе никакого доверия». По дороге, в Дрездене, Гёте слышит голос немецкой надежды. Теодор Кернер в полном вооружении встречает поэта и отдает ему воинское приветствие. Рядом с воином стоят его отец и Эрнст Мориц Арндт. Гёте видит и даже слышит, какой подъем охватил всех поголовно. Он сердечно протягивает руки поэтам освободительных войн, говорит: «Что ж, потрясайте своими цепями. Они слишком велики для вас. Вам их не порвать!» — и уезжает, оставив земляков в полной растерянности.
Как пусто на водах этим летом! Не тревожимый никем, он продолжает писать «Поэзию и действительность» и подготавливает народное издание «Германа и Доротеи». На короткое время сюда приезжает и герцог. По секрету он сообщает Гёте, что все немецкие государи замыслили союз против Наполеона. Странные мысли овладевают поэтом. Он не знает, чего опасаться, на что надеяться. В августе он возвращается домой.
Однако Священный союз действительно заключен. Война Франции объявлена. В пути Гёте держит пари с каким-то чиновником, что немцы проиграют войну. И в то время как Фихте призывает немецкую нацию подняться против Наполеона, Гёте равнодушно записывает в своем дневнике: «Я считаю, что учение Фихте нашло осуществление в делах и поступках Наполеона».
Наступает октябрь. Германия и весь мир чувствуют, что развязка близка. Гёте находится в самом центре движения. Он бесстрастно следит за событиями и, оставаясь в Веймаре, отмечает в своем дневнике: «Беспокойная ночь ввиду приближения австрийцев. Спешное отступление французов. Китайские краски… Австрийские разъезды… Путешествие с Марко Поло… Прилежно изучаю Китай. Я припрятал для себя эту важную страну, чтобы в случае нужды, например, сейчас, бежать в нее». И принимается за изучение геологии Китая.
Тем временем в Веймар вступает последнее, самое молодое, пополнение. Командующий французской гвардией генерал Травер, которого Гёте знавал еще в должности адъютанта голландского короля, находит самое гостеприимное убежище в доме поэта. Начинается битва народов.
Три дня, покуда длится битва при Лейпциге, Гёте принимает у себя французского посла, осматривает черепа, извлеченные при раскопках в Ромштедте, изучает английскую историю елизаветинской эпохи, читает «Жиль Блаза», правит гранки своей автобиографии и пишет эпилог к пьесе некоего малоизвестного автора.
Наступает 20 декабря. Поражение Наполеона.
Гёте записывает: «Французы в Веймаре в пять утра. Эпилог. В Клейн-Ромштедте на могильнике… Профессор Штурм. Кончил эпилог». В это время австрийцы арестовывают французского посла, друга Гете. В это же время начинает доноситься французская канонада. Эпилог, который в дни Лейпцигской битвы пишет Гёте, у него выпросили актеры Веймарского театра, чтобы хоть сколько-нибудь придать блеска чрезвычайно посредственной пьесе «Граф Эссекс». Гёте вряд ли мог знать, что этот самый «Эссекс» вдохновил некогда шестнадцатилетнего кадета Наполеона сочинить трагедию, которая явилась прологом ко всем его дальнейшим деяниям. Но в то время как Гёте, добросовестный драматург, изучает историю Елизаветы Английской, чтобы сочинить требуемые от него стихи; в то время как с близкого поля битвы каждый час прибывают все новые растерянные и все более уверенные в победе гонцы, словом, в те четыре дня, когда судьба Наполеона свершается почти что на глазах у Гёте, он, немецкий поэт и министр, обязанный по положению торжествовать победу над врагом, надевает на себя личину королевы английской и с подмостков саксонского театра произносит следующие слова:
Эти стихи написаны в дни Лейпцигской битвы. Они вовсе не эпилог к судьбе английского выскочки. Они эпилог к жизни корсиканца.
Впрочем, произнести его королеве Елизавете удалось только через несколько недель. В ближайшие дни вокруг Веймара кипит битва. С Эттерсберга доносится гром пушек, город дрожит от топота полков, от звуков победных маршей. По ночам его освещают сторожевые костры. Казаки, австрийцы, французы то вступают в город, то бегут из него. Веймар опять в опасности. Охраняется только дом Гёте. Семь лет тому назад в такие же точно октябрьские дни победоносные маршалы из Парижа выдали поэту охранную грамоту. Сейчас победители, кавалеры из Вены, прислали ему отряд охраны. И ту же высокомерно-светскую улыбку, которую семь лет назад в этих самых комнатах подметил маршал Ожеро и которой всего две недели назад он приветствовал генерала Травера, расположившегося у него на постой, замечает сейчас на его губах и граф Колоредо. А Гёте видит только, что солдаты сменяют солдат, что приветствие «Salve!», выложенное прекрасной мозаикой на пороге его тихого дома, покрылось грязью и почти стерто сапогами вояк, и хладнокровно записывает: «Колоредо отбыл. Весь дом вычистили».
Через неделю после последнего визита французского посла Гёте принимает у себя Меттерниха, впервые явившегося к нему с визитом. Вслед за ним появляются Лихтенштейн, Виндишгрец, карлсбадские друзья. А затем Гумбольдт и Гарденберг. И в дворцовом зале Гёте склоняется перед царем, на которого, когда он шел в танце пять лет назад, ему указал император Наполеон, желавший отвлечь внимание немецких литераторов от Тацита.
Но если до сих пор Гёте сомневался в победе Германии, то теперь он сомневается в длительности этой победы. Сначала он вообще не поверил в отступление Наполеона. Он был уверен, что у Эрфурта произойдет еще одна битва. Но победа следует за победой, и он с благодушным скепсисом говорит: «Время покажет, что из всего этого произрастет. Хотел бы я, чтобы неверие мое было посрамлено… Наши молодые господа с удовольствием отправятся в поход, чтобы быть в тягость другим честным людям, так же как те были в тягость нам. Профессия эта чрезвычайно заманчивая: ведь при ней можно прослыть даже пламенным патриотом».
Однако когда его собственный сын, по складу характера никак не солдат, подчинился моде времени и решил поступить в армию, ибо теперь герцог, уже генерал русской службы, ведет немецкий корпус через Рейн, Гёте удерживает его всеми силами дома. Он пишет униженную просьбу герцогу с xoдaтaйcтвoм освободить Августа от военной службы и употребить его для «восстановления». Он так преувеличивает мнимую потребность в сыне, что утверждает, будто отсутствие его лишит отца самой необходимой помощи. «Положение мое станет невыносимым, и я вынужден сказать, что жизнь моя без него немыслима», — пишет Гёте, явно преувеличивая истинное положение вещей и выступая в роли старого отца, который не может пожертвовать единственным сыном. Но вот он узнает, что сын и рукописи находятся в полной безопасности, и снова к нему возвращается ровное, лишенное всякой патетики настроение. Его так и подмывает писать пародии.
«Нам, зашестидесятникам, только и остается, что волочиться за женщинами, иначе они окончательно впадут в отчаяние… Самое мое честолюбивое стремление — услышать, что мне скажут: «You are the merriest undone man in Europe». (Вы самый веселый человек в Европе.) Он катается на санях, «хотя другим это кажется неприличным. Окружающие ведут себя так же нелепо, как в 1806 году, когда они ханжески просили отменить спектакль. Я имел коварство отложить его на четырнадцать дней. Но тогда они принудили меня поставить его. Мы достаточно долго посыпали голову пеплом… Обрати внимание на следующее место в «Литературной газете», только не говори о нем никому: «Пусть наши мужчины и женщины не думают, что немецкий образ мыслей это все равно, что христианский или рыцарский. Первый был ей всегда чужд, а второй, этот чужеродный отпрыск, всегда находился в противоречии с немецкой национальной свободой».
Таково настроение Гёте, которым он поделился с сыном в январе, когда Блюхер перешел через Рейн:
Эти стихи — пролог к последнему большому путешествию Гёте, к его путешествию в Персию.
В Вене только что вышли из печати первые переводы арабских стихов. Как ни неожиданно, но в эпоху Наполеона они оказались чрезвычайно современными — ведь Наполеон перетряхнул все континенты. Он заставил Европу обратить взоры на Азию. Под его знаменами и в Германии появились магометане. В Веймарской протестантской гимназии неожиданно прозвучали стихи из Корана, которые бормотали верующие. На глазах изумленных тюрингцев отслужили богослужение башкиры, важный мулла прошествовал по узким улицам немецкого города, а в театре была организована торжественная встреча восточным принцам.
Восток и раньше воздавал почести западному писателю. Меланхолические глаза обитателей «утренних стран» в молчаливом удивлении взирали на его дом. Они дарили ему стрелы и луки, а он вешал их над своим камином «в знак вечной памяти и дабы господь даровал милым нашим гостям счастливое возвращение на родину». Вскоре после битвы народов немецкие солдаты, вернувшиеся из Испании, привезли Гёте листок из арабского свода. Он почтительно взирал на эту тайну, но, в конце концов, послал расшифровать ученому специалисту. И вскоре сам вступил в царство восточной поэзии.
Он здесь не чужой. Еще юношей написал он драму «Магомет», потом перевел «Песнь песней», глубоко изучал и постоянно перечитывал Ветхий завет. В тифуртском журнале опубликовал он перевод хвалебной песни, одной из тех, которые висят в Мекке в мечети. «Сакунтале» обязан он формой своего «Пролога на театре», Шеллингу и Гегелю — индийскими теориями. Балладой «Бог и баядера» — индийской легенде. Он собирался создать поэтическую переработку Ведд, искал полный перевод «Гитаговинды»; и когда русские дворяне-любители организовали «Азиатское общество», они заручились рекомендацией Гёте. Несколько лет тому назад он изучал «Тысячу и одну ночь» и чуть не накануне последних событий — китайскую историю. Вооруженный таким образом, Гёте вступает в Аравию.
Но что толку было бы во всех этих знаниях, если бы чужая страна не выслала навстречу ему, князю, посла, которого он чтит безгранично, ибо посол этот был некогда одним из его земных воплощений. Его зовут Гафиз.
Путешествие на восток, которое Гёте совершил не в почтовой карете, единственное из всех, не принесшее ему разочарования. В молодости он провел два года в Италии, но тогда он был погружен в серьезные занятия, с трудом формуя уже созданное, ничего не сочиняя. Теперь, когда прошла жизнь почти целого поколения, он два года кряду путешествует в мечтах по Персии и Аравии, дает и берет, собирает жатву и снова сеет.
Гёте поет, поет непрерывно, с таким чувством, с таким огнем, как не пел никогда — ни прежде, в вулканической юности, ни позже, в сосредоточенной старости. «Я немедля отправился в общество персидских поэтов и принялся подражать их шуткам и их важности. Местом своего пребывания я выбрал поэтический центр, Шираз, и отсюда, по примеру бесчисленных мелких князьков, совершаю набеги в самые разные области, но только гораздо более безобидные, чем они… Да, я решил оставаться в пределах, на которые простирались завоевания Тимура, ибо, таким образом, я не встречу препятствий, когда отправлюсь вторично в Палестины моей юности. Я начну изучать арабский, по крайней мере, настолько овладею арабскими письменами, чтобы воспроизводить в оригинале надписи на амулетах и талисманах, на абраксасах и печатях».
А как же Гафиз, которого Гёте встречает с таким почетом и всегда сравнивает свою судьбу с его судьбою, с судьбою поэта, ученого и судьи, который проживал в Ширазе, был там дервишем, софтией, шейхом… Струящиеся его песни самым удивительным образом противоречили его положению и его имени, ибо Гафиз означает «знающий писание», «твердый в Коране». Они пользовались известностью только среди школяров, пьяниц и любовников. Настоящее арабское превосходительство, этот Гафиз, проживавший в столице гуманизма и деливший свое время между службой и мечтаниями. Никуда не выезжая, совершая путешествия лишь между своим просторным домом, диваном и академией, он соткал удивительную легенду о благословенной и замкнутой своей жизни. Совсем как этот, другой поэт, который явился на полтысячелетия позднее и теперь живет, деля время между своим просторным домом, министерством и академией.
Так в один прекрасный день свободно, без заголовка, нисколько не думая о том, что из всего этого выйдет, совсем по-другому, чем в недавние времена, когда всякая случайно возникшая элегия немедленно включалась в схему элегической сюиты, прозанимавшись Гафизом и Фирдоуси всего несколько летних недель, он, как пьяница и как юноша, и по-старому и по-новому набрасывает эти вот стихи:
Пишет, называет их «Предупрежден» и откладывает в сторону. Но уже восточные талисманы сами собой укладываются в западную форму, сами падают на бумагу:
И на другой день, и на третий, и все больше и больше… Краткие изречения, нежные песни. Они прилетают незаметно, и он записывает их твердым почерком, почти без поправок. Так велика притягательная сила восточного магнита, что ей подчиняется все. Наступает лето. Окружающие поговаривают о том, что надо бы поехать в Висбаден. Однако не успел Гёте сесть в карету, как тотчас начинается его творческий сон наяву. Вокруг пламенеют краски летней Тюрингии, но путешественник чувствует себя в Аравии.
К вечеру этого дня Гёте написал семь стихотворений. Он обязан ими Гафизу.
Дорожная карета уже миновала Тюрингию. Гёте видит: идут полки, все на восток, ибо Париж давно уже пал. Но в шуме голосов и военных сигналов ему слышатся совсем другие голоса:
В этих песнях звучит любовь к людям. Они направлены против человеконенавистничества. Что бы ни приключилось с ним в пути (вот какой-то человек с удивлением смотрит на него из своей кареты; вот в трактире к столу подходит нищий), все немедленно обращается в краткие изречения, в песнь. Нежные, как дыхание спящего младенца, излучают они доброту. Вот красивый белокурый кельнер в Висбадене. Вот какой-то неизвестный профессорский сынок.
Во всех видит он Гафизовых виночерпиев, с ними вместе воспевает он вино Рейна, словно вино это выделано на берегах Евфрата. Он собирает свои исписанные листки и, вскорости, называет их «Восточный диван, составленный западным поэтом».
Даже дневник его и тот омолодился. Даже родной город, который он всегда объезжал стороною и так часто бранил, кажется ему сейчас приветливым. Один бродит он в первый вечер после приезда по улицам Франкфурта. Его влечет к старому, давно проданному родительскому дому. Он проходит мимо и слышит, как в комнатах бьют отцовские часы: новый хозяин оставил их на старом месте. Терпеливый, в прекрасном настроении, навещает он престарелых родственников, которых не видел уже несколько десятилетий.
Все, кто раньше избегал одинокого и гордого поэта, видят теперь кроткого человека с блестящими глазами. Даже школьницы осмеливаются подойти к нему на прогулке в Висбадене. Они просят его сочинить поздравление их учителю, и он тотчас же исполняет их просьбу.
Газета «Франкфуртер Оберпостамтсцейтунг» узнала, наконец, что в городе находится его именитый гражданин. В необычайно комичной форме она извещает своих читателей, что к ним прибыл «величайший, старейший, но все еще живой герой нашей литературы».
Удивительные вещи происходят в эти годы с гётевской славой. Кажется, она тоже приняла участие в его обновлении. Со времен «Вертера» имя Гёте никогда не проникало так широко и глубоко в народ, как в годы освобождения Германии, в котором Гёте участвовал, в лучшем случае стоя на весьма и весьма критических позициях. Но, очевидно, нация, которая в эти годы осознала себя, нуждалась сейчас в духовном руководителе. Ей хотелось, чтобы им был старый человек, на которого можно положиться. Но имя, о котором столь курьезно оповестила газета, оказалось совершеннейшей новостью для Германии. «Вертер» появился сорок лет тому назад, он уже устарел. Стихи, которыми написаны «Герман и Доротея», не мог запомнить ни один немец. «Гёц» давно позабыт. Пьесы в стихах непонятны. «Фауст» не сценичен и известен только интеллигенции. «Вильгельм Мейстер» весьма странен, а «Избирательное сродство» аморально и для юношества под запретом.
Зато «Поэзия и действительность» доступна всем решительно. Идиллическая, полная размышлений, она оказалась бесконечно немецкой. Нация, которая собиралась из веймарского министра и сочинителя сделать этакого искателя приключений, увидела обломок исполинского борения, фрагмент, отмеченный великой жизненной суровостью. Массы трогала даже скромность, с которой он говорил о собственных недостатках. Наконец, множество его песен, положенных на музыку, уже проникло в народ. И вот сейчас, когда он так понадобился, когда все обратились к Гёте, дух его оказался в Аравии.
В один прекрасный день в Висбаден приезжает старинный франкфуртский друг Гёте. Тайный советник Виллемер, высокий, сильный, элегантный мужчина пятидесяти пяти лет. Он умен, практичен, благожелателен и сатиричен. С Гёте Виллемер знаком уже лет тридцать. Когда-то, еще молодой наследник старого банкирского дома, он по просьбе Гёте оказал помощь Мерку. Он и сам несколько напоминает Мерка своими деловыми качествами, которые сочетаются у него с литературными. Виллемеру не было еще и сорока, когда он овдовел вторично. У него несколько детей, он рано отошел от дел, он сочинитель комедий на тему хозяйства и воспитания. Долгое время он входил в Веймарский театральный комитет, но, несомненно, больше разбирался в актрисах, чем в трагедиях. Уже много лет назад он случайно открыл одну девчонку. Она и ее нищая мать приехали с театральной труппой из Линца. Жизнь они вели довольно цыганскую. Пятнадцатилетняя актриса пела и плясала в ролях маленьких танцовщиц и субреток, вольтижировала, появлялась из цветка, вылезала в маске Арлекина из яйца и приводила в восторг старых франкфуртских банкиров и молодых поэтов своими стройными ногами. Опытный ценитель женщин решил взять этого ребенка к себе и дать ему воспитание. В сущности, он купил ее у матери, и Марианна Юнг выросла вместе с Розиной, дочерью Виллемера, на положении сестры. Присутствие ее оживляет весь дом и веселит приемного отца. Марианна поет, пишет стихи, бренчит на гитаре, плетет венки из искусственных цветов. Она общительна, год от году прелестнее и, наконец, становится и вовсе красавицей. Названая ее сестра выходит замуж. Виллемер, ее благодетель, стареет. Естественно, он начинает ухаживать за ней, добивается ее любви и не женится. Оба счастливы в своем союзе. Постепенно он перестает считаться ее отцом. Они вместе путешествуют, летом живут за городом в старом сельском, окруженном высокими деревьями доме и наслаждаются жизнью.
Сейчас Марианне тридцать, она в полном расцвете. Нежная, чувствительная, чувственная причудница. Умная и прелестная австриячка. Словно дразня, стоит она рядом со своим другом и протягивает Гёте руку — только что он ухаживал за висбаденской «доченькой» — он выезжал с ней, учил рисовать, воспитывал. Но, прогуливаясь в каком-то винограднике, она резво прыгнула, а он споткнулся и упал…
С удовольствием принимает он приглашение Виллемера приехать к нему в Гербермюле, в имение под Франкфуртом. Впервые через много лет перед Гёте, которому уже минуло шестьдесят пять, открывается дом, где он может погостить несколько недель. Там его встречает еще одна молодая и красивая женщина — рано овдовевшая дочь Виллемера.
Она сразу захвачена Гёте и вот что пишет в первый же день: «Какой человек, и какие чувства меня волнуют!.. Я представляла его себе грубым, недоступным тираном, а нашла в нем душу любящую, доступную всем впечатлениям; человека этого хочется любить, как любят дети, хочется довериться ему до конца… Как легко его присутствие, как отрадно быть рядом с ним! Он так счастливо осыпан дарами природы, он излучает такое сияние, нисколько этим не гордясь. Он словно сосуд, наполненный удивительным вином. И таким он явился сегодня нам».
По утрам Гёте показывается редко. К обеду появляется во фраке, часто ездит в город. Зато к вечеру, облачившись в белый фланелевый сюртук, он становится доступен для окружающих. Срезает в саду цветы своим красивым перочинным ножом, а в длинные сентябрьские вечера рассказывает, декламирует, читает и болтает. Они играют на рояле и поют арии Моцарта. Они пьют и смеются, сидя на террасе, которая обращена на Майн. Скользят огни, лодки, и Гёте мельком вспоминает о бесчисленных днях и ночах, когда, гонимый беспокойством, полубодрствуя, в лихорадке он шел или скакал мимо этого дома.
Ведь отсюда начинается узкая тропинка вдоль берега, которая ведет в Оффенбах, к Лили. Но сейчас никто не волнуется — ни он, ни другие. В Гербермюле царит своя собственная свобода. Многие из первых застольных песен «Дивана», написанных накануне, читает он за бокалом вина. И случается, пишет Буассере, на глаза его навертываются слезы.
А Марианна? Что она чувствует, когда, сидя за фортепьяно у открытого окна, поет песни Гёте и песня ее несется над садом и над рекой? Ни письмо, ни упоминание — ничто не свидетельствует о том, что вспыхнуло сердечное влечение, что оно скоро вырвется наружу. За первыми любовными, но еще беспредметными песнями Гёте сочиняет другие:
А Виллемер? Он тоже знает? Да, старый знаток женщин тотчас разгадал опасность, которой грозит ему старый соперник. Он видит, что счастье, которым он так прочно оснастил свои поздние годы, но которым, без крайней надобности, вовсе не думал себя связать, грозит вот-вот рухнуть. Он видит, в какой опасности находится сердце Марианны. Его самого уже не влекут новые приключения. И через девять дней после приезда Гёте Виллемер делает Марианну, принадлежавшую ему столько лет, своей законной женой. Поспешность, с которой хозяин дома закрепил за собой свою возлюбленную, явилась самой быстрой и самой нежеланной из всех побед, когда-либо одержанных Гёте над женщиной.
Но Гёте вовсе не помышлял разрушить счастье своего друга. Разве он не Гафиз из Шираза? Неужели нужно обладать Марианной, чтобы воспеть Зулейку? Так возникает орфическое стихотворение, полное блаженного томления:
На дворе ноябрь. Он возвращается домой. В Иене и Веймаре он устраивает свою жизнь как можно приятнее. Впервые за много лет едет он на новогодний бал. И тотчас же со страстью предается арабским грезам, забывая о собственной эпохе.
Лозунг всей его жизни — Гафиз. Как понимает он его бегство, его «Хегиру»! Он тоже бежит от своей эпохи, от действительности. Она кажется ему упадочной. И покуда государи Европы и их министры долгие месяцы совещаются, как бы восстановить старый порядок, а потом стремглав бросаются врассыпную, потому что грозный маленький человек сбежал со своего острова, Гёте в один из зимних дней пишет стихи:
Еще минувшим летом описал он трагический зимний поход Наполеона, которого вывел под маской Тимура. Так постепенно Гёте создает «Книгу недовольства», где в отточенных стихах выражает свое недовольство грозным временем.
Но зима, наконец, проходит, и снова становится теплее. Правда, на земном шаре царит полная сумятица, ибо человек, заключенный на Эльбе, очутился вдруг в Париже, и галантный конгресс в ужасе разбежался на все четыре стороны. Гёте улыбается. Его путь в Персию не преградит даже Старая гвардия. Правда, Франкфурт расположен недалеко от границы, но все равно он проведет это лето в Гербермюле. В этом нет никакого сомнения. Очевидно, он и думать не думает о Наполеоне, который так долго был его кумиром.
Все быстро идет к концу. И когда Гёте в июле возвращается в Висбаден, сюда молнией приходит весть о поражении Линьи. Весь Майн охвачен ликованием по поводу исхода битвы при Ватерлоо. Гёте кратко отмечает в дневнике — все. Но что ему сейчас Наполеон? Душа его далека от событий этих дней. Игра, им затеянная, достигает вершины… Влюбленные присвоили себе восточные имена. Юсуф Хатем, Зулейка и Гафиз — так зовут себя поэт и его любимая. Но все еще в тайне. И кажется, все, что происходит, происходит во сне, из которого в раскрытую корзину смертного поэта падают песни и изречения.
А тем временем быстро плывет вниз по Рейну вполне реальное судно. Гёте встречается с фрайгером фон Штейном. Герой его в плену, и Гёте больше доступен германским делам. Сам он спокоен, и сердце его открыто для окружающих, как никогда прежде.
Наступает лето. Нетерпение Гёте возрастает.
В середине августа неожиданно, в полдень, едет он в Гербермюле и остается там на целых полтора месяца. Начинается приятная сельская жизнь. Он реже ездит в город. Зато его навещают гости из Франкфурта. Приехал как-то доктор Кестнер, сын Шарлотты Буфф, и беседа их протекала в размеренных и холодных воспоминаниях. Другой раз поздно вечером являются какой-то герцог и герцогиня. Встретив их у главного входа, Гёте склонился перед ними в низком поклоне. Марианна видела эту сцену, она дразнит его. Какой-то врач организовал «Орден сумасшедших гофратов». В него принимаются одни только выдающиеся люди и лишь при условии, что они совершили какую-нибудь глупость. Гёте настойчиво просит принять его в этот орден, и врач вручает ему торжественный диплом.
В день шестидесятишестилетия Гёте будит утром музыка. Она доносится с лодки, плывущей по Рейну. Он немного недоволен. Потом он находит на столе разложенные веерообразно дары и посвящения. Тюрбан, обвитый лавровым венком, указывает на место действия его поэзии. Чудак врач, сыпля изящными двусмысленностями, пародирует «Поэзию и действительность». А Виллемер пьет здоровье Гёте, откупорив бутылку с вином, пролежавшую в подвале шестьдесят шесть лет.
Так текут недели на родине виноделия.
Но невидимые силы все более настойчиво влекут друг к другу Гафиза и Зулейку. И все пламеннее становятся песни Гёте. В начале сентября он уезжает на неделю в город. Он в разлуке с любимой, и ему легче высказать свои чувства, чем когда он находится с ней в одном доме. Расположившись в гостинице, он берет бумагу зеленого цвета и, подражая восточной вязи, пишет:
Интересно, что она ответит? Кажется, прежде она пописывала славные стишки? Ответ он получает назавтра. И после всех тысяч стихов, которые Гёте положил к ногам женщин, впервые любимая отвечает ему в стихах. Но что это с нею случилось? Острый взор мастера сразу видел, как любовь за одну ночь выковала из приятного маленького талантьица подлинный талант:
Так течет песнь Марианны, написанная в стиле и в дыхании Гёте. Нет, право, их можно спутать.
Ее песнь нисколько не уступает в достоинствах его.
Значит, власть Гёте над ней так велика, что за одни сутки он смог сделать из нее поэта?
Все сильнее влечет его к ней. Он чувствует магическое слияние искусства и желания. Давным-давно, да и то не с такой силой, испытывал он такое же наслаждение вблизи красавицы Короны.
Не успели они опять увидеться, как их охватило пламя. В доме франкфуртского патриция, где царят буржуазные нравы XIX века, игра в Восток обернулась нежданной страстью. Только прячась за светскими формами общежития, удается им скрыть свои чувства от супруга и домочадцев.
И вдруг он решает положить им конец. «Неужели я должен повторить Вецлар?» Он опять без вины виноват: он вторгся в отношения людей, которых любит. Перед ним встает грозная гётевская судьба. Уже время. Есть еще время. Сентябрь. Полнолуние. Буассере — он как раз приехал к нему на несколько дней, — пишет, что этот вечер был полон шуток и веселья. Марианна поет. Виллемер засыпает. Собравшиеся дурачат хозяина дома.
Наконец все расходятся по своим спальням.
Но Гёте хочет разъяснить Буассере природу цветных теней, возникших в двойном свете месяца и свечи. Взяв свечу, они вместе выходят на балкон. Марианна в своей комнате не может уснуть; прислушиваясь, смотрит она из своего окна. И вдруг в этой веселой женщине просыпается чуждая ей стихия, скрытая в ней страсть. На другой день, прощаясь с Гёте, она протягивает ему рисунок. Он стоит, освещенный лучами месяца, и пытается при свете свечи получше разглядеть месяц.
Но в этот последний день дневник Гёте выдает то, чего Буассере, конечно, не мог знать. «Открытие… Мнимый отъезд». Они прощаются. Гёте со своим юным другом едет в Гейдельберг. Остальные обещают через неделю навестить его. Может быть, влюбленных, которые уважали дом своего друга, осенила нежданная мысль и под предлогом поездки они решили встретиться в нейтральном месте? Может быть, только на этом условии отпустила она его? Но в дни разлуки их охватила страсть.
Марианна в нетерпении рвется ему навстречу.
Она заставила супруга ехать раньше, чем было условлено. Виллемер неожиданно появляется за столом у Буассере. Гёте вскакивает, бросается к себе в комнату и в полном смятении говорит: «Не можем же мы есть, когда дамы ждут в гостинице». Виллемер и Буассере спешно отправляются за Марианной и Розиной. Гёте выходит им навстречу.
Стоит осень. В их распоряжении целых три дня.
Ей удается робко сунуть ему в руку листок. Эти строки она написала в дороге.
Потрясенный, держит поэт в руке листок. Позднее он включит его и еще четыре стихотворения Марианны в свой «Диван» и, улучшив в них одну строку, испортит три другие. Но теперь он в изумлении замер перед не знающей узды свободой, которой дышит возросшая в тиши и вдруг прорвавшаяся любовь. Три дня они проводят вместе. Старому юноше кажется, что все возможно, что все желанно и когда арабскими письменами он рисует ее инициалы на песке; никогда, стоя на террасе замка, он в стихах сравнивает спелые каштаны со своими песнями; и когда он вплетает лист-двояшку в таинственную игру «Один и два». Но тут страсть его вырывается из восточной игры, и, рыдая, он говорит:
Проходит три дня, он отрывается от нее. Марианна с мужем возвращаются обратно в свой прекрасный дом. Он обещает заехать к ним на обратном пути. В день разлуки Марианна пишет второй свой шедевр — обращение к западному ветру.
Но он одним-единственным движением, словно бог, тушит пламя. Отъезжает коляска, возлюбленная скрывается вдали. Он знает: это навеки. Он верит — это последняя.
Всего только в одном-единственном слове раскрыл Гёте свою тайную игру. Опустив в стихотворении рифму, он заставляет читателя подставить на место нерифмующегося имени — Хатем подлинное имя влюбленного поэта — Гёте.
Несколько дней Гёте кажется бодрым, устраивает несколько иронический прием герцогу, который проезжает через Гейдельберг, и обещает в Мангейме нагнать его и Ягеман. Во время прогулки беседует с юным Буассере, делает какие-то архитектурные наблюдения, хвалит Виллемера, который вытащил Марианну из среды танцорок, вспоминает, что именно в Гейдельберге (это было сорок лет тому назад) к нему явился гонец от герцога. Счастье ему всегда приносили только люди действия — герцог, Наполеон. Потом заводит речь о своем «Избирательном сродстве».
«На небе зажглись звезды, — рассказывает нам Буассере. — Он говорил, как он относится к Оттилии, как он любил ее, как она сделала его несчастным. Речи его стали полны загадочного предчувствия. Потом он прочел еще веселый стишок. Усталые, возбужденные, охваченные предчувствием и сонные, приехали мы, наконец, в Гейдельберг».
И тут силам его приходит конец. «Я составлю завещание», — говорит он Буассере. Он боится заболеть в дороге, сообщает герцогу, что не приедет в Мангейм, теряет сон, дает Буассере на сохранение некоторые свои стихи. «Я должен бежать», — говорит Гёте. Печальное и тяжелое прощание.
В карете мало-помалу Гёте приходит в себя. «Он уверен, что герцог и Ягеман уже не смогут его догнать, и это явно его успокаивает…» Вечером в холодном номере гостиницы, он читает вслух свои восточные стихи. На другой день он обедает в маленьком местечке. «Нам прислуживает молоденькая, свежая девушка, некрасивая, но с влюбленными глазами. Поцелуй. Темным вечером едем в Вюрцбург». Отсюда молодой человек возвращается обратно. Он не в силах разгадать настроение Гёте. В тот самый день, когда Гёте решил написать свое завещание, он пишет и два письма. Он твердо решил порвать с Марианной, но не решается написать ей, что бежит. И поэтому пишет Розине, дочери Виллемера, а потом и самому Виллемеру. Марианне же он посылает, как они условились, шифрованное письмо. Она подставляет под этот шифр цифры и знаки из свода арабских стихов и читает его прощальное послание.
Ни своего родного города, ни Гербермюле, ни друга, ни Марианны Гёте никогда больше не увидит. Стоит середина октября, и Христиана радостно приветствует мужа в его большом доме. Холодно. Большая печь заменяет солнце. Медленно входит он в обычную жизнь, полную творческих раздумий. Не спеша, составляет он новый сборник стихов.
Где же все это было? На Неккаре? У брегов Евфрата? Очень милые вещицы есть здесь, особенно те, что писала она… Нужно поговорить с Римером и набросать схему будущей книги.
Заметки к «Дивану». — Смерть Христианы. — Больше внимания театру. — Конфликт с герцогом. — Отречение и опять отречение. — Цельтер. — Против большинства. — Презрительное отношение к прессе. Для молодежи. — Европейская реакция. Женитьба Августа. — Несчастное супружество. — Внуки. — Педантизм. — Жалование. — Госпожа фон Штейн. — Кнебель, Мейер, Цельтер. — «Диван Зулейки». — «Годы странствий». — Ежегодники и дневники. «Искусство и древность». — Письма и беседы. — Эккерман. Ример и канцлер Мюллер. — Praeceptor Germaniae. — Слава за рубежом. — «О естественной истории вообще и о морфологии в частности». — Учение о погоде. — «Орфические первоглаголы». Лорд Байрон. — Ульрика фон Левецов. Тяжелая болезнь. — Планы женитьбы. Мария Шимановская. — Отречение.
Кроны старых елей поднимаются до самого застекленного эркера во втором этаже гостиницы, расположенной у реки, почти в двух шагах от Иены. Уже февраль, но зима нынче теплая. И старик, которому и в молодости требовалось больше солнца, чем всем его землякам, греется в скупых лучах, предчувствуя весну. Но что делает он здесь, наверху, в маленькой гостинице, на которую завистливо поглядывал во время одиноких прогулок? Сперва, он снял номер на день, потом, стал оставаться в нем на ночь. Что делает он здесь? Мечтает? Сочиняет?
Да. Работает. Изредка в перерывах поднимает он голову, и тогда взгляд его бродит по низине, по окрестностям и долинам, по горам. «Я живу в своей “Ели”, словно в земле Гесем, весело, спокойно, в то время как над Ниневией — Иеной уже нависла черная туча политики». Сквозь арку моста он видит, как идет сплав по реке. Сплавщик ловко и уверенно справляется со своим делом. Поленницы следуют одна за другой, некоторые плывут по воле божией, некоторые попадают в воронки… «Завтра вода, может быть, еще поднимется, поднимет она и бревна и доставит их за много миль, к месту назначения, прямо к пылающему очагу. Как видишь, мне не к чему тратить время на газеты, перед глазами моими плывут символы всего, что сейчас свершается». И он рассказывает, что сегодня в Кезене, что на Заале, уже открывают лесную ярмарку, хотя сотни будущих городов и сел все еще плывут по воде. «Да пошлет Всезиждитель вселенной процветание и им и всем нам! На вышке, в Заале, в дождь и в бурю… Старика на вершине ели раскачивает, как ворона в гнезде…».
Иронически-созерцательный, равнодушно-отрекающийся. Только этим настроением можно объяснить причуду, заставляющую его жить здесь, за городом. Тридцать лет прошло с тех пор, как в Кастель Гандольфо наслаждался он поздним летом Кампаньи. Никогда больше он уже не жил среди природы. Разве только переезжал на летние месяцы в свой старый садовый домик, на опушке Веймарского парка, и приводил там в порядок старые стихи.
Да, он не пишет стихов, он только приводит в порядок старые. Муза опять отступила в тень. Ему уже минуло шестьдесят семь, и лишь вдали слышится отзвук самого плодотворного его времени, которое только что отзвучало.
Зато он заботливо собрал все, что подарил ему его гений, расположил все его дары по отдельным книгам, написал примечания к ним. Ибо Гёте не только Гафиз-певец, он и Гафиз-ученый. Только он не способен, как Гафиз, взять да и отдать свои песни, рожденные за пиршественным столом, ученикам, чтобы они опубликовали их после его смерти. Bocтoчные песни Гёте были лишь недолгим поэтическим угаром. Но исследовательский интерес к Востоку продолжал жить в нем и дальше. Правда, он не изучил трудного языка Аравии, зато освоил ее красивые письмена. Часами срисовывает он таинственные арабески. В восторге рассматривает ветхое издание Корана. Даже письмо к герцогине начинает с обращения в восточном стиле. В «Примечаниях к дивану» Гёте дал не просто объяснения к стихам. Он сообщает в них, прежде всего, сведения о культуре, которой овладел штурмом, вместо того, чтобы планомерно проникать в отдельные ее области. На этом он и остановился. И хотя после выхода «Дивана» все еще появляются стихи, питающиеся из того же источника, Гёте прекращает свои занятия Востоком. Он «боится его соблазнов».
С Гёте уже нет Христианы. Старик живет в Танненхорсте, думает, диктует. Он один. Он вдовец. Правда, в последние десятилетия ему все чаще не сиделось в комфортабельном своем доме, где толкалось так много посторонних. А теперь ему не хватает в нем того единственного человека, к которому он всегда возвращался.
В последний год, такой счастливый и светлый для Гёте, Христиана уже тяжело болела. Она и раньше была слишком полнокровна, слишком тучна, слишком невоздержанна в еде и в питье. Не мудрено, что ее разбил удар. Правда, скоро она оправилась, она старалась еще бодриться. Гёте писал ей письма, полные нежности. Шарлотта, ее врагиня, навещала ее, а Фриц фон Штейн, стоило ему приехать в Веймар, почти не выходил из ее дома. При дворе он часто встречал Августа фон Гёте. Танцуя на балах в новом дворце, молодые люди с трудом узнали друг друга.
Август напоследок доставил Христиане много радости. Уж очень шел ему новый придворный мундир! Христиана сидит у окна и видит, как Ягеманша, злой недруг Гёте, отъезжает в карете, запряженной четверкой лошадей. Христиане немного завидно.
Впрочем, скоро она успокаивается. Вот только грустно, что Гёте в этом году отсутствует целых пять месяцев. Она должна ехать лечиться в Карлсбад. Приятно, только будет очень уж одиноко, «ведь счастье мое лишь в тебе и в твоей любви».
В мае он приезжает в Иену. Она пишет ему, как красиво цветут яблони и тюльпаны у них в саду.
На другой день ее разбивает второй удар, Гёте советует ей пустить кровь, она не слушается. Скоро оправляется опять и «чувствует себя совсем хорошо. Никакой тяжести, никакого давления… Будь здоров и помни обо мне». Но она опять тяжело заболевает. Он спешит домой, заболевает сам, слуги больны тоже; в доме царит полная сумятица. На другой день Христиана умирает. Гёте лежит в постели, не в силах встать.
Наконец он приподнимается и смотрит в окно своей спаленки. Июньское солнце сражается с тучами. Гёте берет листок бумаги и сочиняет стихи, посвященные Христиане.
«Не стану лгать, — пишет он через две недели другу, — да и к чему притворяться, — я близок к отчаянию». Но настроение это продолжается недолго. Проходит полгода после смерти Христианы. Наступает Новый год. Гёте берет Августа на службу в свое ведомство. Он заявил, что намерен начать новую эпоху на театре. И действительно, увольнения, доклады, отчеты, нововведения так и сыплются одно за другим. Никогда еще в течение последних десяти лет Гёте не посещал так часто свой театр, не устраивал в нем таких длинных совещаний, не инспектировал и не ставил спектаклей сам.
Но неужели он не замечает, что эта чрезмерная деятельность раздражает его противников? Разве забыл, что Ягеман, которая руководит оперой, как-никак вторая жена герцога? Можно подумать, что им движет чужая воля, что, как бывало в юности, по нему бьет молотом судьба, принуждая еще глубже познать себя и окружающую действительность. «Все это дело опять свалилось мне на шею, как много лет тому назад… Я все начинаю сначала. Но я чувствую себя обязанным сохранить уже обветшалое учреждение… Если мне удастся, вплоть до Иванова дня, поработать так же, как я работал в эти три недели, тогда я смогу убраться на все четыре стороны. Право же, моя деятельность принесет больше пользы нашему театру, чем законы Солона афинянам. Теперь мне в помощь прикомандирован сын. Только поэтому я и могу руководить делом в столь щекотливых обстоятельствах. Впрочем, именно щекотливые обстоятельства и придают ему интерес».
Так Гёте работал до марта. И тут в его жизнь, в которой всегда участвовало столько людей, нежданно врывается не человек, а собака…
В Веймар заехал странствующий комедиант и просит разрешения выступить перед публикой со своим знаменитым дрессированным пуделем в одноактной мелодраме «Пес Обри». Гёте отклоняет его просьбу не потому, что презирает собак, но потому, что уважает сцену. Гёте решительно изгоняет из театра пса, и никого это не удивляет. Но бродячий актер находит путь непосредственно к герцогу. Тот выражает желание посмотреть собаку и передает директору театра Гёте свою просьбу разрешить ее выступление. Но Гёте отказывает вторично, да еще под коварным предлогом: собакам вход запрещен даже в зрительный зал. Герцог читает постановление Гёте. В течение сорокалетней их дружбы герцог никогда не выступал как тиран. Но и Гёте был достаточно умен, чтобы никогда не фрондировать. Правда, в свое время он советовал герцогу вступить в Фюрстенбунд, хотя герцогу вовсе этого не хотелось. Правда, после смерти Фридриха II он предостерегал его от союза с Пруссией и уговаривал не брать на себя командование прусским полком, хотя Карл Август просто горел желанием это сделать. Но Гёте всегда действовал так, что герцогу приходилось на собственном горьком опыте убедиться в его правоте. Гёте неизменно вел себя, как слуга-избранник на службе у свободно избранного им государя. И только потихоньку, и то самому себе, он жаловался, что все его великие усилия пошли прахом. После грандиозной попытки преобразовать государство, которую он пытался осуществить в первое десятилетие пребывания в Веймаре, Гёте раз и навсегда отказался от своих намерений. Уже тридцать лет он трудится только на ниве культуры. Зато здесь он правил почти неограниченно. Он имел полное право называть своим детищем и Иенский университет и, конечно же, этот театр, который долгое время считался лучшим в Германии.
Впрочем, с театром у него были трения всегда.
После смерти Шиллера интерес Гёте к сцене почти вовсе иссяк. Тогда и началось царствование бесконечных фавориток и фаворитов. Появление собаки явилось только толчком, который вызвал уже назревший кризис. Но Гёте именно сейчас укрепил свое положение в театре. Уступить — означало дать восторжествовать врагам. И, точно так же, отнесся к случившемуся герцог.
Герцогу было совершенно все равно, где увидеть собаку. Представление могло прекрасно состояться и во дворце. Да и Гёте мог пожертвовать одним вечером, тем более что в этом случае он не нес никакой ответственности. Причины кризиса лежали гораздо глубже.
Великий гнев, который оба эти человека питали друг к другу на протяжении почти всей своей жизни, сейчас — в первый и в последний раз — вылился, наконец, наружу. Когда-то их связала простодушная и мгновенная симпатия. Но прошло всего несколько лет, и они поняли, какое огромное несходство заложено в их характерах. Словно бы очнувшись ото сна, увидели они в резком утреннем свете и окружающих людей и положение вещей и с каким-то сладостным ужасом поняли, что уже навечно скованы цепями. Гёте и Карл Август прожили бок о бок целых пятьдесят лет. Они напоминали супругов, которых прежде связывала любовь, потом наступило отчуждение, и уже много десятилетий каждый шел собственным, и очень далеким от другого путем. Только в старости, когда их связали привычки и обстоятельства, произведения и общие друзья, они опять пришли к доброму согласию. Разумеется, герцог и не помышлял дать Гёте отставку, а Гёте все соображения, и идеального, и практического характера, советовали остаться на посту.
И все-таки, после сорокалетней дружбы случилось то, что случилось. И это еще раз подтвердило, как несовместима была самая сущность характеров поэта и властелина.
Легко было герцогу, невзирая на двойное вето, наложенное его министром, выпустить на сцену пса.
Но это было жалкой попыткой продемонстрировать другу свою силу. Герцогу казалось, что, выпустив собаку, он одержит победу над Гёте.
На другой день режиссер официально доложил Гёте о герцогском приказе. «Приходите завтра, мы еще потолкуем», — говорит Гёте.
Но как же теперь быть? Устроить герцогу сцену? Бросить ему в лицо правду, которую он, Гёте, таил сорок лет? Уехать из Веймара навсегда? Или молча покориться и разрешить представление псу? Сколько раз стоял Гёте перед необходимостью сказать «да» или «нет»? Связать свою судьбу с женщиной или расстаться навеки? И всегда, колеблясь между решениями, Гёте разрешал их одним способом — он бежал.
Вот и сейчас бегство кажется ему единственным выходом. Вопреки тщательности, с которой он обычно все делал в старости, он за два часа упаковал вещи, взял рукописи, рисунки, приборы — словом, все, что могло ему понадобиться, и бежал в Иену.
Режиссер пришел на другой день, но Гёте уже не было. Тотчас же получил заявление и герцог: Гёте просит разрешения не присутствовать на выступлении собаки. Слух о великом событии немедленно облетает маленькую резиденцию. Госпожа фон Штейн и госпожа Шиллер просят разрешения обратиться к посредничеству Кнебеля. Гёте отвечает весьма неопределенно. Но, приехав в Иену, он вовсе не уходит в тихое уединение, и не предается творчеству. Нет, он наносит визиты, присутствует на совещаниях и всячески подчеркивает, что он и есть министр культуры.
Герцог взбешен тем, что его великий друг и противник ускользнул от него. Нет, ему теперь мало возвести на придворную сцену пуделя, и продемонстрировать его всему двору и народу. (В этом пуделе, как и во всяком другом, несомненно, сидит черт!) Герцог счел бы себя побежденным, смирись он с победоносным бегством Гёте. И поэтому он прибегает к самым крайним мерам. На другой же день после выступления пса герцог увольняет Гёте с поста директора театра. Он заявляет, что до него дошли слова Гёте, явно свидетельствующие о том, что Гёте желает уйти. Свое решение герцог объявил интендантству. Следовательно, оно уже не может быть отменено.
Гёте пишет письмо герцогу, самое умное в своей жизни. Оно кажется столь же раболепным, сколь на самом деле независимо, злобно и полно коварных намеков. Получив это письмо, победитель тотчас превращается в побежденного.
«Ваше высочество, — пишет его бывший министр, — как это уже столь часто бывало и прежде, изволили всемилостивейше пойти навстречу моим пожеланиям и даже предвосхитить их. Значит, я тем более имел право их питать… Примите поэтому благодарность, которой я обязан вам за все милости и снисхождение, которыми я пользовался во время моей службы; и полагаю, что мне будет и впредь милостиво разрешено оказывать влияние на дело, в котором, как я надеюсь, у меня есть некоторый опыт и познания». Сын Гёте также просит уволить его от службы, ибо «мое и его пребывание в Иене полезно… и поэтому смею просить о длительном отпуске… Вашего высочества верноподданный слуга В. Гёте».
Но почему он не уехал из государства Веймарского совсем? Почему не отказался от поста министра? Практические соображения не имеют силы. Он совершенно свободен, он волен отправиться в любое место Германии и даже в любое место земного шара. Он не мог не предвидеть, какое раздражение охватит страну, когда она узнает, что Гёте сместили с должности из-за пуделя. Страна действительно стала бы на его сторону, если бы он покинул Веймар. Так почему же он остался?
Да потому, что именно в Веймаре самая подходящая среда для его деятельности. Потому что сейчас опять наступила непоэтическая эпоха, и он снова ощущает потребность в практической деятельности.
Потому что ему уже минуло шестьдесят восемь лет. Потому что он стал мудрым и знает, что, оставшись, одержит победу. Нет, Гёте не уподобился персидскому поэту, историю которого он только что рассказал в примечаниях к своему «Дивану». Тому поэту, Фирдоуси, который, оскорбившись, когда за его тридцатилетний труд царь вручил ему слишком малую награду, покинул дворец и умер в гневе.
Гёте смолчал и остался. Но это только укрепило его безмолвную власть. Многие из актеров покидают, словно в знак протеста, веймарскую сцену и навещают его в Иене. Их искреннее участие свидетельствует о том, что «они понимают, какие титанические силы понадобились ему, чтобы под покровом браминской выдержки и терпения в течение тридцати лет из ничего создать нечто. И это нечто, при всех его несовершенствах, было так прекрасно, что я только с неохотой отказался от него… Доклад Эда, при всем уме и осторожности докладчика, позволил мне заглянуть в гниющее болото, в котором скоро погибнет все. Нам удавалось сохранять напиток хотя бы в растворе уксуса, но теперь гниль — а известно, с какой быстротой она распространяется, — уже явственно проступила наружу».
Какая смесь насмешки, гордости, грусти, оскорбления и злорадства! Как юношески дрожит оскорбленное сердце! Каким старым прикидывается зрелый ум! Старый Гёте, первый министр и бунтарь, восставший против своего герцога! Вот он сидит летним вечером за бутылкой вина со своими актерами. А они рассказывают уволенному директору о неурядицах, которые начались при новом режиме. Сцена эта как-то не подходит к его жизни. Она напоминает судьбу Рембрандта. Войди сюда случайный посетитель, которого назавтра встретит его превосходительство, украшенное звездой, он просто не поверил бы своим глазам.
Отречение во всем! Закрылись карие глаза спутницы жизни. Изменил старый друг, изгнал его из дела, им созданного. Не прошло и полутора лет с тех пор, как он расстался с Марианной. А теперь он бежал от пуделя. В эти дни и снял с него маску Шадов. Да, и слепок с руки Гёте сделан в тот же год. Соразмерно с туловищем рука Гёте мала. Она нисколько не красива и вовсе не узка, какой якобы должна быть рука художника. Это коренастая рука, с толстыми фалангами, маленькая, мясистая, пожалуй, женственная. По сравнению с пальцами ладонь у него широкая, большая, волевая, да и пальцы кажутся ловкими, умелыми, работящими. Зато запястье удивительно узкое. Не удивительно, что эта рука двигалась так мягко и так нежно. Отречение — доминирующее настроение семидесятилетнего Гёте. Оно сказывается в меланхолии, которая производит еще более сильное впечатление, когда в старом сердце звучат юношеские элегии.
Как-то в одну из минут грусти Гёте попадается «Вертер». Он не в силах понять, «как мог человек выдержать еще целых сорок лет в мире, который уже в ранней юности казался ему столь абсурдным. Загадку эту можно отчасти разрешить, если вспомнить, что каждый человек несет в себе Нечто и надеется, что это Нечто выявится вполне, надо только позволить ему развиться. Но это удивительное существо лишь морочит нас изо дня в день. И мы становимся стариками, так и не зная, как и почему. Впрочем, пристально вглядевшись в это Нечто, я понимаю, что оно есть мой талант. И только оно помогает мне выбраться из всех положений, которые вовсе не соответствуют мне, и в которых я запутался лишь оттого, что случайно или из пассивности пошел по неправильному пути».
И Гёте пишет Шубарту, своему первому и самому любимому комментатору: «Я должен был отказаться от собственной жизни, чтобы через много лет насладиться тем, чем человек хочет наслаждаться каждый день. Я подразумеваю — признание, успех!» А еще в другом месте письма он описывает, как ему «пришлось держаться, а потом пойти навстречу удаче и, наконец, поднявшись на бурной волне жизни, если и не пристать к берегу, то хотя бы укрыться в спасительной бухте». Эти же мысли высказаны в «Годах странствий», над которыми Гёте теперь работает уже систематичнее, и в более поздних песнях «Дивана».
И все-таки семидесятилетний старик погружен в такую же неутомимую деятельность, как и двадцатисемилетний молодой человек. Он по-прежнему строит и управляет, улучшает и систематизирует, и вся эта деятельность гораздо ближе к тому, чем он занимался в свои первые министерские годы, а не к среднему периоду, когда он отдавал все свои силы главным образом писательскому труду.
Гёте опять окружен только своими фрагментами и набросками. Достигнув глубокой старости, он опять ничего не пишет целых восемь лет. Но это нисколько его не беспокоит. Старое дерево все еще растет, подчиняясь только законам природы, и поэтому даже остановки в росте оказываются для него плодотворными. Все, чем Гёте занимается сейчас в роли министра и естествоиспытателя, окажется необходимым, в конечном счете, чтобы в нем вновь пробудился поэт.
Мудрый старец из Танненхорста — это только одна из форм теперешнего его существования. Его посещают и совсем другие настроения; и тогда старый демон прорывается сквозь все рогатки смирения ничуть не меньше, чем в юности. Годы Гафиза и Зулейки не могли явиться конечной точкой в развитии этого раздвоенного и все еще сражающегося человека. Умереть, достигнув только этой точки, тоже не могло быть уделом такой души. Гёте опять раздирают самые противоречивые страсти. Победа его над ними, очевидно, отсрочена. Только когда окончательно определится исход битвы, которая непрерывно происходит в его душе, — только тогда он сможет умереть.
О таком, о бурном, Гёте мы узнаем из его рассказа о летней ночи, которую он провел вместе с Мейером и с заядлым спорщиком филологом Вольфом.
Этого вечного спорщика он «зверски» тогда обругал. «К счастью или к несчастью, я выпил столько стаканов бургундского, сколько вовсе не полагается, так что вышел из всякой мерки. Всегда сдержанный Мейер сидел с нами, но был весьма растерян». А ведь обычно стоит в доме у Гёте вспыхнуть ссоре, как он тотчас же восклицает: «Успокойтесь! Успокойтесь немедленно!». И продолжает восклицать, даже когда все уже успокоились. Но он делает это, чтобы успокоить самого себя.
Сохранилась одна биографическая заметка. Как много других таких же блистательных строк, она, никем не замеченная, валялась в пыльном и грустном углу на задворках шестидесятитомного собрания его сочинений. «Наш разум был бы великой силой, если бы знал врага, которого он обязан осилить. Но природа наша беспрерывно принимает все новые и новые обличья, и каждое из них становится негаданным врагом доброго и всегда неизменного разума», — так пишет Гёте, который неожиданно снова начал работать без устали.
Он сам сравнивает свою комнату в Иене с рабочим кабинетом Фауста. В ней также много бумаг, аппаратов, моделей. Гёте охвачен, как он говорит, настоящим бешенством. «За последние пять месяцев вся жизнь моя перешла на бумагу. И ты бы подивился при виде бесконечных штабелей рукописей, которые я непрерывно отправляю в переплет».
Два обстоятельства дали новый толчок деятельности Гёте. Во-первых, Венский конгресс провозгласил Веймар Великим герцогством, увеличив территорию его чуть ли не вдвое. Во-вторых, Фойт — ближайший сотрудник Гёте — умер. И хотя официально Гёте по-прежнему только министр культуры, круг его обязанностей увеличился в четыре раза. Как старший по рангу, он исполняет обязанности премьер-министра. И хотя он по-прежнему занимается только вопросами науки и искусства, в руках его сосредоточены крупные государственные средства. Что ж, пусть с опозданием, но он все-таки осуществит старые свои планы! Наконец-то он может расправить так долго связанные крылья. Библиотека, собрания монет, рисунков, художественный институт в Веймаре, семь кабинетов естествознания в Иене, ботанический сад там же, медицинское училище, обсерватория, химический факультет и еще одна библиотека — все эти учреждения находятся в полном подчинении у Гёте. Под его руководством реконструируют обсерваторию, открывают ветеринарное училище, строят, преодолевая огромные препятствия, новое здание библиотеки. Гёте проявляет самые незаурядные финансовые способности. Недаром он некогда был министром финансов.
А теперь он организует даже нечто вроде негласной Академии наук, в которую входят представители всех институтов. Раз в квартал созывает он научных сотрудников на совещания, ведет интересную переписку с девятью профессорами: ему приходится привлекать их на свою сторону, успокаивать, ободрять. Совсем как в старые времена, он простирает свои заботы решительно на все — делает эскиз решетчатой двери для одного из отделов библиотеки, указывает, какие части этой решетки изготовить в Веймаре, из какого дерева, какие детали покрыть бронзой и т. д.
Но вскоре начинаются разочарования и огорчения.
Необходимо избегать трений, отказываться от многих начинаний, бороться с кликами, ломать предубеждения. «Жизнь становится все более странной. Приходится расходовать свои силы на самые неотложные дела, а на то, что находится в некотором отдалении, уже попросту не хватает сил».
Герцог, который в шестьдесят пять лет наконец-то стал Великим герцогом, хочет назначить Гёте куратором университета. Но Гёте отказывается от этого поста. Он решительно не желает объединять факультеты, практически работающие совершенно самостоятельно. Знаток людей, а ученых в особенности, Гёте намерен сохранить автономию факультетов. Он предсказывает, что, когда он умрет, и их объединят, начатое им дело будет погублено. Конечно, он отказывается под тем предлогом, что он стар и перегружен делами, но в заметках раскрывает истинную причину своего отказа. «Выполнять эти обязанности, — пишет Гёте, — можно, только обладая полнотой власти». Здесь снова сказалось отрицательное отношение Гёте к конституционному образу правления.
Наступили новые времена, но он без всяких иллюзий взирает на происходящее. Власть как таковая никогда не ослепляла его. С холодным равнодушием относится он к тому, что территория герцогства увеличилась вдвое. Вот он стоит в огромном зале нового дворца, который он сам так деятельно строил. Здесь собрались представители сословий, чтобы принести присягу Великому герцогу. Гёте стоит первым справа у трона своего друга и повелителя, который наконец-то стал королевским высочеством.
Он старается держаться как можно прямее, хотя годы согнули его. На парадном, шитом золотом мундире сверкают ордена, пожалованные Наполеоном и русским царем. Он оглядывает дворян и бюргеров, которых в качестве своих представителей впервые прислала сюда страна. В этом зале нет ни одного человека, кого бы эта церемония оставила столь холодным, как Гёте.
Как чужды ему все эти лица, обращенные на своего первого и столь прославленного министра! Как мало здесь людей, к которым он расположен! В своих частных письмах он даже не упоминает об этом огромном территориальном приросте государства, которому служит вот уж сорок лет. Очень апатично описывает он некоторым друзьям прошедшее торжество. И когда Якоб Гримм предлагает ему заключить нечто вроде духовного союза с новым государственным руководством, Гёте признается, что в этом кругу он был всегда лишь легкомысленным путником, который никогда не мог осесть где-нибудь навсегда. Правда, из чистовика своего письма он эту фразу изъял — боялся, как бы она не стала достоянием гласности.
Гёте чувствует себя в полнейшем одиночестве, и для этого есть конкретные основания. Он противник новой конституции, которую герцог, выполняя обязательства Венского конгресса, и, кажется, единственный из всех немецких правителей, дал своей стране. Карл Август реорганизовал свой старый Тайный совет в Совет министров и предоставил сословиям бюргерам и крестьянам — право участия в управлении государством.
Гёте — решительный противник права большинства. Правда, в вопросах искусства он всегда проявлял искреннее смирение. Он о многом советовался с Гердером, Шиллером, с Кнебелем и Виландом. Но когда в Совете министров речь идет о практических вопросах, которые он уже тщательно продумал и взвесил, а тут их начинают разбирать, обсуждать и откладывать… Нет, он с величайшим трудом переносит эту церемонию, и много грустных вздохов и даже проклятий слышится в его частных письмах.
Он, который исстари причислял политику к искусству, должен сидеть в совете по культуре и дрожать перед бюргером из Апольды, перед мужиком из Кронберга, боясь, что они не утвердят сумму, которую он потребовал для приобретения античных слепков. «Людей в массе объединяют только предрассудки, а волнуют только страсти, и это часто омрачает и искажает даже самую благородную цель. Но, продолжает Гёте, — несмотря на это, все и всегда приходит к прекраснейшим результатам, если даже не в данную минуту, так в будущем; если не непосредственно, зато в итоге». Мысль Гёте выражена здесь совершенно ясно. Да, он занимает такую же противоречивую позицию, как и двадцать пять лет тому назад, во время французской революции. Как государственный деятель и практик, он романтик. Он признает только олигархический образ правления. Родись он властелином, он не уступил бы и пяди от своих прерогатив. Да, он правил бы самодержавно, как Фридрих, как Иосиф II. Именно так управлял он и своим театром, ибо здесь власть его была неограниченна. И все-таки как мыслитель, провидящий будущее, он видит новые горизонты, на которых явственно проступают контуры демократии. Великие колебания в ритмах — от свободы к скованности, — которые сменяются в жизни Гёте, он переносит и на окружающий его мир. Все, что в дальнейшем может показаться в нем нелогичным, противоречивым, — все это следствие полярности его характера. Позицию между реакцией и свободой, которую Гёте занял в старости, можно понять, только если помнить о коренных элементах его существа, о его попытках сохранить существующее и при этом развивать то, что мерещится вдали.
«Имей я несчастье, — говорит семидесятитрехлетний Гёте, — состоять в оппозиции, я бы предпочел обратиться с призывом поднять мятеж и революцию, чем без конца кружиться по мрачному кругу порицания действительности. Никогда в жизни не становился я во враждебную и бесполезную оппозицию к могущественному потоку массы или к господствующему принципу, но всегда предпочитал, подобно улитке, спрятаться в свою раковину и жить в ней, как заблагорассудится… Все мы наделены особым органом недовольства и досады… И в конце концов, впав в отчаяние, ищем причину своих бед в окружающем, вместо того чтобы обнаружить ее в собственном нашем неразумии».
Противоречивые побуждения и мнения, которые всегда раздирали Гёте, заставляют его занять в старости сложную политическую позицию. Ее нелегко понять со стороны.
Согласно новой конституции Карл Август дал своему государству свободу печати. Однако во всей остальной Саксонии по-прежнему царят автократический образ правления и цензура. Маленькое «государство свободы», естественно, привлекает к себе критические умы. Они присоединяются к тем критикам, которых и без того великое множество в столице поэтов и профессоров. В крошечной Иене немедленно открывается пять новых журналов, и все они тотчас же атакуют новую конституцию. Критики утверждают, что по отношению к зарубежным государствам конституция является опасным экспериментом, а для самого Веймара карикатурой на свободу. Герцог в ярости. Он совершенно искренне верит в свою конституцию и потому заявляет, что уволит профессора, который редактирует самый левый из новых журналов. Закрыть журнал всего через два месяца после дарованных им привилегий герцог не решается.
Гёте советует поступить как раз наоборот — закрыть журнал и пощадить издателя. На протяжении сорока лет он сам непрерывно сталкивался с непониманием и бестактностью прессы. Он презирает ее. Но личность ученого кажется ему священной. Даже выговор он считает мерой непозволительной! Нет, только мудрая и сильная диктатура может сломить анархию печати. Сегодня пресса нападает на правящего герцога, завтра она посягнет на его семью. «Какие могут быть тут сомнения! Разве можно не прекратить ее атаки только потому, что эллинские цари считали ниже своего достоинства карать за выпады, направленные против них лично?.. Гораздо мужественнее дать отнять себе ногу, чем умереть от антонова огня».
И вдруг в это самое время, словно напоминание, которое посылает история, всплыла копия давно потерянного «Прометея». Пятьдесят лет тому назад Гёте отдал ее Ленцу, или, может быть, тот, не спросясь, взял ее? Но Ленц умер, в бумагах его нашли старый список и вернули Гёте. Старик улыбается улыбкой Мефистофеля. Отрывок кажется ему острым, странным, современным и санкюлотским. Просто удивительно, как это мог такой непокорный огонь тлеть под поэтическим пеплом целых полвека, но «теперь он перебрасывается на горючий материал и грозит вспыхнуть губительным пламенем». И Гёте приказывает Цельтеру, который снимает новую копию с «Прометея», позаботиться, чтобы он не проник в печать. Старик не хочет шума. И хотя он только и делает, что сочиняет сатирические стихи, направленные и против правого и против левого лагерей, он не выпускает их из своих четырех стен и сует в свой большой «Вальпургиевый мешок».
Учащаяся молодежь разочарована порядками, которые вместо обещанной свободы утвердились в стране. Она проникается неукротимой ненавистью ко всему, что происходит в Германии, над которой тяготеет опека монархической Австрии и царской России.
И все это Гёте предвидел.
В 1817 году иенские студенты обращаются с призывом к братьям по всей Германии почтить память Лютера на Вартбурге в последний день октября. Гёте возражает против организации этого празднества, и его немедленно предают позору: «Ага! Он поддерживает реакцию!!!» Зато герцог полностью одобряет своих профессоров, которые поведут пятьсот молодых немцев на Лютерову гору и отпразднуют там день немецкой свободы. Собравшись на Вартбурге, молодежь произносит речи, полные самой неукротимой ненависти к притеснителям свободы, раскладывает костер и сжигает на нем злобные произведения реакции. Дыхание Фамы раздувает маленькое аутодафе, в грандиозный пожар. Веймар и его правительство провозглашают рассадником революционных идей. Гарденберг прибывает собственной персоной, да еще в сопровождении австрийского посла. Властители Франции и России, убоявшись, что восстание немецких умов грозит их тронам, уже готовы обрушить всевозможные кары на Веймар. Дело грозит перерасти в государственный кризис. Под ударом находится сама веймарская династия, хотя Карл Август и делает вид, будто против него ополчилась одна только «пошлость».
Гёте в чрезвычайно резких выражениях говорит с друзьями о герцоге, необычайно тяжело переживает кризис и избегает появляться в обществе. Зато он сразу вступается за молодежь. Костер на Вартбурге разогрел и его старое сердце. А кроме того, в этом огне сгорели все политические сочинения его врага — Коцебу. Еще совсем недавно этот царский агент проживал в Веймаре, всего в двух шагах от дома Гёте. Так что вартбургский костер доставил старому поэту двойное удовольствие. И он даже воспел его в стихах.
Да! Он предостерегал от устройства празднества! Он предвидел его последствия! Но теперь творят суд и расправу над молодежью, и он встает на защиту ее идеалов. «Нет ничего прелестнее молодежи — со всеми ее недостатками. Если бы только старики не были такими ослами! Ведь это они портят игру», доверительно пишет Гёте своему сыну. И продолжает разыгрывать из себя неприступного министра. Когда к нему приходит один из главных ораторов Вартбургского празднества, он принимает его, храня презрительное молчание. Но не успел студент уйти, как Гёте признается, что сдерживал себя изо всех сил — так ему хотелось броситься юнцу в объятия и сказать: «Милый мальчик, не будь же таким дураком!». Гёте с восторгом вспоминает о сверкающих глазах юноши; однако теперь ему придется применить успокоительное, не то «как бы чего не случилось с милыми моими буянами». Не правда ли, как все это напоминает нам сцену из Шиллера? Любящий отец-философ разыгрывает из себя холодного светского человека, чтобы дать восторжествовать разуму. «Я совершенно согласен (с монархистами) в их желании сохранить существующий порядок вещей и предотвратить революцию. Но я не согласен с теми средствами, которые они применяют. Они призывают на помощь себе глупость и мрак, а я — разум и свет».
Шум, поднятый вокруг Вартбургского празднества, только усилил реакцию. Через два года был убит Коцебу. Это привело к самым роковым последствиям.
В интимной обстановке Гёте говорил, что смерть Коцебу — неизбежное возмездие за его беспримерный обман и преступления. Но последствия этого убийства ужасны, и Гёте уже не может их предотвратить. С того самого дня начались жесточайшие преследования всего прогрессивного. Любой либеральный студент и профессор оказывался под угрозой.
Из Иенского университета увольняют радикального издателя, журнал его закрывают. Но уже слишком поздно. Германия и Россия объявляют крамольный Иенский университет вне закона. Гёте до глубины души потрясен участью своего любимого детища. Впрочем, он и сам оказывается под подозрением у Священного союза, ибо Иена слывет очагом мятежного духа. Но мало того. Молодые фрондеры из вражеского лагеря тоже набрасываются на Гёте и величают его «герцогским холопом». Гёте молча отворачивается от обоих лагерей. Он остается один.
Он один и в собственном доме. Ему пришлось смириться и здесь. Христиана умерла. Когда-то она вносила в его жизнь беспокойство, и оно часто гнало его прочь. Теперь Христианы нет, но беспокойства не поубавилось. Опять повторяется гётевская судьба — он много дает, но взамен мало что получает.
Через год после смерти Христианы он женил сына. Именно женил, даже сам приискал ему невесту. А невесту прельщал не столько жених, сколько его отец. Августу скоро тридцать. После введения новых порядков, он получил чин камер-советника и служит по ведомству своего отца. Август стал красивым мужчиной. Глаза его напоминают отцовские, мягкий и округлый овал лица унаследовал он от матери, а ростом гораздо выше обоих. Отец всегда заставлял его заниматься физическими упражнениями. Фигура Августа отличается воистину греческими пропорциями, зато сам он отличается необычайным душевным беспокойством, и ни работа, ни склонности не способны утишить его. У Августа нет никаких выраженных склонностей. Вот почему, стараясь исправить сына и увести от беспорядочной, распущенной, унылой жизни, Гёте и решил его женить. Но он совершил ошибку. Он заставил его расстаться с возлюбленной, вместо того чтобы подождать, покуда непостоянный бросит ее сам.
Невеста Августа Оттилия фон Погвиш происходила из обнищавшего рода северогерманских дворян. Дочь фрейлины двора, которая давно уже жила в разводе, Оттилия с первого взгляда казалась очаровательной. Гибкая, хрупкая, с тонким бледным лицом, она была одаренна и умна, но ее вечно терзала неутоленная жажда любви и приключений. Правда, в авантюры она пускалась только под покровительством двора. Став невесткой Гёте, Оттилия вошла в интимный круг его друзей. Она живет с ним под одной крышей, и для нее не так важна любовь молодого, сколько общество старика. Ей нужны и этот огромный дом и эта великая слава, но только как фон, как обстановка, в которой она может удовлетворять все свои желания. Пятнадцать последних лет жизни Гёте прожил бок о бок с Оттилией. Она хозяйка его дома. Но молодая, иногда очаровательная, часто болеющая женщина, всегда очень капризная, мало, что вносит в его жизнь. Она — «доченька», такие окружали его и прежде, только гораздо более эгоистичная.
А Гёте ищет учеников среди молодежи. Но в Августе и Оттилии он не находит их. В лучшем случае они слушатели. Ребячливо и безлично звучит рассказ Августа о премьере «Фауста» в Берлине, на которой он присутствовал. Произведения Гёте не оказывают на него никакого влияния. Обоих гораздо больше волнуют пьесы Коцебу. Старик добродушно рассказывает, что, когда вчера его дети вернулись из театра, лица их так и сияли счастьем, они досыта нарыдались там «слезами удовольствия». Оттилия способна чувствовать тонко, но у нее нет того женского слуха, который всегда искал Гёте и который нашел только раз в жизни — у Шарлотты фон Штейн. Оттилии не хватает жертвенного начала, собранности, любви к окружающим. Ей гораздо приятнее коллекционировать гётевские первоиздания, принимать в его доме двор и в Берлине, перед Гогенцоллернами, представлять династию Гёте.
Но и эти обязанности она выполняет только в соответствующем настроении. Причуды страсти нередко заставляют ее пренебрегать обществом, хотя она не может жить без него, и приносить в жертву красивому поклоннику, особенно если он англичанин, порядок в доме, отца, мужа и детей. Некогда Веймар несправедливо обвинял в подобных грехах беззащитную Христиану, но Оттилия насладилась ими вдоволь, да еще под покровом законности.
Зато, не в пример Христиане, она очень мало делает для Гёте. Женив сына, старик надеялся, что теперь, в глубокой старости, он сможет вести жизнь в семейном кругу и в то же время в свете. Однако ему часто приходилось отказываться от своих желаний. Брачная жизнь Августа очень скоро разладилась, между супругами возникают раздоры, брак их оказывается несчастливым. Слишком часто ссоры вспыхивают в присутствии Гёте. Общество молодых приносит ему мало радости. Он чувствует себя еще более одиноким, чем прежде. «Превосходный Мейер очень нездоров, сын мой занят, Ример тоже… Фройлейн Ульрика (сестра Оттилии) уехала в Берлин, невестка моя вращается в своем кругу. Вот и стоишь совсем один среди христианского мира».
Так пишет семидесятидвухлетний старик. И как много смирения в его тихой жалобе.
Молодая женщина наводняет дом Гёте своими родственниками. Сестра и мать Оттилии живут здесь целыми месяцами. В доме царит придворная атмосфера — много легких встреч, туалетов и окололитературной болтовни. Гёте поступает точно так же, как двадцать лет тому назад, когда Христиана поселила в его изысканном доме всю свою родню. Образ жизни тех людей был ему, в сущности, не более чужд, чем жизнь его невестки. Он опять уезжает в Иену. И живет там по многу месяцев, иногда даже по полгода. Как и встарь, он обитает в двух тесных комнатках, в «Танненхорсте» он прожил всего одну весну. А дом, в котором он творит, который полон его коллекций, необходим молодым людям, превратившим его в центр светской жизни. Стоит старому господину покинуть свое жилище, и молодежь тотчас о нем забывает. Ему бесконечно приходится напоминать сыну о своих нуждах, о продуктах, которые необходимо послать в Иену. Наконец в один прекрасный день Гёте отправляет в Веймар своего слугу с коляской, и ему привозят его кухарку. Совершив этот государственный переворот, Гёте начинает, наконец, пользоваться удобствами, которыми пользовались только его дети. И все-таки, он не имеет иногда возможности принять у себя иностранных ученых, потому что ему не прислали из Веймара то, что он просил, и ему приходится «всякими способами попрошайничать» и добывать все необходимое в Иене.
Да и в собственном доме ему не так-то легко принять почетного гостя. Он вынужден посылать вперед своего секретаря с дипломатическим поручением: «Если дети мои расположены увидеть моего посетителя, то мне это будет чрезвычайно приятно. Он чрезвычайно милый молодой человек». Однажды он заболевает в Иене, но Оттилия бросает его одного и уезжает. И он робко пишет сыну: «В сущности, присутствие Оттилии было бы очень желательно именно сегодня. Нездоровье, кажется, готово покинуть меня, но оно уходит, очевидно, через глаза, я ничего не вижу».
Даже когда он делает им подарки, легкомысленная молодая чета доставляет ему хлопоты. Например, он посылает Оттилии из Иены дыню, только настоятельно просит прислать обратно семена, «а если возможно, то и семена от прошлой дыни. Садовники очень дорожат хорошими сортами. Но, чтобы тебе особенно захотелось сделать мне любезность, которая может оказаться полезной и тебе в будущем году, сообщаю, что я получил четверть центнера нот, которые и будут вручены тебе в качестве обменного дара за семена». Друзья его тоже шлют ей подарки, но он вынужден извиняться перед ними за то, что она забывает их поблагодарить. Когда же молодые едут в Берлин, Гёте просит Цельтера проследить, чтобы сын и дочь побывали с визитом у всех, у кого нужно. Два раза спрашивает он о размере ее ноги, ибо хочет привезти ей шелковые чулки из Богемии. И единственное, за что он им действительно благодарен, это двое его внучат.
В эти годы Гёте стал дедом многих внучат.
К нему обращаются со всей Германии и, ссылаясь на какие-то отдаленные связи, просят его крестить детей. Впрочем, когда у него спрашивают разрешения назвать новорожденного Вольфгангом, он всегда просит назвать его Вильгельмом, как Шекспира. Теперь он становится настоящим дедом. Гёте и в двадцать лет любил детей, всех, какие только встречались. А уж в семьдесят он тем более привязывается к малышам. Играя с внучатами, он становится похож и на младенца, и на мудреца.
«Я занят воспитанием моего внука. Оно состоит в том, что я позволяю ему делать решительно все, что ему заблагорассудится, и надеюсь таким способом образовать его прежде, чем вернутся родители… Я люблю его слепой дедовской любовью… считаю, что прелестнее нет никого на свете, и одно его присутствие заполняет весь наш пустынный огромный дом и даже сад. Все ягоды поспевают только для него одного; и когда я вижу, как он лакомится ими, смутное воспоминание о времени, когда я тоже любил ягоды, переходит в желание отведать их опять. Самая его любимая игрушка — ключи, которые он без конца тычет в замочную скважину».
К крестинам первого внука Гёте сочиняет даже особую, «минералогическую», колыбельную:
Дети его ведут роскошный образ жизни; они тратят все, что он зарабатывает. Как и встарь, ему приходится вникать в хозяйственные заботы, и он вынужден заниматься расчетами. Да, ему выгоднее оставаться в Иене, потому что Август дежурит теперь при дворе, а «Оттилия обедает в аристократических домах в городе, так что домашняя касса сможет немного отдохнуть».
Впрочем, в старости Гёте становится все более педантичным. В нем словно воскресает его отец.
Все тщательнее сортирует он свои бумаги. Это превращается просто в какую-то манию. Аккуратно распределяет между своими помощниками материал, который они должны будут издать как его наследство. Бесконечно обращается во все инстанции, чтобы не дать возвести новый дом рядом со своим садом. А уж если возведут, тогда пусть соседу позволят прорубить только самые маленькие окна и только под самой крышей. Но, несмотря на все хлопоты, ему приходится отступиться от своих требований, и. он вынужден надстроить ограду вокруг собственного сада.
Гёте так тщательно ведет свои денежные дела, что хотя он диктует решительно все на свете, но счета своему издателю пишет обычно собственноручно. Он переводит в Веймар из Франкфурта свое наследство и, чтобы не платить Вольному городу налоги, отказывается от франкфуртского гражданства. А между тем он получает теперь не только высокие гонорары, но и двойное жалованье. Как только Веймар получил звание Великого герцогства, Гёте подал прошение на семи страницах и, не смущаясь, потребовал увеличить ему жалованье. Это требование он обосновывает даже ссылкой на свою славу. Уже много лет, пишет Гёте, вынужден он вести энергичную деятельность, рассчитанную и на заграницу. Веймар пользуется репутацией цитадели науки и искусства не только в Германии, но и в Европе. Давно уже вошло в обычай обращаться в Веймар за советом во всех спорных случаях, касающихся науки и искусства. Гердер, Шиллер, Виланд и другие уже умерли, и, таким образом, все обязанности легли на него одного. «Не проходит дня, чтобы сотни людей не писали мне. И я вынужден если не отвечать на все обращения, то хотя бы любезно их отклонять. Принимая во внимание все эти обстоятельства, я с некоторым правом рассматриваю себя как лицо общественное…»
И герцог утверждает ему жалованье, по тем временам небывалое, — 3000 талеров в год.
Гёте нужны деньги для коллекций, комфорта, но, прежде всего, для его детей и для той светской жизни, которую он хочет вести у себя дома. Целую зиму у него чуть не каждый вечер собираются гости, а по вторникам и совсем многолюдное общество. Очевидно, рисуя жизнь своего «дядюшки» в «Годах странствий Вильгельма Мейстера», Гёте обрисовал собственный житейский идеал. «Дядюшка любит то приглашать к себе друзей, то удалять их от себя — в зависимости от настроения. Куда бы он ни ехал, за ним повсюду следует походная кухня, и он грезит новым своим изобретением: хочет, чтобы в гостиницах постояльцы ели, сидя за отдельными столиками».
Гёте любит бывать теперь в обществе. Но он покидает его, как только ему заблагорассудится. На официальных своих приемах он появляется, когда все гости — их встречают Август и Оттилия — уже в сборе. Держится он чопорно, выходит во фраке, при орденах и звездах, разыгрывает из себя превосходительство и только потом, и то в зависимости от личности гостя, вступает в более интимное общение.
Обычно он стоит, заложив руки за спину. Эта поза, по его же словам, выражает уверенность в себе. Принимая посетителей, он не протягивает им руки, да и прощаясь, подает только тем, кто ему понравился. Зато людей, которых он уважает за их дела или произведения, Гёте встречает с поразительной теплотой. Советник полиции, с которым Гёте общался запросто, просто диву дается, увидя, с какой необычайной церемонностью принимает Гёте двух известных профессоров, явившихся засвидетельствовать ему свое почтение. Но вдруг в веймарский дом входит молодой ученый, с которым Гёте обменивался письмами по вопросам естествознания. Хозяин немедленно ведет его к себе в кабинет. Они стоят у стола, что-то рисуя и измеряя. Наконец входит слуга, приносит хлеб, и Гёте стоя ломает его пополам и делится с гостем.
Впрочем, каждый, кто входит по широкой лестнице в этот дом, испытывает чувство страха и почтения. Многие, заочно трепетавшие перед ним, увидев его, становятся естественными и доверчивыми. Другие, решившие наперед, что они-то уж напрямик выложат ему все, что думают, наоборот, немеют. Но, Как бы там ни было, страх испытывали решительно все.
Различные чувства, которые он вызывал в людях, свидетельствуют, сколь противоречиво его существо.
«Я наделен некоторой особенностью, — писал уже семидесятилетний Гёте, — которая составляет мое счастье и несчастье. Я всегда даю окружающим либо больше, чем им хочется, либо меньше, и очень редко ровно столько, сколько они желают». Вот почему его старые друзья часто радовались, страдая, и, страдая, радовались. Да, бывают минуты, когда сердце Гёте кажется сделанным из стекла — так оно ясно, кристально, прозрачно. Но бывают другие минуты, даже когда Гёте достиг старчества, и тогда в сердце его пульсирует самая горячая человечность. «Конечно, говорит Гёте, — только человек, наделенный особой чувствительностью, может стать самым холодным и самым твердым. Он вынужден надеть твердый панцирь, чтобы защитить себя от грубых прикосновений, но панцирь этот часто становится ему в тягость».
Прочтя «Поэзию и действительность», престарелая Шарлотта фон Штейн написала своему сыну: «На его месте я не могла бы быть столь откровенна с публикой». Но все-таки только она нашла самые верные слова, характеризующие Гёте: «Мне хотелось бы называть вас — Дающий». И опять, как бывало, он посвящает ей стихи. Он вообще все больше печется о последних старых своих друзьях — о Кнебеле, Мейере, Цельтере. Только на некоторое время входят в этот ближайший его круг мальчик-музыкант и юноша-философ. В ту самую зиму, когда при скупом свете короткого дня Гёте, грустный и разочарованный, сидел у себя дома, по величественной лестнице его дома взбегает двенадцатилетний Феликс Мендельсон: только что его открыл Цельтер. Красивый мальчик садится за рояль, и Гёте не может наслушаться удивительных импровизаций. Поэт ласкает и балует ребенка и зовет его своим Давидом, который отгоняет музыкой злые видения.
Шопенгауэра Гёте отличил тотчас же, хотя его мизантропический и самоуверенный нрав и раздражает старика. Задолго до того, как Шопенгауэр написал свое главное произведение — «Мир как воля и представление», еще когда он был совсем юным, Гёте отметил его одаренность.
Позднее он говорил, что Шопенгауэр человек непонятный, что постичь его очень трудно. Он пробовал заинтересовать его своим учением о цвете. Но когда Шопенгауэр в своем «Опыте о зрении и цветах» выходит за пределы теории Гёте, тот в досаде пишет:
Гёте слишком далек от мировоззрения Шопенгауэра. Получив его труд, он несколько дней усердно читает книгу, хвалит ясность изображения и стиль, пишет любезную записку сестре автора, пребывающей в тревоге. Но самому Шопенгауэру он не написал ничего.
Насколько Гёте понимал характер Шопенгауэра, ярко отразилось в стихотворении, которое он написал ему в альбом:
И Шопенгауэр, как ни дулся он на Гёте, понял мудрость этого изречения. Он с такой страстной почтительностью относился к особе Гёте, что выдрал из своего альбома все листы, за исключением этого одного, и берег его до самой своей смерти.
Аделаида, сестра Шопенгауэра, частый гость в доме Гёте. Она умеет вырезать силуэты и принадлежит к тем «доченькам», которые всегда приятны Гёте. Ибо, хотя он не чувствует уже потребности в женщинах, но отсутствие женщин ощущает всегда. Впрочем, его настроение лишено эротики. Только посещение юной графини Эглофштейн еще взволновало его. Как и все эти юные девушки, как Оттилия, графиня тоже пишет стихи; кроме того, она еще и рисует, и Гёте явно и намеренно преувеличивает ее таланты, превозносит их публично.
Только в далекой дали все еще сверкает образ Зулейки. Никогда ни к одной женщине не хранил Гёте такой светлой нежности, как к ней, — долгие годы. Он пишет письма супругам. Они обмениваются дарами и мыслями — любезно, просто, с восточной непринужденностью.
Вначале он еще не уверен в себе. Они расстались в октябре, а в июне умерла Христиана. Он и прежде был в странной нерешительности — то обещал гейдельбергским друзьям приехать, то писал, что не приедет. Наконец он уславливается встретиться с Цельтером и вместе с ним ехать в Баден. Очевидно, он объедет Франкфурт стороной. Впрочем, сердце, может быть, все-таки приведет его к Марианне, в Гербермюле. А может быть, Марианну повлечет в Баден. Гёте все еще в нерешительности уезжает из Веймара. Что, если поступить, как подсказывает судьба? Ведь жена его умерла.
В первый же день путешествия — ему сопутствует Мейер — ломается ось, коляска опрокидывается, путешественники падают. Гёте остается невредим, Мейер слегка расшиб лоб; оба возвращаются в Веймар. Гёте воспринимает случившееся как предзнаменование. «То был случай, который должно чтить, как божество; и да пойдет нам на благо то, что за ним воспоследует». Но мысль о заколдованном круге любви превратила его опять в Гафиза. Даже в стиле письма выражается фатализм.
И действительно, видно, фатум, сломавший ось его колеса, решил навсегда разлучить его с Зулейкой. Марианна и Гёте так и не увиделись больше. В этот период у Гёте отсутствует внутреннее побуждение к творчеству. Все его литературные работы — только продолжение или завершение ранее начатого. Пишет он много, но, за исключением нескольких стихотворений, не создает ничего, что шло бы в сравнение с четырьмя главными произведениями, созданными в предшествующие годы. Он и сам это сознает. За бурным морским приливом, из которого родился «Диван», наступает лирический штиль. И только изредка звучат его великолепные песни — «Май», «В полночь» и другие. А вот рифмованных поговорок появляется тьма. В них Гёте выражает свою старческую мудрость.
Как-то вечером сидит он вдвоем с Оттилией и рассказывает ей «историю, одну из тех, которых у меня так много. Ей хочется прочесть эту вещь, и я вынужден признаться, что она существует только в моем воображении… С тех пор я почти и не вспоминал об этом рассказе… Теперь (уже через год) приезжаю я слишком рано, мне скучно, вынимаю из портфеля десть писчей бумаги, тонкий венский карандаш и начинаю писать…» Потом, разумеется, диктует, и история выливается в новеллу, которую он присоединяет к другим, так быстро написанным двенадцать лет тому назад, в то счастливое карлсбадское лето. Так легко, как бы случайно, возникает остов первой редакции «Годов странствий Вильгельма Мейстера». Когда он опубликовал этот роман, ему минуло уже семьдесят два года. А когда он завершил годы учений своего Вильгельма, ему было сорок семь. Той, первой, книге он дал подзаголовок «Требующие», этой — «Отрекающиеся».
Только сюжет первого тома и общее настроение «Странствий» возникли в последнее время. Все остальное, даже великолепную новеллу «Бегство из Египта», Гёте придумал двадцать лет тому назад. Но уже в первой трети произведения ясно обнаружился основной принцип писателя: не символизировать реальность, а переводить символическое в реальный план. Прием, чрезвычайно характерный для всего творчества Гёте. Даже пятьдесят лет назад он, по меткому определению Мерка, извлекал поэзию из действительности, тогда как другие поэтизировали действительность. Точно так же он сорок лет тому назад пытался перевести авантюрные похождения в самую обычную будничную жизнь, тогда как герцог не знал удержу в стремлении превратить обыденную жизнь в сплошную авантюру.
Мудрость, которой дышит первый том романа «Годы странствий», намного превосходит «Годы учения». Зато по силе образного выражения поздняя книга Гёте не может идти ни в какое сравнение с предыдущей. Даже построение романа — излишние подробности, педантизм — носит приметы старости. И это отличает не только роман, но и другие произведения, которые публикует теперь Гёте. В отдельных частях «Из моей жизни» — в первой половине «Итальянского путешествия», в «Кампании во Франции» — уже нет той пластичности, того богатства изображения, которыми изобиловали первые отрывки из его биографии. И виновата в этом не описываемая эпоха, а то время, в которое он писал. В шестьдесят лет он переживал вторую молодость, и у него еще достало сил, чтобы изобразить свою юность. Теперь семидесятилетнему старику, проникнутому смирением, приходится цепляться за документы — свидетельство его итальянского путешествия или пребывания на фронте. Используя для новых частей «Поэзии и действительности» свои путевые записки, Гёте оставляет их почти без изменения. Зато письма, которые ему удается выпросить у своих адресатов, особенно письма к Шарлотте фон Штейн, он уродует с яростью, искажает их до неузнаваемости: разрезает на полосы, вымарывает из них все личное, вычеркивает красным карандашом все факты, с которыми давно «покончил». Поэтому-то читателя так разочаровывают поздние произведения Гёте. Старчески равнодушными кажутся нам «Дневники и ежегодники», в которых кратко отмечаются события за последние тридцать лет жизни. Драгоценные исповеди он, как правило, обволакивает тучами скуки. Обо всех душевных переживаниях умалчивает. О своих произведениях говорит мимоходом. Зато поименно перечисляет всех герцогов и князей, с которыми повстречался в своей жизни. Ни слова не сказано о смерти Христианы или Гердера. Ни слова о том, что герцог уволил его из театра. Зато он бесконечно сетует по поводу того, что герцогиня сломала руку.
Гёте никак не может дописать свою биографию и смиренно сообщает другу: «Конечно, только в старости мы понимаем, с чем мы столкнулись в юности. Нет, мы никогда ничему не можем научиться».
Творческий инстинкт Гёте замирает, зато расцветает критический. В журнале «Искусство и древность» он устраивает нечто вроде богадельни для своих эстетических суждений. Все шесть томов журнала, который он издал в последние десять лет жизни, написаны почти им одним. В них он сообщает о состоянии современной литературы во всех европейских странах. Об изобразительном искусстве чуть ли не всех времен. О монетах и геммах. О песнях, языках и биографиях. О праве и о политике. Обычно Гёте черпает свои сведения из посчитанного. Но он так быстро переходит от сообщений к собственным обобщениям, что книги и журналы превращаются в собрание его эстетических взглядов.
Теперь его уже нередко раздражает новое искусство. Он решительно восстает против живописи и поэзии, которые носят на себе налет романтизма, особенно против живописи «Назареев». По поручению Гёте Мейер составляет манифест «Новонемецкое религиозно-патриотическое искусство». Оно написано в мужественном гётевском духе, направлено против католического искусства и сильно задело романтическую молодежь. Гёте решительно не намерен терпеть средневековье в конце XIX века. Правда, он собирает старые гравюры, опять изучает архитектуру Кельнского собора, но сердце его далеко от этого искусства.
В одном только Бахе Гёте находит ясность, которая его восхищает. О дорогих его сердцу греках Гёте говорит, прибегая к персидскому сравнению: «Эта нация сумела извлечь из многих тысяч роз маленький флакон розового масла». Молча стоит он перед последними картинами Тициана и сравнивает их с собственными старческими произведениями. Под конец жизни Тициан — так кажется Гёте — писал символами то, что он прежде писал конкретно. Писал уже не бархат, а только идею бархата. Это определение Гёте мог бы отнести и к себе.
С новой страстью и нетерпением обращается старик к античности. Грандиозное впечатление произвел на него парфянский фриз, который лорд Элгин только привез в Лондон. Нетерпеливый, как юноша, Гёте немедленно заказывает для государственного музея слепок с конной головы, «дабы невозможно было обойтись и без причитающегося к сему героя».
Среди произведений Гёте этого периода необходимо назвать его письма. Старый Гёте ежегодно диктовал их около трехсот.
Но отчетливее всего раскрывается старый Гёте в своих беседах, ибо в них, как говорится в «Годах странствий», «содержится то, что не содержится ни в одной книге, и самое лучшее изо всего, что только может быть в книгах. Поэтому я вменяю себе в обязанность сохранить некоторые хорошие мысли». Он позволяет это делать своим друзьям и помощникам. Но каждый человек слышит всегда только то, что заключено в собственном его сердце. Поэтому в любом изображении может возникнуть искаженный образ. Только из суммы бесед, собранных разными лицами, встает цельная и законченная фигура Гёте. Таких лиц было шесть.
Самым ненадежным оказался легационный советник Фальк. Он удивительно умен и поэтому замечательно ловко перемешал мысли Гёте с мыслями Фалька. Эккерман, верный Буассере и швейцарец Соре точны в передаче, умеют тонко чувствовать, но передали они только случайные свои впечатления. Эккерман фактичен, по большей части правдив, но скучен и всегда излагает собственные пространные ответы в разговоре с Гёте. Все, что пишет Эккерман, лишено звучания живого слова. Язык его «Разговоров» неудачно стилизован под классический. А третья их часть написана Эккерманом уже через шестнадцать лет после смерти Гёте и в основном составлена по французским записям Соре. Они еще больше стилизованы, а во многом и просто неверны.
Кроме случайных посетителей — особенно историка Лудена, который сам умел говорить на важные темы, а кроме того, обладал способностью удерживать в памяти решительно все, — только Ример да канцлер фон Мюллер глубоко восприняли мысли Гёте и сумели воссоздать образ Гёте-собеседника. Правда, Ример дал мизантропического Гёте, а Мюллер — скептического. Но тем легче увидеть в их изображении маски, которые надевал на себя Гёте.
Перед канцлером Гёте всегда раскрывал свою душу. Ему он делал признания, которые Мюллер унес с собой в могилу. Но самые интимные подробности о жизни Гёте знали только Мейер и Цельтер. В них Гёте был совершенно уверен. Он знал, что они будут молчать вечно.
Как раз в эту пору Гёте стал Praeceptor Germaniae — наставником Германии. Он дожил до того времени, когда молодежь начала воспринимать его как явление историческое. Сам он занимал по отношению к юношеству позицию противоречивую. Но он редко выступает против враждебных ему направлений. Даже с романтизмом полемизирует в эпиграммах, которые не публикует. И не позволяет своим приверженцам публиковать статьи, направленные против его противников.
Новейших писателей, как уверяет Гёте, он не отрицает и не принимает. «Очень хорошо, когда молодые умные люди, представления которых близки нашим, говорят о том, что чувствуем и мы».
Но случалось, что молодой поэт одним своим настроением, стихом, внешностью, взглядом сразу покорял старого поэта. Случалось, ему нравились стихи благовоспитанных юношей, которых сегодня никто не знает. Но когда однажды к нему пришел студент Генрих Гейне и заявил, что он пишет Фауста, Гёте тотчас же отпустил его. «А больше у вас никаких дел в Веймаре нет?» — только и сказал старик на прощание. Впрочем, программная поэзия ему всегда была ненавистна.
Зато к зарубежным писателям Гёте относился куда мягче. Им он позволял быть даже романтиками.
Он заступался за Оленшлегера, когда тот писал по-датски. А вот когда Оленшлегер начал в том же стиле писать по-немецки, Гёте сразу от него отошел.
Романтизм в Германии все больше срастался с католичеством и реакцией, и союз этот становился все более опасным. За рубежом позиция романтизма была иной, она не задевала Гёте. Во многих статьях он рекомендует вниманию читателей сербские песни, русскую поэзию. Хвалит и переводит Мандзони. Греческие студенты знакомят его с новыми героическими песнями своей родины. Гёте широко популяризирует их, а студенты переводят на новогреческий его «Ифигению».
Слава Гёте распространяется за границей. Она служит ему оружием против врагов. В своем журнале он печатает переводы статей и отрывки из книг, посвященных ему, которые выходят в Париже и Лондоне. Он хочет «показать друзьям, что не только тупая толпа (как пытаются заставить поверить мою нацию) по неразумию своему любит мои произведения». Действительно, зарубежная слава поднимает имя Гёте и на родине. Правда, отдельным его произведениям все еще не удается пробиться к читателю, и его по-прежнему оскорбляет, когда превозносят старые его вещи и нисколько не ценят новые.
Да и в театре его играют больше любители. В маленьком берлинском дворце Монбижу принц Радзивилл поставил отрывки из «Фауста» и заставил духа Земли появиться в обличье Гёте.
Да, в старости он опять вошел в славу. Его возвели даже в ранг национального мудреца. «Как странно, хотя и естественно, что окружающие спекулируют на наших последних творениях, обращаясь к ним, словно к книгам сивилл. А ведь предыдущие наши книги они холодно и преступно отправляли на костер». Действительно, к Гёте обращаются теперь с самыми удивительными вопросами и из самых далеких углов. У него спрашивают совета, жениться ли и как вести свои коммерческие дела. Князья, путешественники, ученые и дилетанты посылают ему камни и монеты. Он получает аметисты с Камчатки, а какой-то коллекционер посылает старому язычнику коллекцию церковной утвари.
День своего семидесятилетия Гёте проводит один, в дорожной карете на пути в Карлсбад. Впрочем, города, через которые он проезжает, проявляют активность. Они проводят собрания в честь Гёте, выбивают медали с его именем, его избирают почетным членом самых различных обществ. А все-таки лучший подарок, полученный в эти дни, — письмо восьмидесятипятилетней тетки, сестры его матери, которая желает своему племяннику дожить до ее лет, читать газету без очков и гулять по три часа в день, словом, чувствовать себя, совсем как она.
Во Франкфурте также собрались с духом и решили воздвигнуть ему памятник при жизни. Специально созданный комитет обращается к Гёте с просьбой — не согласится ли он поехать к скульптору Данекеру, которому поручено изваять его бюст? Гёте совершенно равнодушен к этой затее. Он просит разрешения не ехать к скульптору, а просто послать ему свою маску. И только когда в Иену приезжает сам знаменитейший Райх, специально чтобы лепить Гёте, поэт отбрасывает ложную скромность. Впрочем, место, выбранное для памятника, ему не нравится — оно сырое и далеко от центра города. Гёте предлагает водрузить свой бюст в зале библиотеки, рядом с бюстами, увековечивающими других знаменитых людей. Он написал даже статью: «Рассуждения о памятнике писателю Гёте, который сооружают в его родном городе». И эта статья о собственном памятнике кажется удивительным сплавом из объективности, самомнения, педантизма и непосредственности.
Среди многих чужих голосов, которые раздавались вокруг Гёте в последние годы его жизни, до него дошел и голос друга. Он не слышал его больше пятидесяти лет. Графиня Августа Штольберг все еще не забыла Гёте, хотя так никогда и не увидела его. Она бережно сохранила его бесценный залог — все дневники и письма, которые разбитый, измученный молодой Гёте посылал ей из Франкфурта. То было в смутные времена Лили, когда Гёте то возносился на небеса, то спускался в преисподнюю. С тех пор граф Штольберг успел стать католиком и отрекся от Гёте, а она превратилась в ревностную гернгутовку. Целых девять дней сочиняла Августа свое агитационное послание. Он долго не решается отправить ей ответ. Ведь когда-то ее брат обиделся, получив от него подобное разъяснение. И все-таки, через несколько месяцев, встав после тяжелой болезни, Гёте отослал свое письмо. Он пишет к благородной женщине, которую любил когда-то издалека и которая хочет помочь ему. Гордость и внутренняя свобода диктуют Гёте нежные и смиренные строчки.
«…Всю жизнь я честно относился к себе и к другим и во всех земных делах всегда стремился к самому высокому. К этому же стремились вы и ваши друзья. Давайте же, покуда нам еще светит солнце, поступать так же и впредь. И тогда мы будем спокойны за свое будущее! В царстве отца нашего много провинций; и если здесь, на земле, он отвел нам столь радостное поселение, значит он, конечно, позаботится о нас и на небесах. И тогда, быть может, сбудется то, чего нам не удалось сделать на земле: мы увидим и полюбим друг друга еще сильней. Помните же обо мне со спокойной преданностью». Гёте деликатен с Августой, но не поддается на ее увещания. Недаром он когда-то сказал, что как художник он политеист, а как ученый — пантеист. Теперь, в старости, он законченный пантеист, всегда и во всем.
Гёте решительно проводит твердую границу между собой и всеми, кто устремляется к религии. Нет, он не признает никаких сект и никаких чудес! Совсем как Мефистофеля, тончайший нюх Гёте предостерегает его от всех мистических соблазнов; он навсегда остается в царстве осязаемого. «Я не создан для этого», — пишет Гёте некоему естествоиспытателю, отказываясь прочитать его труд о магнетизме, и намеренно преувеличивая свои чувственные мотивы. «Когда глаз мой закрывается, а мозг перестает мною управлять, тогда я испытываю сильнейшее желание впасть в самый естественный сон. Если вспомнить, что некогда я был другом Лафатера, который придавал столь естественному чуду значение религиозное, меня самого иногда удивляет, как же это я не поддался соблазну. Я был похож на человека, который расхаживает вдоль ручья, не испытывая ни малейшего желания выкупаться. И, очевидно, настроения мои соответствовали природе, иначе они не продержались бы до старости… Но даже если нам приходится сталкиваться с чем-то необъяснимым, право, не нужно относиться к этому слишком серьезно. Поэт при всей своей скромности вынужден признаться, что состояние, в котором он находится, больше всего напоминает сон наяву, и тогда многое вокруг кажется происходящим тоже во сне».
Гёте-ученого отпугивает любая религиозная и мистическая догма. И никто не может заманить его из царства природы в сверхчувственный мир. Гёте и в старости ни за что не предаст свой глаз и свой разум, которые открыли ему вселенную.
Ему минуло семьдесят лет. Он уже отрекся от жизни. Он замкнулся и творит в очень узком кругу, деля свое время между Веймаром и Иеной. Достигнув мудрости и спокойствия, он исследует, пишет. И вдруг душу его потрясает явление еще невиданное… Сверкая и искрясь, промчался по Европе Байрон. Впервые, спустя долгое время, старая Европа увидала художника, чья жизнь прославила его больше, чем творения. Впрочем, и творения не уступали его жизни. Быстро, словно всепожирающий веселый огонь, испепелила себя эта жизнь, охваченная жаждой самоистребления, наслаждения, тоски. Казалось, она явилась олицетворением слов, которые Гёте как раз перед рождением Байрона вложил в уста своего Фауста:
Гениальность Байрона (ему только что минуло тридцать пять лет) долго не могла найти художественного воплощения, материала, адекватного ей. Поэзия его звучала как крик. Он не напрасно жаловался, что Наполеон похитил у него славу. Лорд и пэр Англии, Байрон красив, храбр, высокообразован. Несчастный брак покрыл его позором и вынудил покинуть родину. Британский высший свет, к которому он принадлежал и который упивался его стихами, подверг его остракизму. Целых десять лет бродил он с места на место, кочуя по югу Европы; был возлюбленным прекраснейших и знатнейших женщин Италии, другом великих художников и выдающихся умов.
Страстная и меланхоличная поэзия Байрона прославила его во всем мире. Но человек, восставший в стихах против целого света, был в то же время бездействен и безволен. Казалось, в нем живет стихия саморазрушения.
Жизнь Гёте противоположна Байроновой во всем. Решительно никто из всех его собратьев по искусству не мог вывести его из равновесия. Все они были намного мельче, чем он. Все они скоро терпели крушение.
И вот уже в глубокой старости Гёте встретил художника, равного себе.
Правда, сперва личность Байрона приковала внимание Гёте гораздо больше, чем его поэзия. К ней Гёте привык еще очень не скоро. «Ипохондрическая страстность Байрона и его бешеная ненависть к себе самому меня отталкивали. И хотя я пытался приблизиться к его великой личности, но свойства его поэзии грозили окончательно отдалить меня от его музы…» Тогда почему же Байрон оказал такое влияние на Гёте? Ведь Гёте был чрезвычайно скуп на эпитет «великий» в применении к современникам, за всю свою долгую жизнь он наградил этим титулом только Наполеона. Гёте никогда не разговаривал с Байроном, никогда не видел его. Он никак не мог испытать на себе очарования его личности. Подвигов за Байроном еще тоже не числилось. А поэзия его, сперва, больше раздражала Гёте, чем убеждала.
Гёте увлекла гениальность и необузданность этого человека, бешеный темп его жизни, его страсть, его мировая скорбь — все те чувства, которые некогда сотрясали и его самого. Приключения, путешествия, любовные увлечения, в которых за неимением армии и престола расточал себя английский поэт, были ведомы и Гёте. Правда, жизнь немецкого поэта протекла иначе. Но в этом были повинны только масштабы немецкой действительности — затхлость отчего дома, ограниченность франкфуртского адвокатского сословия, рогатки, которые ставила его любви богатая банкирская семья, темные закоулки и переходы в здании суда, узость отечественных газет.
Оглядываясь на свою юность, Гёте видел, что чувства, владевшие молодым чужеземным поэтом, нисколько не превосходили чувства, владевшие некогда им самим. Зато во всем, что касалось внешней стороны жизни — лордства, богатства, женщин, дуэлей, скачек, путешествий, — Гёте, разумеется, не мог с ним равняться. И он восхищался абсолютной анархией этого сверкающего существования.
Впрочем, он прекрасно видел и царивший в нем мрак — преувеличения, неправду, которыми была полна душа Байрона. Он видел, что Байрон беспрерывно взвинчивает и разжигает себя собственным пафосом, что он талант, рожденный для самомучения. «Манера Байрона жить и творить мешает судить о нем справедливо. Он сам часто сознавался в том, что его терзает… но вряд ли найдется хоть один человек, который не сострадал бы невыносимой боли, с которой бесконечно носится и к которой всегда возвращается Байрон». Даже восхищаясь трагедией Байрона «Манфред», которая, как известно, явилась вариацией к «Фаусту», Гёте жестоко критикует ее. «В конце концов, нас утомляет мрачный огонь безграничного отчаяния». А в беседе со знакомыми Гёте заявил, что месяцев через шесть он, вероятно, выступит с критической статьей против Байрона.
И вдруг, совершенно неожиданно, Гёте страстно вступается за Байрона. До него дошли вести о его фантастической жизни. Он восхищен им, а заодно и его поэзией. Как раз в это время Байрон обращается к нему с посвящением. Гёте польщен чрезвычайно. Он и впрямь пишет статью о Байроне, о его «редкостной жизни и творчестве, столь необычном и тем более замечательном, что вряд ли в течение многих минувших столетий мы могли бы найти нечто, подобное ему». В столь же приподнятом тоне Гёте пишет о «Каине», о «Дон Жуане» — об этих «безгранично гениальных произведениях, поэт которых не знает равных себе».
Правда, в личных беседах Гёте высказывает суждения более трезвые. Он находит, что «Дон Жуан» еще более грандиозен и буен, чем все предыдущие вещи Байрона, но бесконечные повторения в нем утомляют. «Вот будь Байрон живописцем, картины его ценились бы на вес золота».
Из рассказов друзей Гёте знает, что Байрон собирается посвятить ему трагедию «Сарданапал». Трагедия появляется, но без посвящения. Гёте все-таки удалось его раздобыть, отпечатать литографским способом и разослать своим друзьям. Наконец следующее произведение Байрона выходит уже и вправду с посвящением. Гёте так взволнован, что даже не в силах благодарить.
А жизнь Байрона взлетает действительно на огромную высоту. Вместе с немногими друзьями он готовится отплыть в Элладу, чтобы отдать свое состояние, пафос, талант и волю великому делу освобождения Греции от турецкого ига. Байрону тридцать пять лет, Гёте семьдесят. Он вполне сознает величие дела, которому отдает себя Байрон, — дела, так не хватавшего в его собственной жизни! Наконец-то у него появился герой. Он, конечно, не подозревает, что поэт играл с мыслью о своем путешествии уже два года. Что он задумал его не только из высоких побуждений. Что его томит жажда приключений. Что он устал, пресыщен и жаждет изведать необычное. Что он предчувствует: пора! Ибо наступил пятый акт его жизни. Но если Гёте и подозревает все это — он не хочет подозревать.
Неожиданно из Генуи, где готовится к отплытию Байрон, Гёте получает учтивую записку. Байрон рекомендует ему своего друга, подателя ее. Старый поэт взволнован и потрясен. Он спешит послать Байрону свой привет. И в последнее мгновение перед отплытием Байрон еще получает его и даже успевает ответить. Он пишет Гёте краткий отчет — о себе, о своем отъезде. Он благодарит Гёте за стихи, «переданные моим другом». И только одна-единственная фраза выдает волнение Байрона: он принимает слова Гёте как доброе предзнаменование и надеется по возвращении навестить его.
Гёте взволнован и тронут тем, что в минуту отплытия Байрон нашел еще время написать ему целую страницу. «Я сохраню ее среди самых важных моих документов, как драгоценное свидетельство заключенного союза». Байрон отплывает.
Целый год о нем почти нет вестей…
Позднее в одном из писем Гёте написал, что «Байрон, вероятно, не вынес бы старости…». Но явление «Байрон» послужило мощным толчком к творчеству Гёте.
Летним днем, в Мариенбаде, Гёте раскрывает письмо Байрона, то самое, которое прозвучало так патетически, словно последнее «прости» осужденного на смерть.
Гёте в настроении самом приподнятом. Он любит.
Любимой — девятнадцать лет. Гёте — семьдесят четыре.
Вот уже третий год, как, приезжая в Мариенбад, Гёте снимает комнату у госпожи Левецов. Лет пятнадцать тому назад, в Карлебаде, он ухаживал за этой дамой. Помнится, он сравнивал ее с Пандорой. Тогда она только что развелась с мужем и осталась с тремя детьми; старшему было года четыре. С тех пор она успела выйти замуж вторично и овдоветь. А сейчас она подруга некоего австрийского графа; он католик и не может на ней жениться. В Мариенбаде граф построил доходный дом и сдает внаем квартиры. Хозяйство ведет мать его возлюбленной, аристократка, уроженка Северной Германии. Все эти люди живут здесь только ради заработка.
Гёте хорошо чувствует себя в семье Левецов.
За вторым поколением он уже не ухаживает. Зато он достаточно стар, чтобы ухаживать за третьим. У госпожи фон Левецов взрослые дочери. В первое лето, когда он приехал сюда, старшей, Ульрике, как раз минуло семнадцать. Он играет с ней, развлекает и слегка воспитывает, дает ей новые части своего романа. «Что же было в предыдущих?» — спрашивает Ульрика. Он садится рядом с ней на скамейку и рассказывает содержание «Годов странствий Вильгельма Мейстера». Читать эту книгу ей еще не позволяют. А на второй год он влюбился. «Живу я скверно, писал он в Веймар за несколько недель до этого. Ни в кого не влюблен, и в меня тоже уже никто не влюбляется».
Среди всех женщин, которым поклонялся Гёте, Ульрика самая бесцветная. Но для него она аллегория юности, танца, очарования. Старика манит девичий образ; и вот именно в эту минуту он повстречал девочку — Ульрику Левецов.
Она и вправду прелестна. У нее каштановые кудри, совсем как у Христианы или Марианны. У нее голубые-преголубые глаза. Она нежна, стройна, напоминает еще не распустившийся бутон. И не принимает никакого участия в темноватых махинациях своей семьи. Ульрика его «доченька» и гордится своим титулом. Ведь так ее величает добрый отец, страшно знаменитый человек. Правда, книги его читать нельзя, но когда-нибудь она все-таки их прочтет. Конечно, они прекрасны.
Нет и малейшего намека на то, что Ульрика захвачена магическим влечением, что она заглянула в душу старца, где обитает мир богов.
Гёте знает все. Он даже не пытается создать в стихах поэтический образ Ульрики. Она проходит сквозь его поэзию только как мелодичный звук.
Но стихи, полные этими звуками, он не дает даже ей. Вернувшись в Веймар, он пишет ей письма самые рассудительные. «Ваше прелестное письмо, моя дорогая, доставило мне величайшую радость. Ваш любящий отец и без того всегда помнит о своей красивой, преданной дочке; но теперь ваш желанный образ еще живее и яснее предстал в моем воображении, становится еще ярче! И это случилось как раз в дни и часы, когда вы особенно много думали обо мне, и когда вам захотелось сказать мне об этом…» Он просит передать привет милой маме, о которой он любит вспоминать, словно о звезде далеких времен. «Итак, моя дорогая, я хочу, чтобы вы и впредь вспоминали обо мне, как дочь. Верный и преданный вам И. В. фон Гёте».
В феврале Гёте тяжело заболел. У него страшный озноб, температура все повышается, болят глаза. Целых восемь суток он проводит, сидя в вольтеровских креслах. Два врача считают его безнадежным. «Проявите все свое искусство, все равно вы меня не спасете!.. Смерть обступила меня, она смотрит изо всех углов… Я погиб…» Наконец сознание к нему возвращается, он поет песнь внучонку, справляется о посетителях. А на десятый день приходит в ярость, потому что врачи не дают ему минеральной воды: он верит в ее целебные свойства. «Если уж я должен умереть, я хочу умереть по-своему!» — сердито кричит Гёте и заставляет дать ему воды. На другой день ему становится лучше. Он бранится — уже дня четыре, как никто не вел записей в его дневнике! Через несколько дней он говорит о своей болезни, как о деле прошлом. Зато совсем не говорит ни о мудрости, ни об отречении. Нет, он полон воли к жизни, сил, досады. Он весь в посюсторонних интересах.
Разумеется, он превозмог свой жестокий кризис не потому, что напился минеральной воды. Он хочет жить, В последний раз жаждет Гёте вернуть себе юность.
Наступает июнь, и Гёте опять приезжает в дом мариенбадских друзей. Он чувствует себя моложе, сильнее, здоровее, чем раньше. Зато нервы у него расшатаны до невероятности. Музыка заставляет его плакать. Даже при звуках военного оркестра душа его раскрывается, словно сжатый кулак. Наступают теплые летние недели. Вместе с жарой растет его волнение и любовь. Но и девушка, кажется, пробудилась. Любовных писем Гёте не пишет, за ним следят со всех сторон, он соблюдает величайшую осторожность. Тем не менее, сведения о его ухаживании за Ульрикой попадают в полицейский отчет австрийского шпиона, и доходят до Меттерниха. Цельтер, с которым Гёте беседовал на интимные темы, утверждает, что девушка отвечала Гёте взаимностью. Как бы то ни было, все светские нормы поведения соблюдены. Гёте проводит время не только с Ульрикой, но и с ее сестрами. Он показывает им свои кристаллы, дарит шоколад, любуется, когда они танцуют. Часто вся компания только в полночь возвращается домой.
Наступает август, и Гёте приходится на время распрощаться с Ульрикой; семейство едет в Карлсбад. Гёте тоже приедет туда, только немного позднее.
Осторожный дневник проливает свет на сложившуюся ситуацию. «Встретил сестер. Было весело догонять их экипаж… Одно мгновение на террасе и в комнате. Освещенная передняя… Обдумал все, что было. Обдумал все, что должно сбыться в ближайшее время… Спокойная ночь. Мирные сны».
В маленьких стихотворениях, которые он посвящает девушке, звучит страсть, хотя он изо всех сил старается скрыть ее за веселостью.
«Все, что должно сбыться», — женитьба.
Пятнадцать лет тому назад он волочился за ее матерью. Тогда ему не было еще и шестидесяти, он был сильный мужчина, красивый, здоровый, общительный. Он был хозяином жизни, и рой красивых женщин окружал его. Может быть, он и женился бы на прелестной Сильвии Цигезар, которой было лет двадцать с лишним. Но тогда над ним тяготела судьба — он не был свободен. Сейчас, разумеется, уже слишком поздно. Но теперь он свободен, он волен решать. Как нарочно, самый воздух вокруг него насыщен любовью, соблазном. Карл Август тоже здесь, и герцог Лихтенбергский, и множество графов из Вены. Все здесь. Все сошлись с красивыми женщинами. Экс-король Голландии очень болен, но и он следует общему примеру. Опять, как пятнадцать лет тому назад, вокруг Гёте шумит жизнь и мир полон прекрасных женщин.
Предвкушение позднего, фантастического счастья волнует Гёте. Но он обязан помнить о сыне, невестке, о славе, о своей репутации. И неужели в конце его длинной жизни, полной внутреннего богатства и бедной внешними событиями, он вдруг сделает столь невиданный, столь неожиданный шаг? Неужели Гёте, почтенный старец, совершит вдруг нечто неслыханное — возьмет себе в жены девятнадцатилетнюю девочку? На глазах у веймарских остряков? На глазах у всей немецкой молодежи? У всего мира? Но к чему ему эта слава, эта с таким трудом завоеванная жизнь, если противоречия, в которых душа его вот уже шестьдесят лет находится с окружающим миром, не вырвутся, наконец, наружу? Разве тот, другой поэт, лорд Байрон, не разрешил себе полную свободу? И разве не эти, не знающие границ, притязания покорили ему Европу? Да, образ Байрона, которого Гёте воспел в стихах, о котором не уставал рассказывать и расспрашивать, который, сопровождаемый хулой и восторгами друзей и врагов, совершает сейчас свой героический рейд в Элладу, — образ Байрона в эти тревожные дни заставил Гёте принять окончательное решение.
И вот вместе с письмами Оттилии Гёте получает несколько строчек от Байрона, отчаливающего из Ливорно. Гёте, который именно в эту минуту писал невестке, осторожно признается ей: «В эту минуту я получил письмо от лорда Байрона. И, отвечая ему, вынужден коснуться совсем других струн. Через несколько дней моя здешняя сказка окончится… Покамест довольно… Все, что мне хотелось бы еще сказать, придется отложить до личного объяснения — вероятно, опять в полночь… Вспомни, как много важного мы узнаем, когда уже все миновало, и ты поймешь, как горек сладостный кубок, который я отведал и осушил до дна. Ты сама почувствуешь, как значительно, как грандиозно для меня прощание с Байроном именно в эту минуту. Мне показалось, что среди маскарада я вдруг узнал о самом главном, что должно было повлиять на мою жизнь. Но так повлиять могла бы только демоническая юность, которая влечет за собой веселье и радость, и к собственному ее изумлению, может быть гораздо больше, чем она того хочет и сознает.
К отчаянию моему, наше совместное пребывание таких хороших, таких остроумных людей — очень часто становилось неудобным. Нам не хватало третьего, а может быть, и четвертого лица, чтобы круг наш был полным… Только бы все получилось, как я хочу и мечтаю. В полном смысле слова твой любящий отец Г.».
Письмо выглядит так, словно оно списано с «Избирательного сродства», — полно тайных мыслей, домогательств и просьб. В нем звучит странная переоценка молодости и мудрое отречение старости. И все же опять, как когда-то, Гёте, одинокий изнывающий юноша, требует любви.
Постепенно все разъезжаются. Исчезают нарядные платья, шляпы и сундуки. Гёте боится, что терраса скоро совсем опустеет. И в эти самые дни он замечает женщину, которая, вскорости, начинает занимать центральное место в его сердце. Ей лет тридцать с небольшим, совсем как Марианне Виллемер в пору их первой встречи. Она тоже артистка, только гораздо красивее Марианны. Просто красавица, как Корона или Лили. Стройная, живая, исполненная фантазии, необычайно естественная — именно так охарактеризовал ее некий знаток женщин. Когда она поднимает глаза, на лице ее появляется какое-то волшебное и в то же время детское выражение.
Знакомство с прекрасной полькой Марией Шимановской Гёте свел, прогуливаясь с ней под дождем. Мария — супруга и мать большого семейства. Она печется не только о собственных детях, но еще о братьях и сестрах. Свою возвышенную мечтательность и тоску она изливает только в музыке. Игра Марии, ее участь производят особое впечатление на влюбленного поэта. Поклоняясь ей, как божеству, он не вожделеет к ней; кажется, сама судьба послала ему новую, возвышенную влюбленность. Рядом с польской пианисткой появляется и ее очаровательная сестра, потом еще одна немецкая певица. Ульрика исчезает, и в руках у Гёте остается только ее перчатка, как у Фауста покрывало Елены. Гёте, новый Вертер, растворяется в музыке и в слезах.
Он не может наглядеться на прекрасную польку. Не может наслушаться ее игры на клавесине. В стихах его все усиливаются новые, байроновские настроения.
В один из таких дней он отправляется в горы. Его заинтересовало происхождение местных пород. Друг его заметил здесь в изломах, особый вид сланца и полагает, что из этого сланца, состоит весь массив. Но Гёте опровергает слишком поспешный вывод. Делать такое заключение, кажется ему столь же неверным, «как если бы я заключил, что, если девушка поцеловала меня в первый день, а потом в третий, значит, во второй она уже не целовала никого другого». Тут он вскакивает, словно юноша, и бежит осматривать изломы и гору; и, обстукивая камни, слышит, как стучит его старое сердце.
Наконец Гёте едет в Карлсбад и разыскивает там Левецов. Накануне дня своего рождения он стоит в зале, разглядывая танцующих девушек. «Наконец меня пригласила некая польская дама. Я прошелся с ней в заключительном полонезе, и, покуда танцоры менялись дамами, мне довелось подержать за руку почти всех самых красивых молоденьких девиц». Назавтра — день рождения Гёте, ему семьдесят четыре года. Он осушает бокал, который ему поднесли все три сестры Левецов, выгравировав на нем свои монограммы. В этот же день на площади в Иене студенты устроили в его честь политическую демонстрацию. Сентябрь — и разлука близится. Необходимо принять решение.
Тогда Гёте доверяет свою тайну герцогу. В старые времена Карл Август часто обращался к нему, исповеднику и посреднику во всех своих бесчисленных любовных историях. Герцог с удовольствием и, вероятно, с некоторым злорадством принимает поручение Гёте. Ведь в своей влюбчивой юности ему так много приходилось чувствовать немой укор поэта! Великий герцог Веймарский и Эйзенахский просит у госпожи фон Левецов руки ее старшей дочери для своего премьер-министра, тайного советника, его превосходительства фон Гёте. Сватовство отклоняют.
Но кто — мать или дочь?
Уже в глубокой старости Ульрика фон Левецов утверждала, что всегда относилась к Гёте, только как к нежному отцу. Она-де знала, что он человек семейный, ему не нужна хозяйка в доме. Она и в мыслях не помышляла принять его предложение. Но все это сказано спустя шестьдесят или семьдесят лет после происходивших событий. Может быть, ее исповедь только вымысел женщины, которая, так и не выйдя замуж, оглядывается на свою долгую и бесплодную жизнь? Впрочем, в другой раз старуха уверяла, что, согласись только мать, она, конечно, приняла бы предложение Гёте. Вот это второе признание кажется правдоподобнее. Как свидетельствуют стихи Гёте и записки Цельтера, Ульрика внимала не только мольбам немощного старика из Оперы-буффа. Она изведала и пламенные поцелуи юноши.
Как бы там ни было, но мать попросила герцога помедлить со сватовством, и с этим неопределенным ответом Гёте уехал. Но не успел он расстаться с девушкой, как страсть его ломает все преграды и выливается наружу. В пути, в дорожной карете, Гёте пишет самые замечательные стихи своей старости, «Мариенбадскую элегию», к которой он навсегда сохранил особую нежность, словно к ребенку, зачатому на склоне лет, и которая вошла в его «Трилогию страсти».
Гёте казалось, что эту элегию он написал под впечатлением Байрона. Однако эпиграфом к ней он взял слова своего Тассо: «Там, где немеет в муках человек, мне дал господь поведать, как я стражду».
Тем временем по Веймару разнесся слух: Гёте женится. Не успел он вернуться домой, как разыгралась чудовищная сцена. Такому жестокому испытанию Гёте еще никогда не подвергался. Против него восстал собственный сын, обязанный ему всем — существованием, благосостоянием, положением. Но Август в бешенстве оттого, что отец хочет лишить его преимущественного положения в доме и — дополним — части наследства. «Грубые и бессердечные подозрения сына, — писал канцлер, друг Гёте, свидетель этих сцен, — и неуклюжая ограниченность и бездонная наивность Ульрики, разумеется, не позволили ему деликатно и бережно пройти сквозь этот кризис… Сын вообще способен на все самое страшное». То же говорит и Шарлотта Шиллер. Оттилия, правда, лежит больная и безмолвствует, зато сестра ее хозяйничает в доме Гёте, как в своем собственном. Она еще науськивает на него Августа, который и без того пьянствует и грозит переехать в Берлин. Старик, конечно, не рожден властвовать над этими людьми. Стараясь положить конец слухам, он как можно решительнее высказывается против поспешных браков. Тем не менее, он по секрету заказывает антиквару медали символы счастья и удачи. И еще одну, большую, на которой изображена брачная церемония. Об этих заказах знает только его писец. Даже канцлеру Гёте не рассказывает всей правды.
«Когда-то в разговоре со мной Сталь очень верно заметила: «Il vous faut de la seduction». — «Вас надо бы соблазнить». Я вернулся в самом радостном настроении, целых три месяца я был счастлив… Теперь я должен на всю зиму зарыться в свою берлогу и постараться как-то перебиться в ней!.. Как нелепо, что Жюли (Эглофштейн) нет здесь этой зимой. Она и не подозревает, как многого лишает меня! Она ведь не знает, как я люблю ее. Вам-то я могу признаться, хотя в этом пункте мы с вами соперники… Поверьте, что в часы тишины старый Мерлин в своем логове вспоминает отсутствующих».
Гёте хвалит сельскую жизнь — там живешь на свободе. Впрочем, он подобен садовнику, который только тогда замечает, как прекрасны его цветы, когда кто-нибудь чужой просит нарвать из них букет. И тотчас же, без всякого перехода вспоминает о прекрасной польке: она, как воздух, легка, бестелесна, голос ее волнует бесконечно. Когда она играет, хочется, чтобы фортепьяно не замолкало никогда. Гёте достает из ящика письмо Шимановской, чтобы по почерку определить ее характер. Необычайно патетически читает он свои стихи, посвященные пианистке, потом признается канцлеру в том, как оскорбили его в собственном доме, бранит Оттилию и только под конец рассказывает ему свою любовную историю.
«Моя привязанность доставит мне еще много хлопот, но я справлюсь с ними. А ведь Иффланд мог бы написать прехорошенькую вещицу на этот сюжет: старый дядюшка, слишком страстно любящий свою молоденькую племянницу…»
Гёте старается отвлечься от тяжелых мыслей. Он устраивает у себя журфиксы. Дом его каждый вечер готов к приему гостей. Они могут здесь читать, болтать, музицировать, как кому захочется. А он может то выходить к гостям, то уходить к себе. Тоже как ему вздумается….
Появившись среди гостей, Гёте показывает им свои старые пейзажи. Нет, говорит он, так писать он уже не умеет. Речь заходит о Байроне. Он по-прежнему им восхищается: «Только Байрона и считаю я себе равным». И хвалит персов, которые признали великими лишь семерых своих поэтов. «А ведь и среди непризнанных были канальи, которые, к слову сказать, превосходят меня самого».
Наступает осень. Он все еще в смятении, нерешительности, в чудовищном духовном одиночестве. Вдруг приезжает Шимановская. Неожиданно появляется она вместе со своей сестрой. На ней коричневый костюм, отделанный белым кружевом, на шляпе розы. Несколько дней проводит она у Гёте, играет ему по целым дням и вечерам. Он созывает гостей, устраивает ее концерт. «Неужели она играет, как Гуммель?» — спрашивают гости. «Но примите же во внимание, что она к тому же и красивая женщина!» отвечает Гёте.
После концерта Шимановской у Гёте состоится ужин. Кто-то провозглашает тост за воспоминание об этом вечере. Он энергично возражает: «Я не признаю воспоминаний — в вашем смысле. Нельзя извлекать на поверхность из глубины все большое, прекрасное, значительное, с чем мы сталкиваемся. Нет, оно должно сразу и неразрывно сплестись со всем, что лежит в нашей душе… Прошлого, о котором мы тоскуем, не существует. Подлинная тоска всегда продуктивна. Она помогает нам создать лучшее новое. И разве не убедились мы в этом за последние дни? Это прелестное, благородное существо живет в нас, вместе с нами; и задумай она бежать, я все равно навсегда сохраню ее в себе».
На другой день Шимановская уезжает. Гёте старается сохранить бодрость, но взгляд его выражает глубокую боль. Со слезами на глазах обнимает он артистку и ее сестру, долго смотрит им вслед в открытую дверь.
Не успела Шимановская уехать, как Гёте опять заболевает, и почти так же тяжело, как в начале года. Никто за ним не ухаживает. Оттилия уехала. Сын злится и дуется. Ульрики фон Погвиш тоже не видно. Неожиданно приезжает Цельтер, с ужасом видит, как одинок и заброшен его старый друг, и клянется не уезжать, покуда Гёте не выздоровеет. «Но что я увидел? Человека, насквозь пронзенного любовью и всеми муками юности!»
Гёте подробно и долго рассказывает Цельтеру свою сердечную историю. Цельтер звучным голосом несколько раз читает ему вслух его «Мариенбадскую элегию». Старик сам переписал ее красивым почерком и хранит в своем карлсбадском кубке. Она всегда при нем, словно целебное средство. Так и сидят оба старика, одни, в комнате больного и читают друг другу любовные стихи.
Гёте все еще надеется, он все еще ждет Ульрику.
Впрочем, он уже начал смиряться. Давление, которое оказывают на него домашние, угрозы разнузданного сына, нерешительность девушки и ее матери… Как справиться со всем этим? Одно обстоятельство заставляет его принять окончательное решение. Он сам чувствует, как мелеет великая река его сердца. Ведь, добиваясь Ульрики, Гёте добивается женщины, юности, жизни. Бледный свет, царивший в его душе, вопреки сомнению там все еще жила надежда, проступил с особой силой в одном стихотворении, которое он написал еще в марте и посвятил «Вертеру», к пятидесятилетию со дня появления романа. Сейчас как раз вышло новое, юбилейное издание.
Сомнения нет, человек, написавший такие строчки, отрекся от последней возможности наивного счастья. И когда вскоре затем Левецовы написали ему, предлагая встретиться летом, он ответил отказом. Никогда больше он уже не увидел их.
Старец. — Эккерман. — Дела наши. — Разбитый домашний покой. — Август спивается. — Кнебель, Мейер, Цельтер. — Герцог и герцогиня. — Его ледяное превосходительство. — Домашний орден. — Гости. — Мировая слава. — Марианна. — Череп Шиллера. — Исполинский труд. — «Ксении». «Фауст. Часть II». — Шекспир. — Социальные воззрения. — Демонические мгновения. Полярность. — Вера. — Метеорология и ботаника. — Смерть герцога. — Стихи к Зулейке. — Энергия. — Смерть герцогини. Ирония. — Смерть сына. — Последнее одиночество. — Последняя часть «Поэзии и действительности». — Кризис. — Окончание «Фауста». — В мире с Оттилией. — Последний день рождения. — Наука. — Последние недели. — Последнее утро.
В узкую комнатушку сквозь зеленые жалюзи на маленьком окне пробивается первый свет, и старик открывает глаза. Он проснулся сразу и, еще не совсем очнувшись после сна — короткого, без сновидений, начинает думать обо всем, что ему предстоит нынче сделать. Быстро встает, облачается в белый фланелевый шлафрок, открывает окошко и ставни. Холодно, хотя на календаре уже июнь. Впрочем, сейчас только четыре часа утра. Старик поворачивается, взгляд его падает на оконное стекло, и он видит в нем свой облик. Этот облик — итог его жизни.
Над старческим, скорбным, смирившимся ртом, уже провалившимся в глубокую яму, торчит огромный нос. Под узкими морщинистыми губами нет зубов. Когда-то упругие щеки и шея высохли. Пергаментная кожа обтянула острые скулы. Но по-прежнему вздымается мощный лоб, обрамленный белоснежными кудрями, и еще великолепней сияют черные лучи властных глаз. Целых восемьдесят лет служили они посредником между гётевской мыслью и действительностью. Не зная устали, они жадно глядели на окружающий мир, открывая «подобие божества» и в плывущих облаках, и в покоящихся камнях, и в прожилках листка, и в челюсти доисторического животного, и в преломляющихся лучах света, и во взгляде влюбленной девушки.
Старика познабливает. Он переходит в соседнюю комнату и мелкими, шаркающими шажками по привычке семенит к большой печи, словно ее еще топят. Рабочий кабинет Гёте, освещенный двумя окнами, лишен украшений, как и его спальня, — кроме кровати и умывальника, в ней стоит только большое кресло, да и то он почти никогда им не пользуется. Вся середина большого рабочего стола пуста. Только чернила да перо, верные бессменные слуги, поджидают его здесь. Вокруг стола стоят деревянные стулья, жесткие и неприветливые. На пюпитре выстроились в ряд книги в скромных переплетах. На двери висит акустическая таблица. У стены виднеется несколько небольших приборов. Ни одна картина не вносит беспокойства в эту комнату, Ни кресло, ни диван не приглашают отдохнуть. Все зовет только к творческой сосредоточенности.
На простой конторке возле большой печи лежат наготове белые листы в папке. Гёте подходит к конторке, открывает папку, перечитывает написанное вчера, пишет. Пишет «Классическую Вальпургиеву ночь», — сцену из «Фауста». Кое-что он только кратко набрасывает — разовьет после. Ясным почерком нанизывает он ровные строчки. Целых два часа ведут диалог старик и его образы.
Время от времени он принимается шагать по комнате, подходит к окну, смотрит в сад, обрызганный свежей росой; первые звуки доносятся к нему в комнату — голос птицы, стук подковы. Он снова закрывает папку. Не написал и страницы.
Постепенно дом просыпается. Входит слуга Фридрих, кланяется, безмолвно желает его превосходительству доброго утра, подает ему вкусный завтрак. Пришли газеты — из Берлина, Парижа, Милана… Старик не раскрывает их и сразу хватается за письма. О чем пишут ему? Молодой человек опять просит высказаться о своих стихах. Какой-то журнал предлагает сотрудничать и готов на любой гонорар. Художница желает писать его портрет. Кто-то благодарит его за «Новую Мелузину», напечатанную в «Годах странствий». А вот мужественный почерк Цельтера. Интересно, что-то расскажет сегодня неутомимый любящий друг?
Гёте читает, смеется над сплетнями, которые ходят в аристократических и придворных кругах Берлина. А как злились профессора, прочтя последний номер «Искусства и древности»! В комнату ворвался мальчонка Вольфхен, на бегу обнял деда, и сразу вытянул ящик письменного стола, который приспособил для своих личных нужд. Здесь у него хранятся про запас всякие игрушки. Он быстро расставляет кости, и старик с удовольствием видит, что и четвертое поколение унаследовало гётевскую любовь к порядку. Вольфхен красиво и симметрично располагает свои вещи, совсем как сто лет назад его франкфуртский предок. Мальчик подлизывается к деду; тот, наконец, дает ему горсть вишен, которые для подобных случаев держит на запоре в шкафу. И мальчик тотчас убегает. Издали слышно, как он смеется, здороваясь с секретарем, господином Джоном, который без доклада входит сейчас в кабинет.
Тем временем старый господин одевается. Фридрих ему помогает. И, приветствуя секретаря, он уже облачен в длиннополый коричневый сюртук, из-под которого виднеются высокие сапоги.
Фридрих прибирает в комнате, а Джон, усевшись на жесткий стул с прямой спинкой, разложил на столе листы бумаги. Гёте садится напротив, кладет руки на подушку и своим все еще звучным басом, которому умеет придать удивительную мягкость, начинает диктовать стихи. Он их только что набросал. Затем встает и, заложив руки за спину, принимается расхаживать по комнате. Без малейшей паузы он диктует дневник за вчерашний день, потом заказ на гусиную печенку, потом статью о переводах своих произведений на французский язык (с цитатами из рецензий, помещенных в парижских журналах), потом план разбора новогреческих песен.
Тем временем приходит посетитель. Единственной рекомендацией ему служит далекое местожительство, обозначенное на его визитной карточке. Слуга ждет, а Гёте, как бы взвешивая карточку в руках, размышляет, сколько времени должен он потерять. Но зато, может быть, узнает что-нибудь новое. «Принять», решает Гёте. Он спускается по нескольким ступенькам и входит в большую, светлую, низковатую гостиную. Навстречу ему сквозь анфиладу парадных комнат идет смущенный молодой человек.
Старик делает над собой усилие, выпрямляется.
Он стоит неподвижно посреди зала, заложив руки за спину. Молодой человек приближается и растерянно бормочет какие-то слова. Старик и не думает прийти ему на помощь. Напротив, он концентрирует все свое внимание, как если бы нужно было в одном слове вынести приговор стиху, и вбирает в себя лицо и глаза незнакомца, фигуру, манеры, одежду и слова. Кажется, он хочет вырвать у пришельца его тайну или хотя бы часть ее… Секунды наивысшей творческой концентрации Гёте…
Наконец он чопорно кивает, указывает посетителю на стул и садится. Гость, совсем испуганный немотой хозяина и холодными стрелами, которые мечут его глаза, пытается начать с комплимента. Тут из глубины немотствующего горла раздается: «Гм!», и это «гм» звучит так грозно, что гость окончательно умолкает. Вот тогда сразу и без всякого перехода Гёте начинает допрашивать его об обстоятельствах в далеком городе и в чужой стране. Мало-помалу посетитель оживляется. Он действительно много знает и рассказывает об интересных вещах. Старик придвигается ближе, задает все больше вопросов; посетитель становится все естественнее. Ему заметно льстит, что он представляет какой-то интерес для Гёте. Тем не менее, он удивлен, когда хозяин встает, кладет ему на плечо руку и просит его пожаловать в два часа к обеду. Хозяину хочется еще многое узнать от него.
Через две секунды Гёте возвращается в кабинет и, пройдясь раза два по комнате и не попросив даже перечитать написанное, продолжает диктовать с того самого слова, на котором остановился посередине фразы.
Через два часа он спускается в столовую. К нему подходит Оттилия. Он целует ее в лоб, ласково справляется, как ее голова, теребит кудряшки внучат, протягивает руку сыну. Тот немедленно принимается с громким пафосом пересказывать последнюю городскую сплетню. Старик молча терпеливо слушает. Оттилия пытается перевести разговор на другую тему. Супруг бросает на нее враждебный взгляд. Гёте все замечает и молчит. А как поживает Ульрика, сестра Оттилии? Ульрика пожимает плечами. Входит утренний посетитель. Гёте представляет его окружающим. Все садятся за стол, и Гёте продолжает расспрашивать своего гостя с того самого места, на котором они остановились утром. К счастью, молодой человек познакомился немного с геологией своей страны и на всякий случай привез великому человеку несколько тамошних камней. Он извлекает их. Гёте видит сразу — камни редкие. Молодой человек окончательно завоевал его сердце. Хозяин оказывает ему всяческое предпочтение и собственноручно наливает вино. Но стоит молодому человеку отклониться от темы беседы, чтобы ответить на рассеянные вопросы Августа, как Гёте деликатно, но незамедлительно призывает его к порядку.
К столу подают вкусные и жирные блюда. Гёте ест очень много, сам разрезает замысловатое жаркое из птицы, осушает бутылку красного вина, которая стоит перед его прибором, как, впрочем, и перед всеми другими. Не приглашая пить никого в отдельности, он как бы всем подает личный пример. Наконец он таинственно сообщает Оттилии: прибыли артишоки. Все, кто вел себя хорошо, получат награду. И велит подать корзину, которую прислала ему сегодня из Франкфурта Марианна. Взяв колючий артишок, он начинает разнимать его по листам и умолкает, уйдя в созерцание строения овоща. «Сейчас заговорит о метаморфозе растений», — думает посетитель. Но Гете молча откладывает артишок.
Обед кончен. Гете велит принести одну из своих папок. Он показывает гостю геологические карты Гумбольдта. Вот здесь месторождение камней, привезенных молодым человеком. Пришел доктор Эккерман, домашние разошлись. В четыре часа Гете самым приветливым образом прощается с гостем. Тот уже успел потихоньку обратиться с обычной просьбой к Оттилии. Перед уходом ему вручают маленький листок бумаги, на котором литографским способом отпечатано несколько стихотворных строк, написанных рукой Гете. Они заменяют его автограф.
Подъехала карета. Никто из домашних не рвется составить общество старому господину. Поэтому он и сегодня приглашает с собой Эккермана. Через несколько секунд тот усаживается по левую сторону Гете и отверзает сердце и слух. Они едут к Бельведеру. На голове у Гете обычная синяя суконная шапка. Сложив на коленях свой светло-серый плащ, он начинает рассказывать: о прошлых временах, о герцоге, Гердере. Все в очень преображенном виде, ибо июньское солнце настраивает нас на приятный лад, а кроме того, мы знаем, что все наши слова будут нынче же вечером записаны преданным учеником. Поэтому нужно проявлять осторожность, не наговорить глубоких вещей, которые не способен воспринять Эккерман, и не сказать лишнего, чего не должно знать потомство.
Они возвращаются. Гете проходит сквозь комнаты в сад за домом. Его чувствительные глаза, которые так часто воспаляются, защищены от солнца козырьком. Кажется, Эккерман описывал ему как-то стрельбу из лука? Гете приказывает принести башкирские луки — подарок, который долго висел без всякой пользы. Молодой поэт, последователь Гете, ловко натягивает тетиву и стреляет ввысь, далеко. Восьмидесятилетний Гете впервые в жизни берет лук. Повернувшись к заходящему солнцу, он натягивает тетиву. Но старческая рука слишком слаба, и стрела взлетает всего на несколько футов. Верно, старый стрелок завидует крепким мускулам молодого? Нет. Он идет в свою аллею мальв, его радуют ее яркие краски. В сад входит Мейер, как всегда, скупой на слова. Гете садится с ним на скамью и, греясь в лучах заходящего солнца, принимается расспрашивать о картинах, отобранных для ближайшей выставки. Потом оба сидят молча рядом и прекрасно понимают друг друга. Два старика, которым уже нет нужды разговаривать.
В шесть часов вечера Гете опять у себя в кабинете. Он диктует длинное письмо, посвященное вопросам метеорологии, высказывает тьму новых идей, облекает письмо в форму художественного произведения. Приходит Ример. Он уже тоже успел стать гофратом. Как летит время! Неужели сегодня опять среда? Ример принес ему том: переписка Гете с Цельтером. Ример тщательно его просмотрел. Они обсуждают, какие еще внести изменения, что вычеркнуть. И Гете вдруг приходит в голову мысль, как уладить спор с Коттой. Он набрасывает черновик письма Буассере: только основные мысли, подробно он разовьет их завтра. Буассере — его представитель в южной Германии, он уладит все с Коттой. Схожее поручение Гете шлет и Цельтеру, своему берлинскому представителю, который ведет переговоры с Раухом по поводу одной медали.
В коридоре хлопает дверь, слышатся мальчишеские голоса. С шумом вбегают внучата, желают дедушке спокойной ночи. Они ластятся к нему, пристают. Вслед за ними входит канцлер, а вместе с ним врывается светская жизнь. Канцлер иронизирует надо всем, острит и почти во всем противоречит Гете. Мейер — он более узок и молчалив, но почти так же умен, как канцлер, — частенько встает на его сторону. Все трое горячатся, спорят, воинственный дух разгорается. Гёте режет правду-матку, резкую, колючую — скачала о прошлом, о людях, явлениях, произведениях. Потом в несколько более общих чертах высказывается о собственной юности, о своих ошибках, врагах, славе.
Наконец канцлер уходит. Гёте опять облачается в шлафрок. Он советуется с Римером еще о некоторых делах. Разговор затягивается. Слуга вносит свечи. Гёте приказывает принести ужин для гостя и поставить его на рабочий стол. Сам он ужинает редко, зато выпивает стакана два вина просто так, для компании. Каждые десять минут он берет ножницы и снимает нагар. Он никогда и никому не позволяет чистить свои свечи.
Оставшись один, Гёте читает допоздна недавно вышедшую «Историю Рима» Нибура. Громкий грохот заставляет его вздрогнуть. С секунду он прислушивается. Это там, наверху, сын пьяный вернулся домой и затевает ссору с Оттилией. Гёте встает, открывает окно, ищет в небе Орион, высчитывает, когда Марс приблизится снова к Венере, и звонит. Фридрих помогает ему раздеться. Но он вовсе, еще не устал. Он берет листок бумаги и пишет:
Ночь. Гёте проходит в спальню, ложится в постель, тушит свечу и думает о стихах, которыми завтра на рассвете продолжит монолог Фалеса в «Вальпургиевой ночи».
Примерно так протекает день Гёте все последние восемь лет. В двух маленьких комнатах старик работает. В парадных апартаментах принимает посетителей и ведет с ними беседу. Ни при дворе, ни в обществе, ни в театре он уже не бывает. Очень редко и очень ненадолго оставляет он Веймар и никогда не выезжает за пределы Тюрингии. Время от времени он разрешает себе небольшую экскурсию. И тогда, выйдя из кареты и усевшись на куче придорожных камней, он бережно достает из старого кожаного футляра маленькую позолоченную чашу и, наполнив ее вином, подносит к губам.
Но этот узкий круг людей, в котором Гёте обречен завершить свою жизнь, дает ли он поэту ласку и любовь? Достиг ли Гёте в конце того, к чему стремился в начале и чем недолго владел в середине своего пути?
Мрачным стал дом, который он создал. Наверху живет его единственный, праздный сын, рядом с ним чужая и враждебная женщина. Она пытается найти в любовных приключениях, в светском обществе успокоение своим страстям. Способная женщина!.. Но не признает над собой никакой узды, не желает заниматься ни домом, ни хозяйством. А между ними живут и подрастают двое мальчуганов, а потом и девочка. Дети не получают почти никакого воспитания, не видят достойного примера, не знают цели, к которой надо стремиться. Мрачной была жизнь двадцатилетнего юноши в отчем доме. Теперь становится мрачной и жизнь семидесятипятилетнего старика.
Всегда, всей душой мечтал он о браке, о детях, о тишине и любви… Он старается не думать о том, что делается вокруг него в собственной его семье. Иронически взирает он на окружающих и старается отодвинуть их от себя подальше. И когда дети его, обычно врозь, уезжают, старик в душе этому рад.
«Оттилия развлекается в Берлине, и будет развлекаться до потери сил, когда ей все-таки придется передохнуть… Она в вечной спешке, без которой ее и представить себе нельзя. Вечно должна приводить в возбуждение свой и без того возбужденный нрав… И заказывать себе шляпы непомерных размеров, специально для торжественных случаев». Расточительность Оттилии немало тревожит аккуратного и бережливого старика. Она совершенно неспособна следить за хозяйством, и ему приходится заботиться о каждой мелочи. В конце концов, он вынужден взять к себе молодого Вульпиуса, племянника Христианы, и сделать его чем-то вроде домоправителя, только чтобы избавиться от домашних дел.
Впрочем, он вынужден оказывать невестке и духовную поддержку. В один прекрасный день Оттилия решает организовать для собственной забавы частный журнал, который будет издаваться только для веймарского светского общества. Но для этого ей необходима помощь маэстро. Восемьдесят лет жизни Гёте употребил на то, чтобы обуздать бушующий в его душе хаос, а в конце жизни вынужден писать для журнала, который невестка его так и окрестила — «Хаос». Так, значит, жизнь Гёте не стала образцом и предостережением даже для собственных детей?
Некогда молодая и веселая Христиана поместила своих родных в задних комнатах его дома. Но Оттилия и ее близкие оккупировали весь дом целиком. Цельтер, самый интимный друг Гёте, приезжает к нему в гости, но для него не находится места во всех тридцати комнатах, и он вынужден поселиться по соседству в гостинице. Зато сестра Оттилии живет у Гёте всю зиму. Обе дамы носятся в вихре развлечений, делятся с Гёте поверхностными суждениями о веймарском свете, о театре. Наконец Оттилия упала с лошади, разбила лицо и грудь. Сестра ее поскользнулась во время танцев, и так неудачно, что у нее сделалось сотрясение мозга. После этого она много лет страдала психическим расстройством; и близкие не знали, бояться ли за ее жизнь или втайне желать ей смерти.
Иногда старик горько жалуется канцлеру на то, что дома у него нет никакого покоя, и доверяет ему подробности, о которых канцлер умалчивает даже в своем дневнике. Но иногда хозяин дома поступает так же, как прежде, когда ему очень уж мешали домашние, — он бежит, пусть хоть в садовый домик, и пытается жить там на студенческую ногу. Но ему все равно приходится заботиться о слишком многом: например, напомнить в записке, чтобы не забыли полить его молодые пальмы. И еще ему приходятся требовать слишком много предметов — картины, карты, акты.
Зато здесь ему уютно. Здесь он все-таки один.
Его работа «Годы странствий» неожиданно начинает быстро двигаться вперед. Преображенные, встают воспоминания о прошедших временах, о тех временах, когда он сажал в своем саду нежные деревца. А теперь ему приходится задрать голову, чтобы поглядеть на пятидесятилетние кроны. И, кажется, он обращается вовсе не к старому дереву, а к себе самому, когда тихо и взволнованно признается:
Вот жить бы пустынником! В такие часы Гёте особенно глубоко чувствует все жалкое, что в течение целой жизни навязывал ему маленький городок, где нельзя жить ни в свете, ни в уединении, а только в одиночестве. Но чтобы жить в одиночестве, надо приносить все новые жертвы. А чтобы жить в обществе, надо все больше смиряться. И опять он завидует Байрону, его бурной свободе, которой ему так и не довелось изведать. Впрочем, жизнь Карлейля тоже кажется ему достойной подражания.
А ведь Карлейль всегда в уединении в шотландских горах, занимается там, пишет. Но Гёте считает, что супружеская жизнь, которую ведет в сельской тиши Карлейль, гораздо «целостней и интимней», чем была его, Гёте. Теперь, на вершине старчества, с него спадают последние путы любви. Дети его дают ему мало. Но в он вряд ли дает им больше.
Вот эти два мальчика. Единственные внуки человека, который верит в кровь. Неужели же они тоже ничего не унаследовали от него? Никто их не воспитывает, сам он их только распускает. Он любуется поздней внучкой, она красива; но и над ней сбудется проклятие, которое тяготеет над родом Гёте, и она yмpeт молодой. Впрочем, в ее нежных жилах вряд ли течет гётевская кровь. Об этом ясно свидетельствуют письма Оттилии. Старик иронически улыбается и добродушно говорит другу, что ребенок «напоминает ему очень многих иностранных и отечественных друзей».
Вальтер играет на рояле, бывает в обществе, рассеян. В глазах маленького Вольфа Гёте видит искру будущего поэта. Вольф любит порядок. «Впрочем, будь он наследственным пэром Англии, он вел бы самый бурный образ жизни. А так ему придется все же получить хоть посредственное, образование… Кроме того, он умеет необыкновенно вежливо заставить меня сыграть с ним перед сном партию в шарт или дорль». Вольф теребит дедушку, карабкается на него; а если гость пытается его отогнать, мальчик кричит: нет, ничего, он и сам пойдет спать, только позже, дедушка успеет еще отдохнуть. А дедушка только улыбается, позволяет тискать себя, тормошить и с ироническим терпением говорит гостю: «Вот видите, любовь всегда немного обременительна». Гувернер жалуется, что невозможно заставить утром мальчиков встать. «Скажите, что дедушка просит их слушаться», — говорит старик. Через несколько дней гувернер приходит опять. «Ну как, сказали вы им?» — «Да, ваше превосходительство, но это нисколько не помогло». — «Гм!» — говорит превосходительство, и разговор заканчивается.
Но как ни уходит Гёте от тревог, его ждет еще самое ужасное из всех потрясений.
Август погиб воистину из-за своего отца. «Ужасна милость мальчику!» — вероятно, думал иногда Гёте, вспоминая слова, которые воскликнул его Фауст при виде Париса. «Несчастье моего сына в том, — говорит доверительно Гёте, — что он никогда не знал, что такое категорический императив». Он мог бы сказать: «Несчастье моего сына в том, что я никогда не указывал ему на этот императив». Из Августа воспитали только адъютанта при отце. И как раз те черты характера, которые он унаследовал от Гёте, привели его к гибели. «Нет, пусть уж лучше говорят, что сын Гёте круглый дурак, только бы не говорили, что он корчит из себя юного Гёте!» Август готов прослыть варваром, но он не желает ни слышать, ни говорить об искусстве. Он понимает, что жизнь его с самого начала пошла вкривь, что закончится она так же бесплодно. И он жаждет забыться. Но от родителей Август унаследовал пристрастие к вину; он становится пьяницей.
Напившись, он сквернословит и буйствует. Зато в его комнатах царит гётевская педантичность. Он так же тщательно хранит все бумаги, картины, монеты, камни, к которым питает особый интерес. В обществе он появляется корректный, элегантный, у него манеры придворного. Даже буйствуя, он старается держаться рыцарственно. Его церемонная чопорность нередко напоминает повадку отца, и тогда он кажется каким-то призраком.
Но стоит заговорить с Августом о его отце, и он тотчас же обрывает собеседника, напускает на себя грубость, начинает сыпать непристойными берлинскими анекдотами. Он никогда не упоминает о произведениях Гёте и явно предпочитает Шиллера. Больше всего этот душевнобольной любит занимать себя всякими смешными историями; но иногда в самых жизнерадостных его письмах, в самых веселых беседах мелькают молнии отчаяния и освещают настроение конца, которое немолчно звучит в его душе.
Отца он ненавидит. Почему не отпускает он его на свободу? Август, который втайне сочиняет, пишет плохие стихи, полные тайного предчувствия:
Разве не высказано здесь решение бежать? И все-таки он остается.
Но, за исключением своих стихов, Август доверяет отцу решительно все: все самые интимные свои переживания. Хольтей, друг Августа, должен уехать из Веймара. Под строжайшим секретом поручает он Августу позаботиться о своей возлюбленной. Вдруг, среди ночи, Август стучится в дверь гостиницы и спрашивает Хольтея, должен ли он держать его поручение в секрете от отца. «Да!» — говорит Хольтей. Тогда Август берет свое обещание обратно, обнимает друга и уходит. Но уже в дверях оборачивается еще раз. «Вы думаете, я пьян? Я никогда не бываю пьяным, я только прикидываюсь. Все вы меня не знаете. Вы думаете, я просто беспутный, ничтожный забулдыга, а ведь здесь, внутри, такая глубина! Вот брось вы туда камень, долго пришлось бы вам ждать, покуда он достигнет дна».
Эти слова, эта бурная речь, эти большие, глубокие образы — разве не принадлежат они Гёте-отцу?
Пытаясь оправдать свое настроение, Август с ребячливой страстностью создал культ Наполеона. Все стены его комнат увешаны изображениями императора, его лошадей, оружия, шляп. Каждый предмет, которым пользуется Август, — печати, флаконы — все наполеонизировано. Когда Хольтей поставил пьесу, в которой гренадер старой императорской гвардии превращается в нищего, Август в бешенстве выходит из ложи и много лет чуждается друга. Когда отец подарил ему орден Почетного легиона, который некогда вручил ему Наполеон, Август положительно сходит с ума от радости.
Гёте почти никогда не жаловался на нрав и упрямство сына, он все таил про себя. Но он знал, что грозит Августу. И когда он, наконец, отпустил его в Италию, — а Гёте пошел тогда восемьдесят первый год, — он прекрасно понимал, что сын его погибнет.
Старик сидит в своих тесных комнатах один и ведро за ведром черпает воспоминания из бездонного колодца памяти. Иногда к нему заходят братья Гумбольдты или филолог Вольф, Но вообще он принимает только посетителей из далеких стран. Они привозят сведения и факты из различных областей знания, но они уже не будят творческую мысль Гёте. Почти ежедневно бывают у него самые преданные друзья Ример, Эккерман, умный врач Фогель, утонченный швейцарец Соре, молчаливый старик Мейер и, конечно, канцлер, самый значительный из всех посетителей дома. Им доверяет Гёте свои мысли, которые станут достоянием потомства. Потомства, но не современников. Оставаясь в этом предельно узком кругу, старик, верно, думал о том широком обществе, в котором вращались, обретая каждый день новую молодость, старый Вольтер или престарелый Тициан.
Вот он без сюртука сидит на троицу с Римером, с Мюллером. Ему докладывают, что приехала графиня Эглофштейн. Нет, он просит приехать ее вечером. Он не может «принять ее сейчас, когда у меня друзья, с которыми я беседую на глубокие и возвышенные темы».
Он растрачивает сотни драгоценных невозместимых часов на беседы с Эккерманом, который, как ни старался, навеки остался только Вагнером. Он встречается с канцлером, потому что за Гёте все еще числится остаток каких-то дел. Впрочем, после сорокалетней службы герцог фактически перевел Гёте на пенсию, хотя формально оставил за ним его пост и власть.
Единственные настоящие друзья Гёте — Кнебель, Мейер и Цельтер.
В день своего семидесятидевятилетия Гёте последний раз сидит за старым кнебелевским столом в Иене. Восьмидесятитрехлетний Кнебель молча, ковыляя, приплелся к нему навстречу и обнял его. Но они уже не ведут остроумных споров. Они сидят молча и радуются друг другу. Может быть, они вспоминают о тех сумерках (с тех пор прошло уже больше пятидесяти лет), когда любитель литературы — полковник из Веймара впервые взбежал в мансарду поэта? А может быть, в голове у Кнебеля бродят сейчас совсем другие мысли?
Герцогу и герцогине тоже перевалило за семьдесят. После долгой бездеятельности к Карлу Августу вернулась юношеская любознательность и энергия. С Гёте его связывают отношения, напоминающие отношения супругов, которые на закате дней после долгих лет отчуждения снова обрели друг друга. Они давно не спорят больше ни о войне, ни об армии, ни о политике, ни об управлении государством. Гёте практически в отставке. Карл Август тоже пустил все плыть по течению. Главным образом их связывает любовь к естествознанию. Если в юности Гёте старался занимать герцога письмами о Короне и звездных ночах, потом о рекрутах и дорожном строительстве, еще позднее — о профессорах и режиссерах, то теперь он пишет ему о температуре земли, о пароходах, о происхождении тли. Только о своих произведениях Гёте по-прежнему ни слова не говорит герцогу. Да тот и не понимает его творчества.
Все дружелюбнее относятся они друг к другу.
У герцога есть собственный ключ от калитки Гёте, он может войти к нему без доклада в любое время, а войдя, приносит величайшую жертву, — тушит свою трубку. В присутствии посторонних он всегда говорит ему «вы», чтобы не казаться «высшим». В день семидесятилетия Карла Августа семидесятишестилетний Гёте ждет его с шести часов утра. Он стоит, спрятавшись за портьеру, чтобы первым поздравить герцога. Вечером Гёте празднует в своем доме это торжество. Приходит герцог, жмет ему руку, и Гёте, растроганный, тихо говорит: «До последнего вздоха вместе». Но герцог быстро овладевает собой, смотрит на него с улыбкой и говорит: «Ах, восемнадцать лет и Ильменау!»
Чем почтительнее держится по отношению к старику теперь уже совсем молодой двор, тем чопорнее становится старик. Ведь и при дворе он не несет никаких обязанностей. Разве только ведомство придворных конюшен попросит старого придворного поэта придумать имена для новорожденных жеребят или юфмаршальское правление осмелится с глубочайшим почтением осведомиться у его превосходительства, не припомнит ли он о некоторых предметах — не были ли они пятьдесят четыре года тому назад выданы легационному советнику? А может быть, и не были? Если на пороге гётевского дома постлан дорогой ковер, веймарцы знают: сегодня у него с визитом принцессы. Если принцесса поздравляет Гёте с днем рождения, он отвечает ей со всей придворной вежливостью: «Ослепленный милостивейшим собственноручным посланием вашим, я не мог до сего дня найти слова, дабы выразить мою благодарность». И если в герцогской семье происходит прибавление семейства, Гёте уверяет, что «весть эта повергла его в состояние величайшего счастья, доступного человеку». А по правде, Гёте уже чужд всем личным отношениям. Он не старается больше привлечь к себе сердца. Единственное, что его интересует, — это знание. Да еще вот красивые женщины заставляют его быть любезным. От других посетителей он отделывается общими фразами: «Как вам понравилось в Веймаре? Не правда ли, какой культурный город? Мы тоже этому способствовали по мере сил наших».
Если он хочет оказать внимание посетителю, он заранее кладет на стол папку с рисунками, коллекции слепков, монеты, силуэты. Свою переписку с Байроном он, по восточному обычаю, хранит завернутой в щелк и лишь в особых случаях извлекает ее напоказ.
Если посетитель привозит ему какие-нибудь дары, он принимает его с античным гостеприимством. Обеими руками жмет он руку молодым людям, благодарит их за интересную книгу, красивую гравюру. Уж если кто из ученых или художников ему понравился, он непременно пригласит его ежедневно к обеду. А путешественников просит продолжать рассказ с того самого места, на котором они остановились накануне.
Если гость покажется Гёте особенно интересным, он посылает к нему в гостиницу своего домашнего живописца, чтобы написать портрет для личной своей коллекции. Он даже вводит собственный орден трех степеней: медаль с изображением Гёте, отбитая на меди, серебре и золоте. Накануне юбилея Карла Августа Гёте устраивает княжеский пир. Дом его открыт для всех, и каждый желающий может войти, ему поднесут вино и сласти.
Из вечера в вечер Гёте церемонно приветствует гостей. Их принимают Оттилия и Август. Сам он выходит, только когда все уже в сборе. Он появляется во фраке, при звезде, тщательно причесанный, завитой. Усилием воли заставляет себя держаться прямо, как свеча. Милостиво, словно монарх, обращается он то к одному гостю, то к другому. Как только он появляется, гости начинают говорить тише и ждут с нетерпением, когда он уйдет, и все снова почувствуют себя непринужденнее. Эта странная чопорность, над которой смеялись, еще когда он был мальчиком и студентом, просто ширма, за которой Гёте прятал свое смущение, потом свою старость, свой скепсис, свое человеконенавистничество. Но манера обманывала многих, обманывает она и потомство.
В один прекрасный день к Гёте явились с визитом два брата, некие графы из России. Они так много ездили и видели, как редко кто из посетителей гётевского дома. Один из братьев, образованный кавалер, путешественник, прожигатель жизни и любитель искусств, описал нам этот удивительный дом с несколько необычной стороны. Он изобразил высокомерие и аффектированность веймарского общества, вращающегося только в собственном кругу. Во время большого приема собравшиеся, словно на диковинных птиц, глазеют на русских аристократов, которые живут в своих крымских поместьях и чтят произведения Гёте, и задают им бестактные вопросы про крепостное право. Гёте слушает, молчит и явно забавляется смущением своих гостей. И вдруг русский решает поменяться ролями. Он обращается непосредственно к Гёте и начинает на глазах испуганного общества намеренно громко задавать ему самые банальные вопросы, касающиеся его произведений и их значения. Один из присутствующих ученых принимается длинно и подробно отвечать вместо Гёте. Русский в раздражении просит его говорить по-французски, но профессор заявляет, что мысли его могут быть поняты только на немецком языке. Тогда русский отвечает колкостью: да, он согласен с Байроном, что Гёте нигде так плохо не понимают, как именно в Германии. Тут Гёте прерывает этот спор, принявший опасный оборот, и приглашает всех к столу. Он все еще чопорен и неразговорчив, но украдкой посылает русскому дружеские взгляды. Видно, он нисколько на него не сердится. На другое утро Гёте приглашает русского на прогулку.
«Вчера, — сказал Гёте, едва они очутились вдвоем в карете, — вы произнесли несколько весьма примечательных слов. Мне было бы весьма любопытно познакомиться с вами поближе, ибо, подобно Вольтеру, я ничем так не дорожу, как похвалой людей, которые отказывают мне в признании». И Гёте заговорил о тщете славы, о том человеческом, что составляет смысл всех его произведений, и о Байроне, который понял его гораздо лучше, чем немцы. Только, к сожалению, ему так и не удалось узнать более подробно о суждениях Байрона. И тут русский понял, чего хочет от него Гёте. Да, в Венеции граф действительно часто встречался с Байроном на почве любовных приключений и всяческих авантюр. И он принялся рассказывать множество интимных подробностей о Байроне. Гёте слушал его с величайшим вниманием. Впрочем, русский, разумеется, не сообщил ему всех изречений поэта в адрес самого Гёте. Ибо Байрон, это русский рассказывает уже нам — очень юмористически, но весьма малопочтительно отзывался о гётевском лицемерии и однажды даже назвал его старой лисой, которая, не вылезая из своей берлоги, проповедует в ней весьма добродетельно. А «Вертера» и «Избирательное сродство» Байрон назвал таким издевательством над браком, какого и Мефистофелю не придумать. Все эти злые слова русский, разумеется, утаил от Гёте. Он рассказал ему только о восхищении, с которым Байрон относится к его творчеству. Гёте внимательно слушает. Многие из мыслей, которыми они сейчас обменялись, говорит он русскому, содержатся во второй части «Фауста».
И поэтому немцы, разумеется, объявят его скучнейшим из всех гётевских произведений.
Что Гёте сейчас слава! А между тем она пришла к нему. Слава, мировая слава, которой он не вкушал с тех пор, как ему минуло двадцать пять лет. Молодая Франция совершает паломничества в Веймар.
Она привозит с собой переводы его книг, она выражает ему свой восторг. Карлейль, добиваясь профессуры в шотландском университете, прилагает к своему заявлению рекомендацию Гёте. Юный Берлиоз посвящает ему своего «Фауста» и, стирая в письме обращение «monsieur», заменяет его на «monseigneur». Геологи окрестили найденный ими камень «гетит». Один из немецких герцогов дарит Гёте копию с приобретенной им античной статуи. Другой — только что отрытого Юпитера. Третий — старинные часы, которые били некогда в доме его предков.
Пышными празднествами отмечает Веймар пятидесятилетие того дня, когда молодой поэт впервые въехал в городские ворота. Город навеки жалует правами гражданства всех потомков Гёте; диплом вручают семилетнему внучонку, и малыш склоняется перед бургомистром. Шквал бездарных стихов и бессодержательных речей обрушивается на юбиляра. Иенский университет обращается к нему с торжественной Горациевой одой.
В университетах читаются курсы о Гёте. Ему вручают книги, в которых творчество его рассматривается по периодам. Гёте улыбается и отвечает авторам совсем по-мефистофельски: «В конце концов, меня противопоставят самому себе. Как плюс и минус, чтобы узнать, не получится ли в результате нуль».
Но слава уже не соблазняет его. Он хорошо знает, на какой сомнительной основе она покоится.
И живописцы тоже ему досаждают. Но портреты, которые они пишут, ему не нравятся. Из Парижа приезжает Давид Анжерский. К нему Гёте относится, как к послу Франции, — ему он позирует.
Через год появляется гигантская голова Гёте, высеченная из мрамора. Весь мир восхищается или, наоборот, отрицает гениальность этой работы. Гёте улыбается и молчит. Ему достаточно хлопот и с маленьким ее оригиналом….
Художник-график Швертгебурт задумал сделать портрет Гёте уже в самые последние месяцы его жизни. Гёте отказывается позировать. Но покуда он объясняет художнику причины своего отказа, тот буквально пожирает его глазами. Потом бежит домой, делает набросок по памяти и приносит свой рисунок Оттилии. Та показывает его отцу. Старик восхищен. Он соглашается позировать так часто, как только пожелает Швертгебурт. Даже в самые последние свои дни он все еще спрашивал о гравюре. Очевидно, ему хотелось, чтобы именно это изображение дошло до потомства.
Город Франкфурт задумал было поставить памятник Гёте. Он даже сам принимал участие в проекте. Теперь стало ясно, что памятник поставлен не будет, и Гёте пишет ироническую и гордую «Ксению»:
Да, он воздвигнет себе памятник! Это последняя и самая большая страсть Гёте. Невзирая на свои годы, он проявляет грандиозную энергию. Он должен во что бы то ни стало завершить и навеки охранить от каких бы то ни было посягательств свои произведения — свое, как он теперь понимает, великое целое! С безумным нетерпением, нервозностью, страстью, словно дело идет о спасении всего, что только им создано, Гёте берется за подготовку последнего, еще небывалого по масштабам собрания своих сочинений.
В помощь себе он организует бригаду из шести человек во главе с Римером и Эккерманом, распределяет между ними проверку (с грамматической и критической точек зрения) всех текстов, которые должны войти в шестьдесят томов, немедленно прекращает всякую текущую журналистскую деятельность, отдается выполнению только этой, одной задачи. Так, бывало, работал он в бытность свою министром. Так работает он теперь снова целых четыре года.
Поистине демоническая воля владеет Гёте. Все, что уже создано, но еще не отлито в окончательную форму, он хочет оформить собственными руками. Он задумал собрать сотни самых разных своих произведений и объединить их так, что в совокупности своей они составят новое, единое произведение. Он решил сам изваять свое Собрание сочинений. Вот почему он завершает все, что, по-видимому, осталось бы не завершенным. Например, «Годы странствий Вильгельма Мейстера». Недаром он иронически говорит, что роман этот обязан своим появлением единственно терпению наборщика.
Разумеется, сюда примешивались и другие мотивы. Нечто вроде цехового честолюбия побуждало Гёте оградить свои произведения, после всех понесенных им потерь, от будущих безответственных перепечаток.
Кроме того, ему хочется заложить основу благосостояния своей семьи. И, наконец, за спиной старика стоит сын. Он торопит его, он хочет, пока отец не закрыл глаза, закрепить состояние за собой и наследниками.
Гёте обращается ко всем власть имущим. Ко всем известным ему королям, герцогам, послам, министрам, просто к дворянам и просит выдать ему привилегию, охранную грамоту, закрепляющую за двумя поколениями его потомков единственное право на гонорар за его сочинения. Бесчисленные письма Гёте полны «неизгладимой благодарности». Он просит датского короля распространить его привилегию на Шлезвиг; голландского — на Люксембург. Он очень политично рассматривает вопрос о том, как распространить привилегию на имперские города. Чрезвычайно почтительно ходатайствует он об этом перед родным городом, хотя только год назад отказался от франкфуртского гражданства. Обращаясь к Союзному Сейму, Гёте пишет о «деле, имеющем значение для всей немецкой литературы». Словом, когда читаешь документы, связанные с этим вопросом, право, можно подумать, что наконец-то заключается государственный договор, результатом которого явится воссоединение Германии.
Действительно, «привилегия» — совершенная новость для того времени. И никто, кроме Гёте с его мощными связями, не мог бы добиться ничего подобного. Когда в результате всех переговоров желаемый документ, наконец, пришел из Вены, Гёте и сам с необыкновенным волнением воззрился на это чудо — на «пергамент за большой печатью и собственноручной подписью вашего величества…» Право же, это, вероятно, самый удивительный документ, на который может сослаться история литературы!
Но вот он обладает волшебным ключом, и родные тем настойчивее торопят его завершить грандиозное свое начинание. Добиваясь права издания, с ним ведет переговоры не только Котта. Множество крупных издательств предлагают ему очень большие суммы. Но Гёте, ссылаясь на памятник, который хотели ему поставить, просит нацию поддержать его усилия, «дабы воздвигнуть мне вечный памятник из моих творений».
С небывалой страстью сосредоточивается старик на этом своем труде. Весь во власти мании, он рассматривает теперь свою жизнь только как средство и путь к его завершению. Суждения Гёте о собственной юности, некогда скептические, потом иронически-серьезные, теперь принимают в его биографии новое выражение.
«Никогда я не знал человека более самоуверенного, чем был я сам. Никогда я не думал, что мне нужно чего-то достичь; мне казалось, что я достиг уже всего. Водрузи мне на голову корону, мне и то показалось бы, что так оно и нужно. И все-таки, или, вернее, именно поэтому, я был совершенно таким же, как все. От сумасшедшего я отличался лишь тем, что мне хотелось трудом оправдать все, что я получал без всяких усилий, и заслужить, что мне давалось не по заслугам. Окружающим я казался неприятен, сперва, потому, что заблуждался в себе, затем, потому, что все делал всерьез. Но как бы я ни поступал, я всегда оставался в одиночестве.
Правда, я сознавал, какие великие и благородные цели я преследую, но я никогда не мог разобраться в условиях, при которых мне приходилось действовать. Зато я понимал, чего мне не хватает и чего, наоборот, во мне слишком много. Поэтому я никогда не переставал совершенствовать себя — ни с внешней, ни с внутренней стороны. И все же кругом все и всегда оставалось по-старому. К каждой цели я стремился серьезно, энергично, настойчиво. Часто мне удавалось преодолеть все препятствия, которые мне ставились; часто я терпел поражения, потому что никак не мог научиться уступать или обходить их. Так и шла моя жизнь — среди дел и наслаждений, страданий и непокорности; среди любви и довольства, ненависти и недовольства окружающих. И пусть в этом описании увидят свое отражение все, которых постигла та же участь, что и меня».
Но постепенно все чувства уходят в прошлое. Умирает и чувство к женщинам. «Женские характеры мне всегда удавались. Они всегда лучше тех, которые мы видим в действительности».
Через двадцать лет после разлуки он опять повстречал Минну Херцлиб и опубликовал сонет, в котором некогда зашифровал ее имя. Ульрику он позабыл. Знал ли он, что умерла Лотта Кестнер? Умерла на восемьдесят четвертом году и Шарлотта фон Штейн. Погребальная ее процессия прошла мимо его дома. В тот день он читал Виктора Гюго. Вечером к нему зашла приятельница, присутствовавшая при кончине Шарлотты, и Гёте разразился слезами. Впрочем, он тотчас же сердито подавил их. Только Марианна, с которой, расставшись, он не виделся никогда, осталась живой в его памяти.
Почти никогда не говорит он о друзьях, которых пережил. Впрочем, Гердера он вспоминает чаще, чем других, — вероятно, потому, что они так и не договорились. Иногда Эккерман, который знает наизусть «Поэзию и действительность», где описаны все друзья Гётевой юности, говорит о них как о личностях исторических — о Лафатере, Мерке, Якоби, о женщинах, которых любил Гёте. И тогда становится как-то жутко оттого, что вот этот старик, который сидит возле большой печи и вспоминает о тех людях, и человек, который был их современником, — одно и то же лицо.
Шиллер продолжает долго его занимать. Великий документ, свидетельство совместного творчества, соединил их навеки. Гёте редактирует сейчас этот документ, «Переписку», и видит: письма Шиллера богаче идеями, чем его. Ведь он сравнивает и оценивает их теперь со стороны, как совсем посторонний. А тут еще приняли решение перенести прах Шиллера с жалкого кладбища, на котором он погребен. Гёте сам руководит всеми работами. Ему даже доставили череп Шиллера, чтобы он его опознал. Что же, он опознал и даже сложил в его честь оду:
Впрочем, он пишет не только блистательные стихи о Шиллере. Он принимает участие и в работе анатомов, которые собирают скелет Шиллера из уже распавшихся костей. А еще он набросал рисунок маленькой часовни. Ее воздвигнут около герцогской усыпальницы, и он тоже будет лежать здесь, рядом с Шиллером. И, сделав это завещание в письме к другу, Гёте заканчивает его словами: «Трудитесь, покуда вам светит день!»
О Шиллере ему напомнил и Веймарский театр. За семь лет до смерти Гёте, театр, которым он управлял целых два десятилетия, сгорел дотла. Уже много лет не был он в нем. И драматургия и актерское искусство стали ему так чужды, что в своих «Годах странствий» он объявил их даже под запретом.
А все-таки пламя, в котором сгорел его театр, взбудоражило старика. Он видел, как погибло дело, которое он так долго создавал. Странное волнение охватывает Гёте, когда ему приносят полусгоревшие страницы, извлеченные из пепла.
Он узнает свой режиссерский экземпляр «Тассо» и с трудом разбирает строчки:
С совсем особым чувством вспоминает Гёте путешествие в Италию; оно кажется ему вершиной его жизни.
«Вспомнить только, что я ощущал в Риме! Нет, никогда больше уже не был я счастлив!» Понимал ли он, что дело здесь вовсе не в Риме, а в той свободе, которую он вкусил первый и единственный раз в жизни? Ему минуло восемьдесят, а он посадил у себя в саду молодые акации. Они напомнили ему апельсиновые деревья Италии…
Впрочем, оценивая свою молодость, старый Гёте оценивал и свое столетие. Он относился к нему и критически и провидчески. Неутомимого труженика привлекал век открывшейся грандиозной энергии.
Мысль его влечет к себе все, что способствует объединению людей и народов. Его приводят в восторг и пароходы и все более быстрые средства связи.
В «Годах странствий» он описывает, даже, весьма усовершенствованную модель телеграфа, тогда еще только изобретенного. А большинство своих «странников» в «Годах странствий» Гёте отправляет в Америку, потому что его чрезвычайно привлекало тогда еще молодое и наивное поколение американцев.
Да, Гёте приветствует XIX столетие, которое, как ему кажется, преодолев дух романтизма, переходит к творческой активности.
Но когда, предвосхищая развитие новейшей социальной мысли, Гёте заглядывает вперед, в век XX, тогда он настойчиво предостерегает своих современников от грозящей им опасности. Той опасности, которую несут с собой числа, деньги и скорость, машины и механизация. И нередко он называет это столетие «торопящимся столетием». Нет, ему не хотелось бы быть молодым в «грядущую, зрелую и равнодушную эпоху». Он бранит богатство и скорость, этих соблазнителей современного юношества и опору посредственности. «По-моему, величайшая беда нашего времени, когда никто не может достичь зрелости, — в том, что в каждую последующую секунду мы уничтожаем все, что создали в предыдущую. Так исчезает день за днем, а мы живем кое-как, довольствуясь случайным, и не создаем ничего долговечного. Ведь даже газеты рассчитаны уже только на определенные часы дня. Кто бы что ни сделал, изобрел, сочинил, даже еще задумал, все тотчас же становится достоянием гласности. Мы и радуемся и страдаем только для развлечения окружающих. Вот и летит от дома к дому, от города к городу, от государства к государству и, наконец, от континента к континенту торопящееся наше время!»
Поэтому он особенно любит обращаться теперь к прошлому. «Давай, — пишет Гёте Цельтеру, держаться как можно крепче образа мыслей, в котором мы родились. Вероятно, мы с тобой да еще очень немногие — последние представители эпохи, которая возвратится не скоро». Все равнодушнее становится он к злобе дня.
В одно прекрасное утро Веймар узнает об июльской революции в Париже. Все охвачены страшным волнением. Соре бросается к Гёте. Гёте спешит ему навстречу буквально вне себя.
— Что вы скажете об этом великом событии? Вулкан проснулся, все объято пламенем, время переговоров при закрытых дверях прошло!
— Ужасно! — восклицает Соре. — Впрочем, чего было и ждать при таком министерстве!
— Министерстве? — переспрашивает Гёте. Я говорю про великий спор о пра-растении, который наконец-то близится к концу! Разве вы не слышали, что девятнадцатого числа Кювье и Жоффруа Сент-Илер открыто выступили друг против друга в Парижской академии?
Грандиозный труд, которому Гёте посвятил последние восемь лет своей жизни, — это труд писателя. Только писателем ощущает он теперь себя.
Но огромную часть этого труда составляют письма. Они касаются решительно всех интересов и областей знаний.
В старости Гёте читал в оригинале Скотта, Мандзони, Виктора Гюго. Он занимался акустикой и просматривал в среднем по тому ин-октаво в день.
При этом он успевал еще писать о сербской поэзии, узнавать, в каком именно месте своих сочинений критикует Витрувий настенные украшения, оспаривал подлинность головы Антиноя, различал художественную манеру фресок в Помпее, от фресок в катакомбах. Он отвечал на вопросы, из камня какой породы построена древнеримская крепость в Богемии, и радовался, что «оживил свои познания о Ямайке», так как его посетил какой-то житель этого острова. Кроме того, он писал о водяном орехе, семени манго, о батавских растениях и мексиканских рудниках, о гельголандском граните, о слизи, которую выделяют блуждающие огни, и о внутренностях кенгуру. Но, разумеется, не эти темы являются основными в творчестве Гёте.
Стихи, «Годы странствий Вильгельма Мейстера» и вторая часть «Фауста» — вот три монумента, воздвигнутые уже восьмидесятилетним поэтом.
Новые сотни «Кротких ксений» составляют огромную долю поздней поэзии Гёте. В них в форме изречений выражена зрелая мудрость поэта. Редко встречаются тут лирические строчки. Разве чудом зажгутся вдруг такие стихи, как «На восход полной луны». И тогда, кажется, что восьмидесятилетний старик вернулся к истокам своей поэзии.
Впрочем, многие куски из второй части «Фауста» следует тоже причислить к лирической поэзии: например, хоры садовниц, нимф, нереид или песнь Эвфориона, первые слова Линцея и заключительные гимны.
Но в последних частях «Странствий Вильгельма Мейстера» явно просвечивают причуды старости. Правда, в них звучит и пророческое предвидение в области социальной и педагогической. Золотой дождь мудрости орошает действие романа, то слишком растянутое, то слишком запутанное и уже не вызывающее интереса читателя. В ткань повествования вставлены самостоятельные новеллы; лица, действующие в них, переходят в основную ткань романа и в общей сутолоке смешиваются с основными его персонажами. Действие то начинается, то куда-то исчезает, сцены возникают, но не завершаются. Гёте, вероятно, и сам не знал, как справедливы его слова, когда добродушно заметил, что взирает на эти пестрые главы, как на распущенных, но любимых детей, с которыми возишься, тщетно стараясь их воспитать. Но издатель с нетерпением ждал последних частей романа, чтобы уже в самую последнюю минуту включить их в собрание. Ему мы и обязаны ценнейшими кусками «Странствий». Ибо, когда уже нельзя было медлить ни секунды, оказалось, что текст, переписанный размашистым почерком писца, составляет только два тома, а вовсе не три, как предполагалось раньше, и тогда Гёте поручил Эккерману дополнить роман из неиспользованных запасов своей прозы. Так появились интереснейшие главы «Странствий»: «Размышления странника» и «Архив Маккарии». И, значит, вовсе не спад творческой мощи повинен в деформации романа.
Просто Гёте относился к своим «Годам странствий», как к огромной кладовой, где он хранил все мысли, которые раньше вбирали в себя письма и статьи. Вот почему, нарушая действие романа, автор сводит частные счеты с чьими-то мнениями, или вдруг неожиданно действующие лица начинают поступать так, словно они сами читали предшествующие «Годы учения», или вдруг мы натыкаемся на такое начало главы: «Среди рукописей, которые нам еще предстоит отредактировать, мы случайно нашли шванк и без всякой обработки включаем его сюда. Ибо обстоятельства наши становятся все серьезнее, и впредь у нас уже не будет возможности уделять время всяким случайностям». И вдруг все обрывается — на такой великолепной короткой главе, что мы невольно спрашиваем себя: да уж не стихи ли перед нами? Но тут в многообещающих скобках мы читаем суровое обещание: «Продолжение следует!» Перед такой скобкой в конце первой части своего «Фауста» остановился в испуге и Гёте. Правда, сюжет «Мейстера» жил в его воображении почти столько же времени, сколько и «Фауст». Но Гёте чувствует: роман — скорее игра. Трагедия — символ всей его жизни. И поэтому последние силы Гёте вкладывает в эту поэму-трагедию, зародившуюся почти шестьдесят лет тому назад.
Он знает непреложно — только она станет основным его творением. Он жаждет завершить фрагмент, которым так и остался «Фауст. Часть 1», но он испытывает страх перед рукописью. Тридцать лет тому назад, под влиянием Шиллера, он попытался продолжить ее, но, едва сделав первые шаги, сразу же остановился. А теперь он даже и не пытается взяться за нее снова. Кажется, гений его ждет какого-то толчка извне, который должен привести в движение старую, уже окаменевшую массу. И тут приходит весть: умер Байрон…
Рой самых противоречивых чувств поднимается в душе Гёте. Никогда ни о ком (разве только о Шиллере) не говорил он так много, как о Наполеоне и Байроне.
Редко говорит он об их произведениях, делах.
Гораздо важнее они для него как явления. Гораздо больше интересует его их судьба. Еще прежде, чем Байрон умер, Гёте понял, что в этой поездке в Грецию, которая сперва казалась ему только актом героизма, участвовало отчаяние. Вот почему, узнав о смерти Байрона, Гёте не приходит в ужас. Он считает, что смерть явилась вовремя — и для Байрона, и для его поэзии.
Но жив ли Байрон, умер ли — образ его не дает Гёте покоя. Слишком глубоко проник он в душу английского поэта, слишком ясно увидел возможность совсем иной жизни, которую мог бы прожить сам, но которой не дала осуществиться им же выбранная судьба.
Проходит несколько месяцев. Образ Байрона предстает перед Гёте в новом сиянии. В нем уже нет изъянов. Гёте кажется, что, останься Байрон жить, в нем явился бы «новый Ликург или Солон». Он посвящает ему страстные и восторженные строки. Проходит еще немного времени, и Гёте вновь осуждает необузданность поэта, которая довела его до гибели. Но старик жадно читает по-английски все, что может достать о борьбе греков и о смерти Байрона.
Минул год. Стоит поздний февральский вечер.
Гёте непрерывно говорит о Байроне. Проходит еще несколько дней, и Гёте — ему теперь семьдесят пять лет — развязывает папку с рукописью — «Фауста». В последний раз он завязал ее, когда ему минул пятьдесят один год.
Байрон, погибший в Греции, оживил образ гречанки Елены — образ, который Гёте задумал еще лет тридцать тому назад. Тогда он посвятил ей набросок в несколько сот строк. Теперь Елена воскресла в его памяти, и, словно по мановению жезла, вместе с ней явился и Фауст. Когда-то, признавался Гёте, он придумал для своей Елены совсем другой конец. Но «время принесло мне лорда Байрона и Миссолунги. И тогда я без сожаления забросил все мои замыслы, а кроме того, лорд Байрон не античен и не романтичен, он весь подобен сегодняшнему дню. Именно такой человек и был мне нужен. Он подходил мне весь, целиком, со своей вечной неудовлетворенностью и воинственными склонностями борца».
Один из посетителей Гёте уверял, что старый поэт говорил о Байроне почти как отец о сыне. Да он и сделал его своим сыном, когда воплотил его в образе сына Фауста и Елены. Байрону Гёте обязан вершиной своего произведения, сверкающим образом Эвфориона.
Так же, как Байрон, Эвфорион воспаряет над обыденным.
Так же, как Байрон, он разбивается и умирает.
«Фауст», утверждает Гёте, охватывает всю историю человечества — от гибели Трои до взятия Миссолунги. Но хотя он говорит шутя: «Вот невероятно, если я его кончу», поэта не покидает мрачное предчувствие, что он так и не закончит основное произведение своей жизни. Принимаясь опять за трагедию, Гёте пишет сперва ее конец, который он набросал уже давно, затем эпизод с Еленой, который до сих пор существовал только как интермедия. Потом публикует свою «Елену» отдельно, как самостоятельное произведение. Он сравнивает его с высокими деревьями возле своего старого садового домика — ведь он посадил их позже, чем у него созрела концепция «Фауста». И все-таки они успели вырасти и даже укрывают его в своей тени. Несомненно, образ Елены — впрочем, он есть и в кукольном театре и в народной книге о докторе Фаусте один из ранних образов Гёте. Точно так же он уже давно задумал и исход спора между Фаустом и Мефистофелем, которым должна закончиться трагедия. Эпизод «Елена» неожиданно имел успех. Это так вдохновило поэта, не избалованного вниманием публики, что он стал работать и над всей трагедией. Разумеется, медленно, то создавая новые сцены, то возвращаясь к старым. По своему обыкновению все, что готово, он отдает в переплет, а между готовыми частями вплетает листы белой бумаги. Так он лучше видит, что еще осталось дополнить.
Гёте пишет и впервые в жизни не обращает никакого внимания на то, что делается на дворе — зима там или лето. Без передышки работает он над четвертым и над первым актом тоже и только сетует, что теперь, когда ему под восемьдесят, он уже не в силах черпать из таких бездонных источников, как, бывало, пятьдесят лет тому назад или даже во времена «Дивана». «Я могу работать только рано поутру, когда я бодр после ночного сна и гримасы повседневности не занимают еще моего внимания. Но даже и тогда как мало успеваю я сделать! В самом лучшем случае написать страницу, а как правило, лишь такую малость, что ее можно уместить на ладони. Если же у меня нет творческого настроения, то и того меньше!» Снова, как тридцать лет назад, когда он задумал писать «Телля», Гёте мечтает, чтобы его насильно заточили в крепость. Вот тогда бы он за три месяца справился с «Фаустом»!
И тем не менее, «Фауст. Часть II» обладает такой силой, которая превосходит все написанное Гёте после его юношеских драм. Он и сам сознает необычность своего произведения и нередко называет заключительные сцены «Фауста» оперой. Для потомства конец «Фауста» особенно важен и как эстетическое завещание Гёте. В нем писатель приходит к той форме драмы, к которой стремился всю жизнь и которую так и не сумел выработать до конца.
Неправда, что Гёте в начале своего творческого пути был драматургом, потом эпиком, а под конец лириком. «Диван» и вторая часть «Фауста» показывают, какой крутой вираж сделал поэт, чтобы в конце жизни оказаться над той самой точкой, на которой стоял в начале. Ведь много десятилетий Гёте презирал театр и не ставил свои пьесы. И только когда ему пошел семидесятый год, он заявил, что, останься в Веймаре хоть несколько хороших актеров, он за две недели продиктовал бы и комедию и трагедию. Ибо «пьеса на бумаге — ничто. Писатель должен твердо знать свои средства, чтобы оказать влияние на публику, и все роли он должен писать непосредственно для актеров, которые будут их играть». Вот именно этого и не делал Гёте. Даже когда дело идет, по-видимому, об единственном исключении, об «Ифигении», то и тут мы не можем сказать с уверенностью, когда создал Гёте образ своей героини — до или после встречи с красавицей Короной.
Трагический поворот в жизни Гёте, который произошел уже давно, сказался и на его эстетических воззрениях. Только теперь, когда слишком поздно, Гёте понял, как можно было приумножить, использовать богатство своей юности и насладиться им. Он понял, что гнет, тоска и духота, в которых он так долго томился, похитили не только у человека, но и у поэта мгновение, которое невозвратимо. Да, только когда поход окончен, начинаешь понимать, как следовало вести войну.
Только теперь, в самом конце своего пути, Гёте склонился перед бессознательным, наивным творчеством, от которого так стремился спастись, заменяя его ясностью и рассудком, просвещенностью и образованием. Слишком долго бился он за свет и жизнерадостность, за искусственно поэтическое настроение. Слишком часто в угоду теории он сознательно управлял своей поэзией. Только сейчас, в глубокой старости, Гёте превознес поэзию бессознательную, созданную по милости мгновения. Он отверг всякие поиски идеи в «Фаусте» и в «Тассо». Он требовал, чтобы произведение было проникнуто только чувственным началом, и ему кажется, что он достиг этого во второй части «Фауста». Характеризуя особенности своей трагедии, он говорит: «Чем своеобразнее и чем недоступнее рассудку творение поэзии, тем лучше».
И эти высказывания, и любовь к произведениям Байрона, и желание услышать «Фауста», переложенного на музыку, подобную Моцартову «Дон Жуану», — все свидетельствует, как далека эстетика позднего Гёте от абсолютной гармонии. Даже его воззрения на природу (а ведь Гёте свою эстетику всегда строит в неразрывной связи со своими теориями натуралиста), даже эти воззрения далеки теперь от гармонии.
«Нет, я вовсе не думаю, что природа прекрасна во всех своих проявлениях. Стремления ее всегда хороши, но условия для их проявления не всегда помогают им выявиться полностью». Моцарт и Рафаэль парят в далекой дали. Они звезды, вращающиеся вокруг чужих солнц, но они уже не образец, которому он следует.
Зато Шекспир, которому Гёте с тех пор, как, написав более шестидесяти лет назад своего «Гёца» и перейдя к созданию возвышенно-стилизованных драм, не обязан уже ничем. Шекспир становится единственным его учителем. Гёте восхищает всеохватывающий взор Шекспира.
Правда, боги Греции для Гёте непоколебимо стоят на прежней высоте. Но он давно уже не пытается ни подражать им, ни продолжать их поэзию. Он восхищается ею, как той плетеной корзиной, которую привез с собой из Богемии. Плоская, с двумя ручками, она сделана специально, чтобы возить в ней хлеб и плоды. Гёте называет ее «античной», потому что все в ней целесообразно и разумно; она «проста и в то же время изящна», и можно сказать, «что ей присуща совершеннейшая законченность».
Проникая последний раз в сложную картину Гётевой души, которую так трудно понять; глядя на черты лица человека, который близится к концу, мы не открываем в них гармонии. Престарелый Гёте далек от жизнерадостной уравновешенности своих средних лет, когда он писал «Диван». Он далек от искусственности Шиллерова периода. Он далек от антипоэтического стремления действовать, преследуя лишь ближайшие и конкретные цели. Он далек от желания влюбленного юноши придать форму бесформенным порывам, которые кипят в его душе. Нет, не любящий, не жизнерадостный, не спокойный созерцатель и не всепрощающий мудрец Гёте последних десятилетий! Он одинаково чужд теперь и Зевсу и Аполлону. Только творить, только писать хочет он. Впрочем, нет, неправда, он хочет и действовать, пусть только в некоем всеобщем смысле. Лишь очень осторожно, пробираясь окольными путями, можем мы разгадать органическую связь между положительными и отрицательными силами, которые все еще сталкиваются в его душе.
Первая из них — сила действия. Целых двадцать лет проспал Фауст в его душе. Но когда в начале второй части он вскакивает, разбуженный духами, первые слова, которые он произносит: «Опять ты, жизнь, живой струею льешься». Слова, которыми начинается и последний период в жизни Гёте. Правда, деятелен он был всю свою жизнь. Но когда ему было под тридцать, деятельность эта казалась скорее внешней. Когда он приблизился к сорока, она приняла несколько выжидательный характер. Когда он подошел к пятидесяти, она проявилась в чрезвычайной его разносторонности. Когда ему минуло шестьдесят, она устремилась в поэзию. Но лишь теперь, когда он подошел к концу, его поэтическая сила проявила себя с такой мощью.
Один только «Фауст» высвободил столько образов и идей в его душе, которые все хотят жить, что восьмидесятилетний старик с полным правом завидует сосредоточенности и тишине, окружающим Карлейля. Зато свою, со стороны почти неподвижную, жизнь Гёте характеризует как сущее «восстание ведьм». С юношеским пылом стремится он закончить свои произведения, ибо он старик, и каждый день чувствует, как к нему приближается смерть. Свидетелями последнего взлета его творческой энергии являются не только его новые произведения, но и замечательные высказывания о своих творениях, которыми он смиренно и гордо делится с друзьями.
«Каждое утро повелевает нам сделать все, что от нас требуется, и быть готовыми к тому, что может случиться… Господь и его природа отпустили мне так много лет, что только самой юношеской деятельностью могу я выразить мою признательность. Я хочу показать, что достоин счастья, мне дарованного, и насколько только возможно, я все дни и все ночи посвящаю мыслям и делам. День и ночь — это вовсе не пустая фраза, ибо много ночей, как и предназначено судьбой в моем возрасте, я провожу без сна.
Но я посвящаю их различным мыслям и решаю, что именно должен я сделать завтра… Так что, может быть, в эти еще отведенные мне дни я делаю больше и сознательнее, чем в годы, когда мы многого не успеваем сделать, потому что имеем еще право верить и воображать, будто нас ждет завтра, опять завтра и вечное завтра».
Однажды, открыв альбом своего внука, Гёте читает сентиментальное изречение: жизнь состоит-де из минут смеха, веселья, воздыханий и страданий. Тогда он берет перо и пишет мальчику:
Старик так закован в броню своей деятельности, что обвиняет себя в «двух тягчайших грехах» в медлительности и в спешке. Зато другие свои письма он заканчивает словами: «Занят до сумасшествия». Наконец-то он находит формулировку, которая целых пятьдесят лет должна была бы характеризовать его деятельность. Наконец-то ему становится ясно, как следует сочетать науку и жизнь. «Величайшее искусство жить одновременно и в науке, и в миру — это умение превращать проблему в постулат. Тогда мы справимся решительно со всем». Какое мощное определение своей деятельности дал в этих словах старец! Кажется, он высек их на граните.
Да, только в самом конце жизни Гёте полностью раскрыл и определил себя как писатель. Его великая попытка войти в жизнь человеком дела и воздействовать на действительность, оказалась в конце концов бесплодной. Правда, в высокой степени плодотворной была его попытка исследователя открыть неизведанные области природы. Но в конце жизни он уже редко повторял ее. Наконец, эстетическая теория и практика, столь занимавшие его в Шиллеров период, тоже не дали ощутимых результатов.
Теперь он отстраняет от себя все. Для всего этого уже нет места на его письменном столе. Только самое сокровенное его произведение лежит здесь. Только оно должно созреть окончательно. И особое место в этой зрелости занимает чувственное начало.
поет мощный хор сирен во второй части «Фауста».
В последний раз звучит здесь громоподобное, изначальное слово его жизни.
Мужественно, твердо, спокойно, нисколько не отрекаясь, взирает престарелый Гёте на эрос. Ибо все, даже эрос, должно стремиться сейчас к одному — все должно раскрыть свою беспредельную мощь.
В произведениях старого Гёте эрос присутствует только как здоровое чувственное естественное начало. Ведь брак, который приходится охранять ради сохранения общественного порядка, в сущности, противоестествен, говорит Гёте. Он высмеивает людей, которым нравится любое «святое семейство». Он недоволен последней редакцией своего «Гёца», в котором уже не осталось страстности Адельгейд, служившей такой притягательной силой. Фауста он заставляет восхищаться здоровым женским телом. А в своих последних «Ксениях» Гёте употребляет столь откровенные слова, что при печатании их приходится заменять точками.
Однако в самые последние годы Гёте уже не пытается изображать любовь. Мастер любовных сцен отказывается от них. Он боится, что ему «не хватит юношеского жара». Действительно, встреча нового Фауста с его возлюбленной Еленой оставляет нас холодными. Зато, когда Гёте переводит любовь в общефилософский план, тогда он создает поразительную шкалу всех ее оттенков.
Обращаясь к здоровому началу, избегая всего больного, Гёте всеми средствами охраняет теперь свою работоспособность. Все, что способствует работе, он приветствует. Все, что мешает, — отстраняет. Вот почему он не хочет ни говорить о беде, ни видеть ее. Сгорает старый театр. Он старательно избегает всех, чьи бесполезные аханья ему невыносимы, и немедленно берется за составление плана нового здания. Когда в дом принесли свалившуюся с лошади Оттилию, он ни разу не навестил ее, покуда ее изуродованное лицо не зажило совсем. Когда ему начали рассказывать о добром знакомом, который сломал обе ноги, Гёте воскликнул: «Нет, не портите мне его образ! В моем воображении он стоит совершенно здоровый!» Умирает старый актер, Гёте зовет к себе его сына, выходит к нему, говорит: «Я потерял старого соратника, ты — превосходного отца. Довольно!», жмет ему руку и исчезает. У Цельтера, у которого покончил с собой пасынок, теперь умирает сын. Гёте старается и в этом несчастье открыть какую-то сторону, чтобы смягчить боль отца. В этот самый поздний период окончательно формируются и политические воззрения Гёте.
Когда-то, в расцвете сил, он стоял за свободные формы управления государством. Позднее, заняв двойственную позицию, он выступал и в защиту революции и против нее. А еще позднее он стал врагом народовластия. Не случайно поэтому, услышав, как бранят диктатуру Веллингтона, восьмидесятилетний старик выступил на защиту победителя Наполеона и завоевателя Индии. При этом он очень ясно определил собственную позицию. «Обладатель высшей власти всегда прав, — заявил Гёте, — и перед ним следует почтительно склониться». Он предсказал падение Каподистрии, вождя греческих повстанцев, ибо не было случая в истории, чтобы политик подчинил себе командиров и войска. Только «держа саблю наголо и стоя во главе армии, можно повелевать и издавать законы в уверенности, что все станут повиноваться тебе». Это убеждение созрело в Гёте после того, как Наполеон разбил последние моральные и династические предрассудки, во власти которых еще находился поэт.
Но самое важное, — никто из современников Гёте не предчувствовал с такой силой одну из идей XX века, как этот глубочайший старик. Все свои последние политические надежды он возлагал на создание социальной кооперации внутри отдельных государств и на объединение этих государств в единый Всемирный союз. И была у Гёте еще вторая, великая, надежда — создание мировой литературы. Он верил, что «свободный обмен мыслями и чувствами способствует всеобщему достоянию и процветанию человечества не меньше, чем обмен продуктами». Указывая пути к объединению народов, Гёте не только говорил о тех же проблемах, о которых говорят и сегодня, — он говорил о них почти сегодняшними словами.
Так, в качестве первого условия для разрешения этих проблем он ставил уничтожение расовой ненависти, «симптома самой низкой ступени культуры». Сам он давно уже поднялся на ступень, где подобная ненависть исчезает, «Люди, которые достигли этой ступени, стоят в известной мере уже над нациями и воспринимают счастье и несчастье другого народа, как своего собственного». Описывая идеальную провинцию в конце своих «Годов странствий», Гёте вводит там правила социального общежития, которые должны лечь в основу Всемирного союза народов.
Не только политические, но и социальные воззрения престарелого Гёте предвосхитили его время на целое столетие. Абсолютная веротерпимость царит в фантастической стране Вильгельма Мейстера. Что же касается собственности, то Гёте полагает, что она должна быть обобществлена. Правда, о мерах, необходимых для этого, он говорит намеренно глухо. И все-таки мы читаем: «Если частная собственность кажется обществу священной, то владельцу ее она кажется таковой вдвойне. Привычка, впечатления отрочества, уважение к предкам, неприязнь к соседу и сотни подобных причин делают собственника существом косным и противящимся любым изменениям. Вот почему чем дальше удерживаются подобные обстоятельства, тем труднее провести повсеместно меры, чтобы отнять у отдельного лица то, что окажется полезным для всех. Впрочем, благодаря обратному действию неожиданно выясняется, что меры эти оказались благодетельными и для того, кто лишился собственности». Абсолютно прав Ример, говоря, что только благодаря ханжескому обману удалось фальсифицировать «Годы странствий», превратить их в какую-то пародию, в проповедь поповской морали.
Но нигде Гёте не выразил свои социальные воззрения с такой силой, как во второй части «Фауста», содержание которого он некогда сформулировал, как «наслаждение действительностью и красота». Эта «Часть II» — самое фантастическое, из всего созданного Гёте. По временам кажется, что стариком, утверждавшим, что никогда еще сознание его не было столь ясно, как во время работы над трагедией, Завладели им же созданные духи. Чудится, он сам готов крикнуть себе слова, которые во время придворного представления кричит Мефистофель обуянному ревностью Фаусту: «Твоя ведь это глупая затея!» Где еще, за исключением разве некоторых сцен «Пандоры», создавал Гёте такой сказочный мир, как тот, что бушует в его «Классической Вальпургиевой ночи»? Такие моря со всеми их чудищами, таких грифов, сфинксов, сирен, нимф и форкиад! Гёте черпает свои фантазии из какого-то воистину неиссякаемого источника. Здесь есть даже человек, изготовленный химическими средствами в стеклянной колбе, который путешествует на дельфине. Все эти существа живут, двигаются, разговаривают, все обладают яркой индивидуальностью.
Когда башенного стража Линцея, ослепленного красой Елены и поэтому не возвестившего о ее прибытии, влекут закованного в цепи пред очи царицы, кажется, что мы присутствуем при некоем чудесном обновлении, что здесь наступила вторая зрелость и силы, долго не проявлявшиеся, проснулись вновь и подняли уже достигшего предельного возраста поэта на новую, еще более высокую ступень. А все-таки классическое празднество классических духов — это только сверкающая ирония, обращенная на знание и науку, на бога и искусство, на самое вселенную. И, кажется, Нерей ясно выражает эту иронию, когда, слыша, как стучатся люди, рвущиеся к нему, говорит: «Все с божеством хотят они сравняться, а выше равных, нет им сил подняться».
Однако и в этих сценах, и в сцене при дворе императора, Гёте еще удается облечь свой бездонный скепсис в форму светлой иронии. В дальнейшем этот свет исчезает. Ирония становится едкой. Впрочем, еще более едкая ирония звучит в «Кротких Ксениях». В них резко проявилось озлобление поэта, направленное против всех его врагов — глупцов, ханжей, филистеров.
Все мрачнее становится настроение Фауста. Все сильнее гремит его скепсис, как и скепсис Гёте. Все только дурачество и дерьмо и вообще ничего, — гласит одно из Гётевых двустиший.
Оглядываясь на юность, Гёте замечает, что жизнь человека подобна стратегии. Мы начинаем в ней разбираться только, когда поход окончен. «Остаток жизни нам безразличен, — говорит Гёте (ему пошел уже восьмидесятый год). — Мы уже не обращаем на нее внимания. Пусть себе идет, как идет, все равно мы кончаем квиетизмом, как индийские философы». Еще один шаг, и старик превратится в Мефистофеля. «Долго жить — значит многих пережить, пишет он Цельтеру, у которого умер сын. — Так звучит жалкий припев к нашей жизни, которая течет на манер разболтанного водевиля. Без конца повторяясь, он раздражает нас и заставляет возвращаться к серьезным стремлениям. Иногда мне кажется, что круг самых близких мне людей подобен связке таинственных письмен. Одно за другим пожирает их пламя жизни, а пепел развеивают по ветру».
Впрочем, фантазия и скепсис были заложены еще в лейпцигском студенте. В нем тоже вечно боролись эти свойства, и ни одно не выходило победителем из борьбы. Гёте и к себе относится скептически. И когда кто-то называет его «старым маэстро», он возражает: нет, его следовало бы называть лишь «верным и усердным учеником природы и искусства».
А все-таки он прекрасно сознает собственное значение, особенно сейчас, когда, восприняв свое творчество как некое единство, пытается придать ему и форму единого целого. «Я по возможности использую оставшиеся мне дни, чтобы создать то, чего никто другой создать не может».
Но не только энергия, все страсти Гёте с особой силой проявляются в конце его жизненного пути. Не стареющее сердце все так же бьется гневом и нетерпением, непокорством и демоническими желаниями. И только эрос не звучит больше в хоре его страстей. Воинственный и злой старик со всем пылом защищает сейчас значение своего творчества. Даже крайний его педантизм исчезает. Снова, как бывало в юности, он хватает клочки оберточной бумаги или театральные афиши и пишет на них заметки, стихи, наброски ко второй части «Фауста».
Его другу канцлеру очень хотелось бы видеть Гёте всегда просветленным и мудрым. А вместо этого, он часто застает его полным противоречий, резким, раздраженным, отрицающим все и вся. В таком настроении юношеского непокорства и написал Гёте на клочке бумаги:
Он становится еще нервнее и раздражительнее.
Невероятно боится самого короткого зимнего дня в году и уже 17 декабря радуется при мысли, что через несколько дней солнце начнет приближаться к земле. До конца дней своих он зависит от погоды, а болезни страшится, как величайшего из земных бедствий.
Он чаще впадает теперь в ярость. Правда, в таком состоянии его видят только самые интимные друзья. Когда Котта запаздывает с изданием его сочинений, престарелый Гёте пишет яростное письмо своему посреднику Буассере, потом сжигает его. «Злословие, — записывает хладнокровный друг и ученик после вечера, проведенного в обществе Гёте, — продолжалось: Париж, немецкие и французские партийные распри, княжеские причуды, порча вкусов, глупость, поповство во Франции и просветительская страсть к ереси в Германии и т. д. и т. п.». И слушатель признается, что ему, наконец, показалось, будто он попал на Брокен. Такие минуты возбуждения повторяются все чаще.
Спокойная музыка его сердит. «Мне нужны сильные, взбадривающие звуки. Вот говорят, что Наполеон, который был тираном, любил музыку нежную, а я, должно быть потому, что я не тиран, люблю музыку живую, веселую, шумную. Человек всегда стремится быть не тем, что он есть на самом деле».
Однажды, после встречи с каким-то демагогом, которого он не терпит, Гёте говорит: «Ну что же, он раздражает меня, а это самое главное, безразлично от того, что нас волнует — ненависть или любовь. Волнение необходимо, без него нельзя бороться с депрессией… Кто ищет моего общества, должен сносить и мое грубиянство, вот как слабости и причуды других. Старик Мейер умен, очень умен, но он не уходит от меня, не возражает, и это скверно. В душе он, конечно, бранится в десять раз больше, чем я, но ему кажется, что я слаб. А ему бы шуметь и греметь. Вот чудное было бы зрелище».
Можно подумать, что эти слова принадлежат не восьмидесятилетнему Гёте, а тридцатилетнему Байрону, который жаждет волнений. Но нет, это престарелый Гёте, который, словно юноша, охваченный грозным и мрачным отчаянием, пишет трагические стихи.
Правда, страстные противоречия, которые Гёте прежде воплощал обычно в двух противоположных персонажах, теперь звучат уже глуше. Диалоги, звучавшие в его собственном сердце, которые он, бывало, заставлял вести Фауста с Мефистофелем, во второй части произносятся раза два, не больше. Но и здесь победителем выходит все еще Мефистофель. Особенно в том месте, где он, по поручению Гёте, блестяще излагает теорию вулканического происхождения гор, которую совсем не понимает Фауст. Вовсе не всегда Гёте был полон решимости отправить Фауста прямехонько на небеса. В одном из набросков Мефистофель говорит:
А в еще более старом черновике даже написано: «Эпилог в хаосе на пути в ад». Да, врожденные ему противоположности всегда грозят разрушить стремление Гёте к единству.
«Я никогда не боролся с инстинктами окружающих. Мне это казалось заносчивостью, а может быть, я слитком рано стал вежлив… Я был окрашен всегда в какие-то нежные цвета, вроде голубого; но я бы погиб, стремись я стать во что бы то ни стало красным… Не зашел ли я слишком далеко в своей манере жить уединенно? Впрочем, эту манеру можно в известном смысле назвать и самовоспитанием. А воспитание всегда тюрьма, и ее неизбежные решетки раздражают тех, кто проходит мимо. Зато тот, кто занят самовоспитанием, кто заперт в тюрьме и натыкается на прутья, действительно приходит в результате к свободе… Я насилу научился великому делу — искать то, что необходимо для моей деятельности, в явлениях национальных и исторических… Меня всегда считали особым баловнем счастья… А по существу, я всего добивался только работой и трудом и могу сказать, что из семидесяти пяти лет жизни вряд ли прожил с удовольствием хоть месяц. Я всегда толкал в гору камень, который скатывался вниз, и его приходилось тащить снова». После таких высказываний старого Гёте трудно представить его себе человеком, решившим перелить собственную жизнь в некое гармоничное произведение искусства.
Некогда юный Гёте мерялся силами с самими богами. Тогда он заставил Фауста, мага и своего двойника, запертого в тесной келье, крикнуть сквозь окружающий его мрак и туман:
Но теперь, через столько лет, когда старый Гёте берется за пожелтевшие листы, когда он заставляет Фауста после долгого сна проснуться в ярком свете солнца, тот, благодарный, восклицает, обращаясь к земле, на которой он спал:
Желания богов уже не терзают его сердце. Когда он пытается взглянуть на восходящее солнце, скрытое от него горой, оно тотчас же ослепляет его. И тогда он опускает взгляд на землю и видит водопад, в котором сверкает радуга.
Так же как Гёте, Фауст полон теперь спокойного отречения, и высказывания Фауста в наиболее ответственных местах выражают мысли самого Гёте.
В них обоих говорит тот дух, который напрягает последние силы, чтобы завершить свое творение, И все-таки, это тот же самый дух, который всегда боролся за действительность, и который, в середине своей жизни, когда он писал сцену спора с Мефистофелем, по-фаустовски презирал прекрасные мгновения. Только теперь, на закате дней, к Гёте впервые подкрадывается раскаяние, так же как к Фаусту забота. Только теперь ему хотелось бы вернуть прошлое, чтобы полнее насладиться им.
«В лучшую пору моей жизни, — замечает старый Гёте, — друзья, например, Мерк в последние франкфуртские годы, часто говорили мне, что живу я лучше, чем говорю; говорю лучше, чем пишу; пишу лучше, чем то, что выходит из печати. Но все эти разговоры только усиливают и без того свойственное мне презрение к преходящему мгновению».
Удивительно ли, что, запутавшись в сетях противоречий (ведь он стремится взять все, что можно, от мгновения, и презирает его), Гёте бесконечно отодвигает разрешение спора между Фаустом и Мефистофелем. Он написал уже все сцены трагедии и только никак не может вынести окончательное решение, ибо оно не в его власти. Точно так же, как читатель почти до самого конца не знает, чем завершится жизнь Фауста, точно так же до последнего года своей жизни не знает этого и Гёте.
Очень напрасно конец «Фауста» заставил многих решить, что в старом Гёте произошел религиозный поворот. Христианское учение до конца жизни остается ему совершенно чуждо. Он по-прежнему нападает на него, только уж не с юношеским жаром, а иронически, «Кто у нас нынче христианин в понимании Христа? Я один, может быть, хотя вы и считаете меня язычником». Христа старый Гёте называл личностью чрезвычайно значительной, но в высшей степени проблематичной. Канцлер даже своему сокровенному дневнику не решился доверить слова, сказанные Гёте по поводу нового церковного закона. Он только кратко записал: «Резкие выпады против мистерий христианской религии, особенно против непорочного зачатия Марии, которую и мать ее Анна тоже будто бы зачала не в грехе». Как раз в это время Гёте случайно попалось его первое стихотворение: «Нисхождение в ад Христа». Он смеется и говорит, что это прекрасный пропуск на небеса, а глядя на распятие, утверждает, что на него приятно смотреть всем. Ведь любой видит здесь человека, которому пришлось еще куда хуже, чем ему самому. Новейшую религиозную поэзию Гёте саркастически окрестил «поэзией лазаретной». В письмах к близким, он не поручает их милосердию божьему и упрямо подписывает: «Итак, поручаю вас моральному мировому порядку! Да пребудут с вами добрые духи воздуха и земли»; «Препоручаю вас всем благожелательным демонам!»
Библия для Гёте книга только историческая.
В идеальной «провинции», изображенной в «Годах странствий», одинаково уважают три религии — языческую, философскую и христианскую. В совокупности своей они и образуют религию истинную. А уважение ко всем этим религиям переходит в высшее качество — в уважение к себе самому.
Принимая во внимание подобные идеи, иенские теологи, разумеется, не могут последовать примеру других факультетов и на гётевском юбилее дать ему титул почетного доктора — им приходится ограничиться только дипломатическим поздравлением. А при этом они еще не знали весьма не кроткую «ксению», которая стала достоянием потомства:
Повторяем, хотя конец «Фауста» заставил многих решить, что в старом Гёте произошел религиозный поворот, но ни у Гёте, ни у его Фауста нельзя найти и малейших симптомов терзания совести или мечты о божественном всепрощении. Гёте вовсе не замышлял восхождение Фауста на небеса наподобие восхождения Данте к мистической розе. И чем кончится жизнь Фауста, Гёте не знал почти до самого завершения трагедии. Всего за несколько лет до этого он даже полагал, что Мефистофель тоже будет прощен господом богом.
Гёте совершенно ясно заявил, что заключительная часть «Фауста», которая может показаться «католической», — это только форма, и нередко он называл эту часть вакханалией.
Последние идеи Гёте, касающиеся морали, тоже никак не совпадают с заповедями евангелия. Он сам говорит, что мораль его «чисто человеческая», что это та самая мораль, которая является предметом античной трагедии, особенно там, где возникает конфликт человека с властью и законом. «Именно здесь проявилось все нравственное, как главная часть человеческой природы… Но это вовсе не первозданная и не прекрасная природа… Да и что такое добродетель, как не то, что действительно свойственно человеку в любом состоянии?»
В таких расплывчатых словах характеризует старик моральные нормы, когда ему приходится говорить о них с друзьями. Но вся его природа восстает против этих норм. Прожив долгую жизнь, которую он отдал разуму и природе и в беспрерывной титанической борьбе с собой, Гёте, конечно, считал понятия морали весьма пустыми. Поэтому он их избегал.
И поэтому выдержал величайшее испытание, которому подвергает человека возраст. Даже в глубочайшей старости он с полной свободой выступал против истин, которые люди, чувствуя приближение смерти, обычно стараются на всякий случай как-то признать, хотя бы частично. Отважный старик, когда при нем заговорили о совести, воскликнул: «А почему необходимо иметь совесть? И кто этого требует?» Ранняя Римская республика, в которой еще не было преступников, говорит он, была так скучна, так трезва, что в ней, конечно, не хотелось жить ни одному порядочному человеку.
Ни христианство, ни мораль не составляют веры Гёте. Вера его — наука. «Самое важное уразуметь, — говорит Гёте, — что все существующее само по себе составляет теорию… За феноменами не надо ничего искать. Они сами наука».
«Мыслить, знать, чувствовать, верить и как там еще называются щупальца, которыми человек нащупывает вселенную; они должны всегда работать во взаимодействии, только так мы и сможем выполнить свое призвание».
Обращаясь к природе, Гёте-натуралист говорит: «В природе есть области доступные и недоступные. Нужно понять это и отнестись к ним с уважением… Человек, который этого не поймет, может всю жизнь промучиться над тем, что ему недоступно. Зато человек, который достаточно умен, чтобы держаться только области доступного, исследуя ее со всех сторон и укрепляя свои познания, сумеет в известной мере проникнуть и в область недоступного. Впрочем, и тогда он вынужден будет признаться, что в природе всегда есть нечто загадочное, и постичь это превышает человеческие способности».
Хотя Гёте намеренно так пространно поясняет свою мысль, мы видим, что исследовательская мысль самого Гёте идет именно неизведанными тропами и вторгается в самую суть явлений. Поэтому он неизбежно должен был стать врагом символистов, до появления которых он еще дожил. «Я пластический художник, — говорит Гёте, указывая на голову Юноны. — Я пытался постичь мир и человека в мире. А теперь приходят эти парни, напускают тумана и показывают мне явления, то где-то в чуть различимой дали, то совсем рядом, точно китайские тени, черт бы их побрал!» Враг мистики, Гёте враг и всяческих сект. Он предостерегает от постоянного созерцания еще не разгаданных явлений и спекуляции на них. «Пусть человек, верящий в загробную жизнь, радуется втихомолку, но у него нет никаких оснований воображать, как именно все это будет там… Возня с идеями бессмертия — занятие для привилегированных сословий, особенно для женщин, которым нечего делать».
Старик сердито, а иногда и насмешливо отказывается проникать в загадочное. Зато он старается спасти все, что только возможно, для предмета исследования и обнаруживает всю свою волю бойца, когда признается, что неисследуемое, правда, существует, но мы не можем не попытаться сузить его до таких пределов, чтобы от него почти ничего не осталось.
В последние годы жизни Гёте углубляется в астрономию и много размышляет над вопросами мироздания. «Мне выпало особое счастье, — говорит он Цельтеру. — В глубокой старости меня посещают такие мысли, следить за которыми все равно, что прожить свою жизнь сначала». Мысль о смерти оставляет его совершенно спокойным, ибо он верит в вечность. «Уверенность в том, что мы продолжаем существовать вечно, вытекает у меня из самого понятия деятельности. Ибо если я, не зная устали, буду деятелен до самого конца, то природа, когда теперешняя форма уже не сможет выдержать тяжести моего духа, обязана будет указать мне новую форму существования. Пусть же вечно живой не откажет нам в новых видах деятельности, аналогичных тем, в которых мы уже испытали себя. А если он еще по-отцовски дарует нам воспоминание обо всем справедливом и хорошем, к чему мы стремились и что уже создали, тогда и мы, конечно, очень быстро ухватимся за зубцы мировой шестерни». Вот в каких чувственных красках изображает престарелый Гёте сверхчувственный мир.
А тем временем судьба готовит ему новые утраты.
Умирает в дороге, возвращаясь из Берлина, герцог. Гёте почти не говорит об умершем. Проходит еще два года, но он не дает смерти подкупить свою память. Он все еще судит герцога, как живого. «Он мог бы приобщиться к моим идеям и высоким стремлениям, — говорит Гёте. — Но, как только его покидал демон, и в нем оставалось одно человеческое, он не знал, что с собой делать, и чувствовал себя прескверно… В сущности, в нем было больше черт тирана, чем в ком-либо другом, но он предоставлял всему плыть по течению, если только это не задевало собственных его интересов…»
Старик еще раз покидает свой дом. Он едет в Дорнбург. В последний раз он один. Но хотя он счастлив, сбежав от семьи и города, он и здесь не живет отшельником. Он по-прежнему доступен детям, друзьям, гостям, выписывает в свое уединение вино, книги и карты, линзы и призмы. При нем секретарь и слуга. Соприкосновение с природой вновь будит в нем исследовательскую жилку. Труды французских натуралистов, близкие по направлению к его собственным, заставляют его вспомнить о метаморфозе растений. К тому же он много занимается метеорологией. Дворец в Дорнбурге окружен виноградниками, и при виде их Гёте пишет статью о новом способе возделывания винограда.
Перед рассветом он подходит к высокому окну и видит, как спешит укрыться от солнца Венера. А иногда в поздние летние сумерки он гуляет по аллее перед дворцом, среди мальв и роз, над ним проносится ветер, он видит солнце, которое все еще не скрылось за горизонтом. Тогда им с новой силой овладевает склонность к аллегориям, и возвышенную ясность горной тишины он воспринимает как выражение последнего своего одиночества. Проходит еще несколько дней, и он решается, наконец, написать новому государю. Когда-то, сорок пять лет тому назад, он приветствовал его рождение, а потом помогал его воспитывать. Приветственное письмо старого министра обращается в поэму.
Он глядит вниз на замки и деревни, которые виднеются в долине у подножия горы, на дома и злаки; и кажется, он видит, как исчезает и возникает вновь все живое. «Я вижу дома в деревне — между ними пролегают грядки, высятся деревья, — и реку, которая, извиваясь, течет по полям; прилежные поселяне косят густые травы. Вот тянутся запруды, мельницы, мосты, скрещиваются дороги, то поднимаясь в гору, то спускаясь вниз. На тщательно возделанных холмах до самых крутых обрывов, поросших лесом, простираются пашни, и цвет их меняется от цвета злаков, от степени спелости… Все, как и пятьдесят лет тому назад. Только повсюду царит большее благоденствие».
Так пишет старик новому герцогу из лесных мест, в которые пятьдесят лет тому назад вместе со старым герцогом он вступил как деятельный их устроитель.
И совсем как тогда, среди этих лесов он вновь превращается в лирического поэта:
И написав эти строки, он пишет еще четыре стихотворения, самые совершенные из всех, обращенных им к природе. Это последние лирические стихи Гёте.
Правда, он пишет еще неожиданно и добавление к «Дивану». Но в нем не звучат уже кристальные ритмы. Гёте вернулся к белому стиху своей юности. А вообще он подчиняет теперь свою жизнь только двум задачам: работе и экономии времени. Он уже не интересуется газетами, очень мало кого принимает, не читает книг, даже собственных, и отказывается посмотреть постановку первой части своего «Фауста», хотя спектакль, поставленный в его честь, идет чуть не рядом с его домом. Когда до Германии докатываются отзвуки июльской революции и Иена объята волнениями, Гёте остается иронически-равнодушным даже к этим событиям. Он сосредоточен только на своей работе. Наконец из печати выходит последний том Сочинений, и перед Гёте открыта дорога к новым трудам. Он обязан собрать всю свою энергию и все свои жизненные силы!..
Умирает старая герцогиня Луиза… Целых полвека Гёте относился к ней с чувством особого уважения. Сейчас он сидит с друзьями. Попивая вино, они стараются говорить погромче, чтобы заглушить звон погребальных колоколов. Гёте рассказывает им новые сцены из «Классической Вальпургиевой ночи». Сверх всякого ожидания она с каждым днем удается все больше. Ему передают привет и соболезнование молодой герцогини.
«…Покуда нам еще светит день, — говорит Гёте, давайте держать голову высоко. И, покуда, еще можем творить, не сдадимся!»
Чем реже выходит он из своей узкой комнаты, тем шире становится круг страстей, к которым он возвращается в воспоминаниях.
Окидывая мысленным взором свою жизнь, он характеризует ту демоническую силу, то существо, которое часто управляло его судьбой. «Оно не было божественным, ибо казалось неразумным; не человеческим, ибо у него уже не было разума; не адским, ибо оно было великодушно; не ангельским, ибо в нем нередко проскальзывало злорадство; оно было подобно случайности, ибо не влекло за собой никаких последствий… Казалось, оно произвольно обращается с самыми необходимыми элементами нашей жизни… Оно нравилось себе только в ситуациях немыслимых…..Я пытался спастись от этого страшного существа, скрываясь по привычке за каким-нибудь образом».
Охваченный таким настроением, Гёте обращается к Бетховену. Теперь музыка Бетховена ему уже близка.
В Веймар приезжает Мендельсон. Забившись в угол, Гёте слушает в его исполнении первые такты бетховенской сонаты C-moll. «Да ведь это грандиозно, — восклицает он. — Огромно! Невероятно! Кажется, сейчас над нами обрушится дом!» Долго еще вспоминает он об этой музыке. Впрочем, вовсе не эти настроения доминируют последние годы в жизни Гёте. Всего за три месяца до его смерти друг его, канцлер, говорит, что любимая форма существования Гёте — это ирония.
Но в предельной старости Гёте предстояло еще одно, последнее испытание.
Август, наконец, уехал. В сорок лет он добился, чтобы отец отпустил его. Да Гёте и сам понял, что никакой надзор уже не спасет сына. Отпуская его, он прямо сказал окружающим, что считает его безнадежным.
Конечной целью поездки Августа был Рим. Он отправился туда в сопровождении Эккермана. За несколько лет до рождения Августа Гёте, который целых десять лет изнемогал под тяжестью дел и обязанностей, бежал на юг. Он бросился туда в поисках свободы и знаний. Теперь сын его бежит на юг, чтобы окончательно погубить свою и без того погубленную жизнь. Судя по письмам Августа к отцу, он ведет себя во время путешествия разумно, преследует только гуманистические цели. По правде, он скрывает от отца свое пьянство и свою депрессию. В дневниках Августа описывается все внешнее и тщательно умалчивается обо всем существенном, совсем как в поздних дневниках отца. Кажется просто чудовищным, что отец ничего не знает о тяжело больном сыне, разве только, что он приобрел в Милане медали, нужные для коллекции Гёте. Но еще трагичнее, что в действительности отец знает все — и молчит. Переписываясь с сыном, он все время делает вид, что считает его счастливцем. И даже противопоставляет «гармоничное» настроение Августа, в котором тот приехал во Флоренцию, своему «тассовскому», которым был охвачен он сам, приехав в тот же город. Издалека отец осторожно предостерегает сына, успокаивает, обещает выслать любую сумму, которая только ему потребуется. В Генуе Эккерман поссорился с Августом и уехал. Оставшись один, Август сломал себе лопатку, потом заболел какой-то таинственной кожной болезнью.
Последние письма его к отцу дышат странной экзальтацией. «Впервые, на сороковом году жизни, пишет он за двенадцать дней до смерти, — я узнал чувство самостоятельности, и притом среди чужих людей… Меня пытались соблазнить игрой, девчонками, женщинами. Но против этих трех соблазнов я заговорен. Так что я возвращаюсь совершенно чистым, хотя и израсходовав несколько больше денег, чем другие». Письмо пьяницы, который стоит на пороге смерти, полно тайных недомолвок и намеков. Оно явно рассчитано на возвышенную и разреженную официальную атмосферу, царящую в гётевском доме. И старик это знает. Чуть не накануне смерти сына он посылает ему рекомендацию к археологу, работающему на раскопках, и заканчивает свое письмо зловещими словами: «Итак, мой сын обладает теперь самыми прекрасными рекомендациями и на земле и под землей».
В конце октября Август, последний из детей Гёте, умирает «вследствие кровоизлияния в мозг, повлекшего за собой молниеносную смерть». Вскрытие обнаружило чудовищно увеличенную печень, типичную «печень алкоголика»… Он умер в Риме, в том самом городе, где отец его, по собственному признанию, «только начал жить». Земляки похоронили его возле пирамиды Цестия, которую когда-то запечатлел в меланхолическом рисунке Гёте, мечтавший найти под ней место своего успокоения. Но и на родине Августа не проводил бы любящий взор. О нем никто не горюет.
Через двенадцать дней отец, еще не зная, что сын умер, мягко и благожелательно ответил на его последнее письмо. Собрание сочинений, наконец, выходит из печати. «Ты приедешь как раз к самому концу, когда мы оба сможем подвести итог и начать новую эру. И да ниспошлют нам добрые духи разумение и силы для этого». Но письмо уже не было перебелено. На другой день ганноверский посол, присутствовавший при смерти Августа, привез эту весть в Веймар. Посол — господин Кестнер, сын Лотты Буфф. Друзьям, которые, запинаясь, передают известие отцу, Гёте не дает договорить. Он произносит античные слова: «Я знаю, я породил смертного сына!..»
Но работа над «Фаустом» замирает совсем. Гёте упрямо молчит. Нет, он не согнется перед утратой! Возвращается Эккерман, спутник Августа. Гёте обнимает его. Ни звуком не упоминает он о сыне. Ни теперь, ни потом…
«Испытаний ты должен ждать до конца дней своих, — пишет Гёте Цельтеру. — У тебя, мой хороший, в них никогда не было недостатка, у меня тоже; и кажется, судьба уверена, что мы состоим не из нервов, вен и прочих органов, но сплетены из проволоки… Что ж, пусть будет так… Самое удивительное и существенное в этом испытании то, что отныне я должен один и с еще большим трудом влачить на себе бремя. Одно лишь великое понятие — долг — может заставить нас устоять. Я стараюсь сохранить равновесие физическое, остальное образуется само. Тело должно, дух хочет — значит, человеку, который знает, что желаниям его предначертан неизбежный путь, долго раздумывать не приходится… Итак, через могилы, вперед…»
Гёте держится героически. Кажется, что несчастье только увеличило его силы. Уже целых десять лет последняя часть «Поэзии и действительности» ждала своего завершения. Теперь за две недели Гёте диктует его почти до конца. И по временам в этой книге вспыхивает такой огонь, которого не было во всех предыдущих. Гёте весь ушел в описываемую эпоху. Он рассказывает о ней друзьям, цитирует им стихи к Лили. Кажется, он все еще пылает к ней страстью.
Одинокий, без сына, без любящих, старик листает старые-престарые свои дневники и находит в них слова: «Смех и веселье продолжались до полуночи». Они переходят в его книгу, и он продолжает повествовать о любви, которою пылал пятьдесят пять лет тому назад, страдая, словно в преддверии ада. Из всех пор старческого произведения брызжет с трудом подавленная боль, с которой он оторвал кусок своей души ради девушки, казавшейся ему вселенной. Гёте диктует книгу всю до конца и заболевает.
У него лопнул сосуд в легком. Ему пускают кровь. Через несколько дней старик уже на ногах. Он должен использовать спасенные дни. «Продержись еще немного! Прошу тебя!» — пишет он Цельтеру.
Но теперь ему приходится опять взвалить на себя обязанности главы дома. Оттилия ни на что не пригодна. Он должен наладить все заново, он должен переделать свое завещание. Он составляет его так, чтобы не допустить вторичного брака Оттилии.
Постепенно настроение в доме просветляется. Оттилия дружит со стариком. Никто больше не ссорится. Но Гёте должен вмешиваться решительно во все.
В дневнике беспрерывно описываются всякие хозяйственные дела: «Вульпиус уволил кухарку, выплатив ей небольшое пособие… Освободившись от этого груза, я смог взяться за важные работы». А через два дня: «Опять уладил домашние дела. Бодро и счастливо приступил к главному делу».
«Главное дело» — завершение «Фауста».
Стоит февраль. Гёте пошел восемьдесят второй год. В «Произведении жизни» все еще не хватает решающего эпизода: в нем все еще нет исхода спора. Что же ждет Фауста? Победа или поражение? Впрочем, нет также куска четвертого акта и первой половины пятого. «Итак, через могилы, вперед!» — в последний раз восклицает, обращаясь к себе, Гёте. Он наладил свой дом. Он оградил свои писательские права. Он обеспечил судьбу своих сочинений. Не хватает только одного — последнего решения, которое он отодвигал столько лет и без которого главное творение навсегда останется фрагментом. Кажется, древний-предревний властелин медлит поставить под ним свою подпись.
И тут неожиданно в Гёте вспыхивает последний творческий огонь. Целых тридцать лет он не чувствовал в себе таких творческих сил, как сейчас. Он решает закончить «Фауста» ко дню своего рождения. Оно будет его последним. Так же как его Манто, Гёте восклицает: «Кто к невозможному стремится, люблю того!»
Отныне он и называет завершение «Фауста» «главным делом». Последний год своей жизни Гёте живет в таком же героическом отречении, как и его Фауст, в свой последний год. Ведь то, что раньше у них у обоих не было «главного дела», лежало в самой их природе. Теперь впервые, в последнюю минуту, все помыслы их сосредоточиваются лишь на одном. И кажется, действительно и Гёте и Фауст придут сейчас к решению неразрешимой проблемы.
В эти последние годы Гёте особенно увлекается новейшими техническими достижениями, например вопросами гидротехники. Он подробно ознакомился не только с планами Наполеона, но даже с замыслами Карла Великого: они оба мечтали соединить каналом Рейн и Дунай. Один из гётевских друзей живо заинтересовал его рассказом о сооружении нового бременского порта, о плотинах, которые предполагалось воздвигнуть в плодородных, но подверженных наводнению местностях, например в устье Везера. Старик сидит, окруженный картами и планами гаваней, набережных, плотин. Особенно занимает его проект Панамского канала, про который ему рассказал Гумбольдт. Вот бы увидеть появление всех трех каналов — Рейнского, Панамского, Суэцкого! «Ради этих великих сооружений, право, стоит прожить еще каких-нибудь пятьдесят лет!» — говорит Гёте. Постепенно мысль о великих сооружениях современности связывается у него с мыслью о завершении «Фауста». Правда, никакой готовой схемы у него по-прежнему нет. Но в одном из набросков к четвертому акту появляются знаменательные слова: «Фауст завидует жителям побережья, которые отвоевывают землю у моря. Он хочет присоединиться к ним».
Сперва, кажется странным, что Гёте, который едва знает море, выбрал именно морскую стихию, чтобы в борьбе с нею полностью развернулась творческая и героическая деятельность Фауста.
Каждое утро в это последнее лето Гёте диктует самый значительный акт своей трагедии.
«Фауст, древний старик, в задумчивости прогуливается по саду», — написано в ремарке. Самому Гёте, который, создает образ столетнего Фауста, исполнилось уже восемьдесят два года. Видно, он должен был превратиться в легенду, чтобы почувствовать, как схож его облик с обликом его седого как лунь героя, того героя, в котором еще шестьдесят лет назад он увидел точное свое отражение. Но в глубине души он остался неизменным, он все еще подавляет в себе так и не сбывшиеся стремления.
Вот точно так же было и сорок лет тому назад в Риме, когда Гёте вложил в уста Фауста признание, открывшее его собственную душевную скованность и отчаяние: «Я, наслаждаясь, страсть свою тушу и наслажденьем снова страсть питаю».
Но не только в Фаусте выразил себя старый Гёте.
Быть может, с еще большей силой воплотил он свои теперешние настроения в башенном страже, в Линцее, который, стоя на вышке, глядит в темную ночь и поет песнь, полную глубокой благодарности к жизни:
Старчески сгорбленный Гёте стоит у окна своей тесной спаленки, и, словно в широкий мир, словно в сегодняшний теплый день, смотрит он в сад, заросший мальвами. Кажется, все еще пылающему сердцу нужен один-единственный час тишины, да, только один-единственный, и он сам станет башенным стражем. Поэт собирается с силами к своему последнему грандиозному взлету:
И в эту самую минуту к нему подкрадывается Забота. О, неужели он никогда не знал ее? Нет! Гордо, как Прометей, отвечает на ее угрозы Фауст:
Этот свет! Здесь — и нигде больше. Последние слова Фауста и престарелого Гёте. Согласно глубочайшим законам они должны заставить черта проиграть великий спор. Но, познать довольство, им все-таки не дано. Вот почему, даже в предпоследнее мгновение, оба кричат о своем непокое. Все самые сокровенные чувства Гёте толкают его отдать победу черту, но он еще волен решить спор по-своему. И когда прельстительная Забота, посланница Мефистофеля, пытается устрашить Фауста, то вместе с Фаустом старый Гёте тоже громко кричит ей в ответ:
Разгневанная Забота дует на него, и Фауст слепнет… Слепота — самое тяжкое испытание, которому только может подвергнуть Гёте, так любящий свет, своего двойника. Но даже и слепой, Фауст остается непоколебим. Озаренный внутренним светом, берется он вновь за работу; и когда Мефистофель, которого уже не видят слепые глаза Фауста, велит лемурам рыть для него могилу, Фауст, тоже совсем как Гёте, даже в самые последние свои минуты все еще рвется к деятельности. Он жаждет осушить болото, он готов выдержать борьбу со стихией, с опасностью борьбу, которая всегда вселяет силы в человека. Видя духовным оком эту новую борьбу, старый провидец заставляет своего слепого героя узреть перед собой, наконец, цель. Он подтверждает свое основное убеждение, которое сформулировал еще в начале трагедии, когда сказал: «В начале было дело». Теперь он варьирует его: «Дело было в конце!» Вот почему в предвкушении этого мгновения Фауст может воскликнуть:
Согласно всем законам, так говорят юристы, Фауст проиграл свой спор Мефистофелю. И все-таки, согласно законам внутренним, он выиграл его.
Пусть и не доведенное до совершенства, произведение завершено.
«Главное дело завершено. В последний раз переписано начисто. Все переписанное переплетено». Заключительные сцены написаны уже несколько лет назад. Но Гёте все еще не выпускает Фауста из рук. «Повседневность наша так бессмысленна и нелепа, и я заранее уверен, что честные и столь долгие труды, которые я положил на то, чтобы сварить это странное варево, будут скверно вознаграждены и оставлены безо всякого внимания». И он увязывает рукопись и запечатывает своей печатью с утренней звездой. А жизнь он все еще завершить не может. Разве сейчас не начало июня? Разве не пришел он к цели на несколько недель раньше, чем предполагал? У него еще есть время. И он принимается писать дополнения к уже готовым произведениям. Однако, «не успеваю я удовлетворить одним требованиям, как мне тотчас же предъявляют другие, совсем как в булочной, к которой выстроился хвост… Я заложил слишком много зданий, и нужно очень много сил и средств, чтобы достроить их».
А сил не хватает. И хотя по привычке он все еще работает, но этот последний летний поход исчерпал его последние силы. Он чувствует это и относится к своей жизни, только как к подарку. «Теперь, в сущности, все равно, что я буду делать и буду ли делать вообще».
С домашними он живет, наконец, в мире и согласии. Оттилия стала старше, серьезнее, понимает, что на ней лежат определенные обязанности. Старик с ней всегда деликатен, слушает ее болтовню о балах, подробно обсуждает шарады, которые она собирается ставить. Он интересуется даже ее «Хаосом» и по-прежнему печется о кухне, столе и хозяйстве.
Дети тоже помаленьку подрастают. Альма красива и своенравна. Вальтер влюбился в певицу и сочиняет арии, Вольф пишет трагедии и комедии, коллекционирует театральные афиши, читает безгранично много. Старик терпеливо учит мальчиков, как ставить печати, как содержать ящики в порядке. Он не препятствует им ходить в театр. И они бывают там так же часто, как бывал в их годы отец. Старик заставляет себя даже слушать пьесу Коцебу, которую они ему прочли вслух. Сидя с ним в карете, они состязаются в драматургических планах, а дед улыбается и замечает, как «они играют во всамделишных поэтов! Только когда один так и горит энтузиазмом, другой принимается зевать, а когда очередь доходит до него, первый начинает свистеть». Но в день рождения детей Гёте «был погружен в серьезные наблюдения над природой и только приветливо молчал».
Иногда еще он посылает коллекционерам жуков и бабочек в обмен на редкие камни. Продолжаются и служебные дела. Он обменивается весьма важными письмами с секретарем Иенского минералогического общества по поводу того, каким именно шрифтом следует набирать дипломы. Гёте не нравится, что колонтитул стоит слишком близко к слову «президенты». Все еще продолжаются рекомендации, дотации, поддержка живописцам. Только обо всем этом пишется как-то приглушенно, и письма теперь заканчиваются: «Мир и радость всем благожелателям, особенно нашим близким. Остаюсь и впредь!»
В последний день своего рождения Гёте вместе с внуками едет в Ильменау. Он хочет «в присутствии этой будущей смены достойно приветствовать духов прошлого». И покуда в Веймаре открывают постамент с бюстом Гёте и произносят речи, словно он и впрямь уже умер, Гёте смотрит на кроны высоких лип, которые он посадил когда-то здесь, в том месте, где «вкусил так много хорошего и так много плохого, что уравновесить это можно было только с помощью безграничной деятельности. И все-таки здесь свершилось многое, последствия чего и сейчас еще незримо влияют на нас».
Внуки смотрят, как работают угольщики, дровосеки, стеклодувы. А он взбирается на пригорок к охотничьей хижине. Где же та оконная ниша? А вот и строчки на стене, написанные более пятидесяти лет назад:
Молча стоит он несколько минут и опять спускается вниз.
А в мире кипит и бурлит наука. По временам к нему доносятся насмешки и раздражение. Все по-прежнему пытаются замолчать его «Учение о цвете». Большую радость доставил ему пражский ученый, который рассматривает его труды в историческом аспекте. Он снова тщетно попытался объяснить происхождение радуги. В длинном письме он советовал ученому проделать опыт разложения света по его новому методу.
Останки ископаемых животных и растений, слоновьи клыки, найденные в Тюрингской пещере, по-прежнему лежат на его столе. И, «право, можно просто сойти с ума, когда глубже погружаешься в прошедшие времена». Он еще и теперь занимается остеологией, и у него все еще появляются новые идеи о развитии растений. Спор между Жоффруа Сент-Илером и Кювье опять подтвердил правильность основных его мыслей о метаморфозе растений. И опять пишет об этом. Вместе с Оттилией вечер за вечером перечитывает он Плутарха и с изумлением следит за описанием первой железной дороги в Англии.
Слава уже негромко стучится к нему в двери.
С улыбкой слышит он, что в Помпее один из домов, пол в котором вымощен замечательной мозаикой, назвали Каза ди Гёте. Но слава не ослепляет его. «Чем старше я становлюсь, тем больше пробелов видится мне в моей жизни, которую другим вздумалось рассматривать как нечто целое». А когда за несколько недель до смерти Гёте, разговор зашел о его творчестве, он охарактеризовал его так: «Если говорить честно о талантах и склонностях, которыми я обладал, чтобы видеть и слышать окружающее, а потом передавать другим, то я обязан моими произведениями не только себе, но и тысячам явлений и людей, которые дали мне для них материал. Среди них были дураки и умники, светлые головы и тупицы, дети, юноши и мудрые старцы: все они делились со мной своими раздумьями, и мне оставалось только брать их и пожинать то, что посеяли для меня другие… Самое важное иметь большую волю, способности и настойчивость, чтобы довести все до конца… Мирабо был абсолютно прав, всегда используя окружающих и их силы… Творчество мое создано существом коллективным, которое носит имя Гёте».
Так, по-прежнему не удовлетворенный мгновением, смотрит он на жизнь и на свое творчество, И поэтому в один прекрасный день он решается и взламывает печать, которой торжественно запечатал «Фауста». Ему хочется «еще больше развить главные мотивы произведения, которые, торопясь окончить, я скомкал». Стоит середина января. Гёте перелистывает «Фауста», несколько дней читает отдельные места Оттилии, что-то исправляет. И очень скоро запечатывает, почти ничего не изменив.
Февральским теплым днем, ровно за месяц до смерти, он едет в свой старый сад и проводит там несколько часов один.
Все еще приходит и все еще молчит старый Мейер.
Приезжает Цельтер, последний раз. «Беседы, полные значения, о прошлом, настоящем и будущем». Оба друга умрут почти вслед за ним — Мейер через семь недель, Цельтер через семь месяцев.
Только одно женское имя еще доносится до него.
За полтора месяца до своей смерти Гёте вынимает письма Марианны, запечатывает и отсылает ей.
«Письма, напоминающие мне о прекраснейших днях моей жизни… дабы избежать случайностей», — и берет с нее обещание «не вскрывать их неопределенное время». Но не успел он вспомнить Марианну, как тотчас возник образ Зулейки, и он пишет:
Последнее любовное послание Гёте женщинам…
Наступает март. Он ждет весны и окидывает взором главные круги, темы и сюжеты своего творчества. Нет, они не нуждаются в комментариях!
Его раздражает несовершенство нашего языка, ибо мы «часто не можем даже разобраться и выразить то, что с нами происходит: видим ли мы, говорим, смотрим, думаем, вспоминаем, фантазируем или верим». Регионально-националистическую поэзию он бранит, ибо «поэт подобен орлу, который глядит на окружающее, свободно паря над странами, и ему совершенно безразлично, в Пруссии или в Саксонии бежит заяц, на которого он сейчас кинется». Гёте смеется над глупцами, которые объясняют преступления леди Макбет ее любовью к мужу. «Сама эпоха чудовищно громоздит свои преступления и выставляет их напоказ». Он пишет астрономам в Иену, что нужно уже теперь начать готовиться «достойно встретить» большую комету, которая появится через два года, и полагает, что открытие вращения Земли вокруг Солнца — благороднейшее открытие человечества, более важное, чем вся библия. Потом еще он классифицирует одно редкое ископаемое как важнейший переходный вид от папоротника к кактусу. В середине марта неожиданно и почти без всякого предисловия Гёте пишет Вильгельму Гумбольдту:
«Древние говорили, что зверей обучают их органы. И людей тоже, — добавляю я. — Но у людей есть преимущество. Они могут, в свою очередь, обучать свои органы… Чем скорее узнает человек, что на земле существуют ремесла, искусства, которые помогают ему регулярно развивать его врожденные свойства, тем он счастливее… Представьте себе талантливого музыканта, который должен создать партитуру: элементы сознательного и бессознательного будут находиться при этом в таком же взаимоотношении, как основа и уток. Благодаря упражнению, учению, размышлению, удаче, неудаче, поощрению, препятствиям и опять-таки размышлению органы, которыми располагает человек, бессознательно соединяют для свободной деятельности благоприобретенное с врожденным, и возникающее отсюда единство приводит в изумление мир… Шестьдесят лет с лишним прошло с тех пор, как у меня, тогда еще юноши, возникла совершенно ясная концепция «Фауста». Вот тут и начались великие трудности, ибо я должен был сознательно и по собственной воле воссоздать все, что, в сущности, должно бы само собой вытекать из свободной и деятельной природы. И было бы очень плохо, если бы после столь долгой жизни, полной деятельности и размышлений, мне не удалось это осуществить.
В мире господствует смутная философия, толкающая к смутным делам. Но для меня сейчас самое главное — еще усилить, еще больше выразить то своеобразное, что еще есть и осталось во мне… Простите это запоздалое письмо. Хоть я и живу вдали от мира, мне трудно выбрать час, чтобы поразмыслить над всеми тайнами жизни. Веймар. 17 марта 1832. И. В. ф. Гёте».
Это последнее, самое значительное письмо Гёте.
А последние книги, которые он читает, — Плутарх и Бальзак. К нему еще приходят редкие посетители; и свои последние стихи, мужественные, предостерегающие, скептические, Гёте пишет в альбом некоему молодому человеку.
Молодой человек, получивший эти стихи, — сын Беттины, изливавшей когда-то свои чувства Гёте. Он внук Максимилианы Брентано, к которой во времена «Вертера» поэт пылал страстью, пока супруг ее не отказал ему от дома, и правнук Софи Ларош, некогда писавшей Гёте такие интеллектуальные письма.
Молодой человек уходит, и двери гётевского дома закрываются для чужих. 15 марта во время прогулки в карете старик простудился, 20-го ему стало плохо. «Ужас и беспокойство, — рассказывает его врач, заставили старика метаться и беспрерывно переходить с кровати в кресло и обратно в кровать. Боли в груди все усиливались; он стонал и громко вскрикивал; лицо его исказилось и приняло пепельный оттенок; тусклые, печальные глаза глубоко запали; взор выражал беспредельный страх смерти».
Но врач быстро оборвал приступы болей. Старик заснул в кресле. На другой день ему стало немного легче. А на следующее утро он попросил дать ему книгу об июльской революции. Впрочем, он только листал ее. Зато немного выпил вина.
Он зовет своего писца и при помощи слуги приподнимается с кресел.
— Какое у нас сегодня число?
— Двадцать второе, ваше превосходительство.
— Значит, весна уже началась, и мы быстро поправимся.
Девять часов. Он снова садится в кресло возле кровати и засыпает. Видно, ему снятся сны. Он все время что-то говорит.
— Посмотрите, какая прекрасная женская голова — какие черные кудри, какие великолепные краски на темном фоне! Откройте ставни, впустите свет, — говорит он.
В десять утра он попросил дать ему вина.
— Подойди, дочурка, дай мне рученьку, — промолвил он, глядя на Оттилию.
И больше уже не говорил.
Но мысль его все не засыпала. Лежа в полусне, он стал писать в воздухе, покуда рука его медленно не упала. Он успел еще вывести букву «В». Так показалось присутствующим.
Тогда он откинулся в кресле и умер. В час своего рождения. Перед полуднем.
• 1749, 28 августа — Родился Иоганн Вольфганг Гёте.
• 1756 — Начало Семилетней войны.
• 1759 — Во Франкфурт-на-Майне вступают французские войска. В родительском доме Гёте располагается на постой комендант города граф Торан.
• 1763 — Мальчик Гёте тайком убегает из дому и знакомится с городом, его обычаями, обитателями, достопримечательностями. Встреча с Гретхен — мастерицей в шляпном магазине.
• 1764 — Юного Гёте насильно разлучают с его первой любовью — с Гретхен.
• 1765 — Отъезд в Лейпциг. Поступление в университет на факультет права. Уроки рисования у художника Эзера.
• 1766 — Посещение харчевни Шенкопфа. Любовь к Кетхен Шенкопф. Дружба с домашним учителем Беришем. Гёте посвящает ему свои оды.
• 1766–1767 — Книга песен «Аннета». Пастораль «Причуды влюбленного». Набросок комедии «Совиновники».
• 1768 — Разрыв с Кетхен Шенкопф. Болезнь и отъезд домой.
• 1768–1769 — Постепенное выздоровление. Занятия натурфилософией и мистикой. Увлечение химией и химическими опытами. Выходит из печати сборник «Новые песни». В нем — двадцать стихотворений Гёте, положенных на музыку Брейткопфом.
• 1770 — Отъезд в Страсбург.
• 1770–1771 — Учение в Страсбургском университете на факультете права. Посещение лекций по медицине и хирургии. Поездка в Зезенгейм. Встреча с Фридерикой Брион. Знакомство с Гердером.
• 1771 — Увлечение народной поэзией и собирание старых крестьянских песен. Гёте — лиценциат права. Работа над статьей «О немецкой архитектуре». Стихи к Фридерике. Замысел «Фауста». Прощание с Фридерикой. Возвращение во Франкфурт. Гёте — член адвокатского сословия. Речь на Шекспировских торжествах. Пьеса «Гёц фон Берлихинген». Знакомство с Мерком. Участие в движении «Буря и натиск».
• 1772 — Сотрудничество в журнале Мерка. Поездка в Вецлар, где находился Высший апелляционный имперский суд. Увлечение Шарлоттой Буфф. Возвращение во Франкфурт.
• 1773 — Драматические отрывки «Прометей» и «Магомет». Фарсы и маленькие пьесы. Вторая редакция «Гёца фон Берлихингена» и др.
• 1774 — Выход в свет романа «Страдания юного Вертера». Мировой успех. Встреча с молодым веймарским герцогом Карлом Августом.
• 1775 — Гёте — жених Лили Шенеман. Переписка с графиней Августой Штольберг. Создание музыкальных комедий. Приглашение в Веймар. Работа над «Пра-Фаустом». Переезд в Веймар и знакомство с Шарлоттой фон Штейн.
• 1776 — Советник Гёте на государственной службе. Занятия геологией и минералогией. Переезд в садовый домик, подаренный поэту герцогом.
• 1777 — Путешествие по Гарцу и восхождение на Брокен. Начало работы над романом «Годы учения Вильгельма Мейстера». Лирические стихи.
• 1775 — Руководство военной коллегией и дорожным строительством. Тайный советник Гёте пишет пьесу «Ифигения в Тавриде» и сам исполняет в ней роль Ореста.
• 1782 — Гёте пожаловано дворянство. Переезд в городской дом. Баллада «Лесной царь».
• 1784 — Гёте открывает межчелюстную кость у человека.
• 1785 — Занятия ботаникой. Завершение первого варианта романа «Годы учения Вильгельма Мейстера» под названием «Театральное призвание Вильгельма Мейстера».
• 1786 — Тайный отъезд в Италию.
• 1787 — Завершение трагедии «Эгмонт». Путешествие по Италии. Увлечение живописью. Гётевская теория пра-растения и метаморфоза растительного мира.
• 1788 — Возвращение в Веймар. Отказ от должностей. Встреча с Христианой Вульпиус. «Римские элегии». Знакомство с Шиллером.
• 1789 — Рождение сына Августа. Завершение «Торквато Тассо».
• 1790 — Выход из печати «Фауста» (в виде фрагмента). Гёте издает «Метаморфоз растений». Поездка в Венецию. «Венецианские эпиграммы». Углубленные занятия естествознанием, оптикой, ботаникой и анатомией. Гёте — министр культуры.
• 1791 — Гёте — директор придворного театра. Работа над «Учением о цвете». Сатирическая пьеса «Великий Кофта». Статья об оптике.
• 1792 — Поход во Францию. Поездка в военный лагерь к Карлу Августу. Сражение при Вальми. Гёте дает оценку рождению новой эпохи.
• 1793 — Сатирическая пьеса «Гражданин-генерал». Поездка в Майнц.
• 1794 — Новая встреча с Шиллером и начало дружбы. Появление сатирической поэмы «Рейнеке-Лис».
• 1796 — «Ксении» — эпиграммы Гёте и Шиллера, Завершение романа «Годы учения Вильгельма Мейстера». Эпос «Герман и Доротея».
• 1798 — Начинает выходить журнал Гёте «Пропилеи».
• 1800 — Создание «Елены».
• 1803 — Гёте становится во главе библиотеки и факультета естествознания в Иенском университете. Встречи с госпожой Сталь.
• 1805 — Болезнь Гёте и смерть Шиллера.
• 1806 — Окончание трагедии «Фауст. Часть 1». Французская оккупация Веймара. Христиана выступает в роли спасительницы Гёте. Венчание.
• 1807 — Начало работы над романом «Годы странствий Вильгельма Мейстера». «Учение о цвете».
• 1808 — Встреча с Наполеоном.
• 1809 — Роман «Избирательное сродство». Его оценка в критике. Начало работы над автобиографией «Поэзия и действительность».
• 1812 — Завершение первой и второй частей «Поэзии и действительности». Встреча с Бетховеном.
• 1813 — Статья «Шекспир и несть ему конца».
• 1814 — Завершение третьей части «Поэзии и действительности». Встреча с Марианной Виллемер. «Западно-восточный диван».
• 1815 — Герцогство Веймарское становится Великим герцогством, и Гёте получает чин министра.
• 1816 — Смерть Христианы. Героиня «Вертера» Шарлотта Кестнер приезжает в Веймар.
• 1817 — Гёте подает в отставку с поста директора театра. Женитьба сына. Завершение «Итальянского путешествия».
• 1819 — Завершение «Западно-восточного дивана».
• 1824 — Выходит первая часть романа «Годы странствий Вильгельма Мейстера».
• 1823 — Поездка в Мариенбад. Любовь к Ульрике Левецов Встреча с Марией Шимановской.
• 1824 — Приезд Гейне к Гёте.
• 1825 — «Опыт учения о погоде». Возвращение к работе над «Фаустом».
• 1827 — Завершение работы над второй частью романа «Годы странствий Вильгельма Мейстера». Смерть Шарлотты фон Штейн.
• 1828 — Смерть герцога Карла Августа. Стихи «Дорнбург», «На восход полной луны» и др.
• 1830 — Смерть сына Августа в Италии. «Фауст. Часть II» завершен.
• 1832, 22 марта — Перед полуднем Гёте умирает.
Абраксасы — таинственные слова персидского происхождения, которым приписывалась чудодейственная магическая сила.
Адельгейд — роковая героиня, обольстительница и предательница в пьесе Гёте «Гёц фон Берлихинген».
«Азиатское общество». — В 1811 году С. С. Уваров, тогдашний товарищ министра народного просвещения в России, разослал ряду лиц, в том числе и Гёте, проект «Азиатской академии», которую предполагалось открыть в Петербурге. Гёте живо откликнулся на этот проект. Позднее, в 1826 году, Гёте был избран в почетные члены Российской академии наук.
«Алексис и Дора» (1796) — одна из самых совершенных идиллий классического периода Гёте.
«Альманах муз» — литературный ежегодник, организованный Шиллером и выходивший с 1796 по 1800 год.
Антиной — прекрасный римский юноша, которому посвящено множество статуй.
«Античный миф об Елене…» — В древнегреческих мифах и у Гомера рассказывается о царице Спарты Елене, виновнице Троянской войны. Эпизод, в котором главная роль принадлежит Елене, занимает одно из центральных мест во второй части «Фауста».
Антонио — персонаж из драмы Гёте «Тассо», который как бы противоположен основному герою пьесы.
Апольда — деревня под Иеймаром.
Ариосто, Лодовико (1474–1533) — итальянский поэт эпохи Возрождения, автор поэмы «Неистовый Роланд» (1532).
Аркадия — область в Греции, которую поэты-классицисты XVIII века сделали местом действия своих поэтических вымыслов, страной, где обитают счастливые и невинные пастухи и пастушки, где резвятся сказочные наяды и фавны.
«Аркадия», в члены которой был принят Гёте, — итальянская литературная академия, была основана в Риме в 1690 году и просуществовала до 1925 года.
Арндт, Эрнст Мориц (1769–1860) — писатель, активный участник борьбы против Наполеона.
Арним, Аахим (1781–1831) — немецкий писатель-романтик.
Байрон, Джордж Ноэль Гордон (1788–1824) — великий английский поэт, защитник прав английских рабочих. Покинув Англию, Байрон жил в Италии, участвуя в борьбе итальянских революционеров — карбонариев. В 1824 году Байрон снарядил корабль для греческих повстанцев, боровшихся против турецкого ига. Прибыв на своем корабле в Миссолунги, Байрон принял самое деятельное участие в подготовке восстания, но заболел злокачественной лихорадкой и умер.
Бах Иоганн-Себастьян (1685–1750) — великий немецкий композитор.
«Бегство в Египет» — название первой главы романа «Годы странствий Вильгельма Мейстера». Автор сближает здесь странствия своих героев со странствием, описанным в евангельском сказании, где рассказывается, как, спасая новорожденного Иисуса, родители бежали с ним в Египет.
«Без фурий нет и Ореста». — Согласно древнегреческому мифу Ореста, матереубийцу, преследуют фурии, олицетворяющие угрызения совести. В драме Гёте «Ифигения в Тавриде» фурии отсутствуют.
Бериш, Эрнст Вольфганг (1738–1809) — друг Гёте.
Берлиоз, Гектор (1803–1869) — известный французский композитор, написал музыку к сценам из «Фауста».
Бертье, Луи Александр (1753–1815) — французский маршал, участник американской революции XVIII века. Впоследствии начальник штаба наполеоновской армии.
«Беседы немецких эмигрантов». — новеллы Гёте. (1794).
Беттина (Брентано Беттина) (1785–1859) — немецкая писательница, автор книги «Переписка Гёте с ребенком». Эта «переписка» является в большой мере фальсификацией.
Библия Мериана — библия в переводе Лютера с гравюрами на меди художника-гравера Мериана Матвея Старшего (1593–1650), жителя Франкфурта.
Блюхер, Гебхард Леберехт (1742–1819) — прусский фельдмаршал, ожесточенный враг Наполеона, успешно действовавший против него в сражении при Ватерлоо.
Бодесен, Вольф Генрих Фридрих Карл (1789–1878) — образованный путешественник, переводчик мировой драматургии, принимал деятельное участие в переводе Шекспира на немецкий.
Боккаччо, Джованни (1313–1375) великий итальянский писатель.
Бочка Данаид — В древнегреческих мифах рассказывается, что боги, разгневавшись на Данаид, дочерей египетского царя Даная, за совершенное ими преступление, осудили их вечно наполнять водой бездонную бочку.
«Брат и сестра» (1776) — пьеса Гёте.
«Брат писатель…» — Вульпиус, Кристиан Август (1762–1827), автор многих, ныне забытых пьес, романов и рассказов. Широкой известностью пользовался его разбойничий роман «Ринальдо Ринальдини, атаман разбойников» (1797).
Братство свободных каменщиков, или масонов. — Масонство — религиозно-этическое течение, возникшее в начале XVIII века в Англии, а затем распространившееся и в других странах, в частности в Германии. Молодой Гёте был членом одной из масонских лож.
Бреннер — перевал в Восточных Альпах.
Брокен — главная вершина горной цепи Гарц, где, по народному поверью, собирается на шабаш нечистая сила. Сцена «Вальпургиевой ночи» в «Фаусте» происходит на Брокене.
«…Брут и Кассий питали к Цезарю…» — Брут и Кассий возглавили республиканский заговор против Юлия Цезаря и участвовали в его убийстве.
Буассере, Сульпиций (1783–1854) — историк искусств и коллекционер картин, младший друг и почитатель Гёте.
Бури, Фридрих (1763–1823) — живописец, подружился в Италии с Гёте, написал несколько его портретов.
«Буря и натиск» — движение в немецкой литературе во второй половине XVIII века. К «Буре и натиску» примыкали молодые писатели преимущественно третьего сословия, так называемые «бурные гении», которые подвергали ожесточенной критике феодальное общество и ниспровергали эстетику классицизма.
Бэкон, Фрэнсис (1561–1626) — знаменитый английский философ-материалист. В главном своем сочинении «Новый Органон» (1620) Бэкон разрабатывал новый для его времени, антисхоластический метод научного познания. Бэкон занимался классификацией наук.
Бюргер, Готфрид Август (1747–1794) — известный немецкий поэт, примыкавший к движению «Буря и натиск», автор известной баллады «Ленора» (1773), антифеодального стихотворения «Крестьяне своим князьям» и др.
Вагнер — персонаж из «Фауста», ставший синонимом ограниченного, бездарного схоласта ученого.
«Валленштейн» — драматургическая трилогия Шиллера, написанная в 1796–1799 годах.
«Валтасар» (1764) — отрывок из незаконченной трагедии Гёте, для которой он использовал библейский рассказ о вавилонском царе.
Вальми — село во Франции. 20 сентября 1792 года французская революционная армия под командованием Дюмурье наголову разбила здесь прусские войска под началом герцога Брауншвейгского и остановила контрреволюционную интервенцию во Францию.
Вартбург — горный замок в Тюрингии, в котором жил некоторое время Лютер и где он переводил библию. В Вартбург Лютер был доставлен против собственной воли. Покровитель Лютера, курфюрст Фридрих III Саксонский, опасаясь, что Лютер будет схвачен по приказанию папы или императора, приказал своим людям схватить Лютера на дороге и доставить в свой замок. Гёте некоторое время жил в Вартбурге, уйдя сюда от герцогских развлечений.
Васко да Гама (1469–1524) — португальский мореплаватель, открывший морской путь в Индию.
Веды — древнейшие памятники индийской литературы.
«Векфильдский священник» — известный роман, написанный в 1764 году английским писателем Оливером Голдсмитом (1728–1777). В романе этом в идиллических тонах изображена жизнь на лоне природы.
Великая революция — французская буржуазно-демократическая революция 1789–1794 годов.
Веллингтон, Артур Уэсли (1769–1852) — английский полководец и государственный деятель. Сражался против Наполеона в битве при Ватерлоо. Впоследствии премьер-министр и министр иностранных дел Великобритании.
Вернер — персонаж из романа «Годы странствий Вильгельма Мейстера».
Вернер, Цахария (1768–1823) — немецкий писатель-романтик, автор популярных в свое время драм. Впоследствии, как и многие другие реакционные романтики, перешел в католичество.
«…Взять Пикколомини, отца и сына…» — Гёте в шутливой форме предлагает взять у Шиллера его пьесу «Пикколомини», вторую часть трилогии «Валленштейн», в которой действуют отец и сын Пикколомини.
Виланд, Кристоф Мартин (1733–1813) — немецкий писатель-просветитель, последователь французского классицизма, был воспитателем Карла Августа, герцога Веймарского. Особенной популярностью пользовался роман в стихах Виланда «Музарион», в котором проповедовалось изящное наслаждение жизнью.
«Вильгельм Мейстер» — сокращенное название двух романов Гёте: «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1796) и «Годы странствий Вильгельма Мейстера» (1829).
Виндишгрец, Альфред, князь (1787–1862) — австрийский фельдмаршал, участник войн против Наполеона, крайний реакционер. В 1848 году потопил в крови революционные восстания в Праге и в Вене.
Винкельман, Иоганн Иоахим (1717–1768) — искусствовед и археолог, взгляды которого на искусство оказали огромное влияние на развитие немецкой эстетической мысли в эпоху Просвещения. Винкельман, который после долголетнего пребывания в Италии приехал на короткое время в Германию, был убит разбойником на обратном пути.
Витрувий (вторая половина 1 века до н. э.) — римский архитектор и инженер, автор «Десяти книг об архитектуре».
«Возникновение союза князей» — возникновение Фюрстенбунда(1785) под эгидой Фридриха II Деятельность союза князей была направлена против Австрии. Герцог Карл Август Веймарский стремился расширить союз и вовлечь в него всех германских государей.
Вольтер, Франсуа Мари Аруэ (1694–1778) — великий французский писатель-просветитель. Произведения Вольтера пользовались огромной популярностью во всем мире. Спасаясь от преследований французской церкви, Вольтер поселился на границе Швейцарии, в поместье Ферне.
Вольф, Фридрих Август (1759–1824) — крупный немецкий филолог, особенно известный своим исследованием Гомера.
Вольцоген, Каролина (1763–1847) — невестка Шиллера, написавшая его биографию.
«Вопросы к природе» — статья Гёте (1823).
«…Вы, как Ахилл в Илиаде, сделали выбор между Фтией и бессмертием…» — В «Одиссее» Гомера рассказывается, что Одиссей, спустившись в ад, встретил там Ахилла. Герой Троянской войны Ахилл говорит, что предпочитает бессмертию свою родину — Фтию (область в Греции).
«…Выступление того, другого…» — Дарвина Эразма.
Гагерн, Ганс Кристоф Эрнст (1766–1852) — реакционный политический писатель и деятель.
Гамильтон, Эмма (1761–1815) — международная светская авантюристка, в то время жена лорда Гамильтона, английского посланника в Неаполе.
Гансвурст — персонаж народного немецкого театра — шут, плут или слуга.
Гарденберг, Карл Август (1750–1822) — прусский государственный деятель, в 1810–1822 годах — канцлер. Представлял Пруссию при заключении мирного договора в 1814 и в 1815 годах. Проводил реакционную политику.
Гафиз, Шамсудин Мохаммед (1300–1389) — великий персидский поэт-лирик.
Гейнзе, Иоганн Якоб Вильгельм (1746–1803) — немецкий писатель эпохи «Бури и натиска». В романе Гейнзе «Ардингелло или счастливые острова» (1787) изложены социальные идеалы Гейнзе.
Гельдерлин, Фридрих (1770–1843) — немецкий поэт и прозаик, представитель прогрессивного романтизма, автор романа «Гиперион», посвященного освободительной борьбе греков против турецких поработителей.
Генерал-суперинтендент — титул главы лютеранской церкви в провинции или отдельном княжестве (земле). С 1776 года вплоть до своей смерти генерал-суперинтендентом Веймарской епархии был Гердер.
Генрих III (1551–1589) — король Франции, велел умертвить герцога Генриха Гиза, имевшего звание наместника королевства, видя в нем опасного претендента на престол.
Гердер, Иоганн Готфрид (1744–1808) — крупнейший немецкий критик и теоретик, возглавлял движение «Бури и натиска». Особое значение Гердер придавал поэзии первобытных народов, противопоставляя ее книжному просвещению своего времени. В искусстве каждого народа Гердер видел выражение своеобразной исторической и национальной культуры. Главные произведения Гердера: «Фрагменты о новейшей немецкой литературе» (1767), «Критические леса» (1769) и «О происхождении языка» (1772). С 1785 года начал выходить монументальный труд Гердера «К философии истории человечества» (1784–1791).
«Герман и Доротея» (1797) — эпическая поэма Гёте.
Гернгутовцы — члены религиозной общины, основанной в 1736 году. Гернгутовцы занимались миссионерской и воспитательной деятельностью, используя ее для пропаганды своих религиозных и мистических идей.
Герцог Вюртембергский, Карл Евгений (1728–1793) — один из самых жестоких германских деспотов своего времени. В его военной школе (Карлсшуле) учился юный Фридрих Шиллер.
Гешен, Георг Иоахим (1752–1828) — книготорговец, издатель, выпустивший первое собрание сочинений Гёте.
«Гитаговинда» — лирическая поэма индийского поэта Джаядева (XII век н. э.). Сюжет ее — любовь бога Кришны к пастушке Радхе.
Глейм, Иоганн Вильгельм Людвиг (1719–1803) — немецкий поэт, писал стихи в подражание народным песням.
Глюк, Кристоф Виллибальд (1714–1787) — великий немецкий композитор.
Гогенцоллерны — владетельный феодальный род в Германии, из которого произошли династии германских императоров и румынских королей.
Гораций, Флакк Квинтилиан (65—8 годы до н. э.) — знаменитый римский поэт.
«Гражданин-генерал» — комедия Гёте (1793).
«Граф Эссекс» — трагедия французского драматурга Тома Корнеля (1625–1709).
«…Графы из России…» — братья Строгановы, Александр и Алексей. Старший, Александр, — государственный деятель, русский посол в Мадриде, Стокгольме, Константинополе, много путешествовал как частное лицо.
Гримм, Якоб (1785–1863) — известный немецкий филолог.
Гумбольдт, Александр (1769–1859) — знаменитый естествоиспытатель и путешественник.
Гумбольдт, Вильгельм (1767–1835) — известный лингвист и эстетик.
Гуммель, Иоганн Непомук (1778–1837) — пианист и композитор.
Гуэ — служивший при веймарском суде молодой дворянин.
Гюго, Виктор (1802–1885) — французский писатель.
Давид — царь, которому библия приписывает сочинения псалмов.
Давид Анжерский, Пьер Жан (1789–1856) — французский скульптор-монументалист.
Дальберг, Вольфганг Хериберт (1750–1806) — интендант Мангеймского театра. В 1882 году поставил «Разбойников» Шиллера.
Данте, Алигьери (1265–1321) — величайший итальянский поэт, автор поэмы «Божественная комедия» (около 1300 года). Описывая в ней свое воображаемое странствие по кругам ада, чистилища и рая, поэт заканчивает его описанием мистической розы, которую образуют сонмы небожителей, расположившиеся вокруг светоносного круга божества.
Дарвин Младший (Дарвин, Чарлз, 1809–1882) — основоположник научной биологии и материалистического учения об историческом происхождении видов животных я растений путем естественного отбора.
Дарвин, Эразм (1731–1802) — дед Чарлза Дарвина, английский натуралист, врач и поэт, предвестник идеи эволюции органического мира, автор сочинения «Зоономия, или законы органической жизни» (1794–1796).
Дарю, Пьер Антуан (1767–1829) — французский политический деятель и писатель. Сопровождал Наполеона в качестве главного интенданта армии в походе в Россию.
«Двести воспитанников…» — ученики военной академии, так называемой «Карлсшуле», герцога Карла Евгения Вюртембергского.
«Девственная земля» — термин, заимствованный Гёте из алхимии.
Денон, Доминик Виван (1747–1825) — французский гравер и писатель. Сопровождал экспедиции Бонапарта. Автор «Путешествия в Нижний и Верхний Египет» (1802). Денон, главный директор музеев при Наполеоне, по поручению Александра 1 приобретал в Париже для Эрмитажа картины и художественные предметы.
Десмология — часть анатомии, посвященная изучению и описанию суставов и связок.
Диван (персидск.) — сборник стихотворений восточных поэтов. Гёте назвал сборник своих стихов, написанных в основном в 1814–1815 годах, «Западно-восточный диван».
Дидона — мифическая основательница Карфагена, героиня поэмы древнеримского поэта Вергилия «Энеида», покончила с собой, когда ее оставил возлюбленный.
Дидро, Дени (1713–1784) — значительнейший французский писатель-просветитель, идеолог буржуазной революции XVIII века.
Дионис — в древнегреческой мифологии одно из имен Вакха, бога вина.
«Дон Жуан» — сатирическая поэма Байрона, оставшаяся незаконченной.
«Дон Карлос» — трагедия Шиллера, посвященная Нидерландской революции XVI века.
Дорибург — герцогский замок на реке Заале, где Гёте провел четыре месяца в 1828 году.
Еврипид (480–405 годы до н. э.) — великий древнегреческий трагик.
Елена — подразумевается эпизод «Елена» из второй часта «Фауста».
«Ergo bibamus» (лат.) — «Давайте пить», шуточная песня.
Жак Меланхолик — персонаж из комедии Шекспира «Как вам это понравится».
Жан Поль (псевд.) — Иоганн Пауль Фридрих Рихтер (1763–1825) — немецкий писатель, автор сатирических романов, для которых характерно сочетание сентиментализма, юмора и фантастики.
«Жизнеописание Гёца фон Берлихингена» — автобиографические мемуары рыцаря Готфрида фон Берлихингена, который жил в 1480–1552 годах, изданные в 1731 году. Гете познакомился с этими мемуарами, очевидно, в 1771 году.
«Жиль Блаз» (1735) — знаменитый роман, полный бытовых и жанровых сцен, французского писателя Лесажа (1668–1747).
Жозефина (1763–1814) — первая жена Наполеона, с которой он развелся.
Жоффруа Сент-Илер, Этьен (1772–1844) — французский зоолог, эволюционист, вел борьбу против учения Кювье о постоянстве видов.
Зевс — в греческой мифологии верховное божество, отец богов.
Земля Гесем — область в Египте, о которой упоминается в библии.
Знак Макрокосма — термин, заимствованный Гете из сочинений алхимиков.
Зулейка — так называл Гете в стихах свою возлюбленную, Марианну Виллемер.
«Из архива Макарии» — так Гете озаглавил заметки, которые он включил дополнительно в «Годы странствий Вильгельма Мейстера».
«Избирательное сродство» (1809) — заглавие романа Гете.
Избирательное сродство — определение, взятое из химии, согласно которому известные элементы соединяются только друг с другом и не соединяются ни с какими другими.
«Из моей жизни» — подзаголовок к автобиографии Гете «Поэзия и действительность».
Ильменау — местность (теперь город и курорт) в Саксен-Веймаре на реке Ильме, у северного подножия Тюрингенского леса.
Император Иосиф — Иосиф II Австрийский (1741–1790), римско-германский император.
«…Император Франции еще не проехал…» — подразумевается Наполеон.
Имперский город — здесь Франкфурт-на-Майне, входивший во времена Гете в число так называемых Вольных имперских городов, которыми управлял сенат, состоявший из верхушки местного бюргерства. Имперские города не входили в состав отдельных германских княжеств и подчинялись непосредственно императорской власти.
Интермедия к «Вальпургиевой ночи» — «Сон в Вальпургиеву ночь, или Золотая свадьба Оберона и Титании» — сцена из первой части «Фауста».
«Искусство и древность» — журнал, основанный Гете в 1815 году, посвященный вопросам древненемецкого искусства.
«История с ожерельем» — история о краже бриллиантов, в которую были замешаны авантюрист Калиостро и французская королева Мария-Антуанетта, произошла накануне революции 1789 года. По мнению Гете, эта афера свидетельствовала о полном разложении французской аристократии и монархии.
«Ифигения» — «Ифигения в Тавриде» (1787) — драма Гете. В первой редакции пьеса написана прозой, во второй — белым стихом. В основу пьесы положен древнегреческий миф. В пьесе действуют: Орест, убивший свою мать и отправившийся по приказанию оракула в поиски сестры своей; Ифигения, сестра Ореста, жрица храма Артемиды — богини охоты; Фоант — царь Тавриды; друг Ореста — Пилад, «Ифигения» Расина — «Ифигения в Авлиде» (1675).
Иффланд, Август Вильгельм (1759–1814) — известный немецкий актер, режиссер и драматург, автор слезливых мелодрам, Июльская революция — революция во Франции 1830 года.
Казанова, Джованни Джакомо (1725–1798) — итальянский авантюрист, автор известных «Мемуаров».
«Каин» (1821) — пьеса Байрона.
Кайзер, Филипп Кристоф (1755–1822) — швейцарский композитор, друг Гете, написал музыку к «Эгмонту» и к некоторым другим произведениям Гете.
Калиостро, Александр (1743–1795) — известный авантюрист, присвоивший себе титул Великого Кофты. Имел много приверженцев, особенно при различных королевских дворах. Был арестован в Риме и присужден к пожизненному заключению. Гёте неоднократно разоблачал Калиостро, особенно в пьесе «Великий Кофта».
Кальб, Шарлотта (1761–1843) — друг Шиллера, Гёте, Гельдерлина и других, участница романтического движения, автор романа «Корнелия» и воспоминаний, изданных под заглавием «Шарлотта».
Каналетто, Антонио (1697–1768) — известный венецианский живописец и гравер.
Кант, Иммануил (1724–1804) — немецкий философ, основоположник немецкого классического идеализма.
Капитолий — развалины крепости с храмом Юпитера в Риме, где в древности венчали лавровым венком победителей в поэтических, музыкальных и театральных состязаниях.
Каподистрия, Иоанн (1776–1831) — греческий и русский государственный деятель, с 1800 года секретарь законодательного совета Республики Ионических островов, сторонник поддержки греческого освободительного восстания (1821) против турецкого ига. В апреле 1827 года был избран президентом Греческой республики.
Карл Август (1757–1828) — герцог Веймарский и Эйзенахский.
«Карл Август стоит перед пушками» — Карл Август поступил на прусскую службу в чине генерал-майора.
Карл Великий (742–814) — франкский король, император (с 800 г.).
Карлейль, Томас (1795–1881) — шотландско-английский писатель, критик, пропагандист немецкой литературы, автор книги о Шиллере. В 1824 году Карлейль перевел на английский язык «Годы учения Вильгельма Мейстера»; он состоял в переписке с Гёте.
Кауфман, Анжелика (1741–1807) — немецкая художница.
Квинтилиан, Марк Фабий (35—118 н. э.) — римский педагог и литературный критик.
Кеплер, Иоганн (1571–1630) — великий немецкий астроном, заложивший основы современной астрономии.
Кернер, Теодор (1791–1813) — немецкий поэт, участник освободительных войн против Наполеона; пал в бою.
Кернер, Христиан Годфрид (1756–1831) — участник освободительных войн, литературный критик, друг и покровитель Шиллера; отец поэта Теодора Кернера.
Кетшау — деревня, в которую по делам службы уехал Гёте.
Кирмс (1750–1826) — чиновник театрального управления в Веймаре; помогал Гёте в его театральной деятельности.
«Клавиго» (1774) — пьеса Гёте, сюжетом для которой послужили приключения знаменитого французского комедиографа Бомарше (1732–1799).
«Классическая Вальпургиева ночь» — сцена из второй части «Фауста».
«Клаудина де Вилла Белла» — драматургическое произведение Гёте, в котором прозаический диалог чередуется со стихотворными вставками-песнями.
Клейст, Генрих (1777–1811) — писатель-романтик, поэт, новеллист и драматург.
Клерхен — героиня драмы Гёте «Эгмонт», пытается поднять на восстание народ, чтобы спасти своего возлюбленного.
Клеттенберг, Сузанна (1723–1774) — приятельница матери Гёте, послужила моделью для создания образа Прекрасной души в романе «Годы учения Вильгельма Мейстера.»
Клингер, Фридрих Максимилиан (1752–1831) — романист и драматург. Пьеса Клингера «Буря и натиск» дала название всему литературному движению.
Клопшток, Фридрих Готлиб (1724–1803) — немецкий поэт, автор прославленной в свое время поэмы «Мессиада». Творчеством Клопштока начинается расцвет немецкой литературы XVIII века.
Кнебель, Карл Людвиг (1744–1834) — юрист и офицер, веймарский придворный, друг Гёте, автор интереснейших писем.
Книги сивилл — свитки прорицаний, хранившиеся в Капитолии древнего Рима и считавшиеся священными.
«Князь-примас» — титул Карла Теодора Дальберга (1744–1817), графа, епископа Майнского, который в 1817 году стоял во главе Рейнского союза, то есть союза германских государств под протекторатом Наполеона.
«…Когда я называю свое имя…» — Goethe созвучно слову Gott (нем.) — бог. Мысль Гёте можно расшифровать так: когда я называю свое имя, я раскрываю и мою божественную сущность.
Колоредо, Венцель Иосиф (1738–1822) — участник войн против Наполеона, впоследствии австрийский фельдмаршал.
Комиссия Мельпомены — то есть театральная комиссия (Мельпомена — в древнегреческой мифологии богиня трагедии).
Корсо — главная улица в Риме.
Котта, Иоганн Фридрих (1764–1832) — крупнейший немецкий книготорговец и владелец книгоиздательской фирмы.
Коцебу, Август Фридрих (1761–1819) — немецкий драматург и романист, автор слезливых мещанских мелодрам. Агент царского правительства и шпион, Коцебу был убит революционным студентом Зандом. После казни Занда началось усиление реакции и жестокие преследования прогрессивной молодежи в Германии.
Кранах, Лука (1472–1553) — великий немецкий живописец.
«Кроткие Ксении» — «Ксении» — заглавие книги эпиграмм римского писателя Марциала. Заглавие это Гёте и Шиллер заимствовали для своих двустиший, появившихся в «Альманахе муз» за 1797 год и содержавших в себе резкую критику и отдельных лиц и литературной жизни Германии в целом.
Ксенофонт (434–355 годы до н. э.) — древнегреческий историк и политический деятель.
Кювье, Жорж (1769–1832) — известный французский естествоиспытатель, член Парижской академии наук.
Кюгельген, Франц Гергард (1772–1820) — немецкий портретист и исторический живописец, «Лагерь Валленштейна» — первая часть трилогии Шиллера «Валленштейн» из эпохи Тридцатилетней войны, была поставлена Гёте в Веймарском театре в 1798 году.
Лани, Жан (1769–1809) — французский маршал, приближенный Наполеона.
Ларго (итал.) — музыкальный термин: очень медленно.
Ларош, Софи (1731–1807) — немецкая писательница, автор семейных романов в письмах.
Лафатер, Иоганн Каспар (1741–1801) — швейцарский писатель и богослов, автор известного труда «Физиономика» (1772–1778).
Леве (франц.) — торжественная церемония утреннего вставания и одевания французских королей в присутствии двора и почетных посетителей.
Легенда о совместной прогулке — возникла на основании письма Бетховена, опубликованного Беттиной Брентано. Подлинность этого письма теперь оспаривается. «…Возвращаясь с прогулки, мы повстречали всю императорскую фамилию… Гете оставил мою руку и стал на краю дороги… Я надвинул шляпу на самые брови… и двинулся в самую гущу сановной толпы. Принцы и придворные стали шпалерами, герцог… снял передо мной шляпу, императрица поклонилась мне первая… Гёте стоял на краю дороги, низко склонившись, со шляпой в руке…»
Лемуры — персонажи из «Фауста, часть II». В римской мифологии — духи умерших.
Ленц, Якоб Михаэль (1751–1792) — драматург, друг Гёте, впоследствии ухаживал за его возлюбленной Фридерикой Брион.
Лерзе — Друг юности Гёте, именем которого назван один из героев «Гёца фон Берлихингена».
Лессинг, Готхольд Эфраим (1729–1781) — крупнейший немецкий писатель эпохи Просвещения. Пьесы и критические труды Лессинга оказали огромное влияние на все последующее развитие передовой немецкой литературы, Ликург (вторая половина IX века до н. э.) — спартанский законодатель.
Лидо — пригород Венеции.
«Лила» — музыкальная комедия Гёте.
Линней, Карл (1707–1778) — шведский естествоиспытатель.
Линс, Иоганн Генрих (1758–1817) — живописец и гравер. Гёте назначил его профессором Веймарской академии художеств.
Линцей — персонаж из второй части «Фауста». В древнегреческой мифологии кормчий на судне аргонавтов, обладавший таким острым зрением, что видел металлы в недрах Земли.
Лихновский, Эдуард Мария (1789–1845) — австрийский писатель, автор неоконченной «Истории Габсбургского дома».
Лихтенштейн, Мартин Генрих Карл (1780–1857) — немецкий путешественник и зоолог, профессор Берлинского университета.
Лодер, Христиан Иванович (1753–1832) — немецкий анатом, профессор в Иене и Галле, позднее лейб-медик Александра I. По проекту Лодера в Москве был выстроен анатомический театр, где он ежедневно читал лекции. Лодеру принадлежит много трудов по анатомии.
Людовик Святой — Людовик IX (1215–1270) — французский король, во время крестового похода попал в плен, в котором пробыл четыре года и претерпел множество бедствий.
«Магомет». — У Гёте (1776) был замысел написать драму «Магомет». Вольтер написал трагедию «Магомет пророк или фанатизм» (1741).
Мандзони, Алессандро (1785–1873) — итальянский писатель, глава итальянского романтизма, автор оды «Торжество свободы» (1801) в честь французской революции.
Манилий (66 год до н. э.) — римский трибун.
Манто — персонаж из второй части «Фауста», В древнегреческой мифологии одна из сивилл-прорицательниц.
«Манфред» (1817) — трагедия Байрона.
Маре, Гюг Бериар (1763–1839) — один из ближайших сотрудников Наполеона, его личный секретарь, потом министр иностранных дел.
Мейер, Иоганн Генрих (1759–1832) — немецкий художник и искусствовед. С 1807 года директор Академии художеств в Веймаре, ближайший друг и сотрудник Гёте по изданию журнала «Пропилеи». Автор труда «История пластических искусств у греков».
Мелузина — героиня сказки и преданий — прекрасная русалка. Новелла Гёте «Новая Мелузина» вошла в его роман «Годы странствий Вильгельма Мейстера».
Мендельсон-Бартольди, Феликс (1809–1847) — немецкий композитор, дирижер и пианист.
Мендельсон, Моисей (1729–1786) — немецкий писатель, философ-просветитель, друг и сотрудник Лессинга.
Мерк, Иоганн Генрих (1741–1791) — влиятельный немецкий литературный критик периода «Бури и натиска».
«Меркурий» («Немецкий Меркурий») — журнал, с 1773 года издававшийся Виландом.
Мерлин — волшебник, прорицатель, о котором рассказывается в средневековых сказаниях о рыцарях круглого стола.
Мосье Готт — здесь игра слов: «Наполеон выговаривает не Гёте, a Gott (нем.) — бог.
«Метаморфоз растений» (1790) — научная работа Гёте.
Меттерних, Клеменс Лотар (1773–1859) — рейхсканцлер Австрии, противник Наполеона, оплот реакции в эпоху Реставрации.
Микеланджело (1475–1564) — гениальный итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт эпохи Возрождения.
Миланка (Магдалина Риджи) (1765–1826) — сохранился портрет ее, написанный Анжеликой Кауфман.
«Минна фон Барнгельм» (1767) — комедия Лессинга (1724–1781), исполненная протеста против войны. Действие комедии происходит в Берлине непосредственно после конца Семилетней войны.
Миньона — девочка-итальянка, одна из героинь романа Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера».
Мирабо (1749–1791) — деятель французской буржуазной революции XVIII века, прославился как выдающийся оратор.
«Митридат» (1673) — трагедия Расина (1639–1699), посвященная Митридату Евпатору, царю Понтийскому (132—63 годы до н. э.), в которой утверждается, что государственные обязанности заглушают все личные чувства. В ненависти Митридата к римлянам, которых царь готов преследовать вплоть до их столицы, Гёте усмотрел прямую аналогию с ненавистью, которую Наполеон питал к англичанам.
Мориц, Карл Филипп (1756–1793) — писатель и искусствовед.
Моцарт, Вольфганг Амадей (1756–1791) — великий австрийский композитор. Гёте слушал Моцарта в 1763 году во Франкфурте, когда Моцарту было семь лет. Необычайно ценя музыку Моцарта, Гёте считал, что со смертью великого композитора исчезла возможность написать достойную музыку к «Фаусту». Оперы Моцарта Гёте ставил неоднократно в Веймарском театре, особенно «Волшебную флейту».
Мюллер, Фридрих (1779–1849) — друг Тете, веймарский канцлер, участвовал в мирных переговорах с Наполеоном. Оставил воспоминания «Беседы Гёте с канцлером фон М.» (издано в 1858 году).
«Мысль о кресле, которое ждет его…» — Когда Гёте покинул свой пост в Тайном совете, герцог издал рескрипт, согласно которому Гёте имел право принимать участие в любом заседании совета и занимать кресло самого герцога.
«Метр де плезир» (франц.) — церемониймейстер.
«Навзикая» (1789) — отрывки из пьесы Гёте, для которой он использовал рассказ из «Одиссеи» Гомера о прекрасной царевне Навзикае, встретившей Одиссея на берегу острова, куда его выбросили волны после кораблекрушения.
«Назареи» — группа немецких художников, пытавшихся в XIX веке обновить религиозную живопись и повторявших композицию, рисунок и краски итальянских мастеров XV века.
«…Нечего было пускать проституток в «Оры»…» — подразумеваются, очевидно, баллады Гёте «Бог и баядера» и «Коринфская невеста», в которых Гёте отрицает церковный брак и прославляет свободную любовь.
Николаи, Кристоф Фридрих (1733–1811) — берлинский писатель, автор пародии «Радости молодого Вертера, страдания и радости возмужавшего Вертера».
Нибур, Бартольд Георг (1776–1831) — немецкий историк и государственный деятель, автор известного труда «Римская история».
Ниневия — город, о котором упоминается в библии, — синоним огромности, шума и суеты.
«Новое произведение, выходит с посвящением» — трагедия Байрона «Вернер» вышла со следующим посвящением: «Знаменитому Гёте эта трагедия посвящается одним из смиреннейших его почитателей».
«Новая Элоиза» (1761) — роман в письмах Руссо, вызвавший множество подражаний и оказавший влияние на Гёте в пору создания «Вертера».
Обитатели Эттерсберга — стадо кабанов, которых герцог поселила Эттерсбергском лесу, чтобы охотиться на них.
«О граните» — статья о граните была написана Гёте в 1784 году.
Ожеро, Пьер Франсуа Карл (1757–1816) — один из маршалов Наполеона, сделал головокружительную карьеру, начав с профессии скромного учителя фехтования и кончив пэром Франции в эпоху Реставрации.
«…Оказавшись на линии фронта во Франции…» — По желанию герцога Гёте сопровождал в качестве летописца армии первой коалиции европейских держав против революционной Франции.
Олимп — в греческой мифологии — гора, обиталище богов.
«О наивной и сентиментальной поэзии…» — В 1795 году в журнале «Оры» была опубликована статья Шиллера «О наивной и сентиментальной поэзии». Статья возникла как итог длительных размышлений Шиллера над различием между античной и современной ему буржуазной литературой, а также из стремления определить характер собственного своего дарования и направления в искусстве. Статья эта оказала большое влияние на развитие всей эстетической мысли в Германии конца XVIII — начала XIX века.
Опера-Буффа — итальянская комическая опера.
Орест и Пилад — герои древнегреческого мифа, имена которых стали синонимом дружбы.
«Оры» — три богини в древнегреческой мифологии: порядка, справедливости и мира. Здесь название литературного журнала (1794–1797), основанного Шиллером.
«Основной труд Гердера…» — подразумевается «О происхождении языка».
Оссиан — легендарный герой кельтского народного эпоса, живший, по преданию, на юге Ирландии в III веке до н. э. Гёте переводил «Песни Оссиана» — литературные подделки, изданные в 1760–1765 году шотландцем Макферсоном и имевшие большой успех в период увлечения средневековой поэзией.
Оффенбаховская — улица во Франкфурте, на которой жила Лили, невеста Гёте.
Палладио, Андрея (1508–1580) — крупнейший итальянский зодчий позднего Ренессанса.
«Пандора» (1807) — драма Гёте, в основу которой положен древнегреческий миф о Пандоре — первой женщине на земле. Боги одарили ее всеми женскими прелестями и талантами, но дали ей ящик, в котором были заключены все людские бедствия, и послали ее на землю. Она стала женой Эпиметея (младшего брата Прометея), который из любопытства открыл ящик, и тогда бедствия распространились по всей земле. Но на дне ящика осталась лежать Надежда.
«Парадное и торжественное действо» — театральные представления в Германии в XVII–XVIII веках. Сюжеты для этих представлений черпались и из библии и из современных сочинений. Большое место в спектаклях занимал не только фиксированный литературный текст, но и актерская импровизация.
Парацельс, Аврелий Теофраст (1493–1541) — известный швейцарский врач и естествоиспытатель, считался отцом фармацевтической химии, открыл несколько весьма действенных медикаментов.
Парис — у Гомера сын царя Трои, похитивший Елену Спартанскую, появляется в одной из сцен «Фауста».
Пассаван, Якоб (1751–1827) — друг молодого Гёте, реформатский пастор.
«Пес Обри» — мелодрама австрийского писателя Игнаца Франца (1781–1862).
«Песнь песней» — одна из книг библии, в которой царь Соломон воспевает возлюбленную свою Суламифь.
Петрарка, Франческо (1304–1374) — прославленный итальянский поэт-гуманист. Стихи Петрарки, особенно сонеты, в которых он воспел Лауру, оказали огромное влияние на развитие европейской поэзии.
Пирамида Цестия — надгробие, сохранившееся со времен древнего Рима.
«…Писать «Телля»…» — Гёте задумал произведение о легендарном герое швейцарского народа Вильгельме Телле, но потом отдал этот сюжет Шиллеру.
«Пишу труд по оптике…» — первая статья Гёте по оптике вышла в 1791 году, вторая — в 1792 году.
Платон (427–347 годы до н. э.) — великий древнегреческий философ.
Плутарх (около 46—120) — древнегреческий историк и моралист эпохи Римской империи. Особенно известны его описания жизни знаменитых людей.
«Побочная дочь» — трагедия Гёте.
«Подобие божества» — слова из «Фауста».
«Позвоночная теория черепа» — Гёте полагал, что череп животного и человека состоит из видоизмененных позвонков, В сборнике «Вопросы естествознания вообще, преимущественно морфологии» (т. II, вып. 1-й, 1824 г.) была помещена статья Гёте «Строение черепа из шести позвонков».
Поликрат — тиран острова Самоса (правил в 535–522 годы до н. э.). Согласно преданию, опасаясь, что в возмездие за сопутствующие ему удачи боги нашлют на него беду, Поликрат кинул в море свой любимый перстень. Но боги, разгневавшись на него, отринули его жертву.
Понтий Пилат — римский наместник в Иудее, согласно евангельской легенде отдавший на распятие Христа.
«Почему же он все еще не подписал договора о союзе?» — Договор о союзе между Россией и Наполеоном, переговоры о котором велись в Тильзите в 1807 году, был утвержден на конгрессе в Эрфурте 27 сентября 1808 года.
«Поэзия и действительность. Из моей жизни» — автобиография Гёте, которую он довел до 1775 года.
Порто дель Пополо — ворота в Риме.
Права гражданина Французской республики — в 1792 году парижский Конвент даровал Шиллеру права гражданина Французской республики, которые сохранялись и за его детьми.
Пра-растение — в течение некоторого периода Гёте предполагал, что общая идея растения, рисовавшаяся ему в образе пра-растения, может реально существовать среди обычных растений. Находясь в Италии, он усердно искал этого несуществующего предка растительного царства.
«Praeceptor Germaniae» («Наставник Германии») — титул, которым награждали выдающихся ученых в Германии эпохи Возрождения.
«…Предал родной город французам». — Дело происходило во время Семилетней войны, когда Франкфурт был оккупирован французами.
Прекрасная душа — прозвище одного из персонажей в романе «Годы учения Вильгельма Мейстера».
«Пролог на театре» — «Театральное вступление», первый пролог к «Фаусту», где действующие лица — директор театра, поэт и комический актер — спорят о назначении искусства.
«Прометей» (1773) — драма Гете. «Монолог Прометея» (1774) — ода.
Проперций, Секст (около 48–15 годов до н. э.) — римский поэт, автор элегий.
«Пропилеи» (1798–1800) — журнал Гёте.
«Прославленная литературная газета…» — «Иенская всеобщая литературная газета», в которой сотрудничали Гёте, Шиллер, Фихте, братья Гумбольдты и Шлегели.
Пуссен, Никола (1594–1665) — известный французский живописец.
«Путешествие сыновей Мегапарцона» (1792) — фрагмент романа Гёте.
«…Путешествие с Марко Поло». — Гёте, очевидно, читал так называемую «Книгу» (1298) Марко Поло (1254–1324), знаменитого итальянского путешественника, который первым из европейцев описал Китай и многие страны Центральной и Передней Азии.
Радзивилл, Антон Генрих (1775–1833) — князь, музыкант-любитель, написал музыку к «Фаусту».
«Разбойники» (1781) — трагедия Шиллера.
Раух, Христиан Даниель (1777–1857) — скульптор.
Рафаэль (1483–1520) — один из величайших итальянских художников эпохи Возрождения. Его «Мадонна делла Седия» была написана в 1516 году.
«Рейнеке» — «Рейнеке-Лис» — средневековый эпос, в котором под видом зверей изображено все средневековое общество. Поэма Гёте «Рейнеке-Лис», опубликованная в 1794 году, представляет собой обработку этого эпоса.
Рейнский союз — союз германских князей под эгидой Наполеона (1806–1813).
Ример, Фридрих Вильгельм (1774–1845) — немецкий филолог и историк литературы, многолетний секретарь и воспитатель в доме Гёте, участвовал в издании его сочинений.
«Римские элегии» — цикл стихов, в которых Гёте запечатлел образ Христианы Бульпиус.
«…Ромео, когда он бросился с просьбой к монаху Лоренцо…» — Подразумевается герой шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта», который бросился к монаху Лоренцо с просьбой немедленно и тайно обвенчать его с его возлюбленной.
Руссо, Жан Жак (1712–1778) — знаменитый французский философ, политические идеи которого приобрели особенно большое значение в эпоху французской революции 1789–1794 годов. Проповедь Руссо о возвращении к природе и непосредственному чувству, его осуждение современной культуры оказали очень большое влияние и на передовых немецких писателей XVIII. века, в частности на молодого Гёте.
Савари, Анн Жан Мари Рене (1774–1833) — французский генерал и министр полиции при Наполеоне.
«Сакунтала» — эпос индийского поэта Калидасы (IV–V века).
«Сарданапал» (1821) — трагедия Байрона. Посвящение Гёте, которое должно было быть напечатано к «Сарданапалу», пропало по вине наборщика. Позднее Гёте получил текст этого посвящения: «Знаменитому Гёте чужеземец осмеливается преподнести ленную дань литературного вассала своему сюзерену, первому из писателей современности, который создал литературу своей страны и осветил литературу Европы. Недостойное произведение, которое автор дерзает надписать ему, называется «Сарданапал».
Сведенборг, Эммануил (1688–1772) — шведский писатель-мистик, занимался философией, математикой, естествознанием и теологией. Вокруг имени Сведенборга сложилось множество легенд, распространяемых его последователями — сведенборгианцами.
Священная Римская империя — Священная Римская империя германской нации — с 962 года титул средневековой империи, в которую входила Германия и который она сохраняла до 1806 года.
Селенотопография (греч.) — описание топографии Луны.
Сиракузы — древняя столица Сицилии.
«Сказка своей жизни» — подразумевается «Поэзия и действительность» — автобиография Гёте.
Скотт, Вальтер (1771–1832) — английский писатель, прославленный автор исторических романов, написал статью о Гёте (1831).
«…Следующее произведение Байрона» — трагедия «Вернер, или наследство» (1822).
«Смерть Валентина» — смерть брата Гретхен («Фауст», ч. I), убитого Фаустом.
«Совиновники» (1768) — комедия Гёте.
Солон (около 638–559 годов до н. э.) — политический деятель и законодатель в древних Афинах.
Соре, Фредерик Якоб (1795–1865) — швейцарец по происхождению, воспитатель наследного принца Веймарского. Естествоиспытатель, археолог и нумизмат, друг гётевского дома.
«Софокл, написавший в подобном случае своего «Эдипа в Колоне…» — Сыновья Софокла обвинили отца в том, что он впал в слабоумие и забросил свои имущественные дела. Они потребовали, чтобы его объявили безумным и наложили на него опеку. Но Софокл прочел судьям свою трагедию «Эдип в Колоне», в которой он прославил место своего рождения, и судьи убедились, что он не только нормален, но и гениален.
Союзный сейм — здесь постоянное собирание представителей немецких государств во Франкфурте-на-Майне (1815–1848).
Спиноза, Барух (1632–1677) — голландский философ. Философия Спинозы оказала глубочайшее влияние на Гёте.
Сражение у Заальфельде — в 1806 году здесь произошло сражение между французами и пруссаками.
Сталь, Анна Жермена (1766–1817) — французская писательница, противница Наполеона, автор книги «О Германий».
Старшая дама Погвиш — мать невестки Гёте.
«Старый Фриц» — король Фридрих II. Поклонник французского классицизма, терпеть не мог немецкую литературу и произведения Гёте заодно.
«Стелла» — комедия Гёте, написанная в 1776 году.
«…Стихотворение о попах» — стихотворение «Притча».
«Ступай, не трогай мои чертежи!» — вариация на слова, которые якобы произнес великий греческий математик и физик Архимед (287–212 годы до н. э.), когда к нему вторглись неприятельские солдаты, чтобы убить его.
Сульт, Никола Жан (1769–1851) — французский маршал, участник боев под Иеной и Аустерлицем.
«С четырьмя-пятью герцогами Саксонскими» — Саксония, во времена Гёте, распадалась на несколько государств. В их число входило и герцогство Саксен-Веймар-Эйзенахское.
Талейран, Шарль Морис (1754–1838) — министр иностранных дел при Наполеоне, Бурбонах и Людовике-Филиппе.
Тальма, Франсуа Жозеф (1763–1826) — знаменитый французский трагический актер.
Тантал — в древнегреческой мифологии титан, обреченный богами вечно стоять в воде под деревьями с цветущими плодами и мучаться жаждой.
Тассо, Торквато (1544–1595) — итальянский поэт, автор известной поэмы «Освобожденный Иерусалим».
«Тассо» («Торквато Тассо») (1789) — драма Гёте.
Тацит, Публий Корнелий (около 55—120) — древнеримский историк.
«Театральное призвание Вильгельма Мейстера» — так назывался в первой редакции роман «Годы учения Вильгельма Мейстера».
«Те Deum» (лат.) — религиозный гимн «Тебя, господи, славим».
Терминий — в римской мифологии бог, охранитель границ.
Тибул, Альбий (55–19 годы до н. э.) — римский поэт, сочинитель элегий.
Тивериадское озеро в Галилее — упоминается в библейских легендах. Буря на море вызвала у Гёте воспоминания об этом озере.
Тик, Людвиг (1773–1853) — немецкий писатель-романтик.
Тик, Фридрих (1776–1851) — немецкий скульптор.
Тифурт — село под Веймаром, где находились герцогский увеселительный дворец и парк.
Тиха — в греческой мифологии богиня счастья и случайности.
Тициан, Вечеллио (около 1477–1576) — великий итальянский живописец эпохи Возрождения.
Тицианова «Ассунта» — картина Тициана, изображающая вознесение Марии, написана в 1519 году.
«Трилогия страсти» — цикл стихотворений: «К Вертеру» (1824), «Мариенбадская элегия» (1823), «Примирение» (1823).
Сквозная тема трилогии — история страсти престарелого Гёте к семнадцатилетней Ульрике Левецов.
Трипель, Александр (1744–1793) — немецкий скульптор. Бюсты Гёте и Гердера считаются лучшими его работами.
«Упиваясь своей местью, Альба…» — в трагедии «Эгмонт» Гёте вывел Альбу, испанского полководца, прославившегося своей жестокостью. В 1567–1573 годах Альба был кровавым наместником Нидерландов.
Урания — в древнегреческой мифологии муза, мать бога брака — Гименея.
Фалес — один из семи древнегреческих мудрецов, появляется во второй части «Фауста».
Фальк, Иоганн Даниэль (1768–1826) — немецкий писатель, филантроп. В 1813 году организовал «Общество друзей в беде». Оставил воспоминания «Гёте при личном и близком общении» (издано в 1832 году).
Фидий (нач. V века до н. э. — умер около 431 года до н. э.) — великий древнегреческий скульптор.
Фирдоуси, Абуль Касим (около 934—1020 годов) — поэт, классик, таджикской и персидской литератур, автор известной поэмы «Шахнаме».
Фихте, Иоганн Готлиб (1762–1814) — немецкий философ-идеалист.
Фойт, Христиан Готлиб (1743–1819) — тайный советник в Веймаре.
Форкиады — в древнегреческой мифологии чудовища, порожденные богом моря и богиней земли. Во второй части «Фауста» в облике Форкиады появляется Мефистофель.
Фосс, Иоганн Генрих (1751–1826) — немецкий писатель, известен как автор идиллий и переводчик Гомера, Вергилия, Горация. Фосс пропагандировал использование античного размера в современной поэзии.
Франциск Ассизский (1182–1226) — монах, основатель Ордена францисканцев, положивший начало нищенствующему монашеству.
Фридрих II (1712–1786) — король прусский, стремившийся установить свою гегемонию над Германией, раздробленной во времена Гёте на множество государств.
Фрич, Иоганн (1731–1814) — президент палаты в Веймаре, стоял во главе Веймарской масонской ложи, членом которой был и Гёте.
«Фрошмойзелер» — сатира, направленная против императоров и пап (1595) Георга Ролленхагена (1542–1609), известного немецкого писателя-сатирика и педагога.
Хариты — в древнегреческой мифологии богини приятности, веселья, очарования.
Хольтей, Карл (1798–1880) — немецкий поэт, романист и драматург.
«Цезарь» — подразумевается «Смерть Цезаря» (1735), трагедия Вольтера.
Цельтер, Карл Фридрих (1758–1832) — посредственный композитор, директор певческой академии в Берлине.
Циммерманн — друг Лафатера, автор книги «О национальной гордости».
Челлини, Бенвенуто (1500–1574) — замечательный итальянский скульптор, ювелир, оставивший свои известные «Записки». Гёте перевел их на немецкий язык.
Швертгебурт, Карл Август (1785–1877) — немецкий художник и придворный гравер в Веймаре.
Шеллинг, Фридрих Вильгельм (1775–1854) — представитель немецкой идеалистической философии.
Шефтсбери, Антони (1671–1713) — английский философ.
Шимановская, Мария (1789–1831) — известная польская пианистка, проживавшая и концертировавшая в Петербурге. Шимановской посвящено стихотворение Гёте «Примирение».
Шираз — город в Иране, родина Гафиза.
Шлегели — братья: Август Вильгельм (1767–1845), историк искусств, критик, переводчик произведений мировой литературы, в особенности Шекспира; Фридрих (1772–1829) — историк искусств, филолог, впоследствии примкнул к реакции и перешел в католичество, Шлегель, Каролина (1763–1809) — примыкала к романтическому движению. Сторонница французской революции.
Шопенгауэр, Артур (1788–1860) — немецкий философ-идеалист, автор книги «Мир как воля и представление». Реакционная сторона учения Шопенгауэра оказала большое влияние на буржуазную философию эпохи империализма.
Штейн, Генрих Фридрих Карл (1757–1831) — немецкий государственный деятель. В 1807–1808 годах возглавлял правительство Пруссии. Штейн играл ведущую роль в борьбе Германии за освобождение от наполеоновского господства.
Штольберги — графы: Христиан (1748–1781) и Леопольд (1750–1819) — поэты, «бурные гении», друзья Гёте.
Штольберг, Августа (1753–1835) — сестра графов Штольбергов.
Шубарт, Карл Эрнст — филолог. Еще до окончания университета написал исследование «К оценке Гёте».
Эвфорион — в древнегреческой мифологии крылатый сын Ахилла и Елены, убитый молнией, посланной в него Зевсом. В образе Эвфориона, которого он сделал сыном Фауста и Елены, Гёте в какой-то мере воссоздал образ Байрона.
Эглофштейн, Жюли (1792–1869) — художница, которой покровительствовал Гёте. Написала его портрет.
«Эгмонт» — трагедия Гёте из эпохи Нидерландской революции XVI века. Гёте писал ее урывками с 1775 по 1787 год.
Эдгар, сын Глостера — персонаж из трагедии Шекспира «Король Лир».
Эзер, Адам Фридрих (1717–1799) — художник, директор Академии художеств в Лейпциге, сторонник классического искусства, имел большое влияние на юного Гёте.
Эккерман, Иоганн Петер (1792–1854) — немецкий писатель, друг и эпигон Гёте, написавший известную книгу «Разговоры с Гёте».
Экс-король Голландии — брат Наполеона, Людовик Бонапарт, которого Наполеон возвел на голландский престол, но потом, разгневавшись, лишил трона.
Элгин Томас, лорд (1766–1841) — английский граф, о котором с возмущением писал в «Чайльд Гарольде» Байрон. Элгин стяжал позорную славу разграблением художественных ценностей Греции, в частности Парфенона.
Эленшлегер, Адам Готлоб (1779–1850) — датский писатель-романтик, автор поэм, исторических драм и повестей на сюжеты датских народных легенд.
«Эмилия Галотти» (1772) — трагедия Лессинга, в которой драматург обличал преступления германских князей и их фаворитов.
Эпиктет — греческий философ-стоик (род. около 50 г. до н. э.), проповедовал самоотречение и терпеливое перенесение всяких лишений и бедствий.
Эпиметей — см. Пандора.
Эпистолы (греч.) — послания Гёте, в которых он в стихотворной форме излагал свои эстетические и педагогические взгляды.
Эпоха Августа — примерно 27 год до н. э. — 14 год н. э., время правления римского императора Августа.
Эрвин фон Штейнбах (умер в 1318 году) — с 1284 года был строителем Страсбургского собора, во времена Гёте считался главным его зодчим.
Эрик Рыжий — норвежский викинг Лайф Эрикссен, по прозвищу Счастливый. По преданию, он достиг Американского континента за 500 лет до Колумба.
«…Эротическое имя» — Минна Херцлиб. Minne (нем. уст.) — любовь; Herziieb (нем.) — в буквальном переводе — «милая сердцу».
Эрфурт — В Эрфурте в 1808 году состоялось «Свидание трех императоров — Наполеона, императора Австрийского и Александра I.
Юнг-Штиллинг — Иоганн Генрих Штиллинг (1740–1817), по профессии глазной врач, знакомый Гёте, оставил интересную автобиографию.
«Я все равно буду сражаться с неким ангелом…» — часто встречающееся у Гёте упоминание о библейской легенде, согласно которой праотец Иаков боролся с богом, принявшим обличие ангела, и бог, не одолев его, вывихнул ему бедро.
Ягеман, Каролина (1778–1848) — актриса, возлюбленная герцога Карла Августа Веймарского.
Ягеман, Фердинанд (1780–1820) — веймарский художник, писал портреты главным образом веймарской аристократии.
Якоби, Фридрих Генрих (1743–1819) — немецкий философ-идеалист, один из основоположников так называемой «Философии веры и чувства». Дружба Гете с Якоби, несмотря на частые несогласия и размолвки, сохранилась до глубокой старости.
«Ярмарка в Плундерсвейлерне» (1773) — литературная сатира, написанная в форме «масленичного фарса». В ней Гете высмеивает своих литературных врагов.
Елена Закс
• Книга первая. ГЕНИЙ И ДЕМОН
• Глава 1. РОКОКО
• Глава 2. ПРОМЕТЕЙ
• Глава 3. ЭРОС
• Глава 4. ДЕМОН
• Глава 5. СИЛА СОЗИДАНИЯ
• Глава 6. ДОЛГ
• Книга вторая. ДУХ ЗЕМЛИ.
• Глава 1. СВОБОДА
• Глава 2. ОДИНОЧЕСТВО
• Глава 3. ПРОТЕЙ
• Книга третья. ТРАГИЧЕСКАЯ ПОБЕДА
• Глава 1. ВЗЛЕТ
• Глава 2. ОТРЕЧЕНИЕ
• Глава 3. ФЕНИКС
Сокращенный перевод с немецкого и комментарии Елены Закс
(обратно)См. КОММЕНТАРИИ в конце книги.
(обратно)