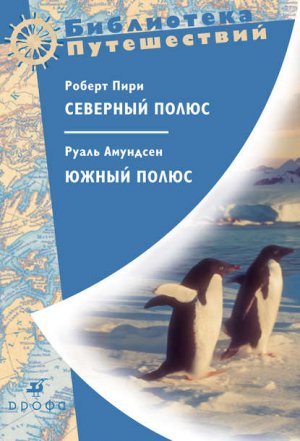
В жизни человека необходима романтика. Именно она придает человеку божественные силы для путешествия по ту сторону обыденности. Это могучая пружина в человеческой душе, толкающая его на великие свершения.
Фритьоф Нансен
Их имена в начале XX века были известны всем, о них сообщали специальные выпуски телеграфных агентств, писали в газетах, за экспедициями, возглавляемыми этими людьми, следили во всех странах мира, на всех континентах. Речь идет о Роберте Эдвине Пири и о Руале Амундсене. Пири был одержим идеей первым достичь Северного полюса, побывать на нем. К этому он готовился не одно десятилетие и наконец 6 апреля 1909 г. достиг района Северного полюса. Амундсен также мечтал покорить Северный полюс, но, узнав о том, что Пири уже осуществил свое многолетнее желание, повернул на юг по направлению к Южному полюсу. Экспедиция Р. Амундсена в Антарктику на судне «Фрам» (напомним, что этот корабль был построен для всемирно известной трансарктической экспедиции 1893–1896 гг. Фритьофа Нансена) продолжалась в течение 1910–1912 гг. И вот 14 декабря 1911 г. Амундсен с четырьмя спутниками достиг Южного полюса, где и укрепил норвежский флаг. В это же время за право быть первым на Южном полюсе боролся еще один человек – Роберт Фалкон Скотт, руководитель английской экспедиции к полюсу. Норвежцы опередили англичан на десять дней!
Именно о том, как проходила борьба за Северный и Южный полюсы, рассказывает очередной том «Библиотеки путешествий». Непритязательные повествования Пири и Амундсена не претендуют на какие-либо научные открытия. Это рассказы о том, как были подготовлены экспедиции, как осуществлялось «покорение» Северного и Южного полюсов, о быте их участников, об их времяпрепровождении. Это скорее рассказы участников «спортивной борьбы». Не случайно Роберт Пири в самом начале повествования говорит: «Достижение Северного полюса вполне можно уподобить шахматной игре, в которой все ходы, ведущие к благополучному исходу, продуманы заранее, задолго до начала игры». Именно игра, стремление победить, быть первыми лежали в основе всех действий и Роберта Пири и Руаля Амундсена. В этом они были близки, в этом во многих случаях увлекательность того, о чем рассказывают, кстати живо, просто и доступно, оба автора.
В книгах Пири и Амундсена ярко нарисованы картины жизни полярников: подготовка к зимовке, прогулки с собаками, праздничные события…
Конечно, «покорение» как Северного, так и Южного полюсов не означало их освоение, изучение. Это произошло значительно позже, когда вдоль берегов Северного Ледовитого океана появились первые научные станции, когда ледовую разведку стали вести самолеты и, бесспорно, когда была создана в мае 1937 г. первая советская научная станция «Северный полюс», расположенная на дрейфующих льдах Северного Ледовитого океана. Ее систематические наблюдения позволяли передавать точные научные данные, очень важные для прогнозирования погоды и условий плавания по Северному морскому пути. В последующие годы станции «Северный полюс» стали обязательной частью изучения Северного Ледовитого океана, Северного полюса.
А в 1957–1958 гг. началось всестороннее международное изучение Антарктиды, для чего были созданы специальные великолепно оснащенные и оборудованные научные полярные станции разных стран мира, в том числе и нашего государства.
Но нельзя забывать всех тех, кто открыл первую страницу в книге покорения Северного и Южного полюсов, кто пусть даже во имя победы в гонке за право быть первым доказал, что Человек способен преодолеть любые трудности, лишения во имя великой цели, что его невозможно остановить, что он всегда будет идти вперед!
В течение 20 лет Северный полюс являлся объектом моих устремлений… Восемь раз я отправлялся в Арктику. Неоднократно моя жизнь и жизнь моих спутников ставилась на карту. В ледяных просторах Арктики я провел 12 лет. Решение завоевать полюс до такой степени овладело мной, что я давно перестал себя рассматривать иначе, как орудие для достижения этой цели…
Р. Пири
Как известно, Северный полюс (СП) – это точка, в которой воображаемая ось вращения Земли пересекает ее поверхность в Северном полушарии. СП располагается в центральной части Северного Ледовитого океана, где водные глубины превышают 4000 метров. На СП нет географической долготы, а значение широты составляет 90°. В этой неподвижной точке Земли нет и обычных сторон горизонта – в любом направлении только юг.

Взаимное положение оси вращения Земли к плоскости ее орбиты таково, что вблизи полюса Солнце не поднимается выше 23,5°. Поэтому климат в районе СП отличается суровостью: средняя температура зимой составляет около -40 °C, летом – около 0 °C, часто дуют сильные ветры и нередки метели. Полярный день длится 193 суток, а полярная ночь – 172. В районе СП нет суши, там круглый год дрейфуют мощные многолетние паковые льды.
Попытки достичь СП неразрывно связаны с историей изучения и освоения Арктики. Покорить СП пытались англичанин Г. Гудзон в 1607 г. (достиг отметки 80°23 с. ш.), русский мореплаватель В.Я.Чичагов в 1766 г. (80°30 ), англичане К. Фипс в 1773 г. (80°48 ) и У. Парри в 1827 г. (82°45 ), американец Дж. Локвуд в 1882 г. (83°24 ), норвежец Ф. Нансен в 1895 г. (86°14 ), итальянец У. Каньи в 1900 г. (86°34 ) идр.
Наконец 21 апреля 1908 г. американец Ф. Кук покорил СП. Однако его арктическое путешествие и пребывание на вершине земной оси, носившие неофициальный характер, были поставлены под сомнение. Поэтому до середины 1960-х гг. было принято считать, что первым достиг СП 6 апреля 1909 г. Р. Пири – его соотечественник и официальный представитель США. В настоящее же время в различных справочниках и энциклопедиях значится: «Первыми достигли района Северного полюса американцы Ф. Кук в 1908 г. и Р. Пири в 1909 г.».
До 1909 г. покорители СП шли к намеченной цели, пересекая лед Полярного моря (Северного Ледовитого океана) либо на лыжах, либо на собачьих упряжках.[1] Была, правда, в 1897 г. шведом С. Андре предпринята попытка проникнуть в район СП на воздушном шаре, но для отважного путешественника она закончилась трагически.
Совершенно новые возможности в достижении СП открылись с развитием воздухоплавания и авиации в XX в. Так, в 1926 г. над СП пролетели без посадки, сбросив свои национальные флаги, самолет под управлением американца Р. Бэрда и дирижабль «Норвегия» под руководством норвежца Р. Амундсена, а в 1928 г. – дирижабль «Италия» под командой итальянца У. Нобиле.
Начало нового периода исследования Арктического бассейна было положено весной 1937 г., когда советская высокоширотная воздушная экспедиция под руководством О. Ю. Шмидта на четырех транспортных самолетах совершила впервые в истории посадку на дрейфующие льды в районе СП и основала там станцию (научную обсерваторию) «СП-1» в составе И. Д.Папанина, Э.Т.Кренкеля, Е. К.Федорова и П. П. Ширшова. С тех пор в Арктике работали 32 дрейфующие станции типа «СП».
В 1937 г. были осуществлены также и беспосадочные перелеты советских самолетов из СССР в США через СП. В составе их экипажей были знаменитые летчики и штурманы В. П. Чкалов, Г. Ф. Байдуков, А. В. Беляков, а затем?. М. Громов, А.Б.Юмашев и С.А.Данилин.
С 1945 г. советские и американские самолеты неоднократно летали с исследовательскими целями на СП, совершая посадки на дрейфующие льды.
В 1958 г. впервые подо льдами СП прошли американские атомные подводные лодки (АПЛ) «Наутилус» (из Берингова пролива в Гренландское море) и «Скейт» (из Гренландского моря до СП и обратно). Вторая субмарина всплыла в полынье всего в 65 км от СП. В 1960 г. американская АПЛ «Си Дрэгон» появилась уже непосредственно на СП.
В 1960-х гг. к СП устремились советские АПЛ. Первая из них – «Ленинский комсомол» (командир контр-адмирал Л.М.Жильцов) всплыла на отметке 90°00 с. ш. 17 июля 1962 г.
17 августа 1977 г. впервые в истории мореплавания СП достиг советский атомный ледокол «Арктика» (руководитель экспедиции министр Морского флота СССР Т. Б. Гуженко, капитан ледокола Ю. С. Кучиев), а с конца 1980-х гг. атомные ледоколы почти ежегодно стали посещать СП с туристами на борту.
Весной 1992 г. состоялась первая высокоширотная парашютная экспедиция. К.А.Зайцев – гидролог, ледовый разведчик 1-го класса, почетный полярник – успешно десантировался на СП и водрузил на нем флаг России.
Такова вкратце история покорения СП. Многие полярники оставили в назидание потомкам свои уникальные воспоминания о своих экспедициях. Среди этих мемуаров выделяется как стилем, так и содержанием книга Р. Пири «Северный полюс» (1910), изданная на русском языке впервые в 1911 г. (в сильно сокращенном переводе с английского А. Д. Дмитриева), затем в 1936 г., 1948 г. («Географгиз»), 1972 г. («Мысль»), 1981 г. («Мысль») и ныне выходящая в свет практически без купюр в издательстве «Дрофа». Однако прежде чем читатель приступит к прочтению этой интересной книги, мы расскажем о ее авторе Р. Пири – известном полярном путешественнике, человеке своего времени, мужественном, целеустремленном и противоречивом.
Пири Роберт Эдвин (Peary Robert Edwin) родился в Крессон-Спрингсе (штат Пенсильвания, США) 8 мая 1856 г. Воспитанием своего единственного сына занималась его мать (отец умер, когда мальчику было два года). Школьные годы Роберта прошли в Портленде, студенческие – в Бодуэнском колледже в Брунсвике (штат Мэн). Окончив колледж с дипломом инженера в 1877 г., он переехал в Вашингтон, где устроился работать чертежником-геодезистом в Береговой и геодезической службе США. В 1881 г. его приняли в Корпус гражданских инженеров Военно-морских сил (ВМС).
В 1884–1885 гг. Р. Пири был командирован в Никарагуа. Там он выполнял съемочные и геодезические работы на изысканиях трассы Никарагуанского «межокеанского» канала (альтернативного Панамскому каналу). С этим заданием он справился блестяще и был поощрен командованием. Скорее всего, и в дальнейшем ему было суждено заниматься подобными работами в южных и средних широтах Западного полушария, возможно, до выхода в отставку. Но судьбу Р. Пири коренным образом изменила случайно купленная и прочитанная книга знаменитого путешественника и исследователя Арктики шведа барона А. Э. Норденшельда с отчетами о его экспедициях во внутренние районы Гренландии – таинственной страны Калааллит Нунаат,[2] омываемой Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, почти полностью покрытой мощным ледником и более или менее исследованной только по ее окраинам.
Никогда не виданные Р. Пири северное сияние, потрясающие миражи, бескрайняя тундра, сверкающие колонны ледяных скал и гигантские ледники, от которых откалываются айсберги, пронизывающий холод и пурга, снежные хижины «иглу» молчаливых инуитов – аборигенов Гренландии, собачьи упряжки, а главное – «белые пятна» неисследованных районов на географических картах этой страны всколыхнули богатое воображение тогда безвестного, но весьма честолюбивого 30-летнего вольнонаемного инженера флота США. Он загорелся неукротимым желанием побывать в этой ледяной стране. «Несомненно, именно тогда я поддался соблазну Севера или так называемой «арктической лихорадке», – пишет Р. Пири в своей книге «Северный полюс», – и мною овладело чувство фатальности, ощущение того, что смысл и цель моего существования – разгадать тайну замерзших твердынь Арктики…»
Однако Р. Пири (в отличие от барона А. Э. Норденшельда и других полярных исследователей) какого-либо конкретного плана своей первой экспедиции, как, впрочем, и научной цели, не имел.[3] Это была скорее всего рекогносцировка (разведка) с определенной долей спортивного интереса, не лишенного авантюризма. Поэтому обращение к командованию об организации экспедиции под его началом и соответствующем ее финансировании было недостаточно аргументированным и, как следствие, успеха не имело. Впрочем, отказ не остановил энергичного упрямца: он решил организовать поездку на собственные средства, основную же часть финансовых расходов взяла на себя его мать.
Весной 1886 г. Р. Пири получил отпуск и на небольшом китобойном судне «Игл», совершающем ежегодные плавания у западных берегов Гренландии, прибыл в датский порт Годхавн, расположенный на острове Диско. Здесь он приобрел снаряжение и изготовил двое саней. В качестве начального пункта маршрута во внутренние районы Гренландии Р. Пири наметил небольшое селение Ритенбенк и вскоре перебрался туда. Там к нему присоединился молодой датчанин К. Майгаард, увлекшийся замыслом американца. Для буксировки саней со снаряжением он нанял восемь эскимосов.
Эта наспех подготовленная экспедиция была недолговременной. 23 июня 1886 г. путники двинулись на восток. Идти пришлось, поднимаясь на ледовый склон, навстречу холодному сильному ветру, пересекая опасные ледниковые трещины и непрочные снежные мосты. Наконец Р. Пири воочию увидел и ощутил то, что ему грезилось после прочтения отчетов барона А. Э. Норденшельда. Правда, реалии оказались гораздо скромнее и не столь романтичными, как хотелось. Это был нелегкий и зачастую изнурительный труд по преодолению различных препятствий. На 26-е сутки пути, когда за плечами оставалось более 180 км, а барометр-анероид показывал атмосферное давление, соответствующее высоте 2300 м, экспедиция развернулась и двинулась назад. Запаса продовольствия хватало только на обратную дорогу.
В Ритенбенк добрались почти в три раза быстрее, поскольку шли «под гору», с попутным ветром и налегке. В целом же первая проба сил будущей знаменитости была удачной, без особых приключений и потерь, но главное – поучительной: Р. Пири получил ценный опыт и знания, попутно исследовав часть ледниковой шапки Гренландии к востоку от залива Диско. Все это стало толчком зарождения новых грандиозных планов покорения Арктики.
В 1887–1888 гг. Р. Пири в должности главного инженера выполнял съемочные работы в Никарагуа, а в 1888–1891 гг. участвовал в строительстве дока в Филадельфии. Одновременно он готовился к новой экспедиции. Теперь он собирался пересечь Гренландию с запада на восток и обратно, используя во второй половине своего пути попутный западный ветер. Понятно, что для этого требовались более основательные подготовка и снаряжение, а следовательно, и немалые деньги. Р. Пири удалось заинтересовать своими грандиозными планами руководство Филадельфийской академии естественных знаний, а также некоторых богатых и влиятельных соотечественников, которые согласились оказать помощь в финансировании его экспедиции. Главными его спонсорами стали М. Джесап – крупный финансист и филантроп, возглавлявший и содержавший Нью-Йоркский городской музей естественной истории, а также весьма состоятельный генерал Т. Хаббард – выпускник того же Боудонского колледжа, который окончил Р. Пири. Созданию образа полярного героя и патриота США способствовала помощь Г. Бриджмена – редактора и владельца нескольких нью-йоркских газет. Влиятельные покровители смогли убедить строгое флотское начальство, что Р. Пири необходим бессрочный отпуск для достижения поставленных целей во славу звездно-полосатого флага США и американской нации.
В успехе они не сомневались: Р. Пири действительно был стопроцентным американцем с ярко выраженными достоинствами (например, стремлением быть первым во всем), нередко переходящими в недостатки (неуважение, если не ненависть, к соперникам при движении к цели). «По отзывам современников, – пишет В. И. Магидович, известный историк географических открытий, – Пири отличался богатырским телосложением, высоким ростом и силой (к тому же не курил и не употреблял спиртного. – Гл.); он мог быть любезным, приветливым и простым в общении. Его выделяло поразительное упорство организатора. Он обладал большим мужеством, неукротимой энергией и завидной способностью увлекать других своей мечтой. По складу ума он был скорее спортсменом, нежели ученым… Вместе с тем Пири был… человеком с огромным самомнением и высокомерием…»
На сбор средств и подготовку экспедиции ушло почти пять лет. За это время норвежец Ф. Нансен с пятью крепкими и надежными спутниками на лыжах успешно пересек Гренландию, но не с запада на восток, а в обратном направлении. Это весьма огорчило Р.Пири – пальма первенства была отнята и, как ему казалось, несправедливо. Он считал, что Ф. Нансен воспользовался его идеей. «В 1888 г. Нансен пересек южную Гренландию, отправившись по кратчайшему из указанных мною путей… – писал Р. Пири в 1906 г. в своей книге «По большому льду к северу» (1898). – Это исполнение задуманного мною предприятия нанесло серьезный удар мне…»
Однако американец был не прав. Сейчас уже мало кто оспаривает факт, что идея пересечь Гренландию в указанном направлении принадлежала Ф. Нансену. Его знакомство с этой страной состоялось в 1882 г., когда он побывал у ее берегов на зверобойном судне «Викинг», а в 1884 г., узнав из газет о подробностях второго путешествия по Гренландии барона А. Э. Норденшельда, начал готовиться к лыжному походу. Р. Пири, как известно, в это время работал в Никарагуа.
Заметим, Ф. Нансен был не только отменный лыжник – 12-кратный чемпион Норвегии, но и ученый. Поэтому в отличие от Р. Пири он тщательно готовился не к спортивному предприятию, а к серьезной научной экспедиции. Так, он предварительно изучил историю исследования Гренландии, встретился и побеседовал с бароном А. Э. Норденшельдом, опубликовал в печати план своей экспедиции, приобрел необходимое снаряжение, астрономо-геодезические, метеорологические и другие приборы, осуществил пробные тренировочные походы. В общем, Ф. Нансен старался учесть все мелочи так, чтобы рискованная экспедиция не стала роковой. Столь основательная подготовка в итоге увенчалась успехом и важными научными результатами. Позже некоторые из них были признаны ученой общественностью на уровне открытий.
Между тем Р. Пири готовился к новому походу, целью которого стало «изучение западных и северо-западных берегов Гренландии». Для этого была нанята паровая баркентина «Кайт» под командой капитана Р. Пайка и подобраны члены экспедиции. Среди них были супруга начальника экспедиции Жозефина, афроамериканец Мэттью Хенсон, ставший на долгие годы верным слугой и преданным спутником Р. Пири, а также сын немецкого эмигранта Фредерик Альберт Кук (Кох) – врач и этнолог экспедиции.
Вблизи западных берегов Гренландии, в заливе Мелвилл, с Р. Пири произошло несчастье: громадный кусок льда, ударив руль судна, сильно толкнул его вверх и вырвал штурвал из рук двух матросов, а затем железный румпель (рычаг для поворачивания руля) захватил ногу Р. Пири и переломил как спички ее кости под лодыжкой. Случись это с кем-либо другим, Северогренландская экспедиция на этом могла бы и закончиться, но ее начальник был исключительно волевым человеком и обладал твердым характером бойца. «Благодаря профессиональному искусству моего врача Кука и неусыпной и внимательной заботе миссис Пири мое полное выздоровление было быстро достигнуто…» – запишет позже Р. Пири в свой дневник.
26 июня 1891 г. после трехнедельного пребывания «Кайта» в паковых льдах в бухте Мак-Кормик (северо-западная Гренландия) состоялась высадка экспедиции на берег. Там чета Пири и шестеро их спутников остались на зимовку. Ближе к осени группа в составе превосходного лыжника норвежца Э. Аструпа и американцев охотника-орнитолога Л. Гибсона, геолога Дж. Варгоева приступила к устройству вспомогательных баз на пути следования основного отряда экспедиции и заброски продовольствия, а Ф. Куку, кроме того, была поставлена задача нанести на карту места эскимосских поселений, изучить быт аборигенов и установить с ними добрые отношения, от которых, по опыту предшественников, зависело многое. Во всем этом Р. Пири – еще не выздоровевший, только 3 октября смог впервые пройти без костыля и палки – принимал деятельное участие.
До наступления полярной ночи участники экспедиции занимались охотой, а с погружением во тьму готовили к предстоящей работе снаряжение и приборы, много читали – на зимовке была неплохая библиотека по полярной тематике, иногда для тренировки совершали краткосрочные вылазки.
С середины февраля 1892 г. зимовщики стали проводить полевые рекогносцировки, которые позволили получить новую информацию о местности и ценный маршрутный опыт. «Моя партия благополучно провела длинную зимнюю ночь… – писал Р. Пири в середине апреля 1892 г. в своем сообщении в Филадельфийскую академию естественных наук. – Я имею полное снаряжение для путешествия по ледниковому покрову… Установлены и поддерживаются самые дружеские отношения с туземцами и собран ценный этнографический материал. Выполнен ряд наблюдений – приливов и метеорологических…»
18—22 апреля Р. Пири с супругой и каюром занимался обследованием побережья залива Ингфилд. Во время маршрута протяженностью около 400 км он сделал съемку и описал «подвижку» ледника Герлбет. Настроение у Р. Пири было хорошее, поскольку он убедился, что последствия перелома ему уже почти не мешают.
15 мая небольшой отряд под руководством Р. Пири вышел на основной маршрут. Через несколько переходов, удалившись от базы в бухте Мак-Кормик на 210 км, путешественники оказались в бассейне громадного ледника Гумбольта. Дальше начальник выбрал в качестве спутника одного из добровольцев – норвежца Э. Аструпа. До их возвращения обязанности начальника были возложены на Ф. Кука.
Маршрут вглубь Гренландии Р. Пири прокладывал, «прижимаясь» к северо-западной оконечности острова. Это, вероятно, помогало ему лучше ориентироваться. Правда, некоторые считают, что навигатором он был весьма посредственным. «При переходе по местности, практически лишенной отчетливых ориентиров, – пишет в своей книге «Фредерик Альберт Кук» (2002) доктор географических наук В. С. Корякин, один из видных специалистов по истории освоения Арктики, – из всех методов навигации Пири использовал лишь прокладку курсов и расстояний, полагая, что… компас и путемер дают возможность получить необходимые данные и показывают путешественнику во всякое время его положение и быстроту, с какой он идет…» Между прочим, у Р. Пири был и секстан – угломерный астрономический прибор для определения широты места по небесным светилам.
Конечно, с точки зрения сего дня, когда с помощью спутниковой навигационной аппаратуры, сопряженной с дисплеем, на котором в конкретный момент может быть отображена современная карта любого района Гренландии, а также местоположение путешественника и его маршрут движения, даже признанных навигаторов – современников Р. Пири – можно считать посредственными. Лучшими навигаторами в Арктике всегда были белые медведи, блуждающие в поисках добычи по дрейфующим льдам сотни километров и безошибочно возвращающиеся в исходную точку.
26 июня 1892 г. взору путешественников открылось северо-восточное побережье, к которому они стремились, а вскоре они вышли на скальную поверхность. Как полагал Р. Пи – ри, это были северные пределы ледникового покрова Гренландии (что было верно) и одновременно оконечность этого самого большого на планете острова (ошибочность его представлений была выявлена только 30 лет спустя датчанами К. Расмуссеном и П. Фрейхеном, сделавшими съемку местности).
Сушу, лежащую вдали за глубокой долиной с многочисленными озерами, Р. Пири назвал Землей Гейлприна (Земля Пири – на современных картах). «Таким образом… – пишет далее В. С. Корякин, – Пири прошел до северных пределов… Земли Гейлприн, тем самым определив положение и крайнего северного побережья самой Гренландии. В эпоху ликвидации последних «белых пятен» на Земле это явилось его реальной заслугой, самым ценным из его достижений. В наиболее отдаленном пункте своего маршрута, на утесе Нэйви-Клиф, в гурии, сложенном из камней, он оставил записку следующего содержания: «Северогренландская экспедиция 1891–1892 гг. под командованием Роберта Пири, вольнонаемного инженера флота США,[4] 4 июля 1892 г. 81°37,5 с. ш. (определено с помощью секстана. – Гл.). Достиг с Эйвином Аструпом и восемью собаками… Мы прошли более пятисот миль и находимся в прекрасном состоянии. Я назвал этот фиорд бухтой Независимости (Индепендес-фиорд – на современных картах. – Гл.) в честь дорогого всем американцам дня 4 июля, в который увидали его…»
5 июля путешественники двинулись назад и 3 августа успешно добрались до своей зимовки в бухте Мак-Кормик. Таким образом, если Ф. Нансен впервые пересек ледяной купол Гренландии на юге, то Р. Пири осуществил это на севере. Список его арктических рекордов пополнился очень важным событием.
Однако благополучие не всегда сопутствовало Р. Пири. В середине августа, когда он с супругой и эскимосами-гребцами занимался съемкой побережья в заливе Инглфилд, пропал геолог Дж. Вергоев. Тщательные поиски привели к его следам, обрывающимся на краю одного из близлежащих ледников. Очевидно, Дж. Вергоев сорвался по неосторожности с ледника и погиб в глубокой трещине. Цена за легкомыслие и прикосновение к тайнам Арктики всегда была очень высокой.
Итоги Северогренландской экспедиции по праву поставили Р. Пири в один ряд с видными арктическими путешественниками. Действительно, при подготовке и в ходе ее он проявил себя как отличный организатор и исследователь, открывший ранее неизвестную «землю», как человек завидного мужества и твердого характера. В то же время его одержимость первенства во всем, безусловно привлекающая внимание ревнивой научной общественности, часто ставила его, мягко говоря, в двусмысленное положение.
Например, в своей книге об экспедиции 1891–1892 гг. «По большому льду к северу» он объявил, что открыл новый способ полярных путешествий, использовав «внутренний лед вместо дороги, собак – как упряжь саней». Это утверждение, по оценке В. С. Корякина, не соответствовало действительности, поскольку «первые маршруты по ледниковому покрову Гренландии… были предприняты… датчанами Оцеаном и Ландорфом в 1728 году… Другое дело, что Пири впервые использовал здесь собачью упряжку с нартами… но значимость такого открытия все же меньше, чем трактует сам Пири, поскольку ее издавна использовали эскимосы на морском льду…».
Р. Пири также утверждал, что разработал новую систему походов в Арктике – «систему Пири», в рамках которой он использовал несколько вспомогательных отрядов, прокладывающих путь и создающих продовольственные базы для небольшой по численности главной партии. Последняя шла по этому пути, сберегая свежие силы для последнего броска к конечной цели. Однако, как заметил академик А.Ф.Трёш – ников – президент Географического общества СССР, бывший начальник станции «СП-2», а также руководитель 2-й и 13-й Арктических экспедиций, – «ничего нового в этой системе не было. Ее… предложил исследователь Сибири Ф. П. Врангель еще в первой половине XIX столетия. Этого способа передвижения на дальние расстояния придерживались жители Крайнего Севера: чукчи, а потом многие европейские полярные исследователи…».
Р. Пири был также уверен, что «ввел первый раз и показал годность различных новых черт выдающейся ценности для полярных путешествий: выбор зимних квартир, употребление путемера, барометра и термограф… Приобретенное мною подробное знание пролива Смита (за счет его картографирования. – Гл.) позволило мне показать различным ученым местности, наиболее годные для специальных занятий…». На это В. С. Корякин заметил: «Не изучение полярной природы занимало Пири, а совершенствование техники и организация маршрутов в экстремальных условиях Арктики. Природа, наука – это не для него… Неудивительно, что подобным отношением он создал оппозицию [к себе] в научной среде…»
С этим можно согласиться – Р. Пири ученым не был. Да он и сам об этом не раз говорил. В то же время не следует забывать, что Р. Пири был опытным геодезистом и съемщиком и картографированием неисследованных районов той же Гренландии занимался вполне профессионально. Так что считать его только арктическим рекордсменом было бы не справедливо.
В Северогренландской экспедиции наметилась первая трещина во взаимоотношениях между Р. Пири и Ф. Куком. Как уже отмечалось, Ф. Кук по должности занимался полярной медициной и этнографией гренландских эскимосов и к концу экспедиции собрал интересный, имеющий научную ценность материал. Однако опубликовать свои изыскания Ф. Куку тогда не удалось – Р. Пири категорически воспрепятствовал этому. Конечно, Ф. Куку, никогда не терявшему чувство собственного достоинства, подобное отношение к себе со стороны начальника не понравилось, и после окончания экспедиции они расстались каждый при своем мнении.
В США Р. Пири стал готовиться к новой экспедиции, для которой требовались большие деньги. Поначалу он положился на себя: ездил по городам страны и читал лекции о Гренландии; выступая по нескольку раз в день, он прочел 168 лекций и заработал 13 000 долларов. Но этого было явно недостаточно. Тогда по совету своих предприимчивых друзей он организовал платные экскурсии на помятый льдами экспедиционный корабль «Кайт», а газете «Сэн» выгодно продал еще ненаписанные дневники и письма будущей арктической экспедиции…
В 1894 г. Р. Пири на судне «Фалкон» был вновь у северо-западных берегов Гренландии. Пребывание на материке со временем угнетало его. «Велика и необычна притягательная сила Севера! – писал он. – Не раз я, возвращаясь из его бескрайней замерзшей пустыни потрепанный, измученный и разочарованный, иногда покалеченный, говорил себе, что это мое последнее путешествие туда; я жаждал людского общества, комфорта цивилизации, безмятежности и покоя домашнего очага. Но случалось так: не проходило и года, как мною вновь овладевало хорошо знакомое мне ощущение беспокойства. Я начинал тосковать по великой белой пустыне, по схваткам со льдами и штормами, по долгой-долгой полярной ночи и долгому полярному дню, молчанию и необъятным просторам великого, белоснежного, одинокого Севера. И я опять раз за разом устремлялся туда…»
Зимой 1894/95 гг. Р. Пири осуществил рекогносцировочный маршрут по фьордам к западу от своей базы, а весной 1895 г. снова вышел на берег Северного Ледовитого океана. Его неудержимо влекла далекая, но соблазнительная дорога, незримо лежащая от берегов Гренландии в белое безмолвие – к СП.
В 1896 г., вернувшись в США из Гренландии, Р. Пири привез с собой осколок крупного (весом более 30 т) метеорита, который эскимосы называли Абнигито. Он когда-то упал поблизости от мыса Йорк на северо-западном побережье Гренландии и служил аборигенам источником материала для изготовления оружия и инструментов. На следующий год Р. Пири организовал специальную экспедицию по транспортировке метеорита: руководил его погрузкой на борт судна, а потом доставил его в США, где продал в Нью-Йоркский музей естественной истории за крупную сумму. Эти деньги пошли на подготовку новой экспедиции.[5]
Цель очередного вояжа в Арктику была сформулирована Р. Пири так: «достижение крайней северной широты Западного полушария». Это очередное весьма престижное мероприятие способствовало образованию весной 1898 г. «Арктического клуба Пири». Его председателем был избран крупный финансист М. Джесап, секретарем – газетный магнат Г. Бриджмен, членами стали богатые и влиятельные американцы, пожелавшие помочь именитому путешественнику прославить звездно-полосатый флаг США, а возможно, и увековечить свои имена на географической карте Арктики. Годовые взносы в клубе составляли 1000 долларов, что было в то время значительной суммой. Но цель создания клуба оправдывала вкладываемые на это средства.
Сбор и отправка в новую экспедицию были ускорены после того, как Р. Пири стало известно, что норвежец О. Свердруп – знаменитый арктический капитан – собирается штурмовать СП, начав движение на собаках с северной оконечности Гренландии. Весть была неожиданной и крайне неприятной для честолюбивого американца. Однажды норвежцы с Ф. Нансеном во главе уже «перебежали дорогу» Р. Пири на лыжах, когда тот собирался в свою вторую экспедицию в Гренландию. Вновь пережить подобное он не хотел.
Летом 1898 г. экспедиция Р. Пири на паровой яхте «Уиндвард» вошла в пролив Смит. Исходной базой для похода на СП Р. Пири наметил Форт-Конгер (залив Леди-Франклин), но тяжелые ледовые условия заставили поставить судно на зимовку на 150 миль южнее. Снаряжение для похода к полюсу пришлось доставлять зимой на собаках, что в планы не входило.
В 1898–1899 гг. в упомянутом проливе зимовала на легендарном «Фраме» и норвежская экспедиция во главе с О. Свердрупом. Несколько случайных встреч представителей двух наций не оставили теплых воспоминаний. Если норвежцы были настроены вполне дружелюбно – они, кстати, с экспедицией на СП решили повременить, занявшись исследованием неизвестной части Канадского Арктического архипелага, – то «бесконечная уверенность в монопольном праве на «американский путь»… заставляли [Р. Пири] относиться к норвежцам как к захватчикам…». Впрочем, уже немолодой и мудрый О. Свердруп быстро понял, что Р. Пири не исследователь, а рекордсмен и, исходя из этого, неторопливо и основательно занимался изучением северной части Гренландии.
В начале января 1899 г., когда стояли такие жестокие морозы, что керосин становился белым и вязким, Р. Пири отморозил ноги. Его верный помощник М. Хенсон потом рассказывал, что «ноги Пири оказались бескровно белыми до самых колен, и, когда я снял с них меховые носки, мы увидели, как пальцы примерзли к меху и в суставах были страшные глубокие трещины…». Пострадавшего доставили на санях на судно, где врач Т. Дедрик, спасая его от гангрены, ампутировал восемь пальцев. Это была трагедия, что, впрочем, не сломило Р. Пири: кое-как подлечившись, он той же зимой продолжал участвовать в санных поездках в Форт-Конгер и обратно, проводя большую часть походов на нартах. Но швы после операции заживали плохо, норвежские конкуренты не претендовали на первенство, и Р. Пири был вынужден отложить поход к СП еще на год.
Весной того же года он провел рекогносцировку побережья, достигнув мыса Вашингтон (83°23 с. ш.), считавшегося самым северным участком побережья Гренландии. Его Р. Пири принял за возможную исходную точку при походе к СП.
В 1900 г., выполняя съемку северного побережья Гренландии, Р. Пири открыл неизвестный мыс, назвав его Моррис-Джесап, в честь председателя «Арктического клуба Пири». Этот мыс, а не мыс Вашингтон оказался, как установили в 1926 г. К. Расмуссен и П. Фрейхен, самой северной оконечностью Гренландии.
В период пребывания в заливе Смит супруга Р. Пири родила первую из двух его дочерей – Марию, которую пресса мгновенно окрестила «белым американским ребенком, родившимся севернее всех». Книга рекордов Р. Пири пополнялась.
Между тем некогда отменное здоровье Р. Пири стало ухудшаться, а его физическое состояние вызывало серьезные опасения. Это стало известно в «Арктическом клубе…», вложившем в новое дело немалые деньги. Для выяснения сложившейся ситуации и оценки обстановки была сформирована специальная экспедиции во главе с Г. Бриджменом. В связи с тем что последний опыта подобных экспедиций не имел, пришлось обратиться к Ф. Куку с просьбой принять в ней участие в качестве эксперта.
Доктор Ф. Кук к тому времени стал известным и авторитетным путешественником. Он совершил удачное трехмесячное плавание на яхте «Зета» (1893) вдоль западного побережья Гренландии с исследовательскими целями, не вполне удачное – на судне «Миранда» (1894), обогатившем его ценным полярным опытом, участвовал в экспедиции Брюссельского географического общества в Антарктиду на китобойном судне «Бельгика» (1897–1899). В этой экспедиции он познакомился с будущим покорителем Южного полюса норвежцем Р. Амундсеном, который написал о нем в своих воспоминаниях следующее: «За долгие тринадцать месяцев столь ужасного положения, находясь беспрерывно лицом к лицу с верною смертью, я ближе познакомился с доктором Куком… Он был единственным из всех нас, никогда не терявшим мужества, всегда бодрым, полным надежды, и всегда имел доброе слово для каждого… Изобретательность и предприимчивость его не имела границ…» За участие в антарктической экспедиции Ф. Кук был награжден орденом Леопольда I – высшей наградой Бельгии, золотыми медалями Географического общества Брюсселя и Королевской академии наук, литературы и художеств, серебряной медалью Бельгийского королевского общества. Отказаться от просьбы помочь попавшему в беду коллеге – независимо от их личных отношений – Ф. Кук не мог.
Летом 1901 г. зафрахтованное судно «Эрик» достигло берегов пролива Смит. Р. Пири находился на борту яхты «Уиндворд». По свидетельству очевидцев, встреча бывших начальника и его подчиненного была «сердечно-сдержанной». Ф. Кук диагностировал физическое и нервное истощение организма Р. Пири, нарушения в работе сердца, сосудов, обнаружил симптомы цинги и многое другое. Прогноз был неутешительный, поэтому Кук настоятельно рекомендовал больному вернуться в США, чтобы пройти капитальный курс лечения. Но тот резко воспротивился и остался на очередную зимовку. Заметим, что отношения Р. Пири с лечащими его врачами как-то не складывались. Так, от услуг судового врача Т. Дедрика, оперировавшего Р. Пири, а позже осмелившегося возразить ему по сугубо медицинским вопросам, он отказался и собирался отправить его на материк.
Оставшись в Гренландии и «проявив характер, – пишет В. С. Корякин, – Пири, однако, не мог предотвратить необратимых изменений в своем организме. Предсказанные Куком, они в конце концов и свели его в могилу намного раньше срока, отпущенного природой при рождении…». Как говорится, если бы знать, кому и сколько отпущено…
Весной 1902 г. Р. Пири прошел по маршруту вдоль северного побережья острова Элсмир, а затем устремился на север. На отметке 84° 17 с. ш. он был вынужден остановиться. На этот раз ему не удалось даже превзойти достижение Ф. Нансена. «Игра окончена, – записал он в дневник. – Конец моей шестнадцатилетней мечте… Я проиграл сражение, притом не самое легкое. Но я не смог сделать невозможное…»
Очередная экспедиция Р. Пири состоялась в 1905–1906 гг. Она обошлась в 50 000 долларов. Половину этой суммы выделил М. Джесап, половину – бизнесмен Дж. Колгейт. В экспедиции участвовали 50 эскимосов – в качестве рабочих – и 200 упряжных собак. Любитель рекордов Р. Пири мог обоснованно гордиться: с таким обеспечением к СП не выступал ни один из его предшественников.
Экспедиционное судно «Рузвельт» (капитан Р. Бартлетт) провело зимовку у мыса Шеридан на восточном побережье острова Элсмир. С наступлением светлого времени на запад, к мысу Мосс, в строгом соответствии с «системой Пири» отправились вспомогательные отряды обеспечения. 6 марта 1906 г. Р. Пири записал в своем дневнике: «Битва подходит к концу. Мы идем по льду Северного Арктического океана, взяв направление прямо на цель…» Однако он ошибался. То, что он называл битвой, оказалось только разведкой боем.
Через 11 суток пути Р. Пири все еще видел землю. 26 марта по направлению движения среди торосов обозначилось широкое разводье воды, позднее названное Большой полыньей. Оно располагалось на контакте берегового припая с дрейфующими льдами океана. Отправив Р. Бартлетта и М. Хэнсона вдоль разводья в поисках переправы, Р. Пири использовал вынужденную остановку для определения местоположения. Астрономические измерения позволили определить точку с координатами 84°38 с. ш. и 74° з. д. Поскольку основной отряд оказался на 130 км западнее, чем ожидалось, результат свидетельствовал о сильном западном дрейфе.
21 апреля отряд остановился на отметке 87°06 с. ш. Р. Пири торжествовал: рекорды Ф. Нансена и У. Каньи были побиты. Это достижение могло уже послужить некоторым оправданием перед «Арктическим клубом…» – необходимость возвращаться давно назрела: люди и собаки вымотались до предела, продовольствие было на исходе. Обратно шли сначала по своим следам, а затем прокладывая новую дорогу. Из-за дрейфа льдов, который тогда был еще мало изучен (современные арктические карты показывают здесь западный дрейф порядка 2 км/сут), путники сильно отклонились к востоку от запланированной точки финиша. Они прошли вдоль северного побережья острова Эльсмир, по дороге «открыли», лежащую на горизонте Землю Крокера (в 1914 г. он была «закрыта» другими исследователями – как необнаруженная), миновали остров Аксель-Хейберг и на его мысе, названном Р. Пири в честь генерала Т. Хаббарда, оставили записку.
Осенью 1907 г. секретарь «Арктического клуба…» ознакомил Р. Пири с посланием от Ф. Кука, в котором говорилось, что в ближайшее время он предполагает выдвинуться к СП по маршруту «через Бьюкенен-Бэй и Землю Элсмира на север проливом Нансена и далее по Полярному морю». Эта новость не на шутку всполошила членов клуба и вывела из себя самого Р. Пири – соперников и конкурентов, как известно, он не терпел.
Немного поразмыслив, Р. Пири в мае 1908 г. написал в редакцию газеты «Нью-Йорк Таймс» письмо, в котором заявил, что Ф. Кук ведет себя не по правилам: «…взял с собой эскимосов и собак, которых я собрал в Эта… (эскимосском поселении, одной из стоянок Р. Пири со складом провианта. – Гл.) воспользовался услугами эскимосов, которых я приучил к трудной работе управления санями… всему тому, что они приобрели под моим руководством… Результатом пребывания Кука в этой области [стало] ослабление эскимосов, в особенности уменьшения числа собак… в ожидании меня… Во избежание всяких недоразумений… я заявляю, что поведение доктора Кука, который старается опередить меня, недостойно честного человека…»
По-видимому, опасения Р. Пири о возможной потере первенства в достижении СП были так сильны, что его оставило самообладание, и повел он себя, скажем так, не по-джентльменски. На самом деле, все его обвинения были беспочвенны. Впрочем, по мнению ряда исследователей, его ревнивое поведение было вполне объяснимо: на его экспедиции, как и на его личную жизнь (из всех известных полярных путешественников он был, пожалуй, самым состоятельным). «Арктическим клубом…» было израсходовано столько денег, что иного варианта кроме покорения СП у Р. Пири не оставалось.
«Наша Арктическая экспедиция родилась без обычной шумихи, – писал между тем Ф. Кук в своей книге «Мое обретение полюса», изданной на русском языке в 1987 г. – Она была подготовлена за один месяц и финансировалась спортсменом (молодым миллионером Дж. Брэдли. – Гл.), которому хотелось… поохотиться на Севере… Мы не обращались за помощью к правительству, даже не пытались собрать средства у частных лиц… Хотя в тайне я лелеял в душе честолюбивую надежду покорить Северный полюс, у нас не было какого-либо четко разработанного плана… Полагаясь на мой опыт, мистер Брэдли поручил мне экипировку экспедиции и снабдил достаточными средствами на необходимые расходы…»
18 марта 1908 г. Ф. Кук в сопровождении двух молодых, сильных и преданных ему эскимосов,[6] с грузом экспедиционного оборудования и продовольствия, размещенным на нартах с собачьими упряжками, двинулся с мыса Свартевог (ныне мыс Столуэрти – самый северный мыс острова Аксель-Хейберг) «по льду Полярного моря» к СП. 21 апреля, преодолев тяжелейший маршрут длиной около 1000 км и периодически определяя свое местоположение,[7] путешественники добрались наконец до желанной цели «Крыши мира» (по образному определению Ф. Кука). «Проведенная здесь серия [астрономических] наблюдений, – написал в своем отчете Ф. Кук, – проделанных через каждые шесть часов, начиная с полудня 21 апреля до полуночи 22 апреля… установила наше местоположение [90° с. ш. ] с достаточной точностью. Конечно, цифры не дают точной позиции при нормальном спиралеобразном восхождении Солнца… Неизвестная величина поправки за рефракцию и дрейф льда… не допускают высокой точности наблюдений. Поэтому эти цифры представлены здесь не с целью доказательства абсолютной точности… а чтобы удостовериться, что мы приблизительно достигли того места, где Солнце в течение… 24 часов в сутки кружит в небе по линии, параллельной горизонту…»
Отдохнув и оставив в медном цилиндре небольшой американский флаг с запиской, адресованной Международному бюро полярных исследований (МБПИ), путешественники, судя по посланию, «в добром здравии и с запасом продовольствия на 40 суток»[8] повернули назад, к берегам Гренландии. 1 сентября 1909 г. Ф. Кук прибыл в порт Леруик на Шетландских островах и оттуда послал телеграмму в адрес МБПИ: «Достиг Северного полюса 21 апреля 1908 года…».
Между тем Р. Пири, не допускавший даже мысли о покорении Ф. Куком СП, готовился к последнему и главному в своей жизни походу – к Северо-полярной экспедиции Арктического клуба 1908–1909 гг. Об этом и многом другом он обстоятельно изложил в своей замечательной книге «Северный полюс». Мы не будем лишать читателя удовольствия самому с ней ознакомиться, однако ниже коротко осветим ее финальную и по-своему трагическую часть.
6 июля 1908 г. Р. Пири после вдохновленного напутствия президента США Т. Рузвельта («Я верю в Вас и Ваш успех, если только Ваша задача вообще выполнима для человека») на судне его имени под звуки оркестра вместе с другими участниками экспедиции отвалил от причалов Нью-Йорка. «Экспедиция планировалась и осуществлялась как национальное мероприятие, и триумф должен был принадлежать всей стране, – писал в своем дневнике Р. Пири. – «Рузвельт» был построен из американских материалов, все служащие на нем были американцами, он отправлялся в полярные воды благодаря опыту, приобретенному американцем в шести предыдущих экспедициях. Таким образом, я могу без хвастовства сказать, что все наше предприятие было чисто американским…»
5 сентября того же года, достигнув мыса Шеридан на острове Элсмир, «Рузвельт» встал на зимовку. 22 февраля 1909 г. полюсный отряд в сопровождении и при поддержке вспомогательных партий двинулся на север. 1 апреля группа в составе Р. Пири, его чернокожего помощника М. Хенсона и четверых эскимосов начала последний бросок к СП. Выбор такой команды оказался не случайным – по замыслу Р. Пири слава должна была принадлежать только одному белому американцу. 6 апреля путешественники, по словам Р. Пири, «находились у точки Земли, где сутки соответствуют году, а 100 суток – веку…». Там он «измерил высоту Солнца в меридиане» и определил свое местоположение. Оказалось, что экспедиция находится в 8—10 км «от полюса в сторону Берингова пролива». К полудню следующего дня было сделано всего «13 одинарных и 6,5 двойных астрономических наблюдений… на двух станциях…».
«Я допускал в своих наблюдениях погрешность приблизительно в 10 миль (около 18–20 км. – Гл.), – пишет Р. Пири. – Поэтому я стал пересекать лед в различных направлениях и во время переходов прошел мимо точки или очень близко от нее, где север, юг, восток и запад сливаются воедино. Убедившись, что мы действительно находимся на 90-й северной параллели, я водрузил на «краю света» пять американских флагов… (флаги США и четырех американских научных обществ и организаций, членом которых был Р. Пири. – Гл.)». В небольшое отверстие между ледяными глыбами тороса была вложена стеклянная бутылка с двумя записками, свидетельствующими о покорении «северо-полярной оси Земли». В одной из них значилось, что, водрузив звездно-полосатый флаг США на СП, Р. Пири «формально присоединил всю эту область к владениям Соединенных Штатов Америки…». После 30 часов пребывания на СП отряд двинулся в обратный путь. 23 апреля он достиг мыса Колумбия, а трое суток спустя – места стоянки экспедиционного судна.
В США о покорении СП участниками Северо-полярной экспедиции стало известно только 5–6 сентября, когда «Рузвельт» бросил якорь в Индиан-Харборе на Лабрадоре: «Полюс взят 6 апреля 1909 года…» – радостно телеграфировал Р. Пири в редакцию газеты «Нью-Йорк Таймс». Но ликование было недолгим, на стоянке он узнал об успешном штурме СП доктором Ф. Куком – на год раньше его! Это была потрясающая новость, поверить в которую было невозможно. Пресловутая «пальма первенства» у Р. Пири и в этот раз была отнята. «Я положил всю жизнь, чтобы совершить то, что казалось мне стоящим, ибо задача была ясной и многообещающей… И когда наконец я добился цели, какой-то… самозванец все испакостил и испортил…» – горько сетовал он. Можно легко представить, что выражение лица у Р. Пири в этот момент было скорее всего таким, каким оно запечатлено на известной фотографии: усталый, безразличный человек в меховом костюме, у которого обвисли усы и потухли глаза…
Придя в себя, Р. Пири стал действовать более чем решительно. В американскую прессу полетели срочные телеграммы за его подписью: «Вбил звезды и полосы в Северный полюс. Не принимайте версию Кука всерьез. Сопровождавшие его эскимосы говорили, что он не ушел далеко на север от материка. Их соплеменники подтверждают это…»; «Примите к сведению, что Кук просто надул публику. Он не был на полюсе ни 21 апреля, ни в какое другое время. Данное заявление сделано мною намеренно, а в должный срок будет подкреплено соответствующими доказательствами…».
Обиженный полярник, не желая примириться с поражением и обвинив более счастливого конкурента в мошенничестве, надеялся на поддержку именитых членов «Арктического клуба…», для которых его успех был и их успехом, сулившим вполне реальные дивиденды. И Р. Пири не ошибся, поскольку был частью системы «эстеблишмент». «Он понимал, что выгоднее иметь сильных мира сего на своей стороне, при этом хорошо зная, что нужно для успеха, – писал Ф. Моуэтт, канадский писатель в книге «Завоевание Северного полюса» (1967). – Поэтому Пири с самого начала своей карьеры старался связать свою судьбу с такими влиятельными и богатыми личностями, как Моррис Джесап, Томас Хаббард, семейство Колгейт, и такими мощными коммерческими организациями, как Национальное географическое общество… Пири всегда заботился о том, чтобы благодетели были заинтересованы поддержать его, раздуть его славу, защитить его репутацию…» К тому же, уверовав, что «является монополистом в Арктике», в борьбе с конкурентом он правил не придерживался.
Что касается Ф. Кука, то он, по оценке того же Ф. Моуэтта, по своей натуре был романтиком. Поэтому к покорению СП подошел «как будто бы небрежно, затратив минимум средств, в то время как Пири продемонстрировал всему миру, что только самая решительная мобилизация всех американских ресурсов может сделать свое дело. Поэтому достижение Кука оскорбило не только Пири и его сторонников, но и все Соединенные Штаты Америки…». Впрочем, все это на первых порах не мешало Ф. Куку энергично защищать свой приоритет. Он не отрицал, что Р. Пири побывал на СП, но утверждал – только после него!
С того времени между обоими полярниками, поддерживаемые своими сторонниками, началась ожесточенная полемика, напоминающая военные действия. Эту схватку – в течение нескольких лет не без выгоды для себя – усиленно раздувала пресса. В конце концов Р. Пири был официально признан победителем, осыпан наградами и титулами, получил чек на 40 000 долларов, обещанный за покорение СП и подписанный еще покойным М. Джесапом, а Ф. Кук в глазах общественного мнения был выставлен лжецом и обманщиком.[9]
Со временем о Ф. Куке стали говорить и писать реже, поскольку с ним «все бы было ясно», к тому же он, по оценке газетчиков, как-то сник и перестал активно защищаться. Вокруг персоны Р. Пири – «рекордсмена до мозга костей» – в силу его несносного характера сначала стал образовываться некий вакуум, а потом и его достижения были поставлены под сомнение. «Одним из доводов, нередко приводившимся против Пири, является изумительная быстрота, с которой он совершил обратный переход с полюса до суши… – писал член-корреспондент Академии наук СССР В. Ю. Визе в предисловии к книге Р. Пири «Северный полюс», изданной в 1948 г. – Расстояние в 485 миль (около 900 км. – Гл.) Пири прошел в 16 дней, что дает средний суточный переход по морскому льду в 56 км – скорость, далеко оставляющую позади все аналогичные переходы, совершенные [на собачьих нартах] до и после Пири[10]… Сомнения возбуждает и точность [его] астрономических наблюдений на полюсе (Р. Пири определял только широту места, а за долготу принимал меридиан мыса Колумбия на Земле Гранта, откуда он вышел на север. – Гл.)». Во всяком случае, в решении специальной комиссии Национального географического общества было записано, что Р. Пири «был вблизи полюса, но на каком расстоянии – установить невозможно». Позже специалисты не раз тщательно проверяли его астрономические определения, в наше время использовали новейшие технологии анализа теней на фотоснимках, сделанных на СП, и др. По их расчетам, Р. Пири со своими помощниками достиг отметки, величина которой колеблется от 88°30 до 89°55 с. ш. (т. е. не дошел до СП соответственно 167 и 9 км).
Очевидно в силу указанных обстоятельств «в грамоте, переданной в 1911 г. американским конгрессом Пири по случаю производства его в адмиралы и назначения ему ежегодной пенсии в 6000 долларов, слова «за открытие полюса», значившиеся в первоначальной редакции… были вычеркнуты…».
Но как бы ни решался вопрос, на каком расстоянии от СП Р. Пири водрузил флаг США, «его 23-летняя полярная работа… увенчалась замечательным успехом. Этот успех явился вполне заслуженной наградой за проявленную [им] совершенно изумительную настойчивость и железную энергию…».
Что касается научных результатов Северо-полярной экспедиции 1908–1909 гг., то они (в отличие от новой информации, привезенной Ф. Куком и проанализированной в основном после его кончины) были весьма скромными. Ведь главной целью похода было «вступить» на СП. «Все эти разговоры о научных данных, которые хорошо было бы получить, и о том, что сам по себе полюс ничего не значит, – чушь… – считал Р. Пири. – Никакая так называемая научная информация не может сравниться с достижением полюса…».
В то же время полярную экспедицию Р. Пири к разряду сугубо спортивных едва ли можно отнести – в составе его вспомогательных отрядов были профессор Р. Марвин (к сожалению, утонул в Большой полынье 10 апреля 1909 г.), доцент Д. Мак-Милан и их помощник Дж. Боруп. Как свидетельствовал в своей книге «Путь к полюсу» (1933) Р. Л. Самойлович, бывший директор Всесоюзного Арктического института, «научная работа экспедиций [Р. Пири] состояла, главным образом, в наблюдениях надо льдом, взятии глубин в непосредственной близости к полюсу, в метеорологических наблюдениях и, наконец, в наблюдениях над приливами у северных берегов Гренландии (по заданию Береговой и геодезической службы США. – Гл.). Спутниками Пири эти наблюдения проводились круглые сутки на мысе Шеридан, Кейп Олдрич (вблизи мыса Колумбия), мысе Брайан, мысе Моррис-Джесап и в Форт-Конгер. Собранные материалы были впоследствии обработаны Р. А. Гаррисом и дали ему повод высказать предположение о существовании каких-то препятствий для приливно-отливных течений (земли, островов, значительных возвышений дна), которые занимают почти миллион и три четверти кв. км, причем один угол этого препятствия лежит на севере у островов Беннетта, второй – на севере у мыса Барроу, третий – поблизости Земли Бэнкса и четвертый – у Земли Крокера (в настоящее время уже с достаточной достоверностью известно, что в последнем месте земли не существует)…».
После возвращения из своей последней экспедиции адмирал Р. Пири больше не путешествовал по Арктике. Он жил в достатке и почете, иногда пикировался с Ф. Куком и его сторонниками, писал книги. В их числе были «Северный полюс» (1910) и «Секреты полярных путешествий» (1917). Во время Первой мировой войны 1914–1918 гг. он был председателем Авиационной патрульной комиссии. Скончался Р. Пири 20 февраля 1920 г. в Вашингтоне после продолжительной болезни в возрасте 63 лет.
Его имя носят полуостров в Гренландии и пролив в Канадском Арктическом архипелаге.
Глушков Валерий Васильевич, доктор географических наук, профессор, почетный геодезист, действительный член Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, член-корреспондент Международной академии астронавтики (Стокгольм) и Академии геополитических проблем (Россия)
Достижение Северного полюса вполне можно уподобить шахматной партии, в которой все ходы, ведущие к благоприятному исходу, продуманы заранее, задолго до начала игры. Для меня это была старая игра – я вел ее с переменным успехом на протяжении двадцати трех лет.[11] Правда, я постоянно терпел неудачу, но с каждым новым поражением приходило новое понимание игры, ее хитростей, трудностей и тонкостей, и с каждой новой попыткой успех придвигался чуточку ближе; то, что казалось прежде невозможным или в лучшем случае крайне сомнительным, начинало представляться возможным, а затем и весьма вероятным. Я всесторонне анализировал причины каждого поражения и в конце концов пришел к убеждению, что они могут быть устранены и, если фортуна не совсем повернется ко мне спиной, игра, которую я проигрывал на протяжении почти четверти века, может окончиться успехом.

Надо сказать, многие сведущие и умные люди не соглашались с таким выводом. Но многие другие разделяли мои взгляды, у них я находил безграничное сочувствие и поддержку, и теперь, в конце пути, мне доставляет чистую, величайшую радость сознание, что их доверие, подвергнувшись столь многим испытаниям, не было обмануто, а их вера в меня и ту миссию, которой я отдал лучшие годы своей жизни, щедро оправдалась.
Однако хоть и верно, что в отношении плана и методов открытие Северного полюса можно уподобить шахматной игре, тут все же существует и различие. В шахматах мозг противопоставлен мозгу, в поисках же полюса борьба идет между человеческим мозгом и волей, с одной стороны, и слепыми, грубыми силами первобытной стихии, с другой, – стихии, зачастую действующей по законам и побуждениям, нам почти неизвестным или малопонятным, а потому во многих случаях кажущимся переменчивыми, капризными, не поддающимися сколько-нибудь достоверному предсказанию. Поэтому, имея возможность планировать до отплытия из Нью-Йорка основные шаги натиска на замерзший Север, я, однако, не мог предугадать все ответные ходы противника. Существуй такая возможность, моя экспедиция 1905–1906 годов, установившая «самый северный» рекорд 87°6 северной широты, достигла бы полюса. Но все, кому известны рекорды этой экспедиции, знают, что полному успеху воспрепятствовал один из таких непредвиденных шагов нашего великого противника, а именно период необычайно сильных и продолжительных ветров, взломавших пак и отрезавших меня от вспомогательных отрядов, так что, можно сказать, уже ввиду цели,[12] но не имея достаточно продовольствия, я был вынужден повернуть назад под угрозой голодной смерти. Когда до победы, казалось, было рукой подать, меня поставил в безвыходное положение ход, который никак нельзя было предугадать и на который мне нечем было ответить. Как известно, я и мои спутники не только очутились под шахом, но и чуть не поплатились жизнью.
Однако все это теперь достояние прошлого. На этот раз я смогу рассказать иную, более вдохновенную повесть, хотя и отчеты о доблестных поражениях тоже бывают не лишены вдохновения. Следовало бы только отметить вначале, что мои многолетние усилия увенчались успехом потому, что многократные поражения порождают силу, прежние ошибки – знание, неопытность – опыт, а все вместе – решимость.

Роберт Эдвин Пири (1856–1920)
Быть может, если учесть ту поразительную точность, с какой конечное событие оправдало мои предсказания, небезынтересно сравнить некоторые подробности плана похода, опубликованного за два с лишним месяца до отплытия «Рузвельта» из Нью-Йорка в его последнее путешествие на Север, с фактическим осуществлением этого плана.
В начале мая 1908 года в одном из своих выступлений в печати я набросал следующий план похода.
«Я отправлюсь из Нью-Йорка на своем прежнем судне, «Рузвельте», в начале июля; проследую на Север тем же маршрутом через Сидни (мыс Бретон), пролив Белл-Айл, Девисов пролив, Баффинов залив [море Баффина] и пролив Смит; возьму на вооружение те же методы, снаряжение и припасы; укомплектую состав экспедиции минимальным количеством белых и дополню его эскимосами; как и прежде, наберу эскимосов с собаками в Китовом проливе и всемерно попытаюсь провести судно к тому же или аналогичному месту зимовки на северном побережье Земли Гранта, что и зимой 1905–1906 годов.
Санный поход начнется, как и прежде, в феврале, однако маршрут будет изменен следующим образом.
Во-первых, я пройду вдоль северного побережья Земли Гранта до мыса Колумбия, а по возможности и дальше на запад, вместо того чтобы покинуть сушу у мыса Мосс, как я делал прежде.
Во-вторых, покинув сушу, я уклонюсь дальше на северо-запад, чем прежде, чтобы нейтрализовать или частично учесть подвижку льда в восточном направлении между северным побережьем Земли Гранта и полюсом, обнаруженную мною во время моей последней экспедиции. Другая существенная черта нового плана состоит в том, что на пути к полюсу я буду держать санные отряды как можно ближе друг к другу, чтобы ни один отряд не оказался отрезанным от остальных подвижками льда, без достаточного запаса продовольствия для длительного марша, как это случилось в мою последнюю экспедицию.
Я нисколько не сомневаюсь, что Великая полынья[13] (полоса открытой воды), с которой я столкнулся в мою последнюю экспедицию как на пути к полюсу, так и при возвращении на сушу – характерная черта этой части Ледовитого океана. Я почти не сомневаюсь, что мне удастся сделать именно полынью, а не северное побережье Земли Гранта отправной точкой похода с полностью нагруженными санями.
В таком случае путь к полюсу будет сокращен примерно на 100 миль, что существенно упростит задачу.
В следующей экспедиции, на обратном пути с полюса, я, вероятно, намеренно сделаю то, что сделал ненамеренно в прошлый раз, а именно: направлюсь к северному побережью Гренландии (по диагонали в сторону движения льда), вместо того чтобы стремиться достичь северного побережья Земли Гранта (по диагонали против движения льда). Новым моментом этого замысла явится то, что первый из вспомогательных отрядов, возвращающихся на судно, должен будет устроить склад на крайней северной оконечности Гренландии».
Основные моменты похода я изложил следующим образом.
«Во-первых, использование пролива Смит, или так называемого «американского» маршрута, который на сегодняшний день должен быть признан лучшим для решительного натиска на Северный полюс. Преимущества этого маршрута: наличие материковой базы, находящейся на 100 миль ближе к полюсу, чем любые другие точки на всей периферии Ледовитого океана, длинная полоса побережья, удобного для возвращения, и, наконец, безопасная и хорошо мне знакомая линия отступления, не требующего помощи извне, в случае аварии судна.
Во-вторых, устройство зимней базы, которая господствовала бы над более обширным пространством Центрального арктического бассейна и прилегающими к нему участками суши, нежели любая другая база в Арктике. Мыс Шеридан практически равно удален от Земли Крокера,[14] от неисследованной части северо-восточного побережья Гренландии и от крайней северной точки, достигнутой мной в 1906 году.
В-третьих, использование саней и эскимосских собак. Человек и эскимосская собака являются единственными механизмами, способными удовлетворить широким требованиям и трудностям путешествия в Арктике. Воздушные корабли, автомобили, дрессированные белые медведи и тому подобное – средства на сегодняшний день преждевременные, годные разве только для привлечения внимания публики.
В-четвертых, участие жителей Крайнего Севера (эскимосов Китового пролива) в качестве рядовых членов санных отрядов. Нет нужды распространяться о том, что люди, из поколения в поколение живущие и работающие в данном районе, представляют собой наилучший материал для комплектования состава серьезной арктической экспедиции.
Такова моя программа. Цель моей работы – решить или хотя бы наметить в общих чертах ряд крупных нерешенных проблем американского сектора Арктики и завоевать для Соединенных Штатов великий мировой трофей, являвшийся предметом устремлений и соревнования между практически всеми цивилизованными народами на протяжении последних трех столетий».
План этот изложен так подробно потому, что точность, с какой он был осуществлен, является, быть может, единственным в своем роде рекордом в анналах арктических исследований. Сравните его, если угодно, с тем, как он был претворен в жизнь. Как и было запланировано, экспедиция отплыла из Нью-Йорка в начале июля 1908 года, точнее говоря, 6 июля. 17 июля она покинула Сидни, 18 августа – Эта и прибыла на мыс Шеридан, место зимовки «Рузвельта», 5 сентября, примерно в то же время – разница составляла четверть часа, – что три года назад. Зима прошла в охоте, небольших разведочных вылазках, налаживании санного снаряжения и переброске припасов с «Рузвельта» вдоль северного побережья Земли Гранта на мыс Колумбия – исходную точку собственно похода к полюсу.
Санные подразделения покинули «Рузвельт» между 15 и 22 февраля 1909 года, встретились на мысе Колумбия, и 1 марта экспедиция покинула мыс, взяв курс на полюс через Ледовитый океан. 18 марта была пересечена 84-я параллель, 23 марта – 86-я, на следующий день был побит итальянский рекорд,[15] 2 апреля была пересечена 88-я параллель, 4 апреля – 89-я, и в 10 часов утра 6 апреля был достигнут Северный полюс. Я провел 30 часов на полюсе с Мэттом Хенсоном и Ута – преданным эскимосом, дошедшим со мной в 1906 году до 87°6 северной широты, в то время нашего крайнего северного предела, и тремя другими эскимосами, также участниками моих прежних экспедиций. 7 апреля мы покинули заманчивую «девяностую северную» и 23 апреля вернулись на мыс Колумбия.
Следует отметить, что, если поход к полюсу с мыса Колумбия занял 37 дней (хотя маршей мы проделали только 27), с полюса до мыса Колумбия мы добрались всего лишь за 16 дней. Необычайная быстрота обратного продвижения объясняется тем, что мы шли по уже проложенному следу а не прокладывали новый, и еще тем, что нам посчастливилось идти без задержек. Отличное состояние льда и хорошая погода также были нам на руку, не говоря уже о том, что окрыленность успехом придавала силы нашим натруженным ногам. Однако эскимос Ута смотрел на это иначе. Он сказал: «Черт или спит, или ссорится с женой, не то мы бы не вернулись так легко обратно».
В этой связи следует отметить одно-единственное существенное уклонение от плана: мы вышли на сушу у мыса Колумбия на побережье Земли Гранта, а не восточнее, у северного побережья Гренландии, как это было в 1906 году. На то были свои причины, которые я изложу в соответствующем месте.
Лишь одна тень легла на экспедицию – трагическая тень. Я имею в виду гибель профессора Росса Марвина, начальника одного из вспомогательных отрядов; он утонул 10 апреля,[16] четыре дня спустя после достижения полюса, в 45 милях к северу от мыса Колумбия, возвращаясь с 86°38 северной широты. За этим печальным исключением история экспедиции ничем не омрачена. Мы вернулись, как и отплывали, на собственном судне, измученные, но невредимые, в добром здравии и с полной победой.
Из всего этого можно извлечь урок – урок настолько очевидный, что, быть может, излишне останавливать на нем внимание. План экспедиции, столь тщательно разработанный и осуществленный во всех деталях, состоял из ряда элементов, и отсутствие хотя бы одного из них могло оказаться роковым для успеха. Мы едва ли добились бы успеха без помощи наших верных эскимосов и, более того, без знания их работоспособности и выносливости, без их доверия ко мне, которому их научило наше многолетнее знакомство. Мы вне всякого сомнения не добились бы успеха без эскимосских собак, которые составляли тягловую силу наших саней и дали нам возможность быстро и надежно перебрасывать припасы там, где нам не могла служить никакая другая сила на свете. Возможно, мы не добились бы успеха без саней усовершенствованного типа, которые мне удалось сконструировать; они совмещали в себе прочность и легкость, их легко было тащить, чем сильно облегчался тяжелый труд собак. Возможно даже, мы потерпели бы поражение, если бы не такая простая вещь, как усовершенствованный кипятильник для воды, который мне посчастливилось изобрести. С его помощью мы получили возможность растапливать лед и готовить чай за десять минут. В наши прежние экспедиции на это требовался целый час. Чай совершенно необходим в стремительных санных переходах, и это маленькое изобретение позволяло нам ежедневно экономить полтора часа в том броске к полюсу, когда каждая минута сбереженного времени была залогом успеха.
Да, наш труд увенчался успехом, но независимо от того мне доставляет истинное наслаждение сознавать, что, даже если бы мы потерпели поражение, я бы не мог упрекнуть себя в каком-либо недосмотре. Были предусмотрены все возможные случайности, ожидать которых научил меня многолетний опыт, каждое слабое место защищено, приняты все меры предосторожности. На протяжении четверти века я вел игру с Арктикой. Мне было 53 года – возраст, в котором, быть может, за единственным исключением Джона Франклина, никто не пытался продолжать работу в условиях Арктики. Я уже прошел период полного расцвета сил, мне, возможно, несколько недоставало подвижности и жара юности, я был в том возрасте, когда большинство людей предоставляют все, требующее напряжения сил, молодому поколению. Но эти минусы, быть может, полностью компенсировались тренированностью, закалкой и выносливостью, знанием себя и того, как рассчитать свои силы. Я знал, что это моя последняя игра на великой шахматной доске Арктики. На этот раз предстояло либо победить, либо быть окончательно побежденным.
Велика и необычайна притягательная сила Севера! Не раз я, возвращаясь из его бескрайней замерзшей пустыни потрепанный, измученный и разочарованный, иногда покалеченный, говорил себе, что это – мое последнее путешествие туда; я жаждал людского общества, комфорта цивилизации, безмятежности и покоя домашнего очага. Но случалось так, что не проходило и года, как мною вновь овладевало хорошо знакомое мне ощущение беспокойства. Я начинал тосковать по великой белой пустыне, по схваткам со льдами и штормами, по долгой-долгой полярной ночи и долгому полярному дню, по необычным, но верным мне эскимосам, которые много лет были моими друзьями, по молчанию и необъятным просторам великого, белоснежного, одинокого Севера. И я опять раз за разом устремлялся туда, пока наконец не сбылась моя многолетняя мечта.
Меня часто спрашивали, когда у меня впервые зародилась мысль достичь Северного полюса. На этот вопрос трудно ответить. Я не могу назвать такой-то день или месяц и сказать: «Вот тогда эта мысль впервые пришла мне в голову». Мечта о достижении Северного полюса выкристаллизовывалась исподволь и постепенно в ходе моей более ранней работы, которая не имеет к ней отношения. Я начал интересоваться Арктикой с 1885 года – тогда я был молодым человеком, и мое воображение поразили отчеты Норденшельда об исследованиях во внутренних районах Гренландии. Я так увлекся этими работами, что летом следующего года совершенно один предпринял путешествие по Гренландии. Быть может, где-то в тайниках сознания у меня уже тогда родилась надежда, что когда-нибудь я смогу достичь самого полюса.
Несомненно, именно тогда я поддался соблазну Севера или так называемой «арктической лихорадке», и мною овладело какое-то чувство фатальности, ощущение того, что смысл и цель моего существования – разгадать тайну замерзших твердынь Арктики.
Однако впервые назвать полюс целью экспедиции мне пришлось только в 1898 году, когда первая экспедиция Арктического клуба Пири[17] отправилась на север с намерением достичь 90-й параллели, если это окажется возможным. С тех пор я на протяжении шести лет предпринял шесть попыток достичь желанного пункта. Санный сезон, когда такой бросок возможен, начинается примерно в середине февраля и кончается в середине июня. До середины февраля на севере недостаточно света, а начиная с середины июня велика вероятность того, что на пути к полюсу будет слишком много открытой воды.
За эти шесть попыток я дошел до 83°52 , 84°17 , 87°6 северной широты, последним достижением отвоевав для Соединенных Штатов самый северный рекорд, некоторое время принадлежавший Нансену, а после него – герцогу Абруццкому.
Описывая историю этой последней, увенчавшейся успехом экспедиции, следует вспомнить мое возвращение из предшествующей экспедиции 1905–1906 годов. Еще до прибытия в Нью-Йорк, до того как «Рузвельт» вошел в порт, я уже думал о новом путешествии на Север, которое намеревался предпринять как можно скорее, если только соберу нужные средства и останусь здоровым. По физическому закону всякое тело стремится двигаться по линии наименьшего сопротивления, но к человеческой воле этот закон, по-видимому, не относится. Каждое новое препятствие, возникавшее на моем пути, будь оно физического или морального свойства, будь то открытая полынья или превратности судьбы, в конечном счете только подстегивало мою решимость добиться поставленной цели, если только я проживу достаточно долго.
По возвращении в 1906 году я получил огромную поддержку со стороны мистера Джесепа, председателя Арктического клуба Пири, который так щедро помогал мне при организации моих предшествующих экспедиций и в чью честь я назвал самую северную оконечность суши – 83°39 северной широты – мысом Моррис-Джесеп. Его помощь означала, что мне не придется клянчить необходимые средства по мелочам у людей, дававших их кто охотно, кто неохотно.
Зимой 1906–1907 годов и весной 1907 года я отчитывался перед публикой о результатах моей последней экспедиции и прилагал усилия к тому, чтобы, насколько возможно, заинтересовать друзей в снаряжении новой. Мы располагали судном, за которое заплатили 100 000 долларов в 1905 году, но нам нужно было еще 75 000 для установки на судне новых котлов и других переделок, для закупки снаряжения и текущих расходов. Хотя главные средства были получены от членов и друзей Арктического клуба, весьма значительные суммы поступили также со всех концов страны взносами от ста до пяти и даже до одного доллара. Мы ценили эти мелкие пожертвования не менее крупных, потому что они свидетельствовали о дружеской заинтересованности даятелей и служили доказательством того, что экспедиция является по существу общенациональным делом, хотя и финансируется частными лицами.
В конце концов все средства, наличные и обещанные, составили такую сумму, что мы смогли заказать новые котлы для «Рузвельта» и внести некоторые усовершенствования в его конструкцию, чтобы лучше приспособить его для нового плавания, а именно: расширить жилые помещения для команды в носовой части, установить рейковый парус на фок-мачте, несколько видоизменить внутреннее устройство. Что касается основных характеристик судна, то оно вполне доказало свою способность служить цели, для которой предназначено, так что серьезных переделок не потребовалось.
Опыт научил меня считаться с задержками, могущими случиться на далеком Севере, однако возмутительные задержки по вине корабельных подрядчиков на родине до сих пор не входили в мои расчеты. Договоры на производство работ на «Рузвельте» были заключены зимой со сроком исполнения 1 июля 1907 года. Вдобавок к подписанным обязательствам меня неоднократно заверяли устно, что работа будет закончена в срок; однако на деле новые котлы были изготовлены и установлены лишь к сентябрю, что исключило всякую возможность нашей отправки на Север летом 1907 года.
Невыполнение подрядчиками своих обязательств, приведшее к отсрочке экспедиции на год, явилось для меня тяжелым ударом. Оно означало, что мне придется взяться за решение задачи на год постаревшим; оно откладывало начало экспедиции на будущее, и неизвестно было, что еще может случиться в течение года; оно означало горечь рухнувших надежд.

Район зимовочной базы экспедиции Р. Пири 1891–1892 гг.
В день, когда я со всей ясностью осознал, что никак не смогу отплыть на Север в этом же году, я испытал примерно то же ощущение, что и в тот момент, когда был вынужден повернуть назад с 87°6 северной широты, добившись лишь такого пустяка, как крайний северный рекорд вместо великого приза, ради которого я чуть не поплатился жизнью. К счастью, я еще не знал, что судьба уже тогда заносила руку для нового, еще более сокрушительного удара.[18]
Пока я набирался терпения ввиду неоправданной отсрочки, меня постигло бедствие, тяжелее которого не случалось за все годы моей работы в Арктике, – скончался мой друг Моррис Джесеп. Без обещанной им поддержки новая экспедиция казалась неосуществимой. Не греша против истины, могу сказать, что ему, более чем кому-либо, я был обязан как основанием и существованием Арктического клуба Пири, так и успехом всей моей предшествующей работы. В его лице я потерял не только могучую финансовую опору, но и близкого друга, которому я абсолютно доверял. На первых порах я решил, что теперь всему конец, что все усилия и деньги, затраченные на подготовку экспедиции, пошли прахом. Смерть Джесепа вкупе с задержкой по вине корабельных подрядчиков, казалось, означала полное крушение всех моих планов.
К тому же нашлось немало «благожелателей», уверявших меня, что годичная отсрочка экспедиции и смерть Джесепа – верные приметы того, что мне никогда не достичь полюса. Однако, несколько оправившись от удара и спокойнее взглянув на создавшееся положение, я понял, что идея слишком велика для того, чтобы умереть, что ей не суждено исчезнуть бесследно. Сознание этого не раз помогало мне преодолеть мертвые точки усталости и полнейшего неведения, где взять недостающие деньги для снаряжения экспедиции. Конец зимы и начало весны 1908 года были отмечены многими черными днями для всех тех, кто был заинтересован в успехе экспедиции.
Ремонт и переделки на «Рузвельте» опустошили кассу клуба. А нам еще требовались деньги для закупки припасов и снаряжения, для уплаты жалования команде и на текущие расходы. Джесепа не было с нами; страна еще не оправилась от финансового краха, постигшего ее прошлой осенью; все обеднели.
И тут из отлива родился прилив. Миссис Джесеп, еще носившая траур по мужу, прислала чек на крупную сумму. Это дало нам возможность заказать основные предметы снаряжения и припасы, на изготовление которых требовалось время. Генерал Томас Хаббард, избранный председателем клуба, добавил второй значительный чек к своему и без того щедрому пожертвованию. Генри Пэриш, Антон Рейвен, Герберт Бриджман, «старая гвардия», стоявшая плечом к плечу с Джесепом со дня основания клуба, сплоченно выступили на его защиту; к ним присоединились другие, и кризис миновал. Но все же деньги притекали скудно. О них были все мои мысли наяву, и даже во сне они не давали мне покоя, преследуя меня дразнящими и ускользающими видениями. Это была тягостная, беспросветная, полная отчаяния пора, когда надежды всей моей жизни день ото дня то убывали, то прибывали вновь.
Затем неожиданный проблеск в тучах – очень дружеское письмо от мистера Зенаса Крейна, крупного бумажного фабриканта Массачусетса, который уже оказывал материальную помощь при снаряжении одной из моих прошлых экспедиций, но с которым я не был лично знаком. Крейн писал, что он глубоко заинтересован, что всякий, кого волнует все великое и вопросы престижа родной страны, должен оказать поддержку проекту, и просил меня встретиться с ним, если я сочту это возможным. Я встретился с ним. Он выписал чек на 10 000 долларов и обещал дальнейшую поддержку, если понадобится. Обещание свое он выполнил, а немного погодя его избрали вице-председателем клуба. Нужно обладать поэтическим даром Шекспира, чтобы описать, что означали для меня в ту пору эти 10 000.
С этого момента средства притекали медленно, но верно, и в конце концов составилась сумма, позволившая нам при соблюдении строжайшей экономии и знании того, что нужно, а что не нужно, закупить необходимые припасы и снаряжение.
В течение всего периода выжидания к нам со всех концов страны сплошным потоком шли письма «с завихрениями». Нашлось невероятное множество людей, буквально «сочившихся» изобретениями и проектами, которые должны были, безусловно, обеспечить открытие полюса. Ввиду тогдашнего направления изобретательской мысли летательные аппараты, разумеется, занимали первое место. Затем шли автомобили, гарантировавшие передвижение по любому виду льда. Один человек предлагал использовать подводную лодку, хотя не объяснял при этом, каким образом мы поднимемся на поверхность, пропутешествовав к полюсу подо льдом. Другой чудак хотел продать нам портативную лесопилку. Ее предполагалось установить на берегу Центрального полярного бассейна и пилить на ней лес, а из леса построить деревянный проход по льду до самого полюса. Еще один чудак предлагал устроить централизованную кухню для варки супа, там же, на берегу океана, и протянуть от нее по льду шланги, с тем чтобы санные отряды, находящиеся в пути к полюсу, могли согреваться и подкрепляться горячим супом с централизованной кухни.
Однако жемчужиной всей этой коллекции было изобретение, согласно которому я должен был взять на себя роль «человека-ядра». Изобретатель не поделился со мной деталями своего проекта, очевидно из опасения, что я его обкраду, но сущность изобретения заключалась в следующем: если бы я сумел установить его аппарат в нужном месте и направить его точно куда следует, да если б я мог продержаться достаточно долго, этот аппарат без промашки выстрелил бы меня на полюс. Это, безусловно, был человек, одержимый одной идеей. Он так стремился выстрелить мною на полюс, что нимало не интересовался, что случится со мной при посадке или каким образом я вернусь обратно.
Многие наши друзья, не имевшие возможности помочь нам деньгами, присылали предметы снаряжения, служащие к удобству или развлечению участников экспедиции. Так, у нас оказался бильярд, различные игры и несметное количество книг. Как-то незадолго до отплытия «Рузвельта» один из членов экспедиции обмолвился корреспонденту какой-то газеты, что у нас мало чтива, и вскоре судно оказалось заваленным книгами, журналами и газетами, которые подвозились буквально вагонами. Они лежали навалом во всех каютах, во всех рундуках, на столах в столовой, на палубе – всюду. Как бы там ни было, щедрость даривших порадовала нас, а среди присланных книг оказалось много хорошей литературы.
К тому времени, когда пришла пора выходить в море, мы были снабжены абсолютно всем необходимым, включая по коробке конфет на каждого человека на борту. Это был рождественский подарок от моей жены.
Мне доставляет величайшее удовлетворение сознавать, что вся экспедиция, включая судно, была оснащена американским снаряжением. На этот раз мы не стали покупать ньюфаундлендское или норвежское зверобойное судно и переоборудовать его для наших целей, как бывало прежде.
«Рузвельт» был построен из американского леса на американской верфи, снабжен машиной, изготовленной американской фирмой из американского металла, сконструирован по американским чертежам. Даже самые обычные предметы снаряжения были американского производства. Примерно то же можно сказать и о составе экспедиции. Хотя Бартлетт – капитан судна и экипаж были ньюфаундлендцами, ньюфа-ундлендцы наши ближайшие соседи и, в сущности, наши двоюродные братья. Экспедиция отплыла на север на построенном американцами судне, американским маршрутом, под командой американца, с целью, если окажется возможным, завоевать трофей для Америки. «Рузвельт» был построен со знанием требований навигации в Арктике – знанием, добытым американцем в шести предыдущих походах в Арктику.
Мне исключительно повезло с подбором участников, ибо я имел возможность выбирать их из состава моей предыдущей экспедиции. Сезон, проведенный в Арктике, – серьезное испытание человеческого характера. Прожив с человеком полгода за полярным кругом, его можно узнать лучше, чем за век знакомства в городе. Есть что-то такое в замерзших просторах Севера – я затрудняюсь сказать, что именно, – что ставит человека лицом к лицу с собой и с его товарищами; если он человек, человек и выходит наружу, а если он дрянь, то и это обнаруживается не менее быстро.
Первым и самым ценным членом экспедиции был Бартлетт, капитан «Рузвельта», отлично зарекомендовавший себя в экспедиции 1905–1906 годов. Роберт Бартлетт, или «капитан Боб», как мы любовно называли его, – выходец из семьи отважных ньюфаундлендских мореходов, издавна связанных с работой на Севере. Ему было 33 года, когда мы в последний раз отплыли на Север. Голубоглазый, темноволосый, коренастый, со стальными мускулами, Бартлетт, стоял ли он у штурвала «Рузвельта», пробивая проход в ледяных полях, шел ли, тяжело ступая и спотыкаясь, по полярному паку с санями, улаживал ли неурядицы среди команды, Бартлетт всегда оставался самим собой – неутомимым, преданным, полным энтузиазма, верным, как компас.
Моим помощником был негр Мэттью Хенсон, в том или ином качестве сопровождавший меня в моих странствиях, начиная с моей второй поездки в Никарагуа в 1887 году. Он был со мной во всех моих экспедициях на Север, за исключением первой, 1886 года, и почти без исключений во всех моих самых северных походах. Такое место я отвел ему, во-первых, ввиду его высокой приспособляемости и работоспособности и, во-вторых, ввиду его преданности. Он делил со мной все физические трудности моей работы в Арктике. Ему сейчас около 40 лет. Человека, который бы умел так искусно управляться с санями, как он, и лучшего погонщика трудно сыскать; в этом отношении с ним могут соперничать лишь лучшие охотники-эскимосы.
Росс Марвин – мой секретарь и помощник, погибший в экспедиции, Джордж Уордуэл – старший механик, Перси – заведующий хозяйством и боцман Мэрфи – все они уже бывали со мной на Севере. Доктор Вульф, хирург экспедиции 1905–1906 годов, ввиду изменений в своем профессиональном положении не смог опять пойти со мной на Север, и его место занял доктор Гудсел из Нью-Кенсингтона, штат Пенсильвания.

Капитан «Рузвельта» Роберт Бартлетт
Доктор Гудсел – потомок старинного английского рода, представители которого прослеживаются в Америке на протяжении двух с половиной столетий. Его прадед служил солдатом в армии Вашингтона, а отец, Джордж Гудсел, много лет провел в приключениях на море и в Гражданскую войну сражался на стороне северян. Доктор Гудсел родился под Личбергом, штат Пенсильвания, в 1873 году, окончил медицинский колледж в Цинциннати, штат Огайо, и с тех пор работал в области медицины в Нью-Кенсингтоне, штат Пенсильвания, специализируясь по клинической микроскопии. Он член Гомеопатического медицинского общества Пенсильвании и Американского общества врачей. В момент отправки в экспедицию он был председателем Общества врачей Аллегейнской долины. Среди его печатных работ: «Прямое микроскопическое исследование применительно к профилактике и новым видам терапии» и «Туберкулез и его диагноз».
Поскольку перед этой экспедицией ставились более широкие задачи, чем перед всеми предшествовавшими, – в частности, предусматривались более интенсивные наблюдения за приливами и отливами по заданию Береговой и геодезической службы США, а также, если позволят условия, исследовательские санные поездки на восток, к мысу Моррис-Джесеп, и на запад, к мысу Томас-Хаббард, – я расширил свою, если так можно выразиться, полевую партию, введя в состав экспедиции Дональда Макмиллана из Вустерской академии и Джорджа Борупа.

Мэттью Хенсен
Макмиллан, сын морского капитана, родился в Провинстауне, штат Массачусетс, в 1874 году. Его отец пропал без вести, выйдя в море из Бостона около тридцати лет назад. Мать умерла в следующем году, оставив его с четырьмя младшими детьми. Пятнадцати лет Макмиллан вместе с сестрой переехал в Фрипорт, штат Мэн, окончил там среднюю школу и поступил в Боудонский колледж, который закончил в 1898 году. Подобно Борупу, Макмиллан показал себя в колледже прекрасным спортсменом, играл полузащитником за университетскую команду и выиграл приз на беговой дорожке. С 1898 по 1900 год он заведовал школой Леви Холл в Норт-Горэме, штат Мэн, затем был заведующим латинским отделением приготовительной школы в Свортморе, штат Пенсильвания. На этом посту он оставался до 1903 года, затем преподавал математику и физическую культуру в Вустерской академии, штат Массачусетс, где оставался вплоть до момента отправки с экспедицией на Север. Награжден грамотой «Общества гуманности» за спасение нескольких человеческих жизней – подвиг, о котором он рассказывает с крайней неохотой.
Джордж Боруп родился в Синг-Синге, штат Нью-Йорк, 9 сентября 1885 года. Он готовился к поступлению в Йейлский университет в Гротонской школе с 1889 по 1903 год и закончил университет в 1907 году. В университете он отличился как спортсмен, был членом университетских команд бегунов и гольфистов, снискал известность как борец. По окончании университета проработал год специальным подмастерьем в механических мастерских Пенсильванской железнодорожной компании в Алтуне.

Дональд Макмиллан
Капитану Бартлетту я предоставил выбор судового состава, за исключением старшего механика.
В составе экспедиции, окончательно укомплектованном в день отплытия «Рузвельта» из Сидни 17 июля 1908 года, было 22 человека, а именно: Роберт Пири, начальник экспедиции; Роберт Бартлетт, капитан судна; Джордж Уордуэл, старший механик; доктор Гудсел, хирург; профессор Росс Марвин, мой помощник; Дональд Макмиллан, мой помощник; Джордж Борун, мой помощник; Мэттью Хенсон, мой помощник; Томас Гашью, помощник капитана; Джон Мэрфи, боцман; Бэнкс Скотт, механик; Чарльз Перси, заведующий хозяйством; Уильям Причард, юнга; Джон Коннорс, Джон Коуди, Джон Барнз, Деннис Мэрфи, Джордж Перси – матросы; Джемс Бентли, Патрик Джойс, Патрик Скинз, Джон Уайзмен – кочегары.
Продовольствием мы запаслись в большом количестве, но разнообразием оно не отличалось. Благодаря своему многолетнему опыту я знал, что именно мне нужно и сколько. Продукты, абсолютно необходимые для серьезной арктической экспедиции, немногочисленны, но должны быть наилучшего качества. Излишества же вообще не имеют места при работе в Арктике.
Продовольствие для арктической экспедиции делится на два вида: предназначенное для питания участников санных походов и для питания на корабле во время пути туда и обратно и на зимней стоянке. Провиант, потребный для санных походов, специального характера и должен быть приготовлен и упакован таким образом, чтобы обеспечить максимум питательности при минимальном собственном весе, объеме и весе тары. Необходимых предметов питания – единственно необходимых для серьезного санного похода в Арктике, независимо от времени года, температуры и длительности путешествия, будь то один месяц или полгода – всего четыре: пеммикан, чай, сухари и сгущенное молоко. Пеммикан – концентрат, приготовленный из говядины, жира и сушеных фруктов. Из всех видов мясных продуктов пеммикан наиболее питательный и абсолютно необходим во время длительных санных походов в Арктике.
Питание на борту корабля и на зимней стоянке состоит из обычных покупных продуктов. Для моих экспедиций характерно то, что мы никогда не брали с собой мяса. В этом отношении я всегда полагался на подножные ресурсы. Целью зимней охоты экспедиции является именно само мясо, а не развлечение, как думают некоторые.
Вот перечень некоторых продуктов питания, взятых нами в последнюю экспедицию: мука—16 000 фунтов; кофе – 1000 фунтов; чай – 800 фунтов; сахар – 10 000 фунтов; керосин – 3500 галлонов; бекон – 7000 фунтов; сухари – 10 000 фунтов; сгущенное молоко – 100 ящиков; пеммикан – 30 000 фунтов; сушеная рыба – 3000 фунтов; курительный табак – 1000 фунтов.
В час дня 6 июля 1908 года «Рузвельт», покинув место у пирса в конце Восточной 24-й улицы Нью-Йорка, отправился в свое далекое северное плавание. Когда судно выбиралось задним ходом на реку, над островом Блэкуэлл раздались приветственные крики многотысячной толпы, собравшейся проводить нас, и гудки яхт, буксиров и паромов, желавших нам доброго пути. Интересно отметить, что в день, когда мы отплывали в самое холодное место на земле, в Нью-Йорке стояла жара, какой город не знал вот уже много лет. В тот день в Нью-Йорке было зарегистрировано 13 смертей от перегрева и 72 солнечных удара, тогда как мы отправлялись вкрая, где 60° ниже нуля отнюдь не редкость.[19]
На борту «Рузвельта» находилось около 100 гостей Арктического клуба Пири и несколько членов клуба, включая председателя генерала Томаса Хаббарда, вице-председателя Зенаса Крейна и секретаря и казначея Герберта Бриджмана.
По мере того как «Рузвельт» продвигался вверх по реке, шум становился все громче и громче – к гудкам речных судов присоединялись приветственные свистки фабрик и электростанций. На острове Блэкуэлл многие заключенные высыпали наружу, чтобы помахать нам на прощание рукой, и их приветствия нимало не теряли в наших глазах оттого, что их посылают люди, лишенные обществом свободы. В конце концов они желали нам добра. Надеюсь, сейчас все они на свободе и, что еще лучше, заслуживают ее. Возле Форт-Тот-тен мы прошли мимо «Мейфлауэр», военной яхты президента Теодора Рузвельта, и ее маленькая пушка прогремела нам прощальный салют, а команда замахала руками и прокричала «ура!». Наверное, еще ни один корабль не отправлялся на край света при таких волнующих проводах, как «Рузвельт».
Вблизи маяка Степпинг-Стоун моя жена, гости, члены клуба и я пересели на буксир «Наркета» и возвратились в Нью-Йорк. Судно последовало дальше, к бухте Ойстер на Лонг-Айленде, летней резиденции президента; там мы с женой должны были завтракать на следующий день с президентом Рузвельтом и его супругой.
Теодор Рузвельт – для меня человек необычайной силы, величайший из людей, каких порождала Америка. Он полон той кипучей энергии и энтузиазма, которые составляют основу реальной власти и успеха. Когда пришла пора крестить корабль, с чьей помощью мы рассчитывали проложить путь к самой недоступной точке земного шара, название «Рузвельт» казалось единственно подходящим и напрашивалось само собой. Оно являлось воплощением силы, настойчивости, выносливости и воли к преодолению препятствий – всех тех качеств, которые так возвеличили 26-го президента Соединенных Штатов.
За завтраком в Сагамор-Хилл президент Рузвельт повторил то, что он говорил мне уже не раз: он искренне и глубоко заинтересован в моей работе и верит в мой успех, если успех вообще возможен.
После завтрака президент с супругой и тремя сыновьями поднялись на борт «Рузвельта». Мы с женой сопровождали их. На палубе от имени Арктического клуба Пири их приветствовал Бриджман. Президент и члены его семьи находились на борту около часу. Президент осмотрел судно, обменялся рукопожатиями со всеми присутствующими членами экспедиции, включая команду, и даже познакомился с моими эскимосскими собаками – Северной Звездой и другими, которых я привез с одного из островов в заливе Каско, у побережья штата Мэн. Когда он сходил с судна, я сказал ему: «Господин президент, я отдам этому предприятию все– все мои физические, духовные и нравственные силы». Он ответил: «Я верю в вас, Пири, верю в ваш успех, – если только это в пределах человеческих возможностей».

На палубе парохода Пири разместил 246 эскимосских собак, которые выли на луну всю полярную ночь
«Рузвельт» зашел в Нью-Бедфорд за вельботами и ненадолго остановился у острова Игл – нашей летней резиденции на побережье штата Мэн; там мы взяли на борт массивный, окованный железом запасной руль – это была мера предосторожности в предстоящей схватке со льдами. В прошлую экспедицию, когда у нас не было лишнего руля, мы могли бы использовать два. В этот же раз случилось так, что у нас был в запасе руль, но нам не пришлось воспользоваться им.
Выход «Рузвельта» с острова Игл был рассчитан так, чтобы мы с женой могли прибыть поездом в Сидни (мыс Бретон) в один день с кораблем. Я питаю очень теплые чувства к этому живописному городку. Восемь раз я отправлялся отсюда на Север в свои арктические странствия. Мои первые воспоминания об этом городе относятся к 1886 году – я тогда прибыл в Сидни с капитаном Джекманом на китобойном судне «Игл», и мы стояли там дня два, загружаясь углем. Это было мое первое путешествие на Север, та самая летняя поездка в Гренландию, когда мною овладела «арктическая лихорадка», чтобы уж никогда больше не отпускать.
С той поры Сидни из небольшого селения с одной приличной гостиницей разросся в процветающий город, насчитывающий 17 000 жителей и много промышленных предприятий, среди которых один из крупнейших сталеплавильных заводов в Западном полушарии. Я избрал Сидни отправным пунктом потому, что там есть угольные копи. Это самое близкое к Арктике место, где судно может загрузиться углем.
В этот раз, отправляясь в свое последнее путешествие на Север, я покидал Сидни с иным, хотя и трудно определимым, чувством, чем прежде. Я был спокоен, ибо знал, что сделал все, чтобы обеспечить успех, что все необходимые припасы находятся на борту. Если в свои прошлые путешествия я, бывало, испытывал чувство тревоги, то теперь на протяжении всей экспедиции не поддавался никаким волнениям. Быть может, ощущение уверенности шло от сознания, что все возможные случайности предусмотрены, а быть может, и оттого, что препятствия и сокрушительные удары, доставшиеся на мою долю, притупили у меня чувство опасности.
Загрузившись углем в Сидни, мы пересекли залив, чтобы забрать в Норт-Сидни последние припасы. Пытаясь отвалить там от причала, мы обнаружили, что сидим на мели, и были вынуждены ждать больше часа начала прилива. При попытках снять судно с мели один из вельботов был зажат между шлюпбалками и стенкой пристани и получил повреждения; однако после восьми арктических кампаний такой пустяк уже не считается дурным предзнаменованием.
Мы покинули Норт-Сидни в половине четвертого 17 июля при ослепительно сверкавшем солнце. Когда мы проходили мимо поста наблюдения и связи, нам сигнализировали: «До свидания! Счастливого плавания!» Мы ответили: «Спасибо» – и салютовали флагом.

Семья Роберта Пири
Маленький буксир, зафрахтованный нами, чтобы доставить в Сидни наших гостей, следовал за «Рузвельтом» до маяка Лоу-Пойнт, затем подошел к судну, и моя жена, дети, полковник Боруп и несколько друзей пересели на него. Целуя меня на прощание, мой пятилетний сын Роберт сказал: «Папочка, возвращайся скорее!» С грустью смотрел я на буксир, таявший в голубом просторе. Еще одна разлука – а их было так много! Благородная, мужественная маленькая женщина! Ты делила со мной всю тяжесть моей работы в Арктике. Однако на этот раз расставание было не таким печальным, как прежде. Мы понимали, что это наша последняя разлука.
Когда засветились звезды, последние грузы, взятые в Норт-Сидни, были прибраны, и на палубах воцарился необычайный порядок для судна, только что отплывшего в арктический рейс, за исключением шканцев, заваленных мешками с углем.
Зато в каютах господствовал хаос. Моя каюта была до того завалена вещами – приборами, книгами, мебелью, подарками друзей, снаряжением и прочим, что для меня самого не осталось места. Впоследствии, по возвращении, кто-то спросил меня, заводил ли я пианолу в первый день плавания. Я не заводил ее по той простой причине, что не мог до нее добраться. Волнующие ощущения первых часов в море были связаны главным образом с раскопкой пространства 6 х 2 фута в том месте, где находилась койка, чтобы можно было вовремя лечь спать.
Я очень люблю свою каюту на «Рузвельте». Ее просторность и ванная комната по соседству – единственная роскошь, которую я себе позволил. Каюта проста, обшита сосновыми досками, выкрашенными в белый цвет. Ее удобства – плод многолетнего опыта работы в Арктике. В ней имеются вделанная в стену койка, письменный стол, несколько книжных полок, стул и кресло, а также комод – его мне подарила жена. Над пианолой висит фотография Морриса Джесепа, на боковой стенке – фотография президента Рузвельта с его автографом. Затем флаги: шелковый флаг, сшитый моей женой, с которым я не расстаюсь вот уже сколько лет; флаг общества Дельта-Каппа-Эпсилон, флаг Военно-морской лиги и флаг организации «Дочери американской революции». Есть в каюте и фотография нашего дома на острове Игл, а также душистая подушка, сделанная моей дочерью Мэри из иголок растущих на острове сосен.
Пианола – подарок моего друга Г. Бенедикта – сопровождала меня в прошлую экспедицию и на этот раз была для нас одним из основных источников развлечения. У меня было не менее 200 пластинок, и чаще всего над просторами Ледовитого океана разносились мелодии «Фауста». Марши и песни также пользовались большим успехом, особенно вальс «Голубой Дунай», а иной раз, когда настроение людей падало, мы ставили синкопированные танцевальные ритмы, которые все особенно любили.
Была у меня в каюте и довольно полная библиотека арктической литературы – исключительно полная по сравнению со всеми прошлыми экспедициями. Мы надеялись, что книги эти вместе с богатым подбором романов и журналов помогут нам скоротать долгую полярную ночь, и они не обманули наших надежд. Обычай засиживаться допоздна за книгой приобретает новый смысл, когда ночь длится несколько месяцев.

Пири на верхней палубе «Рузвельта»
На следующий день наш плотник принялся за ремонт поврежденного вельбота, используя лес, который мы специально захватили с собой для таких целей. Море было неспокойно, шкафут почти весь день захлестывало волнами. Мои товарищи постепенно обживали свои каюты, и если кто-нибудь чувствовал тоску по дому, то держал ее про себя.
Наши жилые помещения находились в задней рубке, которая тянется во всю ширину «Рузвельта» от грот-мачты до бизань-мачты. В центре располагается машинное отделение с верхним светом и вытяжной трубой, а по бокам от него каюты и кают-компании. Моя каюта помещалась в правом кормовом углу; дальше к носу шла каюта Хенсона, затем кают-компания правого борта и в правом носовом углу каюта доктора Гудсела. В кормовой части слева находилась каюта капитана Бартлетта, которую он занимал вместе с Марвином, за ней в сторону носа шли каюта главного механика и его помощника, каюта заведующего хозяйством Перси и каюта Макмиллана и Борупа; затем шла кают-компания для младшего состава; за ней, в левом носовом углу рубки, была каюта помощника капитана и боцмана. В кают-компании правого борта кроме меня столовались Бартлетт, доктор Гудсел, Марвин, Макмиллан, Боруп.
Не буду подробно останавливаться на первом этапе нашего плавания от Сидни до мыса Йорк на побережье Гренландии по той причине, что в это время года такое плавание – всего-навсего приятная летняя прогулка по морю, которую может совершить без особого риска и приключений любая крупная яхта; тем более что есть более интересные и необычные вещи, о которых следует упомянуть. Когда мы проходили пролив Белл-Айл, это «кладбище кораблей», где судну всегда грозит опасность натолкнуться в тумане на айсберг или быть прижатым к берегу сильным и коварным течением, я всю ночь оставался на ногах, как сделал бы всякий, кому дорого судно. Но все обошлось благополучно, и я невольно сравнил это легкое летнее плавание с нашим возвращением домой в ноябре 1906 года, когда «Рузвельт» то поднимал над волнами свой нос или корму, то, кренясь, зарывался поручнями в воду. Мы тогда в схватке с морем потеряли два руля, а пробираясь в густом тумане вдоль Лабрадорского побережья, – был как раз сезон айсбергов – заметили огонь маяка на мысе Амур, лишь когда оказались от берега на расстоянии броска камнем; до этого ориентирами нам служил вой сирен на мысе Амур и мысе Болд да свистки больших пароходов, которые стояли у входа в пролив, не решаясь пройти его.
В воскресенье 19 июля у маяка на мысе Амур мы выслали на берег шлюпку с пакетом телеграмм – последними вестями домой. Я подумал тогда: о чем будет мое первое сообщение в будущем году?
У мыса Сент-Чарльз мы бросили якорь напротив китобойной станции. Накануне здесь поймали двух китов, и я купил одного на корм собакам. Мясо мы уложили на шканцах. На побережье Лабрадора есть несколько таких «китовых фабрик». Они высылают в море быстроходное стальное судно с гарпунной пушкой на носу. Завидев кита, его преследуют и, подобравшись к чудовищу на достаточно близкое расстояние, выстреливают в него гарпун с бомбой. Взрыв убивает кита. Затем животное привязывают к борту судна, буксируют к станции, вытаскивают на деревянный помост и разделывают, причем для каждой части огромной туши находится коммерческое применение.
Следующая остановка была в Хок-Харбор, где нас ожидало вспомогательное судно «Эрик» с 25 тоннами китовского мяса на борту. Через час или два после «Рузвельта» в гавань вошла прекрасная белая яхта «Вакива», принадлежащая мистеру Харкнессу, члену нью-йоркского яхт-клуба. В течение зимы она дважды становилась по соседству с «Рузвельтом» у причала в конце Восточной 24-й улицы Нью-Йорка, загружаясь углем между плаваниями, и теперь по странному стечению обстоятельств оба судна вновь стояли бок о бок в этой отдаленной маленькой гавани на Лабрадорском побережье.
Более непохожие корабли трудно себе представить: яхта – белоснежная, сверкающая на солнце латунной отделкой, быстроходная, легкая, как стрела, и наш корабль – темный, медлительный, тяжелый, крепкий, как скала; каждое судно имело свое назначение и соответствовало ему.
Мистер Харкнесс с группой друзей, включая нескольких представительниц прекрасного пола, поднялись на борт «Рузвельта»; их изящные платья еще более подчеркнули черноту, силу и далеко не безукоризненную чистоту нашего корабля.
Затем мы остановились у острова Турнавик напротив рыболовной станции, хозяином которой был отец Бартлетта, и взяли на борт партию лабрадорских меховых сапог, предназначенных для Севера. Перед тем как подойти к острову, мы столкнулись с жесточайшей грозой.[20] Это была самая северная гроза, которую я когда-либо наблюдал. Помнится, однако, что по пути на Север в 1905 году мы также попали в очень сильные грозы с не менее интенсивными электрическими явлениями, чем виденные мною в Мексиканском заливе, во время плаваний в южных морях; правда, с грозами 1905 года мы столкнулись в районе пролива Кабота – гораздо южнее, чем теперь, в 1908 году.
Наше плавание до мыса Йорк протекало спокойно и было лишено даже мелких тревог аналогичного плавания три года назад; тогда неподалеку от мыса Сент-Джордж на верхней палубе около вытяжной трубы вспыхнул пожар, переполошивший команду. Сходным образом и туманы не досаждали нам на ранней стадии путешествия так, как в 1905 году. В сущности говоря, все благоприятствовало нам с самого начала, благоприятствовало до такой степени, что, должно быть, матросы посуевернее думали про себя, что это везение ненадолго, а один из членов экспедиции постоянно постукивал по дереву – так, на всякий случай, объяснял он. Конечно, было бы смешно утверждать, что такая «мера предосторожности» хоть как-то повлияла на исход экспедиции; человек просто облегчал себе душу.
По мере удаления на север ночи становились все короче и светлее, а когда мы пересекли полярный круг – это произошло вскоре после полуночи 26 июля, – солнце светило нам круглые сутки. Я пересекал полярный круг около 20 раз, с юга на север и обратно, и для меня в этом не было ничего нового; однако на наших арктических «новичков» – доктора Гудсела, Макмиллана и Борупа – вступление в область полярного дня произвело немалое впечатление. У них было такое же ощущение, как у человека, впервые пересекающего экватор, – они увидели в этом событие.
Уходя все дальше на север, «Рузвельт» приближался к одной из самых интересных областей Арктики – маленькому оазису среди льдов и снегов, расположенному на западном побережье Северной Гренландии, на полпути между бассейном Кейна на севере и заливом Мелвилл на юге. Здесь в разительном контрасте с окружающей местностью богато представлен растительный и животный мир, и на протяжении последних 100 лет здешняя полоса побережья служила местом зимовки для пяти или шести арктических экспедиций. Здесь же обитает небольшое племя эскимосов.
Это маленькое убежище находится от Нью-Йорка в 3000 милях морского пути и в 2000 милях по прямой. Оно расположено в 600 милях к северу от полярного круга, примерно на полпути между полярным кругом и полюсом. 110 суток длится там полярная ночь, и глаз не видит иного света, чем свет луны и звезд, зато летом солнце светит непрерывно в течение стольких же суток. Благодаря достаточно обширным пастбищам эта маленькая страна – излюбленное обиталище северных оленей. Но нас этот единственный в своем роде уголок на земном шаре интересовал лишь в одном отношении: здесь мы предполагали взять на борт уроженцев холодного пояса, которые должны были помочь нам дальше на севере.
Однако, прежде чем достичь этого удивительного оазиса, расположенного всего в нескольких сотнях миль за полярным кругом, мы подошли к самому знаменательному пункту нашего пути, поскольку он показывал нам воочию мрачную сторону стоявшей перед нами задачи. Ни один цивилизованный человек не умирает в этой жестокой Нордландии без того, чтобы его могила не была исполнена глубокого смысла для тех, кто идет по его следам; и, по мере того как мы плыли вперед и вперед, безгласные напоминания об останках героев не переставая рассказывали нам свою молчаливую, но потрясающую повесть.
У южной границы залива Мелвилл, на острове Дак, находится небольшое кладбище шотландских китобоев, которые первыми прошли к заливу Мелвилл и умерли здесь, не дождавшись вскрытия льдов. Эти могилы появились здесь в начале XIX века. Отсюда столбовая дорога Арктики обозначена могилами тех, кто пал в жестокой схватке с холодом и голодом. Одного взгляда на эти грубые груды камней достаточно, чтобы понять, какой ценой дается завоевание Арктики. Люди, которые лежат под ними, были не менее отважны, не менее умны, чем участники моей экспедиции; им просто не так повезло.
Остановим на мгновение взгляд на этой дороге и рассмотрим памятники на ней.
В заливе Норт-Стар находится несколько могил участников английской экспедиции на корабле «Норт-Стар», зимовавшем здесь в 1850 году. На островах Кэри – безымянная могила одного из участников злополучной экспедиции Кальстениуса. Дальше к северу, в Эта, находится могила Зоннтага, астронома экспедиции Хейса, а еще севернее – могила Ольсена из отряда Кейна.[21] На противоположной стороне в необозначенных местах лежат останки 16 человек злополучной экспедиции Грили.[22] Еще дальше к северу, на побережье Гренландии, находится могила Холла,[23] начальника американской экспедиции на «Полярисе». На западе, на Земле Гранта, похоронены матросы английской арктической экспедиции 1876 года, а прямо на берегу центрального Полярного моря [Северного Ледовитого океана], у мыса Шеридан, находится могила датчанина Петерсена, переводчика той же экспедиции.[24] Могилы эти – немые памятники человеческим усилиям выиграть великий приз – дают лишь частичное представление о том, сколько отважных людей, которым не так везло, пожертвовали жизнью – самым дорогим, что только есть у человека, в борьбе за покорение Арктики.
Когда я впервые увидел могилы китобоев на острове Дак, солнце ярко освещало надгробные доски, и я присел перед ними, полный трезвого понимания их сокровенного смысла. Когда я впервые увидел могилу Зоннтага в Эта, я тщательно прибрал камни вокруг, отдавая долг чести мужественному человеку. А на мысе Сабин, где погиб отряд Грили, я был первым человеком, ступившим в развалины каменной хижины после того, как много лет назад из нее увезли семерых оставшихся в живых участников экспедиции, – да, я первым ступил в эти развалины в августе, в слепящий снежный буран, и увидел напоминания о себе, оставленные этими несчастными.
И вот теперь, в 1908 году, проплывая мимо острова Дак на пути к мысу Йорк, я вспоминал о находящихся там могилах, и мне и в голову не приходило, что одному из участников нашей экспедиции, всеми нами любимому профессору Россу Марвину, который ел за одним столом со мной и исполнял обязанности моего секретаря, суждено прибавить свое имя к длинному списку жертв Арктики и что его могила в бездонной темной пучине станет самой северной могилой на Земле.
1 августа мы достигли мыса Йорк. Крутой, почти отвесный, он заканчивался полосой Арктического побережья, населенного эскимосами – самыми северными представителями человечества на Земле. Мне не раз доводилось видеть его снежную вершину, возвышающуюся вдали на горизонте в заливе Мелвилл, когда мои корабли проплывали на Север. У основания мыса ютится самое южное из всех эскимосских поселений, и он из года в год служил мне местом встреч с обитающим здесь племенем.
Прибыв на мыс Йорк, мы оказались в преддверии собственно работы в Арктике. У меня на борту было все необходимое снаряжение и материалы, какие мне могла предоставить цивилизация. А здесь я должен был забрать орудия и людей, которых сама Арктика породила для собственного покорения. Мыс Йорк, или залив Мелвилл, – это демаркационная линия между цивилизованным миром, с одной стороны, и арктическим миром – с другой, арктическим миром со всем его вооружением: эскимосами, собаками, моржами, тюленями, меховой одеждой и опытом аборигенов.
Позади лежал цивилизованный мир, теперь для нас абсолютно бесполезный, не могущий дать нам ничего больше. Впереди простиралась неисследованная пустыня, через которую я должен был буквально пробивать путь к цели. Уже само плавание от мыса Йорк до места зимовки на северном побережье Земли Гранта – не «просто плавание»; в сущности говоря, на последних этапах это вовсе не плавание, а сплошные нажимы, наскоки, увертки и таранные удары в схватке со льдом, причем каждую минуту можно ожидать от противника сокрушительного ответного удара. Все это очень напоминает работу искусного боксера-тяжеловеса или работу древнеримского кулачного бойца.
За заливом Мелвилл цивилизованный мир, каким мы его знаем, остается позади. Покидая мыс Йорк, мы меняем разнообразные занятия на два, которым находится место в этих бескрайних пустынях: добывание пищи для человека и собаки и преодоление многомильных расстояний.
Позади лежало все то, что я мог назвать своим, все, что дорого сердцу человека: семья, дом, друзья и те узы, которые связывали меня с мне подобными. Впереди была моя мечта, цель необоримого импульса, побуждавшего меня в течение 23 лет раз за разом восставать против застывшего «нет» Великого Севера.

На вахте у штурвала
Суждено ли мне добиться успеха? Суждено ли вернуться? Успешное достижение 90° северной широты вовсе не предполагает благополучного возвращения. Мы поняли это в 1906 году, пересекая на обратном пути Великую полынью. В Арктике шансы всегда против исследователя. Непроницаемые хранители ее тайны, похоже, обладают неисчерпаемым запасом козырей и пускают их в ход против пришельца, который норовит начать игру Жизнь там – собачья, но работа достойна настоящего человека.
Когда мы 1 августа 1908 года покидали мыс Йорк, я знал, что мне предстоит поистине последняя битва. Все в моей жизни, казалось, вело к этому моменту. И моя долголетняя работа, и все мои предыдущие экспедиции были лишь подготовкой к этому последнему завершающему усилию. Говорят, целенаправленный труд – лучшая молитва о достижении цели. Если это верно, то молитва многие годы была моим уделом. В какую бы полосу разочарований и поражений я ни вступал, я всегда верил, что великая белоснежная загадка Севера в конце концов должна пасть перед напором человеческого опыта и воли. Так и теперь, стоя спиной к миру и лицом к загадке, я верил, что выйду победителем вопреки всем силам тьмы и отчаяния.
Когда мы приближались к мысу Йорк, который отстоит от полюса дальше, чем Тампа, штат Флорида, от Нью-Йорка, я с особым удовольствием наблюдал, как первые из наших друзей эскимосов выплывают нам навстречу в своих крохотных каяках – сделанных из шкур лодках. Хотя на мысе Йорк и находится самое южное поселение эскимосов, это отнюдь не означает, что оно постоянное, так как эскимосы – кочевники. В иной год там обитают две семьи, в другой – десять, а бывает, что и ни одной, ибо эскимосы редко живут дольше двух лет на одном месте.
Мыс Йорк, когда мы к нему подошли, был окружен, словно стражами, огромной флотилией плавучих айсбергов, затруднявших «Рузвельту» подход к берегу, но еще задолго до того, как поравняться с ними, мы увидели охотников поселения, плывущих нам навстречу. Вид этих людей, легко скользящих по воде в своих хрупких каяках, был для меня самым желанным зрелищем за все время нашего пути от Сидни.
Здесь следует подробнее остановиться на этом интересном маленьком народе, самом северном на нашей планете, без помощи которого, возможно, Северного полюса никогда не удалось бы достигнуть. Не так давно мне случилось написать об эскимосах несколько строк, и мои слова оказались настолько пророческими, что мне кажется уместным привести их вновь. Вот эти строки.
«Меня часто спрашивают: «Какую пользу приносят эскимосы миру? Они слишком удалены, чтобы представлять ценность для коммерческого предпринимательства, у них совсем нет честолюбия. Они не имеют ни литературы, ни искусства. Их отношение к жизни определяется инстинктом, как у лисицы или медведя». Но не надо забывать, что эти выносливые и заслуживающие доверия люди еще могут доказать, какую ценность для человечества они представляют. С их помощью мир откроет полюс».

Эскимосы на Северном полюсе
Слева направо: Ута, Укеа, Сиглу, Эгингва
И вот теперь я с этой же надеждой смотрел на своих старых друзей, выплывающих нам навстречу в крохотных каяках, и говорил себе, что я опять среди верных сынов Севера, много лет деливших со мной превратности полярных странствий, и из их числа мне опять предстоит отобрать лучших охотников на полосе побережья от мыса Йорк до Эта, чтобы воспользоваться их помощью в моей последней попытке завоевать великий приз.
Начиная с 1891 года мне постоянно приходилось жить и работать с эскимосами. Я завоевал их полное доверие, сделал их своими должниками, даря им различные вещи, и снискал их благодарность тем, что неоднократно спасал жизни их жен и детей, снабжая их продовольствием, когда им угрожала голодная смерть. В течение 18 лет я обучал эскимосов своим методам, иначе говоря, учил развивать и приспосабливать для моих целей их замечательную ледовую технику и выносливость. Я изучил характер каждого из них в отдельности, как исследователь, надеясь с их помощью добиться желаемого результата, и знал совершенно точно, кого из них следует отобрать для быстрого и смелого броска и кто из этих упорных и непреклонных пойдет, если понадобится, в самое пекло ради достижения цели, которую я перед ними поставил.
Я знаю всех мужчин, женщин и детей племени, проживающего между мысом Йорк и Эта. До 1891 года они не заходили на север дальше границ края, в котором жили. Я пришел к этим людям 18 лет назад, и их страна явилась базой для моей первой экспедиции.
Путешественники по далеким землям рассказывают много чепухи о том, что аборигены якобы принимают за богов приходящих к ним белых людей; я лично никогда особенно не доверял таким рассказам. Мой опыт свидетельствует, что средний абориген так же доволен своей участью, как мы своей, что он так же уверен в превосходстве своих знаний и так же приспособляется со своими знаниями к действительности, как и мы с вами. Эскимосы не животные; они такие же люди, как представители индоевропейской расы. Они знают, что я им друг, и неоднократно доказывали, что и они мне друзья.
Сойдя на берег у мыса Йорк, я застал там четыре или пять семей, живших в летних тупиках – палатках из шкур. От них я узнал обо всем, что произошло в этих местах за последние два года: кто умер, у кого народились дети, где теперь живет такая-то и такая-то семья – иными словами, как расселилось племя в данное лето. Таким образом, я узнал, где искать нужных мне людей.

Собачий базар на мысе Йорк
К мысу Йорк мы прибыли около 7 часов утра. Я отобрал людей, которых хотел взять с собой, и сказал им, что вечером, когда солнце будет в таком-то месте, судно тронется дальше, и что к этому времени они с семьями и имуществом должны быть на борту Поскольку охота для эскимосов – единственный вид промысла и все их пожитки, состоящие главным образом из палаток, собак, саней, шкур и посуды, легко переносимы, они без особой затраты времени перебрались на «Рузвельт» в наших лодках, и мы снова взяли курс на север.
Хотят ли они следовать за мной – в этом не могло быть никакого сомнения. Они последовали за мной с величайшей охотой, так как знали по опыту, что участие в экспедиции спасет их жен и детей от угрозы голода. Знали они и то, что, когда экспедиция закончится и мы доставим их обратно домой, я подарю им оставшиеся запасы продовольствия и снаряжения, и это даст им возможность прожить целый год в абсолютном достатке; что по сравнению с другими членами племени они будут просто мультимиллионерами.
Одна из характерных черт эскимосов – сильнейшее, неуемное любопытство, и вот тому пример. Много лет назад, зимой, когда моя жена сопровождала меня в поездке по Гренландии, одна старая женщина племени прошла 100 миль от своего поселения до нашего зимовья, чтобы увидеть белую женщину.
Возможно, мне посчастливилось использовать эскимосов в целях открытия так, как еще не удавалось никакому другому исследователю. Поэтому, быть может, здесь нелишне будет отступить от основной линии повествования и немного рассказать об этом народе, тем более что, не получив хотя бы малейшего представления о нем, невозможно в полной мере оценить результаты моей экспедиции к Северному полюсу. Работая в Арктике, я взял за правило использовать эскимосов в качестве рядового состава моих санных отрядов. Без портняжного искусства эскимосских женщин у нас не было бы теплой меховой одежды, абсолютно необходимой для защиты от зимней стужи; не имея эскимосских собак, мы были бы лишены тягловой силы для саней, единственно применимой в условиях Арктики.
Члены маленького племени, или рода, населяющего западное побережье Гренландии от мыса Йорк до Эта, во многих отношениях отличаются от эскимосов датской Гренландии и других арктических областей. Племя насчитывает 220–230 человек. Они дикари, но они не дики; у них нет правительства, но это не означает, что у них нет законов; они совершенно необразованны, по нашим понятиям, но обладают замечательными способностями. В их характере много детского, они обладают детской способностью радоваться вещам, но вместе с тем они отличаются постоянством, как наиболее зрелые цивилизованные мужчины и женщины, и лучшие из них могут хранить верность до конца жизни. Не имея ни религии, ни понятия о боге, они готовы делиться последним куском съестного с голодным, а забота о старых и больных для них – дело само собой разумеющееся. Они здоровы, у них нет ни пороков, ни спиртных напитков, ни дурных привычек – хотя бы таких, как азартные игры. Словом, это единственный в своем роде народ на Земле. Один мой друг не без основания называет их представителями анархической философии на Севере.
Я изучал эскимосов на протяжении 18 лет и не могу представить себе более надежных помощников для работы в условиях Арктики, нежели эти приземистые черногривые дети природы, обладающие бронзовой кожей и проницательным взглядом. Уже сама их ограниченность – наиболее ценное качество для работы в Арктике. Я искренне заинтересован в этом народе, и независимо от того, что он может быть мне полезен, мой замысел с самого начала состоял в том, чтобы оказывать ему такую помощь и руководство, которые помогали бы ему более эффективно противостоять своему суровому окружению, и не учить его ничему такому, что могло бы подорвать его уверенность в себе или породить в нем недовольство своей участью.
Некоторые благожелательно настроенные люди предлагают переселить эскимосов в область с более благоприятными условиями обитания. Предложение это, будь оно осуществлено, привело бы к вымиранию эскимосов через два или три поколения. Они не вынесли бы нашего переменчивого климата, так как чрезвычайно подвержены легочным и бронхиальным заболеваниям, а цивилизованная жизнь только бы ослабила и испортила их, поскольку физические лишения составляют их традиционное расовое наследие.[25] Они не смогли бы приспособиться к сложным условиям нашего существования, не утратив при этом те самые черты детскости, которые являются их основным достоинством. Обратить их в христианство не представляется никакой возможности, а между тем они, по-видимому, и без того обладают такими основными добродетелями, как вера, надежда и милосердие, ибо без них они никак не смогли бы выдержать длящуюся полгода ночь и многочисленные тяготы быта.
Ко мне они преисполнены благодарности и доверия. Чтобы понять, что означают для них мои подарки, представьте себе филантропа-миллионера, появившегося в каком-нибудь американском провинциальном городке и наделившего каждого жителя каменным особняком и неограниченным счетом в банке.
В результате моих экспедиций в этот район эскимосы поднялись от уровня жалкого прозябания, для которого показательно отсутствие каких бы то ни было приспособлений и принадлежностей цивилизованной жизни, до состояния относительного процветания; я снабдил их наилучшим материалом для изготовления оружия – гарпунов и копий, наилучшим деревом для изготовления саней, лучшими ножевыми изделиями – ножами, топорами и пилами, а также кухонной утварью.[26] Если прежде они охотились с самым примитивным оружием, то теперь у них есть магазинные винтовки, заряжаемые с казенной части дробовики и множество охотничьих припасов. Когда я впервые свел с ними знакомство, у них не было ни одного ружья. Поскольку эскимосы не знают овощей и питаются исключительно мясом, кровью и жиром морских животных, наличие ружей с патронами повысило продуктивность каждого охотника и отвело постоянную угрозу голода не только от отдельных семей, но и от всего поселения.
Согласно гипотезе, выдвинутой Клементсом Маркхемом, бывшим председателем Лондонского королевского географического общества, эскимосы являются остатками древнего сибирского племени – онкилонов; в средние века уцелевшие представители этого племени были оттеснены на берега Северного Ледовитого океана безжалостными волнами татарского нашествия и добрались до Новосибирских островов, а оттуда по еще не открытым землям – до Земли Гриннелла и Гренландии.[27] Я считаю эту гипотезу верной, и вот почему.
Некоторые из эскимосов явно выраженного монголоидного[28] типа и обнаруживают черты, свойственные людям Востока, а именно: способность к подражанию, изобретательность, терпение при механическом счете. Имеется большое сходство между каменными домами эскимосов и развалинами домов, находимых в Сибири. Эскимосскую девочку, которую моя жена привезла в Соединенные Штаты в 1894 году, китайцы принимали за представительницу своей расы. Предполагают также, что существующий у эскимосов обычай заклинать души умерших является пережитком обряда их азиатских предков.
Эскимосы, как правило, низкорослы, подобно китайцам или японцам, хотя я знаю нескольких эскимосов-мужчин около 5 футов 10 дюймов ростом. Женщины низкорослы и полны. Все эскимосы обладают мощно развитым торсом, однако ноги у них сравнительно тонкие. Мускулистость у мужчин поразительная, хотя жировой слой обычно скрывает дифференциацию мышц.
Эскимосы не имеют письменности, язык у них агглютинативный, со сложной системой префиксов и суффиксов, значительно растягивающих слово по сравнению с исходным корнем. Усваивается он довольно легко, и в течение моего первого лета в Гренландии я сносно им овладел. В дополнение к разговорному у них есть еще эзотерический язык, известный лишь взрослым представителям племени. Не могу сказать, чем он отличается от разговорного, поскольку я не делал попыток изучить его, и сомневаюсь, чтобы хоть один белый полностью владел им, так как его тайны тщательно оберегаются его носителями.
Эскимосы, живущие в данном районе Арктики, как правило, не стараются овладеть английским, ибо со свойственной им понятливостью подметили, что мы легче овладеваем их языком, чем они нашим. Впрочем, время от времени тот или иной эскимос на удивление всей команды отчетливо произносит какую-нибудь английскую фразу; они обладают удивительной способностью перенимать от моряков ругательства или жаргонные выражения.
В общем и целом эскимосы очень похожи на детей, и с ними следует обращаться соответственно. Они легко приходят в приподнятое настроение и так же легко падают духом. Они очень любят разыгрывать друг друга или матросов, они обычно добродушны, а если и дуются, на это не стоит обращать внимания. Лучшее средство в таких случаях – «разгулять» их, как это называется на детском языке. Жизнерадостность словно нарочно дана им предусмотрительной природой, чтобы провести их через долгую полярную ночь, ибо будь они угрюмого нрава, как североамериканские индейцы, они давно бы легли и умерли всем племенем от отчаяния, настолько суров их удел.
Имея дело с эскимосами, необходимо изучить их психологию и учитывать особенности их характера. Они необычайно отзывчивы на доброту, но подобно детям стремятся сесть на шею человеку слабому и нерешительному. Мягкость пополам с твердостью – единственно верная линия поведения. В своем общении с эскимосами я взял за правило всегда высказываться без обиняков и добиваться точного выполнения моих приказаний. Например, если я говорю эскимосу, что он получит такое-то вознаграждение, если сделает то-то и то-то как надо, он всегда получает обещанное, если повинуется. С другой стороны, если я не одобряю его поведения и предупреждаю, что оно приведет к таким-то нежелательным последствиям, эти нежелательные последствия непременно имеют место.
Я стремился заинтересовать их в работе, которую они для меня выполняли. Например, самый способный из них в долгом санном переходе получал больше остальных. Я всегда вел учет дичи, добываемой каждым эскимосом, и лучший охотник получал особое вознаграждение. Таким образом я поддерживал у них заинтересованность в работе. Эскимос, убивший мускусного быка или оленя с самыми красивыми рогами, получал особую награду. Я был с ними тверд, но вместе с тем старался направлять их любовью и благодарностью, а не страхом и угрозами. Эскимос, подобно индейцу, никогда не забывает о невыполненном обещании и о выполненном тоже.
Я бы не хотел создать впечатление, будто любой, кто придет к эскимосам с подарками, может рассчитывать на те же услуги, какие они оказывали мне; не следует забывать, что они были знакомы со мной на протяжении почти двадцати лет. Я спасал от голода целые их поселения, и родители учили своих детей, что, когда они вырастут и станут хорошими охотниками или швеями, «Пири-аксоа» вознаградит их когда-нибудь в не слишком отдаленном будущем.
Первым эскимосом, который отправился со мной на Север в 1891 году, был старый Иква, отец девушки, ради обладания которой пылкий молодой Укеа прошел со мной до самого полюса. Этот юный рыцарь Севера – живое свидетельство того, что порой эскимосы проявляют такую же страстность в своих сердечных делах, как и мы с вами. Хотя, как правило, в своих привязанностях они скорее напоминают детей: они верны спутнику жизни в силу своего рода домашней привычки, но легко утешаются в утрате, если он умирает или погибает.
В маленьком арктическом оазисе на хмуром западном побережье Северной Гренландии, между заливом Мелвилл и бассейном Кейна, живет вразброс немногочисленная кучка эскимосов. Район этот удален к северу от Нью-Йорка на 3000 миль морем и находится на полпути между Северным полярным кругом и полюсом. Летом в течение 110 дней солнце здесь ходит в полнеба и никогда не садится; зимой в течение 110 дней никогда не встает, и ни единый луч света, кроме ледяного мерцания звезд и мертвой луны, не озаряет замерзший ландшафт.
Свирепо-величественны эти берега, вырубленные в вечной борьбе с бурями и ледниками, айсбергами и ледяными полями. Но летом за их хмурой внешностью прячется множество устланных травянистым ковром, усыпанных цветами, залитых солнцем уголков. Тысячи маленьких гагарок устраивают здесь свои гнезда. Меж высоких утесов ледники время от времени спускают на море целые флотилии айсбергов; перед утесами плещутся синие воды, испещренные массой сверкающих льдин всевозможных форм и размеров; позади простирается ледниковый купол Гренландии, молчаливый, вечный, безмерный, обиталище – так говорят эскимосы – злых духов и душ умерших.
Летом в некоторых местах побережья вырастает трава, густая и высокая, как на фермах Новой Англии, цветут маки, одуванчики, лютики, камнеломки, однако все цветы, насколько мне известно, лишены аромата. Здесь есть мухи, комары и пауки, а шмелей мне случалось видеть даже севернее Китового пролива. Из животных тут можно встретить северного оленя (гренландского карибу), белого и голубого песца, полярного зайца, белого медведя и – раз в тридцать лет – заблудившегося волка.
Однако в долгую бессолнечную зиму все здесь – утесы, море, ледники – застилается снежным саваном, призрачно серым в тусклом свете звезд. А если звезд не видно – все черно, пустынно и безмолвно. Когда дует ветер, человека, отважившегося выйти из укрытия, словно толкают руки невидимого врага, и кажется, будто впереди и позади затаилась какая-то смутная, безымянная опасность. Неудивительно, что у эскимосов существует поверье, будто злые духи приходят по ветру.
Зимой эти терпеливые и жизнерадостные дети Севера живут в иглу – хижинах, построенных из камней и земли. Во время своих странствий, которые обычно приходятся на полнолуние, они возводят иглу из снега – трое сильных мужчин управляются с этим делом менее чем за 2 часа. В конце каждого дневного перехода на пути к полюсу мы также строили себе иглу. Летом эскимосы живут в тупиках – палатках из шкур. Каменные жилища предназначаются для постоянного использования, и хороший дом может простоять до 100 лет, нуждаясь лишь в небольшой починке крыши летом. Иглу встречаются группами или поселениями вдоль всего побережья от мыса Йорк до Аноратока. Поскольку эскимосы – народ кочевой, постоянные жилища принадлежат всему племени, а не отдельным лицам – черта своеобразного примитивного арктического социализма. Бывает, что в какой-то год все дома поселка заселены, а на другой год не заселен ни один или только два-три.
Каменный дом имеет примерно 6 футов в высоту, 8– 10 футов в ширину, 10–12 футов в длину и может быть построен за месяц. В земле делается выемка, служащая полом. Затем возводятся прочные стены из камней, промежутки между которыми проконопачиваются мхом. Сверху укладываются длинные плоские камни – это крыша, она засыпается землей, а к стенам со всех сторон нагребается снег. Крыша куполообразная, консольного, а не арочного типа. Длинные плоские камни, ее образующие, нагружаются и уравновешиваются с наружных концов, и за все годы моей работы в Арктике я ни разу не слышал, чтобы крыша иглу обваливалась. Так что жалоб в «строительный департамент» никогда не поступает. Дом не имеет дверей, вместо них в полу выкапывается яма, служащая входом в туннель иногда 10, иногда 15, а то и 25 футов длиной, через который обитатели заползают в жилище. В передней стене всегда есть маленькое оконце, разумеется не остекленное, а лишь затянутое тонкой пленкой из искусно сшитых кишок тюленя. Путник, странствующий зимой по ледяной пустыне, порой издали видит желтый огонек в окне иглу.
У стены против входа находится возвышение для сна высотой примерно в полтора фута от пола. Обычно это возвышение не насыпное и представляет собой естественный уровень земли, а все пространство пола выкапывается перед ним. Впрочем, в некоторых домах возвышение для сна делается из длинных плоских камней, уложенных на каменные подпоры. Готовясь переселиться осенью в каменные жилища, эскимосы устилают возвышение для сна сперва травой, которую подвозят на санях, затем тюленьими шкурами, а поверх них в качестве матрацев кладут шкуры оленей или мускусных быков. Оленьи шкуры служат и одеялами – пижамы у эскимосов не в моде. Ложась спать, они скидывают с себя всю одежду и забираются под оленьи шкуры.
Перед возвышением для сна стоит светильник, горящий круглые сутки независимо от того, спят обитатели жилища или нет. Человек, наделенный воображением, быть может, назовет этот светильник вечно горящим священным огнем на каменном алтаре эскимосского дома. Светильник служит также для обогревания жилища и варки пищи; благодаря ему в иглу так тепло, что обитатели ходят по дому почти нагишом. Спят они головами к огню, так, чтобы женщина могла в любой момент подправить его.
На противоположной постели стороне обычно хранится пища. Если в иглу живут две семьи, на этой стороне может находиться второй светильник; в таком случае продовольствие складывается под «кровать». Температура в этих жилищах поддерживается между 80 и 90° по Фаренгейту на возвышении для сна и под потолком и несколько ниже точки замерзания воды – у пола. В середине крыши имеется маленькое вентиляционное отверстие; тем не менее зимой в доме счастливого эскимосского семейства стоит такой дух, что хоть топор вешай.
Во время моих зимних странствий мне частенько приходилось ночевать в этих гостеприимных иглу. В таких случаях я проявлял максимум выдержки, как подобает человеку, вынужденному заночевать в захудалой железнодорожной гостинице или в трущобной ночлежке, и старался как можно скорее забыть о пережитом. Арктическому исследователю не приходится привередничать. Ночь, проведенная в иглу, когда хозяева дома, – тяжкое испытание для всех чувств цивилизованного человека, в особенности для его обоняния; однако после долгого санного перехода в ужасающий холод и ветер путнику, изголодавшемуся и сбившему себе ноги, тусклый свет, мерцающий в прозрачном окошке иглу, поистине кажется огнем домашнего очага, сулящим тепло и уют, ужин и благословенный сон.
Нечего таить греха, мои друзья эскимосы очень нечистоплотный народ. Со мной на корабле они делают героические усилия и изредка умываются; но у себя дома они практически не умываются никогда и всю воду зимой получают только из растопленного снега. Лишь изредка, когда грязь очень уж начинает их стеснять, они удаляют верхний слой с помощью жира. Мне никогда не забыть, как они удивились, когда им впервые объяснили назначение зубной щетки.
С наступлением лета жилища, сложенные из камня и земли, превращаются в темные сырые логова, и тогда крышу разбирают, чтобы просушить и проветрить внутренность дома, а семья перебирается в тупики, в которых и живет примерно с начала июня до середины сентября. Палатка делается из 10–12 сшитых вместе тюленьих шкур, растянутых на шестах мехом вовнутрь. Палатка высока спереди и полого опускается сзади, чтобы создавать наименьшее сопротивление ветру; ее края придавливаются камнями. Пол такой палатки имеет 6–8 футов в ширину и 8—10 футов в длину в зависимости от количества членов семьи.
За последние годы наши эскимосы внесли некоторые усовершенствования в постройку жилищ. Так, многие палатки имеют теперь удлиненные входы, затянутые прозрачными дублеными тюленьими шкурами, не пропускающими дождя, но пропускающими свет. Благодаря этому летние жилища стали просторнее и удобнее. Кроме того, у зажиточных эскимосов вошло в обычай использовать старую прошлогоднюю палатку для увеличения срока службы новой. Во время сильных ветров и дождей старую палатку натягивают поверх новой, таким образом получается двойная защита от непогоды.
Возвышение для сна теперь обычно делается из привозимых мною досок, которые устанавливаются на камнях; пища в хорошую погоду готовится на открытом воздухе. Для обогрева жилищ, приготовления пищи и освещения эскимосы пользуются исключительно жиром. Эскимосские женщины так искусно заправляют светильники, что они совершенно не коптят, если только в палатке или иглу нет сквозняка. Нарезанный на мелкие куски жир кладут на мох и поджигают; жир на горящем мху вытапливается и дает на удивление большой жар. До того как я стал снабжать эскимосов спичками, они получали огонь примитивным способом – с помощью кремня и огнива, которое добывали из пиритовой жилы. Когда я впервые пришел в эти места, все светильники и прямоугольные горшки эскимосов делались из мыльного камня, две или три жилы которого есть в здешних краях. Умение применить к делу пирит и мыльный камень говорит об уме и изобретательности эскимосов.
Как правило, при теплой погоде эскимосы ходят в палатке почти без одежды, так как средняя температура лета здесь около 50° по Фаренгейту, а на солнцепеке может достигать 85° и даже 95°.
Неискоренимой чертой быта эскимосов является пробный брак. Если молодые чем-либо не устраивают друг друга, они расходятся, и каждый вступает в новый брак, причем так бывает по нескольку раз. Зато когда подходящий друг жизни наконец найден, брак становится устойчивым. Если у женщины два претендента, они решают вопрос испытанием силы, и тот, кто сильнее, получает свое. Такие поединки не имеют ничего общего с дракой – спорящие миролюбиво настроены друг к другу; они просто борются, а иногда колотят друг друга по руке – кто дольше вытерпит.
Бесспорное признание принципа, что в таких делах сила – это право, выражается иногда в том, что один эскимос заявляет другому – мужу приглянувшейся женщины: «Уступи мне жену – я сильнее тебя». В таком случае второй должен либо доказать свое превосходство в силе, либо отдать жену. Если мужу надоела жена, он просто говорит, что ей нет больше места в его иглу, и тогда она может вернуться к своим родителям, если они живы, может уйти жить к брату или сестре или дать знать другому члену племени, что она свободна и готова начать новую жизнь. При этих примитивных разводах муж, если он того хочет, может оставить детей у себя; впротивном случае женщина забирает их с собой.
Эскимосская семья немногочисленна, в ней обычно не более двух-трех детей. Женщина никогда не принимает фамилию мужа. Так, например, Акатингва всегда останется Акатингвой, сколько бы мужей у нее ни было. Дети не называют родителей отец или мать, а только по имени, хотя иногда малыши пользуются уменьшительным словом, соответствующим нашему «мама».
Женщина у эскимосов, за редким исключением, такая же собственность мужчины, как его собака или сани.[29] Идеи женского равноправия еще не получили хождения в здешних краях. Впрочем, помнится случай, когда одна эскимоска разошлась во мнениях с мужем и доказала свое право на самостоятельность, поставив ему фонарь под глазом. Боюсь, однако, что более консервативные члены племени приписали столь неподобающее женщине поведение развращающему влиянию представителей цивилизованного мира.

Эскимосская женщина с ребенком
Так как мужчин среди эскимосов больше, чем женщин, девушки выходят замуж очень рано, часто в двенадцать лет. Во многих случаях, когда дети еще совсем маленькие, родители сговариваются о браке. Впрочем, это ни к чему не обязывает мальчика и девочку, и, став взрослыми, они решают сами за себя. Фактически они могут переменить решение не один раз, и это нисколько не умаляет их достоинства. В свою последнюю экспедицию, как и в предыдущие, я обнаружил, что за время моего отсутствия многие мои северные друзья переменили спутника жизни.
Было бы совершенно бесполезно пытаться привить наши брачные обычаи этим наивным детям Севера. А если какой-либо исследователь Арктики сочтет своим долгом сказать молодому эскимосу, что нехорошо обмениваться женами со своим другом, то этому исследователю нелишне заранее подготовить свои аргументы, ибо порицаемый скорее всего широко раскроет глаза и спросит: «А почему бы и нет?»
Эти жители ледяной страны сообразительны и необычайно любопытны. Если, скажем, они увидят сверток с различными неизвестными им предметами, они успокоятся только тогда, когда рассмотрят каждую вещь, потрогают и пощупают ее, а то и попробуют на вкус. При этом они будут болтать не переставая, словно стая сорок. Эскимосы обладают также ярко выраженной, поистине восточной способностью к подражанию. Из моржовой кости, в некоторых отношениях заменяющей им сталь, причем прекрасно заменяющей, они делают отличные копии различных предметов и наряду с этим очень быстро осваивают всякие орудия цивилизации, попадающие им в руки. Нетрудно понять, какое это ценное и полезное качество для исследователя Арктики. Если бы арктический исследователь не мог рассчитывать на то, что эскимос сумеет выполнять работу белого человека орудиями белого человека, объем предстоящей ему работы неизмеримо возрос бы, а состав экспедиции разросся бы до таких размеров, что ею было бы крайне трудно руководить.

Эскимосские дети
Мои собственные наблюдения над этим интересным народом не позволяют мне верить россказням о варварском коварстве и жестокости эскимосов. Напротив, если принять в соображение их нецивилизованность, они вполне могут быть названы гуманным народом. Больше того, эскимосы всегда быстро осознавали цели, к которым я стремился, и отдавали все свои силы для их достижения.
Их гуманность, как я уже говорил, принимает формы, которым мог бы порадоваться любой социалист. На свой грубый лад они почти все без исключения щедры и гостеприимны. Они, как правило, делят пополам и счастье, и несчастье. Племя распределяет между своими членами добычу удачливых охотников, и, так как существование эскимосов всецело зависит от охоты, этим в большой степени объясняется самосохранение племени.
Как ни тяжела жизнь эскимоса, конец ее обычно не менее тяжел. Всю свою жизнь эскимос ведет беспрерывную борьбу с суровой стихией и умирает чаще всего насильственной смертью. Эскимос не страшится старости, ибо редко доживает до нее. Как правило, он умирает за работой – тонет при опрокидывании каяка или перевертывании айсберга либо бывает заживо погребен под снежной лавиной или оползнем. Эскимос редко проживает более 60 лет.
Строго говоря, у эскимосов нет религии в том смысле, как мы ее понимаем. Но они верят в загробную жизнь и в существование духов, в особенности злых духов. Возможно, отсутствие у эскимосов идеи всемилостивого бога и обостренная вера в злые силы – результат ужасных лишений, выпадающих им в удел. Не имея особых оснований быть благодарными какому-либо доброму создателю, они и не сотворили себе представления о нем, тогда как неотступная угроза тьмы, жестокой стужи, свирепых ветров и голода побуждает их заселять мир незримыми врагами. Милостивые духи – это души умерших предков (еще одна черта, обусловленная восточным влиянием), в то время как враждебных духов у них целый сонм, возглавляемый Торнарсуком – великим чертом.
Эскимосы постоянно стараются умилостивить Торнарсука заклинаниями, а убив дичь, приносят ему жертву. Предполагается, что черт чрезвычайно ценит эти лакомые куски. Вместе с тем, покидая снежный иглу, эскимос не преминет разрушить переднюю стенку, чтобы злые духи не могли найти здесь приюта, а прежде чем выбросить изношенную одежду, рвет ее, чтобы черт не мог ею воспользоваться. Утепленный дьявол, по-видимому, более опасен, чем продрогший от холода. Неожиданный, ничем не объяснимый лай и вой собак указывает на незримое присутствие Торнарсука, и в таком случае мужчины выбегают наружу и хлопают бичами или стреляют из ружей, чтобы прогнать врага. Так что, проснувшись во время зимовки на «Рузвельте» от ружейной пальбы, я не пугался, зная, что это не мятеж на борту, а просто Торнарсук прокатился верхом на ветре!
Когда корабль испытывает натиск льдов, эскимос призывает дух своего отца отвести беду, когда ветер задувает особенно яростно, эскимос вновь взывает к своим умершим предкам. Проезжая на санях мимо утеса, эскимос порой останавливается, прислушивается и спрашивает: «Слышал, что сказал сейчас дьявол?» В таких случаях я прошу эскимоса повторить мне слова Торнарсука, сидящего на верху утеса, и мне в голову не приходит посмеяться над моими верными друзьями; послания Торнарсука я принимаю с почтительной серьезностью.
У эскимосов нет ни вождей, ни людей, наделенных властью; но у них есть знахари, которые пользуются некоторым влиянием. Ангакока обычно не любят – ведь он предсказывает так много неприятного. Его дело распевать заклинания и входить в транс, поскольку лекарств у него нет. Если человек заболел, знахарь может предписать ему воздержание от такой-то пищи на столько-то полнолуний, например не есть мяса тюленя или оленины, а есть только моржатину. Монотонные заклинания заменяют наши лекарства. Представление уверенного в себе ангакока, если присутствуешь при нем впервые, производит весьма сильное впечатление. Его пение или, скорее, завывание сопровождается конвульсивными дерганьями и звуками примитивного бубна, который сделан из горловой перепонки моржа, натянутой на изогнутую кость. Ударами другой кости о край бубна задается ритм. Иной музыки эскимосы не знают. Считается, что и некоторые женщины обладают способностями ангакока – сложным даром прорицателя судьбы, врачевателя душевных недугов и псалмопевца.
Однажды, много лет назад, моим смуглым друзьям стало невтерпеж от одного ангакока по имени Киоападо – уж слишком много смертей он предсказал, – и они заманили его на охоту, с которой он больше не вернулся. Впрочем, такие казни ради спокойствия общества случаются редко.
Не лишен интереса погребальный ритуал эскимосов. Когда эскимос умирает, его хоронят немедленно. Тело как можно быстрее одевают, заворачивают в шкуры, на которых спал умерший, и добавляют еще кое-какую одежду, чтобы душа не мерзла. Затем тело перевязывают крепкой веревкой и тащат головой вперед из палатки или иглу до ближайшего места, где найдется достаточно камней, чтобы прикрыть его. Эскимосы не любят прикасаться к мертвому телу, вот почему они тянут его по снегу или по земле наподобие саней. Дойдя до места погребения, труп обкладывают камнями, чтобы защитить его от собак, песцов и ворон, и на этом похороны заканчиваются.
Согласно представлениям эскимосов, загробный мир вполне материален. Если умерший был охотником, его сани и каяк вместе с его оружием и прочим снаряжением ставятся возле могилы, а его любимые собаки запрягаются в сани и удушаются, чтобы они могли сопровождать хозяина в путешествии в незримое. Когда умирает женщина, возле могилы оставляют ее светильник и маленькую деревянную раму, на которой она сушила обувь и рукавицы всей семьи. Здесь же оставляется немного жира и спичек, если они есть, чтобы покойная могла зажечь светильник и приготовить себе пищу при переходе в потусторонний мир; оставляется также чашка или плошка, чтобы можно было растопить снег и получить воду. В могилу кладут иголку, наперсток и другие принадлежности для шитья.
В прошлом, если у женщины был грудной ребенок, его умерщвляли, чтобы он сопровождал ее в потусторонний мир; разумеется, против этого обычая я ополчился и за время двух моих последних экспедиций не слышал, чтобы младенцев умерщвляли. Эскимосам – участникам моей экспедиции я попросту запретил делать это и обещал давать родственникам таких детей достаточно сгущенного молока, чтобы выкормить их. Если эскимосы и практиковали этот старый обычай в мое отсутствие, мне они ничего не говорили, зная, что я не одобряю его.
Если эскимос умирает в палатке, шесты ее убираются, и палатка остается лежать на земле, пока не сгниет или не будет унесена ветром. Такой палаткой никогда больше не пользуются. Если эскимос умирает в иглу, обитатели покидают его и долгое время не живут в нем. Родственники умершего соблюдают некоторые запреты по части питания и одежды, и имя покойного никогда не произносится вслух. Если в племени есть люди с тем же именем, им надлежит взять себе другое и носить его до тех пор, пока не родится ребенок, которого можно назвать именем покойного. После этого запрет на имя снимается.
В своих горестях и радостях эскимосы похожи на детей. Они несколько дней оплакивают умершего друга, а затем забывают о нем. Даже мать, безутешная при смерти ребенка, вскоре уже смеется и думает о других вещах.
В стране, где звезды видны постоянно на протяжении многих недель, им уделяется большое внимание, и это неудивительно. Эскимосы, в положенных им пределах, астрономы. Им хорошо известны главные созвездия, видимые в северных широтах, и они по-своему описывают и называют их. В Большой Медведице они усматривают стадо небесных оленей. Плеяды, в представлении эскимосов, – это стая собак, преследующая одинокого белого медведя, а Близнецы – два камня у входа в иглу. В луне и солнце эскимосы подобно некоторым индейским племенам Северной Америки видят убегающую девушку и преследующего ее возлюбленного.
Время представляет для эскимоса весьма малую ценность, когда речь идет лично о нем, однако эскимос, разобравшийся в понятиях и обычаях белых, прекрасно отдает себе отчет в том, как важно быть пунктуальным, и исполняет приказания с удивительной быстротой и проворством.

Эскимосский каяк
Эскимосы исключительно сильный и выносливый народ; я убежден, что в этом отношении с ними не может сравниться никакой другой из ныне известных первобытных народов. Правда, эскимосы, как правило, менее рослы, если подходить к ним с нашими мерками, но я знаю среди них людей 5 футов 10 дюймов ростом и весом 185 фунтов. Распространенное мнение, будто эскимосы нескладно сложены, не соответствует действительности и служит еще одним примером того, что нельзя судить о человеке по одежде. Костюм эскимосов элегантностью не отличается.
Сделанные из шкур каяки и охотничьи принадлежности эскимосов – высокий образец изобретательности и смышлености. На легкий каркас, состоящий из бесчисленных мелких кусков дерева, искусно соединенных ремнями из тюленьей кожи, натягиваются дубленые тюленьи шкуры, аккуратно сшитые в одно целое женщинами; швы, чтобы сделать их водонепроницаемыми, промазываются тюленьим салом и сажей из светильников. В результате получается не лишенное изящества, обладающее большой плавучестью суденышко, вполне соответствующее той цели, для которой оно предназначено, а именно: дать возможность охотнику бесшумно подкрасться к стадам тюленей, моржей и белух. Суденышко в зависимости от комплекции его создателя и владельца имеет от 20 до 24 дюймов в ширину и от 16 до 18 футов в длину. В нем помещается один человек. Я помог эскимосам несколько усовершенствовать его, снабдив их более подходящим материалом для каркаса, однако его идея и конструкция являются исключительно их достоянием.
Я давно полюбил этот простой, бесхитростный народ и научился ценить многие его замечательные и полезные качества, и этому едва ли приходится удивляться. Не надо забывать, что почти за четверть века знакомства с ним я узнал его лучше, чем любое другое сообщество людей на Земле. Нынешнее поколение эскимосов фактически выросло на моих глазах. Каждого члена племени, будь то мужчина, женщина или ребенок, я знаю по имени и в лицо так, как домашний врач в старину знал всех членов семьи, которых он лечил, и, возможно, подобные узы дружбы связывают меня с ними. Интимное знание каждого человека в отдельности сослужило мне бесценную службу в моей работе.
Взять, например, четверку молодых эскимосов, входивших в состав санного отряда, который в конце концов достиг столь желанной 90-й северной параллели. Старшему из них, Ута, около 34 лет. Он прекрасный охотник, богатырски сложен и почти 5 футов 8 дюймов ростом. Когда я впервые познакомился с ним, он был еще подростком. Эгингва, второй член группы, здоровый парень весом около 175 фунтов; ему 26 лет. Сиглу – около 24 лет, Укеа – всего 20. Все четверо привыкли смотреть на меня как на покровителя, защитника и руководителя своего народа. Мне были прекрасно известны возможности и индивидуальные черты каждого из них, и именно их я избрал для последнего решающего усилия, зная, что они лучше, чем кто-либо, приспособлены для работы, которую предстояло проделать.
Прежде чем возобновить свой рассказ о том, как мы поплыли дальше, я хочу сказать несколько слов об эскимосских собаках – этих замечательных созданиях, без которых наша экспедиция не могла бы увенчаться успехом. Это крепкие великолепные животные. Есть собаки крупнее, есть собаки красивее, но я не верю в них. Возможно, и собаки других пород могут работать так же хорошо и совершать такие же быстрые и длинные переходы, когда они досыта накормлены, но нет другой такой собаки на свете, которая могла бы работать столь же долго при низких температурах, практически на голодном пайке. Кобель эскимосской собаки весит в среднем от 80 до 100 фунтов, хотя у меня был один, весивший 195 фунтов. Суки несколько меньше. Особенностями их экстерьера являются заостренная морда, широко поставленные глаза, острые уши, очень густая шерсть с мягким плотным подшерстком, мощные мускулистые лапы и пушистый, похожий на лисий, хвост. Существует всего лишь одна порода эскимосских собак, но окраски они бывают самой разнообразной – черные, белые, серые, рыжие, коричневые, пегие. По мнению некоторых ученых, они прямые потомки полярного волка, однако, как правило, они так же привязчивы и послушны хозяину, как наши домашние собаки. Питаются они исключительно мясом. На основании опыта я убедился, что они не выносят никакой другой пищи. Вместо воды они едят снег.
Эскимосские собаки круглый год живут под открытым небом; и летом и зимой их держат на привязи около палатки или иглу. Им никогда не позволяют бродить, где вздумается. Иногда хозяин на время берет к себе в иглу особенно любимую собаку или суку с щенками; впрочем, щенки уже через месяц после рождения становятся такими крепышами, что могут выдерживать суровые зимние холода.

Эскимосская собака
Полагаю, я сказал достаточно, чтобы дать читателю общее представление об этом необычном народе, который оказал мне неоценимую помощь в моей работе в Арктике. Хотелось бы, однако, еще раз повторить – хотя и с риском быть неправильно понятым, – что я очень надеюсь на то, что впредь не будет предпринято никаких попыток приобщить его к цивилизации. Такие попытки, если бы они увенчались успехом, уничтожили бы тот первобытный коммунизм, благодаря которому поддерживается существование этого народа. Внушите эскимосам идею недвижимости и прав личной собственности на пищу и дома – и они могут стать такими же эгоистами, как люди цивилизованного мира, между тем как сейчас всякая добыча крупнее тюленя является у них общей собственностью племени, и ни один человек не голодает, в то время как его соседи объедаются. Если у эскимоса два комплекта охотничьего снаряжения, он поделится им с человеком, у которого нет ни одного. Как раз это чувство доброго товарищества и является залогом самосохранения всего племени. Я научил эскимосов основным правилам санитарии и ухода за телом, научил их, как лечить простейшие болезни и раны; этим, я думаю, и должно ограничиться приобщение их к цивилизации. Это мнение не основано ни на какой-либо теории, ни на предрассудках – в этом убеждает меня мой 18-летний опыт ближайшего знакомства с эскимосами.
1 августа «Рузвельт» отплыл с мыса Йорк, имея на борту несколько эскимосских семейств, которые мы забрали с мыса Йорк и с острова Салво, а также около сотни купленных у эскимосов собак. Когда я говорю «купленных», я не имею в виду, что мы платили за них деньгами, поскольку у эскимосов нет ни денег, ни какого-либо мерила стоимости. Всякий обмен вещами у них основан исключительно на принципе меновой торговли. Скажем, если у одного эскимоса есть оленья шкура, которая ему не нужна, а у другого есть что-то еще, они могут обменяться. У эскимосов были собаки, в которых мы нуждались, у нас были вещи, в которых нуждались эскимосы, – поделочный лес, ножевые изделия, кухонные принадлежности, охотничьи припасы, спички и тому подобное. И вот мы менялись.
Снова тронувшись в путь от мыса Йорк на северо-запад, мы проплыли мимо «Алых утесов» – так их назвал английский исследователь Джон Росс[30] в 1818 году. Этим красочным названием утесы обязаны массе «красного снега», который видно с корабля за много миль. Окраску вечному снегу придает Protococcus nivalis – низший одноклеточный микроорганизм. Его колонии представляют собой почти прозрачные желатинообразные сгустки диаметром от четверти дюйма до размеров булавочной головки; свое скудное пропитание микроорганизм извлекает из снега и воздуха. Издали снег похож на кровь. Это алое знамя Арктики приветствовало меня при каждом моем путешествии на Север.
Пока мы плыли мимо этих скал, которые тянутся вдоль берега на 30–40 миль, мои мысли были заняты предстоящей работой. Прежде всего надо было закончить комплектование экспедиции эскимосами, начатое на мысе Йорк, и подобрать собак.
Наша следующая остановка была 3 августа в бухте Норт-Стар, по-эскимосски Умуннуи, в проливе Вулстенхолм. Здесь мы застали «Эрика», с которым разошлись в Девисовом проливе во время бури несколько дней назад. В Умуннуи мы взяли на борт еще две или три эскимосские семьи, а также собак. Здесь к нам присоединился Укеа, один из четырех эскимосов, побывавших со мной на полюсе; Сиглу сел на «Рузвельт» у мыса Йорк.
5 августа ясной солнечной ночью я вместе с Мэттом Хенсоном пересел с «Рузвельта» на «Эрик» между островом Хаклюйт и островом Нортамберленд, предполагая обследовать несколько эскимосских поселений в заливе Инглфилд и вдоль побережья на предмет вербовки новых эскимосов с собаками. «Рузвельт» ушел вперед к Эта готовиться к предстоящей схватке со льдами в бассейне Кейна и проливах, лежащих севернее за ним.
Со странным чувством радости пополам с печалью собирал я своих смуглокожих помощников, ибо чувствовал, что собираю их в последний раз. Вербовка заняла несколько дней. Сперва я наведался в Карна на полустрове Редклифф, потом в Кангердлугссуак и Нунатугссуак во внутренней части залива. Возвратившись в Карна, мы направились на юг к леднику Итиблу, затем снова повернули на северо-запад и пошли кружным путем между островами и мысами к Кукану в бухте Робертсон, затем к Нерке на мысе Саумарес и наконец в Эта, где встретились с «Рузвельтом», завербовав нужное нам количество эскимосов и имея на борту 246 собак.
Мы не предполагали взять с собой на Дальний Север всех эскимосов, находившихся на борту «Эрика» и «Рузвельта», а только лучших из них. Однако, если какое-нибудь семейство хотело переехать из одного поселения в другое, мы охотно подвозили их. Сомневаюсь, чтобы на морях и океанах можно было найти второй такой же причудливо живописный корабль, как наш, – своего рода бесплатное туристское судно для странствующих эскимосов, палуба которого оглашалась криками детей и лаем собак и была завалена всевозможными пожитками.
Представьте себе этот битком набитый людьми и собаками корабль в погожий, безветренный день в Китовом проливе. Неподвижное море и свод неба ярко голубеют на солнце, напоминая скорее пейзаж Неаполитанского залива, а не Арктики. Кристально чистый прозрачный воздух придает краскам необычайную яркость – сверкающая белизна айсбергов, прорезанных голубыми жилами, густо-красные, тепло-серые и насыщенно коричневые тона скал, испещренных там и сям желтизной песчаника; чуть подальше иногда промелькнет мягкая зелень трав маленького арктического оазиса, а на дальнем горизонте – голубоватая сталь материкового льда. Маленькие гагарки, летающие в солнечной вышине, кажутся древесными листьями, тронутыми первым морозом и подхваченными первым осенним вихрем, так они плывут и кружатся в воздухе, словно в водовороте. Пусть пустыни Северной Африки прекрасны, как их описывает Хичинс, пусть джунгли Азии расцвечены столь же ярко, но ничто в моих глазах не сравнится по красоте со сверкающим арктическим пейзажем в солнечный летний день.
11 августа «Эрик» прибыл в Эта, где его ждал «Рузвельт». Мы выгрузили собак на остров, после чего судно было вымыто, котлы продуты и заполнены свежей водой, топки вычищены, а грузы просмотрены и переложены, чтобы привести судно в боевую готовность для предстоящей встречи со льдом. С «Эрика» на «Рузвельт» было перегружено около 300 тонн угля и около 50 тонн моржового и китового мяса.
Мы оставили в Эта 50 тонн угля – этот уголь предназначался для обратного плавания «Рузвельта» в следующем году, а также запас продовольствия на два года для боцмана Мэрфи и юнги Причарда, которые должны были присматривать за топливом. Гарри Уитни, пассажир «Эрика», желавший провести зиму в охоте на мускусных быков и белых медведей, попросил разрешения остаться с ними. Его просьба была удовлетворена, и его имущество также сгрузили на берег.
В Эта со мной встретился Рудольф Фрэнк. Он приехал на Север в 1907 году вместе с доктором Куком и просил разрешения отправиться домой на «Эрике». Он показал мне письмо от доктора Кука; тот предписывал ему вернуться домой на каком-нибудь китобойном судне в этом же сезоне. Доктор Гудсел, хирург моей экспедиции, при обследовании установил, что Фрэнк страдает цингой в начальной стадии и находится в тяжелом психическом состоянии, так что пришлось отправить его домой на «Эрике». Боцману Мэрфи, который оставался в Эта и был человеком во всех отношениях надежным, я поручил охранять от разграбления припасы и снаряжение, сложенные здесь доктором Куком, и оказывать последнему всяческое содействие по его возвращении. Я не сомневался, что он вернется, как только в проливе Смит (предположительно в январе) станет лед и даст ему возможность пройти к Аноратоку с Земли Элсмира, где он, по моим предположениям, находился.
На борту «Эрика» были еще три пассажира: мистер Крафтс, приехавший на Север производить магнитные наблюдения по заданию отдела земного магнетизма института Карнеги в Вашингтоне, Джордж Нортон из Нью-Йорка и Уолтер Ларнед, известный чемпион-теннисист. Плотник «Рузвельта» ньюфаундлендец Боб Бартлетт (однофамилец нашего капитана) и матрос Джонсон также возвращались домой на «Эрике», которым командовал капитан Сэм Бартлетт (дядя нашего капитана), плававший со мной в нескольких экспедициях.
В Эта мы взяли на борт еще несколько эскимосов, включая Ута и Эгингва, которым было суждено достичь со мною Северного полюса, и высадили на берег всех тех, кого я не хотел везти с собой к месту зимней стоянки. Всего у нас было 49 эскимосов – 22 мужчины, 17 женщин и 10 детей – и 246 собак. «Рузвельт», как обычно, сидел в воде по самую ватерлинию – столько угля мы в него затолкали. К тому же мы везли 70 тонн китового мяса, купленного на Лабрадоре, и мясо и жир почти пятидесяти моржей.

Роберт Пири распределяет утварь между женщинами Эта
18 августа мы расстались с «Эриком» и пошли на Север. Погода была отвратительная: шел снег с дождем, дул резкий юго-восточный ветер, на море было сильное волнение. «Эрик» дал нам прощальный салют гудками, и наша последняя связь с цивилизацией оборвалась.
По возвращении меня спрашивали, сильно ли я волновался при расставании со своими товарищами на «Эрике», и я положа руку на сердце отвечал: «Нет». Не следует забывать, что это была моя восьмая экспедиция в Арктику и я уже много раз разлучался с вспомогательным судном. От частого повторения притупляется самое волнующее переживание.
Когда мы вышли из гавани Эта на север, я думал о состоянии льда в проливе Робсон, а лед в проливе Робсон способен доставить куда более серьезные переживания, чем любая разлука, если только это не разлука с самыми близкими и дорогими тебе людьми, но с ними я расстался еще в Сидни, за 3000 миль южнее. Прежде чем достичь мыса Шеридан, где мы предполагали стать на зимние квартиры, нам предстояло преодолеть около 350 миль почти сплошного льда. Я знал, что за проливом Смит нам придется продвигаться вперед очень медленно, шаг за шагом, а то и буквально дюйм за дюймом среди торосистых льдов, в постоянных столкновениях, таранящих ударах и увертываниях; что в случае если «Рузвельту» суждено уцелеть, мне, возможно, в течение двух или трех недель придется спать не раздеваясь, урывками по часу или по два за раз. Если же мы лишимся судна и будем вынуждены вернуться по льду на юг из какого-нибудь пункта южнее, а то и севернее залива Леди-Франклин, мне придется сказать «прощай» мечте всей моей жизни, а быть может, и кому-нибудь из моих товарищей.
Моржи относятся к наиболее живописным и сильным животным Крайнего Севера. Более того, охота на моржей – занятие отнюдь не безопасное – составляет важную черту всякой серьезной арктической экспедиции, ибо дает максимум мяса для собак за минимально короткий срок. Вот почему во все мои экспедиции мы охотились на этих гигантов, весящих от 1200 до 3000 фунтов.
Пролив Вулстенхолм и Китовый пролив, которые судно минует перед тем, как достичь Эта, являются излюбленными местами обитания моржей. Охота на этих чудовищ – наиболее волнующий и опасный вид охоты в Арктике. Белого медведя называют тигром Севера; однако из поединка с двумя или даже тремя этими животными человек, вооруженный магазинной винтовкой Винчестера, всегда выходит победителем. И наоборот, поединок со стадом моржей – львов Севера, когда люди сидят в маленьком вельботе, представляет собой самое захватывающее зрелище из всех известных мне за полярным кругом.
В свою последнюю экспедицию я не принимал участия в охоте на моржей, предоставив этот увеселяющий труд более молодым. В прошлом я видел так много подобных охот, что мое первое живое впечатление от этого зрелища ныне притуплено. Вот почему я попросил Джорджа Борупа написать для меня отчет о моржовой охоте так, как она представляется новичку, и его рассказ вышел таким красочным, что я привожу его в собственном изложении Борупа. Острота впечатлений молодого человека делает его рассказ графически зримым, а университетский сленг придает ему живописность. Боруп пишет:
«Моржовая охота – самая забористая штучка для охотника, какую только я знаю. В потную работенку влезаешь, когда берешь в оборот стадо в полсотни с лишним туш, весом от одной до двух тонн каждая, которые набрасываются на тебя, раненные или не раненные; которые могут пробить слой молодого льда в 8 дюймов толщиной и которые лезут в лодку, стремясь добраться до человека и кувыркнуть его в воду – мы никогда не могли выяснить, кого именно, да и не старались, так как от этого ничего бы по изменилось, – или же норовят протаранить лодку.
Представьте себе заварушку: все в вельботе, стоя бок о бок, отражают идущих на абордаж, молотят их по головам веслами, баграми и топорами, вопя, как болельщики на футбольном матче, чтобы отпугнуть их прочь; винтовки палят, как пушки Гэтлинга, моржи ревут от ярости и боли, сумасшедшими бросками выскакивают на поверхность, взметая фонтаны воды, так что впору подумать, будто по соседству с тобой сорвалась с цепи стая гейзеров – нет, это просто здорово!
Когда мы начинали охоту, «Рузвельт» потихоньку шел под парами, команда стояла наготове. Потом вдруг раздавался крик зоркого эскимоса: «Авик соа!» или, может, «Авик тедик соа!» (Моржи! Очень много моржей!)
Мы присматривались, достаточно ли животных, чтобы оправдать набег. Затем, если перспективы были подходящие, «Рузвельт» уваливался под ветер, потому что, если бы моржи учуяли дым, они бы проснулись и мы бы их больше не видели.
Мы ходили за этими тварями по очереди – Хенсон, Макмиллан и я. Каждому придавались четыре или пять эскимосов, один матрос и вельбот. Лодки были выкрашены в белый под цвет льдин, уключины обмотаны тряпками, чтобы мы могли подкрадываться как можно бесшумнее.

Вельбот возвращается с охоты на моржей
Обнаружив стадо, с которым стоило повозиться, мы кричали матросам: «А ну, братишки, навались!», и они проворно подскакивали к лодкам. Торопливо, но тщательно проверив, все ли у нас на месте, а все – это пять весел, пять гарпунов, веревки, поплавки, два ружья и патроны к ним, – мы выкликали: «Изготовиться травить тали!» «Рузвельт» сбавлял ход, мы соскальзывали на талях вниз, брались за весла и отправлялись искать беды себе на шею, которую обычно и находили.
Вот мы подбираемся как можно ближе к моржам, лежащим на льду. Если они крепко спят, мы можем подгрести к ним на пять ярдов и загарпунить пару штук. Но обычно они просыпаются, когда мы еще в двадцати ярдах от них, и начинают соскальзывать в воду. Тогда мы открываем огонь, и, если они нападают, их легко гарпунить; если же они предпочитают очистить поле битвы, приходится выдерживать марафонский бег, прежде чем удастся подойти к ним достаточно близко, чтобы прощупать гарпуном их бока.
Убитый морж опускается на дно, как тонна свинца, вот почему наша задача всадить в него гарпун, прежде чем это событие будет иметь место. Гарпун прикрепляется к поплавку длинным ремнем, сделанным из тюленьей кожи, а поплавок сделан из целой тюленьей шкуры и надут воздухом.
Главное, за чем мы очень скоро научились следить, – это предоставлять ремню, который до броска лежит аккуратно свернутыми кольцами наподобие лассо, преимущественное право прохода и все необходимое ему пространство, ибо если ремню случится обвиться вокруг чьей-нибудь ноги, когда другой его конец прочно закреплен на морже, мы можем лишиться этого ценного члена команды, можем оказаться утащенными в воду и, возможно, утонуть.
Так вот. Команда, затевающая свалку с этими монстрами, приобретает навык согласованной игры высокого класса за удивительно короткий срок. Матрос правит, четверо эскимосов гребут, а старший с лучшим гарпунером сидят на носу. Двое на носу могут подменять гребцов, если охота долгая.
Мне никогда не забыть моей первой свары со стадом. Заметив около десяти моржей в 2 милях от нас, мы – Макмиллан, я, матрос Деннис Мэрфи и три эскимоса – сели в вельбот и давай пошел. Примерно в 200 ярдах от моржей мы перестали грести, и только Мэрфи продолжал работать кормовым веслом. Мы с Маком сидели, пригнувшись на носу, эскимосы с гарпунами наготове находились у нас за спиной.
Когда мы подошли к стаду ярдов на 20, один самец проснулся, издал ворчащий звук, толкнул другого, разбудил его, и тут мы трах! трах! трах! – открыли огонь. У Мака был самозарядный винчестер, и он отстрелял свои пять патронов с такой быстротой, что первая пуля еще только вылетала из ствола, а остальные четыре уже догоняли ее. Он подбил большого самца, который конвульсивно дернулся и с плеском свалился в воду. Я подбил пару, после чего все стадо, хрипло мыча от ярости и боли, подползло к кромке льда и нырнуло в воду. Мы быстро подогнали лодку на 5 ярдов к подбитому Маком самцу, один из эскимосов метнул в него гарпун и сбросил за борт поплавок. В эту минуту около 40 других моржей, кормившихся под водой, поднялись на поверхность поглядеть, зачем весь этот шум. При этом они выплевывали раковины моллюсков и отфыркивались. Вода кишмя кишела этими тварями, и многие были так близко, что мы могли достать их веслом. Классным ударом еще в одного моржа был загнан гарпун. И тут, как раз в тот момент, когда мой магазин оказался пуст, с нами начало твориться неладное. Большой самец и присоединившиеся к нему два других – все трое раненые – неожиданно выплыли на поверхность в 20 ярдах от нас и, издав боевой клич, бросились в атаку. Эскимосам это не понравилось. Они схватили весла и принялись дубасить ими по планшири, завывая, как 100 сирен, в надежде отпугнуть зверей. Однако они могли бы с тем же успехом распевать колыбельные.
Мак, никогда прежде не стрелявший дичи крупнее, чем птица, сохранял хладнокровие, и его самозарядка затрещала, словно автоматическая пушка, когда мы ударили по этой тройке. Ее многочисленные компаньоны поддерживали шум. Гром выстрелов, крики и удары эскимосов, рев разъяренных животных – тарарам был такой, будто с Везувия срывало макушку. Мы утопили одного моржа и вывели из строя другого, однако самый большой нырнул и выскочил у самого борта лодки, отфыркнув воду прямо нам в лицо. Чуть ли не упираясь дулами в его голову, мы нажали на спуски, и он начал тонуть. С победными криками эскимосы загарпунили его.
Затем мы дали знак «Рузвельту» подходить, и, как только друзья и родственники усопших учуяли дым, они отбыли в неизвестном направлении.
На этой охоте, так же как и на всех других, в которых я участвовал, мне стоило немалых усилий не стрелять по поплавкам. Они были черные и чудно подпрыгивали на волнах, словно живые. Я отлично понимал, что, если попаду в поплавок, с ним придется распроститься навеки, а потому проявлял осторожность.
В другой раз мы взяли в оборот стадо более чем в полсотни штук, спавшее на льду. Дул довольно сильный ветер, а стрелять точно с вельбота, отплясывающего кекуок в объятиях неспокойного моря, – дело не простое. Подобравшись к льдине на 20 ярдов, мы открыли огонь. Я подранил двух моржей, но не убил их, и со свирепым ворчанием огромные твари соскользнули в воду. Они направились к нам, и вся команда изготовилась показать, как мы умеем поторапливать уходящих гостей на вышеописанный вокально-инструментальный манер.
Эскимос Вишакупси, стоявший у меня за спиной и до этого много толковавший нам про то, как ловко он управляется с гарпуном, делал угрожающие выпады, не сулившие ничего хорошего любому моржу, который бы осмелился приблизиться к нам.
Вдруг из воды совсем рядом со мной, с громким «ук! ук!», словно гигантский попрыгун, выскочил самец и положил клыки на планширь, окатив нас хорошим душем.
Вишакупси явно не ожидал рукопашной и изрядно перетрусил. Вместо того чтобы метнуть гарпун, он уронил его, завопил, как сумасшедший, и начал плевать в морду чудовища. Излишне объяснять, что мы никогда больше не брали Виша-купси охотиться на моржей в вельботе.
Остальные, кто был в лодке, кричали, проклинали по-английски и по-эскимосски Вишакупси, моржа и вообще все на свете; одни пытались бить зверя, другие табанить.
Я в тот момент не горел желанием проверить, насколько верен афоризм одного полярного исследователя, гласящий: «Если морж цепляет за борт лодки, не надо бить его, так как это заставит зверя податься назад и он опрокинет вас; нужно просто легонько взять за клыки чудовище весом в 2000 фунтов и сбросить его в воду» – или что-то в этом роде. Если бы моржу удалось продвинуть клыки на какую-нибудь четверть дюйма в мою сторону, он бы полностью захватил ими планширь. Поэтому я поднял ружье, приставил его дулом к морде пришельца и нажал на спуск, что и решило дело.
Этот морж едва не опрокинул нас, но почти немедленно вслед за ним другой опробовал новый вариант игры и предпринял чуть было не увенчавшуюся успехом попытку потопить нас – этакие штучки с нырками.
Это был большой самец, которого загарпунил один из эскимосов. Он тотчас же показал, из какого теста он сделан, атаковав поплавок и выведя его из строя. Затем он принялся за гарпун и ремень. Случилось так, что он оказался у моего конца лодки, и я выстрелил в него, но попал или нет – не знаю. Во всяком случае, он нырнул, и как раз в тот момент, когда все мы смотрели за борт, ожидая его на поверхности, наше суденышко потряс колоссальный удар в корму – удар настолько сильный, что боцман, который мирно стоял там, огребаясь веслом, свалился с ног.
Наш друг проявлял слишком уж кипучую деятельность; но он нырнул, прежде чем я успел выстрелить, и всплыл в 50 ярдах поодаль. Тут я всадил в него пулю, и он исчез. Не могу сказать, чтобы мы так уж сгорали от любопытства в последующие несколько минут, ибо знали, что это подводное землетрясение в любой момент может дать новый толчок – вот только когда и где? Мы во все глаза смотрели на поверхность воды, пытаясь определить, откуда последует новая атака.
Еще одна подобная стычка – и нам каюк в буквальном и переносном смысле, ибо морж проделал большущую дыру в днище лодки, а поскольку днище было двойное, мы не могли остановить течь, и одному из нас приходилось лихорадочно отчерпывать воду. Мы всегда брали с собой кучу старой одежды для затыкания пробоин, но в данном случае мы с таким же успехом могли затыкать дыру носовыми платками.
Внезапно эскимос, глядевший за борт, завопил: «Кингимутт!» (Осади его! Осади!), но не успел он это выкрикнуть, как – трах! бац! хрясь! – корма лодки вздыбилась от удара, и наш боцман вылетел бы за борт, если бы эскимос не подхватил его, а у самых его ног, чуть повыше ватерлинии, обозначилась дыра, в которую я мог бы засунуть оба кулака.
Я глянул через планширь. Зверюга лежал на спине, уставя клыки прямо вверх, под корму. Затем с быстрым всплеском нырнул. Команда проделывала обычные трюки, чтобы отпугнуть его. Он всплыл в 15 ярдах от нас, издал свой боевой клич «ук! ук! ук!» – дескать, ждите беды – и понесся по поверхности Китового пролива, словно торпедный катер или автомобиль без глушителя, преследуемый полисменом на велосипеде.
Я ввел в дело мою скорострельную пушку и потопил его. Затем мы ринулись к ближайшей льдине и достигли ее как раз вовремя».
Продолжая далее рассказ Борупа, скажу, что, когда первый раненый морж добивается пулей, а все поплавки уже убраны, на вельботе поднимают весло, и «Рузвельт» подплывает к месту охоты. Поплавки и веревки выбирают через поручни на судно, моржа поднимают на поверхность, подцепляют крюком и лебедкой вытаскивают на палубу. Затем искусные ножи эскимосов освежевывают и разделывают его. В это время палуба судна напоминает бойню. Прожорливые собаки – на данном этапе путешествия их насчитывалось уже около 150, – навострив уши и сверкая глазами, стоят наготове и подхватывают отбросы, которые кидают им эскимосы.
В районе Китового пролива мы иногда добывали нарвалов и северных оленей, но в этот раз по пути на Север на нарвалов почти не охотились. Мясо моржей, нарвалов и тюленей – ценный корм для собак, однако белый человек обычно ест его неохотно – разве что под угрозой голодной смерти. Тем не менее за 23 года моих странствий мне не раз приходилось благодарить Бога хотя бы за кусок сырой собачатины.
От Эта до мыса Шеридан! Представьте себе около 350 миль почти сплошного льда – льда всевозможных форм и размеров: торосистого льда, плоского льда, льда дробленого и искореженного, льда, каждому футу надводной части которого соответствуют 7 футов под водой, – вот поле битвы с дьявольским, поистине титаническим размахом борьбы, по сравнению с которым замерзший круг Дантова ада покажется простым катком.
А затем представьте себе маленькое черное суденышко, крепкое, дюжее, компактное, сильное и выносливое, каким только может быть судно, построенное человеком, но все же абсолютное ничто рядом с холодным белым противником, с которым ему предстоит сразиться. А на этом суденышке 69 человек – мужчин, женщин и детей, белых и эскимосов, которые вышли в сумасшедший, забитый льдом пролив между Баффиновым заливом [морем Баффина] и Полярным морем [Северным Ледовитым океаном], – вышли затем, чтобы доказать реальность мечты, которая на протяжении столетий владела наиболее дерзновенными умами человечества, – доказать реальность того блуждающего огонька, в погоне за которым люди мерзли, голодали, умирали. В наших ушах постоянно звучала музыка, лейтмотивом которой был вой 246 одичалых собак, басовым сопровождением – низкое, глухое ворчание льда, вздымавшегося вокруг нас под напором приливов, а акцентами – стук и дребезг наших сокрушительных наскоков на ледяные поля.
Днем 18 августа 1908 года мы в тумане покинули Эта и взяли курс на север. Начинался последний этап плавания «Рузвельта». Всем, кто находился теперь на борту, если только им суждено было выжить, предстояло сопровождать меня вплоть до моего возвращения в будущем году.
Едва выйдя из гавани, мы наскочили на маленький айсберг, хоть и двигались средним ходом из-за тумана. Это было как бы неучтивое напоминание о том, что ожидает нас впереди. Будь «Рузвельт» заурядным судном, а не стойким борцом со льдом, на этом, возможно, и закончилась бы моя повесть. Толчок был нешуточный. Однако айсберг пострадал сильнее, чем корабль, который лишь встряхнулся, словно собака, вылезающая из воды; основная масса айсберга тяжело откачнулась в сторону от удара, громадный кусок льда, который мы от него откололи, вспенил воду по другую сторону, а «Рузвельт» протиснулся в промежуток и пошел дальше.
Это маленькое происшествие произвело сильное впечатление на новичков, и я не счел нужным объяснять им, что это просто комариный укус по сравнению с тем хрустом, скрежетом и трясучкой, которые готовят нам тяжелые льды впереди. Мы медленно продвигались на северо-запад в направлении Земли Элсмира, держа курс на овеянный страшными воспоминаниями мыс Сабин. По мере удаления на север лед становился более мощным, и нам пришлось повернуть на юг, чтобы обойти его, лавируя между отдельными ледяными полями. «Рузвельт» избегал тяжелого льда, но более или менее тонкий пак расталкивал без особого труда. К югу от острова Бреворт нам посчастливилось найти полосу открытой воды, и мы вновь взяли курс на север, держась у самого берега.
Не следует забывать, что на большей части пути от Эта до мыса Шеридан ясно видны оба берега – с восточной стороны побережье Гренландии, с западной – берега Земли Элсмира и Земли Гранта. У мыса Бичи в самой узкой и опасной части ширина пролива составляет всего 11 миль, и при ясной погоде кажется, что ружейная пуля могла бы долететь с одного берега до другого. За исключением особенно благоприятных моментов, здешние воды всегда забиты мощным льдом, постоянно прибывающим из Полярного моря [Северного Ледовитого океана] в Баффинов залив [море Баффина].
Проложен ли этот проход силой древних ледников или представляет собой гигантскую расщелину, образовавшуюся в результате отделения Гренландии от Земли Гранта, – вопрос, до сих пор не разрешенный геологами. Как бы там ни было, другого столь же трудного и опасного для навигации места не сыскать во всей Арктике.
Непрофессионалу трудно судить о характере льда, сквозь который пробивал себе путь «Рузвельт». Обычно полагают, что лед арктических областей образуется при непосредственном замерзании морской воды, однако в летние месяцы лишь малая часть плавучего льда образуется таким образом. Главную же его массу составляют огромные ледяные щиты, отколовшиеся от ледниковой кромки северной части Земли Гранта в результате взаимодействия с другими ледяными полями и сушей и уносимые на юг сильнейшими приливными течениями. Тут нередко встречается лед от 80 до 100 футов толщины. Но так как семь восьмых льдины скрывается под водой, то не отдаешь себе отчета в мощности ее, пока какая-нибудь исполинская глыба, подпираемая паком, не окажется выброшенной на берег, где она и стоит, обсохшая, возвышаясь на 80, а то и на все 100 футов над уровнем воды, словно серебряная крепость, охраняющая берега этого фантастического, забитого льдом Рейна.
Узкие, запруженные льдом проливы между Эта и мысом Шеридан долгое время считались абсолютно непроходимыми для судов, и помимо «Рузвельта» лишь четырем кораблям удалось преодолеть сколько-нибудь значительную часть этого маршрута. Один из них – «Полярис» – погиб. Остальные три – «Алерт», «Дискавери» и «Протеус» – благополучно прошли туда и обратно, но при повторной попытке «Протеус» затонул. «Рузвельт» в мою экспедицию 1905–1906 годов дошел невредимым до мыса Шеридан, но на обратном пути был сильно помят.
Следуя на север, «Рузвельт» по необходимости держался берега, так как только у берега можно было найти полосы открытой воды. При таком способе проведения судна, когда с одной стороны у тебя береговой припай, а с другой, посередине пролива, – дрейфующий пак, сменяющиеся приливно-отливные течения почти наверняка дадут время от времени возможность продвигаться вперед.
В этом проливе встречаются течения, приходящие из Баффинова залива [моря Баффина] на юге и моря Линкольна на севере, причем местом встречи является мыс Фрейзер. Южнее этого пункта приливное течение направлено на север, а севернее – на юг. О силе этих течений можно судить по тому, что на берегах Полярного моря [Северного Ледовитого океана] средняя высота подъема воды составляет лишь немногим более фута, тогда как в самой узкой части пролива вода прибывает и убывает на 12, а то и на 14 футов.
Обычно, когда смотришь на пролив, воды в нем не видишь, а только неровный развороченный лед. Во время отлива корабль полным ходом продвигается вперед по узкой полосе воды между берегом и дрейфующим посередине пролива паком; во время прилива, когда возникает стремительное движение воды в южном направлении, кораблю приходится поспешно укрываться в какой-нибудь выемке припая или за каким-нибудь скалистым мысом, чтобы избежать аварии или не быть снесенным обратно на юг.
Такой способ кораблевождения, однако, сопряжен с постоянной опасностью: находясь между неподвижными скалами, с одной стороны, и быстро дрейфующим тяжелым льдом – с другой, судно может быть в любую минуту раздавлено. Знание ледовых и навигационных условий в этих проливах было исключительно моим личным достоянием и добывалось годами путешествий вдоль здешних берегов и их изучения. За время своих прошлых экспедиций я три раза, а на некоторых участках до восьми раз прошел пешком всю полосу побережья от Пайер-Харбор на юге до мыса Джозеф-Генри на севере. Я знал каждую впадину берега, каждое прибежище, где мог укрыться корабль, каждое место, где садятся на мель айсберги, а также все места с особенно сильным течением, знал так же хорошо, как капитан буксира в нью-йоркской гавани знает причалы на берегу Норт-Ривер. Когда Бартлетта брало сомнение в целесообразности какого-нибудь рискованного броска, я обычно говорил ему: «В таком-то и таком-то месте, на таком-то расстоянии отсюда есть маленькая бухта за дельтой реки. Там мы можем в случае необходимости поставить судно». Или: «Здесь почти всегда айсберги выносятся на мель, и мы можем укрыться за ними». Или: «Заходить вот в это место ни в коем случае нельзя, лед тут обычно легко торосится и может уничтожить судно».
Доскональное знание каждого фута побережья Земли Элсмира и Земли Гранта вкупе с энергией и ледовым опытом Бартлетта позволили нам 4 раза пройти эту Сциллу и Харибду арктических морей.
На следующую ночь в 9 часов туман рассеялся, солнце выглянуло из-за туч, и, когда мы проходили мимо Пайер-Харбор на побережье Земли Элсмира, мы увидели ярко очерченный на фоне снега дом, где я провел зиму 1901–1902 годов. Вид его воскресил в моей памяти рой воспоминаний. Здесь, в Пайер-Харбор, с сентября 1900 по май 1901 года меня ждали на «Уиндварде» моя жена и маленькая дочь; из-за тяжелых ледовых условий корабль в тот год не мог ни пройти к Форт-Конгер в 300 милях севернее, где я тогда находился, ни выйти на открытую воду к югу и вернуться домой. Весной 1901 года я был вынужден повернуть обратно от бухты Линкольн – истощение моих эскимосов и собак сделало невозможным бросок к полюсу. В Пайер-Харбор я встретил семью, в Пайер-Харбор простился с нею, полный решимости предпринять еще одну попытку достичь цели.
«Еще одно усилие», – сказал я в 1902 году, но дошел только до 84° 17 северной широты.
«Еще одно усилие», – сказал я в 1905 году, но дошел только до 87°6 северной широты.
И вот теперь, 18 августа 1908 года, я снова в Пайер-Харбор и по-прежнему говорю: «Еще одно усилие». Только на этот раз я знал, что усилие будет последним, независимо от результата.
В 10 часов вечера мы прошли мимо пустынных, продуваемых всеми ветрами, истолченных льдом скал мыса Сабин, на котором история арктических исследований вписала одну из своих самых мрачных страниц: тут в 1884 году медленно умирали голодной смертью члены злополучной экспедиции Грили – из 24 человек удалось спасти только 7. Развалины грубой каменной хижины, построенной этими людьми в последний год их жизни, до сих пор видны на суровом северном берегу мыса в двух или трех милях от его оконечности. Совершенно не защищенное от жестоких северных ветров, закрытое с юга скалами от лучей солнца и осаждаемое паковым льдом, нагоняемым из бассейна Кейна с севера, – худшее место для зимовки трудно сыскать во всей Арктике.
Впервые я увидел это зимовье в августе 1896 года, во время слепящей пурги. Снег мел так густо, что уже на расстоянии нескольких ярдов ничего не было видно. Впечатления того дня никогда не изгладятся из моей памяти. Сердце мое сжималось от ужаса и скорби. Самое же печальное во всей этой истории было то, что катастрофа не была неотвратимой, ее можно было избежать. Мне и моим людям приходилось и мерзнуть, и голодать в Арктике, когда холод и голод были неизбежны. Однако ужасы мыса Сабин не были неизбежны. Они останутся несмываемым пятном в анналах американских исследований в Арктике.
Севернее мыса Сабин было так много открытой воды, что мы хотели воспользоваться южным ветром и поставить рейковый парус, но немного погодя лед появился вновь, и нам пришлось отказаться от своего намерения. Примерно в 60 милях к северу от Эта, у мыса Виктория, мы намертво стали в паковом льду. Вынужденная стоянка продолжалась несколько часов, и мы использовали это время, чтобы наполнить цистерны льдом с ледяного поля.
К вечеру следующего дня подул сильный южный ветер, и мы стали медленно дрейфовать на север вместе со льдом. Через несколько часов под действием ветра во льду появились разводья, и мы повернули на запад, по направлению к суше. Над палубой летела водяная пыль, и один эскимос сказал, что это дьявол плюет на нас. Через несколько миль мы наткнулись на сплоченный лед и снова остановились.
Доктор Гудсел, Макмиллан и Боруп укладывали в шлюпки продовольствие и медикаменты на случай аварии. Если бы «Рузвельт» был раздавлен льдами и начал тонуть, мы бы в мгновение ока спустили на воду шлюпки, снабженные всем необходимым, и вернулись в страну эскимосов, а оттуда – в цивилизованный мир на каком-нибудь китобойном судне или на корабле, который Арктический клуб Пири должен был выслать к нам с углем в будущем году. Разумеется, это означало бы провал всех наших планов.
В каждый из шести вельботов было уложено: ящик с двенадцатью 6-фунтовыми банками пеммикана, две 25-фунтовые банки сухарей, две 5-фунтовые банки сахара, несколько фунтов кофе и несколько банок сгущенного молока, керосинка и пять банок керосина по галлону каждая, винтовка с сотней патронов и дробовик с полсотней зарядов, спички, топор, ножи, нож для вскрытия банок, соль, иголки и нитки, а из медикаментов: кетгут и хирургические иглы, бинты и вата, хинин, танин, марля, жидкая мазь для пластырей, борная кислота и антисептический порошок для присыпки ран.
Лодки с полным комплектом весел, мачт, парусов и прочего были подвешены на шлюпбалках; продовольствия на них должно было хватить на неделю или на 10 дней. При отплытии из Эта основные продукты питания, такие, как чай, кофе, сахар, пеммикан и сухари, а также керосин мы сложили на палубе у бортов, чтобы их можно было немедленно сбросить на лед, в случае если судно будет раздавлено.
Каждый человек на «Рузвельте», включая эскимосов, имел наготове небольшой узел с вещами, с которым он мог в любой момент спрыгнуть с судна после спуска лодок и припасов. Никто не раздевался на ночь, а ванна, установленная в моей каюте, могла бы свободно остаться в Нью-Йорке, так мало я ею пользовался по пути от Эта до мыса Шеридан.
Чтобы не терять зря времени и не давать эскимосам досуга для размышлений об опасностях, подстерегающих их плавучий дом, я старался занять их работой. Мужчины делали сани и шили собачьи сбруи, чтобы, достигнув мыса Шеридан, – если это окажется возможным, – мы имели наготове все необходимое для осенней охоты. У нас на борту был лесоматериал, и каждый эскимос строил для себя сани, вкладывая в работу все свое мастерство. Гордость эскимоса своими личными достижениями была мне большим подспорьем и поощрялась особыми наградами и особой похвалой.
Женщин-эскимосок, как только «Рузвельт» вышел из Эта, мы засадили шить нам зимнюю одежду, чтобы в случае аварии судна каждый член экспедиции имел теплое обмундирование. В Арктике мы одеваемся практически так же, как эскимосы, вплоть до меховых чулок. Иначе мы бы постоянно отмораживали ноги. Тот, кто не может жить без шелковых чулок, едва ли может думать о завоевании полюса. Так как всех нас, включая эскимосов, было 69 человек, в том числе женщины и дети, портняжной работы предвиделось немало. Надо было проверить и починить старую одежду и сшить новую.
Поскольку самый тяжелый этап битвы со льдом еще не начался, новички экспедиции – Макмиллан, Боруп и доктор Гудсел – на первых порах с большим интересом наблюдали за швеями. Эскимоски – своеобразные портнихи. Во время работы они усаживаются как кому удобно: на стуле, на любом возвышении, а то и прямо на полу. У себя дома они снимают обувь, ставят прямо ступню ноги и зажимают материю между большим и вторым пальцами ноги; шьют они не к себе, как наши женщины, а от себя. Нога как бы служит эскимоске третьей рукой.
Эскимосские женщины знают цену своим портняжным способностям и принимают подсказки со стороны неопытных белых с благодушной терпимостью, идущей от сознания собственного превосходства. Бартлетт, присутствуя при том, как одна из северных красавиц кроила ему куртку для весеннего санного похода, стал умолять ее сделать шубу попросторней. В ответ она сказала ему, мешая эскимосские и английские слова: «Будь спокоен, капитан! Когда ты выйдешь на дорогу к полюсу, тебе понадобится подпояска, а не вставной клин». Эскимоска видела, какими мы возвращались из санных походов в прошлом, и знала, как обвисает на человеке одежда после длительной тяжелой работы при скудном рационе.
Эскимосам не возбранялось расхаживать по всему судну, а левый борт у передней рубки вообще был всецело отдан в их распоряжение. Вдоль стены рубки, в виде широкого возвышения в три или четыре фута, были составлены упаковочные ящики, на которых эскимосы могли спать. У каждой семьи было отдельное помещение, отгороженное по бокам досками и завешенное занавеской. Эскимосы сами готовили себе мясо и прочую пищу; Перси, наш повар, снабжал их чаем и кофе. Если они изъявляли желание отведать вареных бобов, мяса с овощами или что-нибудь еще из корабельных припасов, Перси и тут шел им навстречу. Он угощал их и своим знаменитым хлебом, равного которому по легкости и рассыпчатости нет на всем белом свете.
Казалось, эскимосы никогда не перестают есть. Стол для них мы не накрывали, так как они не придерживались определенных часов еды; каждая семья ела, когда захочется. Я снабдил их кастрюлями, сковородками, тарелками, чашками, блюдцами, ножами, вилками и керосинками. Они круглые сутки имели доступ в камбуз. Перси проявлял терпение и в конце концов отучил их мыть руки в воде, предназначенной для готовки.
На третий день плавания погода стала омерзительной. Не переставая лил дождь, дул сильный южный ветер. Собаки на палубе стояли понурые, с мокрыми хвостами. Только во время кормежки они оживлялись, дрались и огрызались. Судно по большей части либо стояло на месте, либо медленно дрейфовало со льдом к устью бухты Доббин. Когда лед наконец разредился, мы прошли миль десять по открытой воде, и тут у нас лопнул штуртрос. Пришлось остановиться для ремонта, хотя впереди была полоса открытой воды. Восклицания капитана по этому случаю предоставляю воображению читателя. Если бы в момент происшествия «Рузвельт» находился между двумя ледяными полями, твердыня Северного полюса, возможно, не пала бы и поныне. Только после полуночи нам удалось двинуться дальше, но уже через полчаса «Рузвельту» снова пришлось остановиться из-за непроходимых льдов.
Весь четвертый день плавания мы простояли на месте. Легкий ветерок со стороны бухты Принсесс-Мари медленно сносил нас на восток. Однако было солнечно, и мы воспользовались передышкой, чтобы просушить нашу одежду, насквозь промокшую от дождя. Так как было лето, от холода мы не страдали. Разводья между ледяными полями мало-помалу расширялись, и в 9 часов вечера мы снова двинулись в путь, но уже в 11 часов вошли в густой туман. Всю ночь мы протискивались сквозь лед – он был толстый, но не слишком тяжелый для «Рузвельта», так что нам лишь дважды пришлось дать задний ход. В таких условиях судно обычного типа вообще не могло бы продвинуться вперед.
Уордуэл, наш старший механик, выстаивал по восьми, а то и по двенадцати часов на вахте наравне со своими помощниками и во время прохождения по этим опасным проливам почти безотлучно находился в машинном отделении, не спуская глаз с машин и следя за тем, чтобы ни одна часть механизма не вышла из строя в критический момент, что означало бы гибель судна. Когда «Рузвельт» продвигался между двумя ледяными полями, я обычно кричал ему в трубу, соединяющую капитанский мостик с машинным отделением: «Шеф, держите судно в движении, что бы ни случилось!»
Иногда «Рузвельт» грозило зажать между краями двух сходящихся ледяных полей. В такие минуты миг кажется вечностью. «Уордуэл, – кричал я старшему механику, – нужен прыжок ярдов на пятьдесят» – или на сколько требовалось. Корабль содрогался и летящим прыжком устремлялся вперед под напором свежего пара, пущенного прямо из котлов в 52-дюймовый цилиндр низкого давления.
Машина на «Рузвельте» имеет так называемый перепускной клапан, позволяющий отводить свежий пар в главный цилиндр, что на несколько минут удваивает ее мощность. Это простое приспособление не раз спасало «Рузвельт» от смертельного сжатия льдов.
Судно, затертое между двумя ледяными полями, не гибнет внезапно, как при подрыве на мине. Давление льда с обеих сторон нарастает медленно и постепенно, и иногда края льдин смыкаются во внутренности корабля. Судно может оставаться подвешенным между ледяными полями целые сутки или до тех пор, пока приливное течение не ослабит сжатие, и только тогда оно идет ко дну. Лед может раздаться как раз настолько, чтобы корпус мог провалиться, и тогда концы рей, цепляясь за лед, ломаются под тяжестью наполненного водой корпуса, как это случилось со злополучной «Жаннеттой».[31] Одно судно в заливе Святого Лаврентия зажало во льдах и протащило по скалам, словно орех по терке. При этом дно было срезано, как срезают ножом головку с огурца, так что из трюма вывалились металлические цистерны с ворванью. От судна остались одни только стенки. Около суток оно оставалось зажатым между ледяными полями, затем затонуло.
22 августа, на пятый день плавания, – наша счастливая звезда работала, должно быть, сверхурочно – мы сделали феноменальный бросок более чем в 100 миль прямо по середине пролива Кеннеди, не встречая помех ни в виде льда, ни в виде тумана! В полночь, как раз над мысом Либер, сквозь облака победно вспыхнуло солнце. Это показалось нам добрым предзнаменованием.
Надолго ли такая удача? Я хоть и был настроен оптимистически, однако опыт прошлых лет говорил мне, что и самая блестящая медаль имеет свою оборотную сторону. За один день мы прошли весь пролив Кеннеди, и непосредственно перед нами был лишь разреженный лед. Но впереди, в каких-нибудь 30 милях, лежал пролив Робсон. Мореход, знакомый с этим проливом, никогда не станет ждать от него добра.
Вскоре нам опять встретились и лед, и туман; медленно прокладывая себе путь в поисках разводья, мы оказались оттеснены к гренландскому побережью у Тэнк-Год-Харбор – места зимовки «Поляриса» в 1871–1872 годах. Как я уже упоминал, во время отлива между берегом и дрейфующим по середине пролива паком часто открывается полоса воды, но пусть читатель не думает, будто на этой полосе нет препятствий. Напротив, проходя по ней, постоянно сталкиваешься с мелкими льдинами и увертываешься от больших.
Разумеется, «Рузвельт» все время был под парами, постоянно готовый к любой случайности. Когда лед не кажется абсолютно непроходимым, корабль на всех парах движется то назад, то вперед, наскакивая на льдины. Иногда в результате наскока корабль продвигается вперед на полкорпуса, иногда – на корпус, а иногда – ни на дюйм. Если, выжав из машины всю мощность, продвинуться вперед невозможно, мы экономим уголь и ждем, пока лед не разредится. Мы не задумываясь используем судно как таран – ведь для этого оно и предназначено, однако после выхода из Эта уголь стал для нас драгоценностью – каждая унция его должна давать полную отдачу: продвигать нас дальше на север. Наших запасов должно хватить до тех пор, пока мы не вернемся в будущем году в Эта, куда Арктический клуб Пири должен выслать нам навстречу судно.
Не следует забывать, что все это время мы находились в царстве долгого полярного дня, под незаходящим полуночным солнцем. Погода стояла то туманная, то пасмурная, то солнечная, и мы не знали лишь одного – темноты. День и ночь мы отмеряли только по нашим часам, а не сном и бодрствованием, ибо спали мы лишь в те краткие промежутки, когда ничего другого не оставалось делать. Неусыпная бдительность – такова цена, которую мы платили за проход проливов.

Ледяной пик на побережье
Я мог всецело положиться на Бартлетта, однако меня вовсе не тянуло в каюту, когда судьба корабля и всей экспедиции висела на волоске. Кроме того, когда «Рузвельт» таранил лед, его так сотрясало, что сам Морфей поминутно вскакивал бы в постели и протирал глаза.
Тяжелый лед до того грозный и необоримый противник, что судно, накрепко засев между двумя гигантскими ледяными полями, оказывается в совершенно беспомощном положении. В таком случае любое сооружение, сконструированное и построенное человеком, обречено на гибель. Не раз при кратковременном сжатии ледяными полями весь 184-футовый корпус «Рузвельта» вибрировал, словно скрипичная струна. В другие моменты силой пара, впущенного в цилиндры через перепускной клапан, судно вздымалось на лед, подобно коню, берущему препятствие. Это была славная битва – судно шло в атаку на самого холодного врага человека и, возможно, самого древнего, ибо нельзя точно определить возраст этого глетчерного льда. Порой, когда обшитый сталью форштевень «Рузвельта» раскалывал льдину надвое, лед издавал свирепое рычанье, в котором слышалась вековая ярость Арктики против своевольного обидчика – человека, посягнувшего на ее пределы. Иногда, когда судну грозила серьезная опасность, эскимосы на борту затягивали свою странную песню, призывая души предков прийти к нам на помощь из потустороннего мира. А иной раз, как и в мои прошлые экспедиции, на палубу поднимался кочегар. Жадно глотая свежий воздух, он оглядывал пространство льда перед нами и яростно бормотал: «Он должен пробиться, черт подери!»
Кочегар исчезал в кочегарке, и минуту спустя из дымовой трубы с новой силой начинал валить дым, и я знал, что давление в котлах повышается.
На наиболее серьезных этапах плавания Бартлетт большую часть времени проводил в вороньем гнезде – наблюдательной бочке на грот-мачте. Я часто устраивался на снастях пониже, смотрел вместе с ним вперед и помогал ему советом, в случае необходимости подкрепляя его мнение своим и снимая с него бремя чрезмерной ответственности в наиболее опасных местах.
Так, вися вместе с Бартлеттом на колеблющихся снастях, высматривая полосы открытой воды и изучая движение напиравших на нас ледовых полей, я нередко слышал, как капитан кричал судну, словно уговаривая, и подбадривая его, приказывая ему пробить нам дорогу в неподатливых льдах: «Рви их, милок! Раскусывай пополам! А ну, нажми! Вот так, хорошо, мой красавчик! А теперь – еще! Еще раз!»
В такие минуты мне казалось, что в этом отважном, неустрашимом капитане-ньюфаундлендце воскресал дух многочисленных поколений мореходов и льдопроходцев, пронесших английский флаг по всему свету.
Чтобы рассказать все происшествия, выпавшие на долю «Рузвельта» по пути на север, надо было бы написать целую книгу. Мы либо боролись со льдом, либо увертывались от него, либо, что еще хуже, укрывались в какой-нибудь бухточке и ждали, когда можно будет возобновить борьбу. В воскресенье, на шестой день после выхода из Эта, во льдах было достаточно разводьев, и мы до часу дня успешно продвигались вперед, но, приближаясь к бухте Линкольн, были остановлены паковым льдом. При помощи троса мы закрепили судно у большого ледяного поля, простиравшегося мили на две к северу и на несколько миль к востоку. Приливное течение, устремляясь на север, несло с собой мелкие льдины; «Рузвельт» покоился в своего рода озере. Пока мы стояли на месте, кто-то заметил вдали на льдине, у которой мы ошвартовались, какой-то черный предмет, и доктор Гудсел, Боруп и два эскимоса отправились на разведку. Хождение по льду всегда сопряжено с опасностью – во льду обычно полно трещин, причем бывают очень широкие, а в этот день трещины к тому же припорошило недавно выпавшим снегом. Перепрыгивая через разводье, разведчики чуть не утонули; подойдя к черному предмету на расстояние выстрела, они увидели, что это всего-навсего большая каменная глыба.
Прежде чем Гудсел, Боруп и эскимосы вернулись, лед вокруг судна стал смыкаться, и, как только они поднялись на борт, мы выбрали трос, и «Рузвельт» начал дрейфовать на юг вместе со льдом. В эту ночь лед был такой сплоченный, что пришлось завалить лодки за шлюпбалки на палубу, чтобы защитить их от торосов, которые временами подступали к самым поручням. В конце концов капитану удалось ввести корабль в другое небольшое озерко к юго-востоку от нашей прежней стоянки, и мы оставались там несколько часов, двигаясь под парами то вперед, то назад, чтобы разводье не замерзло.
Около 11 часов ночи, несмотря на все наши усилия, лед вокруг «Рузвельта» снова сомкнулся. Однако я заметил небольшую полынью к юго-востоку, которая вела к другому разводью побольше, и приказал пробиваться к ней таранными ударами. Введя нос корабля в полынью и расталкивая лед попеременно то вправо, то влево, мы сумели расширить проход к полосе чистой воды за нею.
В 4 часа утра «Рузвельт» снова пошел на север, пробиваясь сквозь разреженный лед, и около 9 утра снова был остановлен льдом, чуть пройдя за устье реки Шелтер. Тут мы взяли к берегу и приткнули нос судна к большому ледяному полю, чтобы не быть затертыми или снесенными к югу паковым льдом, который теперь быстро дрейфовал под воздействием прилива.
После ужина Макмиллан, Боруп, доктор Гудсел и два эскимоса отправились на берег по ледяному зажору с намерением поохотиться на какую-нибудь дичь; но прежде чем они достигли берега, начались такие сильные подвижки льда, что я счел путешествие слишком опасным для неопытных людей. Был дан свисток – сигнал вернуться, и охотники тронулись обратно по уже пришедшему в движение льду. Им очень мешали ружья; к счастью, они захватили с собой багры, без которых им едва ли удалось бы вернуться назад.
Используя багры в качестве шестов, они перепрыгивали с льдины на льдину, если разводья были не слишком широки. В противном случае они пересекали открытую воду на льдинах, отталкиваясь и подтягиваясь баграми.
Первым поскользнулся на краю льдины доктор и сразу же по пояс ушел в ледяную воду, но Боруп быстро вытащил его.

Во льдах пролива Робсон
Потом поскользнулся Боруп и тоже провалился в воду по пояс, но тут же выскочил.
Тем временем лед вокруг «Рузвельта» разошелся, и между людьми и судном образовалась широкая полоса воды, но мы подогнали корабль к большой льдине и забрали их на борт. Они тотчас же переоделись во все сухое и уже через несколько минут со смехом рассказывали о своем похождении заинтересованным слушателям.
Человеку, который не способен посмеяться над купанием в ледяной воде или принять как должное опасный переход по движущемуся льду, не место в серьезной арктической экспедиции. Вот почему я с глубоким удовлетворением наблюдал боевое крещение Макмиллана, Борупа и доктора Гудсела – моих арктических новичков, как я их называл.
Я избрал их из множества кандидатов в члены экспедиции, считая, что они особо приспособлены для похода на Север. Доктор Гудсел был крепкий, плотного сложения человек, врач пенсильванского закала, обязанный всем самому себе. Я надеялся, что ему как специалисту по микроскопии удастся получить ценные результаты в области науки, исследования в которой на арктической почве еще не проводились. Он занимался микроскопическим изучением возбудителей инфекционных заболеваний у эскимосов.
Макмиллана, тренированного спортсмена и преподавателя физкультуры, я хорошо знал на протяжении ряда лет. Он горел интересом к работе, горел желанием отправиться со мной на Север и как по своим нравственным, так и по физическим данным вполне подходил для суровых условий Арктики.
Боруп, самый младший член экспедиции, понравился мне своим энтузиазмом и выносливостью. Он поставил рекорд по бегу в годы обучения в университете, и я взял его с собой из общих соображений, считая, что он отлично приспособлен для работы в Арктике. Выбор себя оправдал: фотографиями, привезенными из экспедиции, мы в большой мере обязаны его искусству проявлять негативы.
Меня часто спрашивали, как развлекались члены экспедиции во время продолжительных стоянок, когда лед преграждал путь кораблю. Основным развлечением для новичков было изучение эскимосского языка. Переводчиком служил Мэттью Хенсон. Иногда, глядя с капитанского мостика на палубу, я видел там одного из новичков в окружении жестикулирующих и смеющихся эскимосов – это означало, что урок эскимосского языка в разгаре. Женщины особенно радовались возможности научить Борупа таким эскимосским словам, как куртка, капюшон, сапоги, небо, вода и так далее, явно считая его славным парнем.
Всю ночь 24 августа «Рузвельт» спокойно стоял на открытой воде, а утром 25-го вновь двинулся на север и дошел до мыса Юнион. Лед за мысом был сильно сплочен. Я поднялся на ванты взглянуть, как обстоят дела, и, не найдя подходящего укрытия, решил вернуться в бухту Линкольн, где мы поставили судно между двумя сидевшими на мели айсбергами. Если накануне день был спокойный и солнечный, то сегодня, 25 августа, шел снег и дул резкий северный ветер. Снег горизонтальными завесами проносило над палубой, вода была черная, как чернила, лед призрачно-белый, побережье поблизости казалось берегом земли призраков. Один из наших айсбергов унесло приливом, и мы переставили судно к внутренней стороне уцелевшего; впрочем, за ним было еще несколько сидевших на мели айсбергов, принимавших на себя натиск ледяных полей.
На следующий день мы выгрузили на берег часть наших припасов и устроили в этом месте склад продовольствия. Нам постоянно приходилось считаться с возможностью гибели судна, но даже при благополучном исходе плавания мы могли бы воспользоваться складом в сезон охоты. Деревянные ящики с припасами были попросту сложены на берегу. Бродячие полярные зайцы, олени и мускусные быки никогда не посягают на жестяные банки и деревянные ящики.
Я сошел с корабля и прошел по берегу до реки Шелтер, заново переживая все то, что мне довелось испытать в этих местах в 1906 году. В тот год, пока я был на мысе Томас-Хаббард, капитан Бартлетт – ибо он и тогда, как теперь, командовал «Рузвельтом» – пытался провести судно с места открытой стоянки на мысе Шеридан в какое-нибудь более укрытое место в бухте Линкольн, где я должен был сесть на корабль. У реки Шелтер «Рузвельт» был зажат между дрейфующим паком и вертикальной стенкой припая и получил почти смертельный удар. Судно было целиком выжато из воды, ахтерштевень и руль разлетелись в щепки, от гребного винта оторвалась лопасть. С судна сняли весь груз: Бартлетт опасался, что, когда сжатие прекратится и судно осядет на воду, оно даст такую сильную течь, что его невозможно будет удержать на плаву Команда со своим капитаном приложила героические усилия, чтобы заделать пробоины, и, когда сжатие льдов ослабло, «Рузвельт» остался на плаву. Однако судно простояло там почти месяц, и с него дважды снимали такелаж, когда гибель его казалась неминуемой.
Здесь-то, у реки Шелтер, я и застал «Рузвельт» по своем возвращении из самого дальнего похода на запад. Мы кое-как смастерили новый руль, и изувеченное и почти беспомощное судно добралось до бухты Линкольн, а оттуда дохромало кое-как до Нью-Йорка.
После часа воспоминаний я вернулся на корабль. Оказалось, Боруп и Макмиллан также сходили на берег в надежде найти какую-нибудь дичь, но ничего не нашли. День был хмурый, сырой и облачный. Макмиллан, Боруп, доктор Гудсел и помощник капитана Гашью развлечения ради стреляли в мишень из винчестеров.
Следующий день казался бесконечным. Мы по-прежнему стояли в бухте Линкольн. Не переставая и со все нарастающей силой дул сильный, резкий северо-восточный ветер. Пак дрейфовал всего в нескольких ярдах от судна; правда, оно было довольно хорошо защищено крупными льдинами, сидевшими на мели между нами и движущимся льдом. Время от времени какое-нибудь большое ледяное поле, стремительно проносясь мимо, расталкивало все на своем пути и давало нашим защитникам толчок, подвигавший их, а вместе с ними и нас, ближе к берегу. Из вороньего гнезда мы видели небольшую полосу открытой воды у восточного берега пролива, но по соседству с нами разводьев не было – только лед, лед, лед, всевозможной формы и толщины.
Еще один день. «Рузвельт» оставался в прежнем положении, лицом к лицу с напирающим льдом. Но вот на пике прилива сидевший на мели айсберг, за который мы закрепились тросом, тронулся с места. Мы все повысыпали на палубу и поспешно выбрали трос. Уплывая на юг, айсберг оставил перед нами полосу открытой воды с милю длиной, и мы направились вдоль берега на север, пробираясь позади сидящих на мели айсбергов в надежде найти другое укрытие, где можно было бы обезопасить себя от стремительно приближающегося пака.
На наше счастье, дул сильный береговой ветер, ослаблявший давление льда. Мы как будто нашли подходящее укрытие и уже готовились закреплять тросы, как вдруг большая льдина площадью в акр и с острым торчащим концом, подобным тарану военного корабля, устремилась к «Рузвельту», и нам пришлось спешно менять позицию. Но не успели мы поставить судно в безопасное место, как вновь оказались под угрозой со стороны той же льдины. Казалось, она была наделена злобным нерасположением к нам и преследовала нас, словно ищейка. Мы снова переменили позицию, закрепили судно, и в конце концов угрожавшая нам льдина проплыла дальше на юг.
В ту солнечную ночь никто на борту не спал. Около 10 часов обломок айсберга, к которому был пришвартован «Рузвельт», пришел в движение под напором яростного ветра и прилива. В то время как вокруг нас кружились и толклись льдины, мы, не имея достаточно места для маневра, поспешно выбрали тросы и перешли на новое место – только затем, чтобы быть прогнанными и оттуда. Мы снова нашли место для укрытия, и снова были прогнаны. Третья попытка найти безопасное пристанище увенчалась успехом, но, прежде чем мы довели ее до конца, «Рузвельт» дважды садился носом на мель, застрял килем на отростке айсберга, а под натиском другого вдребезги разлетелись поручни на корме.
Суббота 29 августа – еще один день задержки. Я находил утешение в мыслях о моем маленьком сыне на далекой родине. Ему в этот день исполнилось 5 лет, и Перси, Мэтт и я – три его дружка – распили бутылку шампанского в его честь. «Роберт Пири-младший! Что вы сейчас поделываете у себя дома?» – думал я.
Следующий день, 30 августа, надо полагать, неизгладимо останется в памяти всех членов экспедиции. «Рузвельт» швыряло льдинами так, словно он был футбольным мячом. Игра началась около 4 часов утра. Я прилег у себя в каюте, пытаясь уснуть, – одежду я не снимал вот уже целую неделю. Мой отдых был прерван толчком такой силы, что я даже не успел подумать: «Что-то случилось», как уже лежал на палубе, накрененной на правый борт градусов на 12–15. Я подбежал, вернее сказать вскарабкался, к левому борту и увидел, что произошло. Большое ледяное поле, стремительно дрейфовавшее по течению, словно игрушку, подхватило сидевший на мели 1000-тонный айсберг, к которому мы были пришвартованы, и бросило его на «Рузвельт». Айсберг прошелся вскользь по левому борту, пробил большую дыру в каюте Марвина и налетел на другой айсберг, находившийся как раз за кормой, так что «Рузвельт», словно подмасленный, выскочил из зазора между ними.
Как только давление льда уменьшилось и судно выпрямилось, мы обнаружили, что трос, которым оно было пришвартовано к айсбергу с кормы, запутался в гребном винте. Действовать надо было незамедлительно. Мы привязали к тросу другой, потолще, и с помощью шпиля в конце концов распутали его.
Не успели мы опомниться, как огромный айсберг, проплывавший мимо, сам собой раскололся надвое, и глыба 25–30 футов в диаметре отвалилась в сторону «Рузвельта» и рухнула в воду в каком-нибудь футе или двух от его борта. «Айсберги справа, айсберги слева, айсберги сверху», – сказал кто-то, едва мы перевели дух, дивясь столь чудесному избавлению от грозившей нам опасности.
Корабль был теперь в полной власти дрейфующего льда и под давлением пака стал снова крениться на правый борт. Я понял, что если «Рузвельт» окажется оттесненным еще дальше к берегу, нам придется выгрузить значительную часть угля, чтобы снять его с мели, а потому решил взорвать лед динамитом.
Я велел Бартлетту достать батареи и динамит и раздробить лед между «Рузвельтом» и тяжелыми ледяными полями, чтобы создать для судна своего рода мягкую подушку. Из лазарета принесли батареи, осторожно подняли один ящик с динамитом, и мы с Бартлеттом наметили наиболее подходящие места для закладки зарядов.
Несколько динамитных патронов были обмотаны старым тряпьем и закреплены на концах шестов, которые мы специально захватили для этой цели. Провода от батареи были присоединены к взрывателям, и несколько шестов с патронами воткнуты в трещины в ледяных полях, по соседству с судном. Затем провода были присоединены к батарее, все отступили к дальнему борту, и быстрым нажатием на рычажок был включен ток.
Трах-тарарах! Корабль задрожал, как скрипичная струна, и в воздух наподобие гейзеров поднялись 100-футовые фонтаны воды и ледяных осколков.
Напор льда на судно был устранен, оно выпрямилось и теперь спокойно лежало на подушке из битого льда, ожидая, что еще уготовила ему судьба. Когда начался отлив, «Рузвельт» оказался на мели всей своей передней частью до половины корпуса, кренясь то на одну, то на другую сторону соответственно напору льда. Это был новый вариант песни «Убаюканные в колыбели пучины», от которого дети эскимосов, собаки, ящики и мы сами катались по палубе то туда, то сюда.
Когда начался прилив, мы приложили все усилия, чтобы снять корабль с мели. С левой стороны носа мы закрепили трос за неподвижный айсберг, и капитан приказал давать полный ход то вперед, то назад. Некоторое время судно не двигалось с места, но в конце концов натяжение троса и полный ход назад возымели желаемое действие: «Рузвельт» сполз с мели и вновь оказался на плаву. Однако лед за кораблем был настолько сплочен, что мы не могли увести корабль из этого отнюдь не веселого места.
Положение, в котором мы очутились, было, мягко говоря, опасным, даже при таком опытном и стойком ледовом борце, как Бартлетт. День проходил за днем, а мы по-прежнему оставались в бухте Линкольн, и, если бы в мое прошлое путешествие «Рузвельту» не пришлось пережить нечто подобное, мы бы, несомненно, не на шутку встревожились. Но мы знали, что рано или поздно подвижки льда позволят нам пройти несколько миль, остающихся до мыса Шеридан, а возможно и дальше, ибо место нашего назначения лежало примерно на 25 миль северо-западнее нашей зимней стоянки 1905–1906 годов. Итак, мы запаслись терпением, и, если задержка и действовала нам на нервы, разговаривать о ней было бы совершенно бесполезно.
1 сентября лед дрейфовал как будто не так быстро. Накануне вечером Макмиллан был послан на берег к скалам за рекой Шелтер; он доложил, что вдоль берега довольно много открытой воды. После него пошел на разведку Бартлетт. Вернувшись, он также доложил о наличии открытой воды, однако со всех сторон запертой углами больших ледяных полей.
Мы решили начать осеннюю охоту, и эскимосы Ута, Алета, Ублуя и Укеа выехали в район озера Хейзен на санях с упряжкой из восьми собак. Предполагалось, что они будут охотиться там на мускусных быков и оленей, а потом, когда мы достигнем мыса Шеридан или залива Портер, к ним присоединятся и другие эскимосы. Однако за отсутствием снега дорога оказалась слишком тяжелой даже для легких саней, и эскимосы вернулись.
Наконец перед полуночью 2 сентября мы вырвались из тупика в бухте Линкольн, где простояли целых десять дней. Тросы были выбраны, и «Рузвельт», давая то передний, то задний ход, высвободился из оков берегового пака. Мы чувствовали себя так, как, должно быть, чувствуют себя люди, выпущенные из тюрьмы. Вдоль берега простиралась узкая полоса открытой воды, и, следуя по ней, мы за полчаса до полуночи обогнули мыс Юнион. Однако вскоре, чуть не доходя мыса Блэк-Кейп, мы снова были остановлены льдом, на этот раз темной, одиноко стоящей конусообразной ледяной горой, омываемой с востока морскими водами, а с запада отделенной от ближних гор глубокими долинами. Нашим глазам открылся неописуемо величественный вид: побережье, на многие мили уставленное айсбергами, оттесненными к берегу, расколотыми и наклоненными чуть ли не под прямым углом. Достигнув мыса Блэк-Кейп, мы прошли половину пути между бухтой Линкольн и долгожданным укрытием на мысе Шеридан.
Когда мы пришвартовывали судно к припаю, обломок ледяного поля в 60 футов толщиной со страшной силой был выброшен на берег чуть севернее нас. Окажись мы на его пути… – впрочем, мореплавателю в этих проливах не следует задумываться над такими последствиями.
В качестве особой меры предосторожности я велел эскимосам обтесать топорами край берегового припая рядом с судном, чтобы облегчить ему подъем, в случае если оно будет сжато тяжелыми ледяными полями. Весь день мел легкий снег; я сошел на берег, прошел по припаю до ближайшей реки и поднялся на вершину мыса Блэк-Кейп. Прогулка время от времени по суше хорошо отвлекает от вони и беспорядка, царящих на палубе: из-за собак на «Рузвельте» было очень не чисто. Меня часто спрашивали, как мы могли выносить присутствие почти 250 собак на таком маленьком судне. Но ведь нет худа без добра: без собак мы не смогли бы достичь полюса.
У мыса Блэк-Кейп мы на всякий случай устроили на берегу еще один продовольственный склад, подобный тому, который оставили в бухте Линкольн.

Вилохвостая чайка
4 сентября подул сильный южный ветер. Впереди открылось немного свободной воды, и в 8 часов утра мы начали выбираться из укрытия. Прошел целый час, прежде чем нам удалось взломать смерзшуюся вокруг корабля густую ледяную кашу. Мы были рады снова пуститься в путь, но так как за дельтой реки лед упорно не хотел вскрываться, а с юга под напором ветра стремительно приближались дрейфующие льды, нам пришлось поспешить обратно в наше прежнее укрытие у мыса Блэк-Кейп. Возвращение не обошлось без происшествий: сильный ветер очень затруднял управление судном, и в результате вельбот сзади по правому борту был сильно помят выступающей частью айсберга, а правый угол передней рубки чуть не сорвало с палубы.
Тем не менее всех окрыляла мысль, что до цели – мыса Шеридан – остается всего несколько миль, и все жаждали снова выступить в путь. Вечером того же дня лед при отливе разредился, и был отдан приказ трогаться дальше. После двух или трех критических моментов, когда нам угрожала опасность быть зажатыми между быстро дрейфующими льдинами, мы достигли дельты реки Блэк-Кейп, пройдя несколько миль к северу от места нашей вынужденной стоянки. Однако с началом прилива нам пришлось вернуться на четверть мили назад и укрыться за сидящим на мели айсбергом.
Когда судно ошвартовалось, я сошел на берег и прошел к дельте реки взглянуть на состояние льда за нею. Я не увидел на севере ни трещины, ни просвета, а путь к отступлению был теперь сплошь забит льдом. Сможем ли мы вообще пройти остающиеся несколько миль?
На наше счастье не переставая дул сильный южный ветер, лед начал понемногу разрежаться, и 5 сентября около 3 часов утра к северу появилось все увеличивавшееся разводье. «Теперь или никогда!» – подумал я и приказал выжать из машины все, что она могла дать. Мы на полном ходу обогнули мыс Роусон, и вдали завиделись очертания мыса Шеридан. Наконец-то! Нашим натруженным глазам этот отлого уходящий в море отросток суши показался поистине вратами рая.
В четверть восьмого мы обогнули мыс – на 15 минут позднее, чем в 1905 году. Начиная с 23 августа мы с Бартлеттом в течение 13 суток спали не раздеваясь.
Следует ли нам остановиться здесь? Впереди простиралась открытая вода. Я распорядился двигаться дальше. Но уже через 2 мили мы наткнулись на непреодолимый ледовый барьер и решили, что и в этот год мысу Шеридан суждено быть местом нашей зимней стоянки. Мы вернулись назад и стали готовиться к вводу судна в приливную трещину.
На душе у меня было легко. Последние 2 мили, пройденные «Рузвельтом», оказались рекордными: до сих пор ни одно судно не добиралось на собственном ходу до 82°30 северной широты. Лишь один корабль – нансеновский «Фрам»[32] прошел дальше на север, но он дрейфовал кормой вперед, находясь в полной власти льда. И на этот раз наш маленький крепкий «Рузвельт» оказался чемпионом.
Трудно передать словами чувства, которые я испытал, когда мы бросили швартовы на береговой припай у мыса Шеридан. Мы уложились в назначенный срок и успешно решили первую часть трудной задачи – провели судно из Нью-Йорка в такой пункт земного шара, откуда уже можно было замахнуться на самый полюс. Все опасности кораблевождения во льдах, опасность потери «Рузвельта» и большей части припасов остались позади. Другим источником удовлетворения была мысль, что это плавание еще раз подчеркнуло важность детализированного опыта для успешного решения всех наших задач. Несмотря на задержки, казавшиеся иной раз бесконечными, мы проделали плавание лишь с малой толикой тех тревог, какие выпали нам на долю в наше путешествие на Север в 1905 году.
Достигнув мыса Шеридан, оставив далеко на юге северные пределы всех ныне известных земель, за исключением тех, что находились в нашем непосредственном окружении, мы могли вплотную приступить к решению второй части задачи – организации санного похода от корабля к полюсу. Прибытие на мыс Шеридан еще отнюдь не означало достижения конечной цели.
Мы страшно обрадовались, что провели «Рузвельт» через льды пролива Робсон, и, как только корабль ошвартовался у мыса Шеридан, ревностно принялись разгружать его. «Рузвельт» был заведен на мель в приливную трещину, и первое, что мы выгрузили на берег, – это 246 собак, превративших судно в шумный смердящий ад. Их попросту сбрасывали через поручни на лед, и через несколько минут берег был усеян бегающими, прыгающими и лающими существами. Палубы отмыли струей воды из шланга, и разгрузка началась. За собаками были спущены на берег сани с палубы мостика, где они изготовлялись, – стройная флотилия из двадцати трех штук.
Мы хотели отвести судно подальше за ледяной барьер, где оно было бы в полной безопасности, а потому старались облегчить его так, чтобы с приливом оно поднялось с мели. Из досок были построены спускные лотки, и по ним с верхней палубы и из трюма заскользили ящики с керосином. При выгрузке требовалось соблюдать осторожность, так как лед в эту пору был еще тонок. Позже у нас провалились под лед двое или трое саней с припасами и эскимосы вместе с ними; однако, поскольку до дна здесь было не более 6 футов, а все припасы были в жестяных банках, происшествие это не причинило сколько-нибудь значительного ущерба.

Снежная сова (мыс Шеридан)
Пока выгружались ящики с керосином, особая команда с пешнями, шестами, пилами и прочим снаряжением принялась вырубать лед с таким расчетом, чтобы можно было поставить «Рузвельт» бортом к берегу. Мы с Бартлеттом решили провести судно за ледовый барьер и поставить его на мелководье полосы припая. Нам не улыбалось провести еще одну зиму в мучениях, подобных тем, что мы пережили в нашу прошлую экспедицию, когда судно стояло у самой кромки припая и было подвержено малейшим подвижкам пака со стороны океана.
За керосином последовали тонны китового мяса, находившегося на шканцах, причем иные куски были величиной с большой дорожный сундук. Мясо сбрасывалось за борт прямо на лед. Эскимосы увозили его на санях на берег и складывали штабелями на высоте 100 ярдов над уровнем припая; затем его прикрывали мешками с углем, который также сгружался со шканцев. За китовым мясом последовали вельботы, их спускали со шлюпбалок на талях и, подобно саням, откатывали на берег. Чуть позже вельботы перевернули вверх дном и заложили камнями, чтобы их не сдвинуло ветром.
Выгрузка припасов и снаряжения заняла несколько дней. Это первое дело, с которого начинает свою работу каждая хорошо организованная арктическая экспедиция, как только она прибывает на зимние квартиры. Когда припасы на берегу, гибель судна от пожара или сжатия льдов означала бы лишь то, что участникам экспедиции придется возвращаться назад по суше. Она не помешала бы готовить санный поход, не расстроила бы серьезно планы экспедиции. Потеряй мы «Рузвельт» на мысе Шеридан, мы бы перезимовали в построенных нами из ящиков домах, а весной все равно сделали бы бросок к полюсу. Затем мы бы покрыли пешком 350 миль пути до мыса Сабин, пересекли по льду пролив Смит и, достигнув Эта, ждали, чтобы за нами пришел какой-нибудь корабль.

Ледяной обрыв на леднике Хаббарда
На протяжении четверти мили берег по соседству с «Рузвельтом» был уставлен ящиками, причем каждый вид припасов и снаряжения складывался отдельно. Этот поселок из упаковочных ящиков мы окрестили Хаббардвилл, в честь генерала Томаса Хаббарда, президента Арктического клуба Пири. Выгрузив с передней палубы ящики, служившие ложем для эскимосов, мы тщательно отмыли и отскребли палубу, затем построили из досок новое ложе, разделили его перегородками для каждой семьи и навесили у входа занавески. Под постелью оставалось свободное пространство, куда эскимосы могли складывать кухонные принадлежности и предметы личного обихода. Привередливому читателю, в случае если он будет шокирован предложением хранить сковородки под кроватью, следовало бы увидеть эскимосскую семью в ее доме из камней и земли, 8 футов шириной, где мясо и питьевая вода, мужчины, женщины и дети зимою из месяца в месяц смешиваются не разбери поймешь.
Затем мы выгрузили около 80 тонн угля; таким образом, в случае если бы нам пришлось жить в домах, построенных из ящиков, у нас было бы достаточно топлива. В это время года здесь не очень холодно. 8 сентября термометр показывал 12° выше нуля, на следующий день – 4°.
Большие ящики, содержащие банки с беконом, пеммиканом, мукой и так далее, мы использовали наподобие гранитных глыб при сооружении на берегу трех домов размерами 15 x 30 футов каждый. Все припасы были специально упакованы для этой цели в ящики определенных размеров – вот еще одна из бесчисленных деталей, обеспечивших успех экспедиции. При возведении домов ящики ставились верхней частью вовнутрь, крышки с них были сняты, и содержимое вынималось по мере надобности, как с полок; таким образом, дом представлял собой нечто вроде бакалейной лавки.
Паруса, натянутые на шлюпочные выстрелы и прочее рангоутное дерево, служили крышей; позднее мы нагребли на крыши и стены плотный слой снега и поставили в домах печки, чтобы использовать дома под мастерские, если все пойдет хорошо.
Итак, мы высадились, целые и невредимые, на мысе Шеридан, в пределах досягаемости цели, к которой стремились. На этот раз были предусмотрены все обстоятельства, преградившие нам путь к полюсу в 1906 году. Мы точно знали, что и как надо делать. Лишь несколько месяцев ожидания, осенняя охота и долгая темная зима отделяли меня от конечного броска. У меня были собаки, люди, опыт и твердая решимость (тот же импульс, который гнал корабли Колумба по неисследованным просторам Атлантики), а исход был в руках Судьбы, благосклонной к тем, кто не отступается от своей веры и своей мечты до последнего вздоха.
После разгрузки Бартлетт подвел судно значительно ближе к берегу, и оно стало носом почти точно на север. Это подбодрило нас, ибо такова была его постоянная привычка, в которой впору было усмотреть чуть ли не намерение живого существа. В это, как и в первое северное плавание в 1905 году, всякий раз, когда «Рузвельт» застревал во льдах и мы теряли над ним контроль, он сам собой разворачивался носом на север. Если нас зажимало во льдах в тот момент, когда судно шло курсом на запад или на восток, давлением льда его вскоре разворачивало таким образом, что его нос снова смотрел на север. Точно так же оно вело себя и при возвращении на юг в 1906 году, словно сознавая, что не выполнило своей задачи. Матросы подметили это и говорили, что «Рузвельт» недоволен, что он понимает, что не справился со своей работой.
Когда мы подвели судно как можно ближе к берегу, команда начала готовить его к зиме. Механики продували котлы и консервировали механизмы, удаляя из трубопроводов всю влагу, чтобы их не разорвало в зимнюю стужу; матросы снимали паруса и ослабляли оснастку, чтобы она не повредилась от сжатия на морозе.
Прежде чем снять паруса, их все распустили, чтобы солнце и ветер основательно просушили их. Корабль являл собою красивое зрелище, напоминая яхту с надутыми ветром парусами, крепко удерживаемую в объятиях льда.
Пока велись эти работы, небольшие группы эскимосов посылались на охоту в район озера Хейзен, но им не повезло. Они добыли лишь несколько зайцев, а мускусные быки, по их словам, словно вымерли. Это встревожило меня. Я начал опасаться, что мы либо перебили всех животных в мою прошлую экспедицию, либо заставили их переменить место обитания.
Женщины-эскимоски ставили вдоль побережья, на протяжении 5 миль в обе стороны, капканы на песцов и оказались удачливее мужчин: за осень и зиму им удалось добыть около сорока этих животных. Помимо того, эскимоски ходили ловить рыбу в окрестных озерках и приносили много прекрасного гольца.
Эскимосы своеобразно ловят рыбу. Рыба здесь не берет приманку. Поэтому во льду делают прорубь и опускают в нее маленькую рыбку, сделанную из кости. Когда рыба поднимается на поверхность, чтобы разглядеть диковинного гостя, ее бьют острогой. Эскимосская острога представляет собой древко с острым куском железа, обычно старым гвоздем, на конце. С каждой стороны древка привязано по куску оленьего рога, концами вниз, а в рог вбиты острые гвозди остриями вовнутрь. Когда острога ударяет рыбу, рога расходятся, центральный гвоздь вонзается в спину, а гвозди, вбитые в рога сбоку, смыкаются и не дают рыбе выскользнуть.
Голец, обитающий в водоемах Земли Гранта, – красивая пятнистая рыба весом до 11–12 фунтов. На мой взгляд, по плотности и вкусовым качествам розовая мякоть этой рыбы, вытаскиваемой из воды температурой не более 35–40° по Фаренгейту, не имеет себе равных на свете. В мои прошлые экспедиции в эти края я, бывало, наколю острогой одного из этих красавцев, выброшу его на лед, чтобы подмерз, затем поколочу об лед, чтобы размягчить, и положу в сани, а уезжая, отщипываю кусочки розовой мякоти и кладу их в рот, словно землянику.
В сентябре 1900 года мой отряд из шести человек с 23 собаками кормился гольцом в течение десяти дней, пока мы не нашли мускусных быков. Мы били рыбу острогой, как научили нас эскимосы.
Новым членам экспедиции, естественно, не терпелось осмотреть достопримечательности мыса Шеридан. Макмиллан болел гриппом, однако Боруп и доктор Гудсел обрыскали все окрестности. Хаббардвилл не мог, конечно, похвастаться ни Вестминстерским аббатством, ни Триумфальной аркой, но зато с корабля видны были гурии «Алерта» и «Рузвельта» и могила Петерсена, датского переводчика английской экспедиции 1875–1876 годов. Она находилась в полутора милях к юго-западу от места нашей стоянки. Петерсен погиб, не вынеся тягот санного перехода, и был похоронен напротив места зимней стоянки «Алерта». Могила прикрыта широкой и плоской каменной плитой, в головах ее установлена доска с медной пластиной из кочегарки «Алерта», на которой выгравирована надпись. Если на Земле и существуют более одинокие могилы – я таких не знаю. Ни один исследователь, пусть самый молодой и беспечный, не может не испытать чувства почтения и благоговения перед этим «немым напоминанием о костях героя». Есть что-то грозное в этом силуэте, темнеющем на белом снегу, – таинственная Арктика словно предостерегает пришельца, говоря ему, что он может быть следующим в списке тех, кто остался с нею навеки.
Неподалеку от могилы находится гурий «Алерта»; я взял из него записку в 1905 году, а Росс Марвин, согласно обычаю всех исследователей, положил на ее место копию. Если вспомнить о его трагической смерти весной 1909 года, – севернее того места, где он погиб, не умирал ни один человек на Земле, – то посещение Марвином окрестностей могилы Петерсена приобретает особо патетический смысл.
Гурий «Рузвельта», сложенный Марвином в 1906 году, находится в миле от берега прямо напротив стоянки «Рузвельта» в 1905–1906 годах, на возвышенности, примерно в четырехстах футах над уровнем моря. Записка вложена в банку из-под чернослива, лежащую у основания горки из камней, ее писал Марвин графитовым карандашом. Гурий увенчан крестом, сделанным из дубового полоза саней. Крест смотрит на север, в месте пересечения крестовин вырезана большая буква «R». Вскоре после нашего прибытия на мыс Шеридан я наведался к гурию. Крест наклонился на север, словно от трехлетнего напряженного вглядывания в северный горизонт.
12 сентября у нас был праздник – в этот день исполнилось 15 лет моей дочери Мэри Анигито, родившейся в Энниверсари-Лодж в Гренландии, – так далеко на севере еще не рождался ни один белый ребенок. Десять лет спустя мы праздновали ее юбилей на «Уиндварде». С тех пор много айсбергов прошло через проливы, а я по-прежнему стремился достичь цели, благодаря которой у моей дочери такое холодное и необычное место рождения.
В тот день мела пурга, но несмотря на это Бартлетт расцветил судно флагами – всем международным кодом, ярко-цветье которого разительно контрастировало с серо-белым небом. Перси испек к ужину особый пирог, и мы украсили его пятнадцатью горящими свечами. Сразу же после завтрака явились эскимосы с белым медведем – годовалой самкой 6 футов длиной, и я решил сделать из нее чучело в подарок ко дню рождения Мэри. Медведица будет стоять с вытянутой как бы для пожатия лапой, наклонив голову набок и улыбаясь медвежьей улыбкой. Из ее мяса мы нажарили сочных бифштексов. Стол был накрыт нарядной скатертью, были поданы лучшие чашки и блюдца, новые ложки и все в том же духе.
Два дня спустя мы посадили собак на привязь и стали готовиться к первым санным поездкам. Снега было уже достаточно, чтобы начать переброску припасов на мыс Колумбия, а бухта Блэк-Клиффс замерзла. Эскимосы привязывали собак группами по пять-шесть штук к шестам, воткнутым в землю или в отверстия, проделанные во льду. Собаки представляли собой красивое зрелище, если глядеть с корабля на берег, – их у нас было около 250, – и их лай можно было слышать в любое время суток.
Не следует забывать, что день и ночь мы различали только по часам, так как солнце, не садясь, ходило по кругу над горизонтом. Благодаря тому что все участники экспедиции трудились во время плавания не покладая рук, у нас все было готово для осенней работы. Эскимосы построили сани и изготовили сбрую для собак, Мэтт Хенсон закончил сооружение «кухонных ящиков», в которые предполагалось ставить керосинки во время работы в поле, а трудолюбивые эскимоски сшили каждому участнику экспедиции комплект меховой одежды.
На севере мы носим ту же одежду, что и эскимосы, правда с некоторыми изменениями. Главную часть одежды составляет кулета – меховая куртка без пуговиц, надеваемая через голову. Летняя кулета делается из тюленьих шкур, зимняя – из шкур песца или оленя. У нас были куртки из мичиганской овчины. Мы взяли с собой шкуры, а эскимосские женщины сшили их; лишь в очень холодную погоду мы носили эскимосские кулеты из песцовых или оленьих шкур, к которым пришивался капюшон, отороченный песцовыми хвостами, защищающий лицо от холода.
Атеа – рубаха – обычно делается из шкур оленят, мехом вовнутрь; носят ее летом. На некоторых фотографиях, изображающих эскимосов, можно заметить, как искусно подгоняются шкуры одна к другой при шитье рубахи. Эскимосские женщины владеют этим мастерством, как никакой скорняк в цивилизованном мире. Шкуры сшиваются сухожилиями из спины оленя. Сухожилие абсолютно прочно на разрыв и не гниет от сырости. Для более грубых работ – шитья сапог, сшивания каяков и палаток – применяются сухожилия из хвоста нарвала. До того как я завез эскимосам стальные иглы, они шили при помощи костяного шила – сухожилие протаскивали в проколотое отверстие, как сапожник протаскивает дратву. Шкуры эскимосы разрезают не ножницами, так как при таком способе резки можно повредить мех, а так называемым «ножом женщины» – подобием нашего старинного ножа для рубки начинки к сладким пирогам.
Лохматые меховые штаны неизменно делаются из шкуры белого медведя. Затем следуют чулки из заячьих шкур и камики – сапоги из тюленьей шкуры с подошвами из более толстой шкуры тюленя с квадратными ластами. На корабле, в санных поездках и при работе зимой в поле мы носили ту же обувь, что и эскимосы. Добавьте сюда теплые меховые рукавицы – и вот вам полный комплект нашей зимней одежды.
Читатель, возможно, спросит, и не без основания, не возникали ли у нас трения в результате скученного существования значительного числа людей в течение продолжительного периода времени. Такие случаи бывали. Однако в большинстве своем участники экспедиции отличались изумительной выдержкой, исключавшей какие-либо эксцессы. Фактически единственное сколько-нибудь значительное столкновение произошло между одним из наших матросов и эскимосом, которого мы звали Харриган.
Свое прозвище Харриган получил благодаря своим музыкальным способностям. Наши матросы любили напевать задорную ирландскую песенку, несколько лет бывшую в моде на Бродвее и заканчивавшуюся словами: «Харриган – это я». Она так понравилась вышеупомянутому эскимосу, что он со временем разучил концовку и мог напевать ее вполне сносно.
В дополнение к своим музыкальным наклонностям Харриган любил разыгрывать других, причем не всегда безобидно, и вот однажды на баке он являл свои таланты шутника к немалому неудовольствию избранного им в качестве объекта матроса. В конце концов матрос, не имея возможности избавиться от своего мучителя иным способом, пустил в ход кулаки. Эскимосы – хорошие борцы, но далеко не так сильны в мужественном искусстве кулачного боя, и в результате Харриган ушел с бака с большущим фонарем под глазом и глубоким убеждением, что с ним обошлись дурно. В ответ на его горькие жалобы я подарил ему новую рубаху и посоветовал впредь держаться подальше от бака, где жили матросы. Через несколько часов он, как школьник, забыл о драке и вновь весело мурлыкал: «Харриган – это я». Инцидент был предан забвению, не оставив ни в ком чувства обиды.
Главной целью осенних санных поездок была доставка на мыс Колумбия припасов и снаряжения, необходимых для весеннего санного похода к полюсу. Мыс Колумбия, лежащий в 90 милях к северо-западу от места стоянки судна, был избран по двум причинам: во-первых, он является самой северной оконечностью Земли Гранта, а во-вторых, достаточно удален к западу от сферы действия течения, выносящего лед в пролив Робсон. Оттуда мы могли направиться прямо на север по льду Полярного моря [Северного Ледовитого океана].
Переброска тысяч фунтов продовольствия на расстояние 90 миль в суровых условиях Арктики – задача нелегкая, требующая продуманных решений. Предполагалось устроить ряд баз по пути следования, чтобы не посылать каждый санный отряд до мыса Колумбия и обратно. Первый отряд должен был дойти до мыса Белкнап примерно в двенадцати милях от места стоянки, сложить там припасы и вернуться в тот же день назад. Второй отряд должен был дойти до мыса Ричардсон, примерно в двадцати милях от места стоянки, сложить там припасы, вернуться на мыс Белкнап и доставить оттуда на мыс Ричардсон припасы, оставленные первым отрядом. Третью базу предполагалось устроить в заливе Портер, четвертую – в Сейл-Харбор, пятую – на мысе Колан. Затем следовала конечная база на самом мысе Колумбия. Таким образом, санные отряды должны были сновать по всему маршруту туда и обратно, занимаясь попутно охотой, причем след необходимо было постоянно держать открытым. Тягловой силой, разумеется, служили эскимосские собаки. Сани были двух типов: сани Пири, впервые применявшиеся в эту экспедицию, и обычные эскимосские сани, несколько увеличенные в длину. Сани Пири имеют от 12 до 13 футов в длину, 2 фута в ширину и 7 дюймов в высоту; эскимосские сани имеют 9 футов в длину при той же ширине и высоте. Другое различие между обоими типами саней состоит в том, что эскимосские сани представляют собой просто две дубовые боковины в дюйм или дюйм с четвертью толщиной и 7 дюймов шириной, загнутые спереди так, чтобы обеспечить максимальное скольжение на льду, и снабженные стальными полозьями; дубовые боковины саней Пири скруглены спереди и сзади и снабжены полозьями в 2 дюйма шириной. Боковины у саней обоего типа сплошные и состоят из кусков дерева, скрепленных ремнями из тюленьей шкуры.
Сани Пири были сконструированы на основе 23-летнего опыта моей работы в Арктике и считаются самыми прочными и легкими из всех видов саней, применяемых для передвижения в Арктике. На ровной поверхности грузоподъемность саней составляет от 1000 до 1200 фунтов.

Эскимосские сани

Сани Пири
Эскимосы пользуются своим типом саней с незапамятных времен. Прежде, когда у них не было дерева, которое им завезли белые, они делали сани из костей.
Собачью сбрую я изготовил по эскимосскому образцу, но из другого материала. Эскимосы делают сбрую из тюленьих шкур; она состоит из двух петель, соединяемых поперечными связками на загривке и у горла. Ноги собаки продеваются в петли, и к связке на спине прикрепляются постромки. Сбруя очень простая и гибкая, не стесняет движений собаки. Тюленью кожу я отверг из соображений чисто «гастрономического» порядка: когда собак держат на голодном пайке, они съедают сбрую ночью во время стоянки. Чтобы избежать этого, я изготовляю сбрую из специальной тесьмы примерно в два с половиной дюйма шириной, а вместо традиционных постромок из сыромятной кожи пользуюсь плетеным льняным шнуром.
Собак впрягают в сани веерообразно. Обычно упряжка состоит из восьми собак, но для быстрых поездок с тяжелым грузом число собак иногда увеличивают до 10–12. Управляют собаками с помощью бича и окриков. Бич имеет в длину от 12 до 18 футов, и эскимосы пользуются им так искусно, что ударяют собаку именно по тому месту, в которое метят. Белый тоже может научиться пользоваться эскимосским бичом, но для этого требуется время. Точно так же требуется время и для того, чтобы усвоить эскимосскую интонацию оклика: «Хау-э, хау-э, хау-э» – вправо, «Аш-оо, аш-оо, аш-оо» – влево и «Хук, хук, хук» – вперед. Иной раз, когда собаки не слушаются, «Хау-э, хау-э, хау-э» произносится с измененной интонацией и звучит как «Хау-ооооо» – с приложением иных слов, как эскимосских, так и английских, угадать которые предоставляю воображению читателя. У человека, впервые управляющего упряжкой эскимосских собак, температура легко может подскочить до внушительных цифр. И это неудивительно. Порою невольно соглашаешься с эскимосами, что в этих животных вселяется бес: иногда они ведут себя как сумасшедшие. Их излюбленный трюк – скакать друг через друга, друг под друга и одна вокруг другой; при этом постромки спутываются в клубок, по сравнению с которым гордиев узел покажется детской игрушкой. В таком случае погонщику при температурах от 0 до -60° приходится снимать теплые рукавицы и голыми руками распутывать постромки, в то время как собаки словно в насмешку прыгают, грызутся и лают. В связи с этим мне хочется рассказать о происшествии, неизменно повторяющемся, когда упряжкой эскимосских собак управляет новичок.

Упряжка эскимосских собак
Один из участников экспедиции – не буду называть его имени, ибо я сам бывал в его положении – отправился в путь на собачьей упряжке. Несколько часов спустя мы услышали крики и хохот эскимосов. Пришлось пойти разузнать, в чем дело. Оказывается, собаки вернулись к кораблю… без саней. Неопытный погонщик, пытаясь распутать постромки, упустил собак. Через час или два показался он сам, удрученный и злой, как черт. Эскимосы встретили его насмешливыми кликами: уважение эскимосов к белому в первую очередь основывается на том, что он умеет делать так же хорошо, как они. Незадачливый погонщик забрал собак и пошел за санями.
Постепенное приучивание новичков к условиям Арктики – одна из задач коротких осенних поездок. Новичкам надо привыкать к таким неприятным мелочам, как отмороженные пальцы ног, отмороженные уши и нос, не говоря уже о потере собачьей упряжки. Им надо научиться держать тяжелые сани в равновесии при езде по неровной поверхности – иной раз, прежде чем человек достаточно закалится, ему кажется, что у него отрываются все мускулы плечевого пояса. Кроме того, им надо научиться носить меховую одежду.
16 сентября первый санный поезд с припасами, в составе Марвина, доктора Гудсела, Борупа и 13 эскимосов на 16 санях, запряженных примерно двумя сотнями собак, отправился к мысу Белкнап. Внушительной процессией, упряжка за упряжкой они выехали на северо-запад по береговому припаю. День был чудесный – ясный, спокойный и солнечный, и когда поезд уже отъехал на порядочное расстояние, мы все еще слышали крики: «Хук, хук, хук!», «Аш-оо!» и «Хау-э!», хлопанье бичей и хрусткий скрип полозьев по снегу.
Мне нередко задают вопрос: почему мы не замерзаем во время езды на санях? Все дело в том, что ездить нам приходится лишь в редких случаях. По большей части мы идем пешком, а когда дорога особенно тяжела, помогаем собакам перетаскивать сани через неровные места.
Первый отряд вернулся в тот же день с пустыми санями, а на другой день вернулись две группы эскимосов-охотников с тремя оленями, шестью зайцами и парой гаг. Напасть на след мускусных быков не посчастливилось ни той, ни другой группе.
18 сентября вышел в путь второй санный отряд. Он должен был доставить 56 ящиков пеммикана на мыс Ричардсон, разбить там лагерь, доставить на следующий день сухари с мыса Белкнап на мыс Ричардсон и вернуться к кораблю. Таким образом, предстояла холодная ночевка.
Первая ночь, проведенная в брезентовой палатке в Арктике, обычно бессонная. Издает таинственные звуки лед; лают и дерутся привязанные снаружи собаки; воздух в палатке, несмотря на холод, не очень-то чист: один белый обычно делит маленькую палатку с тремя эскимосами, причем всю ночь горит керосинка; иногда эскимосы заводят среди ночи заунывную песню, заклиная души умерших предков, и это, мягко говоря, действует на нервы. А иногда, в довершение всего, новичок слышит в отдалении вой волков.
Палатки сделаны из легкого брезента, пол пришит непосредственно к стенкам. Отверстие для входа, как раз впору пропустить человека, снабжено круглым клапаном, затягиваемым шнурком, благодаря чему палатка становится абсолютно непроницаемой для снега. Обычная палатка в метель моментально наполнилась бы снегом.
Палатка пирамидальной формы, с шестом в центре. Края ее обычно удерживаются полозьями саней или лыжами, которые используются в качестве распорок. Люди спят на полу не раздеваясь, подстилая шкуру мускусного быка и накрываясь легкой оленьей шкурой. После моей экспедиции в Арктику в 1891–1892 годах спальными мешками я не пользовался.
«Кухонный ящик», который мы брали в санные поездки, представляет собой всего-навсего деревянный ящик, в который поставлены две керосинки с двойной горелкой и 4-дюймовыми фитилями. Кастрюлями служат донные части 5-галлоновых банок из-под керосина, снабженные крышками. При упаковке банки опрокидываются вверх дном над керосинками, и ящик закрывается крышкой на петлях. На стоянке кухонный ящик устанавливается в палатке или иглу так, что все тепло от керосинок идет вверх, не растопляя стены иглу и не опаляя брезента; крышка ящика откидывается и служит столом. Кастрюли наполняются битым льдом и ставятся на керосинки. Когда лед растает, в одной кастрюле готовится чай, в другой подогреваются бобы или варится мясо.
У каждого участника экспедиции есть чайная кружка вместимостью в кварту и охотничий нож, служащий многим целям. Одна чайная ложка полагается на четверых, а таких изысканных вещей, как вилка, и вовсе ни у кого нет. Каждый ест из общего котла – запускает туда нож и вытаскивает кусок мяса.
Моя установка такова, что, работая в поле, мы питаемся два раза в день – утром и вечером. Поскольку дни становятся все короче, пища принимается до рассвета и с наступлением темноты. Таким образом, светлый период дня целиком посвящен работе. Иногда приходится идти целые сутки, не останавливаясь для еды.
Отряд, отправлявшийся к мысу Ричардсон, вернулся вечером 19-го и 21-го снова вышел в путь к заливу Портер в составе 19 эскимосов с грузом в 6600 фунтов мяса для собак на 22 санях. Макмиллан все еще болел гриппом и не мог принять участие в предварительных тренировках, но я не сомневался, что, как только он войдет в форму, он быстро наверстает упущенное.
Третий отряд вернулся 94-го с мясом и шкурами 14 оленей.
98-го судно одновременно покинула масса людей. Хенсон, Ута, Алета и Инигито отправились на охоту к северу от озера Хейзен, а Марвин, Пудлуна, Сиглу и Арко – к юго-востоку. Бартлетт с Паникпа, Инигито и Укеа, доктор Гудсел с Инигито, Кешунгва и Киота, Боруп с Карко, Точингва и Аватингва отправились прямо к мысу Колумбия.
Я с самого начала предполагал предоставить охоту и прочую полевую работу своим более молодым товарищам. За 90 с лишним лет знакомства с Арктикой у меня притупился интерес ко всему, за исключением охоты на белого медведя, а молодежь жаждала деятельности. С другой стороны, у меня было много дел и на судне: предстояло разработать план весенней кампании, и, кроме того, мне хотелось сохранить свои силы для последнего решающего шага.
Я не занимался систематически физической тренировкой, потому что не видел в ней особенной пользы. До сих пор мое тело всегда подчинялось воле, какие бы требования я к нему ни предъявлял. В течение зимы я по преимуществу занимался усовершенствованием снаряжения и математическим подсчетом фунтов продовольствия и миль проходимого расстояния. Именно отсутствие продовольствия вынудило нас повернуть обратно с 87°6 северной широты. Голод, а не холод – дракон, стерегущий арктическое «золото Рейна».
Все же я однажды позволил себе прервать монотонный ход жизни на борту судна и совершил в октябре поездку в залив Маркем. Весной 1909 года, находясь на мысе Хекла, я заглянул как бы из-за угла в неисследованные глубины этого большого фьорда, и в мою душу запало желание проникнуть в него поглубже. В прошлую экспедицию я дважды предпринимал такую попытку, но безрезультатно, отчасти потому, что мешала плохая погода, отчасти из-за опасений за судьбу «Рузвельта», который я оставил в угрожаемом положении. Теперь же, невзирая на то, что солнце ходило совсем низко над горизонтом и полярная ночь была не за горами, я решил совершить эту поездку.

Эгингва перед санным походом
1 октября я с тремя эскимосами – Эгингва, Ублуя и Кулатуна – покинул корабль. Три упряжки, по десять собак каждая, тащили сани с запасом продовольствия всего на две недели. Собаки быстро передвигались с легким грузом по уже проложенному следу, и через несколько часов, достигнув залива Портер в 35 милях от корабля, мы расположились там лагерем.
В заливе мы застали двух эскимосов – Онвагипсу и Вишакупси, которые выехали сюда за два дня до нас. Онвагипсу отправился обратно к кораблю, а Вишакупси мы забрали с собой: он должен был помочь нам доставить партию припасов в Сейл-Харбор, а оттуда уже вернуться к кораблю.
Мы провели ночь в брезентовой палатке, которая была поставлена здесь первым осенним отрядом. Ночь была не очень холодная, и мы крепко заснули, поужинав бобами и чаем. Бобы и чай! Возможно, это мало похоже на лукуллов пир, но после дня, проведенного под открытым небом на Земле Гранта, он представлялся именно таким.
Отлично выспавшись, мы с утра пораньше двинулись в путь, прошли по льду залива Портер к его вершине и, взяв в сторону суши, пересекли 5-мильный перешеек, разделяющий залив Портер и бухту Джемс-Росс. Каждый фут этого маршрута был мне знаком и овеян воспоминаниями. За перешейком мы вновь спустились на лед и быстро помчались вдоль западного берега. Собаки, сытые и отдохнувшие, бежали рысцой, навострив уши и подняв торчком хвосты; погода была хорошая; солнце, низко висевшее над горизонтом, отбрасывало на лед длинные, фантастические тени людей и собак.
Внезапно зоркие глаза Эгингва заметили движущуюся точку на склоне горы слева от нас. «Тукту!» – вскрикнул он, и весь наш отряд немедленно остановился. Зная, что преследование одиночного оленя – дело не скорое, я не бросился тотчас в погоню, а велел моим крепким, длинноногим юношам Эгингва и Ублуя взять винчестеры и попытать счастья. Через мгновение они уже мчались во весь дух по снегу, словно нетерпеливые собаки, сорвавшиеся с постромок, низко пригибаясь к земле. Бежали они с таким расчетом, чтобы пересечь путь оленю чуть дальше по склону.
Я наблюдал за ними в бинокль. Олень, заметив их, неторопливо побежал в другую сторону, то и дело оглядываясь назад и явно насторожившись. Но вот он повернулся к ним мордой и стал как вкопанный, и я понял, что охотники издали магический клич, из поколения в поколение завещаемый отцом сыну, подражательный клич, при котором олень мгновенно останавливается, – особый свистящий звук, напоминающий шипение кошки, только более продолжительный.

Полевой отряд и его трофеи (залив Портер)
Охотники подняли ружья, и великолепный самец рухнул как подкошенный. Собаки, навострив уши и подняв морды, наблюдали за всей этой сценой, но при звуке выстрелов взяли с места в карьер – и вот уж мы, не разбирая пути, летим по камням и снегу, словно и нет груза на санях.
Когда мы подъехали, охотники стояли подле добычи, терпеливо ожидая нас. Я просил их не трогать оленя, так как хотел сделать несколько снимков. Это был красавец зверь, почти белоснежный, с великолепными ветвистыми рогами. Как только я сфотографировал оленя, эскимосы вчетвером принялись свежевать и разделывать его.
Как сейчас вижу перед собой эту картину: высящиеся по обеим сторонам бухты горы; заснеженная полоса побережья, переходящая в белую поверхность бухты; низко висящее на юге солнце – сгусток ярко-желтого сияния, как раз заполняющий провал водораздела; воздух, полный медленно падающих ледяных кристаллов, и четверо людей в меховых одеждах, склоненных над убитым оленем, а чуть поодаль собаки и сани – единственный признак жизни в великой белой пустыне.
Когда олень был разделан, мы тщательно свернули шкуру и положили ее на сани, а мясо сложили кучкой, чтобы Виша-купси отвез его к кораблю, когда будет возвращаться из Сейл-Харбор с пустыми санями. После этого мы возобновили свой путь вдоль западного берега бухты, снова взяли в сторону суши и прошли дальше на запад через второй полуостров и низкий водораздел, пока не достигли маленькой бухты на западном берегу полуострова Парри, названной англичанами Сейл-Харбор. В горле бухты, с подветренной стороны ее северного мыса, мы разбили наш второй лагерь. Вишакупси сложил здесь свой груз, а я оставил записку для Бартлетта, который был западнее нас в пути к мысу Колумбия. К ужину у нас было жаркое из оленины – блюдо поистине королевское.
После нескольких часов сна мы выехали по прямой через восточную оконечность ледниковой кромки к горлу залива Маркем. Достигнув горла залива, мы направились вдоль его восточного берега. Дорога была отличная: вода, поднимаясь с приливом в разломе льда у берега, пропитывала лежащий поверху снег, который затем смерзался, образуя узкую, но гладкую поверхность, удобную для езды на санях.
На этом берегу были места, где водились мускусные быки, и мы смотрели во все глаза, но не заметили ни одного животного. Через несколько миль мы наткнулись на следы двух оленей, а проехав чуть дальше, были наэлектризованы напряженным шепотом зоркого Эгингва:
– Нануксоа!
Он взволнованно указывал на середину фьорда и, проследив взглядом за его пальцем, мы увидели кремовое пятно, не спеша продвигавшееся к горлу фьорда, – белый медведь!
Нет зрелища, которое пробуждало бы жажду крови в сердце эскимоса так же живо, как вид белого медведя. Я, во всяком случае, такого не знаю. И при всем своем равнодушии к охоте в Арктике я был взбудоражен не менее моих спутников.
Пока я стоял перед собаками с кнутом в каждой руке, удерживая их на месте, – ибо эскимосская собака не хуже своего хозяина знает, что такое «нануксоа», – трое эскимосов, как безумные, сбрасывали поклажу с саней. Как только с этим делом было покончено, Ублуя вскочил в сани и стрелой пронесся мимо меня. За ним последовал Эгингва; когда он поравнялся со мной, я вскочил в его сани. За нами на третьей упряжке мчался Кулатуна. Человек, придумавший выражение «подмазанная молния», должно быть, несся на пустых санях по следу белого медведя, управляя упряжкой эскимосских собак.
Медведь заслышал нас и огромными скачками устремился к противоположному берегу фьорда. Я встал к стойкам саней, дав Эгингва возможность прилечь и отдышаться. Вне себя от возбуждения мы летели по заснеженной поверхности фьорда.
На середине фьорда снег был глубже, и собаки не могли бежать так быстро, хотя рвались вперед изо всех сил. Но вот они учуяли след – и тут уж ни снег, ни что другое не могло их удержать. Ублуя, один со своей сумасшедшей упряжкой, далеко опередил всех нас. Достигнув противоположного берега почти одновременно с медведем, он тотчас распряг собак, и мы увидели, как они погнались за зверем – крохотные точки величиной не больше комара, стаей взбегающие вверх по крутому склону. Прежде чем мы добрались до берега, Ублуя уже поднялся на вершину склона и сигнализировал нам оттуда, чтобы мы двигались в объезд – суша эта была не что иное, как остров.
Мы объехали остров кругом и нашли то место, где медведь вновь спустился на лед. Он продолжал бежать по льду фьорда к западному берегу, преследуемый Ублуя и его собаками.
Самым странным в поведении медведя было то, что, как сказал мне Эгингва, он вопреки обычаю всех медведей в стране эскимосов не остановился, когда собаки настигли его, а продолжал бежать. Для Эгингва это было верным доказательством того, что в медведе сидит сам великий черт – Грозный Торнарсук. Мысль о том, что он гонится за самим чертом, еще больше взволновала моего спутника.
По другую сторону острова снег был глубже и заметно замедлял наше продвижение. Поэтому, когда мы добрались до западного берега фьорда, то увидели издали медведя и собак Ублуя, которые медленно карабкались вверх по склону. Мы и наши собаки сильно запыхались. Но лай высвобожденных собак где-то наверху среди утесов придал нам новые силы. Он означал, что собаки наконец выставили зверя. Достигнув берега, мы выпрягли и выпустили своих собак. Они побежали по горячему следу, а мы как можно быстрее последовали за ними.
Вскоре мы подошли к глубокому ущелью. Судя по доносившимся звукам, собаки и медведь находились где-то на дне. Однако стены ущелья были слишком отвесны, так что по ним не мог бы спуститься даже эскимос, и мы не видели добычу. Медведь, по всей видимости, был под каким-то выпирающим уступом с нашей стороны.
Я направился вверх по ущелью, отыскивая место, где можно было спуститься, как вдруг услышал крик Эгингва: оказалось, что медведь прошел вниз по ущелью и теперь взбирается вверх по противоположному склону. Я поспешил назад по скалам, покрытым глубоким снегом, и вдруг увидел зверя в 100 ярдах от себя. Я поднял ружье, дал два выстрела, но медведь продолжал подниматься по склону ущелья, – должно быть, я слишком запыхался и не сумел как следует прицелиться. Поистине в медведе сидел сам Торнарсук!
Тут я почувствовал, что жестоко оббил о камни культи обеих ног – пальцы на ногах у меня были отморожены еще в 1899 году в Форт-Конгер. Ноги разболелись ужасно, и я решил отказаться от дальнейшего преследования медведя по крутым, усеянным валунами утесам.
Вручив свое ружье Эгингва, я сказал ему и Кулатуна, чтобы они продолжали погоню, а сам спустился по утесам к саням и пошел вдоль берега по льду фьорда. Но не успел я пройти сколько-нибудь значительное расстояние, как вдали послышались крики, и вскоре на верхушке горы появился эскимос, взмахами рук давая понять, что охота успешно завершилась.
Прямо впереди, как раз напротив того места, где появился эскимос, был вход в глубокую расщелину. Я поставил сани напротив и стал ждать. Немного погодя я увидел эскимосов, с трудом прокладывавших себе путь вниз по расщелине. Собак припрягли к медведю, и они тащили его за собой наподобие саней. Это было интересное зрелище – расщелина с крутыми каменистыми стенами в изодранной снежной мантии, возбужденные собаки, волокущие столь необычный груз, бездыханная кремовая туша медведя, залитая кровью, кричащие и жестикулирующие эскимосы.
Когда медведя наконец спустили на берег, я сфотографировал его, меж тем как эскимосы ходили взад и вперед, оживленно переговариваясь: для них теперь было несомненным фактом, что в медведе сидел черт, иначе почему бы он стал убегать, когда собаки настигли его? Тонкости арктической демонологии не доступны пониманию белого человека, и я не принял участия в споре относительно того, удрал ли черт, когда винтовка Ублуя поразила его телесное обиталище.

Медведь, убитый в заливе Маркем
Октябрь 1909 г.
Добыча вскоре была освежевана и разделана искусными ножами эскимосов, мясо сложено на берегу, чтобы следующие за нами отряды доставили его на корабль, шкура аккуратно уложена на сани. После этого мы вернулись к тому месту на противоположной стороне фьорда, откуда впервые увидели медведя. Там мы отыскали выброшенные из саней припасы, и так как все, и люди, и собаки, изрядно устали, а проделанная за день работа внушала удовлетворение, решено было тут же устроить привал. Мы поставили палатку, зажгли керосинки и вволю наелись медвежьего бифштекса, который оказался особенно сочным, – очевидно, из-за недавнего присутствия Торнарсука.
На следующий день, пройдя всего 6 или 7 миль и обогнув один из мысов на восточном берегу фьорда, мы увидели в отдалении черные точки на склоне горы.
– Умингмуксуэ! – взволнованно сказал Ублуя, и я, довольный, кивнул ему.
Для опытного охотника, имеющего с собой одну-две собаки, увидеть мускусных быков все равно, что добыть их. Возможно, ему придется преследовать их по самой пересеченной местности, и ветер будет хлестать ему в лицо, а мороз – леденить кровь, но в конце его всегда ожидают трофеи в виде шкур, рогов и сочного мяса.
Я лично никогда не рассматривал охоту на мускусных быков как развлечение: слишком часто в минувшие годы вид их черных фигур был равносилен для меня избавлению от угрозы голодной смерти. В 1899 году в заливе Индепенденс [Индепенденс-фьорд] стадо мускусных быков спасло от смерти всю мою экспедицию, а в 1906 году, не найди мы мускусных быков на Земле Нэрса, возвращаясь с 87°6 северной широты, очень могло статься, что наши кости белели бы теперь там в великой снежной пустыне.
Итак, завидя в отдалении исполненные для нас глубокого смысла черные пятнышки, мы направились к ним. Быки стояли кучкой в пять штук и один поодаль. Менее чем в миле от них мы выпрягли из саней двух собак. Собаки были вне себя от возбуждения, ибо также видели черные точки и знали, что это такое; как только постромки были отцеплены, собаки кинулись со всех ног по прямой, как летит возвращающаяся в улей пчела.

Мускусные быки (овцебыки)
Мы не спеша следовали за ними, уверенные, что, когда достигнем стада, оно будет стоять на месте – легкая добыча для наших ружей. Одиночный мускусный бык при виде собак устремляется к ближайшему утесу и прижимается к нему спиной, однако стадо, застигнутое на открытой местности, становится в круг, хвостами к центру, головами к противнику. Затем бык – вожак стада выходит вперед и нападает на собак. Когда вожак падает застреленный, его место занимает другой бык, и так далее.
Через несколько минут я вновь, как и в прошлые экспедиции, стоял перед мускусными быками – сбившиеся в кучу косматые черные тела, сверкающие глаза, обращенные ко мне рога. Только на этот раз мне не грозила голодная смерть.
Однако, когда я поднял ружье, мое сердце вновь стеснило жуткое ощущение, будто моя жизнь всецело зависит от точности прицела; во мне вновь проснулось гложущее чувство голода, терзавшее меня в прошлом, – мучительная жажда красного, теплого, сочащегося кровью мяса. Должно быть, нечто подобное испытывает волк, раздирающий свою добычу. Тот, кто по-настоящему голодал, будь то в Арктике или где-либо еще, поймет это ощущение. Порою оно овладевает мною в самых неожиданных местах. Я могу испытать его после плотного обеда на улицах большого города, при виде изможденного нищего, протягивающего руку за подаянием.
Я нажал на спусковой крючок, и вожак стада осел на задние ноги. Пуля прошла в уязвимое место под лопаткой, куда всегда следует целить, стреляя мускусного быка. Целить в голову – значит попусту тратить патроны.
Когда бык упал, из стада вышла самка. Она была убита вторым выстрелом. С другими животными – самкой и двумя годовалыми телятами было покончено в несколько секунд. Ублуя и Кулатуна занялись разделкой убитых животных, а мы с Эгингва направились к одиночному мускусному быку, кормившемуся на расстоянии 9 миль от нас.
Когда собаки приблизились к нему, бык бросился бежать вверх по склону холма и исчез за ближайшим гребнем, разметая на своем пути тонкий слой снега длинными спутанными космами, свисавшими с его боков и брюха до самой земли.
Собаки исчезли следом за ним, но их взбудораженный лай указывал нам путь. Бык укрылся среди огромных камней на речном русле, спрятав бока и зад; собаки, лая, стояли перед ним.
Одного выстрела было достаточно. Эгингва стал разделывать убитое животное, а я направился к двум другим нашим спутникам: мы решили разбить лагерь на том месте, где они разделывали пятерых мускусных быков. Выйдя из расщелины и увидев вверх по долине еще одну черную косматую фигуру, я быстро вернулся, забрал собак и покончил с этим мускусным быком так же легко, как и с остальными.

Голова мускусного быка
Последний экземпляр представлял особый интерес, так как белая шерсть у него на ногах, над самыми копытами, была испещрена ярко-рыжими отметинами – с таким животным я сталкивался впервые.
Забрав собак, я направился к тому месту где мы решили заночевать. Ублуя и Кулатуна как раз заканчивали разделку последнего быка, и я тотчас послал их с санями помочь Эгингва управиться с остающимися двумя.
Когда они уехали, я разбил палатку и начал готовить чай к ужину. Как только голоса эскимосов послышались вдали, я поставил вариться мясо мускусных быков, и вскоре мы наслаждались плодами своих трудов. Вот уж поистине мы ели тук земли – оленину в позапрошлую ночь, медвежатину в прошлую, а сегодня сочное мясо мускусных быков!
Наутро мы двинулись дальше и в течение дня убили еще трех мускусных быков, мясо которых спрятали, как положено. В ту ночь мы ночевали во внутренней части неисследованного залива, и я заснул с приятным сознанием, что к карте мира прибавился еще один кусочек дотоле неизвестной территории.
На следующий день мы направились на север вдоль западного берега залива. После нескольких часов езды мы уже начали присматривать подходящее место для ночевки, как вдруг напротив подножия крутого утеса футов в 50 высотой собаки кинулись в сторону берега и стали карабкаться на утес. Разумеется, им это не удалось из-за саней, но мы поняли, что означал этот сумасшедший рывок. Снова мускусные быки!
Через мгновение я и Эгингва с винтовками в руках уже карабкались на утес. Заглянув через его вершину, мы увидели стадо из пяти быков. Было почти совсем темно – в густых арктических сумерках различались лишь пять черных точек. Мы переждали с минуту, чтобы отдышаться, затем я махнул рукой Ублуя, давая понять, чтобы он поднялся к нам с двумя собаками, а Кулатуна остался у саней. Несмотря на потемки, мы быстро управились со всем стадом.

Мускусный бык
Я опять поставил палатку и приготовил ужин, пока мои смуглые друзья отдавали последние почести мускусным быкам на утесе. Этих животных надо потрошить сразу же после убоя, в противном случае избыточное тепло их больших косматых тел ведет к порче мяса. Когда эскимосы подошли к палатке, на землю уже спустилась тьма, сулившая впереди долгую черную ночь.
На следующий день мы закончили объезд западного берега залива и по прямой, форсированным маршем, направились к Сейл-Харбор, где я нашел записку от Бартлетта. Он сообщал, что прошел здесь накануне, на обратном пути с мыса Колумбия к кораблю.
Здесь мы провели ночь, а наутро, чуть рассвело, пока мои спутники свертывали лагерь и запрягали собак, я направился через полуостров к бухте Джемс-Росс. Поднявшись на водораздел, я увидел внизу, на берегу бухты, скопление темных пятнышек, в которых безошибочно признал лагерь, и немного погодя радостно приветствовал отряд в составе Бартлетта, Гудсела, Борупа и их людей.
К тому времени, когда их заспанные, не гнущиеся со сна фигуры вышли из палаток – они заснули всего лишь час назад, – подоспели на санях и мои спутники эскимосы. Как теперь вижу выпученные глаза моих помощников, особенно Борупа, когда они увидели сани, полные косматых шкур. На передних санях красовалась великолепная шкура белого медведя, за ней следовала оленья шкура с украшенной ветвистыми рогами головой и множество голов мускусных быков, которые мои помощники просто не могли сосчитать.
– Вот так так! – воскликнул Боруп, придя в себя от изумления.
Для длительной беседы не было времени: я хотел в тот же день поспеть на корабль. Поэтому, кратко переговорив со своими людьми, я двинулся дальше, оставив их отсыпаться в палатках. Когда мы достигли места стоянки «Рузвельта», уже давно стемнело. Мы отсутствовали семь ночей, покрыли расстояние более чем в 200 миль, исследовали за лив Маркем, положили его контуры на карту и между делом добыли великолепные экземпляры трех видов крупных животных арктических областей, пополнив наши зимние запасы продовольствия несколькими тысячами фунтов свежего мяса. С чувством полного удовлетворения я принял в своей каюте горячую ванну и заснул долгим освежающим сном.

Головы мускусных быков на снастях «Рузвельта»
Перевозка грузов и припасов продолжалась в течение всего октября. Капитан совершил две полные поездки от корабля к мысу Колумбия и постоянно сновал туда и обратно по всему маршруту. За это время он добыл четырех мускусных быков.
Макмиллан оправился от гриппа, и 14 октября я послал его с двумя эскимосами на двух санях с 20 собаками произвести съемку залива Маркем и поохотиться на оленей и мускусных быков. Он добыл пять мускусных быков. В конце месяца доктор Гудсел также заболел гриппом, приковавшим его к постели на две недели. Небольшие отряды постоянно выезжали в окрестности на охоту, и за всю осень едва ли был день, когда всех участников экспедиции можно было застать на корабле.
С момента прибытия «Рузвельта» к мысу Шеридан в начале сентября и вплоть до нашего выхода с суши к полюсу 1 марта все члены экспедиции почти без перерывов готовились к финальному санному маршу весной, причем немалая часть этой подготовки носила воспитательный характер. Иначе говоря, я хотел приучить новичков к тяготам длительных переходов по пересеченной местности в мороз, метель и ветер. Они должны были научиться сами заботиться о себе в трудных условиях, оберегать себя от постоянной опасности обморозиться, с наибольшим удобством использовать меховую одежду, обращаться с собаками и руководить своими помощниками эскимосами таким образом, чтобы получить от них максимальную отдачу.
Вот запись в дневнике доктора Гудсела, настолько показательная для основных тягот санного перехода в Арктике, что стоит привести ее здесь.
«Много времени затратил на то, – пишет доктор Гудсел, – чтобы высушить чулки и сапоги. Крайне трудно высушить чулки из-за холода и необходимости экономить топливо. Обувь следует сбрасывать, как только она чуть пропитается влагой. В сухой обуви, при соблюдении обычных мер предосторожности, опасность отморозить ноги невелика. Если же ходить в мокрой обуви, то такая опасность постоянно существует. Керосинки с 3-дюймовой горелкой едва достаточно для того, чтобы просушить рукавицы, которых носится две пары – наружная, из шкуры белого медведя, и внутренняя, из оленьей кожи».
А вот другая запись, иллюстрирующая опасность иного рода.
«С Токсингва и Високаси случился припадок из-за недостатка кислорода и обилия алкогольных паров, пока Макмиллан готовил чай. Високаси лег на спину, словно заснул. Токсингва дергался, словно стараясь высвободить руку из рукава своей куртки, и в конце концов тоже лег на спину. Макмиллан понял, в чем дело, и проветрил иглу. Через 15–20 минут эскимосы пришли в себя. Командир в одну из своих экспедиций также наблюдал нечто подобное: он увидел, что его эскимосы ведут себя как-то странно, и быстро пробил ногой отверстие в стенке иглу».
При санном походе по замерзшему полярному морю постоянно существует и другая опасность, а именно: провалиться сквозь тонкий лед. Я думаю, нет нужды распространяться о том, насколько она серьезна: именно такого рода несчастный случай стоил жизни профессору Марвину. А если даже человек, с которым случилось такое несчастье, сможет выбраться из воды, он, несомненно, очень быстро замерзнет на льду. Вымокший в воде человек быстро замерзает при температуре между 20 и 60° ниже нуля.
«Только что переобулся в сухие сапоги, – пишет доктор. – Переходя полынью, затянутую тонким льдом с трещиной посередине, по колено провалился в воду левой ногой. К счастью, правой ногой я стоял на твердом льду. Я метнулся вперед, упал левым коленом на кромку твердого льда и вытащил ногу из воды. При переходе через другую полынью лед подо мной надломился, и я отпрыгнул, лишь по лодыжку замочив правую ногу. Не понимаю, каким образом не попал в воду всем телом. Провались я в воду хотя бы по пояс, я оказался бы в весьма серьезном положении, так как до саней было довольно далеко, а температура была 47° ниже нуля. При отсутствии иглу и невозможности тотчас переодеться в сухую одежду купанье при такой температуре, несомненно, кончилось бы весьма прискорбно».

Полночь в районе Китового пролива
Жизнь в Арктике сурова, но все же есть в ней непреодолимое очарование, и временами наступают моменты созерцания, подобные тому, который доктор испытал 25 февраля на стоянке в пути от «Рузвельта» к мысу Колумбия. Вот что он пишет:
«Приближаясь к мысу Гуд, я то и дело невольно останавливался полюбоваться ландшафтом. Позади виднелись мыс Хекла и полуостров Парри. Впереди манили к себе пики-близнецы мыса Колумбия – второго отправного пункта похода командира к полюсу. По мере того как мы продвигались на север, за сравнительно гладкой ледниковой кромкой вырисовывались поля и вершины торосистых льдов, от которых нам изрядно достанется в будущем. Южный горизонт был ограничен острыми, неровными, зубчатыми горными грядами, простиравшимися большей частью параллельно берегу. У нас каждый день был великолепный рассвет, длящийся несколько часов. Параллельные хребты зубчатых гор излучают золотистый блеск. Отдельные пики отражают свет солнца, которое через несколько дней расцветит их прямыми лучами. Прозрачный круг золотистого сияния, красно-желтый, с темными слоями облаков, плывущих параллельно прибрежным хребтам, – многочасовые эффекты Тернера, наблюдающиеся здесь изо дня в день, причем эффект день ото дня нарастает. Я пишу в трудных условиях – Инигито (эскимос) держит мне свечу. Руки так окоченели, что я едва могу водить карандашом, лежа на возвышении для сна в иглу».
Но все это – забегая вперед. 12 октября солнце рассталось с нами; быстро сгущающиеся полярные сумерки сильно затрудняли работу в поле. Наши фотографии день ото дня становились все менее удовлетворительными. Моментальные снимки не удавались уже примерно с середины сентября: когда солнце у самого горизонта, свет на первый взгляд так же ярок, как и летом, но ему явно недостает актинической силы. Наши первые выдержки были 5 секунд; последние, 28 октября, – полтора часа. Температура также постепенно понижалась и 29 октября упала до 26° ниже нуля.
Осенняя работа окончилась 5 ноября с возвращением Бартлетта и его отряда с мыса Колумбия – все остальные к этому времени уже вернулись. Солнечного света совсем не стало. Теперь работать можно будет только в полнолуния долгой зимней ночи.
Мы прибыли сюда в арктический полдень, проработали и проохотились все арктические сумерки, и теперь на нас спустилась ночь – долгая арктическая ночь, подобная тени в долине смерти. Почти все припасы, предназначенные для весеннего санного похода, были доставлены на мыс Колумбия, у нас был добрый запас мяса на зиму, все члены экспедиции были здоровы, а потому мы вступили в Великую Тьму со спокойной душой. Наш корабль находился в относительной безопасности, мы хорошо обеспечили себя жильем и едой, и если иногда ужасающая тоска, навеваемая тьмой, хватала людей за душу, то они доблестно скрывали это друг от друга и от меня.
Едва ли человек, которому никогда не случалось прожить четыре месяца в постоянной темноте, может представить себе, что это такое. Всякий школьник знает, что на двух концах Земли год состоит из одного дня и одной ночи равной продолжительности с промежутками сумерек между ними; однако просто привести факт еще не значит произвести должное впечатление. Лишь тот, кто изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц вновь и вновь вставал и ложился при свете лампы, может понять, как прекрасен солнечный свет.
В течение долгой арктической ночи мы считаем дни, остающиеся до возвращения света, а к концу периода темноты отсчитываем дни на календаре – 31 день, 30 дней, 29 дней и так далее остается до той поры, когда мы снова увидим солнце. Тому, кто хочет понять солнцепоклонников древности, следует провести зиму в Арктике.
Представьте себе нас в нашем зимнем жилище на «Рузвельте», в 450 милях от Северного полюса. Корабль крепко удерживается на своем ледовом ложе, в 150 ярдах от берега, который, как и весь окружающий мир, покрыт пеленой снега; ветер поскрипывает в снастях, свистит и повизгивает вокруг углов рубок; температура колеблется в пределах от 0 до 60° ниже нуля, и с каждым новым приливом до нас доносится стон и ворчание пакового льда в проливе.
В светлые периоды месяца, длящиеся 8—10 дней, когда луна кружит и кружит по небу, молодые участники экспедиции почти всегда уезжали на охоту; в течение продолжительных периодов полной темноты большинство оставалось на корабле, поскольку охота зимой возможна только при лунном свете.

«Рузвельт» зимой при лунном свете
Не следует забывать, что луна в Арктике имеет свои регулярно сменяющиеся фазы, необычен лишь путь, которым она движется по небу. В ясную погоду даже в периоды темноты светят звезды, но свет их особый, холодный и мертвенный; по слову Мильтона, он лишь как бы делает «тьму зримей». Когда звезды скрыты за тучами – а по большей части так оно и бывает, – темнота такая густая, что, кажется, ее можно схватить рукой; если в пургу и ветер человек отважится высунуться в дверь каюты, кажется, будто невидимые руки с демонической силой отшвыривают его обратно.
В начале зимы эскимосы жили в передней рубке. Круглые сутки топились плита в камбузе, печки в помещении эскимосов и команды; у меня в каюте хотя и была небольшая цилиндрическая печь, я за всю зиму ни разу не затопил ее.
Я просто открывал на некоторое время переднюю дверь каюты, выходящую в камбуз, и этого было достаточно, чтобы в каюте было сравнительно тепло. Бартлетт время от времени топил печку у себя в каюте, другие члены экспедиции иногда зажигали свои керосинки.
1 ноября мы перешли на зимний режим питания: два раза в день, завтрак в 9 часов и обед в 4 часа дня. Вот меню на неделю – мы выработали его вместе с Перси, заведующим хозяйством, и придерживались в течение всей зимы.
Понедельник. Завтрак: каша, бобы, черный хлеб, масло, кофе. Обед: жареная печенка, макароны с сыром, хлеб с маслом, чай.
Вторник. Завтрак: овсяная каша, яичница с ветчиной, хлеб с маслом, кофе. Обед: солонина с зеленым горошком, пудинг, чай.
Среда. Завтрак: каша двух видов на выбор, рыба для матросов, колбаса для членов экспедиции, хлеб с маслом, кофе. Обед: жаркое с томатами, хлеб с маслом, чай.
Четверг. Завтрак: каша, яичница с ветчиной, хлеб с маслом, кофе. Обед: солонина с зеленым горошком, пудинг, чай.
Пятница. Завтрак: каша на выбор, рыба, рубленый шницель на правый борт (наш собственный стол), хлеб с маслом, кофе. Обед: гороховый суп, рыба, пирог с клюквой, хлеб с маслом, чай.
Суббота. Завтрак: каша, тушеное мясо, хлеб с маслом, кофе. Обед: жаркое с томатами, хлеб с маслом, чай.
Воскресенье. Завтрак: каша, «бруз» (ньюфаундлендские сухари, сваренные с соленой треской), хлеб с маслом, кофе. Обед: кумжа, фрукты, шоколад.
Беседа за столом касалась главным образом нашей работы. Обсуждались детали последней санной поездки или план следующей. Мы всегда что-то делали, и члены экспедиции были так заняты, что у них просто не оставалось времени предаваться традиционной, сводящей с ума меланхолии зимующих в Арктике экспедиций. Кроме того, я специально подбирал людей сангвинического темперамента, а с собой мы захватили много сырьевого материала, чтобы каждый был занят его обработкой и не сидел без дела.
По воскресным утрам я завтракал у себя в каюте, предоставляя людей самим себе. В таких случаях застольная беседа приобретала более непринужденный характер и ее темой могло быть все что угодно, начиная от книг и кончая умением держать себя за столом. Бартлетт иногда пользовался этой возможностью и полушутя, полусерьезно давал своим товарищам советы по части этикета, напоминая о том, что придет время, и они вернутся в цивилизованный мир, а потому надо следить за собой и не распускаться. Таким образом, «практики» и «теоретики» на равных правах встречались за одним столом.
Я никогда не вводил сурового режима для членов моих экспедиций, потому что не видел в этом необходимости. Были установлены определенные часы еды в столовых. Подразумевалось, что свет следует тушить в полночь, однако, если кому-либо хотелось посидеть при свете и после полуночи, это не возбранялось. Таковы были наши правила.
Эскимосам дозволялось есть, когда захочется. При желании они могли засиживаться допоздна, однако с условием не прерывать работу на следующий день. Одно правило являлось для них безусловно обязательным: не шуметь – скажем, не рубить мясо для собак – и не кричать с 10 часов вечера до 8 часов утра.
Зимуя на «Рузвельте», мы во многом отказались от обычного судового распорядка. Склянки били лишь в 10 часов вечера и в полночь; первый сигнал означал – прекратить всякий шум, второй – гасить огни. Вахты регулярно несли только дневной и ночной дежурный.
За исключением нескольких случаев гриппа, здоровье участников экспедиции в течение всего периода зимовки не оставляло желать лучшего. Грипп в Арктике, совпадающий с эпидемиями в Европе и Америке, представляет собой довольно интересное явление. Впервые я столкнулся с ним в 1892 году, после одной из характерных для Гренландии бурь, сходных с теми, что бывают в Альпах, – бури, которая, по-видимому, пронеслась с юго-востока над всей Гренландией и привела к повышению температуры за сутки с —30° до +41°. Вслед за ней все участники экспедиции и даже некоторые эскимосы заболели гриппом. Мы решили, что возбудители заболевания занесены к нам этой бурей, которая, несомненно, была не местного происхождения.
Если не считать ревматизма и бронхиальных заболеваний, эскимосы – довольно здоровый народ; однако взрослые подвержены особой нервной болезни, по-эскимосски – пиблокто, представляющей собой разновидность истерии. Я не наблюдал случаев пиблокто у детей, однако среди взрослых эскимосов каждый день или через день у кого-нибудь да случался припадок, а раз было даже целых пять случаев в течение одного дня. Причину этой болезни трудно установить, однако иногда создается впечатление, что припадки эти – следствие размышлений об отсутствующих или умерших родственниках или страха перед будущим.
Проявления этой болезни способны напугать человека. Больной, как правило женщина, начинает пронзительно кричать и срывать с себя одежду. Если припадок случается на борту судна, женщина начинает расхаживать взад и вперед по палубе, крича и жестикулируя, обычно совершенно обнаженная, хотя термометр показывает за 40° ниже нуля. Затем женщина может спрыгнуть через поручни на лед и отбежать от корабля на полмили. Приступ может длиться несколько минут, час и даже больше. Некоторые больные приходят в такое неистовство, что продолжают бегать по льду совершенно голые, и их приходится насильно приводить обратно, чтобы они не замерзли.
Когда припадок пиблокто случается в жилище, никто не обращает на это внимания, если только больной не пытается схватить нож и не бросается на других. Припадок обычно заканчивается приступом плача, а когда больной успокаивается, его глаза наливаются кровью, пульс учащается, и он начинает дрожать всем телом с час или около того после окончания припадка.
Хорошо известный вид бешенства у эскимосских собак также называется пиблокто. Хотя это заболевание, по-видимому, не заразное, его проявления сходны с симптомами водобоязни. Собак, страдающих пиблокто, обычно убивают, хотя эскимосы нередко употребляют их мясо в пищу.
В начале ноября наступило первое зимнее полнолуние, и 7-го числа Макмиллан отправился на месяц на мыс Колумбия для проведения наблюдений над приливами и отливами, взяв с собой матроса Джека Барнза, а также Эгингва и Инигито с их женами. Вспомогательный отряд в составе Пудлуна, Ублуя и Сиглу сопровождал Макмиллана, чтобы перевезти необходимые припасы, а Вишакупси и Кешунгва отправились к мысу Ричардсон за шкурами мускусных быков, оставленными там во время осенней охоты.
Предполагалось, что наблюдения над приливами и отливами на мысе Колумбия дополнят аналогичные наблюдения, которые постоянно проводились на мысе Шеридан в течение осени и зимы, а позднее и на мысе Брайант по другую сторону пролива Робсон. Нынешние наблюдения представляли собой самую северную из предпринимавшихся где-либо серий непрерывных наблюдений; подобные наблюдения производились лишь экспедицией в залив Леди-Франклин (в Форт-Конгер), примерно на 60 миль к юго-западу.
Марвин и Боруп в ноябрьское полнолуние продолжали наблюдения над приливами и отливами на мысе Шеридан. Их иглу, построенный на льду в приливной трещине примерно в 180 ярдах от корабля, представлял собой обычный эскимосский снежный дом и служил ученым укрытием во время работы. Футшток, около 12 футов длиной, размеченный на футы и дюймы, был воткнут в дно. Под влиянием приливов и отливов лед вместе с иглу поднимался и опускался, футшток же оставался неподвижным; определяя по нему положение льда, ученые измеряли высоту подъема и опускания уровня воды, меняющуюся в зависимости от дня, фазы луны и времени года.
Приливы у северного побережья Земли Гранта отличаются незначительной амплитудой, варьирующей от 1,8 фута у мыса Шеридан до 0,8 фута у мыса Колумбия. Как хорошо известно мореплавателям, в Санди-Хук, штат Нью-Йорк, вода иногда поднимается на 12 футов, в заливе Фанди зачастую более чем на 50 футов, в Гудзоновом проливе примерно на 40 футов, а в некоторых местах у берегов Китая максимальный подъем воды выражается еще более внушительными цифрами.
Две эскимоски отправились с отрядом Макмиллана на мыс Колумбия потому, что эскимосы-мужчины не любят разлучаться с семьей, когда уходят в длительные походы. Женщины помогают мужчинам, просушивая и чиня меховую одежду, которая постоянно рвется во время санных поездок. Некоторые женщины умеют управлять собачьей упряжкой не хуже мужчин, и многие из них – неплохие стрелки. Я знал эскимосок, которые охотились на мускусных быков и даже на медведей. И хотя они не отваживаются ходить на моржа, они не хуже мужчин управляются с каяком – в пределах своих физических возможностей.
Достоинства эскимосских женщин скорее утилитарного, чем украшательского свойства. Обращение со светильником, например, требует немалого искусства. Если светильник заправлен должным образом, он горит ярко и не коптит, совсем как наши лампы; если заправлен неряшливо, чадит и жутко смердит. Поскольку эскимосы народ не шибко романтического склада, умение женщины обрабатывать шкуры и шить одежду в большой мере решает, какой муж ей достанется. Мужчины эскимосы не очень разборчивы в женской красоте, зато высоко ценят домовитость.
Уже с начала ноября собаки стали доставлять нам немалое беспокойство. Многие погибли; остальные были в неважном состоянии, и к тому же с кормом у нас было не густо. Если учитывать всякие случайности, всегда лучше иметь вдвое больше собак, чем необходимо. На 8 ноября у нас оставалось всего 193 собаки из 246, с которыми мы покинули в августе Эта. Привезенное для них китовое мясо, по-видимому, было недостаточно питательным.
Четырех собак, находившихся в безнадежном состоянии, пришлось пристрелить ради экономии корма, а 10-го числа – еще пятерых. Мы попытались кормить их свининой, и в результате погибли еще семь. Меня стали одолевать сомнения, хватит ли нам собак для весеннего санного марша к полюсу.
Совершенно невозможно предсказать, сколько может прожить эскимосская собака. Животное может выдерживать самые суровые лишения; может бегать и тащить тяжелый груз, находясь практически на голодном пайке; может днями жить под открытым небом в жесточайшую арктическую пургу, а потом может лечь и умереть в хорошую погоду, после обычной порции наилучшего корма.
25 ноября мы снова осмотрели и пересчитали собак. Теперь их оставалось всего 160, причем 10 были в плохом состоянии. Однако в тот день, вскрыв на баке запас мороженого моржового мяса, я обнаружил, что у нас его больше, чем мы предполагали, и это открытие развеяло преследовавший нас кошмар. Отныне мы стали кормить собак более щедро и наилучшим кормом. Ибо, испробовав практически все виды корма, вплоть до бекона, мы нашли, что моржовое мясо лучше, чем какое-либо другое, удовлетворяет их потребности.
Столь важное обстоятельство нельзя ни на минуту упускать из виду. Собаки, причем в избыточном количестве, были жизненно необходимы для успеха экспедиции. Лишись мы собак, скажем, в результате эпидемии, мы могли бы с равным успехом сидеть у себя дома в Штатах. И что касается завоевания полюса, то все затраченные деньги, умственная работа, весь труд оказались бы затраченными впустую.
Если верно, что строительство в арктических областях размахом не отличается, верно и то, что всякий, кто хочет путешествовать с размахом по Арктике, должен уметь строить для себя жилище. Если вы пренебрежете этой заповедью, то вам, несомненно, рано или поздно придется пожалеть об этом.
К концу осенней полевой работы мы перестали пользоваться брезентовыми палатками и построили по пути следования отрядов постоянные иглу из снега, в которых одна за другой ночевали проходящие партии. Марвин, Хенсон и эскимосы обучали новичков искусству возводить иглу. Я поставил себе за правило, чтобы ни один человек не выходил зимой в поле, не умея построить себе убежище для защиты от холода и пурги.
Размеры иглу обычно зависят от количества людей в отряде. Иглу на троих имеет пол 5 X 8 футов; иглу на пятерых 8 X10 футов, чтобы можно было сделать более широкое возвышение для сна.
Четыре сильных мужчины могут построить такой снежный дом за час. Каждый достает из саней нож-пилу и приступает к нарезанию снежных блоков. Нож-пила, около 18 дюймов длиной, выполнен из крепкой, негнущейся стали, с лезвием с одной стороны и зубьями, как у пилы, с другой. Блоки нарезаются различной величины: предназначенные для нижнего ряда массивнее и крупнее, чем те, из которых возводятся верхние ряды, причем все скругляются с внутренней стороны так, что составленные вместе образуют круг. Толщина стен зависит от плотности снега. Если снег сильно уплотнен, стены могут быть лишь в несколько дюймов толщиной; если снег рыхлый, блоки должны нарезаться толще, чтобы не рассыпались. Иногда фундамент состоит из блоков в 2–3 фута длиной и 2 фута высотой; иногда блоки значительно меньших размеров – твердо установленных правил на этот счет нет.
Когда нарезано достаточно блоков, один эскимос становится в центре предполагаемой постройки, для которой обычно выбирается покатый снежный нанос, а его товарищи начинают подносить блоки и укладывать их впритык, по эллиптической окружности; при этом эскимос в центре подгоняет глыбы одну к другой с помощью ножа для резки снега.
Второй ряд укладывается на первый, с легким наклоном вовнутрь, затем, по восходящей спирали, укладываются последующие ряды, причем наклон все увеличивается. Каждый блок удерживается на месте двумя соседними, и в конце концов в крыше остается лишь отверстие, которое заполняется одним блоком. Этот блок изготовляется человеком, находящимся внутри иглу Он просовывает блок в отверстие торцом вперед, переворачивает его, просунув руки сквозь крышу, опускает на место и отесывает ножом, так что в конце концов блок плотно входит в отверстие и, наподобие замкового камня, запирает свод постройки, которая своими общими пропорциями весьма напоминает пчелиный улей.
У подножия дома прорезается отверстие, как раз впору пролезть человеку, и весь лишний снег из иглу выбрасывается наружу. В задней, более широкой части дома покатый снежный пол выравнивается – это возвышение для сна, а снег спереди выгребается на фут или больше, чтобы было где стоять и разместить керосинки. Затем в иглу подают спальные и кухонные принадлежности, кормят и привязывают на ночь собак, и люди заползают внутрь. Вход закрывается большим снежным блоком, отесанным ножом-пилой таким образом, чтобы плотно подходить к отверстию, и на этом подготовка к ночлегу заканчивается.
Вскоре после того, как зажигаются керосинки, в иглу становится сравнительно тепло. Люди в Арктике, вымотанные долгим переходом, как правило, засыпают легко. Бессонница решительно не является бичом Арктики.
В санные поездки мы не берем с собой будильников. Тот, кто просыпается первым, смотрит на часы и, если пора снова трогаться в путь, будит товарищей. После завтрака лагерь сворачивается и отряд отправляется дальше.
В свою последнюю экспедицию зимой я не принимал участия в полевой работе, а оставался на корабле, уточняя и усовершенствуя план весенней кампании – санного марша к полюсу.
Я изучал новый тип саней Пири, вносил улучшения в детали одежды и экспериментировал с новой моделью спиртовой печки, предназначенной для весенней работы, определяя оптимальный расход спирта, оптимальные размеры кусков льда для растопки, и так далее. Кроме того, если учесть, что вес является важнейшим фактором в санном походе, необходимо было тщательно подбирать снаряжение, чтобы получить максимум отдачи при минимальном весе и объеме. Часы досуга я посвящал набивке чучел животных, используя для этого новый метод.
В середине ноября над люком главной палубы «Рузвельта» был построен большой иглу, названный студией, и мы с Борупом начали экспериментировать с фотоаппаратом, чтобы получить моментальные снимки эскимосов. Эскимосы уже привыкли видеть своих фальшивых двойников на бумаге и терпеливо позировали. Кроме того, удалось получить несколько хороших снимков при лунном освещении, варьируя выдержки от 10 минут до 2–3 часов.
В свою последнюю экспедицию я не позволял себе предаваться ни мечтам о будущем, ни надеждам, ни страху. В экспедицию 1905–1906 годов я слишком много мечтал, и урок не пропал даром. Слишком часто в прошлом я оказывался лицом к лицу с непреодолимыми препятствиями. Поэтому всякий раз, ловя себя на том, что строю воздушные замки, я либо наседал на какую-нибудь работу, требующую сосредоточенного внимания, либо укладывался спать. Особенно трудно было отогнать от себя мечты во время моих одиноких прогулок по подошве припая под арктической луной.
Вечером 11 ноября наблюдалась параселена – два отчетливых гало и восемь ложных лун в южной части неба. Этот феномен, объясняемый наличием в воздухе ледяных кристаллов, нередко можно наблюдать в Арктике. На этот раз внутреннее гало имело одну ложную луну в зените, одну в надире и по одной справа и слева. Четыре другие ложные луны размещались по окружности внешнего гало.
Летом нам доводилось наблюдать паргелий – аналогичное явление вокруг солнца. Ложные солнца – или солнечные собаки, как их называют матросы, – мне случалось видеть так близко от себя, что, казалось, нижнее из них вот-вот упадет между мною и снежным сугробом в 20 футах поодаль; поворачивая голову, я мог сделать так, что оно исчезало и появлялось вновь. Подойти ближе к горшку с золотом, который якобы можно найти у основания радуги, мне еще ни разу не удавалось.
Ночью 12 ноября паковый лед пролива, более двух месяцев словно не замечавший нашего назойливого присутствия, поднялся в гневе и попытался вышвырнуть нас на столь же негостеприимный берег.
Весь вечер ветер постепенно набирал силу, и примерно в половине двенадцатого корабль стал жаловаться, поскрипывая, постанывая и что-то бормоча про себя. Лежа на койке, я прислушивался к гудению ветра в снастях; светившая в иллюминатор луна заполняла каюту смутными тенями. Около полуночи к издаваемым кораблем звукам стал примешиваться другой, более зловещий скрежет льда в проливе.
Я поспешно оделся и вышел на палубу. Вода прибывала, как в наводнение, мимо оконечности мыса неудержимо двигался лед. Лед между нами и паком в проливе гудел и стонал под все нарастающим давлением. При свете луны мы увидели, как пак стал разламываться и громоздиться у самого края припая, и через несколько минут масса льда с яростным ревом разрешилась беспорядочной мешаниной ледяных махин – одни вздыбились, другие ушли в воду. В 20 футах от корабля у кромки припая образовалось торосистое нагромождение в 30 футов высотой. Эта хаотическая масса все росла и росла и неотступно придвигалась к кораблю. Сидевший на мели правый бок судна был продавлен и надвинут на ледяную глыбу, находившуюся у нас под кормой с правого борта. Корабль вздрогнул, но глыба не пошевелилась.
По мере того как нарастал прилив, сжатие и подвижки льда продолжались, и менее чем через час с того момента, когда я вышел на палубу, огромный обломок айсберга притиснулся к борту «Рузвельта». С минуту казалось, что корабль нацело выбросит на сушу.
Вся команда была поднята на ноги. Мы затушили все огни на борту. Я не боялся, что судно будет раздавлено, но не исключалась возможность, что оно будет положено набок, и от углей, высыпавшихся из печки, вспыхнет пожар – этот ужас полярной ночи. Эскимосы не на шутку испугались и затянули свои душераздирающие причитания. Несколько семей собрали пожитки, и через несколько минут женщины и дети спрыгнули с корабля на лед и направились к ящичным домам на берегу.
Напор льда возрастал, крен «Рузвельта» на левый борт, в сторону берега, продолжал увеличиваться. В половине второго ночи, с началом отлива, подвижки льда прекратились, но корабль выпрямился уже только весной. Температура в ту ночь была 25° ниже нуля, но нам было совсем не холодно.
Иглу, в котором Марвин проводил наблюдения над приливами и отливами, раскололся надвое, но, несмотря на это, Марвин продолжал наблюдения, так как они в эту ночь представляли особый интерес. Чуть только лед угомонился, мы послали двух эскимосов поправить иглу.
Как ни странно, ни с кем из эскимосов не случился от испуга припадок пиблокто, а одна из женщин, Атета, как мне сказали, спокойно продолжала шить в помещении эскимосов в течение всего ледового возмущения. Однако после этого случая несколько эскимосских семей перешли жить в ящичные дома и снежные иглу на берегу.
Зимние ветры Дальнего Севера едва ли может представить себе тот, кто не испытал их на себе. Моя последняя зима на мысе Шеридан была менее суровой, чем зима 1905–1906 годов, но мы все же пережили несколько бурь, напомнивших нам былое. Самыми холодными являются северный и северо-западный ветры, дующие вдоль побережья, однако по абсолютно сумасшедшей ярости здешние южные и юго-западные ветры, сваливающиеся с прибрежных гор, как стена воды, не имеют себе равных по силе во всей Арктике.
Иногда буря подкрадывается исподволь, начинаясь северо-западным ветром, который непрерывно нарастает и переходит в западный, а затем в юго-западный. Ветер с каждым часом становится яростнее, пока не начнет подхватывать снег прямо с земли и с подошвы припая и нести его слепящими горизонтальными полосами над кораблем. В такое время на палубе невозможно ни устоять на месте, ни передвигаться, разве только хватаясь за поручни, а света ламп, как бы ни были сильны рефлекторы, не видно в этом снежном водопаде уже на расстоянии 10 футов.
Когда буря застигает отряд в поле, люди остаются в иглу до тех пор, пока стихия не угомонится. Если иглу поблизости нет, они при первых признаках надвигающейся бури как можно скорее принимаются строить снежный дом, а если времени для этого нет, отрывают пещеру в сугробе.
В четверг 26 ноября на Земле Гранта мы праздновали день памяти первых колонистов Массачусетса. На обед у нас был суп, макароны с сыром и пирог с фаршем из мяса мускусного быка.
В декабрьское полнолуние капитан Бартлетт с двумя эскимосами на двух санях с 12 собаками отправился на поиски дичи в район между кораблем и озером Хейзен. Хенсон с такой же партией отправился в залив Маркем. Боруп с семью эскимосами на семи санях с 42 собаками выехал на мыс Колан и мыс Колумбия. Доктор Гудсел в это же время выехал охотиться с тремя эскимосами на двух санях с 12 собаками в район между бухтой Блэк-Клиффс и бухтой Джемс-Росс. Отряды взяли с собой обычный арктический паек, состоявший из чая, пеммикана и сухарей; в случае успешной охоты и люди, и собаки должны были питаться свежим мясом. Помимо охоты, отряды должны были перебросить припасы, предназначенные для весеннего марша, вдоль побережья с одного склада на другой.
Люди, остававшиеся на корабле в одно полнолуние, высылались для работы в поле на следующее. Члены экипажа – механики и матросы редко выходили на охоту, они исполняли свои обычные обязанности на судне и иногда помогали изготавливать снаряжение.
У меня в каюте была солидная библиотека арктической литературы, в которой полностью были представлены работы последних лет. Сюда входили «На «Полярной звезде» в Арктическое море» герцога Абруццкого, «На Дальнем Севере» Нансена, «Путешествие в Полярное море» Нэрса, два тома Маркема о его исследованиях в Арктике, отчеты Грили, Холла, Хейса, Кейна, Инглфилда – практически все книги исследователей, побывавших в районе пролива Смит, а также тех, кто пытался достичь полюса с других направлений, как, например, отчет австрийской экспедиции Пайера и Вейпрехта, отчет экспедиции Кольдевея в Восточную Гренландию и так далее.
Были у меня и труды по исследованиям в Антарктике: два великолепных тома капитана Скотта «Плавание на «Дискавери», «Экспедиция на «Южном Кресте» в Антарктику» Борхгревинка, «Антарктика» Норденшельда, «Антарктика» Бальха, «Антарктические области» Фрикера, а также «Осада Южного полюса» Хью Роберта Миллса.
Члены экспедиции брали читать то одну, то другую книгу, и я думаю, что еще до конца зимы каждый основательно познакомился с тем, что было сделано в этой области другими.
Зимой мы раз в неделю или десять дней удаляли из кают лед, намерзавший в результате конденсации водяных паров на холодных наружных стенах. Лед нарастал сзади каждого предмета обстановки, стоявшего у наружной стены, а из-под коек мы вырубали и выносили его ведрами.
Книги всегда ставились на самый край полки, потому что задвинутая глубоко книга накрепко примерзла к стене, а в оттепель или в том случае, когда в каюте затопили бы печку, лед бы растаял, и книга намокла бы и заплесневела.
Матросы развлекались, как обычно развлекаются матросы на любых широтах, – играли в домино, в карты и в шашки, боксировали и рассказывали друг другу истории. С эскимосами они обычно играли в силовые игры, как, например, перетягивание за палец. У одного из матросов была гармоника, у другого банджо, так что, работая у себя в каюте, я часто слышал, как матросы пели «Энни Руни», «Макгинти», «Испанский кавалер» и иногда «Дом, милый дом». Никто не скучал. Перси, в чьем ведении находилась пианола, часто устраивал для людей концерты, и за всю зиму я не слыхал, чтобы кто-нибудь пожаловался на скуку или тоску по родине.
Четыре отряда, отправлявшихся в декабре на охоту, один за другим вернулись на корабль. Дичь нашел только капитан Бартлетт, да и то всего пять зайцев. В поездке с капитаном случилось происшествие, которое могло иметь для него самые серьезные последствия. К счастью, все обошлось благополучно.
Дело было так. Находясь с эскимосами у озера Хейзен, капитан оставил своих спутников в иглу, а сам вышел поискать в окрестностях дичь. Ему удалось напасть на оленьи следы, как вдруг луна скрылась за тучей и землю окутала беспросветная тьма. Капитан стал ждать, пока луна появится вновь и можно будет сориентироваться на местности, а тем временем эскимосы, решив, что он заблудился, свернули лагерь и направились к кораблю. Как только прояснилось, он также направился на юг и через некоторое время нагнал своих спутников. Возьми он чуть севернее, он разминулся бы с ними, и ему пришлось бы одному возвращаться пешком на корабль без всяких припасов при надвигавшейся буре, а до корабля было 70 или 80 миль.
Возвращался отряд при плохой погоде. Хотя было не особенно холодно, всего 10° или 15° ниже нуля, небо было затянуто тучами. Несмотря на темноту, последний переход капитан одолевал одним долгим броском. Держаться старого следа, разумеется, не всегда было возможно. Порою приходилось идти по снегу, ровному, как пол, а потом вдруг этот пол проваливался на 10–15 футов, и, так как переход совершался в полной темноте, капитан прикладывался затылком с такой силой, что в глазах у него вспыхивали звезды, не обозначенные ни на каких картах звездного неба.
На одном участке дорога была такая плохая, что продвигаться вперед без света стало невозможно. У капитана не было с собой фонаря, и он приспособил под фонарь жестянку из-под сахара, прорезав по ее бокам отверстия и поставив внутрь свечу. С помощью этого доморощенного маяка Бартлетту кое-как удавалось придерживаться следа. Однако дул сильный ветер, и, по словам Бартлетта, он извел за этот переход столько спичек, вновь и вновь зажигая фонарь, что эскимосской семье хватило бы их для безбедного житья на целую зиму.
Охотничья неудача четырех отрядов имела для нас серьезные последствия. Чтобы сэкономить корм, пришлось еще сократить число собак. Мы осмотрели их, и 14 животных, которые вряд ли пережили бы зиму, были пристрелены и пошли на корм остальным.
Меня часто спрашивают, чем питаются зимой дикие травоядные животные – мускусные быки и северные олени – в этой покрытой снегом стране. Как ни парадоксально, свирепствующие здесь ветры – их союзники в борьбе за существование: сдувая снег с обширных пространств, они обнажают засохшие травы и растущие вразброс ползучие кустарники, которыми кормятся животные.
22 декабря наступила полярная «полночь» – в этот день солнце начало свое обратное путешествие на север. Во второй половине дня мы собрали на палубе всех эскимосов, и, с часами в руках, я объяснил им, что солнце теперь возвращается. Марвин прозвонил в судовой колокол, Мэтт Хенсон трижды выстрелил из винтовки, Боруп дал несколько вспышек магния. Затем все мужчины, женщины и дети построились и прошли в заднюю рубку. Минуя камбуз, каждый в дополнение к ежедневному рациону получил по кварте кофе с сахаром и молоком, сухари и порцию мяса мускусного быка; женщинам были выданы сласти, а мужчинам табак.
После празднества маленький Пингашу, мальчик лет тринадцати, помогавший Перси в камбузе, направился по холмам на юг – встречать солнце. Через несколько часов он, удрученный, вернулся на корабль, и Перси пришлось растолковать ему, что, хотя солнце действительно вышло в обратный путь, но доберется оно до нас только через три месяца.
На следующий день после зимнего солнцестояния мы послали эскимосов на разведку окрестных озер – наш запас воды, взятый из реки Шеридан, подошел к концу Члены английской экспедиции на «Алерте» всю зиму пользовались водой, получаемой из растопленного льда, и в экспедицию 1905–1906 годов мы также были вынуждены растапливать лед в течение месяца или двух; однако на этот раз эскимосы обследовали озерца на берегу, и в одном из них, расположенном в миле от «Рузвельта», оказалось на 15 футов воды. Над прорубью во льду эскимосы построили иглу с откидной деревянной дверцей, чтобы вода в проруби не замерзала слишком быстро. Воду к судну подвозили в бочках на собачьих упряжках.
Так как Рождество пришлось на темный период месяца, все участники экспедиции были на борту судна, и мы решили отметить праздник особым обедом, спортивными играми, лотереей, наградами и так далее. Мороз в тот день стоял не особенно сильный, всего 23°.
Утром мы поздравили друг друга с «веселым Рождеством», а за завтраком прочли письма из дому и преподнесли друг другу рождественские подарки – те и другие хранились с условием вскрыть их в рождественское утро. Макмиллан, назначенный церемониймейстером, составил спортивную программу. В 2 часа дня состоялись соревнования по бегу на подошве припая. Была расчищена беговая дорожка в 75 ярдов длиной, и по обеим ее сторонам параллельными рядами, отстоящими один от другого на 20 футов, установили все фонари, сколько их было на судне, числом до 50. Фонари очень напоминали те, с какими ходят кондуктора, только были побольше. Освещенная дорожка, в 7,5° от конца земли, являла собой зрелище необыкновенное.
В первом забеге участвовали эскимосы дети, во втором мужчины, в третьем матери с младенцами за плечами, в четвертом женщины без ноши. Для матерей было четыре забега, и, глядя на них, никто бы не подумал, что проводятся соревнования по бегу. Они двигались по четыре в ряд, одетые в меховые одежды, вращая глазами и пыхтя, словно возмущенные моржи; младенцы за их спинами широко раскрытыми глазами смотрели на сверкающие фонари. О жестокости по отношению к детям не могло быть и речи – женщины двигались не настолько быстро, чтобы выронить их. Затем шли состязания в беге для экипажа и членов экспедиции, а потом перетягивание каната.
Казалось, сама природа участвовала в наших рождественских торжествах, расцветив небо ярким северным сиянием. Пока шли состязания на подошве припая, весь северный небосклон был заполнен столбами и копьями бледного света. Этот феномен северного неба, вопреки общепринятому мнению, не особенно часто наблюдается на здешних, крайних северных, широтах. Как ни жаль развеивать широко распространенное приятное заблуждение, в штате Мэн мне случалось видеть куда более красивое северное сияние, чем за полярным кругом.[33]
Между соревнованиями по бегу и обедом, который был у нас в 4 часа, я дал концерт у себя в каюте, выбирая самую веселую музыку. Затем мы разошлись «переодеться к обеду». Церемония состояла в надевании чистых фланелевых рубашек и галстуков. Амбиции доктора Гудсела зашли так далеко, что он даже надел воротничок.
Перси, заведующий хозяйством, по случаю праздника обрядился в поварской колпак и большой белый фартук, накрыл стол красивой скатертью и выложил наше лучшее столовое серебро. Стена столовой была украшена американским флагом. На обед у нас было мясо мускусного быка, сливовый пудинг, залитый шоколадом бисквит и у каждой тарелки лежал мешочек с орехами, пирожными и конфетами, снабженный карточкой: «Веселого Рождества – миссис Пири».

Рождественский обед в кают-компании
Слева направо: Боруп, Марвин, капитан Бартлетт, командир – Пири, доктор Гудсел, Макмиллан
После обеда на баке состоялись состязания в бросании костей и состязания по борьбе. Праздник закончился граммофонным концертом, который устроил Перси.
Пожалуй, самой интересной частью праздничной программы была выдача наград победителям соревнований. В порядке изучения психологии эскимосов победителю предоставлялась возможность выбирать приз. Например, Тукума, победившая в беге среди женщин, могла выбирать между тремя призами: коробкой с тремя кусками душистого мыла, швейным набором, состоявшим из пачки иголок, трех наперстков и нескольких катушек ниток различной толщины, и круглым глазированным тортом. Молодая женщина не колебалась. Бегло взглянув на швейный набор, она и руками и глазами остановилась на мыле. Его назначение было ей известно, и ею овладело желание быть чистой и привлекательной.
29 декабря в 4 часа дня все участники экспедиции в последний раз собрались за обедом – в этот вечер Марвин и капитан Бартлетт, каждый со своим отрядом, отправились к гренландскому побережью, а когда после моего возвращения с полюса мы снова встретились на корабле, одного из нас не было с нами – и уже никогда больше не будет.
После капитана Бартлетта Росс Марвин был самым ценным работником экспедиции. В отсутствие капитана Марвин брал на себя все текущие дела, и на нем же лежала порою обременительная, порою занятная работа по обучению новичков. В прошлую экспедицию Марвин лучше, чем кто-либо, усвоил основные, фундаментальные принципы работы в Арктике.
Вместе с ним я детально разрабатывал новый метод авангардных и сменных отрядов. Этот метод, когда поверхность передвижения точно определена, может быть математически обоснован и является наиболее эффективным для санного марша по Арктике.
Отряд, вышедший вечером 29 октября к гренландскому побережью по льду пролива Робсон, состоял из Марвина, капитана, 9 эскимосов и 54 собак. Их путь лежал на юг вдоль побережья до мыса Юнион, а затем по льду пролива до мыса Бреворт. Отсюда Марвин со своими людьми и вспомогательными группами должен был проследовать на север к мысу Брайант, где он предполагал в течение месяца проводить наблюдения над приливами и отливами, а капитан со своими людьми должен был направиться на юг по льду залива Ньюмен и дальше до полуострова Полярис, чтобы заняться там охотой.
На следующий день еще два отряда, один под начальством доктора Гудсела, другой во главе с Борупом, направились к мысу Белкнап. Доктор должен был охотиться в заливе Марком, а Боруп в районе первого ледника к северу от озера Хейзен. Ни одна арктическая экспедиция до нас не проводила полевых работ в таких масштабах, с радиусом охвата территории до 90 миль во всех направлениях от места стоянки.
Распределяя среди эскимосок материал для пошива одежды в передней рубке, иглу и ящичных домах на берегу, я узнал, что некоторые эскимосы побаиваются снова идти на север по льду Полярного моря [Северного Ледовитого океана]. Они не забыли, как мы чуть было не погибли, пересекая «Великую полынью», когда возвращались с самой северной параллели, которую нам удалось достичь в 1906 году. Будучи уверен, что смогу уговорить их в решающий момент, я все же понимал, что они еще могут доставить нам много хлопот. Но я просто не позволял себе тревожиться за конечный исход.
Отряд доктора Гудсела вернулся 11 января. Им не повезло, хотя они и видели свежие следы мускусных быков. Боруп вернулся на следующее утро с 83 зайцами и рассказал нечто интересное. Подойдя к самому леднику, они наткнулись на целую колонию этих белых арктических зверьков числом до 100 штук. Полярные зайцы не отличаются дикостью; они подходят к охотнику так близко, что их можно взять чуть ли не голыми руками. Им неведом страх перед человеком, потому что там, где они обитают, человек практически неизвестен. Боруп и эскимосы окружили зайцев, подошли к ним вплотную и, не тратя патронов, перебили их ударами прикладов по голове.
Однажды случилось так, что во время охоты Боруп и эскимосы заблудились и в течение суток не могли отыскать свой иглу. Ножей-пил, необходимых для постройки снежного дома, у них с собой не было; они не захватили даже простого ножа, который мог послужить заменой. Поднялся сильный ветер, луна скрылась за облаками, в воздухе крутились снежные вихри, погода стояла холодная. Они без конца топтались на месте, чтобы не замерзнуть. Наконец, выбившись из сил, они перевернули сани на бок, эскимосы вытоптали ногами снежные блоки, и, соорудив кое-какое убежище, все немного поспали. Когда небо прояснилось, оказалось, что они находятся в какой-нибудь полумиле от своего иглу.
На другой день после возвращения Борупа пришли капитан Бартлетт с людьми и четыре человека из вспомогательного отряда Марвина. Мы уже начали беспокоиться за них – лед пролива Робсон в зимнюю тьму отнюдь не самая безопасная дорога для санного отряда. Капитан сообщил, что они пересекли залив всего за 6 часов; однако, хотя он и объездил всю равнину полуострова Полярис, увидеть мускусных быков ему не удалось.
К концу января южный небосклон около полудня стал слабо высвечиваться красным; период сумерек растягивался.
По небу уже кружила последняя зимняя луна, и я записал в своем дневнике: «Слава богу, лун больше не будет!» Человек может провести в Арктике сколько угодно темных зим, но его жажда солнца при этом нисколько не уменьшается.
В февральское новолуние Бартлетт отправился на мыс Хекла. Гудсел перебросил часть припасов с мыса Хекла на мыс Колан, а Боруп снова выехал на охоту в залив Маркем. Перед отъездом доктор закончил составление таблицы средних месячных температур; таблица показала, что все зимние месяцы, за исключением октября, были холоднее, чем три года назад. Средняя температура декабря оказалась на 8° ниже.
Марвин по-прежнему оставался на мысе Брайант. Последний из февральских отрядов вернулся 9 февраля. Начиная с этого дня мы принялись энергично готовиться к последнему большому броску. В воскресную ночь 14 февраля я в краткой беседе рассказал эскимосам о том, что мы собираемся предпринять, чего ожидаем от них и что получит по возвращении каждый, кто пойдет со мной до крайнего пункта: лодку, палатку, самозарядный винчестер, дробовик, патроны, ящик табака, трубки, охотничьи припасы, ножи, топоры и прочее. Для них это были поистине несметные богатства, и перспектива получить их была слишком заманчива. Страх перед Великой полыньей улетучился, и когда я вплотную приступил к формированию санных отрядов, лишь один эскимос, Паникпа, признался, что боится. Остальные уже столько раз были свидетелями моего благополучного возвращения, что готовы были еще раз попытать счастье.
Бартлетт вышел в путь в понедельник 15 февраля с заданием пройти прямо к мысу Колумбия и два или три дня поохотиться на мускусных быков в его окрестностях. Три отряда, выходившие следом за Бартлеттом, должны были доставить припасы на мыс Колумбия, затем вернуться на мыс Колан, где у нас находился склад продовольствия, и вновь вернуться с полным грузом на мыс Колумбия. Отряд Гудсела вышел во вторник 16 февраля. В среду бушевала пурга, так что Макмиллан и Хенсон смогли выйти только в четверг. Все они должны были встретиться со мной на мысе Колумбия впоследний день февраля.
Марвин вернулся с мыса Брайант в среду около 6 часов вечера. Все его люди были здоровы. Отряд Борупа покинул корабль в пятницу, отряд Марвина – в воскресенье 21-го, и я на день остался один на «Рузвельте».
В этот последний день на судне царили полная тишина и покой, никто мне не мешал. Утро я посвятил тщательной проверке деталей уже проделанной работы; я желал убедиться, что не упущено ни малейшей ниточки, и вновь и вновь пункт за пунктом продумывал детали предстоящего марша.
Удостоверившись (чего я не имел возможности сделать в суете двух последних недель), что все на месте и все возможные случайности предусмотрены, я несколько часов раздумывал над положением вещей и над теми, другими моментами, когда, как и теперь, я стоял накануне выхода в неведомую пустыню Севера.
Когда я наконец лег на койку, чтобы поспать несколько часов перед завтрашним стартом, я уснул с сознанием, что сделал все в пределах моих сил и разумения, что каждый член экспедиции, так же как и я сам, отдаст достижению поставленной цели всю свою волю, силу и энергию. Остальное зависело от стихии – капризов полярного пака, а также от нашей физической и нравственной выдержки.
Это был последний шанс осуществить мечту всей моей жизни. Завтрашний старт был как натягивание тетивы, которая пустит последнюю стрелу из моего колчана.
Возможно, читателю будет легче получить более яркое представление о работе, которую должна была выполнить экспедиция и которую она в конечном счете выполнила, если я постараюсь объяснить ему точно, что значит проделать около 1000 миль по паковому льду на санях с собачьей упряжкой. Итак, сейчас я попытаюсь кратко, но не в ущерб ясности описать вставшие перед нами трудности и способы и методы их преодоления.
Между зимней стоянкой «Рузвельта» – мысом Шеридан и мысом Колумбия – северной оконечностью Земли Гранта, отправной точкой санного марша, 90 миль пути в северо-западном направлении, частью по подошве припая, частью по суше; этот путь мы должны были проделать, прежде чем выйти на бездорожные ледяные поля Полярного моря [Северного Ледовитого океана].
От мыса Колумбия нам предстояло пройти 413 географических миль, прямо на север по льду Полярного моря [Северного Ледовитого океана]. Многие люди, памятуя о гладких катках своего детства, представляют себе Полярное море в виде гигантского катка с ровной поверхностью, по которой нас весело тащат собаки, а мы знай сидим себе на санях, подложив под ноги горячие кирпичи, чтобы не мерзли пальцы. Подобные представления, как будет показано далее, весьма далеки от истины.
Между мысом Колумбия и Северным полюсом нет ни суши, ни гладкого льда, а ровного льда очень мало.
Первые несколько миль после того, как покидаешь материк, дорога сравнительно ровная, так как идешь по так называемой ледниковой кромке. Кромка эта заполняет все заливы и простирается на всю ширину северной части Земли Гранта. В действительности она не что иное, как непомерно разросшаяся подошва припая, местами достигающая нескольких миль в ширину. Внешняя ее часть кое-где находится на плаву и поднимается и опускается вместе с приливом и отливом, в целом же она остается неподвижной, за исключением тех случаев, когда от нее отрываются большие ледяные поля и уносятся течениями Полярного моря [Северного Ледовитого океана].
За ледниковой кромкой начинается трудно поддающаяся описанию поверхность прибрежной полыньи, или приливной трещины – зона постоянной борьбы между тяжелым плавучим льдом и неподвижной ледниковой кромкой. Прибрежная полынья постоянно открывается и закрывается: открывается во время дующих с берега ветров или в сизигийный отлив, а закрывается, когда дуют северные ветры, и в сизигийный прилив. Лед здесь разламывается на глыбы всевозможных размеров и нагромождается в огромные торосистые гряды, тянущиеся параллельно берегу.
Образуются эти гряды благодаря той поистине невообразимой силе, с которой ледяные поля притискиваются к краю ледниковой кромки; аналогичным образом еще дальше на севере гряды торосов нагромождаются сильными ветрами и течениями, сталкивающими и перемалывающими огромные ледяные поля.

Невозможно встретить два одинаковых айсберга

Тяжелая работа – прокладывать след через торосы
Торосистая гряда может иметь в высоту от нескольких футов до нескольких ярдов и от нескольких ярдов до четверти мили в ширину; отдельности льда, ее составляющие, могут варьировать от размеров бильярдного шара до размеров небольшого дома.
Преодолевая торосистую гряду, приходится тщательно выбирать путь, зачастую прокладывая себе проход с помощью ледоруба, голосом и кнутом подбадривая собак, а порою и перетаскивать сани с грузом в 500 фунтов, отчего, кажется, отрываются все мускулы на лопатках.
Пространство между торосистыми нагромождениями заполнено старыми, более или менее ровными ледяными полями. Поля эти, вопреки широко распространенному ошибочному мнению, образовались не из воды Полярного моря. Они состоят из вынесенных в океан огромных ледяных щитов, оторвавшихся от ледниковой кромки Земли Гранта,
Гренландии и суши дальше на запад. Эти ледяные поля могут быть от 20 (или меньше) до 100 (или больше) футов толщиной и имеют всевозможные размеры и очертания. В результате постоянного движения льда в период короткого полярного лета, когда большие поля отрываются от ледников и дрейфуют в разных направлениях по воле ветра и течений, сталкиваются друг с другом, раскалываются на части, размалывают попавший между ними более тонкий лед, оббивают свои края и наращивают по ним гряды торосов, – в результате всего этого поверхность Полярного моря [Северного Ледовитого океана] зимой представляет собой нечто невообразимое по неровности и труднопроходимости.
По крайней мере девять десятых его поверхности между мысом Колумбия и полюсом состоит из таких полей. Остальная часть – это лед между ними, образующийся при непосредственном замерзании морской воды осенью и зимой. Толщина его никогда не превышает 8—10 футов.

Ледяное поле и столообразный айсберг
Осенние условия погоды в значительной мере определяют характер ледового покрова Полярного моря [Северного Ледовитого океана] зимой. В то время как нарастающие холода постепенно цементируют ледовые массы, прибивают тяжелый лед к берегу, края ледяных полей, соприкасаясь, взгромождаются друг на друга и образуют торосистые гряды, которые при движении с суши на север приходится преодолевать наподобие гряд холмов.
С другой стороны, если в период замерзания поверхности Полярного моря ветер несильный, многие большие ледяные поля остаются изолированными от других полей и между ними могут быть полосы сравнительно гладкого молодого льда. Если уже после того, как зима наступила, начинают дуть сильные ветры, большая часть этого сравнительно топкого льда может быть перемолота движением более тяжелых ледяных полей; если же зима спокойная, этот относительно гладкий лед может продержаться до общего вскрытия льда следующим летом.
Однако вышеописанные торосистые нагромождения – еще не самая худшая черта полярного льда. Гораздо более неприятны и опасны так называемые полыньи – полосы открытой воды, возникающие вследствие подвижек льда под напором ветра и приливно-отливных течений. Полыньи – вот постоянный кошмар, преследующий всякого, кто путешествует по замерзшей поверхности Полярного моря; по пути на север они препятствуют дальнейшему продвижению, на обратном пути могут отрезать путешественника от суши и жизни, оставив его блуждать и умирать голодной смертью на северной стороне. Появление полыней нельзя ни предсказать, ни рассчитать. Они без предупреждения открываются прямо перед путешественником, не подчиняясь никаким определенным правилам или законам. Полыньи – неизвестная величина полярного уравнения.
Иногда полыньи в виде небольших трещин почти по прямой пересекают старые ледяные поля. Иногда представляют собой зигзагообразные полосы открытой воды такой ширины, что их нельзя пересечь. Иногда это целые реки открытой воды от полумили до двух миль шириной, простирающиеся на запад и на восток за пределы видимости.

Между «Рузвельтом» и мысом Колумбия
Существуют различные способы преодоления полыньи. Можно пойти вдоль нее направо или налево, в надежде найти место, где противоположные края льда достаточно близко подходят друг к другу, чтобы можно было навести мост из длинных саней. Или, если есть признаки того, что полынья закрывается, можно подождать до тех пор, пока края льдин сомкнутся. Если очень холодно, можно ждать, пока не образуется достаточно прочный лед, чтобы выдержать мчащиеся во весь опор сани. А еще можно отыскать льдину или вырубить льдину ледорубами и, как на пароме, перевезти на ней сани и собак.
Однако все эти способы совершенно бесполезны, когда Великая полынья, обозначающая край материковой отмели, обрывающейся в глубины Полярного моря [Северного Ледовитого океана], «не в духе», когда она открыта и представляет собой сплошной пояс воды или непроходимого молодого льда, как было во время нашего марша на север в 1906 году и при нашем незабываемом возвращении, когда «Великая полынья» чуть было не отрезала нас от самой жизни.
Полынья могла пройти прямо поперек лагеря или поперек иглу в то время, когда мы спали на поверхности Полярного моря. Но этого не произошло.
В случае если бы лед дал трещину поперек возвышения для сна в иглу и его обитатели посыпались в ледяную воду, они не обязательно сразу утонули бы – воздух внутри меховой одежды держал бы их на плаву. Человек, упавший в воду при таких обстоятельствах, может выкарабкаться на лед и спастись, хотя при температуре 50° ниже нуля купание будет не из приятных. Вот почему я никогда не пользовался спальным мешком, находясь на полярном льду. Я предпочитаю, чтобы мои руки и ноги были свободны, предпочитаю в любой момент быть готовым – ко всякой случайности. Находясь на морском льду, я всегда ложусь спать в рукавицах, и если втягиваю руки в рукава, то втягиваю вместе с ними и рукавицы, чтобы в любую минуту быть готовым к действию. Много ли шансов спастись у человека, который лег спать в спальном мешке и вдруг проснулся от падения в воду?

Обманчива кажущаяся единообразная белизна айсбергов – они имеют множество оттенков
Трудности и лишения санного марша к Северному полюсу слишком многочисленны, чтобы рассказать о них в одном абзаце. Но вот, вкратце, худшие из них: развороченный торосистый лед, который приходится преодолевать с тяжело нагруженными санями; жуткий, плотный, как стена воды, ветер, против которого приходится временами идти; вышеописанные полыньи, которые так или иначе приходится пересекать; лютый, порой достигающий 60° мороз, от которого приходится защищаться меховой одеждой и постоянным движением; трудность переброски по прерванному торосами и полыньями следу пеммикана, сухарей, чая, сгущенного молока и жидкого топлива в количествах, достаточных для поддержания физических сил и продолжения путешествия. Во время нашего последнего похода часто бывало так холодно, что коньяк замерзал, керосин становился белым и вязким, а собак было едва видно за паром от их дыхания. Необходимость строить каждую ночь тесные и неудобные снежные дома, также холодное ложе, на котором нам приходилось спать урывками ровно столько, сколько позволяли крайние обстоятельства нашего отчаянного предприятия, – это уже мелочи, едва ли достойные упоминания наравне с настоящими трудностями.
Временами приходится целый день идти в слепящей пурге, против ветра, выстуживающего тело сквозь малейшие прорехи в одежде. Те из моих читателей, которым случалось пройти хотя бы час в метель, при температуре всего лишь в 10 или 20° выше нуля по Фаренгейту, вероятно, сохранили об этом яркое воспоминание. Возможно также, они помнят, каким блаженством было для них тепло домашнего очага в конце прогулки. Так пусть же они представят себе, каково шагать в такую метель целый день по неровному бугристому льду, при температуре от 15 до 30° ниже нуля, причем в конце дневного перехода путников ожидает не теплый кров, а тесный холодный снежный дом, который они вынуждены возводить сами в эту же метель еще до того, как смогут поесть или отдохнуть.
Меня часто спрашивают, было ли нам голодно во время санного марша. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Утром и вечером мы питались пеммиканом, сухарями и чаем, а передовой, или ведущий, отряд, кроме того, обедал и пил чай в середине дневного перехода. Если бы мы ели больше, нам бы не хватило продовольствия. Я лично с момента выхода с корабля потерял 25 фунтов в весе.
Однако стойкость и выносливость сами по себе еще не обеспечивают достижение Северного полюса. Для этого нужны и многолетний опыт путешествий в арктических краях, и поддержка многочисленного отряда помощников, искушенных в подобного рода работе, и исчерпывающее знание Арктики и снаряжения, знание, без которого нельзя подготовить себя и всю экспедицию ко всякого рода случайностям. Только при всех этих условиях можно достичь заветной цели и вернуться обратно.
Как уже было сказано, наш марш к Северному полюсу меньше всего походил на рискованный, бесшабашный «набег» на полюс. И это сущая правда. Возможно, было бы правильным определить его как «натиск» – в том смысле, что после начала санного марша мы временами продвигались вперед с захватывающей дух быстротой. Однако ничто не делалось по внезапному побуждению. Все делалось в соответствии с планом, который был заранее продуман и разработан до мельчайших подробностей.
Источником нашего успеха была тщательно спланированная, математически рассчитанная система. Все, что поддавалось контролю, было взято под контроль, а для таких трудно предвидимых факторов, как буря, полыньи, несчастные случаи с людьми, падеж собак и поломка саней, был вычислен процент вероятности и, по возможности, предусмотрены меры их преодоления. Мы знали, что в пути сани будут ломаться, а собаки погибать; однако из двух сломанных саней обычно можно сделать одни, и постепенное уменьшение числа собак я также учел в своих расчетах.
Так называемая «система Пири» слишком сложна, чтобы изложить ее в одном абзаце, и содержит слишком много технических подробностей, которые невозможно привести полностью в рамках популярного повествования. Но основные ее моменты состоят примерно в следующем.
Провести корабль сквозь льды как можно дальше на север, к такой базе на суше, с которой он может вернуться обратно в будущем году.
В течение осени и зимы интенсивно охотиться, чтобы у участников экспедиции было вдоволь свежего мяса.
Иметь собак больше необходимой нормы, приняв их убыль за 60 %.
Пользоваться доверием у большого числа эскимосов – доверием, завоеванным справедливым обращением и щедрыми подарками в прошлом, чтобы они готовы были следовать за главой экспедиции в любое указанное им место.
Располагать толковыми помощниками – добровольцами из числа цивилизованных людей для руководства различными отрядами эскимосов, – помощниками, назначенными главой экспедиции и потому пользующимися авторитетом у эскимосов.
Предварительно доставить к месту выхода в санный поход достаточно продовольствия, топлива, одежды, печек (керосиновых или спиртовых) и другого снаряжения, чтобы основной отряд мог пройти до полюса и обратно, а вспомогательные отряды до крайних северных пунктов своего маршрута и обратно.
Иметь большой запас саней наилучшего типа.
Иметь достаточное количество подразделений, или вспомогательных отрядов, каждый под начальством опытного помощника, которые будут отсылаться обратно на соответственных тщательно рассчитанных этапах продвижения на север.
Тщательно испытать каждый предмет снаряжения и убедиться, что он наилучшим образом соответствует цели, для которой предназначается, и имеет минимальный вес.
Обладать опытом преодоления широких пространств открытой воды.
Вернуться тем же маршрутом, по которому экспедиция шла на север; использовать проложенный след и уже построенные иглу, чтобы сберечь время и силы, необходимые на постройку новых иглу и прокладывание следа.
В точности знать, какой нагрузке можно подвергать каждого человека и собаку без риска повредить их здоровью.
Знать физические и духовные способности каждого помощника и эскимоса.
И наконец, последнее, но оттого не менее важное: глава экспедиции должен пользоваться абсолютным авторитетом у всех членов экспедиции, белых, черных и смуглых, чтобы любое его приказание выполнялось беспрекословно.
Отряд под начальством Бартлетта должен был прокладывать дорогу и идти в одном дне пути от основного отряда. В свою последнюю экспедицию я решил держать головной отряд поближе к основному, чтобы он не оказался отрезанным от основного быстро образующейся полыньей, без достаточного запаса продовольствия, необходимого для дальнейшего продвижения или воссоединения с основным отрядом. Отряд Бартлетта состоял из него самого и трех эскимосов – Пудлуна, Харригана и Укеа, каждый на санях, груженных их собственным снаряжением и пятидневным запасом продовольствия.
Второй отряд, состоявший из Борупа и трех эскимосов – Кешунгва, Сиглу и Карко, на четырех санях с почти стандартным грузом, играл роль вспомогательного и должен был сопровождать Бартлетта в течение трех переходов, а затем вернуться на мыс Колумбия за один переход с пустыми санями. Этому отряду поручалось оставить свой груз и одни сани в том месте, где он расстанется с Бартлеттом; таким образом устраивался склад продовольствия по маршруту похода; спешно вернувшись на мыс Колумбия, отряд Борупа должен был загрузиться вновь и догнать основной отряд, который покидал сушу один день спустя после выхода его и Бартлетта.
При такой схеме, если не произойдет задержек, основной отряд начнет свой третий переход в то самое время, когда Боруп двинется обратно; вечером третьего дня головной отряд должен достичь оставленного Борупом склада продовольствия, а Боруп вернуться на мыс Колумбия; на следующее утро, когда основной отряд начнет свой четвертый переход, Боруп должен покинуть мыс Колумбия с отставанием на три перехода, которое он по хорошо наезженному следу должен наверстать за три перехода.
Случилось так, что отсылка Борупа за дополнительным грузом вместе с другими осложнениями, возникшими вследствие открытия разводьев между ним и основным отрядом, явилась звеном в цепи задержек, которые могли иметь для нас самые серьезные последствия. Но об этом ниже.
Для того чтобы понять, как осуществлялся переход по льду Полярного моря [Северного Ледовитого океана], необходимо уяснить себе теорию и практику головных и вспомогательных отрядов. Без этой системы, как доказывает опыт экспедиций прошлого, для человека было бы физически невозможно достичь Северного полюса и вернуться обратно. Идея применения в Арктике сменных отрядов, разумеется, не нова, хотя в последнюю экспедицию Арктического клуба Пири она проводилась более последовательно, чем когда-либо; однако головной отряд является всецело моим детищем, поэтому позволю себе подробно описать его цели и назначение.
Головной отряд состоял из четырех наиболее сильных и опытных членов экспедиции. Он выезжал с легким грузом продовольствия на пять-шесть дней и с лучшими упряжками собак. Когда мы покидали мыс Колумбия, головной отряд Бартлетта вышел в путь на сутки раньше основного отряда. Позднее, в полярный день, когда солнце светило круглые сутки, головной отряд опережал основной только на 12 часов.
Перед головным отрядом ставилась цель совершать суточный переход невзирая ни на какие препятствия, за исключением, разумеется, непроходимых разводьев. Мела ли пурга, бушевал ли ветер, вставали ли на пути торосистые нагромождения – свой переход головной отряд должен был проделать. Опыт прошлого показал, что любой путь, пройденный головным отрядом со своим легким грузом, может быть покрыт основным отрядом за меньшее время даже на тяжело груженных санях, поскольку основной отряд двигается по уже проложенному следу, не теряя времени на разведку. Другими словами, головной отряд задает темп всей экспедиции, и проходимое им расстояние является мерилом пути для основного отряда. Глава головного отряда, в данном случае Бартлетт, шел впереди своего подразделения, обычно на лыжах; легко груженные сани следовали за ним. Таким образом, глава головного отряда шел в авангарде своей партии, а вся партия шла в авангарде основного отряда.
Необходимо, чтобы мучительная работа по прокладыванию следа на протяжении двух третей пути от материка – пути, отличающегося особенно торосистым льдом, – выполнялась последовательно одним подразделением за другим, чтобы сохранить силы основного отряда для последнего броска. В этом отношении у меня было большое преимущество, которого я не имел в прошлом, а именно: благодаря многочисленности моей экспедиции я всегда мог отозвать членов головного отряда, измотанных тяжелым трудом и отсутствием сна, и выслать на их место другой отряд.

Трудный переход
Вспомогательные отряды – важный фактор успеха, потому что один-единственный отряд, из какого бы числа людей и собак он ни состоял, никак не может тащить с собой до полюса и обратно (900 с лишним миль) необходимое на все время пути продовольствие и жидкое топливо (пусть даже во все уменьшающемся количестве). Легко понять, что за несколько дней похода по бездорожным льдам Полярного моря [Северного Ледовитого океана], где нет возможности добыть хотя бы унцию продовольствия, содержимое одних или нескольких саней целиком поглощается людьми и собаками. В таком случае погонщиков с собаками следует немедленно отсылать на сушу. Это лишние рты, на которые нельзя тратить остающиеся драгоценные запасы провианта. Чем дальше идет отряд, тем больше саней освобождается. Эти сани, вместе с собаками и погонщиками, также отсылаются обратно, чтобы обеспечить дальнейшее продвижение основного отряда. Еще дальше, по этой же причине, отсылаются все новые и новые подразделения.
Однако у моих вспомогательных отрядов была и еще одна важная задача: держать след открытым для быстрого возвращения основного отряда.
Важность этой задачи ясна. Лед Полярного моря [Северного Ледовитого океана] не представляет собой неподвижной поверхности. Даже в середине холоднейшей из зим сильный ветер за сутки или даже за полсуток может привести в движение большие ледяные поля, и они, сталкиваясь и надвигаясь друг на друга, нагромождают торосистые гряды в одном месте, открывают полыньи в другом.
Однако при нормальных условиях подвижки льда за период, скажем, от восьми до десяти дней не достигают особенного размаха, так что отряд, по истечении этого срока выходящий обратно по следу, может связать все разрывы, возникшие в результате подвижек льда.
Второй вспомогательный отряд, несколько дней спустя отправляясь обратно из еще более отдаленного пункта, связывает разорванные концы проложенного им следа, а выйдя на след первого вспомогательного отряда, соединяет разрывы, возникшие после того, как первый вспомогательный отряд прошел по следу на сушу. Точно так же обстоит с третьим и четвертым вспомогательными отрядами.
Говоря о связывании разрывов, я попросту имею в виду, что прохождение вспомогательного отряда от того места, где след прерван подвижкой льда, до того места к западу или востоку, где след продолжается, уже само по себе восстанавливает след, поскольку лед и снег утаптываются собаками и людьми. Так что при своем возвращении основной отряд просто идет по следу вспомогательного, не теряя времени на разведку.
Итак, обратный след постоянно поддерживается открытым. В результате, когда основной отряд выходит в обратный путь, перед ним лежит проторенная дорога до самого материка, по которой он может идти со скоростью, в полтора, а то и в два раза превышающей скорость продвижения на север. Причины этого ясны: не тратится время на разведку и прокладывание следа; собаки выказывают больше прыти, когда бегут домой по уже проложенному пути; не тратится время на устройство стоянок, поскольку при возвращении мы ночуем в иглу, построенных по пути на север.
Следует заметить, что, после того как вспомогательные отряды выбираются на сушу, их работа на этом заканчивается и на лед они больше не выходят.
Когда вспомогательные отряды заканчивают прокладывать путь и перевозить грузы, основной отряд, выходящий в последний марш, должен быть небольшим и состоять из тщательно подобранных людей, так как небольшой отряд, сформированный в результате отбора самых приспособленных, может двигаться гораздо быстрее большого.
У нас каждый отряд состоял из четырех человек, имел при себе полный комплект походного снаряжения и был совершенно самостоятельной единицей; собственно говоря, если не считать спиртовых печек и кухонных принадлежностей, самостоятельной единицей были и каждые сани. На каждых санях находились провиант для людей и собак и одежда для погонщика. Стандартный груз содержал продовольствие на 50 дней для погонщика и упряжки собак, а пожертвовав несколькими собаками и пустив их мясо в пищу для других собак или людей, этот срок можно было увеличить до 60 дней. Если бы сани с грузом продовольствия оказались отрезанными от отряда, у погонщика было бы с собой все необходимое, за исключением кухни. А если бы сани, в которых находится спиртовая печка, погибли бы в полынье или в результате другого несчастного случая, весь отряд мог бы присоединиться к какому-нибудь другому.
В санном марше на север мы пользовались исключительно новым типом спиртовых печек, устройство которых я усовершенствовал в течение зимы. Керосинки мы брали с собой только очень маленькие, с двухдюймовым фитилем, для просушки рукавиц.
Обычный порядок нагрузки саней таков. На дно во всю длину и ширину укладывают красные банки с пеммиканом для собак; на них две банки сухарей и синие банки с пеммиканом для людей; затем банки со спиртом и сгущенным молоком, небольшую шкуру, служащую подстилкой при ночевках в иглу, лыжи и запасную обувь, ледоруб и нож-пилу для нарезания снежных блоков. Практически из обуви мы брали в запас лишь несколько пар эскимосских камиков из тюленьей шкуры – легко себе представить, как быстро изнашивается любая обувь, когда проходишь несколько сот миль по неровному льду и смерзшемуся снегу.
Основным принципом при загрузке саней была компактность; центр тяжести груза должен был находиться как можно ниже, чтобы придать саням максимальную устойчивость.
Стандартный дневной рацион на одного человека в последнем санном марше к полюсу во всех моих экспедициях состоял из 1 фунта пеммикана, 1 фунта сухарей, 4 унции сгущенного молока, пол-унции спрессованного чая, 6 унций жидкого топлива – спирта или керосина, всего 2 фунта 4 с половиной унций твердого вещества на человека в день.
На таком рационе человек может усиленно работать очень продолжительное время при самых низких температурах, чувствуя себя удовлетворительно. Вводить какие-нибудь другие предметы питания как для повышения теплопродуктивности организма, так и для покрытия расхода белка я не вижу необходимости.
Дневной рацион собаки – фунт пеммикана; эти животные – потомки полярного волка – настолько выносливы, что при недостатке пищи могут долгое время работать на очень скудном рационе. Тем не менее я всегда старался определять рацион в соответствии с продолжительностью работы в поле, чтобы собаки питались по крайней мере не хуже меня.
Одним из разделов научной работы экспедиции были измерения глубины океана на всем пути следования от мыса Колумбия к полюсу. Измерительный прибор состоял из двух деревянных барабанов, длина которых соответствовала ширине саней, съемных деревянных рукояток к ним, 1000 морских саженей (6000 футов) специально изготовленной стальной фортепьянной проволоки диаметром 0,028 дюйма, намотанной на каждый барабан, и лотов, на конце которых находился двустворчатый бронзовый ковш, захлопывающийся при соприкосновении с дном и захватывающий образцы пород. Вес этих приспособлений распределялся следующим образом: каждая тысяча морских саженей проволоки – 12,42 фунта, каждый деревянный барабан – 18 фунтов, каждый лот – 14 фунтов. Весь снаряженный барабан весил 44,42 фунта, а два барабана соответственно 89 фунтов. Третий, запасной, лот доводил общий вес до 103 фунтов.
Оба измерительных прибора и проволока были, насколько мне известно, самыми легкими приспособлениями подобного рода при данных характеристиках.
На первых этапах нашего марша один измерительный прибор находился у основного отряда, другой у головного. Подходя к полынье, мы производили измерения с края ее, а при отсутствии открытой воды делали прорубь во льду, если он был достаточно тонок. Благодаря небольшому весу аппаратуры двое людей легко управлялись с ней.
Расстояние, которое мы проходили день за днем, определялось счислением, а затем уточнялось полуденными наблюдениями высоты солнца. Наш метод счисления был весьма прост: направление мы определяли по компасу, а для вычисления расстояния брали среднее предположений Бартлетта, Марвина и моих о длине пройденного за день пути.[34] На борту корабля счисление ведется по компасному курсу (для направления) и по лагу (для расстояния). На континентальном льду Гренландии я вел счисление по компасному курсу и одометру. Однако на полярном льду этот прибор было бы совершенно невозможно использовать – на неровной дороге он разлетелся бы вдребезги. Поэтому на полярном льду, вообще говоря, счисление ведется по личным предположениям путешественников о пройденном расстоянии и время от времени проверяется и уточняется астрономическими наблюдениями.
В нашей экспедиции имелось трое столь опытных путешественников по арктическому льду, что они могли очень точно определить проходимое за день расстояние. Это были Бартлетт, Марвин и я. Когда мы сверяли наше счислимое положение путем астрономических наблюдений, оказывалось, что среднее наших предположений удовлетворительно сходится с результатами наблюдений.
Разумеется, счисление, совершенно не проверяемое астрономическими наблюдениями, было бы недостаточно для научных целей. На первых порах нашего похода солнца не было, и мы не могли точно определить свое местонахождение. Позднее, когда мы шли при солнечном свете, мы проводили наблюдения, необходимые для проверки наших предположительных счислений, но не более того. Мне не хотелось, чтобы мои товарищи тратили на это энергию и утомляли глаза.
Фактически астрономические наблюдения производились каждые пять переходов, если только вообще представлялась такая возможность.
15 февраля Бартлетт покинул «Рузвельт», положив почин финальному санному походу к полюсу – той части всей нашей работы, к которой мы, собственно, и готовились все предшествующие месяцы кропотливого труда. Прошлым летом мы провели судно через забитый почти сплошным льдом пролив между Эта и мысом Шеридан; долгие осенние сумерки охотились, пополняя наши запасы мяса; пережили черные, тоскливые месяцы полярной ночи, подбадривая себя надеждой на то, что добьемся успеха, как только вернется свет и даст нам возможность начать поход по льдам Полярного моря [Северного Ледовитого океана]. Теперь все это было позади. Начинался заключительный этап нашей работы.
В 10 часов утра 22 февраля – день рождения Вашингтона – я наконец сошел с корабля и взял путь на север. Три года назад, лишь на один день позже, я покидал корабль с той же целью. Теперь со мной шли два молодых эскимоса – Арко и Кудлукту; у нас было двое саней и 16 собак. Погода стояла пасмурная, мел легкий снег, температура была 31° ниже нуля.
В 10 часов утра уже можно было идти при свете. Неделю назад, когда Бартлетт покидал корабль, было еще так темно, что ему пришлось воспользоваться фонарем, чтобы идти по следу на север вдоль подошвы припая.
Когда я сошел с корабля, в пути находилось 7 членов экспедиции, 19 эскимосов, 140 собак и 28 саней. Как я уже говорил, шесть передовых подразделений должны были встретиться со мной на мысе Колумбия в последний день февраля. Эти отряды, как и мой собственный, использовали постоянный след к мысу Колумбия, который осенью и зимой поддерживали открытым охотничьи партии и отряды, перевозившие грузы. След этот шел большей частью вдоль берега по подошве припая, лишь время от времени выходя на перешейки полуостровов ради сокращения пути.

Капитан Бартлетт и его отряд
В последний день февраля, как только рассвело, Бартлетт и Боруп вышли на север со своими отрядами. Погода стояла ясная, тихая и морозная. После ухода головного отряда я поставил в ряд все оставшиеся сани и осмотрел их, чтобы удостовериться, что на каждых находится стандартный груз и все необходимое снаряжение. Покидая «Рузвельт», я располагал достаточным количеством собак, чтобы отправить на лед 20 упряжек по семь собак в каждой, но во время пребывания на мысе Колумбия в одной из упряжек разразилась собачья чума, и шесть собак погибли. Таким образом, у меня осталось только 19 упряжек.
Недомогание двух эскимосов внесло дальнейшее расстройство в мои планы. Я рассчитывал организовать бригаду ледорубов в составе Марвина, Макмиллана и доктора Гудсела; она должна была идти впереди основного отряда и расчищать ему путь. Но тут оказалось, что два эскимоса не в состоянии выйти на лед: один отморозил себе пятку, у другого распухло колено. Такое сокращение числа погонщиков означало, что Марвину и Макмиллану придется самим управлять упряжками, и бригада ледорубов сократилась до одного человека – доктора Гудсела. К счастью, это не имело существенного значения. Дорога вначале оказалась не такой уж плохой, как я опасался, и погонщики помогали рубить лед, когда добирались до трудного места.
Утром 1 марта я проснулся еще до рассвета. Вокруг иглу со свистом гулял ветер. Такое явление в самый день нашего старта, после многих дней безветрия, я расценил как невезенье, но, выглянув в смотровое окошечко, увидел, что погода стоит по-прежнему ясная, а звезды сверкают, как алмазы. Ветер дул с востока – впервые за все те годы, что я провел в Арктике. Разумеется, эскимосы приписали это необычное обстоятельство – явление в самом деле из ряда вон выходящее – козням своего заклятого врага Торнарсука, попросту говоря, черта.
После завтрака, с первыми проблесками дневного света, мы выбрались из иглу и огляделись. Ветер дико завывал вокруг восточной оконечности утеса Индепенденс, ледяные поля на севере, так же как и низменная часть суши, прятались в той сероватой дымке, которая, как знает всякий опытный полярник, означает жесточайший ветер. Для экспедиции, не столь хорошо одетой, как наша, такие условия погоды показались бы весьма суровыми, а иные экспедиции вообще сочли бы невозможным путешествовать в такую погоду и вернулись бы в иглу.
Однако я, наученный опытом поездки в Арктику три года назад, заранее распорядился, чтобы во время перехода от корабля к мысу Колумбия и пребывания на мысе все участники экспедиции были в старой зимней одежде, а покидая мыс Колумбия, надели новый комплект, специально сшитый для санного марша. Поэтому мы все были в новой, абсолютно сухой одежде, и ветер был нам нипочем.

Роберт Пири
Отряды один за другим отделялись от основных сил армии саней и упряжек, выходили по следу Бартлетта на лед и исчезали в дымке на севере. Отъезд происходил бесшумно – леденящий восточный ветер уносил все звуки. Уже через несколько мгновений люди и собаки пропадали из виду, поглощенные дымкой поземки и метущим снегом.
Придав отъезду видимость порядка, я со своим отрядом выехал последним. Предварительно я дал двум больным эскимосам указание спокойно сидеть в иглу на мысе, пользуясь выделенными им припасами, пока первый вспомогательный отряд не вернется на мыс и не доставит их на корабль.
Спустя час после выезда из лагеря мы пересекли ледниковую кромку. Таким образом, вся экспедиция, состоявшая из 24 человек, 19 саней и 133 собак, находилась наконец на льду Полярного моря, примерно на 83-й параллели.
На этот раз мы вышли в путь на восемь дней раньше, чем три года назад, выигрывая шесть календарных дней и два дня пути, поскольку находились примерно на два перехода севернее мыса Хекла – нашего прежнего отправного пункта.
Когда мы вышли из-под прикрытия суши, ветер обрушился на нас со всей силой, но, поскольку он дул не в лицо, а шли мы по проложенному следу, с опущенной головой и полузакрытыми глазами, он не останавливал нас и не причинял нам серьезного беспокойства. Однако я понимал, хоть и старался не задумываться над этим, что ветер неизбежно откроет полыньи на нашем маршруте.
Когда мы сошли с ледниковой кромки на торосистые нагромождения приливной трещины, след стал в высшей степени труднопроходим, в особенности для саней эскимосского типа, несмотря на то что над ним основательно поработали и наши ледорубы, и ледорубы головного отряда, прошедшего перед нами. Новые сани Пири благодаря их длине и особой форме легче и с меньшим напряжением скользили по льду. Вырвавшись наконец из этого чудовищного ледового пояса, ширина которого достигала нескольких миль, и оказавшись на старом льду, мы вздохнули с облегчением. Идти по старым ледяным полям было значительно легче. Снег, плотно убитый зимними ветрами, лежал не слишком глубоко, всего лишь на несколько дюймов. Все же поверхность, по которой мы шли, была очень неровная и местами буквально противопоказанная саням, ставшим хрупкими на морозе в 50°. Но я полагал, что, если на первых 100 милях пути нам не встретится ничего худшего, у нас не будет серьезных оснований для жалоб.
Чуть подальше – я в это время шел пешком за своим отрядом – нам навстречу попался Киута из отряда Марвина, спешивший обратно на пустых санях. Он поломал свои сани, причем настолько серьезно, что целесообразнее было вернуться на мыс Колумбия за запасными, чем производить починку на месте. Я велел ему не терять ни минуты и непременно нагнать нас на стоянке этой же ночью, и он вскоре исчез в поземке у нас за спиной.
Еще дальше мы встретили Кудлукту: он спешил обратно по той же причине, а еще дальше нескольких членов других отрядов: им пришлось остановиться для починки саней, получивших сильные повреждения на неровном льду.
Наконец мы достигли места первой стоянки Бартлетта в 10 милях пути от края ледниковой кромки. Тут нас ждали два иглу, и я занял один, а отряд Марвина другой. Отрядам Гудсела, Макмиллана и Хенсона предстояло в этот вечер самим построить для себя жилища. Бартлетт и Боруп, находясь в авангарде, строили по иглу на каждой своей стоянке. Я как самый старший в экспедиции занимал один из них, а очередность занятия другого отряды Марвина, Макмиллана, Гудсела и Хенсона определили жеребьевкой на мысе Колумбия, причем первая очередь досталась Марвину. Позднее, когда в авангарде шел только отряд Бартлетта, на стоянках по маршруту похода имелся лишь один иглу.
К тому времени, когда последняя упряжка достигла места первой стоянки, сумерки полярного дня, который теперь длился около 12 часов, окончательно угасли. Для саней это был трудный день. Новый тип «саней Пири», благодаря своей форме и большей длине, показал себя наилучшим образом. Хотя двое саней этого типа получили мелкие повреждения, но ни одни из них не вышли из строя. Одни сани старого эскимосского типа были сильно покалечены, а двое других совершенно разбиты.
Как только собаки были накормлены, все разошлись ужинать и отдыхать по своим иглу, предоставив развороченную поверхность льда тьме, завывающему ветру и метели. Лично мне переход дался нелегко – впервые за 16 лет у меня сильно разболелась нога, которую я сломал в Гренландии в 1891 году.
Не успели мы закрыть дверь нашего иглу снежным блоком, как к нам прибежал один эскимос из отряда Хенсона. Синий от страха, он сказал, что не иначе как Торнарсук находится в лагере, потому что они никак не могут поджечь спирт в их новой печке. Я очень удивился: все печки были испытаны на борту судна и работали отлично, но все же вылез наружу и прошел в иглу Хенсона. Оказалось, он извел целый коробок спичек, безуспешно пытаясь разжечь печку. Печки у нас были совершенно нового устройства, без фитилей, и я с первого взгляда понял, в чем дело. Мороз стоял такой, что спирт не испарялся и не воспламенялся непосредственно от спички, как бывает при более высокой температуре. Клочок зажженной бумаги, брошенный в печку, мгновенно разрешил вопрос, и инцидент был исчерпан. Выход из строя хотя бы одной спиртовой печки серьезно подорвал бы наши шансы на успех, поскольку люди не смогли бы готовить чай, абсолютно необходимый при работе в условиях низких температур.
Киута, эскимос, возвращавшийся на сушу со сломанными санями, в ту же ночь вернулся в лагерь, однако Кудлукту не появился. Таким образом, в первый же день перехода по полярному льду из состава экспедиции выбыл один человек.
С первым серьезным препятствием в санном походе мы столкнулись уже на второй день после выхода с суши. День был облачный, восточный ветер не ослабевал. Я снова сознательно следовал за своим отрядом, желая убедиться, что все идет как надо, все предусмотрено. Дорога была такая же, как накануне, неровная и тяжелая для людей, собак и саней.
Когда мы проделали примерно три четверти дневного перехода, впереди над северным горизонтом показалась темная зловещая туча – предвестник открытой воды. Вблизи полыней всегда наблюдается туман. С поверхности воды происходит интенсивное испарение, пары в холодном воздухе конденсируются и образуют настолько густой туман, что временами он выглядит черным, как дым степного пожара.
Мои опасения оправдались: прямо впереди нас на снегу обозначились черные точки – вспомогательные отряды, задержанные полыньей. Подойдя поближе, я увидел полосу открытой воды примерно в четверть мили шириной, образовавшуюся уже после того, как тут прошел отряд капитана. Ветер оказывал свое действие.
Я распорядился разбить лагерь (ничего другого не оставалось делать). Пока строились иглу, Марвин и Макмиллан измерили с края полыньи глубину моря, которая оказалась равной 96 морским саженям.
Дойдя до этой полыньи, мы побили английский рекорд капитана Маркема, достигшего 83°20 севернее мыса Джозеф-Генри 12 мая 1876 года.
Наутро перед рассветом мы услышали скрежет льда и поняли, что полынья закрывается. Постучав топором по ледяному полу иглу, я дал знак всем остальным отрядам живо подниматься и завтракать. Утро снова выдалось ясное, если не считать поземки, однако ветер дул не ослабевая.
С первыми проблесками дня мы уже поспешно пересекали полынью по наслоениям молодого льда, который двигался, взламывался и нагромождался по ее краям. Вообразите себе, что вы пересекаете реку по ряду гигантских черепиц в один, два или три фута толщиной, которые постоянно зыблются и смещаются, и вы получите представление о той ненадежной поверхности, по которой мы переходили полынью. Подобный переход весьма опасен: в любую минуту и сани, и упряжка, и погонщик могут очутиться в ледяной воде. Следа Бартлетта на другой стороне полыньи мы не обнаружили. Это означало, что след разорвался и ушел в сторону в результате бокового (то есть на запад или на восток) смещения ледяных берегов полыньи.
Часа через два пути мы оказались в развилке между двумя новыми полыньями, преградившими нам путь. Молодой, недавно образовавшийся лед на западной полынье, хотя и слишком тонкий, чтобы удержать сани, был все же достаточно крепок, чтобы выдержать вес человека, и я послал Киута на запад отыскивать след капитана. Тем временем остальные эскимосы устроили из снежных блоков укрытие и принялись за мелкий ремонт саней.
Вернувшись через полчаса, Киута сигнализировал нам, что ему удалось отыскать след Бартлетта. Вскоре после возвращения Киута берега западной полыньи сомкнулись, смяв ненадежный молодой лед, по которому он прошел. Мы поспешно переправились на другую сторону и вновь вышли на след, оказавшийся в полутора милях к западу. По ведущим на юг следам людей и собак мы увидели, что Боруп в соответствии с выработанной программой уже прошел здесь на обратном пути к мысу Колумбия. Он, по-видимому, пересек полынью и искал теперь наш след на южной стороне.
Как только шедший за мной Марвин нагнал меня, я велел Киута сбросить с саней груз и отослал его вместе с Марвином обратно на мыс Колумбия. Сделал я это по двум соображениям.
Во-первых, в случае возникновения каких-нибудь осложнений в пути новичку Борупу могла понадобиться помощь более опытного человека, а во-вторых, от сильной тряски многие наши жестянки со спиртом и керосином дали течь, и нам нужно было пополнить запас топлива с учетом будущих потерь. Остановка заняла всего несколько минут и не задержала основного отряда, и вскоре Марвин со своим смуглым товарищем исчезли из виду.
К вечеру, еще не стемнело, мы дошли до третьего лагеря капитана. Весь день нам сопутствовал ветер, и по водяным облакам вокруг мы знали, что нас со всех сторон окружают полыньи. К счастью, ни одна не пересекала нашего пути, и дорога в общем и целом была такая же, как накануне.
В этот день над вершинами высоких гор, которые еще были видны на юге, мы увидели пылающее лезвие желтого света, тянувшееся к зениту, – другими словами, после почти пятимесячной ночи мы снова почти могли видеть солнце, проплывавшее под самой кромкой южного горизонта. Еще день-два – и оно осветит нас прямыми лучами. Чувства, которые полярный путешественник испытывает к возвращающемуся светилу в конце зимней ночи, трудно передать в словах тому, кто привык видеть солнце каждое утро.
На следующий день, 4 марта, погода изменилась. Небо затянулось тучами, ветер за ночь повернул на 180° и дул теперь с запада, порывами налетал легкий снег, термометр показывал всего лишь 9° ниже нуля. После 50-градусных морозов нам прямо-таки казалось, что наступила жара. Полыней стало еще больше – их присутствие выдавали тяжелые черные тучи. Милях в двух к востоку зияла полынья, тянувшаяся на север строго параллельно нашему маршруту и потому не внушавшая нам опасений. Однако широкая и зловещая черная полоса, простиравшаяся с запада на восток поперек нашего маршрута, сильно меня озаботила. Лед явно смещался по всем направлениям, а резкое потепление и снег, пришедшие с западным ветром, говорили о массе открытой воды на западе.
Перспективы были не из приятных, зато как бы в виде компенсации дорога оказалась не особенно трудной. Удивительно было то, что до сих пор ни одна полынья не перерезала след Бартлетта. Поэтому мы быстро продвигались вперед и, хотя переход, несомненно, был длиннее, чем предыдущий, вовремя добрались до построенного капитаном иглу.
Здесь я нашел от него записку, доставленную, очевидно, одним из погонщиков; капитан сообщал, что разбил лагерь на расстоянии мили к северу, остановленный полыньей. Разрешилась загадка черной зловещей полосы, которую я часами наблюдал на северном горизонте и которая, увеличиваясь по мере нашего приближения, теперь словно нависала у нас над головой.
Мы пошли вперед и вскоре достигли стоянки капитана. Тут моим глазам открылось безрадостное зрелище, столь знакомое мне по экспедиции 1905–1906 годов, – белоснежное пространство льда прорезала река иссиня-черной воды, извергавшая густые облака пара, который мрачным пологом нависал над головой, временами понижаясь и закрывая противоположный берег этого зложелательного Стикса.
Полынья открылась в тяжелых ледяных полях. Если учесть, что толщина таких полей порой достигает 100 футов, а вес почти невообразимой величины, то приходится признать, что силу, которая образовала в них такую реку, можно сравнить с силами, воздвигшими горы на материках и прорывшими каналы на суше.
Бартлетт рассказал, что прошлой ночью, находясь в лагере на расстоянии мили к югу, где я нашел его записку, он проснулся от шума, которым сопровождалось вскрытие этой огромной полыньи. Теперь полоса открытой воды достигала около четверти мили в ширину и простиралась на запад и на восток, насколько хватал глаз, если даже мы взбирались на самые высокие ледяные пики в окрестностях лагеря.
Милях в трех к востоку, судя по нависавшему там пару, полынья, последние два дня тянувшаяся с севера на юг параллельно нашему курсу, пересекалась с полыньей, перед которой мы остановились.
Хотя эта полынья и встретилась нам южнее тех широт, где мы наткнулись на Великую полынью в 1906 году, она в точности напоминала ту огромную реку открытой воды, которую при движении на север мы прозвали Гудзоном, а на обратном пути – когда, казалось, эти черные воды навеки отрезали нас от суши – перекрестили в Стикс. Сходство было столь велико, что его подметили даже эскимосы, бывшие со мной в экспедиции три года назад.
К счастью, боковых подвижек льда не наблюдалось – берега полыньи не смещались ни в восточном, ни в западном направлении. Полынья представляла собой всего-навсего трещину во льду, образовавшуюся под напором ветра и сизигийного прилива, которые набирали силу к полнолунию 6-го числа.
С обычной для него предусмотрительностью Бартлетт построил для меня иглу по соседству со своим. Пока остальные три отряда возводили себе снежные дома, капитан замерил глубину океана; она оказалась равной 110 морским саженям. Мы находились в 45 милях к северу от мыса Колумбия.
Следующий день, 5 марта, выдался тихий и ясный, с легким западным ветром и температурой 20° ниже нуля. Около полудня ненадолго показалось солнце – оно огромным желтым шаром прошло вдоль южного горизонта. Видеть его вновь было такое удовольствие, что мы на время позабыли о своем раздражении вынужденной задержкой перед полыньей. Если бы 4 марта не было облачно, мы бы увидели солнце на день раньше.
За ночь полынья несколько сузилась, наслаивая молодой лед. Затем под воздействием приливной волны расширилась еще больше, преграждая нам путь широкой полосой черной воды, несмотря на непрерывное образование льда. Я послал Макмиллана с тремя погонщиками за грузом, который Киута сбросил с саней, отправляясь с Марвином на сушу; они должны были захватить также часть продовольствия из склада Борупа, которое мы не имели возможности взять с собой. Макмиллану поручалось оставить записку для Марвина на том месте, где Киута сбросил груз; в записке сообщалось, где мы задержались, и предписывалось возвращаться к нам как можно скорее. Остальные участники экспедиции чинили поврежденные сани и сушили одежду над маленькими керосинками.
Весь следующий день мы прождали перед полыньей, затем второй, третий, четвертый и пятый; дни проходили в невыносимом бездействии, путь нам по-прежнему преграждала широкая полоса черной воды. Погода все эти дни как нельзя более подходила для путешествия, температура держалась в пределах минус 5° – минус 32°. За это время мы могли бы миновать 85-ю параллель, если бы не это препятствие – следствие ветра, дувшего в первые три дня нашего старта.
Эти пять дней я ходил по льду туда и обратно, проклиная судьбу, которой вздумалось остановить нас открытой водой, когда все прочее: погода, лед, собаки, люди и снаряжение – не оставляло желать лучшего. В эти дни мы с Бартлеттом почти не разговаривали. Бывают времена, когда молчание красноречивее всяких слов. Мы лишь изредка обменивались взглядами, и по плотно сжатым губам капитана я догадывался, что происходит у него в душе.
Полынья с каждым днем продолжала расширяться, и мы каждый день с тревогой смотрели на юг по направлению следа: не покажутся ли Марвин и Боруп. Но они не появлялись.
Лишь тот, кому случалось попадать в подобное положение, может понять муку этих дней вынужденного бездействия. Я без конца шагал по ледяному полю перед иглу, то и дело взбираясь на вершину ледяного пика по соседству и напряженно вглядываясь в смутный свет на юге. Спал я всего несколько часов в сутки, всегда готовый услышать малейший шум, причем часто вставал и внимательно прислушивался в страстной надежде услышать топот бегущих собак. Несмотря на усилия держать себя в руках, к моему беспокойству примешивались воспоминания о том, как повлияла на мои планы задержка у Великой полыньи в мою прошлую экспедицию. В общем за эти дни я морально пережил больше, чем за остальные 15 месяцев пребывания в Арктике.
Добавочный запас керосина и спирта, который должны были доставить Марвин и Боруп, был совершенно необходим для успеха экспедиции. Но даже если бы они не пришли, я уже не мог повернуть обратно. Меряя шагами ледяное поле, я представлял себе, как мы пустим на топливо сани, чтобы готовить чай после того, как кончатся керосин и спирт. К тому времени, когда мы сожжем сани, станет достаточно тепло, так что можно будет сосать лед и снег для утоления жажды, и мы будем обходиться пеммиканом и сырой собачатиной без чая. Словом, я строил планы, но это были планы отчаяния. Период ожидания принес мне сплошные муки.
Продолжительная задержка, явившись тяжким испытанием для всех членов экспедиции, деморализовала некоторых эскимосов. К концу периода выжидания я стал замечать у них признаки беспокойства. Они собирались группками по двое, по трое и о чем-то тихо говорили между собой. Наконец двое старших из них, Пудлуна и Паникпа, которые работали со мной много лет и на которых я полагался, пришли ко мне и заявили, что они больны. Я обладал достаточным опытом, чтобы отличить больного эскимоса от здорового, и отговорки эскимосов меня не убедили. Однако я сказал, чтобы они ради бога поскорее возвращались на сушу, и дал им записку для Марвина, в которой просил поторопиться, а также записку для помощника капитана, в которой указал, как быть с этими двумя эскимосами и их семьями.
С течением времени и другие эскимосы стали являться ко мне с жалобами на то или иное мнимое недомогание. Двое из них, находясь в иглу, на время потеряли сознание от алкогольных паров и до смерти напугали остальных эскимосов, так что я просто не знал, что с ними делать. Вот пример того, что руководитель полярной экспедиции иной раз вынужден единоборствовать не только со стихией льда и погоды.
На девятый или десятый день, отчаянно рискуя, мы, вероятно, могли бы пересечь полынью по молодому льду, но в моей памяти слишком живо было воспоминание о 1906 годе, когда мы чуть было не погибли, пересекая Великую полынью по находящемуся в волнообразном движении льду; к тому же Марвин должен был находиться где-то близко от нас, а потому я выждал еще 2 дня, чтобы дать ему возможность соединиться с нами.
Все это время Макмиллан оказывал мне неоценимую помощь. Видя беспокойство эскимосов, он, без малейшего намека с моей стороны, всецело посвятил себя тому, чтобы занять и заинтересовать их играми и всевозможными спортивными «фокусами». Это был один из тех случаев, когда человеку представляется возможность молча показать, из какого теста он слеплен.
Вечером 10 марта полынья почти закрылась, и я распорядился наутро готовиться к выходу. Задержка стала невыносимой, и я решил рискнуть в надежде, что Марвин с керосином и спиртом догонит нас.
Разумеется, у меня была и другая возможность – вернуться назад и выяснить, в чем дело. Однако я отверг эту мысль. Мне не улыбалась перспектива пройти лишние 90 миль, не говоря уже о психологических последствиях такого шага для членов экспедиции.
Я не боялся за участь людей. Я был уверен, что Боруп достиг суши без задержки, а у Марвина, если его остановила на время прибрежная полынья, был с собой груз, который сбросил с поврежденных саней Кудлукту, и в грузе этом были все необходимые припасы. Однако мне не верилось, чтобы прибрежная полынья так долго оставалась открытой.
Утро 11-го выдалось ясное и спокойное. Температура была -40°. Это означало, что вся открытая вода затянулась льдом. Мы рано вышли в путь. В иглу я оставил записку для Марвина следующего содержания:
4-й лагерь, 11 марта 1909 года.
Ждали здесь 6 дней. Больше ждать не можем. У нас не хватает топлива. Продвигайтесь как можно скорее и догоните нас. Буду оставлять записку на каждой стоянке. Когда приблизитесь к нам, вышлите вперед легкие сани с запиской, чтобы они нас нагнали.
Через 3–5 переходов намереваюсь отослать обратно доктора Гудсела с эскимосами. Он должен встретиться с вами и сообщить, где мы находимся.
Пересекаем полынью по курсу ост-зюйд-ост.
Боковых подвижек льда не было в течение 7 дней. Полынья только открылась и закрылась. Не останавливайтесь здесь лагерем. Перейдите полынью. Давайте собакам полный рацион и погоняйте.
Совершенно необходимо, чтобы вы догнали нас с топливом.
Выхожу отсюда в 9 часов утра в четверг 11 марта.
Пири
Р. S. На тот случай, если вы прибудете слишком поздно и не сможете догнать нас, я попросил капитана забрать из ваших мешков общий материал.
Мы благополучно перебрались через полынью и прошли за день не менее 12 миль. В этот переход мы пересекли еще семь полыней от полумили до мили шириной; каждая была затянута молодым льдом, по которому едва-едва можно было пройти. Все отряды, включая отряд Бартлетта, шли вместе.
В этот переход мы пересекли 84-ю параллель. Всю ночь под действием прилива лед сплачивался вокруг лагеря. Не прекращающийся скрежет, стоны и треск льда слышались всю ночь напролет. Однако я спал спокойно: наши иглу стояли на тяжелом ледяном поле, которое едва ли могло изломаться.
Утро снова выдалось ясное, но температура понизилась до -45°. Мы снова проделали не меньше 12 морских миль, причем в первую половину пути преодолели много трещин и узких разводьев, а вторую шли по сплошным полям старого льда. Я был уверен, что пояс многочисленных разводьев, который мы прошли за последние два перехода, это и есть Великая полынья и что теперь мы благополучно миновали ее. Я надеялся, что Марвин и Боруп со столь необходимым нам запасом топлива пересекут «Великую полынью» прежде, чем снова поднимется ветер; достаточно было 6 часов крепкого ветра, чтобы подвижки льда начисто стерли наш след, и искать нас тогда в обширной снежной пустыне было бы все равно, что искать иголку в стоге сена, как говорится в пословице.
В следующий переход, 13 марта, было холодно. Когда мы вышли в путь, термометр показывал -53°; ночью минимум температуры был -55°. С наступлением новых сумерек температура понизилась до -59°. В полдень, когда ярко светило солнце и не было ветра, мы не страдали от холода в нашей меховой одежде. Коньяк, разумеется, замерз, керосин стал белым и вязким, бегущих собак застилало облако пара от их дыхания.
В этот переход я шел впереди своего отряда и всякий раз, оглядываясь назад, не видел ни людей, ни собак, а только стелющуюся прядь тумана, сверкавшую серебром в горизонтальных лучах солнца, светившего с юга, – туман этот и был паром от дыхания людей и собак.
Дорога в этот переход была довольно хорошая, хотя первые 5 миль пришлось идти зигзагами через пояс очень торосистого льда. Прошли мы не менее 12 миль и стали лагерем на большой старой льдине под прикрытием огромного заснеженного тороса.
Только мы кончили строить иглу, как один из эскимосов, взобравшийся на торос, взволнованно крикнул:
– Клингмик-суэ! (Собаки идут!)
В мгновение ока я оказался с ним рядом. Взглянув на юг, я увидел вдали серебристо-белую прядь тумана на нашем пути. Это были, несомненно, собаки. Немного погодя к нам на легких санях, запряженных восемью собаками, стремительно подкатил Сиглу из отряда Борупа. Он привез радостную весть – записку от Марвина, в которой сообщалось, что он, Марвин, вместе с Борупом и людьми переночевали прошлую ночь во втором лагере от нас, следующую переночуют в первом лагере от нас и на следующий день соединятся с нами. Арьергардный отряд с драгоценным грузом керосина и спирта все-таки пересек Великую полынью!
Хенсон с людьми тотчас же получил указание рано утром выступить в путь и следующие пять переходов идти в авангарде. Я также известил доктора Гудсела, что на следующее утро он с двумя людьми отправится обратно на сушу. Остальные должны были дожидаться на месте отрядов Марвина и Борупа, чинить сани и сушить одежду. По прибытии Марвина и Борупа я предполагал перераспределить грузы и отослать обратно всех лишних людей, собак и сани.
В ту ночь, успокоившись, я спал как ребенок. Рано утром Хенсон вышел на север со своим головным отрядом в составе трех эскимосов – Ута, Аватингва и Кулутингва. Немного погодя доктор Гудсел и два эскимоса – Вишакупси и Арко – выехали в обратный путь на санях, запряженных 12 собаками.
Доктор помогал мне как только мог, однако его услуги в поле не оправдывались обстоятельствами, и я дал ему это понять. Его место, разумеется, было на корабле, где оставалась основная масса людей, на которых уже одно его присутствие могло подействовать благотворно, пусть даже в его услугах как медика и не возникнет особой необходимости. Вот почему я не считал себя вправе продолжать подвергать доктора опасностям переходов через полыньи по предательскому молодому льду. Доктор выехал обратно примерно с 84°29 северной широты.
К вечеру 14 марта мы увидели на нашем следу другое серебристое облако, оно все приближалось, и немного погодя к стоянке подошел Марвин во главе арьергардного отряда. От людей и собак валил пар, как от эскадры боевых кораблей. Они привезли большой запас топлива. Остальной груз, так как требовалось обеспечить максимальную скорость передвижения, был невелик. Много раз в прошлом я был рад видеть преданные глаза Марвина, но никогда еще это не доставляло мне такой радости, как сейчас.
Мы нагрузили отремонтированные сани стандартным грузом – саней оказалось всего 12. Таким образом, получался некоторый излишек людей и собак, и потому, когда Макмиллан сказал мне, что уже несколько дней мучается с отмороженной пяткой, я не увидел в этом большой беды и сразу же решил отослать его на сушу.
Меня несколько разочаровало, что приходится отпускать Макмиллана на столь раннем этапе пути; я надеялся, что он дойдет со мной до более высокой широты, однако его выход из строя не слишком нарушал мои планы. У меня было достаточно людей, продовольствия, саней и собак; людей, так же как и снаряжение, можно было заменять.
Здесь следует заметить, что ни один член экспедиции не знал, как далеко он пойдет со мной и когда будет отослан обратно, только капитану Бартлетту я еще на мысе Колумбия сказал, что, возможно, обстоятельства сложатся так, что мне придется пользоваться его помощью и опираться на его могучие плечи и после того, как мы пройдем крайний северный предел, достигнутый герцогом Абруццким. Тем не менее на рвении людей к работе это никак не отражалось. Разумеется, у меня была определенная программа, однако непредвиденные обстоятельства в любой момент могли потребовать коренных изменений, поэтому я не считал целесообразным ее оглашать. Едва ли можно назвать других исследователей, у которых были такие умелые и преданные делу работники, как у меня. Каждый охотно подчинял личные чувства конечной цели – успеху экспедиции в целом.
Примерно в полумиле к северу от лагеря Марвин замерил глубину океана. Она оказалась равной 825 морским саженям – это лишь еще более укрепило мою уверенность в том, что Великая полынья осталась позади. Полынья, по-видимому, соответствует границе материковой отмели, и это измерение показало, что материковая отмель находится между местом нашей стоянки и четвертым лагерем (или, возможно, между четвертым и пятым лагерем) примерно на 84-й параллели. Материковая отмель представляет собой просто-напросто погруженное плато, окружающее материк, а Великая полынья обозначает северную границу отмели в том месте, где отмель обрывается в Полярное море [Северный Ледовитый океан].
В понедельник 15 марта было также ясно и холодно, термометр показывал 45–50° мороза. Ветер вновь переменился на восточный и дул так, что дух захватывало. После завтрака – пеммикан с чаем – Бартлетт и Марвин вышли в путь с ледорубами, а их отряды и отряд Борупа, как только уложили на сани грузы, двинулись вслед за ними.
Макмиллан с двумя эскимосами на двух санях, запряженных 14 собаками, отправился обратно на мыс Колумбия. В главном отряде экспедиции теперь насчитывалось 16 человек, 12 саней и 100 собак. Одни сани разломали на части, чтобы починить остальные, трое саней забрали возвращающиеся на материк и двое оставили в лагере, чтобы их можно было использовать при возвращении. Из саней, находящихся в пути на север, семь были нового типа Пири и пять – старого эскимосского образца.
Простившись с Макмилланом, я, по-прежнему замыкающим, последовал за вышедшими на север тремя отрядами. Дорога в этот переход, как и в предыдущий, была довольно легкая: мы шли по старым ледяным полям. Боль в сломанной ноге, беспокоившая меня на протяжении всего пути от мыса Колумбия, почти совсем прошла.
К вечеру во льдах вокруг нас стали раздаваться громкие выстрелы, грохот и шипящий звук торосящегося молодого льда. Это означало, что нас снова ждут полыньи, и вскоре наш путь перерезала формирующаяся полынья, у дальнего (северного) берега которой наблюдалось движение льда. Полынья как будто суживалась к западу, и, направившись вдоль ее края, мы наконец пришли к месту, где огромные плавучие льдины от 50 до 100 футов шириной образовывали нечто вроде понтонного моста. Мы начали переправу, перетаскивая сани и собак с льдины на льдину.
Когда Боруп переправлял свою упряжку через трещину между двумя плавучими льдинами, собаки поскользнулись и очутились в воде. Прыгнув вперед, юный атлет удержал сани и, схватившись за постромки, вытащил собак на лед. Человек менее проворный и сильный мог бы упустить и упряжку, и сани с 500 фунтами провианта, который в ледяной пустыне представлял для нас большую ценность, чем его вес в алмазах. Разумеется, если бы сани ушли в воду, они потянули бы на дно океана и собак. Мы с облегчением вздохнули и, достигнув прочного льда на другой стороне этого понтонного моста, устремились дальше на север. Однако вскоре лед с гулкими выстрелами раскрылся прямо перед нами, образовав новую полынью, и мы были вынуждены разбить лагерь.
Температура в ту ночь была 50° ниже нуля; дул крепкий юго-западный ветер, особенно резкий из-за влажности: открытая вода была близка. Поэтому возведение иглу было занятием далеко не из приятных. Но мы все были так рады спасению ценного груза, что это неудобство казалось совсем пустячным.
Ночь была шумная – более шумной ночи мне не доводилось проводить в иглу, и сон наш был неглубок. Час проходил за часом, а лед все ворчал и жаловался, так что мы вовсе бы не удивились, если бы трещина прошла прямо поперек лагеря или даже посередине какого-нибудь иглу. Положение было не из приятных, поэтому все обрадовались, когда настало время снова трогаться в путь.
Утром мы нашли проход через полынью чуть подальше к востоку от лагеря – это были отдельные льдины, сцементированные морозом ночью. Не прошли мы и нескольких сот ярдов, как наткнулись на иглу, в котором ночевал Хенсон. Это не сулило нам быстрого продвижения вперед.
Через 6 часов мы подошли к другому иглу, возведенному Хенсоном, что меня не очень удивило. Я по опыту знал, что вчерашние подвижки льда и вновь образовавшиеся полыньи измотают отряд Хенсона, и основной отряд догонит его. И в самом деле: следующий переход оказался еще короче. Часа через четыре мы застали Хенсона с людьми на стоянке: у них поломались сани и они делали из двух одни.
Поскольку в этот переход мы преодолевали широкий пояс торосистого льда, некоторые сани получили легкие повреждения, и нам всем пришлось остановиться для их осмотра и починки.
После непродолжительного сна я выслал Марвина вперед прокладывать след, дав ему указание сделать два больших перехода, чтобы наверстать упущенное. Марвин вышел в путь рано утром. Немного погодя вслед за ним вышли Бартлетт, Боруп и Хенсон, все с ледорубами, чтобы улучшить проложенную им дорогу. За ними следовали упряжки их отрядов; я, как обычно, шел замыкающим. Марвин обеспечил нам переход не менее чем в 17 миль. След шел сначала по очень торосистому льду, а потом по более крупным и более ровным ледяным полям, между которыми было много молодого льда.
В конце перехода, вечером 19 марта, пока эскимосы строили иглу, я изложил своим помощникам – Бартлетту, Марвину, Борупу и Хенсону мою дальнейшую программу. По окончании следующего перехода (то есть в пяти переходах от того места, где Макмиллан и доктор повернули обратно) я предполагал отослать на материк Борупа с тремя эскимосами, 20 собаками и одними санями; таким образом, состав основного отряда сокращался до 12 человек, 10 саней и 80 собак. Еще через пять переходов я предполагал отослать назад Марвина с двумя эскимосами, 20 собаками и одними санями, сократив состав основного отряда до девяти человек, семи саней и 60 собак, а еще через пять переходов – Бартлетта с двумя эскимосами, 20 собаками и одними санями, сократив состав основного отряда до шести человек, 40 собак и пяти саней.
Я надеялся, что при хорошей погоде и если лед будет не хуже, чем тот, по которому мы уже прошли, Боруп сможет пройти со мной за 85-ю параллель, Марвин за 86-ю, а Бартлетт за 87-ю. В конце каждого маршрута в пять переходов я буду отсылать обратно самых ненадежных собак, наименее работоспособных эскимосов и поврежденные сани.
Как будет ясно из последующего, эта программа была выполнена без заминки, и каждый отряд прошел со мной даже дальше на север, чем предполагалось. Боруп и его люди оставили на этой стоянке продовольствие, снаряжение и все свои пожитки, чтобы в последний переход не возить лишний раз туда и обратно около 250 фунтов груза, а забрать его на обратном пути.
19 марта было солнечно. Полярный день прочно вступил в свои права, и солнце, кружа по небу, почти половину суток стояло над горизонтом, а вторую половину темноты почти не было – лишь серые сумерки.
Температура в этот день держалась за 50° ниже нуля, о чем свидетельствовал замерзший коньяк и облако пара, окутывавшее собак; пузырьки воздуха в спиртовых термометрах не позволяли производить точный отсчет. Пузырьки эти появлялись потому, что разрывался столбик спирта из-за постоянного сотрясения термометра в пути. Их можно было удалить вечером на стоянке, но для этого требовалось время, а поскольку точное определение температур в течение шести или семи недель нашего марша к полюсу и обратно не могло сколько-нибудь серьезно отразиться на успехе всего предприятия, то я и не считал нужным исправлять термометр каждый вечер. Когда я не слишком уставал, я удалял пузырьки.
Марвин, по-прежнему шедший в головном отряде, обеспечил нам переход миль в 15, а то и больше. След шел вначале по тяжелому слоеному льду, а затем по крупным ледяным полям с более ровной поверхностью. Однако при этом читатель должен учесть: на полярном льду мы называем ровной такую дорогу, которую в любом другом месте сочли бы весьма ухабистой.
К концу этого перехода мы оказались между 85°7 и 85°30 северной широты, или примерно на широте нашего «Штормового лагеря» 1906 года. Однако теперь мы достигли этих широт на 23 дня раньше, чем в 1906 году, а что касается снаряжения, продовольствия и общего состояния людей и собак, то тут просто не могло быть сравнения. Бартлетт считал, что мы находимся под 85°30 северной широты, Марвин называл цифру 85°25 , а я 85°20 . Действительное положение, вычисленное позднее от того пункта, где благодаря более высокому стоянию солнца мы впервые могли произвести широтное наблюдение, оказалось 85°23 северной широты.
Наутро Бартлетт вновь стал во главе авангардного отряда и, взяв с собой двух эскимосов, 16 собак и двое саней, вышел на север. Несколько позже Боруп с тремя эскимосами, 16 собаками и одними санями выехал обратно на юг.
Мне было жаль, что обстоятельства потребовали отослать Борупа во главе второго вспомогательного отряда. Наш молодой силач был ценным членом экспедиции. Он вкладывал в работу душу и управлялся с тяжелыми санями и собаками не хуже любого эскимоса, с проворством, которое вызывало восхищение у всех участников экспедиции, и его отец мог бы гордиться им, если бы он его видел. Однако при всем своем рвении Боруп имел слишком мало опыта работы на предательском полярном льду, и я не хотел подвергать его дальнейшему риску. Кроме того, он так же, как и Макмиллан, отморозил себе пятку.
Борупу очень не хотелось возвращаться на сушу, но у него были все основания гордиться своей работой, так же как я гордился им. Он пронес знамя Иельского университета за 85° северной широты, пройдя с ним столько же миль по полярному льду, сколько Нансен за все свое путешествие от корабля до крайней северной точки своего маршрута.
Как сейчас вижу перед собой пылкое, умное лицо Борупа, слегка омраченное печалью, когда он наконец повернул назад и исчез вместе с эскимосами и окутанными паром собаками среди торосов.
Через несколько минут после отъезда Борупа Хенсон с двумя эскимосами, тремя санями и 24 собаками вышел на север вслед за Бартлеттом. Мы с Марвином и четырьмя эскимосами, на пяти санях с 40 собаками, остались в лагере еще на сутки, чтобы дать Бартлетту фору в один переход. С уходом вспомогательного отряда Борупа состав главных сил экспедиции сократился до 12 человек, 10 саней и 80 собак.
Отныне каждый отряд состоял из трех человек вместо четырех, однако я не уменьшил суточный рацион чая, молока и спиртного на каждый отряд. Это означало, что индивидуальная норма этих продуктов питания несколько увеличилась, но я счел это оправданным, если только нам удастся сохранить нынешний темп передвижения. При повышенном аппетите, который появляется от продолжительной работы, три человека легко могли разделаться с нормой чая, выдаваемой на четверых. Кроме того, троим в иглу было удобнее, чем четверым, а то, что для постройки снежных домов оставалось меньшее количество людей, компенсировалось – в смысле затраты времени и труда – меньшими размерами самих иглу.
Мы восстановили порядок следования головным и основным отрядом, нарушенный за последние два перехода. Незаходящее солнце позволило изменить схему таким образом, чтобы оба отряда встречались каждые сутки. Основной отряд оставался в лагере в течение 12 часов после ухода головного. Последний совершал переход, устраивал лагерь и располагался на отдых. Когда основной отряд достигал места стоянки, головной отряд снова пускался в путь, а члены основного отряда занимали уже построенные иглу и укладывались спать.
Таким образом, я каждые сутки виделся с Бартлеттом и его отрядом; это позволило при необходимости перераспределять грузы и морально поддерживать людей. На этом этапе путешествия отряд Хенсона шел вместе с отрядом Бартлетта, а Марвин и его люди со мной. При таком порядке следования отряды держались ближе один к другому, у людей, шедших в авангарде, было спокойнее на душе, и вполовину уменьшалась опасность быть разобщенными открывшейся полыньей.
Время от времени я находил нужным переводить какого-либо эскимоса из одного отряда в другой. Порою, как я уже говорил, управляться с этим странным народом довольно трудно, и если Бартлетт или кто-либо еще из членов экспедиции недолюбливал какого-нибудь эскимоса или им было трудно с ним ладить, я брал его к себе в отряд и отдавал взамен одного из своих – я умел ладить с любым из них. Другими словами, я отдавал своим помощникам людей, которые были им по душе, а остающихся забирал себе. Разумеется, укомплектовывая свой отряд для последнего броска, я отбирал своих любимцев из числа самых работящих эскимосов.
На следующей стоянке Марвин замерил глубину океана и, к нашему удивлению, достиг дна всего лишь на глубине 310 морских саженей; при сворачивании проволока оборвалась, и часть ее вместе с лотом осталась на дне океана.
Вскоре после полуночи мы тронулись в путь и за короткий переход – всего в 10 миль – достигли стоянки Бартлетта. У них поломались сани – люди Хенсона с одним эскимосом Бартлетта все еще возились над ними. Сам Бартлетт ушел вперед, а Хенсон с отрядом отправились за ним следом вскоре после нашего прибытия.
Марвин снова приступил к измерению глубины, но, вытравив 700 морских саженей проволоки и не достав дна, потерял два ледоруба, которые он использовал вместо лота, и еще часть проволоки. После этого мы легли спать. Стоял ясный, сверкающий солнечный день, дул легкий северный ветер, температура держалась за 40° ниже нуля.
В следующий переход, 22 марта, мы прошли не меньше 15 миль. Сначала наш путь был очень извилист и пролегал через тяжелый торосистый лед, от которого доставалось и людям, и собакам, и саням, но потом мы пошли по прямой через большие и ровные ледяные поля. Закончив переход, мы узнали, что Бартлетт с одним из своих эскимосов уже снова вышел в путь, но отряд Хенсона был еще в иглу. Укеа, сломавший сани накануне, также оставался в лагере. Я отдал ему сани Марвина и отправил его вместе с отрядом Хенсона дальше помогать Бартлетту прокладывать след. Легко разгрузив поврежденные сани, я отдал их Марвину. Поход проходил не без трудностей, но наш план пока что оправдывал себя. Мы были полны надежд и в самом радужном расположении духа.
До сих пор мы не производили определений широты. При низком положении солнца над горизонтом результаты наблюдений были бы неточными. К тому же мы шли в хорошем темпе, и среднего наших предположений, основанного на нашем ледовом опыте, было достаточно для счисления. Но вот выдался ясный, спокойный день с 40-градусным морозом, и мы решили проверить наше счислимое положение. Я велел эскимосам построить из снега укрытие от ветра, чтобы Марвин мог определить широту, измерив высоту солнца при прохождении через меридиан. Я предполагал, что Марвин будет производить все наблюдения вплоть до крайней северной точки своего маршрута, а Бартлетт соответственно своего. Тому были две причины. Первая – я берег свое зрение, вторая, и основная, – я хотел иметь серии независимых наблюдений для определения пройденного расстояния.
Мы нагрели в иглу ртуть искусственного горизонта; построили из снежных блоков полукруглое укрытие от ветра в два яруса высотой с выходом на юг; расстелили на снегу шкуру мускусного быка и установили на снегу, с южной стороны укрытия, мой ящик с инструментами; поставили на ящик лоток искусственного горизонта, специально изготовленный для такого рода работ, и, заполнив его ртутью, закрыли стеклом. Затем Марвин лег на шкуру лицом к югу и, упершись локтями в снег, установил секстант так, чтобы поймать край солнца в узкой полосе искусственного горизонта.
Под правой рукой у него лежал карандаш и открытый блокнот для записи данных.
Результаты наблюдений показали, что мы находимся примерно под 85°48 северной широты. Поправка на рефракцию принималась как для температуры минус 10° по Фаренгейту – самой низкой температуры, для которой у нас имелись табличные данные. Именно от этого пункта, считая наши два последних перехода за 25 миль, мы определили, что лагерь № 19, от которого Боруп повернул обратно, находится под 85°23 северной широты, против наших предположений 85°20 , 85°25 и 85°30 . Наблюдение показало, что до сих пор мы проходили в среднем 11,5 широты за каждый переход.
В число переходов были включены и четыре коротких, причины которых я надеялся в будущем устранить. Я был уверен, что, если только нас не остановит открытая вода, против которой бессильны все человеческие расчеты, мы сможем неуклонно наращивать среднюю величину проходимого расстояния.
Следующий переход совершался при температуре -30°, во влажном воздухе, несомненно объяснявшемся близостью открытой воды. И действительно, в 5 милях от лагеря нам пришлось здорово поработать, мы еле-еле успели перетащить четыре или пять саней через открывшуюся полынью. Переправа последних саней задержала нас на несколько часов, так как пришлось вырубать ледорубами ледяной плот и перевозить на нем как на пароме упряжку с санями и погонщиком. Импровизированный паром мы вырубили на нашей стороне и при помощи веревок, протянутых через полынью, перегоняли на тот берег. Когда льдина была готова, двое моих эскимосов взошли на нее, мы перебросили веревку эскимосу на другую сторону, эскимосы на льдине взялись за веревку, удерживаемую с обоих концов людьми, стоящими на берегах полыньи, и таким образом доставили паром к тому берегу. Затем сани, собаки и три эскимоса разместились на плоту, и мы перетянули их на нашу сторону. Занимаясь этим делом, мы видели в полынье резвящегося моржа.
В конце следующего перехода, примерно в 15 миль, мы пересекли 86-ю параллель и, достигнув стоянки Бартлетта, застали Хенсона и его отряд в иглу. Я тотчас отправил их в путь с поощрительной запиской для Бартлетта, в которой сообщал, что свой последний лагерь он разбил за 86-й параллелью, а в эту ночь, вероятно, побьет норвежский рекорд; при этом я настоятельно просил его продвигаться как можно скорее.
Дорога в этот переход была довольно трудная. Часть пути мы шли по небольшим старым ледяным полям, которые из сезона в сезон дробила стихия ветров и течений. Эти более или менее ровные поля были окружены тяжелыми торосистыми грядами, через которые нам приходилось перебираться. Зачастую погонщики были вынуждены своими руками перетаскивать тяжело груженные сани через препятствия. И если у какого-либо читателя сложилось впечатление, будто мы знай посиживали себе на санях, проделывая сотни миль по гладкому, словно каток, льду, то ему следовало бы увидеть, как мы поднимали и волочили на себе 500-фунтовые сани, помогая собакам.
День стоял пасмурный, воздух был полон ледяных кристаллов, которые садились на ресницы, чуть ли не склеивая их. Иной раз, желая отдать распоряжение эскимосу, я открывал рот и чувствовал боль, не позволявшую мне слова вымолвить, – оказывается, это усы примерзли к моей небритой бороде.
В этот 15-мильный переход мы побили норвежский рекорд Нансена (86°13 6», см. «На Дальнем Севере», т. 2, с. 170), опередив его на 15 дней. Когда головные сани моего отряда достигли места стоянки, Бартлетт и Хенсон все еще находились там, однако не успел я – как обычно замыкающим – войти в лагерь, они уже снова отправились прокладывать след. Во время этого перехода были повреждены сани Эгингва; продовольствие в пути поубавилось, весь наш груз теперь можно было увезти на четырех санях, а потому мы сломали поврежденные сани Марвина и использовали материал для починки остальных. Поскольку на следующей стоянке Марвину с двумя эскимосами предстояло повернуть назад, он оставил здесь необходимое ему продовольствие и часть снаряжения, чтобы не возить их с собой лишний раз туда и обратно. На починку и перераспределение грузов ушло несколько часов времени, отводимого для сна, и, поспав всего 3 часа, мы снова тронулись в путь на четырех упряжках в десять собак каждая.
Следующий переход оказался очень удачным. Бартлетт исполнял мою просьбу, как хорошо воспитанное дитя, и, воспользовавшись хорошим состоянием льда, отмахал целых 20 миль, несмотря на то что часть времени пришлось идти при слепящей пурге. Температура колебалась между 16° и 30° ниже нуля – это указывало на наличие открытой воды к западу, откуда дул ветер. В течение этого перехода мы пересекли несколько полыней, затянутых предательским молодым льдом, который был припорошен недавно выпавшим снегом. На краю одной из них, в 200 милях от суши, мы увидели свежие следы белого медведя, направлявшегося на запад.
25 марта в 10 часов 30 минут утра я достиг лагеря, где, согласно моему распоряжению, после пяти переходов нас ждали Бартлетт и Хенсон. Я поднял их на ноги, и мы энергично принялись чинить сани, перераспределять грузы, отбирать наименее работоспособных собак и перетасовывать эскимосов в остающихся отрядах.
Пока шла эта работа, Марвин, воспользовавшись ясной погодой, вторично измерил высоту солнца над меридианом и определил наше местоположение. Оно оказалось 86°38'северной широты. Как я и ожидал, мы побили рекорд итальянской экспедиции герцога Абруццкого и покрыли за последние три перехода расстояние в 50 широты, делая в среднем 2/3 мили за переход. Выигрыш во времени по сравнению с итальянцами составлял 32 дня.
Я был вдвойне доволен результатами наблюдений – как за самого Марвина, который оказывал мне бесценную помощь и заслуживал того, чтобы пройти дальше на север, чем Нансен и герцог Абруццкий, так и за Корнеллский университет, в котором он преподавал и двое воспитанников и патронов которого сделали взносы в фонд Арктического клуба Пири. Кроме того, я надеялся, что в крайнем северном пункте своего маршрута Марвин измерит глубину океана; к сожалению, возле лагеря не оказалось молодого льда, в котором можно было бы сделать прорубь.
Около 4 часов дня Бартлетт, Укеа и Карко на двух санях с 18 собаками вышли в авангарде на север. Бартлетт отправлялся в путь, полный решимости в последующие пять переходов (после чего ему предстояло вернуться на сушу) пересечь 88-ю параллель, и я искренне надеялся, что он сможет отмахать эти мили, ибо он, безусловно, заслуживал такого рекорда. Позже я узнал, что он намеревался покрыть в свой первый переход 25 или 30 миль, и он бы покрыл их, если бы не помешали обстоятельства.
Когда Бартлетт ушел, я еще несколько часов не мог лечь спать, хотя накануне спал мало и очень устал от долгого перехода и работы в лагере. Оставались многочисленные мелочи, которым требовалось уделить внимание. Надо было написать ряд писем и составить распоряжения для отсылки их с Марвином на корабль, а также разработать с ним программу его предполагаемой поездки на мыс Моррис-Джесеп.
Наутро, в пятницу 26 марта, хорошо выспавшись, я поднял людей в 5 часов. Позавтракав, как обычно, пеммиканом, сухарями и чаем, Хенсон, Ута и Кешунгва на трех санях с 25 собаками вышли в путь по следу Бартлетта.
В половине десятого утра Марвин, Кудлукту и Харриган на одних санях с 17 собаками выехали на юг.
Ничто не омрачало нашего расставания. Утро было ясное, морозное, лед и снег искрились на солнце, отоспавшиеся собаки были резвы и проворны, из полярной пустыни веяло свежим холодным воздухом, а сам Марвин, хотя ему и не хотелось поворачивать назад, был счастлив тем, что ему довелось пронести знамя Корнеллского университета за крайнюю северную широту, достигнутую Нансеном и герцогом Абруццким, а также тем, что, за исключением Бартлетта и меня, он один из всех белых побывал в той исключительной области, что простирается за 86°34 северной широты.
Мне всегда будет радостно сознавать, что Марвин шел со мной в эти последние дни. По пути мы обсуждали планы его поездки на мыс Моррис-Джесеп и маршрут промеров океанских глубин, которые он намеревался провести оттуда в северном направлении. И когда он повернул обратно, на материк, он был полон надежд на будущее – будущее, которое ему не суждено было узнать.
– Остерегайся полыней, мой друг! – Таковы были последние слова, которые я ему сказал.
Итак, мы пожали друг другу руки в безлюдной белоснежной пустыне, и Марвин повернул на юг, навстречу своей смерти, а я на север, к полюсу.
По странному совпадению, вскоре после ухода Марвина в его трагический последний путь с 86°38 северной широты, солнце померкло и по всему небу расползлась свинцово-темная мгла. По контрасту с мертвенно-белой поверхностью льда и снега и необычному рассеянному свету мгла эта производила непередаваемое впечатление. Это был свет без тени, в котором невозможно было видеть на сколько-нибудь значительное расстояние.
Такой свет без тени – нередкое явление на ледяных полях Полярного моря [Северного Ледовитого океана], но мы впервые столкнулись с ним после того, как покинули сушу. Невозможно найти более совершенную иллюстрацию к арктическому Аду, чем этот серый свет. Более призрачной атмосферы не мог бы представить себе даже сам Данте – небо и лед были тусклыми и совершенно нереальными.
Несмотря на то что я оставил позади все «крайние северные» пределы, достигнутые моими предшественниками, и был близок теперь к своему наивысшему рекорду, причем у меня были восемь спутников, шестьдесят собак и семь полностью нагруженных саней, все в гораздо лучшем состоянии, чем я смел мечтать, – странный меланхолический свет, при котором нам пришлось идти в день расставания с Марвином, вызывал во мне непередаваемо гнетущее ощущение. Человек в своем эгоцентризме, начиная с первобытных веков и до наших дней, всегда предполагал существование дружественных связей между природой и событиями и чувствованиями своей, человеческой, жизни. Таким образом, признаваясь в том, что я испытывал нечто вроде благоговейного страха перед призрачной серой мглой этого дня, я лишь давал выражение неискоренимому инстинкту, свойственному всем людям.
Первые три четверти маршрута 26 марта след, к счастью, пролегал по прямой, через большие, ровные, покрытые снегом ледяные поля различной высоты, окруженные старым слоеным льдом с торосами средней величины, а последнюю четверть почти сплошь по молодому льду в среднем около фута толщиной, развороченному и наслоенному. Идти по такой неровной поверхности в неверном свете было особенно тяжело. Если бы не было следа, проложенного Бартлеттом, идти было бы еще труднее.
К концу дня нам снова пришлось уклониться на запад, обходя полынью. Всякий раз, как температура повышалась до -15°, какой она была в начале дня, мы знали, что впереди нас ждет открытая вода. Однако еще перед тем, как достичь лагеря, устроенного отрядом Бартлетта, серая мгла, в которой мы шли, рассеялась, и ярко засверкало солнце, а температура понизилась до -20°. Бартлетт уже собирался в путь. По нашему общему мнению, за последний переход мы прошли 15 миль.
Следующий день, 27 марта, выдался ослепительно солнечный, небо сверкало голубым, лед белым, и, если бы у всех членов экспедиции не было очков с дымчатыми стеклами, некоторые из нас, несомненно, заработали бы себе снежную слепоту. С той поры как вновь появившееся полярное солнце высоко поднялось над горизонтом, мы носили дымчатые очки постоянно.
Температура в этот переход упала с 30 до 40° ниже нуля, дул резкий северо-восточный ветер, собак окутывало белое облако пара. Мы радуемся сильному холоду на полярном льду, поскольку повышение температуры и легкий снег всегда означают открытую воду, опасность, задержки. Разумеется, такие мелкие неприятности, как отмороженные и кровоточащие щеки и носы мы рассматриваем как издержки большой игры. Гораздо хуже отморозить пальцы или пятку, потому что это ограничивает способность передвижения, а именно для передвижения мы и находимся в Арктике. Просто боль или неудобства неизбежны, и в общем ими можно пренебречь.

Сдвоенная собачья упряжка, побывавшая на полюсе
Такого тяжелого перехода, как этот, у нас не было уже много дней. Сперва мы шли по развороченному торосистому льду, который временами, казалось, резал нам ноги сквозь камики из тюленьих шкур и чулки из заячьих. Затем мы попали на тяжелый обломочный лед, прикрытый глубоким снегом, через который нам пришлось буквально пропахивать себе путь, поднимая и удерживая сани руками.
В течение дня мы видели следы двух песцов в этой далекой ледяной пустыне, на расстоянии почти 940 морских миль от северного побережья Земли Гранта.
Наконец мы достигли лагеря Бартлетта, разбитого в лабиринте обломков тяжелых полей торосистого льда. Бартлетт лишь недавно забрался в иглу; люди и собаки были измотаны адской работой и нуждались в отдыхе.
Я велел ему хорошенько выспаться, прежде чем снова трогаться в путь, и, пока мои люди строили иглу, снял с его саней около 100 фунтов груза, чтобы облегчить его отряду прокладывание следа по тяжелому льду. Для моего отряда этот груз был не таким бременем, как для авангардного. Переход, несмотря на сумасшедшую дорогу, приблизил нас к цели на добрых 12 миль.
Мы перешли 87-ю параллель и вступили в область постоянного дневного света – солнце за наш последний переход не садилось. В эту ночь я уснул с легким сердцем: мы пересекли 87-ю параллель здоровыми, со здоровыми собаками и достаточным запасом продовольствия на санях. Три года назад я был вынужден повернуть обратно с 87°6 северной широты – всего в 6 милях севернее той широты, где мы теперь стояли лагерем; мои собаки были истощены, запасы на исходе, и все мы были угнетены и разочарованы. Мне тогда казалось, что повесть моей жизни закончена и прочно перечеркнута словом «поражение».
Теперь, постарев на 3 года и оставив за плечами 3 года неумолимо изнашивающей человека арктической игры, я вновь стоял за 87-й параллелью, по-прежнему устремленный к цели, которая манила меня столько лет. Но даже сейчас, поставив свой наивысший рекорд, сейчас, когда все, казалось, сулило удачу, я не решался особенно доверяться предательскому белоснежному льду, 180 морских миль которого простирались между мною и концом пути. Я долгие годы верил, что достичь полюса можно и что это написано мне на роду, но я всегда напоминал себе о том, что многие люди подобно мне стремились к какой-нибудь заветной цели и терпели неудачу в конце.
Наутро 28 марта мы проснулись при ослепительно сверкающем солнце, но впереди надо льдом нависла густая, зловещая мгла и дул резкий северо-восточный ветер, что в переложении с языка Арктики означало открытую воду. Неужели опять неудача? На этот вопрос никто не мог ответить. Бартлетт, разумеется, снова вышел в путь задолго до того, как я и мои люди проснулись. Это соответствовало общему плану, о котором я уже говорил: головной отряд должен быть в пути, пока основной спит, и наоборот, так чтобы оба отряда могли ежедневно держать связь друг с другом.
Быстро передвигаясь вперед по проложенному Бартлеттом следу, мы через 6 часов достигли его лагеря – Бартлетт остановился перед широкой полыньей. К северо-западу, северу и северо-востоку от нее нависало черное водяное небо, а внизу стелился густой туман, который мы видели перед собой в течение всего дня. Чтобы не потревожить Бартлетта, мы остановились в 100 ярдах поодаль, как можно тише построили иглу и, поужинав пеммиканом, сухарями и чаем, легли спать. Мы проделали около 12 миль по гораздо лучшей дороге, чем та, по которой шли последние несколько переходов, причем двигались почти по прямой, по большим ледяным полям и молодому льду.
Уже засыпая, я услышал треск и стон льда вблизи иглу, но, так как шум был не сильный и скоро прекратился, я решил, что лед сжимается и полынья закрывается. Убедившись, что мои рукавицы под рукой и я могу в случае необходимости мгновенно схватить их, я перевернулся на постели из оленьих шкур и стал засыпать. Только я задремал, как вдруг снаружи раздался чей-то взволнованный крик.
Вскочив на ноги и заглянув в смотровое окошечко иглу, я обмер: между нашими двумя иглу и иглу Бартлетта протянулась широкая полоса черной воды, причем ближний край ее проходил чуть ли не перед самым нашим входом. На противоположной стороне полыньи стоял один из людей Бартлетта, он пронзительно кричал и жестикулировал со всей отчаянностью возбужденного и насмерть перепуганного эскимоса.
Разбудив своих спутников, я вышиб ногой снежную глыбу, служившую дверью, и в мгновение ока выскочил наружу. Трещина во льду прошла в каком-нибудь футе от того места, где были привязаны собаки одной из наших упряжек, еще немного – и их стащило бы в воду. Другая упряжка лишь чудом спаслась от погребения заживо под торосистым нагромождением – подвижка льда как нарочно прекратилась после того, как завалило петлю веревки, удерживавшей постромки на льду. Иглу Бартлетта сносило в восточном направлении на ледяном плоту, отколовшемся от ледяного поля, а за ним, насколько позволял видеть валящий из полыньи туман, была сплошь черная вода. Похоже было на то, что ледяной плот с отрядом Бартлетта столкнется с нашей льдиной чуть подальше, и я крикнул его людям, чтобы они сворачивали лагерь, спешно запрягали собак и были готовы перескочить к нам при первой возможности.
Затем я повернулся в другую сторону и оценил наше собственное положение. Два наших иглу, Хенсона и мой, стояли на небольшом обломке старого ледяного поля, отделенным трещиной и торосистым нагромождением от большого ледяного поля к западу от нас. Было ясно, что еще одно небольшое растяжение или сжатие – и мы тоже отделимся от своего поля и поплывем подобно отряду Бартлетта.
Я выдворил Хенсона и его людей из их иглу, приказал всем немедленно собирать вещи и запрягать собак и, пока они занимались этим, разровнял проход через трещину к большому ледяному полю на западе. Я делал это с помощью ледоруба – заваливал трещину льдом и выравнивал поверхность так, чтобы можно было перевезти сани на другую сторону. Как только грузы были переправлены и надежно устроены на ледяном поле, мы все подошли к краю полыньи, чтобы помочь Бартлетту перетащить сани на нашу сторону в тот момент, когда ледяной плот соприкоснется с краем полыньи.
Плот медленно подплывал все ближе и ближе и наконец с хрустом приткнулся к краю ледяного поля. Так как обе поверхности находились примерно на одном уровне, плот лежал у края поля, словно лодка у причала, и мы без труда переправили отряд Бартлетта на нашу сторону.
Хотя полынья могла вскрыться прямо посреди такой льдины, как наша, мы не могли терять часы сна в ожидании этого события. Поскольку мы лишились иглу, нам не оставалось ничего другого, как построить новые и немедленно лечь спать. Нечего и говорить, лишняя работа никому не доставила особого удовольствия. В ту ночь мы спали в рукавицах, в любой момент готовые ко всякой случайности. И если бы новая трещина, пройдя прямо через возвышение для сна в иглу, сбросила нас в ледяную воду, мы бы после первого шока от холодного купания выбрались на лед, отжали нашу меховую одежду и приготовились к следующему ходу нашего злокозненного противника – льда.
Мы страшно устали, а наше положение на льдине было весьма ненадежно. Но все же за этот переход мы оставили далеко позади мой рекорд трехлетней давности (вероятно, 86°12 северной широты), так что заснул я довольный тем, что побил наконец свой собственный рекорд, а уж утром будь что будет.
Следующий день, 29 марта, принес нам мало радости. Хотя мы все настолько устали, что отдых бы нам не помешал, нам вовсе не улыбалось располагаться на пикник возле этого арктического Флегетона, который, словно степной пожар, час за часом извергал черный дым на север, северо-запад и северо-восток. Образовавшееся от сгущения паров облако и его отражение в черной воде внизу было таким густым, что мы не видели противоположного берега полыньи – если только у нее вообще был северный берег. Казалось, мы стали лагерем у края того самого, выдуманного мифотворцами, открытого Полярного моря, которое якобы навеки преграждает путь человеку к северному концу земной оси.
Как ни мучительно было ждать, иного выхода не оставалось. Позавтракав, мы осмотрели сани, произвели необходимый ремонт и просушили одежду над небольшими керосинками, специально предназначенными для этой цели. Бартлетт попытался измерить глубину моря, но, вытравив 1260 морских саженей проволоки, дна не достиг. Сматывать с барабана всю проволоку он не стал, опасаясь, что вследствие какого-нибудь дефекта проволока оборвется и мы потеряем ее, а нам хотелось сохранить всю проволоку, какая у нас была, для нашего крайнего северного промера. Мы надеялись, что он будет произведен на самом полюсе. Так как у нас оставался всего один лот, я не хотел рисковать им в этом пункте маршрута, а потому велел Бартлетту привязать к проволоке пару полозьев, которые мы взяли от последних сломанных саней.
Увидев по часам, что настало время для сна, – ведь солнце светило круглые сутки, – мы снова легли спать в иглу, наспех построенных после волнующих переживаний накануне. От массы черной воды перед нами, словно от далекого прибоя, исходил низкий, все нарастающий рокот. Людям неискушенным он показался бы зловещим, но нас он только ободрял, так как мы знали, что он означает сужение, а то и закрытие полосы открытой воды, преградившей нам путь. Так что в эту «ночь» мы сладко спали в своих ледяных хижинах.
Наши надежды скоро оправдались. 30 марта я проснулся и взглянул на часы: был 1 час ночи. Рокот закрывающейся полыньи перешел в хриплый рев, перемежаемый стонами и выстрелами, как из винтовок, замирающими на западе и востоке, подобно отзвукам линии фронта. Выглянув в смотровое оконце, я увидел, что черная завеса разредилась; сквозь нее виднелась другая, еще более черная завеса – еще одна полынья на нашем пути.
К 8 часам утра температура упала до -30°, дул резкий северо-западный ветер. Стоны и скрежет льда прекратились, туман и мгла рассеялись, как бывает обычно, когда полынья закрывается или замерзает. Мы ринулись вперед, не дожидаясь, пока лед вскроется вновь. В этот день все три отряда – Бартлетта, Хенсона и мой – шли вместе, то и дело перебираясь через узкие полосы молодого льда, на месте которого еще недавно была открытая вода. Нам пришлось пересечь озеро молодого льда в 6 или 7 миль шириной; лед был тонкий и прогибался под нами, когда мы во весь опор гнали собак к противоположному берегу. Мы изо всех сил старались наверстать упущенное время, и когда разбили лагерь на старом тяжелом ледяном поле, пройденное нами за день расстояние составило добрых 20 миль.
Область, через которую мы шли последние четыре перехода, перспективами на будущее не радовала. Мы слишком хорошо понимали, что достаточно нескольких часов сильного ветра – и лед придет в движение по всем направлениям.
Пересечь подобную зону по пути на север – это только полдела, ведь предстоит еще возвращение обратно. И хотя девизом Арктики должно быть: «Довлеет дневи злоба его», мы горячо надеялись, что до тех пор, пока мы снова не окажемся к югу от этой зоны, уже совершая обратный путь, – до тех пор сильных ветров не будет.
Бартлетту предстоял последний переход, и он выжимал из себя все, что мог. Дорога была сравнительно хорошая, однако день стоял облачный. Резкий северный ветер дул нам прямо в лицо, температура держалась ниже 30°. Все же мы предпочитали северный ветер, хоть он и затруднял ходьбу, восточному или западному; в последнем случае нам пришлось бы плавать по открытой воде, северный же ветер закрывал за нами все полыньи, облегчая возвращение вспомогательному отряду Бартлетта. Правда, давлением ветра лед, по которому мы шли, отгоняло на юг, и мы проигрывали целые мили расстояния, однако замерзшие полыньи компенсировали это.
Последнюю половину перехода Бартлетт проделал в таком быстром темпе, что если я по какой-нибудь причине останавливался на мгновенье, мне приходилось вскакивать в сани или бежать, чтобы догнать его. Последние несколько миль я шел с Бартлеттом в авангарде. Он был настроен серьезно и хотел идти дальше, но по плану ему полагалось повернуть обратно во главе четвертого вспомогательного отряда, так как у нас не было достаточно провианта, чтобы основной отряд мог идти в расширенном составе. Если бы мы израсходовали продовольствие, необходимое для того, чтобы его отряд прошел от этого пункта до полюса и обратно, это могло привести к тому, что нам всем пришлось бы голодать, прежде чем мы достигли бы суши.
При ясной погоде мы, несомненно, могли бы покрыть за этот переход 25 миль; однако при пасмурной погоде след не прокладывается так быстро, поэтому в тот день нам удалось пройти только 20 миль. Мы знали, что если мы не достигли 88-й параллели или не подошли к ней вплотную, то только потому, что северные ветры, господствовавшие последние два дня, отгоняли ледяные поля к югу, сминая молодой лед в полыньях между нами и материком.

Иглу Роберта Пири
Как раз в тот момент, когда мы собирались стать лагерем, показалось солнце; похоже было, что на следующий день Бартлетт сможет при ясной погоде определить высоту солнца над меридианом в крайнем северном пункте своего маршрута.
Когда мы закончили постройку иглу, я сказал двум эскимосам, Кешунгва и Карко, что на следующий день они выйдут в обратный путь с капитаном, и велел им получше просушить одежду, так как у них едва ли найдется время заниматься этим делом при форсированном марше домой. Бартлетт возвращался с ними на одних санях с 18 собаками.
В 5 часов утра, после четырехчасового сна я поднял всех на ноги. Всю ночь не переставая дул сильный северный ветер.
После завтрака Бартлетт прошел пешком 5 или 6 миль на север, чтобы уж наверняка достичь 88-й параллели. По возвращении он должен был измерить высоту солнца над меридианом и определить наше местонахождение. Я отобрал лучших собак из его упряжек для основного отряда, а худших отдал ему. В целом собаки были в очень хорошем состоянии – гораздо лучшем, чем в любую из моих прошлых экспедиций.
Я избегал брать на себя тяжесть передвижения на слабых собаках – таких, которые, по моему мнению, скоро должны были сдать, и приберегал лучших собак для последнего броска. Моя установка сводилась к тому, чтобы выжать из вспомогательных отрядов все, что возможно, и сохранить силы основного отряда; соответственно, на всем пути следования на север насколько возможно облегчалась работа людям, которых я с самого начала наметил в окончательный состав основного отряда. Людьми этими были Ута, Хенсон и Эгингва. По мере возможности я уменьшал груз на их санях, давал им лучших собак, а собак похуже переводил в упряжки эскимосов, которые, по моим расчетам, должны были вернуться на материк. Я сознательно заставлял вспомогательные отряды работать как можно больше, чтобы как можно дольше сохранить силы основного отряда.
Я с самого начала наметил эскимосов, которые дойдут со мной до полюса, если только этому не воспрепятствуют какие-либо непредвиденные обстоятельства. В отношении других я твердо решил, что далеко со мной они не пойдут, а относительно третьих можно было решить и так и этак. Случись что-нибудь с людьми, отобранными с самого начала, я предполагал найти им замену среди лучших из остальных, которые все готовы были сопровождать меня.

Разведывательная партия на полюсе
По возвращении Бартлетта эскимосы построили обычное укрытие от ветра, и Бартлетт произвел определение широты. Результат оказался 87°46 49 ' северной широты.
Естественно, Бартлетт был очень разочарован, что, даже учитывая его 5-мильную утреннюю прогулку на север, ему не удалось достичь 88-й параллели. Это было прямым следствием северного ветра, который дул последние два дня, смещая лед в южном направлении. За последние пять переходов мы прошли на 12 миль больше, чем показывали результаты его наблюдений, но потеряли эти мили из-за сжатия молодого льда в тылу и закрытия разводьев.
Подобно Марвину пять переходов назад, Бартлетт производил здесь наблюдения отчасти для того, чтобы поберечь мое зрение, отчасти для того, чтобы иметь независимые результаты, полученные различными членами экспедиции. Когда расчеты были закончены, мы составили две копии – одну для Бартлетта, другую для меня, и после необходимых приготовлений он тронулся на юг по обратному следу во главе четвертого вспомогательного отряда с двумя эскимосами на одних санях, запряженных 18 собаками.
Глубоко опечаленный, глядел я вслед могучей фигуре капитана. Она становилась все меньше и меньше и наконец исчезла за торосами в белоснежном сверкающем просторе на юге. Однако раздумывать было не время. Я круто повернулся и сосредоточил все свое внимание на предстоящей работе. За Бартлетта я не беспокоился и был уверен, что снова встречусь с ним на корабле. Работа ждала меня впереди, а не в тылу. Бартлетт сослужил мне неоценимую службу и силою обстоятельств вынужден был взять на себя основную тяжесть прокладывания пути, вместо того чтобы разделить ее с другими, как я первоначально предполагал.
Несмотря на естественное разочарование, что ему не удалось достигнуть 88-й параллели, он имел основания гордиться не только своей работой вообще, но и тем, что на 11/4° оставил позади итальянский рекорд герцога Абруццкого. Я назначил его на почетный пост главы моего последнего вспомогательного отряда по трем причинам: во-первых, потому, что он прекрасно управлял «Рузвельтом»; во-вторых, потому, что он с самого начала охотно брал на себя улаживание всевозможных мелких неприятностей; и в-третьих, потому, что, учитывая благородную роль Великобритании в исследовании Арктики, мне казалось естественным, чтобы британский подданный мог сказать, что после американца он ближе всех людей стоял к полюсу.
С уходом капитана в основных силах экспедиции осталось два отряда – Хенсона и мой. Моими помощниками были Эгингва и Сиглу, помощниками Хенсона – Ута и Укеа. У нас было пять саней и 40 собак – лучшие из 140, с которыми мы покидали корабль. С ними мы и готовились завершить последний этап путешествия.
Мы находились на расстоянии 133 морских миль от полюса. Шагая взад и вперед по льду под защитой торосистой гряды, возле которой были построены наши иглу, я составил план. Мы должны были приложить все усилия к тому, чтобы совершить пять переходов по меньшей мере в 25 миль каждый, причем спрессовать переходы так, чтобы закончить последний в полдень и тотчас произвести определение широты.
Я считал, что при благоприятной погоде и отсутствии полыней это нам вполне под силу. Принимая во внимание улучшающийся характер поверхности льда и господствовавшие последнее время северные ветры, я надеялся, что дорога не доставит нам серьезных затруднений.
Если по какой-либо причине мне не удастся сделать эти переходы так, как я предполагал, у меня были в запасе два способа наверстать упущенное. Первый способ состоял в том, чтобы удвоить последний переход, иначе говоря, совершить один хороший марш, хорошенько пообедать и согреться чаем, дать собакам немного отдохнуть, а затем, не ложась спать, снова двинуться в путь. Второй способ заключался в том, чтобы после пятого перехода отправиться дальше с одним или двумя людьми на легко груженных санях, запряженных двумя упряжками, а остальных оставить в лагере. Даже если бы дорога оказалась хуже, чем я предполагал, за восемь переходов, подобных трем между 85°48 северной широты и 86°38 северной широты, или за шесть подобных последнему, мы могли бы достичь цели.
Тем не менее, делая эти расчеты, я сознавал, что штормового ветра в течение суток будет достаточно, чтобы вскрыть непроходимые полыньи на нашем пути и свести на нет все мои расчеты.
По-прежнему шагая взад и вперед по льду и строя планы, я вспомнил, что в этот же день три года назад, 1 апреля 1906 года, мы только пересекли Великую полынью, продвигаясь на север. Сравнение тогдашних условий с нынешними преисполнило меня надеждой.
Наступил момент, для которого я берег все свои силы, момент, к которому я готовился в течение 23 лет, ради которого вел простой образ жизни и тренировался, словно перед соревнованиями в беге. Несмотря на свой преклонный возраст, я чувствовал, что смогу удовлетворить требованиям, которые предъявит мне будущее, и жаждал вновь выйти впуть.
Что касается моих людей, снаряжения и запасов продовольствия, то они просто не оставляли желать лучшего и превосходили самые радужные мечты прошлых лет. Мой отряд можно было считать идеалом, воплощенным в действительность, – он был верен и послушен моей воле, как пять пальцев моей руки. Техникой обращения с собаками, санных переездов по льду и борьбы с холодом четверо моих эскимосов владели превосходно. Хенсон и Ута дошли со мной до крайнего северного пункта в мою экспедицию три года назад. Эгингва и Сиглу были в отряде Кларка, который едва спасся в тот раз и был вынужден несколько дней питаться моржовыми шкурами своих сапог, так как у него кончилось продовольствие.
Пятым был молодой Укеа. Хотя он никогда прежде не бывал со мной в экспедициях, он даже еще больше других, если только это вообще возможно, жаждал пойти со мной, куда бы я ни захотел. Ибо он всегда думал о несметных сокровищах, которые я обещал каждому, кто пойдет со мной до крайнего пункта маршрута. Это были вельбот, винтовка, дробовик, охотничьи припасы, ножи и т. д. – словом богатство, какое не приснится эскимосу и в самых отчаянных снах и которым Укеа рассчитывал завоевать свою любимую девушку – дочь старого Иква с мыса Йорк.
Все эти люди слепо верили, что я так или иначе сумею возвратить их на сушу. И я отдавал себе ясный отчет в том, что движущей силой всего отряда был я сам. Какой бы темп я ни задал, остальные будут поспевать за мной, но если я выдохнусь, все остановится, как автомобиль с лопнувшей шиной. Обстоятельства благоприятствовали мне, и я уверенно смотрел в будущее.
Быть может, теперь будет уместно объяснить, почему я избрал именно Хенсона в качестве спутника, который должен был дойти со мной до самого полюса. В этом отношении я поступил так же, как поступал во все свои экспедиции за последние 15 лет: Хенсон всегда доходил со мной до самой северной точки. Больше того, из всех моих людей Хенсон был наиболее пригоден для такого рода работы, если не считать эскимосов, которые с их знанием ледовой техники и искусством управляться с собачьими упряжками были мне более нужны как члены моего собственного отряда, чем кто-либо из белых. Разумеется, эскимосы не умели руководить, зато умели подчиняться и управлять собаками лучше любого белого.
Хенсон имел многолетний опыт работы в Арктике и был в ней почти так же искусен, как эскимосы. Он умел управляться с собаками и санями. Он был частью двигательной машины. Возьми я с собой какого-нибудь другого участника экспедиции, он был бы пассажиром, для которого потребовалось бы лишнее продовольствие и снаряжение. Это привело бы к увеличению санного груза, тогда как, беря с собой Хенсона, я действовал в интересах экономии веса.
Была и еще одна причина. Если по сравнению с любым другим членом экспедиции Хенсон был для меня более полезен, когда речь шла о путешествии с последним отрядом по полярному льду, то он все же уступал в компетентности белым участникам экспедиции, когда дело шло о возвращении на материк. Если бы Хенсон был отослан обратно с одним из вспомогательных отрядов на большом расстоянии от суши, и если бы он попал в положение, сходное с тем, в каком мы оказались на обратном пути в 1906 году, он и его отряд никогда не добрались бы до суши. Будучи верен мне и со мною преодолевающий на санях большие расстояния, чем кто-либо другой, он не имел дерзания и инициативы Бартлетта, Марвина, Макмиллана или Борупа, и я не считал себя вправе подвергать его опасности и возлагать на него ответственность, с которыми он в силу своей натуры не мог совладать.
Что касается собак, то в большинстве своем это были сильные, крепкие, как кремень, самцы, здоровые, без лишнего жира на теле и, благодаря бережному обращению, в отличной форме, как и люди. Сани, которые мы чинили в тот день, также были в хорошем состоянии. Продовольствия и топлива у нас имелось на 40 дней; в случае нужды, при постепенном использовании собак, пищи могло хватить и на 50 дней.
1 апреля, занимаясь починкой саней, эскимосы время от времени останавливались поесть вареной собачатины; в возвращающемся на материк отряде Бартлетта был излишек собак, и они убили одну из самых слабых, а щепки от разломанных саней использовали как топливо. Это был случай внести разнообразие в пеммикановую диету. Они ели свежее мясо и были довольны. Я хоть и вспоминал голодные времена, когда был рад сырой собачатине, все же не был склонен присоединиться к пиршеству моих смуглых друзей.
Вскоре после полуночи 2 апреля, после нескольких часов глубокого бодрящего сна в тепле и плотного завтрака, я вышел на север продолжать след, велев остальным сворачивать лагерь, запрягать собак и догонять меня. Поднимаясь на торосистую гряду за иглу, я затянул пояс еще на одно отверстие – третье с тех пор, как я покинул сушу 32 дня назад. Все мы, и люди, и собаки, отощали и ходили с плоскими и жесткими, как доски, животами.
До сих пор я намеренно шел позади отрядов, чтобы иметь возможность устранять заминки, подбодрять тех, у кого сломались сани, и следить, чтобы все было в добром походном порядке. Теперь я занял свое настоящее место в авангарде и, как ни старался держать себя в руках, все же, перебираясь через гряду торосов и подставляя грудь чистому морозному воздуху, струившемуся над могучими льдами прямо с полюса, испытывал острейшую радость или даже нечто вроде экзальтации. Чувства эти нисколько не ослабли и после того, как я спрыгнул с торосистой гряды и чуть ли не по пояс ушел в воду – край ледяного поля к северу от нас опустился под давлением торосов, и под слой снега на поверхности просочилась вода. Мои сапоги и меховые штаны не пропускали воды. Она не проникла под одежду, а замерзла прямо на меху, так что я соскоблил сосульки ледовым копьем и нисколько не пострадал от невольного купанья. Я подумал о своей заброшенной ванне на «Рузвельте», в 330 морских милях к югу, и улыбнулся.
Утро выдалось как нарочно для путешествия, ясное и солнечное. Температура держалась на -25°, дувший последние дни ветер упал до легкого бриза. Дорога была легче, чем за все предыдущие дни. Мы шли по большим старым ледяным полям, твердым и ровным, с заплатами сапфирно-голубого льда – лужами прошлого лета. Хотя поля эти были окружены громадными грядами торосов до 50 футов высотой, преодолевать торосистые нагромождения было сравнительно нетрудно либо через расщелины в них, либо по пологим склонам огромных сугробов. Яркое солнце, хорошая дорога, если не считать торосов, сознание, что мы наконец-то начали последний этап путешествия, и радость оттого, что я опять иду впереди, – все это действовало на меня, как вино. Казалось, тяжесть лет спала с моих плеч, и я чувствовал себя так, как 15 лет назад, когда шел во главе своего маленького отряда по ледниковому куполу Гренландии, проделывая на лыжах по 20–25 миль изо дня в день, а при броске и по 30–40.
Должно быть, человек всегда думает о своих первых шагах на избранном поприще, когда чувствует, что его труд подходит к концу. Так и в тот день вид ледяных полей к северу, широких и ровных, сверкающая голубизна неба и морозный ветер – все, за исключением поверхности льда, которая на ледниковом куполе Гренландии представляет собой абсолютно ровную плоскость с прямой линией горизонта, воскрешало в моей памяти переходы тех давно минувших дней.
Наиболее характерным отличием были тени. На ледниковом куполе их нет совершенно, а на полярном льду они темные и глубокие благодаря огромным, рельефно выделяющимся торосистым грядам. К тому же на полярном льду есть те сапфирно-голубые заплатки, о которых я уже говорил, образовавшиеся на месте натаявших прошлым летом луж. На ледниковом куполе Гренландии, много лет назад, я торопился вперед, подхлестываемый необходимостью дойти до залива Индепенденс [Индепенденс-фьорд], где рассчитывал найти мускусных быков, прежде чем у меня кончатся запасы продовольствия. Теперь же меня подхлестывала необходимость достичь цели, прежде чем нарождающееся полнолуние расшевелит приливы и откроет сеть полыней на нашем пути.
Через несколько часов сани нагнали меня. Собаки в то утро, после целого дня отдыха, тянули так резво, что мне то и дело приходилось на несколько минут присаживаться на сани или бежать рядом. Наш маршрут пролегал на север почти по прямой, минуя льдину за льдиной, одну торосистую гряду за другой, ориентированный по компасу на какой-нибудь отдельный торос или ледяной пик.
Мы шли так 10 часов без остановок; я был уверен, что мы покрыли 30 миль, но предпочел оценить пройденный путь более скромно – в 25 миль. Мои эскимосы полагали, что мы прошли такой же путь, как от «Рузвельта» до залива Портер, что составляет 35 миль по карте. Так или иначе мы продвинулись далеко за 88-ю параллель, в область, где еще не побывал ни один человек. И какой бы путь мы ни прошли, все говорило за то, что теперь, когда северный ветер улегся, мы удержим пройденные мили за собой. Возможно даже, что с ослаблением давления ветра лед мог в какой-то мере податься в обратную сторону и вернуть нам с таким трудом заработанные мили, которые он украл у нас за последние три дня.

Импровизированный мост из плавающих льдин через полынью
К концу перехода я подошел к вскрывающейся полынье. Она была в 10 ярдов шириной и преграждала мне путь, но в нескольких сотнях ярдов к востоку я увидел место, где трещина ветвилась и можно было перейти на другую сторону. Я дал знак погонщикам торопиться, подбежал к этому месту, быстро определил проход по движущимся льдинам и вернулся назад, чтобы помочь переправить упряжки с санями до того, как полынья расширится и станет непроходимой. Прыгая с льдины на льдину, я намечал путь, убеждался, что льдина не перевернется под тяжестью саней и собак, затем возвращался к льдине, на которой стояли собаки, и понуждал их вперед, в то время как погонщик направлял сани, перемещая свой вес из стороны в сторону, чтобы сани не опрокинулись. Несколько трещин были такой ширины, что, в то время как собаки легко перепрыгивали через них, людям пришлось собрать всю свою прыть, чтобы угнаться за ними. К счастью, все сани были «типа Пири» в 12 футов длиной. Будь они старого эскимосского типа в 7 футов длиной, мы были бы вынуждены с помощью веревок вручную переправлять их на льдинах.
Трудно заставить собак прыгать через расширяющуюся трещину, однако лучшие погонщики умеют делать это моментально, окриком и кнутом. Плохой погонщик наверняка угодит в воду вместе с санями. Иногда приходится становиться впереди собак и, низко опустив руку и помахивая ею с таким видом, словно в ней зажат лакомый кусок, побуждать их к прыжку.
Примерно через милю, когда я перепрыгивал через узкую полынью, лед подо мной подломился, и я снова угодил в воду; однако вода пришлась не выше пояса моих водонепроницаемых меховых штанов, и я успел отрясти и отжать ее, прежде чем она замерзла.
Эта полынья была не широка, и сани преодолели ее без труда.
Мы стали лагерем у громадной торосистой гряды. Солнце, постепенно поднимаясь все выше и выше, не только светило, но уже как будто и грело. Возводя иглу, мы видели в нескольких милях к востоку и юго-востоку водяные облака – признак вскрывающейся полыньи. Близящееся полнолуние явно принималось за работу.[35]
Луна все кружила и кружила по небосводу напротив солнца – серебряный диск против золотого. Глядя на ее призрачный, мертвенно-бледный лик, обесцвеченный ярким светом солнца, трудно было поверить, что она властна нарушить покой безграничных ледяных полей вокруг нас; что даже сейчас, когда мы были так близко к цели, она властна преградить нам путь непроходимой полыньей.
Луна была нашим другом в долгую полярную ночь, давала нам свет и тем самым возможность охотиться неделю-две в течение каждого месяца. Теперь же она казалась не другом, а опасным врагом, на которого взирают со страхом. Прежде благосклонная к нам, теперь она стала недоброжелательной силой, способной нежданно творить зло.
Поспав несколько часов, мы проснулись утром 3 апреля все при той же тихой и ясной погоде. В начале перехода наш путь пролегал через несколько широких, массивных торосистых гряд, и нам пришлось изрядно поработать ледорубами. Это несколько задерживало нас, но, выбравшись на ровные старые ледяные поля, мы постарались наверстать упущенное. Благодаря тому, что круглые сутки было светло, мы могли идти сколько заблагорассудится и спать ровно столько, сколько необходимо. Как и накануне, мы шли 10 часов, но проделали только 20 миль из-за задержки, которая потребовала работы ледорубами, и еще одной краткой задержки перед узкой полыньей. Мы были на полпути к 89-й параллели, и мне пришлось затянуть пояс еще на одно отверстие.
Во время этого перехода мы видели гигантские торосистые гряды, но, к счастью, они не преграждали нам путь. В течение всего дня лед скрежетал и стонал вокруг нас, но подвижек не наблюдалось. Лед либо подавался назад к полюсу, восстанавливая равновесие, нарушенное давлением ветра, либо испытывал воздействие сизигийных приливов. Итак, мы шли все вперед и вперед, и признаюсь не таясь, что мой пульс был учащен, так как я уже чувствовал на своем лице дыхание успеха.
По мере того как проходили дни, даже эскимосы, несмотря на усталость от долгих переходов, стали проявлять нетерпение и заинтересованность. На стоянках они взбирались на какой-нибудь ледяной пик и, напрягая зрение, глядели на север в надежде увидеть полюс, ибо они были уверены, что на этот раз мы достигнем его.
После короткого сна в ночь с 3 на 4 апреля мы снова двинулись в путь. Погода и дорога были даже еще лучше, чем накануне. Поверхность льда, если не считать редких торосистых гряд, была такая же ровная, как поверхность ледниковой кромки между мысом Хекла и мысом Колумбия, и тверже к тому же. Я радовался мысли, что, если хорошая погода продержится, я смогу достичь цели за намеченные пять переходов до полудня 6 апреля.
Мы снова шли 10 часов по прямой. Собаки часто трусили рысцой, а то и бежали, и за 10 часов мы отмахали не меньше 25 миль. В этот день со мной приключилась маленькая неприятность: я бежал рядом с упряжкой, оступился, и полоз саней проехал по моей правой ступне; однако повреждение было не настолько сильное, чтобы помешать мне ходить.
В конце перехода мы пересекли затянувшуюся полынью примерно в 100 ярдов шириной. Лед был такой тонкий, что, выбежав вперед, чтобы направлять собак, я был вынужден идти широкими скользящими шагами на медвежий манер – так лучше распределяется вес тела. Погонщики всецело положились на собак и пустили их бежать как вздумается, а сами перебирались скользящим шагом, где могли. Двое последних пересекали полынью на четвереньках.
Я с замиранием сердца следил за ними с другой стороны – следил за тем, как под тяжестью саней и людей прогибается лед. Когда одни сани приблизились к северному краю полыньи, их полоз прорезал лед, и я так и ждал, что сани вместе с собаками провалятся сквозь лед и пойдут ко дну. Но нет, этого не случилось.
Этот бросок воскресил в моей памяти тот день почти три года назад, когда мы, спасаясь от голодной смерти, пошли на отчаянный риск и пересекли Великую полынью по такому же ненадежному льду – льду, который прогибался под нами и который я несколько раз пробивал, скользя по нему на своих длинных лыжах. Тот, кто предпочитает ждать, пока лед станет действительно надежным, в этих широтах далеко не уйдет. Путешествуя по полярному льду, всегда приходится так или иначе рисковать. Человеку зачастую приходится выбирать между перспективой идти вперед и утонуть и перспективой стоять на месте и погибнуть от голодной смерти, и он бросает вызов судьбе, избирая то, что короче и не так мучительно.
В ту ночь мы все изрядно устали, но тем не менее были довольны своими успехами. Мы почти достигли 89-й параллели, и я записал в своем дневнике: «Дайте мне еще три дня такой погоды!» Температура в начале перехода была -40°. В ту ночь я свел всех слабых собак в одну упряжку и по мере необходимости стал забивать их и скармливать мясо остальным.
Мы остановились для короткого сна и рано вечером того же дня, 4 апреля, снова вышли в путь. Температура повысилась до -35°, дорога была такая же, однако сани всегда скользят легче при повышении температуры. Собаки большую часть времени трусили рысцой. К концу перехода мы подошли к замерзшей полынье, тянувшейся с севера на юг, и так как молодой лед был достаточно крепок, чтобы выдержать сани с упряжкой, мы катили по нему в течение 2 часов. Собаки бежали во весь опор, отмахивая мили так, что сердце радовалось. Легкий ветерок, в начале перехода дувший с юга, переменился на восточный и усиливался с каждым часом.
Я и мечтать не смел, что нам удастся так быстро продвигаться вперед. Однако это давалось нелегко. Выносить жгучий мороз было бы просто невозможно, если бы дух наш не был укреплен неуклонной устремленностью к цели. Резкий ветер обжигал наши лица, кожа трескалась, и еще долгое время после того, как мы забирались в иглу, лицо болело так, что едва можно было заснуть. Эскимосы жаловались на холод и на каждой стоянке туже запахивали свои меховые одежды, прикрывая лицо, поясницу, колени и запястья. Они жаловались и на то, что у них болят носы – такое я слышал от них впервые. Воздух был резок и жгуч, как замерзшая сталь.
На следующей стоянке я велел убить еще одну собаку. Минуло ровно шесть недель с тех пор, как мы покинули «Рузвельт», и у меня было такое ощущение, словно мы уже в виду цели. На следующий день я предполагал, если позволит погода и состояние льда, совершить длинный переход, «вскипятить чайку» и снова двинуться в путь без сна, чтобы попытаться наверстать 5 миль, потерянных 3 апреля.
На марше мое тело и ум были всецело сосредоточены на том, чтобы пройти как можно больше миль, и я не мог любоваться красотой замерзших пустынь, через которые мы проходили. Однако в конце дневного перехода, пока возводились иглу, я обычно располагал несколькими свободными минутами, чтобы оглядеться вокруг и осознать живописность окружающего ландшафта – неисследованной бесцветной, негостеприимной ледяной пустыни, в которой мы были единственными живыми существами. Только враждебный лед и еще более враждебная ледяная вода отделяли нашу затерявшуюся на карте мира стоянку от крайних оконечностей суши нашей матери-Земли.
Разумеется, я никогда не забывал, что, быть может, здесь нам и суждено сложить головы, и мир так никогда не узнает, насколько далеко мы зашли в завоевании неисследованных пространств безмолвной полярной пустыни. Но эта мысль не проникала в сознание. Надежда, бьющая вечным ключом в человеческой груди, всегда поддерживала во мне веру в то, что мы, безусловно, сможем вернуться по той же белой дороге, которой сюда пришли.
Иногда я взбирался на вершину ледяного пика к северу от лагеря и напряженно вглядывался в белизну горизонта, пытаясь вообразить себя уже на полюсе. Мы продвинулись так далеко, а каверзный лед чинил нам так мало препятствий, что теперь я осмеливался дать волю своей фантазии и лелеял образ, который до сих пор усилием воли изгонял из своего воображения – образ нас самих у цели.
Пока что нам очень везло с полыньями, но меня терзал постоянный страх, как бы не встретилась непроходимая полынья в самом конце. С каждым последующим переходом страх возрастал. Стоило нам подойти к какой-нибудь торосистой гряде, как я, задыхаясь, спешил к ней, в страхе, что за нею окажется полынья, а взобравшись на вершину гряды, с облегчением переводил дух – лишь только затем, чтобы так же спешить вперед к следующей гряде.
На стоянке 5 апреля я дал людям выспаться более основательно, чем на предыдущих ночевках, так как все мы были измотаны и нуждались в отдыхе. Я произвел определение широты. Наблюдения дали 89°25 северной широты, то есть мы находились в 35 милях от полюса, и я решил разбить следующий лагерь как раз в такое время, чтобы произвести полуденное определение широты, если будет солнце.
Еще до полуночи 5 апреля мы снова вышли в путь. День был пасмурный – тот же серый свет без теней, который мы наблюдали сразу после того, как Марвин повернул обратно. Небо было как бесцветная завеса, постепенно темнеющая почти до черного у горизонта, лед призрачного медово-белого цвета, совсем как на ледяном куполе Гренландии. Именно такие краски выбрал бы богатый воображением художник, чтобы изобразить полярный ледовый ландшафт. Куда девались сверкающие под голубым балдахином ледяные поля, освещенные солнцем и полной луной, по которым мы шли последние четыре дня!
Идти было еще легче, чем накануне. Снега на твердой гранулированной поверхности старых ледяных полей почти не было, а сапфирно-голубые озера были еще обширнее, чем прежде. Температура повысилась до -15°. Трение саней об лед уменьшилось, так что собаки, казалось, заразились общим приподнятым настроением. Некоторые из них даже вскидывали головы и лаяли на ходу.
Несмотря на сумрачность дня и тоскливый вид нашего окружения, по какой-то странной перемене чувств мой страх перед полыньями бесследно пропал. Теперь я был уверен в успехе и, несмотря на физическое истощение – результат форсированных маршей последних пяти дней, – без устали шел вперед и вперед. Эскимосы почти машинально следовали за мной, однако я понимал, что они-то должны чувствовать ту усталость, к которой меня сделал невосприимчивым мой возбужденный мозг.
Пройдя по моим расчетам полных 15 миль, мы устроили привал, напились чаю, позавтракали и дали отдохнуть собакам. Затем вышли в новый 15-мильный переход. За 12 часов пути мы прошли 30 миль. Многие непосвященные удивляются, почему нам удавалось идти быстрее после отсылки каждого вспомогательного отряда, в особенности последнего. Всем, кому приходилось управлять военными частями, это ясно без объяснений. Чем крупнее отряд и чем больше число саней, тем больше вероятность поломок и задержек по той или иной причине. Крупный отряд не может передвигаться с такой быстротой, как маленький.
Взять, например, полк. Полк не может за ряд форсированных маршей проходить в среднем за день столько, сколько проходит отборная рота. Рота не может проходить столько, сколько проходит отборное отделение. А отделение не может проходить столько, сколько проходит лучший ходок в полку.
Итак, учитывая, что мой отряд сократился до пяти отменных погонщиков, что каждый человек, собака и сани находились под моим личным наблюдением, что я сам шел во главе отряда, что все сознавали важность момента, требующего последнего максимального напряжения сил, – совершенно естественно, что мы увеличили скорость передвижения.
Когда Бартлетт покидал нас, мы практически заново отстроили сани и взяли себе лучших собак. К тому же мы понимали, что надо достигнуть цели и как можно скорее вернуться на материк. Погода нам благоприятствовала. В среднем дневной переход за все путешествие от суши до полюса превышал 15 миль. Мы неоднократно совершали переходы и по 20 миль. А после того как повернул обратно последний вспомогательный отряд, среднее наших пяти переходов составляло примерно 26 миль.
Наш последний марш на север закончился 6 апреля в 10 часов утра. Я сделал запланированные пять переходов от того места, где Бартлетт повернул обратно, и согласно счислению мы находились теперь в непосредственной близости к цели, к которой стремились. После обычных приготовлений к разбивке лагеря, примерно в полдень по местному времени, я произвел первое на нашей полярной стоянке определение высоты солнца по меридиану мыса Колумбия и вычислил широту. Наше местоположение было 89°57 северной широты.
Итак, закончился последний долгий переход нашего путешествия на север. Мы фактически были уже в виду полюса, но я слишком устал, чтобы сделать остающиеся несколько шагов. Усталость, копившаяся дни и ночи форсированных маршей, недосыпание, постоянная опасность и тревога – все это разом навалилось на меня. Я был слишком измотан и даже не мог осознать до конца, что цель моей жизни достигнута. Как только иглу были построены, мы пообедали, дали собакам двойной рацион, и я лег спать – сон был мне абсолютно необходим. Хенсон и эскимосы разгрузили сани и подготовили их к ремонту. Однако, несмотря на усталость, долго спать я не мог и проснулся через несколько часов. Проснувшись, я первым делом записал в дневнике: «Наконец-то полюс. Приз трех столетий. Мечта и цель 20 лет моей жизни. Наконец-то мой! Никак не могу в это поверить. Все кажется таким простым и банальным».

Привал на последнем маршруте
Я полностью подготовился к тому, чтобы произвести астрономическое наблюдение[36] в 6 часов вечера по меридиану мыса Колумбия, если небо будет чисто, но, к сожалению, небо в этот час было затянуто облаками. Однако все указывало на то, что вскоре должно проясниться, и тогда я с двумя эскимосами уложил на сани ящик с инструментом, банку пеммикана и две шкуры, взял двойную упряжку собак, и мы прошли на север еще миль десять. Небо тем временем очистилось, и в конце перехода я смог произвести ряд удовлетворительных астрономических наблюдений в полночь по меридиану мыса Колумбия. Наблюдения показали, что мы находимся за полюсом.
Все было странно в наших тогдашних обстоятельствах – странно до невозможности осмыслить их до конца, однако самым необычным для меня было то, что за несколько часов я перешел из Западного полушария в Восточное и удостоверился, что действительно нахожусь на вершине мира. Трудно было осознать, что первые мили нашего короткого перехода мы шли на север, а последние – на юг, хотя мы все время держались одного и того же направления. Трудно найти лучшую иллюстрацию к тому, что все на свете относительно. Заметьте себе и другое необычное обстоятельство: чтобы вернуться в лагерь, мы должны были идти несколько миль на север, а затем прямо на юг, держась при этом одного и того же курса.
Когда мы возвращались обратно по следу, который никто не видел и никто не увидит вновь, мною владели размышления, можно сказать, единственные в своем роде. Для нас не существовало ни востока, ни запада, ни севера; оставалось только одно направление – южное. Каждое дуновение ветра, с какой бы точки горизонта оно ни приходило, было южным ветром. День и ночь здесь соответствовали году, а 100 дней и ночей – веку. Если бы мы оставались здесь в течение 6 месяцев полярной ночи, мы бы видели все звезды Северного полушария кружащими по небосклону на одном и том же расстоянии от горизонта с Полярной звездой фактически в зените.
В течение всего времени нашего обратного пути к лагерю солнце продолжало кружить по своему извечному кругу. В 6 часов утра 7 апреля, снова прибыв в Кэмп-Джесеп, я еще раз произвел ряд наблюдений. Они показали, что мы находимся в 4 или 5 милях от полюса в сторону Берингова пролива. Поэтому на легко груженных санях с двойной упряжкой я покрыл по направлению к солнцу расстояние в 8 миль и, вновь вернувшись в лагерь, в полдень 7 апреля провел ряд окончательных и вполне удовлетворительных астрономических наблюдений по меридиану мыса Колумбия.[37] Их результаты в основном совпадали с результатами наблюдений, которые я произвел на этом же месте 24 часа назад.
К этому времени я произвел всего тринадцать ординарных, или шесть с половиной двойных, наблюдений солнца на двух разных станциях в трех разных направлениях в разное время. Температура во время этих наблюдений держалась между 11 и 30° ниже нуля по Фаренгейту, погода стояла ясная и безветренная (за исключением наблюдения, сделанного 6 апреля).
Я допускал погрешность в своих наблюдениях приблизительно в 10 миль, поэтому, пересекая лед в различных направлениях, я в какой-то момент должен был пройти ту точку[38] или очень близко от нее, где север, юг, восток и запад сливаются воедино.

Отряд, достигший Северного полюса, приветствует американский флаг.
7 апреля 1909 г.
Слева направо: Укеа, Ута, Хенсон, Эгингва, Сиглу
Разумеется, наше прибытие к столь труднодоступному месту назначения не обошлось без некоторых довольно-таки простых церемоний, которых мы заранее не продумывали. Мы водрузили на верхушке мира пять флагов. Первым был шелковый американский флаг, который сшила мне жена 15 лет назад. Флаг этот побольше любого другого попутешествовал в высоких широтах. Я брал его с собой, обвернув вокруг тела, во все свои полярные экспедиции и оставлял кусочек во всех самых северных пунктах, которых достигал. Это были, последовательно, мыс Моррис-Джесеп, самая северная оконечность суши исследованного мира; мыс Томас-Хаббард, самая северная из известных оконечностей Земли Джесепа, к западу от Земли Гранта; мыс Колумбия, самая северная оконечность североамериканских земель; и крайний северный пункт, до которого я дошел в 1906 год, – 87°6 северной широты, – во льдах Полярного моря [Северного Ледовитого океана]. К тому времени, как флаг попал на полюс, он уже несколько истрепался и полинял.

Пять флагов на полюсе
Слева направо: Укеа держит флаг Военно-морской лиги, Ута – флаг братства Дельта-Каппа-Эпсилон, Хенсон – флаг Северного полюса, с которым Пири не расставался 15 лет, Эгингва – флаг организации «Дочери американской революции», Сиглу – флаг Красного Креста
Широкой диагональной полосе этого стяга теперь суждено было отметить самую далекую цель на Земле – место, куда я вступил со своими смуглыми спутниками.
Я также счел нужным водрузить на полюсе флаг братства Дельта-Каппа-Эпсилон, в члены которого я был посвящен в бытность выпускником Боудонского колледжа, красно-бело-синий «Всемирный флаг свободы и мира», флаг Военно-морской лиги и флаг Красного Креста.
Водрузив на льду американский флаг, я велел Хенсону подготовить с эскимосами троекратное «ура!», которое они и исполнили с величайшим воодушевлением. Затем я пожал руки всем участникам отряда – простая церемония, которую одобрят наиболее демократически настроенные люди. Эскимосы радовались нашему успеху, как дети. Разумеется, не понимая в полной мере смысла события, они все же понимали, что оно означает окончательное завершение работы, за которой видели меня много лет.
Затем в щель между ледяными глыбами торосистой гряды я вложил бутылку с диагональной полосой моего флага и записками следующего содержания:
90° северной широты. Северный полюс. 6 апреля 1909 года. Прибыл сюда сегодня, после 27 переходов с мыса Колумбия.

Гренадеры мыса Моррис-Джесеп
Со мной пять людей: Мэттью Хенсон – цветной, Ута, Эгингва, Сиглу и Укеа – эскимосы; у нас 5 саней и 38 собак. Мой корабль «Рузвельт» находится на зимней стоянке на мысе Шеридан, в 90 милях восточнее мыса Колумбия.
Возглавляемая мною экспедиция, успешно достигшая Северного полюса, находится под покровительством Арктического клуба Пири, Нью-Йорк; экспедиция снаряжена и отправлена на Север друзьями и членами клуба с целью завоевать этот географический приз, если окажется возможным, к чести и престижу Соединенных Штатов Америки. Руководители клуба: Томас Хаббард (Нью-Йорк), председатель; Зенас Крейн (Массачусетс), вице-председатель; Герберт Бриджман (Нью-Йорк), секретарь и казначей.
Завтра отправляюсь обратно на мыс Колумбия.
Роберт Э. Пири, Военно-морской флот США 90° северной широты, Северный полюс. 6 апреля 1909 года.
Сегодня я водрузил национальный флаг Соединенных Штатов Америки в этом месте, где, согласно моим наблюдениям, проходит северополярная ось Земли, и тем самым заявил права владения на всю эту и прилегающую область от имени и во имя президента Соединенных Штатов Америки.
В знак владения оставляю здесь эту запись и флаг Соединенных Штатов.
Роберт Э. Пири, Военно-морской флот США
Если бы человек мог дойти до 90° северной широты не будучи бесконечно измученным телом и душой, на его долю, несомненно, выпали бы единственные в своем роде ощущения и размышления. Однако достижение Северного полюса явилось для нас кульминационным пунктом многих дней и недель форсированных маршей, физических лишений, недосыпания и изматывающей душу тревоги. Самой природой мудро предусмотрено, что человеческое сознание может вместить лишь такую степень сильнейших переживаний, какую может выдержать его мозг, а мрачные стражи отдаленнейшей точки Земли не допускают к ней ни одного человека, не подвергнув его предварительно самым суровым испытаниям.
Быть может, это покажется странным, но, убедившись, что мы действительно достигли цели, я жаждал лишь одного – спать. Однако после нескольких часов сна мною овладело состояние экзальтации, сделавшее дальнейший отдых невозможным. Более 20 лет эта точка земной поверхности была объектом всех моих устремлений. Достижению ее я посвятил душу и тело. Много раз моя жизнь и жизнь моих спутников подвергалась опасности. Эта цель поглощала силы и средства мои и моих друзей. Это было мое восьмое путешествие в Арктику. В ее ледяных пустынях я провел около 12 лет в периоде между 30-м и 53-м годами жизни, а в промежутках между экспедициями, в мире цивилизации, был преимущественно занят подготовкой к следующему походу. Решимость достичь полюса до такой степени вошла в мою плоть, что, как ни странно это прозвучит, я уже давно перестал рассматривать себя иначе, как орудие достижения этой цели. Обывателю это покажется странным, но меня хорошо поймет изобретатель, художник или вообще человек, всю свою жизнь посвятивший служению одной идее.
Тем не менее, хотя за те 30 часов, что мы провели на полюсе, мой ум и был почти беспрерывно занят радостной мыслью о том, что мечта моей жизни сбылась, меня все же с пугающей отчетливостью посещало воспоминание о других временах – воспоминание о том дне три года назад – 21 апреля 1906 года, – когда после битвы со льдом, открытой водой и бурями возглавляемая мною экспедиция была вынуждена повернуть назад с 87°6 северной широты из-за недостатка продовольствия. Контраст между страшной депрессией того дня и блаженством нынешней минуты составлял отнюдь не самую последнюю приятную черту нашего кратковременного пребывания на полюсе. В мрачные моменты нашего возвращения на материк в 1906 году я говорил себе, что я лишь один в длинном списке исследователей, берущем начало в веках и включающем имена Генри Гудзона и герцога Абруццкого, Франклина, Кейна и Мелвилла, – длинном списке мужественных людей, боровшихся и потерпевших поражение. Я говорил себе, что ценою лучших лет моей жизни я сумел добавить лишь несколько звеньев к цепи, ведущей с параллелей цивилизации к полярному центру, но что единственное слово, которое мне в конце концов суждено было начертать в книге моей жизни, это – поражение.
И вот теперь, четвертуя лед в различных направлениях от лагеря, я с трудом отдавал себе отчет в том, что после 23 лет борьбы и разочарований мне наконец удалось водрузить флаг своей страны в пункте, являвшемся объектом вожделений всего мира. Об этом нелегко писать, но я знал, что мы вернемся в цивилизованное общество с захватывающей приключенческой повестью, которую мир жаждал услышать на протяжении почти четырех столетий, – с повестью, которая будет рассказана под сенью звездно-полосатого флага – флага, который в моей одинокой и уединенной жизни стал для меня символом родины и всего того, что я любил – и, быть может, никогда не увижу вновь.
Хотя те 30 часов, что мы провели на полюсе, были целиком заполнены маршами и контрмаршами по льду, астрономическими наблюдениями и записями, я все же улучил минуту написать жене на американской открытке, которую нашел зимой на корабле. У меня было обычаем на важных этапах путешествия на север писать такие письма, с тем чтобы, случись со мной что-нибудь серьезное, эти краткие сообщения могли попасть к ней через руки уцелевших. Вот содержание открытки, которую миссис Пири получила впоследствии в Сидни:
90-я северная параллель, 7 апреля. Дорогая Джо!
Наконец-то я победил. Пробыл здесь день. Через час отправляюсь к вам домой. Привет ребяткам.
Берт
После полудня 7 апреля, выставив флаги и сделав несколько фотографических снимков, мы разошлись по своим иглу, чтобы немного поспать, прежде чем выйти в обратный путь на юг.
Спать я не мог, и два моих эскимоса – Сиглу и Эгингва, деливших со мной снежное жилище, судя по всему, тоже не могли успокоиться. Они ворочались с боку на бок, а когда, наконец, затихли, по их неровному дыханию я мог заключить, что они не спят. Хотя они не были* особенно взволнованы накануне, когда я сказал им, что мы достигли цели, все же и они были в том радостно приподнятом настроении, которое не давало мне заснуть.
В конце концов я встал и, сказав моим людям и тройке, занимавшей другой иглу и тоже не спавшей, что мы можем попытаться достичь нашего последнего лагеря примерно в 30 милях к югу, распорядился запрягать собак и готовиться к отъезду. Гораздо разумнее было воспользоваться хорошей погодой для путешествия, чем беспокойно метаться на снежных ложах.
Ни Хейсона, ни эскимосов торопить не пришлось. Теперь, когда с работой было покончено, они, естественно, жаждали как можно скорее вернуться на сушу. 7 апреля в 4 часа дня мы покинули наш лагерь у Северного полюса.
Хотя я с предельной отчетливостью сознавал, что я оставляю у себя за спиной, я не медлил и не затягивал свое прощание с целью всей моей жизни. Событие свершилось: люди вступили на недоступную дотоле вершину мира, и теперь мне предстояла работа на юге – от северного побережья Земли Гранта нас отделяли 413 морских миль льда и, возможно, открытой воды. Всего лишь взгляд через плечо – и я повернулся лицом к югу, к будущему.
Итак, 7 апреля в 4 часа дня мы покинули полюс. Я постарался, как мог, описать ту радость, которую испытал, достигнув этой отдаленнейшей точки земного шара, но, как ни велико было наше ликование, я покидал полюс не более чем с грустью, какую испытывает человек, говоря себе: «Этого места я уже больше никогда не увижу».
Наше удовлетворение по поводу того, что наконец-то мы отправились домой по обратному следу, несколько приглушалось отчетливым чувством тревоги перед тем, что нам еще предстояло. Наши планы в равной мере предусматривали не только достижение полюса, но и благополучное возвращение с него. Путешествие к Северному полюсу можно в известном смысле сравнить с проблемой, стоящей перед воздухоплавателями: оказывается, что летать не так уж трудно, гораздо труднее благополучно приземлиться.
Не следует забывать, что в экспедицию 1905–1906 годов с самой серьезной опасностью мы столкнулись не при движении на север, а на обратном пути от крайней северной точки нашего маршрута, когда подошли к неумолимой Великой полынье, грозившей стать местом гибели всего нашего отряда. Не следует забывать и о том, что, даже после того, как мы благополучно пересекли Великую полынью и с превеликим трудом выползли на негостеприимный берег северной Гренландии, мы насилу спаслись от голодной смерти.
Такие невеселые воспоминания владели нами, когда мы повернулись спиной к полюсу, и смею предположить, что каждый из членов нашего маленького отряда задавался вопросом, не ждут ли нас и на этот раз такие же испытания. Мы нашли полюс, но суждено ли нам вернуться и рассказать о нашем открытии? Прежде чем выйти в путь, я в кратких словах разъяснил своим спутникам, что нам совершенно необходимо достичь суши до следующего сизигийного прилива. К этому надо приложить все усилия. Отныне нам следует побольше находиться в пути, поменьше спать и торопиться каждую минуту. Я предполагал совершить все обратное путешествие двойными переходами, то есть покрывать расстояние одного перехода на север, завтракать и пить чай, снова делать переход, спать несколько часов и опять выходить в путь. На деле вышло так, что мы совсем не намного уклонились от этого плана. Точнее говоря, мы изо дня в день за три перехода на юг покрывали расстояние пяти переходов на север. С каждым выигранным днем уменьшалась опасность того, что ветер и подвижки льда уничтожат обратный след. Область льдов чуть выше 87-й параллели – область около 57 миль шириной – внушала мне серьезные опасения. Достаточно было 12 часов сильного ветра с любого направления, кроме северного, чтобы эта область превратилась в открытое море. Вот почему я вздохнул с облегчением, когда 87-я параллель осталась позади.
Возможно, читатель помнит, что, хотя экспедиция 1905–1906 годов, как и нынешняя, вышла к полюсу с северного побережья Земли Гранта, возвращалась она по другому маршруту и вновь достигла суши у Гренландского побережья. Это объяснялось тем, что лед, по которому мы шли, сильными ветрами отнесло далеко на восток от нашего первоначального маршрута. Однако на этот раз такой неприятности не случилось. След, по которому повторно прошли наши вспомогательные отряды, был по большей части легко узнаваем и хорошо сохранился. К тому же у нас было достаточно продовольствия для людей и собак, а что касается снаряжения, то им мы были обеспечены как для соревнований. Приподнятое настроение всех членов отряда также оказывало свое стимулирующее действие. Короче говоря, все нам благоприятствовало. Первые 5 миль обратного пути мы мчались во весь опор. Затем мы подошли к узкой трещине, заполненной молодым льдом, где можно было попытаться измерить глубину океана – у полюса это оказалось неосуществимым из-за толщины льда. Мы прорубили полынью и вытравили 1500 морских саженей проволоки, но дна не достали. При наматывании проволока оборвалась и вместе с лотом пошла ко дну. С потерей лота и проволоки деревянный барабан стал нам ни к чему, и мы выбросили его, облегчив сани Укеа на 18 фунтов. Первого лагеря, под 89°25 северной широты, мы достигли в хорошем темпе, и переход был бы просто приятен, если бы у меня не болели глаза из-за непрерывных астрономических наблюдений, проведенных накануне.
После нескольких часов сна мы вновь поспешили вперед. Эскимосы и собаки были очень бодры и веселы.
Начиная с этого лагеря я ввел систему кормежки собак соответственно пройденному расстоянию, то есть удваивал рацион при двойном переходе. Это стало возможным благодаря тому, что у нас имелся продовольственный резерв, заключавшийся в самих собаках, которым мы могли воспользоваться в случае серьезных задержек перед полыньями.
На следующей стоянке мы вскипятили чаю и пообедали в иглу, дали собакам отдохнуть, затем снова двинулись в путь. Погода стояла прекрасная, хотя все указывало на близкую перемену. Потребовалось собрать всю нашу силу воли, чтобы достичь следующих иглу, но мы их достигли и заснули сразу же, как только поужинали. Если бы нас не ждали впереди готовые иглу, сделать этот переход мы бы не смогли.
В пятницу 9 апреля день выдался бурный. Весь день дул сильный ветер с норд-норд-оста, к вечеру перешедший в штормовой; температура колебалась между 18 и 22° ниже нуля. Все полыньи, которые мы проходили по пути на север, значительно расширились, и образовались новые. Чуть севернее 88-й параллели мы наткнулись на полынью по меньшей мере с милю шириной; к счастью, вся она была затянута вполне проходимым молодым льдом. День был отнюдь не обнадеживающим. Всю вторую половину перехода под давлением завывающего шторма лед торосился вокруг нас и чуть ли не под самыми нашими ногами. Хорошо еще, ветер дул нам почти в спину – идти по следу против штормового ветра было бы невозможно. Собаки большую часть времени летели по ветру во весь опор. Под воздействием шторма лед, по-видимому, смещался на юг, унося нас с собой. Все это сильно напоминало мне яростный шторм, в который мы достигли «штормового лагеря» на обратном пути в 1906 году К счастью, боковых подвижек льда не наблюдалось, иначе нам грозили бы серьезные неприятности. Вечером, когда мы стали лагерем под 87°47'северной широты, я записал в своем дневнике: «Путь отсюда к полюсу и обратно напоминает победоносный бег на короткую дистанцию с жестоким финишем. Вот плоды упорной работы, недосыпания, долголетнего опыта, превосходного снаряжения и везенья на погоду и открытую воду».
За ночь шторм выдохся и мало-помалу утихомирился, оставив после себя очень пасмурную погоду. Все сходились на том, что свет очень неприятен для глаз. След почти невозможно было разглядеть. Хотя температура была всего 10° ниже нуля, в этот день мы смогли пройти лишь часть маршрута, соответствовавшую последнему переходу Бартлетта. Больше мы и не пытались пройти: гонка стала сказываться на собаках, а между тем хотелось бы, чтобы на следующий день они были в наилучшей форме, так как я предвидел встречу с молодым льдом и все связанные с этим трудности. Здесь нам пришлось пристрелить несколько собак. Всего их оставалось у нас 35 штук.
В воскресенье 11 апреля день был ясный; солнце вышло из-за туч вскоре после того, как мы тронулись в путь. Ветра почти не было, солнце, казалось, даже припекало и сверкало невыносимо ярко. Если б не дымчатые очки, нам пришлось бы страдать от снежной слепоты. Несмотря на ожидание неприятностей, с каким мы начали переход, мы были приятно разочарованы. Когда мы проходили здешними местами на север, вся эта область была покрыта молодым льдом, и мы естественно предполагали, что найдем здесь открытую воду или что в лучшем случае след будет стерт. Однако подвижки льда были не настолько значительны, чтобы разорвать его. А боковых подвижек льда – в восточном и западном направлениях – пока что вообще не наблюдалось. Собственно, это и являлось как бы обусловленной самой природой счастливой чертой нашего обратного похода и главной причиной, почему у нас было так мало осложнений в пути. Мы остановились пообедать у иглу, построенного перед полыньей, и не успели покончить с обедом, как лед у нас за спиной вскрылся. Мы пересекли замерзшую полынью как раз вовремя. Вблизи лагеря мы заметили свежие следы песца: зверька, вероятно, вспугнуло наше приближение.
Воодушевленные удачей, мы вновь двинулись в путь и, закончив двойной переход, стали лагерем у самой 87-й параллели. В тот вечер я сделал запись в своем дневнике, которую, быть может, стоит здесь привести. Она гласила: «Завтра надеюсь достичь иглу, от которого Марвин повернул на материк. Буду рад снова выбраться там на большой лед. Не далее как в феврале и начале марта вся эта область была открытой водой; теперь она затянута молодым льдом, крайне ненадежным для передвижения. Несколько часов крепкого восточного, западного или южного ветра – и вся эта область станет открытой водой на протяжении 50–60 миль к северу и югу и неизвестно на сколько – в восточном и западном направлении. Здесь можно пройти только при такой погоде или северном ветре».
В результате этого двойного перехода мы достигли «лагеря герцога Абруццкого» под 86°38 северной широты, – мы назвали его так в честь крайнего северного пункта, достигнутого герцогом Абруццким. След в нескольких местах прерывался, но мы каждый раз без особого труда находили его.
Следующий день выдался резко неприятный. Свежий юго-западный ветер дул нам в лицо, плевался снегом, коловшим кожу, словно иголками, и норовил забраться в малейшую прореху в одежде. Но мы страшно обрадовались, что оставили позади молодой лед, и все это казалось нам сущими пустяками. Остановились мы в «лагере Нансена», названном так в честь этого великого исследователя.

Профессор Марвин кнутом погоняет свою эскимосскую упряжку
Казалось, наше обратное путешествие, как нарочно, изобиловало контрастами, ибо на следующий день ярко светило солнце и было абсолютно безветренно. Однако, несмотря на хорошую погоду, собаки были почти без сил. Они двигались только шагом, хотя сани были нагружены совсем легко, и мы никак не могли пустить их бегом. Эскимосы также как будто несколько сдали, и я счел за благо совершить одинарный переход вместо двойного.
После хорошего сна мы вновь вышли в путь, намереваясь проделать двойной переход, и тут стало сказываться действие ветра. Еще до того, как мы покинули лагерь, лед вокруг нас начал трещать и стонать. У самого лагеря открылась полынья, и нам пришлось переправляться через нее на льдинах.
Между этим и следующим лагерем под 85°48 северной широты мы нашли три иглу, где Марвин и Бартлетт отсиживались перед широкими полыньями, которые были теперь затянуты льдом. По особенностям конструкции иглу эскимосы признали в них работу людей из отрядов Бартлетта и Марвина. Эскимосы почти всегда могут безошибочно определить, кто строил иглу. Хотя все иглу строятся примерно одинаково, они тем не менее носят приметы индивидуального мастерства, которые легко узнают умудренные опытом дети Севера.
В течение первого дня перехода мы шли по сильно разорванному следу – под действием ветра лед вскрывался во всех направлениях, и часть пути нам приходилось бежать; собаки прыгали с льдины на льдину. Во время второго перехода мы видели свежий медвежий след – очевидно, того же самого животного, чей след видели по пути на север. Вдоль всего маршрута нам попадались многочисленные трещины и узкие разводья, но мы пересекали их без особенных задержек.
Встретилась нам и полынья в милю шириной, образовавшаяся после того, как мы прошли этими местами на север. Молодой лед, затянувший ее, теперь взламывался. Возможно, мы рисковали здесь, возможно, нет. Одно было в нашу пользу: у нас было значительно меньше груза, чем по пути на север, и мы могли стремительно перебрасывать сани по молодому льду, который в следующий момент уже не выдержал бы их веса». Во всяком случае, необычность происходящего не бросала нас в дрожь и не вызывала перебоев пульса. Мы восприняли эту переправу как нечто само собой разумеющееся, как часть дневной работы.
Когда мы покидали лагерь, где останавливались на обед, на юге поднялась густая, черная, грозная туча, и мы уже почти ждали шторма, но ветер упал, и в следующий лагерь, где Марвин произвел промер глубины моря на 700 морских саженей и потерял проволоку вместе с ледорубами, мы прибыли при тихой, ясной, солнечной погоде, проделав 18-часовой переход. Мы были теперь приблизительно в 146 милях от суши.
Итак, мы в отличной форме скатывались с горки, именуемой Северный полюс, и за следующий двойной переход, 16–17 апреля, добрались до нашего одиннадцатого лагеря по пути на север, расположенного под 85° 8 северной широты, в 121 миле от мыса Колумбия. За этот переход мы пересекли семь полыней, что вкупе с неоднократными разрывами следа снова удлинило переход до 18 часов.
В воскресенье 18 апреля мы по-прежнему спешили по следу, проложенному Марвином и Бартлеттом. Они потеряли основной след, но для нас это не имело значения, если не считать дополнительной затраты времени. На основном следу мы могли бы делать более длинные переходы, так как там мы останавливались бы на отдых в иглу, построенных по пути на север, и нам не приходилось бы строить для себя новые. Итак, это был еще один 18-часовой переход. Он имел тихое и теплое начало, но, поскольку речь шла обо мне лично, крайне неприятный конец. Дело в том, что за день моя одежда отсырела от пота. К тому же продолжительные переходы и короткие ночевки вернули нас к календарному дню, мы шли теперь все время на солнце. Поэтому от солнца, а также от юго-восточного ветра все мое лицо горело и было сведено судорогой. Однако я утешал себя мыслью, что мы находимся теперь менее чем в 100 милях от суши. Я старался забыть о болящей плоти, глядя на материковые тучи, которые были видны с места нашей стоянки. Принять их за что-либо другое никак невозможно – они висят над материком постоянно и образуются в результате конденсации влаги, поднимающейся с суши в верхние слои атмосферы. А завтра – мы были в этом уверены – мы сможем увидеть исаму сушу.
Между тем собаки опять казались совершенно обессиленными. Три из них окончательно выбыли из игры. Мы выдали собакам усиленный рацион и задержались в этом лагере подольше, отчасти из-за собак, отчасти затем, чтобы вновь вернуться к «ночным» переходам – таким, когда солнце светит нам в спину.
Весь следующий переход, с воскресенья на понедельник 18–19 апреля, погода оставалась ясная, и мы по-прежнему шли, укладываясь в составленное мной расписание. Длительный сон накануне освежил и нас, и собак, и в час дня мы со свежими силами вышли в путь. В четверть третьего мы миновали иглу Бартлетта на северной стороне огромной полыньи, образовавшейся уже после того, как мы прошли здесь на север. Пересечение полыньи заняло немногим более 2 часов.
Только около 11 часов вечера нам удалось вновь отыскать основной след, проложенный Хенсоном во время его первого авангардного перехода. Когда, идя далеко впереди саней, я нашел его и просигнализировал об этом моим спутникам, они чуть с ума не сошли от радости. Область, через которую мы только что прошли, в последнее полнолуние была открытым морем, и достаточно было свежего ветра любого направления, кроме северного, чтобы она вновь стала таковым, а при подвижках льда под воздействием северного ветра она превратилась бы в неровную поверхность, напоминающую битое зеркальное стекло.
Читателю, быть может, покажется странным, что при обратном движении в однообразной ледяной пустыне мы могли различать и узнавать отрезки маршрутов, пройденных нами по пути на север. Но как я уже говорил, эскимосы определяют, кто построил или хотя бы занимал тот или иной иглу, в силу того же инстинкта, благодаря которому перелетные птицы узнают свои старые прошлогодние гнезда, а я сам столько странствовал по арктическим просторам и так долго жил среди этих щедро наделенных интуицией детей природы, что приобрел почти такое же острое чувство местности, как у них.
В полночь мы миновали место, где Эгингва по пути на север оставил обломки саней, и в 3 часа утра 19 апреля подошли к иглу, от которых Макмиллан и Гудсел повернули обратно. За 15 с половиной часов мы прошли расстояние трех авангардных переходов отряда Хенсона.
В тот день еще одна собака совершенно выбилась из сил, и ее пришлось пристрелить. Таким образом, у нас осталось всего 30 собак. В конце перехода вдали на юге показались очертания гор Земли Гранта, и это зрелище взволновало нас до глубины души. Наверное, с такой же радостью смотрят потрепанные морем матросы на берега родной земли.
На следующий день мы совершили еще один двойной переход. Мы вышли в путь под вечер, достигли шестого лагеря, считая от суши, «вскипятили чайку» и легко пообедали, а затем снова двинулись дальше и рано утром 20 апреля достигли пятого лагеря.
До сих пор мы шли словно во власти волшебных чар, охранявших нас от всех трудностей и опасностей. В то время как Бартлетт, Марвин и, как я позже узнал, Боруп подолгу задерживались перед открытой водой, нас ни одна полынья не задерживала более чем на 2 часа. Иной раз лед был достаточно прочен, чтобы по нему можно было идти; иной раз мы шли в обход; иной раз пережидали, пока полынья не закроется; иной раз переправлялись на льдинах, как на пароме. Но каков бы ни был способ переправы, мы пересекали полыньи без особых затруднений.
Казалось, будто дух-хранитель полярной пустыни, наконец-то побежденный человеком, признал свое поражение и удалился с поля битвы.
Однако теперь мы вступали в зловещую сферу влияния Великой полыньи. В пятом лагере, считая от мыса Колумбия (в первых иглу, построенных к северу от Великой полыньи), мне довелось провести в высшей степени беспокойную ночь – у меня появился ряд неприятных симптомов, по которым я определил у себя ангину. Единственным утешением было то, что мы быстро приближались к материку. Через три, в крайнем случае, через четыре дня, если не случится никакого несчастья, мы вновь вступим на сушу. Я черпал утешение в этой приятной мысли, хотя у меня сильно болело горло и я мучился бессонницей.
Итак, мы находились поблизости от Великой полыньи, которая на много дней задержала нас по пути на Север и едва не явилась местом гибели всей моей экспедиции в 1906 году. Вот почему я ожидал неприятностей в переход 20–21 апреля, и мои опасения сбылись. Хотя Великая полынья была покрыта льдом, оказалось, что при своем возвращении Бартлетт потерял здесь первоначальный след и уже больше не находил его. Поэтому оставшуюся часть пути нам пришлось идти не по хорошо наезженному следу, проложенному при движении на Север, а по одиночному следу Бартлетта. Впрочем, жаловаться было бы грешно. До сих пор мы шли по хорошо пробитому следу и потеряли его всего лишь в 50 милях от суши.
Для меня этот переход был самым мучительным на обратном пути. Я проделывал его после бессонной ночи в холодном иглу. К тому же моя одежда была влажна от пота, у меня болела щека и непрерывно стучало в голове, хотя к концу перехода оказал свое действие хинин, который я принял накануне, так что вскоре после того, как мы достигли иглу капитана, худшие из симптомов прошли. Однако переход дался нам нелегко. В довершение всех невзгод собаки, казалось, совершенно выбились из сил и пали духом.
Чудесная погода, сопутствовавшая нам последние несколько дней, удержалась и на следующий день. Погода, без преувеличения сказать, стояла просто замечательная. Мы шли 6 часов, остановились на обед, затем тащились дальше еще шесть часов. Нам то и дело попадались свежие следы медведей и зайцев, а также многочисленные следы песцов. Во время перехода не было особых происшествий, если не считать двух узких полыней, которые мы пересекли по тонкому, молодому льду. Весь день солнце припекало и невыносимо слепило глаза. Идти против солнца было бы практически невозможно, так свирепы были его лучи. Однако температура весь день держалась между 18 и 30° ниже нуля.
Последний переход, после которого мы вышли на сушу, начался в 5 часов вечера все при той же ясной, тихой, солнечной погоде. Неподалеку от лагеря мы наткнулись на непроходимую полынью; след капитана выходил на нее. При тщетной попытке пересечь ее одна из наших упряжек угодила в воду. В конечном счете полынья забирала на восток; мы отыскали след капитана и по нему обогнули полынью.
Чуть подальше мы увидели край ледниковой кромки и остановились, чтобы сделать несколько фотографических снимков. Еще до полуночи весь отряд достиг ледниковой кромки Земли Гранта. Полярный лед остался позади, мы фактически вступили на твердую землю. Когда последние сани подкатили к почти вертикальной стене ледниковой кромки, я подумал, что все мои эскимосы сошли с ума. Они кричали, вопили и прыгали, пока без сил не свалились на лед. Садясь в сани, Ута сказал по-эскимосски: «Черт или спит, или ссорится с женой, не то мы бы не вернулись так легко обратно». Мы остановились на обед, напились чаю ad libitum [вволю], затем снова двинулись дальше и шли без остановок до самого мыса Колумбия.
Почти ровно в 6 часов утра 23 апреля мы достигли иглу «Крейн-сити» на мысе Колумбия – это был конец всей нашей работы. В тот день я сделал следующую запись в своем дневнике:
«Труд моей жизни закончен. Я сделал то, что мне с самого начала суждено было сделать, что, по моему мнению, можно было сделать, и что я мог сделать. Я выколотил Северный полюс из своей системы после 23 лет настойчивых усилий, упорной работы, разочарований, трудностей, лишений, страданий и некоторого риска. Я завоевал последний великий географический приз – Северный полюс к чести Соединенных Штатов. Моя работа является завершением, кульминационным пунктом почти четырех столетий настойчивых усилий, человеческих жертв и финансовых затрат со стороны цивилизованных стран мира; она была проделана чисто по-американски. Я доволен».
Возвращение с полюса было осуществлено в 16 переходов, а все путешествие с суши до полюса и обратно заняло 53 дня, или 43 перехода. Возвращение оказалось на удивление легким по сравнению с прошлыми экспедициями – сказывался опыт и совершенство одежды и снаряжения, но будь погода чуточку иной – и нам пришлось бы рассказать иную повесть. Не было человека в нашем отряде, который не радовался бы тому, что мы оставили позади предательскую полынью и безграничные пространства тонкого, молодого льда; если бы штормовой ветер превратил их в открытое море между нами и сушей, наше возвращение было бы по меньшей мере опасным.
По всей вероятности, никто из членов нашего отряда не забудет, как мы спали на мысе Колумбия. Мы славно проспали почти целых два дня, а в краткие промежутки между сном занимались исключительно набиванием животов и просушкой одежды.

За 23 года пребывания в Арктике усы Роберта Пири начали белеть не только от инея
Затем мы вышли в путь к кораблю. Наши собаки, как и мы сами, не были голодны, когда мы выбрались на сушу. Они просто валились с ног от усталости. Теперь это были совсем другие животные. Лучшие из них выступали с завитыми колечком хвостами и высоко поднятыми головами. Их стальные ноги с размеренностью поршней отталкивались от снега, черные носы вбирали отрадный запах суши.
За один переход в 45 миль мы достигли мыса Хекла, а еще за один такой же переход – «Рузвельта». Сердце мое затрепетало, когда, обогнув мыс, я увидел черное суденышко, лежавшее на своем ледовом ложе и смотревшее носом прямо на полюс. Мне вспомнилось то, другое, возвращение три года назад, когда мы, отощалые, обогнули мыс Роусон по пути с гренландского побережья, и вид стройных мачт «Рузвельта», вонзавшихся в солнечное арктическое небо, показался мне самым прекрасным зрелищем на свете.
Когда мы приблизились к кораблю, через поручни на лед спрыгнул Бартлетт и пошел нам навстречу вдоль кромки припая. По выражению его лица я понял, что у него дурные новости.
– Вы уже знаете о бедном Марвине? – спросил он.
– Нет, – ответил я.
И тут он сказал, что Марвин утонул в Великой полынье, возвращаясь на мыс Колумбия. Эта новость ошеломила меня, убила всю радость при виде корабля и капитана. Какая горечь в чаше победы! Сперва я никак не мог поверить, что никогда больше не увижу человека, который многие месяцы, невзирая на опасности и лишения, работал бок о бок со мной, чей труд и пример в большой мере способствовал успеху всей экспедиции. Подробности его смерти навсегда останутся покрыты мраком. Он был один, когда предательский молодой лед, лишь недавно затянувший полосу открытой воды, подломился под ним. Он был единственным белым в возглавляемом им вспомогательном отряде, с которым возвращался на сушу. Как обычно, снявшись с лагеря, он вышел вперед, предоставив эскимосам укладывать вещи, запрягать собак и следовать за ним. Подойдя к Великой полынье, по краям которой нарос достаточно крепкий и безопасный лед, он, вероятно, поспешил вперед, не замечая, что к центру полыньи лед постепенно утончается, и очутился в воде, когда было уже поздно. Эскимосы шли слишком далеко позади, чтобы слышать его крики о помощи, и в ледяной воде смерть, должно быть, наступила очень скоро. Человек, никогда не боявшийся одиночества при исполнении своих обязанностей, встретил смерть в одиночку.
Придерживаясь его следа, эскимосы подошли к месту, где взломанный лед дал им первое указание на то, что произошло. Один из эскимосов рассказывал, что верх меховой куртки Марвина все еще виднелся на поверхности воды, а по состоянию льда у края полыньи можно было догадаться о том, что Марвин делал неоднократные попытки выбраться из воды, но лед был настолько тонок, что подламывался под ним, и он снова и снова оказывался в ледяной воде. Когда эскимосы подошли к полынье, он, вероятно, был уже давно мертв. Вытащить тело они, разумеется, не могли, так как не могли приблизиться к нему. Прекрасно понимая, что случилось с Марвином, они тем не менее со свойственным их расе ребяческим суеверием расположились поблизости лагерем в надежде, что он вернется. Однако время шло, белый не возвращался, и тогда Кудлукту и Харригана охватил страх. Они окончательно осознали, что Марвин утонул, и испугались, что его дух будет преследовать их. Поэтому они сбросили с саней вещи, принадлежавшие Марвину, чтобы дух мог найти их, если вернется, а сами во весь опор помчались к суше.
Спокойный, худощавый, с ясным взглядом, постоянно серьезный, Росс Марвин был для меня бесценным помощником. Долгие лихорадочные недели перед отплытием «Рузвельта» он работал не покладая рук, наблюдая за комплектованием и доставкой бесчисленных предметов снаряжения, – мы тогда все трое, он, Бартлетт и я, валились с ног от усталости. Во время плавания он всегда с одинаковой готовностью брался за любое дело, будь то проведение наблюдений на палубе или укладка груза в трюме. Когда мы приняли на борт эскимосов, своим добродушием, спокойной прямотой и физической силой он сразу же завоевал их дружбу и уважение. Он с самого начала умел как никто обходиться с этим удивительным народом.
Позднее, столкнувшись лицом к лицу с суровыми проблемами жизни и работы в Арктике, он решал их спокойно, без жалоб, с ровным неослабевающим упорством, которое всегда приводило к цели, и вскоре я узнал Росса Марвина как человека, который мог выполнить любую возложенную на него задачу. Он всецело ведал метеорологическим разделом экспедиции, а также наблюдениями за приливами и отливами и в течение долгой зимней ночи благодаря своей математической подготовке оказывал мне большую помощь в составлении плана санных переходов, переброски припасов и формировании вспомогательных отрядов. В весеннюю санную кампанию 1906 года он стоял во главе отдельного отряда. Когда яростный шторм, пронесшийся над Полярным морем, рассеял мои отряды, оставив их беспомощными в хаосе битого льда, отряд Марвина, как и мой собственный, находившийся еще дальше на севере, был отнесен к востоку и вышел на сушу у гренландского побережья, откуда Марвин благополучно привел своих людей к кораблю. Из экспедиции 1906 года Марвин вернулся опытным полярником, глубоко усвоившим основные принципы успешной работы в арктических областях; в экспедицию 1908 года он отправлялся ветераном, на которого можно было всецело положиться в любой критической ситуации.
Останки Росса Марвина покоятся далеко на севере в водах Ледовитого океана. На северном побережье Земли Гранта мы сложили ему памятник из камней. На верху памятника укреплена грубая дощечка с надписью:
Памяти Росса Марвина
(Корнеллский университет),
утонувшего в возрасте 34 лет
10 апреля 1909 года в 45 милях
к северу от мыса Колумбия
при возвращении с 86°38 северной широты
Кенотаф глядит с сурового берега на север, по направлению к тому месту, где Марвин принял смерть. Его имя пополнит славный список героев Арктики, в котором числятся имена Виллоби, Франклина, Зоннтага, Холла, Локвуда и других, кто умер в поле, и пусть скорбящим о нем будет хоть каким-то утешением сознание, что имя его нераздельно связано с завоеванием последнего великого географического трофея, ради которого представители всех цивилизованных народов на протяжении почти четырех столетий шли на страдания, борьбу и на смерть.
К счастью, сбрасывая на лед вещи Марвина, эскимосы не заметили небольшого брезентового свертка с его заметками. Среди них оказалась запись, – вероятно последняя, настолько характерная для его разумной преданности долгу, что считаю нужным привести ее здесь целиком. Как увидит читатель, она была сделана в тот день, когда я в последний раз видел его живым, – в день, когда Марвин повернул на юг с крайнего северного пункта своего маршрута.
«25 марта 1909 года.
Сегодня я отправляюсь обратно с третьим вспомогательным отрядом. Командир Пири продолжает путь на Север с отрядом из 9 человек на 7 санях со стандартным грузом и с 60 собаками. Люди и собаки в прекрасном состоянии. Капитан с четвертым и последним вспомогательным отрядом предполагает повернуть обратно через пять переходов.
22 марта и сегодня, 25 марта, производил астрономические наблюдения и определил наше местоположение. Копии данных наблюдений и расчетов прилагаются. Результаты наблюдений в полдень 22 марта – 85°48 северной широты; в полдень 25 марта – 86°38 северной широты. Расстояние, пройденное за три перехода, составляет 50 широты, в среднем 162/3 морских мили за переход. Погода нам благоприятствует, дорога хорошая и с каждым днем улучшается.
Росс Марвин,
Колледж гражданского строительства Корнеллского университета».
С тяжелым сердцем вошел я в свою каюту на «Рузвельте». Хотя мы и вернулись целыми и невредимыми, смерть Марвина напомнила об опасности, которая грозила всем нам, ибо каждый из нас побывал в полынье на том или ином этапе путешествия.
Несмотря на подавленность, вызванную страшным известием о гибели Марвина, в течение суток после возвращения я чувствовал себя настолько бодрым, что готов был, если понадобится, снова выйти на след. Но через сутки внезапно наступила реакция – неизбежный результат полной перемены рациона и атмосферы и замены непрерывного движения бездействием. У меня пропало всякое желание что-либо делать. Я насилу просыпался, чтобы поесть, и насилу отрывался от еды, чтобы поспать. Мой чудовищный аппетит не был следствием голода или недоедания, ибо на обратном пути с полюса мы не отказывали себе в еде. Мне просто казалось, что еда на корабле не обладает тем же насыщающим свойством, что пеммикан, и я не могу вместить в себя достаточно пищи, чтобы удовлетворить свой аппетит. Однако я остерегался наедаться до отвала и довольствовался тем, что ел понемногу, но часто.
Как ни странно, на этот раз у нас не распухали ступни и лодыжки, и через три или четыре дня мы стали чувствовать себя нормально.
Всякий, кто взглянет на снимки эскимосов, сделанные перед санным походом и после, быть может, полнее представит себе физические тяготы путешествия к полюсу и обратно и, вчитываясь в почти дневниковый отчет о нашем продвижении, извлечет из него наглядное представление о том мучительном, выматывающем труде, который мы стоически рассматривали как часть нашей повседневной работы, направленной к достижению цели.
Вернувшись на корабль и как следует отоспавшись, я первым делом вознаградил эскимосов за их верную службу. Они получили кто винтовку, кто дробовик с зарядами, патронами и шомполами, а также топоры, ножи и тому подобное, и они радовались, как дети, которым подарили бесчисленное множество игрушек. Среди вещей, которыми я время от времени снабжал их, пожалуй самыми важными были подзорные трубы – с их помощью они могли обнаруживать дичь на расстоянии. Четверка, дошедшая со мной до полюса, получила вдобавок вельботы, палатки и другие сокровища, когда я высаживал их у их поселений вдоль гренландского побережья на обратном пути.
Мое повествование подходит к концу. Вернувшись на «Рузвельт», я узнал, что Макмиллан и доктор Гудсел прибыли на корабль 21 марта, Боруп 11 апреля, эскимосы отряда Марвина 17 апреля, а Бартлетт 24 апреля. Макмиллан и Боруп еще до моего возвращения отправились на гренландское побережье, чтобы устроить там продовольственные склады на тот случай, если бы в результате смещения льда мне пришлось возвращаться через Гренландию, как в 1906 году. (Вернувшись на сушу, Боруп оставил для меня продовольственный склад у мыса Фэншо-Мартин, на побережье Земли Гранта, примерно в 80 милях западнее мыса Колумбия, предусмотрев смещение льда в обоих направлениях.)
Помимо того, Боруп с помощью эскимосов поставил на мысе Колумбия постоянный памятник, представляющий собой пирамиду из камней, над которой возвышается столб из досок с четырьмя указательными стрелами, направленными на север, юг, восток и запад. Все сооружение укреплено оттяжками из толстой проволоки. На каждой стреле имеется медная дощечка с надписью. Надписи гласят: восточная – «Мыс Моррис-Джесеп, 16 мая 1900 года, 275 миль»; южная – «Мыс Колумбия, 6 июня 1906 года»; западная – «Мыс Томас-Хаббард, 1 июля 1906 года, 255 миль»; северная – «Северный полюс, 6 апреля 1909 года, 413 миль». Ниже стрел, в рамке под стеклом для защиты от непогоды, помещена запись, гласящая:
Экспедиция к Северному полюсу Арктического клуба Пири, 1908 год
Пароход «Рузвельт», 12 июня 1909 года. Этот памятник обозначает место отправки и возвращения санной экспедиции Арктического клуба Пири, которая весной 1909 года достигла Северного полюса. В санном походе принимали участие: Пири, Бартлетт, Гудсел, Марвин,[39] Макмиллан, Боруп, Хенсо. Санные отряды вышли отсюда между 28 февраля и 1 марта и вернулись между 18 марта и 23 апреля.
Корабль экспедиции «Рузвельт» зимовал у мыса Шеридан, в 73 милях к востоку.
Р. Э. Пири,
Военно-морской флот США
Командир – Роберт Пири, Военно-морской флот США, глава экспедиции.
Капитан «Рузвельта» – Роберт Бартлетт.
Старший механик – Джордж Уордуэл.
Хирург – Джордж Гудсел.
Помощник – профессор Росс Марвин.
Помощник – профессор Дональд Макмиллан.
Помощник – Джордж Боруп.
Помощник – Меттью Хенсон.
Чарльз Перси – заведующий хозяйством.
Томас Гашью – помощник капитана.
Джон Коннорс – боцман.
Джон Коуди – матрос.
Джон Барнз – матрос.
Деннис Мэрфи – матрос.
Джордж Перси – матрос.
Бэнкс Скотт – помощник старшего механика.
Джеме Бентли – кочегар.
Патрик Джойс – кочегар.
Патрик Скинз – кочегар.
Джон Уайзмен – кочегар.
18-го числа Макмиллан и Боруп с пятью эскимосами на шести санях отправились на гренландское побережье для устройства там складов продовольствия на тот случай, если мне придется возвращаться через Гренландию, как в 1906 году, а также для производства наблюдений над приливами и отливами на мысе Моррис-Джесеп. Поэтому я тотчас послал к ним двух эскимосов с приспособлением для измерения глубин и запиской, в которой извещал об успешном завершении похода. В наши планы также входило послать Бартлетта сделать ряд промеров морских глубин на протяжении 10 или 5 миль между мысом Колумбия и лагерем № 8, чтобы получить поперечный профиль материковой отмели и глубокого подводного каньона вдоль нее, и Бартлетт уже приготовил все необходимое снаряжение. Однако я решил не посылать его, так как Бартлетт был не в наилучшей форме – у него сильно распухли ступни и лодыжки. Я сам до конца нашего пребывания на севере оставался абсолютно здоров, если не считать больного зуба, который мучил меня около трех недель.

Памятник, установленный на мысе Колумбия, показывает точку отправления на полюс и возвращения с него санной партии
Впервые за все мои экспедиции в Арктику я провел май и июнь на корабле. В предыдущие годы всегда оставалось какое-нибудь дело в поле, но на этот раз основная работа была завершена, надо было только систематизировать результаты. Тем временем эскимосы совершали короткие поездки по окрестностям, главным образом к складам продовольствия, устроенным между кораблем и мысом Колумбия, и доставляли неиспользованные запасы на судно. В промежутках между поездками эти небольшие экспедиции проделывали кое-какую интересную работу. Другие члены экспедиции уже завершили большую часть дополнительной работы в поле, однако у меня было много дел на борту корабля.
Примерно с 10 мая начала устанавливаться настоящая весенняя погода. В этот день мы с Бартлеттом приступили к весенней приборке судна. Мы осмотрели каюты, вычистили темные углы и просушили все, что нуждалось в просушке. Все шканцы были усеяны самыми разнообразными предметами. В тот же день началась и весенняя работа на судне: с дымовой трубы и вентиляторов были сняты зимние чехлы и команда стала готовиться к пуску машин.
Несколько дней спустя к «Рузвельту» подошел прекрасный белый песец и попытался взобраться на корабль. Один из эскимосов застрелил его. Животное вело себя очень странно, совсем как эскимосские собаки, когда на них находит умопомрачение. Эскимосы утверждают, что в районе Китового пролива песцы часто сходят вот так же с ума и иногда пытаются забраться в иглу. Эта болезнь северных собак и песцов хотя и является, по-видимому, своего рода помешательством, тем не менее как будто не имеет никакого отношения к водобоязни, так как не заразна.
Весенняя погода, хотя и вправду наступила, однако отличалась большим непостоянством. Например, в воскресенье 16 мая солнце пригревало, было тепло и снег исчезал словно по волшебству; вокруг корабля образовались лужи. А на следующий день дул упорный штормовой ветер с юго-запада, наносивший много мокрого снега, и день в целом выдался очень неприятный.
18 мая механики всерьез принялись за котлы. Четыре дня спустя вернулись двое эскимосов от Макмиллана, с мыса Моррис-Джесеп на побережье Гренландии. Они привезли от него письмо, в котором он сообщал подробности о своей работе. А 31-го прибыли и сами Макмиллан и Боруп. Все обратное путешествие с мыса Моррис-Джесеп – расстояние в 270 миль – они проделали за восемь маршей, проходя в среднем 34 мили за марш. Макмиллан рассказал, что он прошел от мыса Моррис-Джесеп до 84° 17 северной широты, измерил глубину моря, которая оказалась равной 90 морским саженям, и в течение десяти дней собирал данные о приливах и отливах. Они убили 52 мускусных быка и захватили с собой столько мяса и шкур, сколько могли увезти на санях.

Пирамида из камней, сложенная Р. Пири на мысе Моррис-Джесеп
В начале июня Боруп и Макмиллан по-прежнему были заняты делом. Макмиллан проводил наблюдения над приливами и отливами в Форт-Конгер, Боруп сооружал на мысе Колумбия вышеописанный памятник Марвину.
Проводя наблюдения в Форт-Конгер, в заливе Леди-Франклин, чтобы связать наши данные по приливам и отливам, полученные на мысах Шеридан, Колумбия, Брайант и Моррис-Джесеп, с данными экспедиции в залив Леди-Франклин в 1881–1883 годах, Макмиллан нашел остатки продовольственных запасов злополучной экспедиции Грили 1881–1884 годов: овощные консервы, картофель, кукурузу, ревень, пеммикан, чай и кофе. Как ни странно, по истечении почти четверти века многие из продуктов хорошо сохранились, и члены экспедиции не без удовольствия отведали их.
Среди находок был школьный учебник, принадлежавший лейтенанту Кислингбери, погибшему вместе с экспедицией Грили. На форзаце имеется надпись: «Моему дорогому отцу от любящего сына Гарри Кислингбери. Да хранит тебя Бог, чтобы ты благополучно вернулся к нам». На земле лежало старое пальто Грили, также хорошо сохранившееся, и, по-моему, Макмиллан даже надевал его.
Весь экипаж жил теперь ожиданием той поры, когда «Рузвельт» развернется носом на юг, к дому. 12 июня, вслед за нашей приборкой, последовала генеральная чистка у эскимосов. Все их имущество вынесли на палубу, стены, потолки и полы помещений начисто отмыли, продезинфицировали и побелили. Повсюду наблюдались приметы близящегося лета. Поверхность льда поголубела, дельта реки обнажилась, клочки голой земли на берегу чуть ли не с каждым часом увеличивались в размерах. Даже судно, казалось, чувствовало перемены и постепенно начало оправляться от крена – результата ледового сжатия в начале зимы. 16 июня прошел первый летний дождь, хотя на следующее утро лужи затянулись ледком. В этот день Боруп поймал теленка мускусного быка в окрестностях залива Маркем. Ему удалось привезти своего пленника живым на корабль, но уже на следующий вечер животное умерло, несмотря на все старания заведующего хозяйством спасти ему жизнь.
22 июня, в день летнего солнцестояния, в разгар арктического лета и самый длинный день в году, шел снег, но уже неделю спустя погода была почти как в тропиках, и мы все изнывали от жары, как ни странно это прозвучит. Полос открытой воды за мысом Шеридан становилось все больше, они увеличивались в размерах, и 2 июля прямо напротив мыса мы увидели внушительное озеро. 4 июля, День независимости, мог бы порадовать всех тех, кто ратует за «спокойный праздник».
В уважение к покойному Марвину, а также ввиду того, что праздник пришелся на воскресенье, мы обошлись без всего того, что обычно делается в этот день, – только расцветили корабли флагами, которые едва колыхались на ветерке. В этот день три года назад «Рузвельт» при штормовом южном ветре снялся со своей зимней стоянки почти на этом же самом месте; однако теперь, наученный опытом, я предпочел выждать до конца июля, чтобы дать вскрыться льду в проливах Робсон и Кеннеди.
Казалось, «Рузвельт» разделял наше нетерпение поскорее двинуться в путь – он продолжал мало-помалу выпрямляться, и четыре или пять дней спустя этот процесс сам собой завершился. 8-го числа мы закрепили нос и корму судна 8-дюймовым тросом на тот случай, если оно подвергнется сжатию до того, как мы будем готовы к отплытию. В тот же день мы всерьез принялись готовиться к обратному плаванию. Работа началась с погрузки на корабль угля, который, как читатель вероятно помнит, был выгружен на берег вместе с другими припасами в ту пору, когда мы стали на зимние квартиры, – выгружен на случай гибели судна в результате пожара, сжатия льдом и прочих непредвиденных обстоятельств. Приведение судна в готовность к обратному плаванию не требует подробного описания. Достаточно сказать, что весь состав экспедиции в течение 10 дней работал не покладая рук.
Наконец Бартлетт доложил, что судно готово к отплытию. По состоянию льда вблизи берега можно было предполагать, что пролив Робсон пригоден для навигации. Наша работа была завершена, наши усилия увенчались успехом, корабль был готов к плаванию, мы все были здоровы. 18 июля «Рузвельт» медленно вышел из-за мыса и вновь обратился носом на юг. Лишь память о трагически погибшем Марвине омрачала наше радостное настроение.
У мыса Юнион в соответствии с выработанным мной планом мы не стали держаться берега, а сразу ввели «Рузвельт» во льды и пошли серединой пролива. Для корабля типа «Рузвельта» это лучший способ быстрейшего возвращения домой.
До Бэттл-Харбор плавание протекало без особых происшествий. Разумеется, как и всякое плавание в этих водах даже при благоприятных условиях, оно требовало неусыпной бдительности и опыта ледовой навигации. 8 августа «Рузвельт» вышел из льдов и миновал мыс Сабин. О том, насколько важен опыт и насколько оправдал себя новый способ проведения судна по середине пролива, а не близко к берегу, можно судить по тому факту, что мы теперь опережали на 39 дней наш рекорд возвращения с мыса Шеридан в 1906 году, хотя вышли с мыса значительно позднее. На все плавание от мыса Шеридан до мыса Сабин у нас ушло времени на 53 дня меньше, чем в 1906 году.
Мы остановились у мыса Саумарес – исторической области эскимосов и, спустив шлюпку, высадились на берег. Там я впервые услышал об эволюциях доктора Кука, предпринятых им в прошлом году, пока его не было в Аноратоке. 17 августа мы прибыли в Эта. Там я узнал дальнейшие подробности эволюции доктора Кука во время его пребывания в тех краях.
В Эта мы взяли на борт Гарри Уитни, который провел здесь зиму в охоте. Помимо того, мы добыли 70 с лишним моржей для эскимосов, которых развезли по домам в те места, откуда забрали их прошлым летом.
Все они были как дети, но они хорошо нам служили. Порою они действовали нам на нервы и злоупотребляли нашим терпением, но в конечном счете все они были преданными, исполнительными работниками. Не следует забывать к тому же, что я знал каждого члена племени на протяжении почти четверти века и в конце концов стал относиться к ним с теплотой и личной заинтересованностью, которую всякий должен чувствовать к представителям низшей расы, привыкшим уважать его и доверяться ему на протяжении большей части своей взрослой жизни. Мы оставили их в обладании простейшими предметами, необходимыми для жизни в Арктике, каких у них никогда не было прежде, меж тем как те, кто участвовал в санном походе, а также в зимней и весенней работе на северном побережье Земли Гранта, вообще обогатились за счет наших подарков настолько, что стали своего рода миллионерами Арктики. Я, разумеется, понимал, что, по всей вероятности, расстаюсь с ними навсегда. Сознание успеха смягчало это ощущение, но все же я испытывал величайшее сожаление, бросая последний взгляд на этих странных и преданных людей, которые так много для меня значили.
Мы покинули мыс Йорк 26 августа, а 5 сентября бросили якорь в Индиан-Харбор. Отсюда я первым делом послал телеграмму жене: «Наконец-то добился успеха. Полюс мой. Здоров. Привет». Вслед за ней полетела телеграмма Бартлетта матери и среди прочих телеграмма секретарю Арктического клуба Пири Бриджману: «Солнце», что на нашем шифре означало: «Достиг полюса. «Рузвельт» цел и невредим».

«Рузвельт» 12 сентября 1909 г.
Три дня спустя мы прибыли в Бэттл-Харбор. 13 сентября, проделав расстояние в 475 миль, туда пришел из Сидни (мыс Бретон) океанский буксир «Дуглас Томас». На его борту находились представители Ассошиэйтед пресс Риган и Джеффердс. Я приветствовал их словами: «Это новый рекорд в газетно-издательском деле, и я ценю такую любезность». Еще три дня спустя туда прибыло кабельное судно канадского правительства «Тириан» под командой капитана Диксона с 23 специальными корреспондентами на борту. Они были поспешно направлены на север, как только в Нью-Йорке получили наши первые сообщения. А 21 сентября, подходя к городку Сидни (мыс Бретон), мы увидели, что к нам приближается красивая морская яхта. Это была «Шейла», принадлежащая Джемсу Россу; на ее борту находились моя жена и дети, выехавшие встречать нас. Еще дальше в заливе показалась целая флотилия лодок, расцвеченных флагами и встретивших нас музыкой приветствий. Когда мы приблизились к городу, на набережную высыпали люди. Городок, в который я так часто возвращался побежденным, оказал нам поистине королевский прием, ибо на этот раз на мачтах «Рузвельта» рядом с звездно-полосатым флагом и вымпелом наших канадских хозяев и братьев развевался флаг, которого не видел еще ни один порт в мире, – флаг Северного полюса. Что мне еще сказать?
Нашей победой мы обязаны опыту, мужеству, выносливости и преданности всех участников экспедиции, а также непоколебимому доверию руководителей, членов и друзей Арктического клуба Пири, давших нам необходимые средства, без которых ничего невозможно было бы сделать.
Пять мозолистых обветренных рук взялись за шест, подняли развевающийся норвежский флаг и первыми водрузили его на географическом Южном полюсе…
Р. Амундсен
Наша планета, как известно, наряду с Северным полюсом (СП) имеет Южный полюс (ЮП) – условную точку, в которой воображаемая ось вращения Земли пересекает ее поверхность в Южном полушарии. На ЮП (так же как и на СП) нет географической долготы, а значение широты составляет 90°, нет и обычных сторон горизонта – в любом направлении только север.

Территориально ЮП располагается в пределах Полярного плато Антарктиды – самого южного материка, занимающего центральную часть Антарктики (обширного района земного шара, омываемого морями Южного океана). Антарктида, площадь которой составляет около 13,5 тыс. км2, характеризуется особыми климатическими условиями: низкой температурой воздуха (минимальная температура зимой составляет ниже -80 °C, летом – ниже -15 °C),[40] сопровождаемой сильными ветрами, снежными бурями и туманами. Вследствие этого материк и близлежащие к нему острова имеют покровное оледенение (здесь сосредоточено 90 % льда всего земного шара, а в районе ЮП его толщина составляет 2850 м). Полярный день длится 179 суток (с 23 сентября по 21 марта), а полярная ночь – 186.
Предположения о существовании южного континента высказывались еще античными мыслителями, которые полагали, что в Южном полушарии находится соединенный с Африкой материк, противостоящий и уравновешивающий северные континенты. Отсюда он получил и свое название – anti arctos (противостоящий медведю, т. е. Арктике). Все еще неизвестная Антарктида появилась на географических картах раннего средневековья под названием Terra Australis Incognita – Земля Южная Неведомая. После того как португалец Ф. Магеллан в 1519–1521 гг. открыл южные оконечности Американского континента, неведомый материк стали изображать на картах занимающим всю южную полярную область.

В течение двух веков мореплаватели неоднократно предпринимали попытки найти Антарктиду, но это никому из них не удавалось. Кругосветное путешествие английского мореплавателя Дж. Кука в 1772–1775 гг. в значительной степени было посвящено поискам Антарктиды. В январе 1774 г. Дж. Кук, встретив в районе, который впоследствии получил название моря Амундсена, сплошной ледяной барьер, остановился и повернул обратно. Через год он вновь был в антарктических водах, открыл остров Южная Георгия и Землю Сандвича. Однако Антарктиды Дж. Кук так и не нашел, что послужило ему поводом поставить под сомнение возможность существования материка, «который, если и может быть обнаружен, то лишь вблизи полюса, в местах, недоступных для плавания…». Южное полушарие, по его мнению, к тому времени было «достаточно обследовано», а дальнейшим поискам неизвестного материка, «который на протяжении двух столетий… привлекал внимание некоторых морских держав и был излюбленным предметом рассуждений для географов всех времен», положен конец. «Если кто обнаружит решимость и упорство, чтобы разрешить этот вопрос, и проникнет далее меня на юг, я не буду завидовать славе его открытий. Но должен сказать, что миру его открытия не принесут никакой пользы.»
Ошибочные выводы Дж. Кука значительно затормозили дальнейшие поиски Антарктиды – после его заявления почти полвека исследовательские экспедиции к неведомому материку не посылали. Опровергнуть утверждения Дж. Кука удалось только русским военным морякам И. Ф. Крузенштерну, Г. А. Сарычеву, В. М. Головнину и др. Основываясь на научных данных, они были убеждены в том, что Антарктида реально существует, и выступили инициаторами организации Морским министерством экспедиции для ее открытия с целью «приобретения полнейших познаний о нашем земном шаре».
В декабре 1819 г. русская экспедиция в составе двух кораблей (шлюп «Мирный», командир и руководитель экспедиции капитан 2 ранга Ф. Ф. Беллинсгаузен; шлюп «Восток», командир лейтенант М. П. Лазарев) достигла Южной Георгии, затем, взяв курс на юго-восток, открыла три вулканических острова, обследовала Землю Сандвича, оказавшуюся архипелагом (новое название – Южные Сандвичевы острова), и 28 января 1820 г. была у берегов «льдинного материка», в точке с географическими координатами 69°21 ю. ш. и 2° 14 з. д. Так состоялось открытие Антарктиды: существование ледового континента перешло из области легенд в реальность, стало научно доказанным фактом.
Проведя зимовку в Австралии, в октябре 1820 г. экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена снова была в Антарктике и в 1821 г. завершила ее круговой обход морем. Во время плавания были открыты остров Петра I и Земля Александра I, проведены различные научные наблюдения, обогатившие науку важными сведениями о природе, водах и климате южной полярной области, выполнены астрономические определения, позволившие создать точные карты антарктического побережья. По данным магнитных наблюдений, впервые проведенных в Антарктике, Ф. Ф. Беллинсгаузен вычислил местоположение Южного магнитного полюса на 1820–1821 гг.[41]
В 1831–1933 гг. английский мореплаватель Дж. Биско также совершил плавание вокруг Антарктиды и открыл Землю Эндерби, острова Аделейд и Биско. В период 1838–1842 гг. сразу три экспедиции из разных стран смогли впервые высадиться на территорию ледового материка и провести уникальные научные исследования. Так, французская экспедиция Ж. Дюмон-Дюрвиля высадилась на Землю Адели, открыла Землю Луи Филиппа, Землю Жуанвиля и Землю Клари. Американская экспедиция Ч. Уилкса открыла Землю Уилкса. Английская экспедиция Дж. Росса открыла Землю Виктории, вулканы Эребус и Террор, а также море и ледяной барьер, названные именем руководителя. После этого в Антарктике наступил полувековой период затишья.
Интерес к южному ледовому континенту вновь возрос в конце XIX в. Это было обусловлено тем, что в Арктике – из-за хищнического истребления – резко уменьшилось поголовье китов. С целью их добычи у берегов Антарктиды побывало несколько промысловых судов.
24 января 1895 г. на ледовый берег (в районе мыса Адэр) впервые за полвека сошли моряки с норвежского китобойного судна «Антарктик» (капитан Л. Кристиансен). Три года спустя у берегов Антарктиды на судне «Бельгика» впервые зимовала бельгийская научно-исследовательская экспедиция 1897–1899 гг. под руководством лейтенанта флота барона Адриена де Жерлаша.
Однако всемирное внимание к Антарктиде привлекло соперничество путешественников, стремившихся достичь ЮП. Первый санный поход в глубь этого громадного ледника (до отметки 82°17 ю. ш.) совершила экспедиция англичанина Р. Скотта в 1901–1904 гг. В ходе ее были открыты полуостров Эдуарда VII, Трансарктические горы, шельфовый ледник Росса, исследована Земля Виктории и др. В конце декабря 1908 г. – начале января 1909 г. англичанин Э. Шеклтон прошел от пролива Мак-Мердо на юг до отметки 88°23 ю. ш. Первой же достигла ЮП экспедиция норвежца Р. Амундсена (14 декабря 1911 г.), второй – экспедиция англичанина Р. Скотта (18 января 1912 г.).
Заметим, что первыми из российских подданных на берег Антарктиды ступили в январе 1911 г. русский Д. С. Горев и украинец А. Л. Омельченко[42] – участники вспомогательных партий во второй экспедиции Р. Скотта (первый в качестве каюра, второй – погонщика маньчжурских пони, на которых предполагалось добраться до ЮП). Об этих наших соотечественниках напоминают сегодня названия на карте Антарктики: бухта Омельченко на Берегу Отса, остров Горева вблизи Берега Правды в море Дейвиса и пик Дмитрия на полуострове Росса.
В 1928 г. в Антарктиде появился первый американский самолет, а через год под управлением адмирала Р.Бэрда он пролетел над ЮП. Кстати, этот бесстрашный адмирал в 1928 г. на самолете облетел СП, а в 1930-х гг. провел одиночную зимовку на первой выносной метеорологической станции в глубине шельфового ледника Росса.
В начале 1930-х гг. планировалось проведение советской научной антарктической экспедиции. В ходе ее предполагалось выполнить океанографические, гидрографические и гидрологические работы в водах Южного океана, геологические и геоморфологические исследования, гляциологические и аэрометеорологические наблюдения на материке, обследовать обширный район, лежащий от Земли Эндерби на западе и моря Росса на востоке. Были намечены и участники экспедиции. Однако она не состоялась, поскольку власти Южно-Африканского Союза отказались снабдить советские корабли топливом.
В 1940—1950-х гг. в Антарктике была создана сеть зарубежных наземных станций и баз для ее изучения, обеспечения и поддержки экспедиций. Так, участники американских экспедиций «Хайджамп» (1946–1947) и «Уиндмилл» (1947–1948) выполнили аэрофотосъемку побережья и провели астрономо-геодезические работы, необходимые для создания точных географических карт, а также открыли Берег Котса и оазис Бангера. Участники англо-шведско-норвежской экспедиции (1950–1952) с помощью сейсмических приборов определили мощность ледяного покрова Антарктиды в районе Земли Королевы Мод, обнаружили новые горные цепи, а также провели аэрофотосъемку значительной территории.
Скоординированные систематические исследования Антарктики начались с 1955 г., важную роль в их организации и проведении сыграл заключенный в 1959 г. международный Договор об Антарктиде. 11 стран мира создали на ледниковом щите, островах и побережье 57 баз и пунктов, откуда осуществлялись внутриконтинентальные походы и комплексные научные наблюдения. В этой работе активное участие приняли также ученые нашей страны. В частности, в 1955–1957 гг. была успешно осуществлена 1-я Советская Антарктическая экспедиция (САЭ) под руководством М. М. Сомова – выдающегося океанолога и полярного исследователя.
На 1-ю САЭ было возложено: изучение влияния атмосферных процессов в Антарктике на общую циркуляцию атмосферы Земли; исследование основных закономерностей перемещения антарктических вод и связи их с общей циркуляцией вод Мирового океана; составление физико-географического описания Антарктики и современных ледников Антарктиды, геологической характеристики и истории антарктической области, биогеографической и гидрографической характеристик Антарктики; создание в 1955–1956 гг. научной опорной базы на материке и организация полярных станций; изучение особенностей геофизических явлений в Антарктике; изыскание новых районов для советского китобойного промысла, а также изучение методов обеспечения исследований в Антарктике.[43]
В 1956 г. были открыты научная обсерватория Мирный, станции Оазис и Пионерская, в 1957 г. – станции Восток и Комсомольская, в 1958 г. – станции Советская и Полюс недоступности[44] (так называется наиболее удаленная от берегов Антарктиды точка).
Примерно в этот же период были осуществлены две американские экспедиции «Дипфриз-I» и «Дипфриз-II», в ходе которых была развернута база в Мак-Мердо, открыты станции Амундсен-Скотт,[45] Бэрд, Халлетт и Уилкс.
8 января 1956 г. в Антарктиде впервые приземлился американский самолет. В ноябре 1957 г. начался трансконтинентальный поход англо-новозеландской экспедиции по маршруту станция Шеклтон – ЮП – станция Амундсен-Скотт. 4 января 1958 г. вспомогательная партия во главе с новозеландцем Э. Хиллари на тягачах достигла ЮП со стороны моря Росса, 20 января на ЮП ступил основной отряд под руководством англичанина В. Фукса.
В октябре 1958 г. советский летчик В. М. Перов на самолете Ил-12 совершил полет по маршруту станция Мирный – станция Советская – ЮП – станция Мак-Мердо.
26 декабря 1959 г. ЮП покорили участники санно-тракторного похода под руководством А. Г. Дралкина – начальника 4-й САЭ. Они прошли по маршруту станция Комсомольская – станция Восток – ЮП.
В целом же в период 1955–2006 гг. состоялось пятьдесят две САЭ (с 1991 г. – Российские Антарктические экспедиции).[46] По результатам их работ на географические карты была нанесена огромная территория побережья и внутренних районов Восточной Антарктиды, а также обширные акватории Южного океана. На этих картах, составленных по данным аэрофотосъемок, сейсмо– и радиолокационного зондирования толщины ледникового покрова, а также эхолотных промеров, появились сотни новых ранее неизвестных географических объектов. Изучение геологического строения участков суши, не покрытых льдом, а также некоторые данные о строении погребенной подо льдом территории Антарктиды, полученные геофизическими методами исследований, позволили составить первую в мире сводку по геологии древней гондванской антарктической платформы. Аэрометеорологические наблюдения дали сведения для составления достаточно полной климатической характеристики Антарктики, в том числе и внутриматериковых районов, прежде совершенно не изученных. Благодаря гравиметрическим исследованиям удалось уточнить сведения о фигуре Земли в южнополярной области, получить современные данные о характере земной коры и ее новейших колебаниях. Сейсмические наблюдения существенно пополнили сведения о состоянии земной коры в этой области. Параллельно с этим с судов и самолетов экспедиций изучались водные массы и биологическая жизнь Южного океана, проводилась аэрофотосъемка побережья Восточной Антарктиды и др. Большой вклад в дело изучения Антарктиды в XX в. внесли и зарубежные полярные исследователи.
К настоящему времени количество ученых и специалистов разного профиля, работавших в Антарктике, составляет если не сотни, то многие десятки тысяч. Немало представителей различных стран побывало и на ЮП. Однако первым из тех, кто добрался до него, был норвежец Р. Амундсен – знаменитый полярный исследователь, моряк и летчик, человек исключительного мужества и самообладания, посвятивший свою жизнь благородному делу исследования Арктики и Антарктики.
Руаль Амундсен (Roald Engebreth Gravning Amundsen) родился 16 июля 1872 г. в Видстене (провинция Эстфолл, уезд Борге). Он был младшим из четырех сыновей четы Амундсенов: Енса – потомственного капитана дальнего плавания, владельца судоверфи и Густавы – дочери судебного пристава. Через три месяца после рождения Руаля вся семья переехала жить в Христианию (с 1924 г. – Осло), но с эстфоллским побережьем и родным домом, стоявшим у реки Гломмы, связи никогда не теряла. «Своей любовью к морю и тягой повидать белый свет… – пишет норвежский писатель Т. Буманн-Ларсен в своей книге «Амундсен» (2005), – Руаль обязан тому месту, где впадает в море самая большая река Норвегии, а такая национальная черта, как пристрастие к снегу и ходьбе на лыжах, сформировалась у него в столице – там, где наиболее глубоко вдается в базальтовое горное основание Христиания-фьорд. На этих двух столпах – море и снеге, мореплавании и ходьбе на лыжах – и зиждился будущий успех. Амундсена как полярного исследователя.»[47]
В 14 лет Руаль остался без отца, который скончался от болезни во время плавания. Старшие братья один за другим ушли в коммерцию и предпринимательство, а младший, склонный к уединению, нередко засиживался у книжного шкафа. Это увлечение весьма поощрялось его честолюбивой матушкой – она мечтала о научной карьере Руаля. Однако такая перспектива явно не устраивала ее любимца. «Когда мне было 15 лет, – пишет Р. Амундсен в своих воспоминаниях «Моя жизнь» (1927), – в мои руки случайно попали книги английского полярного исследователя Джона Франклина (британского адмирала, прославившегося арктическими экспедициями в начале 1820-хгг. и погибшего во время поисков Северо-Западного прохода в 1847 г. – Гл.), которые я проглотил со жгучим интересом. Эти книги оказали решительное влияние на избранный мною впоследствии жизненный путь…» Удивительно, что из всего прочитанного юношу больше всего потрясло описание лишений, испытанных адмиралом и его спутниками. Именно тогда в нем загорелось «странное стремление претерпеть когда-нибудь такие же страдания. на пути к широкому познанию доселе неведомой великой [ледяной] пустыни…». Некоторые биографы Р. Амундсена даже считают, что его с самого начала привлекали не лавры победителя, а ореол мученика. Едва ли можно с этим согласиться.
30 мая 1889 г. стал памятным днем в жизни норвежского народа. В этот день Ф. Нансен – 27-летний зоолог и будущая знаменитость мирового масштаба – возвратился из своего успешного гренландского похода. Триумфальная процессия Ф. Нансена по расцвеченной флагами столице произвела на 17-летнего Руаля не меньшее впечатление, чем поедание сэром Дж. Франклином «с сотоварищи» своих сапог во время их мучительного возвращения из полярных широт к берегам цивилизации.
В 1890 г. после сдачи выпускных экзаменов в гимназии Р. Амундсен покинул дом своего детства и вместе со своей няней «толстушкой Бетти» переехал ближе к королевскому дворцу. Здесь он, как считала его мать, стал готовиться к вступительным экзаменам на медицинский факультет столичного университета. На самом же деле он готовил себя к полярным путешествиям: штудировал соответствующую литературу, закаливался (даже в сильные холода зимой спал с открытыми окнами), занимался атлетической гимнастикой, летом играл в футбол, а зимой ходил на лыжах. «Первое условие, чтобы быть полярным исследователем, – это здоровое и закаленное тело», – писал он позже в своих мемуарах. Надо отметить, что здесь он добился заметных успехов: на медицинском освидетельствовании на пригодность к военной службе врачебная комиссия была в таком восторге от отлично развитой мускулатуры рослого юноши, что совсем забыла исследовать его зрение (Руаль с детства был близорук, но скрывал это от окружающих, поскольку считал, что очки и пенсне плохо сочетаются с идеальным образом потомка викингов).
8 1893 г. Руаль весьма посредственно выдержал «предварительные испытания» и был зачислен в университет, где был, по его словам, «хуже самого среднего студента». В действительности же прилежную учебу в университете он изображал только для успокоения своей матушки, которой «не хотел перечить».
9 сентября 1893 г. Густава Амундсен скоропостижно скончалась от воспаления легких, и это избавило ее от неминуемого открытия притворной деятельности ее любимого сына. Р. Амундсен незамедлительно и «с огромным облегчением» покинул столичный университет. Теперь открывалась реальная перспектива воплотить в жизнь его честолюбивые замыслы. Но предварительно ему пришлось отбывать недолгую воинскую повинность (по действовавшему тогда закону – всего несколько недель в году).
«Отбыв воинскую повинность, – вспоминает Р. Амундсен, – я немедленно предпринял дальнейшие шаги подготовки к специальности полярного исследователя. К этому времени я уже успел прочитать по этому предмету все книги, какие только мог раздобыть, причем меня поразила одна слабая сторона, общая для большинства прежних полярных экспедиций. А именно: их начальники не всегда были судоводителями, вследствие чего в отношении навигации им почти всегда приходилось передавать управление судном в руки более опытных мореплавателей. При этом неминуемо оказывалось, что тотчас по выходе в море у экспедиции появлялось два начальника вместо одного. Это, безусловно, всегда вело к разделению ответственности между начальником экспедиции и капитаном, откуда беспрестанно возникали трения и разногласия, а следствием этого являлось ослабление дисциплины среди подчиненных участников экспедиции. Возникали две партии: одна состояла из начальника экспедиции и научных сотрудников, а вторая из капитана и судового экипажа. Поэтому я заранее решил никогда не становиться во главе экспедиции, прежде чем не буду в состоянии избежать этой ошибки. Все мои стремления были направлены к тому, чтобы самому приобрести необходимые знания и опыт в управлении судном и выдержать экзамен на капитана. Тогда я смог бы руководить моими экспедициями не только в качестве исследователя, но и в качестве судоводителя и таким образом избежал бы этого разделения…»
Весной-летом 1894 г. Р. Амундсен в должности матроса команды зверобойного судна «Магдалена» был на промысле тюленей в Северном Ледовитом океане, по его отзывам, занятии интересном и даже веселом, и заслужил прибавления к своему имени титула «путешественника по полярным морям». В 1895 г., пройдя путь от матроса до шкипера, Р. Амундсен сдал экзамен на штурмана. После этого он еще несколько раз ходил в разные плавания, набираясь необходимых ему морских навыков и знаний.
В январе 1896 г. его имя впервые появилось в прессе: в норвежских газетах было опубликовано сообщение о пропаже двух лыжников на Хардангерском плоскогорье. Речь шла о братьях Руале и Леоне Амундсенах, пытавшихся пересечь это плоскогорье с востока на запад и, очевидно, заблудившихся. К счастью, через три недели они благополучно вышли к местечку Болкешё, однако Р. Амундсен до конца своих дней считал, что это приключение (где братья едва не погибли, а сам поход превратился в борьбу за выживание) было едва ли не самым рискованным за его полную опасностей жизнь.
Летом 1896 г. Р. Амундсен подал заявку в готовящуюся бельгийскую антарктическую экспедицию в качестве матроса на судно «Бельгика». «Поход, – писал он брату Леону, – рассчитан на два года и должен быть весьма интересным, поскольку будет первым в своем роде (основная цель экспедиции состояла в исследовании района Южного магнитного полюса. – Гл.).»
Осенью того же года вся Норвегия восторженно встречала Ф. Нансена и экипаж легендарного «Фрама». «Современные викинги» сначала прошли морем от Христиан-фьорда на восток вдоль северного побережья Евразии до Новосибирских островов, затем дрейфовали во льдах на запад. От параллели 84°00 с. ш. Ф. Нансен в сопровождении лейтенанта Ф. Йохансена на собачьих упряжках попытался добраться до СП, но из-за абсолютной непроходимости льда был вынужден остановиться на отметке 86°13 с. ш. Тем не менее после этого подвига во льдах норвежцы обрели небывалую уверенность в себе.
С начала зимы 1897 г. Р. Амундсен был в Антверпене, где изучал курс навигации и нидерландский язык – его неожиданно утвердили первым штурманом (фактически старшим помощником капитана) в составе антарктической экспедиции. Но через три месяца ему пришлось спешно покинуть гостеприимный город: хозяйка дома, где он жил, покончила с собой, отравившись угарным газом. Как утверждает писатель Т. Буманн-Ларсен, до этого у 25-летнего Р. Амундсена завязался роман с этой женщиной. Теперь она была мертва, но ее муж был жив, и оставаться молодому Дон Жуану было небезопасно. Пожалуй, этот трагический случай оставил глубокий отпечаток в последующей жизни Р. Амундсена – он никогда не был женат.
Бельгийская антарктическая экспедиция 1897–1899 гг. (руководитель лейтенант флота барон А. де Жерлаш, командир «Бельгики» лейтенант артиллерии, гидрограф Ж. Лекуант), снаряженная Брюссельским географическим обществом, но состоявшая из представителей нескольких стран, открыла новую и весьма бурную эру в освоении южного ледового континента. Для Р. Амундсена же этот первый поход в Антарктику стал подлинным университетом, обучившим его искусству не только полярных исследований, но и выживания в экстремальных условиях.
Путь от берегов цивилизации к белой пустынной неизвестности был не близким. Судно «Бельгика», выйдя из Антверпена 16 августа 1897 г., к концу января следующего года приблизилось к одной из выступающих частей Антарктики – Земле Грейама. «Эта местность… далеко не вся была нанесена на карту, – вспоминает Р. Амундсен, – и мы. провели некоторое время у этих берегов, после чего вышли, наконец, через пролив в Южный Ледовитый океан…» 22 января во время шторма, когда море бросало судно, словно щепку, смыло за борт молодого матроса норвежца А. Винке. Спасти его не удалось – он погиб от стужи, прежде чем его пепельно-серое лицо исчезло в пучине. Это была первая тяжелая потеря.
«В 3 часа пополудни 23 января, – пишет в своей книге «Мое обретение полюса» врач экспедиции американец Ф. Кук, в будущем покоритель СП, – странный белый туман появился на небе по направлению к югу. Немного позже какие-то неопределенные очертания суши выделились из него. Эта картина занимала все пространство обзора с запада на восток. Вершины были скрыты дымкой, из которой исходил особый отблеск, характерный для этих широт. По мере приближения мы убедились, что суша не представляет бесконечную стену льда, но имеет грубые, какие-то рваные очертания под покровом льда, заканчивающегося у берега. Здесь было несколько обширных заливов, один из которых прямо по курсу вел к югу. Тщательно изучая имевшиеся карты, мы считали, что можем определить свое положение, но это было ошибочное впечатление.»
26 января была совершена первая высадка на сушу – на остров Ту Хаммокс, где Р. Амундсен испытал свои лыжи, возможно, впервые в Антарктике. Позже подобные высадки совершались более двадцати раз.
«В самом начале долгой полярной зимы мы оказались крепко зажатыми в антарктических льдах, дрейфующих в. Южном Ледовитом океане, – вспоминает Р. Амундсен. – Положение наше было гораздо опаснее, чем может показаться на первый взгляд, так как мы не были подготовлены для зимовки в Антарктике. Первоначальный план нашей экспедиции заключался в том, чтобы продвинуться в течение лета до местонахождения Южного магнитного полюса на Земле Южной Виктории и там высадить для зимовки четырех человек, снабженных соответствующими запасами, в то время как судно с остальными членами экспедиции должно было провести зиму в цивилизованных странах, а с наступлением весны вернуться за этими товарищами. Для зимовки намечены были румынский ученый [гидробиолог Э. Раковец], его помощник поляк [метеоролог А. Добровольский], доктор Кук и я. А теперь весь экипаж корабля очутился перед возможностью зимовки здесь без соответствующей зимней одежды, без достаточного продовольствия для стольких людей, и даже ламп было так мало, что их не хватало по числу кают. Перспективы были действительно угрожающие.
Тринадцать месяцев простояли мы во льдах, словно в тисках (дрейф «Бельгики» проходил в редко посещаемой людьми части моря Беллинсгаузена, примерно на параллели 70° ю. ш., с многочисленными петлями и попытками двинуться вспять. – Гл.)… Ни один человек из всего экипажа не избегнул цинги, и все, за исключением троих, впали в полное истощение от этой болезни. Заболевание цингой было большим бедствием. Доктор Кук (оценивший состояние экипажа как «безнадежное в море безнадежности». – Гл.) и я. знали. что этой болезни можно избежать, употребляя в пищу свежее мясо. Поэтому после ежедневной работы мы провели немало трудных часов, охотясь за тюленями и пингвинами. Однако начальник экспедиции питал к этому мясу отвращение, доходившее до нелепости. Он не только отказывался есть его сам, но запретил и всей команде. В результате мы все заболели цингой. Начальник и капитан заболели так тяжко, что оба слегли и написали. завещания. Тогда руководство экспедиции перешло ко мне. Я тотчас же выбрал немногих еще трудоспособных людей и велел откопать тюленьи туши, зарытые в снег подле корабля. Филейные части были немедленно вырезаны, и повар получил приказание оттаять и приготовить их. Все бывшие на борту с жадностью съели свою порцию, не исключая и начальника экспедиции.
Удивительно было наблюдать действие, вызванное такой простой переменой пищи. В течение первой же недели все начали заметно поправляться.»
После цинги на экспедицию навалилась другая напасть: полярная анемия, развивающаяся вследствие долгого пребывания людей в условиях темноты, вынужденной изоляции, неполноценного питания, низкой температуры, высокой влажности, ураганных ветров и пр. Один матрос долго находился на грани безумия, не вынес страданий и тихо скончался магнитолог лейтенант Э. Данко.
Этот жуткий период в жизни зимовщиков писатель Т. Буманн-Ларсен назвал настоящим кошмаром. «Вся экспедиция стала героической импровизацией дилетантов, оказавшихся на грани выживания, – пишет он. – В краю, к которому немногие тамошние обитатели приспосабливались тысячелетиями, человек должен был найти свое место всего за одну полярную ночь. Не считая чрезвычайно занятого врача (самого опытного полярника, никогда не терявшего самообладания и собственного достоинства. – Гл.) к этому ледяному аду приспособился только один человек.» Это был Р. Амундсен, который, похоже, нашел свое место в жизни. 30 мая, когда полярная ночь достигла кульминации, старпом зафиксировал в своем дневнике, что солнце повернуло вспять. «Разумеется, я буду рад снова увидеть его, однако все это время я чувствовал себя на удивление хорошо и ни капельки по нему не скучал. Напротив. Я понял, что давно стремился к жизни в подобных условиях. Меня привел сюда не детский каприз, а зрелое размышление. Я ни о чем не жалею и надеюсь, что у меня хватит сил и здоровья для дальнейших трудов в избранном направлении.»
Р. Амундсен не уносился, подобно большинству его спутников, в царство безумия и депрессии. Он, напротив, активно трудился, обретая ценный опыт полярного исследователя: изучал лед, особенности жизни и питания в высоких широтах, обдумывал оптимальную экипировку путешественника во льдах и пр. Во всех своих делах и начинаниях он, конечно, полагался на себя, но везение, как, впрочем, и невезение, зачастую относил к воле Божьей. «Велика сила твоя,
Господи, и вечна милость Твоя, – писал он в дневнике после очередной передряги. – Как многажды прежде, это Ты провел нас через это испытание. Покрывай и дальше нас рукою своею.» Такую религиозность, если не сказать детскую веру, Р. Амундсен сохранил на всю оставшуюся жизнь.
Со временем болезни и смертные страхи перед неизвестностью стали постепенно отступать, люди взбодрились, появилась надежда. В этот период началось строительство павильонов для магнитных и астрономических определений. Как показали результаты измерений, в конце мая 1898 г. «Бельгика» находилась на отметке 71°36 ю. ш. Рекорд, установленный англичанином Дж. Куком в 1774 г. (71°10 ю. ш.), был побит. Это был престижный результат экспедиции.
В октябре 1898 г. между Р. Амундсеном и его бельгийским руководством вспыхнул конфликт: барон А. де Жералаш, сославшись на политические и финансовые обстоятельства, назначил на должность старпома одного из бельгийских моряков. Поскольку это было явное нарушение ранее заключенного контракта, Р. Амундсен, без которого экспедиция скорее всего оказалась бы в числе пропавших без вести, заявил руководителю, что «отныне для него никакой бельгийской экспедиции не существует».[48]
Выговорив в ходе единоличного мятежа независимое положение, Р. Амундсен занялся своими делами, заодно обдумывая перспективы на будущее. Его взор часто устремлялся на далекий Север. «У меня созрел план, – записал тогда он в своем дневнике. – Мне хотелось связать мечту детских лет о Северо-Западном проходе с гораздо более важной для науки целью: установить нынешнее положение Северного магнитного полюса.[49]»
Когда «Бельгика», прорвавшись сквозь ледовое заточение и миновав пользующуюся дурной славой пятидесятую параллель, достигла открытого моря, опасность еще не отступила. «От толчков льда наш хронометр не раз подвергался вместе с кораблем сотрясениям, имевшим часто силу настоящего землетрясения, – вспоминает этот период Р. Амундсен. – Поэтому мы не могли с уверенностью полагаться на наши наблюдения для определения долготы и широты, и курс, взятый для возвращения в цивилизованные места, был довольно-таки сомнительным. К счастью, мы все же, наконец, услыхали долгожданный возглас из бочки на мачте: «Земля!» Мы приближались к Магелланову проливу…» После того как «Бельгика» бросила якорь в западном устье пролива, Р. Амундсен, сопровождая заболевшего матроса, отправился на попутном судне в Норвегию. В это время мысли его витали где-то далеко в северных широтах.
Бельгийская антарктическая экспедиция 1897–1899 гг. для будущих покорителей полюсов Ф. Кука (СП) и Р. Амундсена (ЮП) была исключительно полезной, а ее научные результаты в советском «Атласе Антарктики» (1969) отражены следующим образом: «За 15 месяцев участники бельгийской экспедиции выполнили серию магнитных наблюдений, позволивших уточнить положение Южного магнитного полюса… 1300-мильный дрейф «Бельгики» дал возможность ученым проследить образование и разрушение антарктических льдов, определить зависимость дрейфа льдов от господствующих ветров, выполнить промеры глубин… Экспедиция сделала географические открытия. Кроме пролива Жерлаш. [она] открыла и нанесла на карту десятки новых объектов – горы, острова, бухты на Антарктическом полуострове… открыла Берег Данко. В научных трудах бельгийской экспедиции наиболее ценны разделы биологии, океанографии и магнетизма.» Добавим, что к важным научным достижениям экспедиции можно отнести также проведенный впервые годичный цикл метеорологических наблюдений, с которого началось изучение климатологии Антарктики, выявленное кольцо низкого атмосферного давления по периферии антарктического антициклона, собранный банк океанических организмов и др.
Участники экспедиции были отмечены различными наградами. Р. Амундсен был награжден орденом Леопольда I – высшей наградой Бельгийского королевства.
Осенью 1899 г. Р. Амундсен вместе со своим братом Леоном совершил велопробег по маршруту Христиания – Париж – Коньяк. Распрощавшись с братом в городе виноделов, где тот жил и работал, дальше Руаль поехал один. Его конечным пунктом была Картахена – город-порт на юго-востоке Испании. Там он нанялся на барк «Оскар», идущий в Америку, – для получения диплома капитана необходимо было провести в плаваниях определенное время. В апреле 1900 г. «Оскар» зашел в английский порт Гримбси. Там Р.Амундсену удалось закупить целую библиотеку книг о Северо-Западном проходе, отыскать который он мечтал с детских лет.
Вернувшись из плавания и получив наконец диплом капитана дальнего плавания, Р. Амундсен встретился с доктором Ф. Нансеном, который много позже скажет о нем: «Тому, кто хоть раз видел это лицо, нелегко будет забыть его.» Действительно, орлиный профиль, внушительные усы и глаза сильного, волевого человека вкупе создавали неизгладимое впечатление. Будущий Нобелевский лауреат с интересом ознакомился с планом предстоящей экспедиции, главной целью которого было «изучение магнитного полюса». Но поскольку экспедиция окажется «в тех краях, можно поднапрячься и заодно пройти Северо-Западным проходом». Намерения молодого капитана пришлись по душе Ф. Нансену – бесспорному лидеру среди полярных исследователей, и в конце встречи поддержка в организации экспедиции была обещана.
Отбыв летом того же года положенный срок на военных учениях, Р. Амундсен снова ушел в море, а вернувшись, поехал в Гамбург, чтобы изучать земной магнетизм в Германской морской геофизической обсерватории у профессора Георга фон Неймайера – авторитета в этой области науки о Земле. При первой же встрече пожилой профессор, узнав о намерении норвежца определить новое положение Северного магнитного полюса, взволнованно воскликнул: «Если вы это сделаете, вы будете благодетелем человечества на все времена. Это – великий подвиг!» Р. Амундсену были обеспечены все условия для изучения земного магнетизма и методов магнитных определений не только в Гамбурге, но и в обсерваториях Вильгельмсгафена и Потсдама.
По возвращении в Норвегию Р.Амундсен приобрел (на причитающуюся часть отцовского наследства) небольшое судно – одномачтовую парусно-моторную яхту «Иоа» – и после некоторого его переоборудования вышел в полугодовое испытательное плавание в северную часть Атлантического океана. Там, занимаясь зверобойным промыслом, он провел ряд океанографических исследований, в том числе и для Ф. Нансена в знак глубокой благодарности за поддержку. Осенью 1902 г. Р.Амундсен впервые выступил на заседании Географического общества в Христиании, на котором объявил план своей экспедиции и ее основные цели.
К предстоящей экспедиции Р. Амундсен готовился «с присущей всем его предприятиям основательностью и продуманностью». Самая прозаическая часть этой подготовки – финансовая – отняла у Р. Амундсена уйму времени и энергии. «В поисках денег я осаждал всех и вся», – вспоминает он. Кстати, этот выдающийся полярник, никогда не имевший больших накоплений, и накануне всех своих последующих экспедиций был вынужден ходить «с шапкой по кругу», что было совсем не свойственно его независимой натуре. Для достижения поставленных целей он иногда был готов поступиться собственными принципами. Однако о его переживаниях в этой связи можно только догадываться.
В ночь с 16 на 17 июня 1903 г. «Иоа» с семью путешественниками, снаряжением и запасом продовольствия на пять лет снялась с якоря. Первоначально путь лежал к западному побережью Гренландии, на остров Диско. «Наконец-то! Великое предприятие, для которого я работал всю жизнь, стало реальностью!» – записал тогда Р. Амундсен в свой дневник. На Диско (в датском порту Годхавн) загрузили на борт двадцать ездовых собак и пошли дальше вдоль побережья на север Гренландии. «Я не мог отвести глаз и мыслей от ледника, с которого наш храбрый соотечественник Эйвинн Аструп (трагически погиб в декабре 1895 г. во время лыжного похода в Норвегии, в Доврских горах. – Гл.), вместе с Пири (покорившим СП в 1909 г. – Гл.) начал свое путешествие через Гренландский ледовый панцирь…» – написал позже Р. Амундсен в своем отчете об этой экспедиции.
Осевшее по ватерлинию экспедиционное судно с неимоверным трудом миновало залив Мелвилл, обошло мыс Иорк и после недолгой остановки в Далримпл Роке взяло курс на остров Бичи. Там была выполнена серия магнитных наблюдений, «чтобы установить, в каком направлении находится магнитный полюс». Как и предполагалось, последний находился в районе полуострова Бутия, где его в 1831 г. определил англичанин Дж. Росс.
Двигаясь к намеченной цели без карт, «Иоа» наскочила на подводную скалу, и только благодаря шторму, волнами снявшему ее с рифов, удалось избежать крушения. Через некоторое время из-за течи горючего в машинном отделении судна случился пожар. На этот раз от взрыва спасло четкое руководство его капитана и умелые действия членов экипажа.
В сентябре, когда началась полярная ночь, экспедиция встала на зимовку на южном берегу Земли Кинг-Уильям, в Бухте Иоа (Иоа-Хейвн). «Все ящики были выгружены на берег и распакованы, – вспоминает Р. Амундсен. – Они составляли существенную часть нашего снаряжения, и устройство их было тщательно обдумано: их доски. одинакового размера были выструганы. и скреплены между собой медными гвоздями. Благодаря этому последние были лишены магнитных свойств, так что их можно было употребить на постройку наших обсерваторий. Для. научных наблюдений [я] выписал из Германии полный ассортимент самых точных и современных приборов. Эти приборы приводились в действие часовым механизмом и регистрировали [результаты измерений] автоматически. Устроив наши обсерватории и установив приборы, мы принялись за постройку помещений для собак. Когда все было окончено, то оказалось, что более комфортабельного помещения мы не могли бы иметь даже и в цивилизованных странах. Дом, выстроенный нами для себя, был теплый, защищенный от непогоды, и у нас имелись все необходимые удобства.»
На зимовке произошла знаменательная встреча путешественников с аборигенами тех мест – с эскимосами, никогда не видевшими белых людей, но наслышанными о них (об участниках английской экспедиции 1829–1833 гг. Дж. Росса) из рассказов предков. «Мы приветствовали их на нашем корабле, показали им сокровища нашего снаряжения и проявили к ним чрезвычайное внимание, – продолжает свой рассказ Р. Амундсен. – Они просили разрешения перекочевать сюда всем племенем и поселиться около нас. Мы дали свое согласие, и вскоре вокруг нашей зимовки выросло пятьдесят эскимосских хижин. Всего пришло до двухсот человек – мужчин, женщин и детей. Тут было от чего радостно забиться сердцу антрополога и этнографа… Я принялся набирать полную коллекцию экспонатов для музеев с целью всестороннего показа быта эскимосов. Вскоре я уже обладал несколькими такими полностью представленными коллекциями, которые в настоящее время (1927 г. – Гл.) хранятся в норвежских музеях. Я достал образцы буквально всех предметов эскимосского обихода, начиная с одежды обоих полов и кончая образцами утвари, служащей для приготовления пищи и для охоты…»
Однако главное дело на этой стоянке состояло в определении нового положения Северного магнитного полюса. К весне 1904 г. Р. Амудсен в сопровождении 30-летнего старшего механика П. Ристведта отправился в поход на полуостров Бутия. Там он собирался выполнить наблюдения непосредственно вблизи полюса, а может быть, и определить его точное местоположение. К сожалению, поход не дал очевидного результата, пришлось смириться и полагаться на обработку всего объема измерений после возвращения экспедиции в Норвегию. В связи с этим «бесконечные» магнитные наблюдения на стационарной обсерватории, к великому неудовольствию Ю. Вика – 27-летнего флотского унтер-офицера, получившего «скоротечное образование по магнетизму», были возобновлены и продолжались там до конца срока пребывания экспедиции. «Научный материал, привезенный нами на родину, – пишет Р. Амундсен, – отличался необычайным обилием. Наши магнитные наблюдения были так обширны и полны, что ученым, которым мы передали их по возвращении в 1906 году, понадобилось около двадцати лет, чтобы их обработать. Никогда еще наука не получала ничего даже отдаленно схожего по совершенству с этими тщательнейшими наблюдениями явлений магнетизма у Северного полюса.»
Заметим, что Р. Амундсен сам никогда не обрабатывал полученные в экспедициях наблюдения. «Он не был ученым, – писал В. Ю. Визе, видный советский океанолог, в предисловии к книге Р. Амундсена «Южный полюс» (1937), – но был прекрасным полевым работником, умевшим собирать безукоризненные наблюдения. Предоставляя обработку их другим, он хорошо сознавал, что специалист сделает это лучше его и сумеет извлечь более ценные выводы…»
13 августа 1905 г. пробил час расставания с друзьями-эскимосами, экспедиция тронулась в путь на поиски СевероЗападного прохода, который мореходы не могли отыскать в течение более 500 лет. На обновленной карте этого пустынного уголка Земли остались имена членов экспедиции, увековеченные в названиях географических объектов: вершина Вика, река Ристведта, долина Линдстрёма (повара экспедиции) и др. Кроме того, в земле была закопана жестянка с фотографией немецкого профессора Г. фон Неймайера, на которой Р. Амундсен написал: «С глубокой благодарностью и в знак почтительной памяти.»
Рассекая студеные воды, «Иоа» устремилась вперед к проливу Симпсона. «Значительная часть [его] побережья уже была нанесена на карту прежними исследователями, проникшими туда по материку со стороны залива Гудзона, но ни один корабль до сих пор не плавал еще в этих водах и не измерял их глубин, – вспоминает Р.Амундсен. – Будь иначе, нам, вероятно, не пришлось бы испытывать такие трудности. Очень часто нам казалось, что придется повернуть обратно из-за малой глубины этих извилистых проливов. Изо дня в день целых три недели подряд – самые длинные недели моей жизни – мы ползли вперед, беспрестанно бросая лот и отыскивая то тут, то там пролив, который благополучно вывел бы нас в изведанный район западных вод. Однажды. под килем судна был всего один дюйм свободной воды! Во время этих испытаний я потерял сон и аппетит. Нервы были натянуты до крайности. Мне приходилось беспрестанно напрягать все свои силы, чтобы предупредить малейшую опасность, каждый несчастный случай. Экспедиция должна была удасться!
[Наконец раздался крик: ] «Парус! Парус!». Нам удалось! Какими чарующими показались нам далекие очертания китобойного судна (это был «Чарлз Ханссон». – Гл.), маячившего на западе! Появление его означало для нас завершение долгих лет надежд и сурового труда, ибо этот парусник пришел сюда из Сан-Франциско через Берингов пролив и вдоль северного побережья Аляски, а там, где мог пройти его широкий корпус, там пройдем и мы. Этим был положен конец всем сомнениям относительно удачного завершения нашей экспедиции. Победа была за нами! Мое нервное напряжение, длившееся три недели, тотчас же упало, а как только оно прошло – вернулся и аппетит. Я почти обезумел от голода. На такелаже висели оленьи туши, я набросился на них с ножом в руке. С дикой жадностью я вырезал кусок за куском сырого мяса и тут же проглатывал их целиком, словно изголодавшийся зверь. Скоро я воспрянул и почувствовал себя так хорошо, как ни разу за эти последние три страшные недели. Однако они не прошли для меня бесследно, так как по возвращении все определяли мой возраст между 59 и 75 годами, хотя мне было только 33 года…»
После теплой встречи с капитаном китобоя Р. Амундсен направил свое экспедиционное судно дальше на запад, надеясь завершать плавание в эту навигацию. Однако ни он, ни его спутники не предполагали, что им понадобится еще целый год на осуществление последнего этапа. 2 сентября «Иоа» застряла во льдах у северных берегов Канады, и экспедиция встала на третью зимовку за Полярным кругом.
Весть в Норвегию об успешном прохождении экспедиции Северо-западным путем была послана Р. Амундсеном с телеграфной станции городка Игл, который находился в 700 км за горным хребтом высотой 2750 м. Для этого ему и трем его спутникам (капитану с китобоя «Бонанца», застрявшего во льдах, и супругам-эскимосам) пришлось совершить санный поход, причем весь путь Р. Амундсен прошел только пешком – его выносливость была поразительной. На зимовку он вернулся через пять месяцев с новостями с «Большой земли», с туго набитыми почтой мешками и поздравлением от Ф. Нансена с подвигом, который «пришелся весьма кстати, став выдающейся страницей в… истории новой Норвегии». Оказывается, за время путешествия «король Оскар был смещен с норвежского престола, а уния со Швецией расторгнута… Монархом избрали принца Карла Датского под именем Хокона VII». Другие не менее важные новости касались географических исследований: в 1904 г. успешно завершила поход в глубь Антарктиды английская экспедиция капитана 2 ранга Р. Скотта,[50] а Ф. Нансен начал подготовку к покорению ЮП.
Спустя некоторое время экспедицию постигла беда: после недолгой, но тяжелой болезни скончался молодой магнитолог Г. Вик. «Имя его будет навечно связано с научными достижениями нашей экспедиции, – написал Р. Амундсен несчастной матери покойного. – Своим выдающимся трудом он оставил о себе прекрасную память.»
В середине июля 1906 г. «Иоа» снялась с якоря. Миновав северную оконечность Аляски (мыс Барроу) и преодолев Берингов пролив, она ненадолго остановилась в Номе – поселке золотоискателей, а затем двинулась вдоль побережья и в октябре была в Сан-Франциско. «Я подарил этому городу «Иоа» на память о завоевании Северо-Западного прохода, – пишет Р. Амундсен. – Она до сих пор (1927 г. – Гл.) стоит в парке «Золотых Ворот». где желающие могут ее осматривать.»
Итак, мечта Р. Амундсена сбылась: Северо-Западный проход был им открыт, судно под его командованием впервые прошло из Атлантического океана в Тихий, обогнув Америку с севера. За время экспедиции на географическую карту мира были нанесены точные очертания восточного берега Земли Виктории, а также острова Ховгарда, Принцессы Ингеборг, Норденшельда, Королевского Географического Общества и др., накоплен громадный объем измерений для определения нового положения Северного магнитного полюса, собраны уникальные коллекции (зоологическая и предметов эскимосского обихода), получен новый бесценный опыт плавания, зимовки и научных наблюдений в высоких широтах.
«Достигнув. первой цели, которую я поставил себе в жизни, – вспоминает Р. Амундсен, – я начал искать новые области для своей деятельности. Годы 1906 и 1907 я посвятил чтению лекций, разъезжая по Европе и Америке, и вернулся в Норвегию с деньгами, хватившими на уплату всем моим кредиторам. Я снова был свободен и мог приступить к составлению новых планов…
Следующей задачей, которую я задумал разрешить, было открытие Северного полюса. Мне очень хотелось самому проделать попытку, предпринятую несколько лет тому назад доктором Нансеном, а именно – продрейфовать [на судне] с полярными течениями через Северный полюс поперек Северного Ледовитого океана.» Но дрейф Р. Амундсен собирался начать не от Новосибирских островов, как это сделал Ф. Нансен, а значительно восточнее – от острова Врангеля. Тогда вмерзшее во льдах судно могло пройти намного ближе к СП.
В июле 1908 г. Р. Амундсен поехал в норвежский город-порт Берген «знакомиться с последними достижениями в области океанографии». По возвращении он огласил план своего нового похода в Арктику в географических обществах Христиании и Лондона. Норвежцы этот план приняли восторженно, чопорные англичане, считавшие в то время, что любое морское предприятие касается интересов Британской империи, – на удивление благожелательно. Объяснялось это просто: ведь это был старый проект Ф. Нансена – смелый, но уже опробованный. Более того, чем дальше Р. Амундсен уйдет на север, тем спокойнее будут чувствовать себя представители Туманного Альбиона на юге. Как позже стало известно, в это время англичанин капитан 1 ранга Р. Скотт готовился ко второй экспедиции в Антарктику. «Главной моей целью, – заявил он 13 сентября 1909 г., – является достижение Южного полюса с тем, чтобы честь этого свершения досталась Британской империи.[51]» Наличие там иностранных конкурентов было явно нежелательно.
Для достижения СП Р. Амундсен воспользовался «Фрамом» – знаменитым судном Ф. Нансена, который в рассматриваемый период был послом Норвегии в Англии. После некоторого колебания «мэтр» уступил свое судно энергичному и настойчивому преемнику.
«Я закончил все подготовительные работы, – вспоминает Р. Амундсен, – привел [судно] в порядок, погрузил снаряжение и продовольствие. подобрал товарищей, среди которых находился также летчик (единственным ненорвежцем в экспедиции был А. С. Кучин – русский моряк и океанограф. – Гл.)… Но… когда все уже было почти готово к отправлению, по всему миру распространилось известие об открытии адмиралом Пири Северного полюса в апреле 1909 года.[52] Это, конечно, было для меня жестоким ударом! Чтобы поддержать. престиж полярного исследователя, мне необходимо было как можно скорее достигнуть какого-либо другого сенсационного успеха. Я решился на рискованный шаг, заявил официально, что, оставаясь по-прежнему при своем мнении, считаю научные результаты такого плавания достаточно важными, чтобы не отказываться от последнего, и покинул с моими спутниками Норвегию в августе 1910 года. Согласно первоначальному плану, мы должны были выйти в Северный Ледовитый океан через Берингов пролив, так как предполагали, что главное течение идет в этом направлении. Наш путь из Норвегии в Берингов пролив шел [на юг] мимо мыса Горн (самой южной точки Южной Америки. – Гл.), но прежде мы должны были зайти на остров Мадейру (расположенный у северо-западного берега Африки. – Гл.). Здесь я сообщил моим товарищам, что так как Северный полюс открыт, то я решил идти на Южный. Все с восторгом согласились…»
Если взглянуть на географическую карту мира и прикинуть расстояния от мыса Горн до Северного и Южного полюсов, то станет очевидно, что Р. Амундсен в сложившейся тогда ситуации принял верное решение. Что касается нравственной стороны этого дела (как пишут некоторые критики, Р. Амундсен обманул Ф. Нансена и перехитрил Р. Скотта), то, во-первых, арктический «мэтр» в силу своей занятости на политической арене едва ли когда-нибудь стал бы покорителем ЮП,[53] во-вторых, объявление Р. Скоттом плана экспедиции к ЮП вовсе не ставило его в исключительное положение (например, Ф. Кук тоже публично объявил о своем намерении штурмовать ЮП).
«Я считаю уместным откровенно разобрать ту часть критики, которая была вызвана моим соревнованием с [блестящим спортсменом и великим исследователем] капитаном Скоттом, – пишет Р. Амундсен, – но основана на общераспространенном искажении некоторых существенных фактов. Она, как мне известно, послужила поводом к несправедливому суждению обо мне со стороны многих людей. Одно из этих утверждений гласит, что я, выражаясь спортивным языком, недобросовестно «обошел» Скотта, якобы не уведомив его о моем намерении устроить состязание между нашими экспедициями. В действительности же дело обстояло совершенно иначе. Капитан Скотт имел самые точные. сведения о моих намерениях. Покидая осенью 1910 года Мадейру, я оставил запечатанную в конверте депешу в Австралию на имя капитана Скотта, которую мой секретарь (брат Леон. – Гл.), согласно моему поручению, отослал несколько дней спустя после того, как мы вышли в море. В ней я совершенно ясно и открыто извещал Скотта о моем намерении вступить с ним в состязание относительно открытия Южного полюса..»
Как уже отмечалось, экспедиция Р. Амундсена первой достигла ЮП (14 декабря 1911 г.), экспедиция Р. Скотта на ЮП была второй (18 января 1912 г.). Доказательства победы норвежцев в этом состязании были бесспорными: англичане нашли на ЮП палатку, а в ней письмо Р. Амундсена, адресованное Р. Скотту. «Ужасное разочарование, – записал тогда Р. Скотт в своем дневнике, – и мне больно за моих товарищей. Конец всем нашим мечтам! Да, мы на полюсе, но при сколь иных условиях против ожидаемых! Страшное место, и каково для нас сознание, что мы за все наши труды даже не вознаграждены ожидаемым торжеством! Мы пережили ужасный день.»
Подавленные морально и крайне утомленные физически, Р. Скотт и его четыре спутника двинулись обратно на базу. По дороге двое из них скончались от истощения. Тела остальных – начальника экспедиции и двух его товарищей – нашли спустя восемь месяцев в палатке, установленной в 20 км от склада с продовольствием и топливом.
Подробности этого трагического события стали известны также из дневника Р. Скотта, найденного возле него в палатке. «Анализируя [его записи], – пишет академик А. Ф. Трёшников, руководитель 2-й и 13-й САЭ, – становится ясным, что Скотт предчувствовал свое поражение еще до похода к Южному полюсу…» «Не подлежит сомнению, – писал он, – что план Амундсена является серьезной угрозой нашему. Амундсен находится на 60 миль ближе к полюсу, чем мы. Никогда я не думал, чтобы он мог благополучно доставить на [ледовый] барьер столько собак. Его план идти на собаках великолепен. Главное, он может выступить в путь в начале года, с лошадьми же (маньчжурскими пони. – Гл.) это невозможно.»
Р. Скотт и его спутники были похоронены на месте их гибели в снегу, а вблизи береговой базы на острове Росса, на вершине Наблюдательного Холма, был водружен деревянный крест. На нем ножом вырезали имена погибших и строку из поэмы лорда А. Теннисона «Улисс»: «Бороться и искать, найти и не сдаваться.»
Антарктическая полюсная эпопея Р. Амундсена достаточно подробно и увлекательно описана в его замечательной книге «Южный полюс», впервые переведенной на русский язык в 1937 г., поэтому нам не хотелось бы лишать читателя удовольствия самостоятельного ее прочтения. Здесь же попытаемся расставить лишь некоторые важные, на наш взгляд, акценты, дополняющие портрет знаменитого покорителя полярных широт.
«Экспедиция Амундсена не может не вызвать величайшего восхищения, – писал В. Ю. Визе, – ибо она является образцом четкой организационной работы и столь же четкого выполнения плана на месте. Поход Амундсена к полюсу, сперва по шельфовому льду, затем по антарктическому плоскогорью, можно сравнить с безупречным разыгрыванием музыкальной пьесы, в которой каждый такт, каждая нота были заранее известны и продуманы исполнителями. Все шло именно так, как это предвидел и рассчитал Амундсен. 19 октября 1911 года пятеро смельчаков (Р.Амундсен, О. Бьяланд, О. Вистинг, Х. Хансен и С. Хассель на четырех нартах, запряженных 52 собаками. – Гл.) покинули зимовочную базу, 7 декабря была пройдена [параллель] 88°23 ю. ш., до которой в 1909 году удалось дойти Шеклтону, а 14 декабря Амундсен и его спутники были на полюсе. Произведенные позже точные вычисления наблюденных Амундсеном высот Солнца показали, что норвежский флаг был водружен на [отметке] 89°58,5 ю. ш., то есть на расстоянии около 2,5 км от полюса. Так как Амундсен и его спутники, кроме того, исследовали местность вокруг полюсного лагеря по радиусу около 10 км, то они имели полное право утверждать, что действительно были на полюсе.»
Покорителей ЮП встречали с большими почестями в Америке, Европе и особенно на родине, в Норвегии. Их самоотверженный труд был по достоинству оценен различными наградами и почетными званиями. Исключением стала только Англия, представители которой упорно обвиняли Р. Амундсена в «нечестной спортивной борьбе» и не признавали его покорителем ЮП. Увы, все было сделано по правилам, и победил не только сильнейший, но и опытнейший.
Ступив на ЮП и став полярным путешественником с мировым именем, Р. Амундсен не отказался от своего плана побывать на СП, тем более что благословление на это он получил от самого короля Хокона VII, усомнившегося в его покорении американцами. Правда, грянувшая Первая мировая война 1914–1918 гг. создала условия, мало благоприятные для осуществления этого плана. Но зато появилась возможность заработать деньги для будущей экспедиции на поставках снаряжения воюющим державам – услуги торгового флота нейтральной Норвегии в то время ценились особенно высоко. Р. Амундсен вложил свой весьма скромный капитал в акции пароходных компаний и к 1916 г. стал на некоторое время состоятельным человеком, что позволило ему в должной мере обеспечить всем необходимым будущую экспедицию.
Конечно, полностью отстраненным от всего происходящего тогда в мире и на театре войны порядочному человеку трудно было оставаться. В то трудное время Р. Амундсен безвозмездно передал норвежскому правительству свой аэроплан «Фарман», приобретенный для полетов в Арктику (в 1914 г. он сдал экзамен на звание гражданского летчика), а когда в октябре 1917 г. немецкая подводная лодка с особой жестокостью потопила в Северном море одно из норвежских торговых судов, он был настолько возмущен, что вернул в германское посольство орден, врученный ему лично императором Вильгельмом II за открытие ЮП, а также несколько немецких медалей, утративших для него «всякую ценность».
Для новой экспедиции было построено специально приспособленное для дрейфа во льдах судно «Мод», закуплено все необходимое снаряжение и продовольствие, подобран состав команды. Выйдя из Норвегии 14 июля 1918 г., судно двинулось вдоль северных берегов Евразии на восток и, обогнув мыс Челюскина, 30 сентября встало на зимовку в Бухте Мод. Зимовка была на редкость неудачной для Р. Амундсена. Однажды он сорвался со сходен, упал и в двух местах сломал себе руку, а подлечившись, едва не погиб в медвежьих «объятиях». После этого он заболел какой-то странной болезнью, по признакам похожей на отравление, стало шалить сердце, расстроились нервы. Через год экспедиция потеряла двух матросов: один из них, страдающий хроническими головными болями, отпросился на родину, а другой вызвался его сопровождать. Они погибли на пути к Диксону. По всем признакам экспедиция как-то не задавалась.
Пройдя через пролив, отделяющий Новосибирские острова от материка, судно было остановлено льдами и 23 сентября 1919 г. у острова Айона встало на вторую зимовку. Когда в июле следующего года лед взломался, Р. Амундсен изменил свой первоначальный план и решил идти до поселка Номе, а оттуда в американский порт Сиэтл. «Такое решение было вызвано рядом весьма основательных причин, – пишет он. – Прежде всего я хотел пополнить наши запасы и произвести кое-какой ремонт. Во-вторых, приобретенный нами опыт указывал, что, только достигнув Берингова пролива, мы будем в состоянии проникнуть в область дрейфующих льдов. Наконец, сердце у меня все еще было не в порядке. и поэтому я хотел воспользоваться случаем посоветоваться со специалистом. Плавание от Айона до Номе совершилось без всяких препятствий, и мы прибыли туда в августе…»
В 1906 г., придя в Ном на «Иоа» с востока, а в 1920 г. – на «Мод» с запада, Р. Амундсен, таким образом, совершил первое кругосветное путешествие в арктических водах. «В наше время рекордов это имеет свое значение.» – записал он в своем дневнике.
В Номе из восьми членов экипажа осталось четверо, остальные по разным причинам покинули судно. Некоторые трения между Р. Амундсеном и отдельными членами его прежних экспедиций были всегда, однако в этот раз их взаимоотношения были более чем неважные.
В 1922 г., когда судно «Мод» ремонтировалось в Сиэтле, Р. Амундсен вернулся в Норвегию. К тому времени он пересмотрел свои планы и решил добраться на СП воздушным путем. «Я более чем когда-либо был убежден, что настало время применить этот новый метод в полярных льдах. – пишет Амундсен. – Применение легких саней, запряженных собаками, открыло последующим исследователям тайну успеха быстрых продвижений к полюсу (метод Нансена. – Гл.). Моя идея ввести воздухоплавательную технику в полярное исследование означала, по моему мнению, не меньший переворот в этой области.
Перелет… через Северный Ледовитый океан являлся… совершенно новым предприятием. Он представлял также и величайший научный интерес. Самой пространной. не исследованной областью земного шара. был район. простиравшийся между северным побережьем Аляски через Северный полюс и до Северной Европы. Научное значение его исследования следующее: полюсы «делают климат» умеренных поясов. Воздушные течения, обтекающие земные полюсы, влияют на ежедневную температуру Нью-Иорка или Парижа гораздо сильнее, нежели что-либо другое, за исключением солнца. Вследствие этого знание географических и метеорологических условий в районе полюсов имеет огромное значение для науки. Поэтому мой интерес к трансполярному перелету являлся не только одной жаждой приключений, но имел также научно-географические основы.»
Однако для реализации нового проекта снова нужны были деньги, и немалые. В 1925 г. Р. Амундсен наконец нашел человека, готового финансировать его предприятие. Это был Л. Элсворт – американский миллионер, меценат и любитель приключений. При условии, что Р. Амундсен согласится «разделить с ним руководство экспедицией», Л. Элсворт выделил деньги на покупку двух гидропланов «Дорнье-Валь» и на частичное покрытие других расходов.
21 мая 1925 г. воздушная экспедиция, взлетев со Шпицбергена, взяла курс на СП. Но на параллели 88° с. ш. мотор одного из гидропланов стал работать с перебоями и летчики совершили вынужденную посадку на разводье. Обратно лететь пришлось уже одним бортом. Площадку для взлета длиной 500 м готовили почти месяц. «Мы работали как бешеные, – пишет Амундсен. – Это был бег взапуски со смертью. Передышки, которые мы позволяли себе среди этой тяжелой работы, использовались частью на сон, частью на производство наблюдений астрономических, метеорологических и океанографических. Измерения глубины определенно показывали, что в нашем соседстве нигде нет земли.» Вырвавшись с большим риском для жизни из ледового плена, Р. Амундсен со всеми своими спутниками благополучно приземлился на Шпицбергене.
Великий путешественник не успокоился и после этой неудачи. Когда ему стало известно, что итальянское правительство решило продать подержанный дирижабль, сконструированный полковником У. Нобиле, он купил его при финансовой поддержке Л. Элсворта, дал ему имя «Норвегия» и стал готовиться к новому, теперь уже трансконтинентальному полету. Должность капитана дирижабля согласился занять (за солидный гонорар в 55 тыс. лир золотом) его конструктор, имеющий опыт воздухоплавания.[54]
Буквально накануне вылета стало известно, что 9 мая 1926 г. самолет фирмы «Фоккер» под управлением американского адмирала Р. Бэрда долетел до СП и благополучно вернулся назад. Однако и это не смутило норвежского героя, ведь в его планах СП был лишь промежуточным звеном.
Воздушная экспедиция Амундсена—Элсворта завершилась успешно. Вылетев со Шпицбергена, дирижабль 12 мая 1926 г. миновал СП и через двое суток приземлился на Аляске у поселка Теллер. «Первый перелет от континента до континента завершен, – пишет Р. Амундсен, – и при этом ни один волос не упал ни с чьей головы…» Неприятный осадок остался только от общения с экспансивным «водителем дирижабля» полковником У. Нобиле, который, строго следуя указаниям своего правительства, при любом случае стремился обозначить себя в качестве первого лица и в итоге «присвоить себе заслуги полета, выдавая его за итальянское предприятие». Поэтому иметь когда-либо общее дело с ним Р. Амундсен больше не хотел. Норвежец и итальянец расстались врагами.
По возвращении на родину Р. Амундсен посчитал, что миссия, возложенная на него свыше, выполнена и его карьеру исследователя можно считать законченной: «Этой славы достаточно на одного человека. В дальнейшем я всегда с величайшим интересом буду следить за разрешением загадок далеких полярных стран, но не могу уже надеяться найти такое богатое поле деятельности, какое я оставил позади.»
Но, как говорится, мы предполагаем, а жизнь располагает. В 1928 г. произведенный в генералы У. Нобиле полетел на дирижабле «Италия» к СП, достиг его, а на обратном пути, сбившись с курса где-то к северо-востоку от Шпицбергена, потерпел аварию. На дрейфующем льду в оторвавшейся командирской гондоле оказалось десять человек, часть снаряжения, продукты и радиостанция. Один из аэронавтов погиб, трое, в том числе и У. Нобиле, были покалечены. После падения, потеряв в весе несколько тонн, оболочка дирижабля взмыла вверх, унося с собой шестерых оставшихся там участников экспедиции. Несчастные исчезли бесследно, их судьба до сих пор неизвестна. Уцелевшим путешественникам удалось установить связь с внешним миром и сообщить о катастрофе. 18 морских судов и 20 самолетов, снаряженных в различных странах, отправились на спасение итальянцев.
«Весь мир смотрит на Амундсена – величайшего полярника современности… – пишет академик А. Ф. Трёшников. – Но Амундсен молчит, корреспонденты к нему не допускаются. Наконец, решение принято. Гибнет его личный враг, но гибнет на работе в Арктике. Нобиле – собрат по работе. Его надо спасти. Амундсен спешит и отправляется на одном самолете… Он летит на «Латаме» (новом французском гидросамолете, командир капитан 3 ранга Р. Гильбо. – Гл.)… Амундсен не спас Нобиле[55] – Амундсен погиб (вместе с ним погибли четыре француза и норвежец. – Гл.)… Когда весть об исчезновении [самолета] облетела мир, советское правительство отдало приказ [ледоколам] «Малыгину» и «Седову» принять все меры к розыску Амундсена. «Малыгиным» руководил тогда автор этих строк. Долго крейсировал ледокол у восточных и южных берегов Шпицбергена, где надежды найти Амундсена казались наибольшими. Зорко высматривали люди с малыгинского «Юнкерса» (с самолета Балтийского флота под командованием полярного летчика Б. Г. Чухновского. – Гл.), реявшего над безбрежными льдами. Тайну великого Руаля ни нам, ни другим раскрыть не удалось. Мы знаем только, что те воды, где он за 27 лет до рокового дня проводил на маленькой «Иоа» свои первые океанографические исследования, стали его могилой. Через два с половиной месяца после вылета Амундсена (31 августа 1928 г. – Гл.) у берегов северной Норвегии был найден поплавок с «Латама».»
Так завершилась жизнь Р. Амундсена – великого полярного путешественника, навеки занявшего особое место в истории географических путешествий и открытий. 14 декабря 1928 г. вся Норвегия почтила память своего национального героя двухминутным молчанием. «В нем жила какая-то взрывчатая сила, – сказал Ф. Нансен в своем прощальном слове на траурном митинге. – На туманном небосклоне норвежского народа он взошел сияющей звездой. Сколько раз она загоралась яркими вспышками! И вдруг сразу погасла, а мы не можем отвести глаз от опустевшего места на небосводе.»
Велики дела, совершенные Р.Амундсеном! Он первый: прошел Северо-Западным проходом; обогнул все берега Северного Ледовитого океана; совершил кругосветное плавание в антарктических водах; вступил на ЮП; применил самолет и дирижабль для проникновения в центральную Арктику; пролетел на дирижабле над СП и пересек Ледовитый океан от берегов Европы до Аляски. Поистине – чудесная жизнь! Почти сказочные дела, совершенные этим «викингом двадцатого века», и его трагическая, но прекрасная смерть окружают величавую фигуру норвежца ореолом романтики.
Именем Руаля Амундсена названы гора в Восточной Антарктиде, залив и котловина в Северном Ледовитом океане, море у берегов Южного континента и антарктическая полярная станция.
Глушков Валерий Васильевич,
доктор географических наук, профессор, почетный геодезист, действительный член Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, член-корреспондент Международной академии астронавтики (Стокгольм) и Академии геополитических проблем (Россия)
Маленькой кучке отважных людей, которые в тот памятный вечер на рейде Фуншала, на острове Мадейра, обещали помочь мне в битве за Южный полюс, – моим товарищам – посвящаю я эту книгу.
Ураниенборг, 15 августа 1912 Руаль Амундсен
«Северный полюс достигнут». Эта весть в одно мгновение облетела весь мир. Цель, о которой мечтало столько людей, ради которой трудились, страдали, даже жертвовали жизнью, была достигнута. Сообщение об этом дошло до нас в сентябре 1909 года.
Мне тотчас стало ясно, что первоначальный план третьего похода «Фрама»[56] – исследование Северного полярного бассейна – под угрозой. Чтобы спасти задуманное дело, надо было действовать быстро, без проволочек. И так же быстро, как известие пролетело по телеграфному кабелю, я решил переменить фронт – повернуть кругом и взять курс на юг.
Правда, в своем плане я подчеркивал, что третье плавание «Фрама» будет всецело научной экспедицией, а не погоней за рекордами, и многочисленные жертвователи, которые так горячо поддержали мой замысел, равнялись именно на этот первоначальный план. Но поскольку теперь обстоятельства изменились и у меня было мало шансов осуществить первоначальный план, я счел, что не буду ни вероломным, ни неблагодарным по отношению к моим жертвователям, если решительными действиями спасу положение, чтобы уже произведенные большие затраты на экспедицию не пропали даром и многочисленные пожертвования не оказались выброшенными на ветер.
Вот почему я со спокойной совестью решил отложить на год-другой выполнение своего первоначального плана, чтобы за это время постараться добыть недостающие средства. Среди задач полярного исследования есть такие, которые всех волнуют. Теперь предпоследняя из них – открытие Северного полюса – решена. Чтобы привлечь внимание к моему предприятию, мне оставалось только попытаться разрешить последнюю великую задачу – открыть Южный полюс.
Знаю, меня упрекали в том, что я не сразу оповестил о своем расширенном плане, чтобы как те, кто нас финансировал, так и исследователи, которые готовили экспедиции в те же области, были в курсе дела. Я предвидел подобные нарекания, а потому тщательно взвесил и эту сторону вопроса.
За первых, то есть за людей, предоставивших нам деньги, я был спокоен. Крупные деятели, они посчитали бы ниже своего достоинства спорить о том, как надлежало использовать выделенные ими средства. Я знал, что пользуюсь у них достаточным доверием. Они правильно поймут ситуацию, поймут, что настанет час и помощь будет использована на то дело, какое они имели в виду.[57] Уже теперь у меня есть сколько угодно доказательств того, что я не ошибался.
Что до вторых – людей, которые в это время тоже планировали антарктические экспедиции, – то и здесь моя совесть была достаточно чиста. Я знал, что успею сообщить капитану Скотту о своем расширенном плане во всяком случае до того, как он покинет цивилизованный мир, несколько месяцев раньше или позже тут большой роли не играли.[58] Планы и снаряжение Скотта настолько отличались от моих, что я считал телеграмму, которую послал ему впоследствии, сообщая о нашем отплытии в Антарктику, скорее знаком вежливости, чем посланием, рассчитанным на то, чтобы он хоть как-то изменил свою программу. Английская экспедиция ставила своей задачей научные исследования. Полюс для нее был, так сказать, второстепенным делом, а в моем расширенном плане он стоял на первом месте. Наука на время этого небольшого зигзага отодвигалась на задний план; правда, я отлично понимал, что, идя к полюсу по намеченному мной пути, мы не можем не обогатить в значительной степени разные отрасли науки.
У меня было совсем другое снаряжение, и я сомневаюсь, чтобы капитан Скотт, имевший большой опыт в исследовании Антарктики, хоть в чем-то отклонился от своей практики и изменил свое снаряжение по образцу того, которое я предпочел. По сравнению со Скоттом у меня было гораздо меньше не только опыта, но и средств.
Что же касается экспедиции лейтенанта Ширасе на «Кайнан Мару»,[59] то, насколько я понимал его план, он собирался уделить все свое внимание Земле короля Эдуарда VII.[60]
Взвесив всесторонне эти вопросы, я сделал упомянутые выводы и принял окончательное решение. Если бы я тогда же опубликовал свои планы, это дало бы только повод к газетной шумихе и даже могло привести к тому, что младенца удавили бы при рождении. Все нужно было подготовить втихомолку. Единственный, с кем я поделился, был мой брат, на молчание которого я мог вполне положиться. И за то время, когда тайна была известна только нам двоим, он оказал мне много важных услуг. Потом вернулся в Норвегию лейтенант Нильсен – тогдашний помощник капитана «Фрама» и его нынешний капитан, – и я счел нужным тотчас известить его о своем решении. Его отношение к моим словам подтвердило, что мой выбор сделан удачно. Я понял, что в его лице обрел не только способного и надежного человека, но и хорошего товарища. А это едва ли не самое важное. Когда отношения между начальником и его помощником хорошие, можно избежать многих неприятностей и излишних осложнений. Кроме того, такое взаимопонимание служит хорошим примером и залогом для добрых взаимоотношений всех членов команды. Так что для меня было большим облегчением возвращение лейтенанта Нильсена в январе 1910 года; он проявил себя таким энергичным, искусным и надежным помощником, что я не могу им нахвалиться.
План похода «Фрама» на юг выглядел так: выход из Норвегии не позже первой половины августа. Первый и единственный заход – на остров Мадейра. Дальше идем наиболее благоприятным дляпарусника – иначе нельзяназвать «Фрам» – курсом на юг через Атлантику и на восток через Южный океан к югу от мыса Доброй Надежды и Австралии, чтобы к Новому 1911 году пробиться через пак в море Росса.
Главной базой я выбрал самый южный пункт, до которого мы рассчитывали дойти на судне, – Китовую бухту в великом Ледяном барьере. Мы надеялись дойти туда приблизительно 15 января. Высадив здесь отряд зимовщиков – около 10 человек – и выгрузив материалы для постройки дома, снаряжение и продовольствие на два года, «Фрам» должен был затем пройти к Буэнос-Айресу, чтобы оттуда совершить океанографический рейс через Атлантику к берегам Африки и обратно. В октябре судно вернется в Китовую бухту и заберет зимовщиков. Дальше этого в то время наши наметки не могли идти. Последующий ход экспедиции мог быть определен лишь потом, когда будут выполнены работы на юге.
С барьером Росса я был знаком только по книгам, но я основательно изучил всю литературу об этих областях и, когда впервые увидел этот могучий массив, мне показалось, что я знаю его уже много лет.
Тщательно все взвесив, я выбрал Китовую бухту для зимовья по ряду причин. Прежде всего потому, что здесь мы на судне могли проникнуть на юг – на целый градус дальше, чем это было возможно в заливе Мак-Мердо, где собирался устроить базу Скотт. А это должно было сыграть очень большую роль для последующего санного перехода к полюсу. Другое важное преимущество – мы сразу окажемся в районе предстоящих работ и, что называется, прямо из окна своего дома будем видеть обстановку и местность, с которой нам придется иметь дело. Кроме того, у меня были основания предполагать, что район к югу от этой части барьера, удаленной от материка, будет много ровнее и легче проходим, чем торосистые участки вдоль берега. К тому же из описаний следовало, что фауна Китовой бухты чрезвычайно богата, и мы вполне сможем обеспечить себя свежим мясом, охотясь на тюленей, пингвинов и т. п.
Помимо этих, чисто технических преимуществ, которые сулил для зимовки Ледяной барьер, он обещал также стать чрезвычайно удобным местом для метеорологических наблюдений. Больших неровностей нет, материк далеко – словом, идеальные условия для повседневного изучения самого барьера. Такие интересные явления, как движение этого исполинского ледяного массива, его питание и обламывание, здесь, разумеется, можно было очень тщательно исследовать.
И наконец, чрезвычайно важным преимуществом было то, что сюда всегда относительно легко подойти на судне. Я не знал ни одного случая, чтобы какая-нибудь экспедиция не смогла пробиться в эти места.
Я предвидел, что намерение зимовать на самом барьере подвергнется резкой критике, будут говорить о безрассудстве, легкомыслии и так далее. Ведь было принято считать, что здесь, как и в других местах, барьер плавучий. Так думали даже те, кто сам тут побывал. Рассказ Шеклтона о том, что он наблюдал, не сулил ничего хорошего. Лед обламывался миля за милей, и Шеклтон благодарил бога за то, что не построил здесь своего дома. Как ни высоко я ценю самого Шеклтона, его работу и опыт, по-моему, он в этом случае поспешил с выводами. К счастью для меня, прибавлю я. Ведь если бы он, когда 24 января 1908 года проходил мимо Китовой бухты и видел, как лед в бухте вскрывается и относится течением, подождал несколько часов или в крайнем случае несколько дней, проблема Южного полюса, наверно, была бы решена гораздо раньше декабря 1911 года. Этот проницательный и сообразительный человек быстро установил бы, что барьер во внутренней части Китовой бухты не плавучий, а покоится на прочном, надежном фундаменте, вероятно, из мелких островков, шхер или мелей. Выйдя отсюда вместе со своими отважными товарищами, Шеклтон раз и навсегда снял бы с повестки дня вопрос о Южном полюсе. Но обстоятельства сложились иначе, и завеса была не сорвана, а лишь приподнята.
Я особенно пристально изучал литературу об этой части барьера Росса и пришел к заключению, что образование, известное теперь под названием Китовой бухты, есть та самая бухта, которую наблюдал сэр Джемс Кларк Росс,[61] правда, с некоторыми довольно заметными изменениями. Значит, этот залив, не считая отколовшихся кусков барьера, семьдесят лет оставался на месте. Отсюда я делал вывод, что речь идет не о случайном природном образовании. Что-то в незапамятные времена остановило могучий, всесильный поток льда именно здесь и создало постоянную бухту в ледяной кромке, которая в остальном тянется почти совершенно ровно, и это была не случайная прихоть сокрушительной, грозной силы, а нечто более прочное, чем твердый лед, – коренная земля. Итак, тут Ледяной барьер вздыбился и образовал бухту, называемую нами Китовой. Наблюдения, которые мы провели, пока находились в этом районе, подтверждают нашу теорию. Я, не задумываясь, решил поместить в этой части барьера свою базу.
Задачей берегового отряда было, как только будет построен дом и выгружен провиант, забросить продовольствие по складам как можно дальше на юг. Я надеялся доставить к 80° южной широты столько провианта, чтобы эта параллель могла стать стартовой линией для санного перехода к самому полюсу. Дальше мы увидим, что действительность превзошла мои ожидания, и мы сделали гораздо больше задуманного. Устройство складов закончится перед самым приходом зимы, и, учитывая условия Антарктики, нам надо будет основательно приготовиться к самой холодной и, вероятно, самой бурной погоде, какую когда-либо приходилось наблюдать полярным экспедициям. Как только установится зима и на базе все будет налажено, я собирался сосредоточить все наши силы на главной задаче – достижении полюса.
Со мной пойдут люди, которые лучше других подходят для работы на морозе. Еще важнее подобрать людей, опытных в управлении собачьими упряжками. Я отдавал себе отчет в том, что это будет иметь решающее значение для исхода всего предприятия. В таком деле участие опытных людей имеет и свои плюсы, и свои минусы. Преимущества очевидны. Сложенный вместе коллективный опыт, если его разумно применить, конечно, позволяет многого добиться. Часто опыт одного приходится кстати там, где его нет у другого. Сильные стороны многих, надеялся я, будут дополнять друг друга, образуя, можно сказать, полное совершенство. Но нет розы без шипов. Кроме плюсов могут быть и минусы. В данном случае минус обычно заключается в глубоком убеждении того или иного человека, что его опыт превыше всего, а другие мнения ничего не значат. Конечно, досадно, если опытность проявляется таким образом, но деликатным и разумным подходом можно исправить дело. Как бы то ни было, плюсы со всей очевидностью перевешивают, поэтому я решил взять с собой возможно больше опытных людей. Я собирался посвятить зиму нашему снаряжению и постараться довести его до предельного совершенства. Кроме того, надо успеть забить столько тюленей, чтобы все время было свежее мясо как для нас, так и для собак. Во что бы то ни стало надо преградить путь злейшему врагу полярных экспедиций – цинге. Для этого мне хотелось обеспечить на каждый день свежую пищу. Выполнить это оказалось легко, потому что все без исключения предпочитали тюленье мясо консервам. К весне я рассчитывал быть вместе со своими товарищами здоровым, бодрым и готовым выйти в путь с полным во всех отношениях снаряжением.
Я предполагал покинуть базу весной как можно раньше. Раз уж мы включились в гонку, надо непременно быть первыми на финише. Мы должны сделать все для этого. И я с самого начала, когда только наметил свой план, решил, что из Китовой бухты мы пойдем прямо на юг и постараемся следовать по одному и тому же меридиану до самого полюса. Тогда мы пересечем совершенно неизвестные области и кроме первенства в гонке к полюсу добьемся также других результатов.
Я чрезвычайно удивился, узнав позднее, что нашлись люди, которые серьезно думали, будто мы от Китовой бухты пошли на ледник Бирдмора[62] и направились на юг маршрутом Шеклтона. Позвольте мне сразу же подчеркнуть, что эта мысль даже не приходила мне в голову, когда я намечал свой план. Скотт объявил, что он пойдет путем Шеклтона, тем самым вопрос был решен. За все то время, что мы находились в Фрамхейме, никто из нас ни разу даже не заикнулся о таком варианте. Маршрут Скотта был для нас, так сказать, неприкосновенным.
Мы намеревались идти прямо на юг, и только очень каверзные препятствия могли бы помешать нам подняться на плато. Курс – юг, и ни шагу в сторону от меридиана, разве что непреодолимые преграды принудят нас свернуть. Я предвидел, что найдутся люди, которые набросятся на меня, будут говорить о «нечестном соревновании» и т. д. И в этом была бы доля истины, если бы мы в самом деле собирались идти маршрутом Скотта. Но нам это и в голову не приходило. Место, откуда мы хотели стартовать, находилось в 350 милях, или почти в 650 километрах, от зимовья Скотта в заливе Мак-Мердо, так что ни о каком вторжении в его область не могло быть и речи. Впрочем, профессор Нансен с присущей ему убедительностью раз и навсегда опроверг все эти бредни, поэтому я не буду больше на них останавливаться.
Изложенный здесь план был разработан мной дома, в Бюндефьорде под Кристианией,[63] в сентябре 1909 года, и мы выполнили его полностью, до мельчайших деталей.
Я не так уж плохо рассчитал график, об этом говорит заключительная фраза моего плана: «Таким образом, последние участники перехода к полюсу вернутся 25 января». Именно 25 января 1912 года мы возвратились к Фрамхейму после успешного похода к полюсу.
Это не единственный случай, когда расчеты оправдались. Капитан Нильсен проявил себя тут настоящим кудесником. Если я довольствовался тем, что угадывал числа, то он оперировал часами. Он рассчитал, что мы подойдем к барьеру 15 января 1911 года. От Норвегии до барьера 16 000 миль, или около 30 000 километров, а мы пришли к нему 14 января – за день до предполагаемого срока. Вот это точность!
По решению стуртинга [парламента] от 9 февраля 1909 года для нужд экспедиции был предоставлен «Фрам». Одновременно было ассигновано 75 000 крон на ремонт и оснащение судна.
Продовольствие подбиралось очень тщательно и надежно упаковывалось. Всю бакалею запаяли в жестяные банки, которые уложили в крепкие деревянные ящики. Чрезвычайно важно для полярной экспедиции качество консервированных продуктов. Эта часть провианта требует особого внимания. Всякая неосторожность и недобросовестность со стороны фабрикантов обычно ведет к цинге. Характерно, что в четырех норвежских полярных экспедициях – три плавания «Фрама» и плавание на «Иоа» – не было ни одного случая цинги. Это хороший показатель того, как тщательно оснащались названные экспедиции.
Здесь мы все прежде всего обязаны профессору Софусу Торупу. Он всегда, и на этот раз тоже, осуществлял официальный контроль продовольствия.
Фабрики, поставившие нам консервы, тоже достойны всякой похвалы. Своим успехом экспедиция во многом обязана их отличной, добросовестной работе. Речь идет, в частности, о Ставангерской фабрике, которая кроме поставок по заказу предоставила экспедиции товаров на сумму в 2 тысячи крон, проявив замечательную щедрость. Другая часть нужных нам консервов была заказана одной фирме в Мосе. Управляющий этой фирмой взялся также изготовить пеммикан для людей и собак. Результат был выше всяких похвал. Благодаря превосходному качеству этого продукта здоровье людей и собак в нашей экспедиции всегда было в порядке. Этот пеммикан существенно отличался от того, которым пользовались прежние экспедиции. Если прежде в пеммикан входили только мясной порошок и жир в соответствующей пропорции, то в наш были еще добавлены овощи и овсяная крупа. Это сделало его намного вкуснее и, насколько мы могли судить, повысило усвояемость продукта.
Этот сорт пеммикана предназначался для армии. Предполагалось, что новый продукт заменит прежний «резервный паек». Проверка его еще продолжалась, когда мы уходили в плавание. Надеюсь, что результат был признан удовлетворительным. Трудно представить себе более сытную, питательную и вместе с тем вкусную пищу в походе.
Пеммикан для собак играл не меньшую роль, чем пеммикан для нас самих. Ведь собаки тоже подвержены цинге. Поэтому об их питании надо было проявить не меньшую заботу. Мы получили из Мосе два вида пеммикана для собак – рыбный и мясной. Оба они содержат также известный процент молочного порошка и третьесортной муки. И тот и другой пеммикан одинаково хороши, и наши собаки всегда были в прекрасной форме. Пеммикан был расфасован в полукилограммовых упаковках и не требовал никакой предварительной обработки. Но нам предстояло еще плыть пять месяцев, прежде чем мы начнем расходовать пеммикан. На все это время нужно было запасти доброкачественную сушеную рыбу. Ее я получил из Тромсё через посредника экспедиции, ученого фармацевта Фрица Цапфе. Кроме того, две известные фирмы предоставили в мое распоряжение огромное количество сушеной рыбы лучшего качества. Добрый запас великолепной рыбы и несколько бочек жира позволили нам довезти собак до места в наилучшем состоянии.
Одним из самых важных дел при снаряжении нашей экспедиции было подобрать хороших собак. Как я уже говорил, для успеха моего предприятия мне надо было действовать решительно и без промедления. Вот почему я на следующий день, после того как принял решение, уже был на пути в Копенгаген, где как раз в это время находились два инспектора гренландской администрации. У нас состоялись переговоры, и они взялись поставить мне в июле 1910 года в Норвегию сто самых лучших гренландских собак. Тем самым эта проблема была решена, так как подбором собак занялись сведущие люди.
Прежде чем продолжать рассказ о снаряжении экспедиции, хочу еще остановиться немного на собаках. Ведь в подборе упряжных животных, несомненно, заключалась главная разница между моей экспедицией и экспедицией Скотта. Мы уже говорили о том, что Скотт, основываясь на собственном опыте и опыте Шеклтона, пришел к выводу, что на Ледяном барьере маньчжурские пони предпочтительнее собак. Среди людей, знающих, что такое эскимосская собака, вряд ли я был единственным, кого озадачило это заключение. А когда я затем знакомился с различными отчетами и составил себе точное представление о рельефе и состоянии снега, мое удивление еще более возросло. Хотя я никогда не видел этой части Антарктики, мое мнение было прямо противоположным мнению Шеклтона и Скотта. Судя по их же собственным описаниям, рельеф и снег там как нельзя лучше подходили для езды на эскимосских собаках. Если Пири совершил рекордный переход по северным льдам на собаках, то неужели с таким же добрым снаряжением нельзя побить его рекорд на великолепной, ровной поверхности Ледяного барьера? Видимо, англичане, судя о пригодности эскимосских собак для полярных областей, в чем-то просчитались. Может быть, все дело в том, что собака не поладила с хозяином? Или хозяин не понял своей собаки? Надлежащие отношения должны быть установлены сразу же. Собака должна знать, что она обязана повиноваться. Хозяин должен уметь заставить себя слушаться. Были бы установлены нужные отношения, а тогда, я в этом убежден, на длинных дистанциях собака превзойдет любых других упряжных животных.
Еще более веский довод в пользу собаки заключается в том, что маленькое животное гораздо легче преодолевает многочисленные хрупкие снежные мосты, без которых не обходится на барьере и на растрескавшихся ледниках. Если провалится собака, ничего страшного. Взял ее за шиворот, дернул хорошенько, и она опять наверху. Совсем другое дело пони. Сравнительно крупные и тяжелые, они, естественно, скорее проваливаются, и уж их вытаскивать – дело трудное и долгое. Конечно, если постромка не оборвалась и пони не лежит на дне трещины в 300 метров глубиной…
И еще одно очевидное преимущество: собаку можно кормить собакой. Можно постепенно уменьшать количество собак, забивать тех, что похуже, на корм тем, что получше. Таким образом их легче обеспечить свежей пищей. Наши собаки всю дорогу получали собачье мясо и пеммикан; по этому они превосходно работали. Если захочется нам самим съесть кусок свежего мяса, можно вырезать небольшое филе, не уступающее по вкусу лучшей говядине. Собаки менее разборчивы. Им бы только получить свою порцию, набросятся на тушу своего товарища – одни зубы от жертвы останутся. А после тяжелого дня и зубов не оставалось.
Если от Ледяного барьера перейти к плато, то и вовсе нет сомнений в преимуществах собак. Они не только без труда проходят могучие ледники, ведущие к плато; они на весь путь годятся. А пони приходится оставлять у подножия ледника, чтобы дальше самим играть роль пони – сомнительное удовольствие. Судя по тому, что пишет Шеклтон, не может быть и речи о том, чтобы втащить пони на крутые трещиноватые ледники. Представляю себе, как трудно, должно быть, расстаться с упряжными животными, когда пройдена только четвертая часть пути! Лично я предпочитаю всю дорогу пользоваться тяглом.
С первой же минуты я понял, что самой опасной частью нашего похода будет начало – путь от Норвегии до Ледяного барьера. Только бы нам удалось достигнуть барьера, не потеряв собак, а дальше все будет в порядке. К счастью, все мои товарищи рассуждали так же, и общими силами нам удалось не только благополучно доставить собак в район работ, но и высадить их там на берег в гораздо лучшем состоянии, чем они были, когда мы их приняли. Что им жилось хорошо, видно из того, что в пути количество собак приумножилось. Для защиты их от сырости и жары мы на три дюйма выше основной палубы настелили добавочную из строганых досок. Благодаря этому настилу морская и дождевая вода, которая неизбежно стекает по палубе сильно нагруженного судна, идущего к Южному океану, собакам была не страшна. Кроме того, поверхность настила всегда была прохладной, ведь между ним и палубой проходила струя свежего воздуха. В тропиках на черной от смолы основной палубе собакам было бы невмоготу. А высокий дощатый настил только чуть потемнел. Кроме того, мы везли с собой тенты, главным образом для собак. Их можно было растянуть над всеми палубами, защищая животных от палящего солнца.
Мне до сих пор смешно, когда я вспоминаю сострадательные голоса людей, которых волновало «истязание животных» на «Фраме»; иные даже в газеты об этом писали. Вероятно, заступниками были мягкосердечные владельцы цепных собак…
Наряду с нашими четвероногими друзьями мы везли с собой и двуногого друга, не столько для серьезной работы в полярных областях, сколько для развлечения в пути. Речь идет о нашем кенаре Фритьофе. Это был один из многочисленных подарков, преподнесенных экспедиции, притом из числа самых приятных. Едва очутившись на судне, он тотчас начал петь и не прекращал потом этого занятия во время двух кругосветных плаваний в самых негостеприимных водах земного шара. Наверно, по полярному стажу он рекордсмен среди своих собратьев.
Позднее у нас появилась целая коллекция представителей животного мира: свиньи, куры, овцы, кошки и крысы. Да, к сожалению, не обошлось на борту и без крыс, этих самых отвратительных созданий и злейших вредителей, каких я только знаю. Но мы объявили им войну и очистили от них «Фрам» до выхода в новое плавание. Они проникли на судно в Буэнос-Айресе, и мы сочли вполне уместным там же их похоронить.
Экспедиция была стеснена в средствах, поэтому мне приходилось «семь раз отмерить», прежде чем решиться на тот или иной расход. Важную роль в полярном путешествии играет экипировка, и я считаю необходимым, чтобы экспедиция снабжала участников основной полярной одеждой. Если предоставить каждому решать эту проблему по своему усмотрению, боюсь, к концу путешествия у экипировки будет далеко неприглядный вид. Конечно, мне обошлось бы гораздо дешевле просто указать каждому, что он должен взять с собой в экспедицию из одежды. Соблазнительный путь, но тогда я лишился бы возможности проследить в нужной степени за качеством экипировки.
Наша полярная одежда не отличалась роскошным видом, зато была теплой и прочной. От своих щедрот, а точнее, со своих складов Хортен[64] выделил нам множество отличных вещей. Я глубоко обязан нынешнему начальнику интендантской службы капитану Педерсену за любезность, с какой он меня принимал каждый раз, когда я приходил «грабить» его. Через него я получил около 200 шерстяных одеял. Только не представляйте себе нарядную постель вроде тех, какие можно увидеть на витрине мебельного магазина, с легкими белыми шерстяными одеялами – такими легкими и пушистыми, что, несмотря на их толщину, кажется, они сейчас улетят по воздуху. Нет, не такие одеяла получили мы от капитана Педерсена. Да мы и не знали бы, что с ними делать. Одеяла, выданные нам интендантством, были совсем иного рода. Цвет… Что ж, его вернее всего будет назвать «неопределенным». И они отнюдь не производили впечатления одеял, способных взлететь вверх, если их выпустить из рук. Нет, это были весьма земные одеяла, свалявшиеся и спрессованные в толстую плотную массу. С незапамятных времен они служили нашим доблестным военным морякам, и я вполне допускаю, что некоторые из них могли бы поведать страшные истории о пережитом ими во времена Турденшёлда.[65] Получив это сокровище, я первым делом отправил его в красильню. Окрашенные в ультрамариновый цвет, или как он там еще называется, они преобразились до неузнаваемости. От военного прошлого не осталось и следа.
Я намеревался пошить из этих двухсот одеял полярную одежду. Но как это сделать? Вряд ли будет разумно сразу взять да сказать портному, что это за материал. Какой же мастер возьмется шить одежду из старых одеял! Тут надо что-то придумать. Я разыскал одного добросовестного, искусного мастера и попросил его прийти ко мне. Горы одеял делали мой кабинет похожим на склад шерстяных тканей. И вот явился портной.
– Это и есть ваша материя?
– Да, она самая. Только что поступила из-за границы. Чертовски повезло. Случайная партия по дешевой цене.
Я изо всех сил старался выглядеть непринужденно. Гляжу, портной косится на меня. Похоже, отрезы кажутся ему великоватыми.
– Плотная ткань. – Он поднес материю к свету. – Готов поклясться, что это валяная шерсть.
Меня подмывало скаламбурить, но серьезность положения удержала меня от этого. Мы внимательно осматривали каждый «отрез», подсчитывая общее количество. Это было долгое и скучное дело, и я обрадовался, увидев наконец, что мы приближаемся к концу. В одном углу еще лежало несколько одеял. Мы уже насчитали 193, значит, осталось совсем немного. Я занялся чем-то другим, и портной заканчивал проверку один. Только что я хотел поздравить себя с успехом, как громкий крик из угла вернул меня на землю. Это было похоже на рев разъяренного быка. Увы! Стоя на фоне сплошного ультрамарина, портной размахивал одеялом, чей колер не оставлял никакого сомнения в том, откуда получен сей «импортный» товар. Портной испепелил меня взглядом и ушел, а я погрузился в бездну уныния. Больше я никогда не видел этого мастера. Меня подвело первое одеяло, присланное капитаном Педерсеном в качестве образца. Впопыхах я совершенно забыл о нем.
Правда, в конце концов мне все-таки удалось найти мастеров. И уж можете мне поверить, что ни у одной экспедиции не было более теплой и крепкой одежды. Мои люди очень высоко ее ценили.
Я счел также нужным обеспечить каждого хорошей непромокаемой одеждой, а главное, крепкими морскими сапогами. Поэтому сапоги были сшиты по мерке и из самого лучшего материала. Я заказал их фирме, которую привык считать лучшей в этой отрасли. Представьте себе наше разочарование, когда пришла пора надевать наши великолепные сапоги и вдруг оказалось, что большинство из них никуда не годится. Кое-кто мог плясать в своих сапогах, не отрывая их от земли. Другие, сколько ни старались, не могли протиснуть ногу через узкое отверстие, тесное голенище не пропустило бы даже самой изящной ножки. Зато головка сапога была так велика, что в ней свободно поместились бы две ступни. Лишь очень немногим сапоги были впору. Мы попытались прибегнуть к испытанному средству – обмену. Тщетно. Сапоги явно были сшиты не для обитателей нашей планеты. Но моряк всегда моряк, куда бы его ни занесло, он всегда вывернется. Большинство знало пословицу, гласящую, что одна пара сапог по ноге лучше десяти пар, которых нельзя надеть, а потому взяли с собой свои собственные. Так мы вышли из этого затруднения.
Из нижней одежды мы взяли для теплых широт по три пары легкого трикотажного белья. Этой частью снаряжения каждый занимался сам. У кого не найдется несколько старых рубашек, а большего и не требовалось для перехода через тропики. Для холодных областей было заготовлено по две пары очень толстого шерстяного белья ручного пошива, по две толстых шерстяных фуфайки ручной вязки, шесть пар длинных вязаных носок, исландские и другие свитера и еще носки – короткие и длинные.
Кроме того, мы получили всевозможное снаряжение с армейских складов. Я весьма обязан генералу Кеильхау за то, как любезно он выполнял мои просьбы. Нам выдали верхнее платье для теплой и холодной погоды, нижнюю одежду, сапоги, башмаки, штормовые костюмы и различные ткани. Заключая перечень личного снаряжения, назову гренландские тюленьи парки. Ну и такие вощи, как штопка, нитки, всякого рода иголки, пуговицы, ножницы, тесемки – узкие и широкие, белые и черные, синие и красные. Смею утверждать, что ничто не было забыто. У нас всего было вдоволь.
Серьезного внимания заслуживает также оборудование помещений, в которых находятся члены экспедиции во время плавания, а именно салонов и кают. Как это важно, когда живешь в приятной обстановке! Лично я могу сделать вдвое больше, когда вокруг меня порядок и уют. Салоны «Фрама» были обставлены очень красиво, со вкусом. Прежде всего мы благодарны королю и королеве за подаренные ими фотографии. Хортенские дамы тоже подарили нам много красивых вещиц, и их, наверно, порадует, что наши салоны всех приводили в восторг, куда бы мы ни заходили.
– Неужели мы на полярном судне? – спрашивали нас. – Мы ожидали увидеть только деревянные табуретки и голые стены.
Иные употребляли даже такие слова, как «будуар»… Кроме прекрасных вышивок переборки были украшены великолепными фотографиями. Мы наслышались много похвальных отзывов, которые, несомненно, доставили бы удовольствие дарителям.
Оборудовать каюты я предоставил людям по своему усмотрению. Каждый мог перенести в свой уголок частицу домашней обстановки. Коечное белье было пошито в мастерских военно-морского ведомства в Хортене. Оно было высшего качества, как и вообще все, что мы оттуда получили. Мы очень благодарны и за мягкие одеяла, которые приносили нам столько радости, согревая нас после холодного и сырого дня. Их мы получили от одной суконной фабрики вТронхейме.
Несколько слов о писчебумажных товарах. Лучшей бумаги, чем та, которой нас снабдили, нельзя было и пожелать. Отличнейшая почтовая бумага с изображением «Фрама» и названием экспедиции. Писчая бумага большого и малого формата, узкая и широкая, в старинном стиле и в новом. И такой запас перьев и ручек, черных и цветных карандашей, ластиков и туши, чернил и чернильного порошка, всевозможных кнопок и скрепок, белого и красного мела, гуммиарабика и всяких резинок, календарей и альманахов, судовых журналов и дневников, записных книжек и блокнотов, дневников для санных переходов и прочих канцелярских принадлежностей, что его хватит еще не на одно кругосветное путешествие. Фирма, подарившая нам все это, заслуживает самого лучшего отзыва. Каждый раз, когда я посылал письмо или делал запись в дневнике, я думал о ней с благодарностью.
Один из крупнейших магазинов Кристиании предоставил нам полный набор кухонной и столовой посуды отличного качества. На всех чашках, тарелках, ножах, вилках, ложках, чайниках, стаканах и прочем было написано: «Фрам».
Мы везли с собой чрезвычайно богатую библиотеку. Нами было получено в дар множество книг. Сейчас библиотека «Фрама», наверно, насчитывает не меньше 3000 томов.
Для развлечения у нас было много разных игр. Мы взяли несколько десятков колод карт, и многие из них теперь уже изрядно потрепаны. Но, пожалуй, лучшим нашим другом стал фонограф с большим набором валиков. Из музыкальных инструментов у нас были пианино, скрипка, флейта, мандолина, губная гармоника и, разумеется, гармонь. Все музыкальные магазины щедро снабдили нас нотами, мы могли заниматься музыкой сколько душе угодно.
Отовсюду шли рождественские подарки, всего их было получено штук 500. Друзья и знакомые позаботились о том, чтобы у нас были елки, елочные украшения и прочее, что нужно для празднования Рождества. Что говорить, все были к нам очень добры. И наши щедрые дарители могут не сомневаться, что все их подарки были и будут высоко оценены.
Благодаря одной из самых крупных винно-водочных фирм Кристиании мы располагали хорошим запасом вин и спиртных напитков. От стакана вина или стопки водки у нас на судне никто не отказывался. Вопрос об алкоголе в полярных путешествиях обсуждался часто. Лично я считаю алкоголь в умеренном количестве лекарством для полярников. Речь идет, конечно, о людях, находящихся на зимовках. Другое дело санные переходы. Тут алкоголю не место, как мы все знаем по опыту. И не потому, что рюмка водки может повредить, а потому, что надо считаться с весом снаряжения. В санном переходе важно иметь минимум груза, вот и берешь только самое необходимое. Алкоголь я не отношу к числу самого необходимого. Правда, спиртное оказывалось кстати не только на зимней базе, но и в однообразном, долгом плавании через холодные бурные широты. Когда возвращаешься с вахты мокрый, продрогший, до чего хорошо выпить стопочку водки перед тем, как лечь на койку. Какой-нибудь трезвенник поморщится и спросит: чем хуже добрая чашка горячего кофе? А по-моему, непомерное количество кофе, потребляемое в таких случаях, намного вреднее стопочки спиртного. И чем плохо выпить стакан вина или пунша, когда соберется компания! Приятный аромат рома быстро помирит двух недругов, которые успели повздорить за неделю. Вот уже старое забыто, они снова готовы сотрудничать. Лишите дружескую вечеринку вина, и вы скоро увидите разницу. Жаль, могут сказать, что для хорошего настроения человеку непременно нужен алкоголь. Что ж, я готов с этим согласиться. Но что поделаешь, раз уж мы таковы. Похоже, цивилизованному человеку возбуждающие напитки необходимы. А коли так, будем выходить из положения, кто как может. Лично я предпочитаю пунш. А другие пусть едят кексы и дуют кофе. От него того и гляди что-нибудь сердечное наживешь. А стаканчик пунша никому не повредит.
В третьем плавании «Фрама» норма потребления спиртных напитков составляла: одна стопка плюс 15 капель по средам и воскресеньям к обеду и стакан пунша в субботу вечером. По праздникам полагалась добавка.
Табака и сигар у нас тоже было вдоволь. Норвежские и зарубежные фирмы выделили нам столько ящиков, что мы каждую субботу вечером и в воскресенье к обеду могли выкурить по сигаре.
Две фабрики в Кристиании прислали нам отличные конфеты и монпансье, а одна иностранная фирма – шоколад «Гала Петер», и часто можно было видеть, как полярные путешественники угощаются конфетой или шоколадом. Владелец одной фирмы в Драммене снабдил нас в изобилии фруктово-ягодными соками. Наверно, ему было бы приятно знать, сколько раз мы благодарили его за чудесные напитки. Возвращаясь с Южного полюса, мы радовались скорому свиданию с нашим складом напитков.
Три разные фирмы в Кристиании полностью обеспечили нас сыром, печеньем, чаем, сахаром и кофе. Причем кофе был упакован так хорошо, что он, хотя и жареный, по сей день сохранил все свои вкусовые качества. Один оптовик прислал нам запас мыла на пять лет, а мыла уходит немало даже в полярной экспедиции. Другой торговец из Кристиании снабдил нас косметикой, и если у нас сейчас не нежная кожа, не пышные волосы и не жемчужные зубы, то это не его вина, он не поскупился.
Важную роль играет медицинское снаряжение. Здесь я пользовался консультацией врачей Якоба Ролла и доктора медицинских наук Холта. Благодаря этому у нас был полный комплект. Одна из аптек Кристиании подарила экспедиции все необходимые лекарства в превосходной упаковке. К сожалению, в составе экспедиции не было врача, и эту обязанность мне пришлось взять на себя. Лейтенант Ертсен, у которого обнаружились явные способности зубодера и костоправа, прошел молниеносный курс обучения в зубной клинике и госпитале. Многому можно выучиться в короткий срок, стоит только захотеть; пример лейтенанта хорошо это подтверждает. Удивительно быстро и уверенно Ертсен справлялся с самыми сложными случаями. Всегда ли его лечение шло на пользу пациенту – это другой вопрос, который я оставлю без ответа. Зубы он рвал с ловкостью фокусника. Раз – он показывает пустые щипцы, два – в этих щипцах уже торчит большой коренной зуб. Судя по крикам, операция эта проходила не совсем безболезненно.
Одна спичечная фабрика всецело обеспечила нас спичками. Их так основательно упаковали, что мы, наверно, могли бы до самой Антарктики тащить ящики по воде за собой, и по прибытии спички оказались бы совершенно сухими. Патронов и взрывчатки мы запасли очень много. Учитывая, что в трюме было полно керосина, можно сказать, что «Фрам» вез довольно опасный груз. Поэтому мы ввели самые строгие противопожарные правила. Во всех каютах и в других местах были размещены огнетушители. На палубе стояла в полной готовности помпа со шлангом.
Не был забыт и необходимый ледовый инструмент: ледовые пилы длиной от двух до шести метров, пешни и буры.
Мы везли с собой много научных приборов. Профессор Нансен и Хелланд-Хансен не один час посвятили нашему оборудованию для океанографических работ. А потому мы и тут были обеспечены образцово. К тому же Престрюд и Ертсен прошли необходимую подготовку по океанографии у Хелланд-Хансена на биологической станции в Бергене. Я сам провел там лето и прослушал океанографический курс. Хелланд-Хансен – прекрасный учитель. К сожалению, не могу утверждать, что я был столь же блестящим учеником.
Профессор Мун снабдил нас комплектом метеорологических приборов. Из инструментов «Фрама» назову маятниковый прибор, отличный астрономический теодолит и превосходный секстант. Лейтенант Престрюд обучался работе с маятниковым прибором у профессора Шёца, а обращению с астрономическим теодолитом – у профессора Гельмюйдена. Кроме того, у нас было несколько секстантов и искусственных горизонтов, как стеклянных, так и ртутных. И бинокли всех типов, от самых больших до самых маленьких.
До сих пор я говорил об основном экспедиционном снаряжении, теперь перейду к специальному снаряжению зимовочного отряда. Дом, который мы везли с собой, строился на моем участке в Бюндефьорде, так что я мог следить за работой на всех стадиях. Строили его братья Ханс и Ерген Стюбберюд, и они по праву могут гордиться великолепным результатом. Стройматериалы были превосходного качества. Дом был 8 метров в длину и 4 – в ширину. Высота от пола до конька – около трех с половиной метров. Обыкновенный дом, с двускатной крышей и двумя комнатами. Одна, длиной в 6 метров, должна была служить спальней, столовой и гостиной. Другая комната, длиной в 2 метра, предназначалась для кухни, это были владения Линдстрёма. Из кухни через люк можно было попасть на чердак, где предполагалось хранить часть провианта и снаряжения. Стены были из трехдюймовых досок с воздушной изоляцией. Воздушная прослойка отделяла от досок наружную и внутреннюю обивку.
Для изоляции использовали картон. Пол и потолок двойные, крыша одинарная. Толстые, крепкие двери стесаны по краю наискось, чтобы плотнее закрывались. Два окна: одно, в торцевой стене, с тройной рамой, другое, на кухне, с двойной. На кровлю мы взяли толь, для полов – линолеум. В комнате было две вентиляционные шахты: одна вытяжная, другая для поступления свежего воздуха. Вдоль стон шли в два этажа койки для десяти человек: у одной стены шесть, у второй – четыре. Осталось только назвать стол, табуретки для каждого и керосиновую лампу.
Половину кухни занимала плита, вторую половину – буфет и полки. Дом основательно просмолили, все части тщательно пометили, чтобы легче было его собрать. Для крепления дома к грунту, чтобы его не снесли антарктические бури, я попросил ввинтить по крепкому рыму в обоих концах коньковой балки и в каждый из четырех угловых столбов. Мы взяли с собой шесть метровых рым-болтов, намереваясь вбить их в лед барьера. Эти болты и рымы на доме мы думали соединить стальными тросами, которые натягивались винтовыми талрепами. Кроме того, имелись запасные цепи, их можно было перекинуть через крышу с обеих сторон, если буря станет очень свирепствовать. Обе вентиляционные шахты и колпак над дымоходом прочно крепились снаружи оттяжками.
Как видите, были приняты все меры, чтобы дом был уютным и теплым и прочно стоял на земле. Кроме того, мы везли множество больших и малых досок.
Помимо дома у нас было 15 шестнадцатиместных палаток. Десять из них старые, но совсем крепкие. Мы получили их от военно-морского интендантства. Остальные пять были новые, купленные на военных складах. Палатки должны были служить временным жильем. Они легкие, их можно быстро поставить, и в то же время крепкие и теплые. Пока мы шли на юг, Рённе снабдил пять новых палаток полом из толстого брезента.
Все ящики с продовольствием, предназначенные для зимовья, пометили и сложили в трюме отдельно, чтобы их быстро можно было выгрузить на лед.
Мы взяли десять саней работы одной спортивной фирмы в Кристиании, сделанных по образцу нансеновских, но несколько шире, длиной около трех с половиной метров. Полозья из лучшего американского гикори[66] со стальной оковкой. Остальные части – из доброго, прочного норвежского ясеня. К каждым саням была приложена пара накладных полозьев, которые легко крепились скобами и так же легко снимались, когда они были не нужны. Стальная оковка была промазана суриком, накладные полозья – дегтем. Сани на редкость крепкие, пригодные для всякой работы на любом рельефе. Тогда я еще не знал обстановку на барьере так хорошо, как изучил ее позже. Естественно, сани были очень тяжелые.
Лыж мы взяли 20 пар, все из гикори высшего качества, длиной около двух с половиной метров, сравнительно узкие. Я нарочно подобрал лыжи подлиннее, учитывая обилие трещин в ледниках, которые нам предстояло пересечь. Чем больше площадь опоры, тем больше шансов пройти по снежным мостам. К лыжам у нас было сорок бамбуковых лыжных палок с эбонитовыми кольцами. Крепления представляли собой комбинацию креплений Витфельда и Хёйер-Эллефсе-на. Кроме того, у нас был большой запас ремней из свиной кожи.
Мы взяли с собой также шесть трехместных палаток, сшитых в мастерских военно-морского ведомства. Работа отличная, трудно назвать более крепкие и удобные палатки. Они были сделаны из очень плотной ткани вместе с полом. Даже при самом сильном ветре один человек мог без посторонней помощи поставить такую палатку. Я знаю по опыту, что, чем меньше шестов у палатки, тем легче ее ставить. Это вполне естественно. В комплект данной палатки входил всего один шест. Часто читаешь в описаниях путешествий в полярных странах, что понадобилось много времени, даже несколько часов на то, чтобы поставить палатку. И когда она наконец натянута, люди лежат в ней, опасаясь, что ее каждую минуту может повалить ветром. Мы были свободны от таких забот. Палатка ставилась в два счета и не боялась никакого ветра.
Можно спокойно лежать в спальном мешке, какая бы буря ни бушевала.
Вход был оформлен в виде рукава, такая система теперь признана единственно пригодной для полярных областей. Как и всякое дельное приспособление, оно отличается простотой. В палатке вырезается отверстие нужных размеров. Затем берут мешок, открытый с обоих концов, и одним концом пришивают к краям отверстия в палатке. Получается рукав, который и служит входом в палатку. Забрался внутрь – завязываешь конец рукава, как обычный мешок. В палатку со сплошным полом и таким входом даже в самый сильный буран не проникнет ни одна снежинка.
Провиантные ящики для санных переходов были сделаны из тонких и крепких ясеневых досок. Этот материал вполне оправдал себя. Размеры ящиков – 30 сантиметров в ширину, 40 – в высоту. Наверху – небольшое круглое отверстие, закрывающееся алюминиевой крышкой, как молочный бидон. Я предпочел такой вариант, потому что большие крышки делают ящики менее прочными. И не нужно развязывать ящик, чтобы открыть крышку, а это великое удобство. Когда захотел, тогда и открыл. А с большой крышкой, да еще прихваченной веревкой, всегда много возни. Приходится развязывать веревку из-за каждой мелочи. Это не всегда сподручно. Когда устанешь и намаешься, так и тянет отложить на завтра то, что следовало бы сделать сегодня. Особенно если погода сырая и холодная. Чем легче снаряжение и чем удобнее оно уложено на санях, тем скорее заберешься в палатку и отдохнешь. А это играет немаловажную роль вдолгом переходе.
Если говорить об одежде, по-моему, наше снаряжение было полнее и богаче, чем в какой-либо из прежних полярных экспедиций. Его можно разделить на два разряда: одежда для очень низкой и для более умеренной температуры. Никто еще не зимовал на Ледяном барьере, поэтому следовало быть готовым ко всему. Чтобы не бояться никакого мороза, мы взяли разную меховую одежду – толстую, среднюю, легкую. На изготовление этих костюмов ушло немало времени.
Прежде всего надо было закупить оленьи шкуры. Это сделал для нас Цапфе в Тромсё, Карашоке и Каутокейно. Хочу воспользоваться случаем и поблагодарить этого человека за все, что он сделал для меня, когда снаряжалась экспедиция «Иоа» и третья экспедиция «Фрама». С его помощью я достал вещи, которых иначе ни за что не смог бы добыть. Он не жалел труда, искал, пока не находил то, что мне требовалось. Вот и на этот раз он достал 250 хороших оленьих шкур, обработанных финнами, и отправил в Кристианию. Не так-то просто оказалось найти здесь подходящего скорняка, но я его все-таки нашел. И мы принялись шить по образцам одежды эскимосов, шили день и ночь – толстые и тонкие анораки, толстые и легкие штаны, зимние и летние пимы. Кроме того, сшили дюжину легких спальных мешков, которые я предполагал использовать как вкладыши для больших, толстых мешков, если будет очень уж лютый мороз. Все было закончено, как говорится, в последнюю минуту. Наружные мешки шились у скорняка Брандта в Бергене; лучшего материала и лучшей работы в мире не найти. Образцовая работа. Мы сделали для защиты чехлы из ткани для наперников. Чехлы были намного длиннее спальных мешков и завязывались вверху, так что снег не попадал внутрь днем, во время перехода.
Мы особо проследили за тем, чтобы наши спальные мешки шились из лучших сортов меха; тонкие участки вырезались. Я видел, как спальные мешки из превосходных оленьих шкур сравнительно быстро изнашивались, потому что в них попадались куски тонкой шкуры с брюха. Естественно, здесь легче проникает холод, от испарений эти участки становятся влажными, покрываются инеем. Отсыревая каждый раз, когда человек находится в мешке, тонкая шкура начинает линять, влага распространяется все шире, словно прель в дереве, и в один прекрасный день вы лежите в совершенно облысевшем спальном мешке.
Отбирать шкуры надо очень придирчиво. Для экономии фабриканты обычно шьют спальные мешки из меха ворсом к отверстию. Это лучше согласуется с формой шкуры, но тому, кому спать в мешке, это неудобно. И без того не так-то просто забраться в спальный мешок, сшитый чуть ли не в обтяжку, а если еще лезть в него против шерсти, трудность возрастает вдвое. Я распорядился шить все мешки одноместными, с завязкой вокруг шеи. Такое решение не всем пришлось по душе, я к этому еще вернусь позже. Чтобы можно было плотно затянуть мешок вокруг шеи, верхняя часть делалась из более тонкого меха. Толстый мех так хорошо не затянешь.
Для более умеренной температуры предназначалось нижнее платье из плотной шерсти, а сверху – костюм из ветронепроницаемой материи. Я специально заказал такую одежду и сам проследил за тем, чтобы была взята чисто шерстяная ткань. Ветронепроницаемые костюмы были из двух различных сортов материи – английской и обыкновенной, зеленой, употребляемой у нас зимой. Для санных переходов, когда нужно экономить на весе и работать в свободной, удобной одежде, решительно рекомендую английскую материю. Она очень легкая, прочная и совсем не пропускает ветра. Для тяжелых работ предпочитаю зеленую материю. Она не хуже английской защищает от ветра, но не так легка, и в ней не так удобно совершать долгие переходы. Наши штормовки из английской материи состояли из просторного анорака и штанов. Зеленая материя тоже пошла на штаны и куртки с капюшоном.
Варежки были у нас по большей части самые обыкновенные, какие можно купить в любом магазине. На зимовье мы в других и не нуждались. Правда, они хоть и теплые, но не очень прочные, и, чтобы не снашивать их слишком быстро, мы надевали сверху рукавицы из ветронепроницаемой ткани. Сверх того, у нас было 10 пар обыкновенных кожаных рукавиц, купленных в одном перчаточном магазине в Кристиании. Они оказались на диво прочными. Мои служили мне на всем пути от Фрамхейма до полюса и обратно и потом во время плавания до Тасмании. Правда, подкладка местами лопнула, но швы на коже оставались такими же, какими были в тот день, когда я приобрел рукавицы. Если учесть, что к полюсу и от полюса я шел на лыжах, прилежно работая палками, можно судить о качестве рукавиц. Еще у нас был запас перчаток. Странное дело, другим они очень нравились. Я не мог в них ходить, пальцы замерзали.
Но важнее всего, конечно, обувь. Ведь ноги наиболее уязвимы, и их особенно трудно защитить. С руками проще. Замерзли – похлопал хорошенько и отогрел. Иное дело ноги. Обуваешься с утра, и столько сил на это уходит, что предпочитаешь не разуваться до вечера, когда нужно ложиться спать. Так и не увидишь ступни за день, полагаешься только на ощущение. А оно-то как раз и может подвести. Сколько раз люди, сами того не зная, отмораживали себе ноги! Ведь сознательно никто до этого не допустит. Дело в том, что на осязание тут полагаться не стоит. Ноги теряют чувствительность. Есть, правда, промежуточная стадия, когда чувствуешь, как холод щиплет пальцы ног. Тогда начинаешь притопывать ногами. Вот тут-то и наступает критическая минута неустойчивого равновесия. Обычно все кончается благополучно: тепло возвращается, кровообращение налаживается опять. Но иногда чувствительность пропадает как раз в ту секунду, когда человек начинает топать. Только опытный работник поймет, что случилось. Многие, избавившись от неприятного жжения, заключают, что все в порядке. И только вечером, глядя на побелевшую ступню, обнаруживают, что она отморожена. Такое происшествие может свести на нет все усилия, затраченные на подготовку экспедиции, а потому ноги требуют предельной заботы.
Известно: если можно все время носить мягкую обувь, риск обморожения гораздо меньше, чем если приходится надевать жесткую обувь. Естественно, в мягкой обуви легче шевелить ногой и сохранять тепло. Но ведь, чтобы как следует передвигаться на лыжах, нужна хотя бы твердая подметка для крепления. Какой толк от хорошего крепления, если им нельзя по-настоящему пользоваться? Я считал, что для предстоявшего нам долгого перехода необходимо жесткое крепление. Ничто не утомляет меня так, как плохое крепление, когда нога болтается в ремнях. Мне нужно, чтобы лыжа составляла одно целое с ногой и хорошо слушалась меня. Остерегаясь слишком жестких креплений в мороз, я перепробовал разные конструкции. Все они в конечном счете оказывались никудышными. И я решил испробовать комбинацию твердой и мягкой обуви, чтобы можно было употребить великолепное крепление Витфельда – Хёйер-Эллефсена. Это оказалось нелегко. Из всего снаряжения эта обувь причинила мне больше всего хлопот, и в экспедиции мы с ней повозились. Но все-таки задача была решена. Я обратился к одному из наших самых уважаемых фабрикантов спортивной обуви и объяснил ему, в чем состоит наша проблема. К счастью, он проявил явный интерес. Мы сошлись на том, что он попробует сшить пару лыжных ботинок по образцу беговых. Подошва будет толстой и твердой, – может быть, нам придется пользоваться кошками, – а верх возможно мягче. Кожа на морозе делается жесткой и ломается, поэтому верх должен был быть комбинированным: головка – кожаная, голенище – брезентовое.
Мерку сняли с моей ноги – у меня размер далеко не детский, – добавив два толстых чулка из оленьего меха. Всего я заказал десять пар таких ботинок. Хорошо помню мое первое свидание с этими ботинками в цивилизованной Кристиании. Они были выставлены в витрине обувного магазина, и после того я нарочно делал крюк, чтобы меня не видели в обществе таких чудовищ! Все мы немного тщеславны и не любим, чтобы наши слабости выставлялись напоказ. Если я когда-нибудь и связывал понятие «маленькая стройная ножка» со своей особой, могу заверить вас, что последние иллюзии развеялись у меня в тот день, когда я увидел в витрине собственные лыжные ботинки. Я никогда больше не ходил мимо этого дома, пока не узнал, что витрина переоборудована. При всем при том ботинки были сделаны прекрасно. Дальше вы узнаете, какую трансформацию претерпели ботинки, прежде чем их размер стал удовлетворять нашим требованиям. Да-да, ботинки-великаны оказались слишком малы.
Из прочего снаряжения назову наши замечательные примусы. Вместе с комплектом запасных частей они были получены от одного оптовика в Стокгольме. В санных переходах примус превзошел все другие нагревательные приборы. Он дает большой жар, потребляет мало керосина и не требует никакого ухода. Эти преимущества примуса всюду играют большую роль, а в долгом санном переходе особенно. Этот прибор никогда не подводит. Он приближается к совершенству.
У нас было с собой пять котелков Нансена. Они греются лучше других котелков, но у них есть один минус: они занимают много места. Мы пользовались ими, когда выезжали устраивать склады, однако вынуждены были отказаться от них в переходе к полюсу. В палатке было столько людей, что я не стал их брать из-за тесноты. А если места хватает, лучших котелков, по-моему, не придумаешь.
Мы везли десять пар лыж-ракеток и сто комплектов собачьей упряжи, сделанной по образцу аляскинской. Эскимосы Аляски запрягают собак в сани цугом. При таком способе вся сила тяги направлена по прямой, а это, несомненно, самое эффективное решение. Я решил пользоваться на барьере этим способом. Мало того, что лучше использовалась тяга, еще одно большое преимущество заключалось в том, что собаки пересекали трещины поодиночке, и риск, что они провалятся, был гораздо меньше. И собакам удобнее работать в аляскинской упряжи, чем в гренландской, потому что первая включает узкий подбитый ошейник, и главная нагрузка ложится на плечи, тогда как гренландская упряжь сжимает грудь, и от нее часто бывают потертости, которых аляскинская позволяет почти совсем избежать. Всю упряжь нам изготовили в мастерских военно-морского ведомства. Она нисколько не износилась после долгого пользования; нужна ли лучшая рекомендация?
Из инструментов и приборов для санных переходов мы взяли два секстанта, три искусственных горизонта, из них два с темным стеклом и один ртутный, и четыре спиртовых компаса, изготовленных в Кристиании. Компасы небольшие и очень хорошие, но, к сожалению, их нельзя употреблять в сильный мороз, при температуре ниже 40 °C, жидкость замерзает. Я предвидел это и просил изготовителя использовать возможно более чистый спирт. Не знаю уж почему, но спирт в его компасах оказался сильно разбавленным. Это лучше всего подтверждается тем, что жидкость в наших компасах замерзала раньше, чем водка в бутылке. Естественно, нам это доставило много неприятностей. Кроме названных приборов у нас был обыкновенный карманный компас, два бинокля – Цейсса и Герца, снежные очки доктора Шанца. Очки были со сменными стеклами, надоел один цвет – ставь другой. Лично я за все время работы на Ледяном барьере пользовался одной парой обыкновенных очков с тонированными, чуть желтоватыми стеклами. Они обработаны химическим препаратом, который поглощает вредные тона в солнечных лучах. Насколько хороши эти очки, убедительно говорит то, что я ни разу за весь переход на юг не страдал снежной слепотой, хотя очки мои были открытые и пропускали свет по бокам. Могут возразить, что я попросту меньше других подвержен этой болезни, но могу по личному опыту заверить, что это не так. У меня не раз бывала сильная снежная слепота.
Два фотографических аппарата, термометр для измерения температуры воздуха, два барометра анероида со шкалой для высот до 4500 метров и два гипсометра. Гипсометр, или гипсотермометр, – это прибор, с которым высоту места над уровнем моря определяют по температуре паров кипящей воды.
Медицинское снаряжение для санных переходов было подарено нам одной лондонской фирмой. О качестве его говорит уже упаковка: несмотря на большую влажность, на иглах, ножницах, ланцетах не было ни одного пятнышка ржавчины. А отечественное снаряжение, закупленное нами в Кристиании, вскоре вышло из строя.
Несколько слов о продовольствии для санных переходов. О пеммикане я уже говорил. Я никогда не стремился брать с собой на санях целую бакалейную лавку Что-нибудь простое и питательное – вот и все. Роскошное и разнообразное меню – для людей, которым нечего делать. Кроме пеммикана у нас было печенье, сухое молоко и шоколад. Печенье было подарком одной норвежской фабрики, и этот подарок делает ей честь. Оно было приготовлено специально для нас – овсяное печенье, чуть сладкое, с прибавкой сухого молока, чрезвычайно питательное и замечательно вкусное. Благодаря добросовестной упаковке, оно все время оставалось свежим и рассыпчатым. Печенье составляло немалую часть нашего повседневного пайка и, несомненно, в большой мере содействовало нашему успеху. Порошковое молоко у нас сравнительно новый продукт, но оно заслуживает большого внимания. Его нам поставила фирма Едерен. Ни тепло, ни мороз, ни сушь, ни сырость не вредили этому продукту. Мы держали много этого порошка в тонких полотняных мешочках при всякой погоде, и качество его оставалось одинаково хорошим до последнего дня. Кроме того, мы получили сухое молоко от одной фирмы в Висконсине. Оно было с примесью солода и сахара; отличное молоко, на мой вкус. И тоже все время хорошо сохранялось. Шоколад, поставленный всемирно известной фирмой, был выше всяких похвал; отменный подарок.
В благодарность за любезную помощь мы передаем всем поставщикам походного провианта образцы их продукции, побывавшие с нами на Южном полюсе.
Шел май 1910 года. Был он прекрасен, как может быть прекрасен только весенний месяц в Норвегии, – чудесная, сказочная картина из зелени и цветов. К сожалению, у нас было очень мало времени любоваться окружающей красотой. Наш лозунг был: прочь, прочь от красоты как можно скорее.
С начала месяца «Фрам» стоял на бочке у стен старого Акерсхуса. Он вышел с Хортенской верфи щеголеватый, сверкая свежей краской. Поглядишь на него, и в голову невольно приходит мысль о морской прогулке или увеселительном плавании. Но так было недолго. Уже на следующий день после прихода «Фрама» в гавань его палуба приняла самый будничный вид. Началась погрузка.
Из подвалов Исторического музея[67] длинная череда ящиков с провиантом перекочевывала в просторные трюмы «Фрама», где их принимал лейтенант Нильсен с тремя помощниками. Прием этот протекал совсем не просто, а, я бы сказал, весьма торжественно. Мало уверенности, что все ящики доставлены на судно; надо точно знать, где какой из них стоит, и проследить за тем, чтобы до каждого было легко добраться. Это нелегкое дело, тем более что надо было помнить и о многочисленных люках нижнего трюма, где стояли баки с керосином, не загромождать их, а то нельзя будет перекачивать горючее в машинное отделение.
Но Нильсен и его помощники блестяще справились со своей задачей. Из многих сотен ящиков ни один не затерялся; и любой из них можно было быстро извлечь на свет божий.
В одно время с продовольствием мы грузили и остальное снаряжение. Каждый участник экспедиции был озабочен тем, чтобы его участок работы был обеспечен лучшим образом. И то им подавай, и это. Сколько ни ломай себе голову наперед, все равно будут возникать новые и новые запросы, пока не подведешь черту, отдав швартовы и выйдя в море, – событие, которое надвигалось все ближе с приходом июня.
Накануне выхода «Фрама» из Кристиании нас почтили визитом король и королева. Мы были предупреждены и попытались навести хоть какой-то порядок на борту. Не знаю уж, насколько мы в этом преуспели. Во всяком случае вся команда с благодарностью будет помнить сердечные прощальные слова короля Хокона.
Утром 3 июня «Фрам» покинул Кристианию. Пока целью его плавания был берег Бюндефьорда, где я живу. Здесь нам предстояло погрузить наш зимний дом, он стоял, полностью собранный, у меня в саду Творцом этого капитального сооружения был наш превосходный плотник и столяр Ерген Стюбберюд. Теперь дом живо разобрали, каждую доску и бревно тщательно переметили. На судне и без того было тесновато, а тут еще надо было погрузить кучу строительных материалов. Большую часть этого груза мы сложили под полубаком, остальное – в мастерской.

«Фрам» грузится перед домом Амундсена в Буннефиорде

Внутренность зимовочного дома
Справа Ертсен
Наиболее опытные участники экспедиции явно призадумались над назначением этой «наблюдательной будки», как окрестили дом газеты. Что ж, было над чем призадуматься. Обычно под наблюдательным пунктом разумеют относительно простое сооружение, в котором можно укрыться от непогоды и ветра. Наш дом был на диво капитальным: тройные стены, двойной пол и потолок. Меблировка – 10 удобных коек, плита и стол, к тому же с новехонькой клеенкой.
– Ну, ладно, я еще могу допустить, что им хочется наблюдать в тепле и с удобствами, – говорил Хельмер Ханссен, – но клеенка на столе, этого я не понимаю.
6 июня к вечеру было объявлено, что все готово для отхода. Вечером мы все собрались в саду на скромное прощальное торжество. Я воспользовался случаем пожелать каждому в отдельности удачи, потом мы провозгласили здравицу королю и родине.

Дом, где родился Амундсен. Борге у Сарлсборга
Рисунок Эйвинда Сёренсена
И вот мы погрузились в шлюпку. Последним сел помощник начальника экспедиции, он нес с собой… подкову Он убежден, что старая подкова приносит несметное количество счастья. Возможно, он прав. Так или иначе подкову надежно приколотили к мачте в кают-компании «Фрама», она и сейчас там висит.
Поднявшись на борт «Фрама», мы немедля приступили к подъему якоря. Застучал мотор, и тяжелая цепь со скрежетом поползла вверх через клюз. Ровно в полночь якорь был поднят, и в ту минуту, когда началось 7 июня,[68] «Фрам» в третий раз направился к выходу из Кристианияфьорда. Дважды горсточка отважных людей приводила это судно со славой домой после долгого плавания. Суждено ли нам поддержать эту почетную традицию? Понятно, многие из нас думали об этом, пока наше судно скользило в ночи по зеркальной глади фьорда. Выходим 7 июня – мы видели в этом добрый знак, но облачко грусти омрачало нам светлое настроение. Косогоры, леса, фьорд – все так чарующе прекрасно, все так дорого сердцу. Они манили нас к себе, но наш дизель был беспощаден, он грубо разгонял тишину своим рокотом. Маленькая лодка, в которой сидело несколько человек из моих ближайших родственников, все больше отставала от нас. Вот уже только белые платки видно в сумерках… до свидания!
На следующее утро мы ошвартовались во внутренней гавани Хортена. Вскоре к нам подошел невинный с виду лихтер, только груз его был далеко не столь невинен: полтонны пироксилина и ружейных патронов. Не совсем приятная, однако необходимая часть нашего снаряжения. Кроме боеприпасов мы забрали здесь также на борт воду. И, не мешкая, двинулись дальше. Когда мы проходили мимо военных кораблей, команды их были посланы на реи, а оркестр играл гимн. Напоследок нам выдался случай попрощаться еще с одним человеком, которому мы благодарны навек, а именно с помощником директора верфи, капитаном Блумом. Он с неослабным интересом и вниманием руководил ремонтом «Фрама». Капитан Блум прошел мимо нас на своей парусной яхте. Мы приветствовали его громким «ура!».
Наш курс, как об этом говорит название главы, лежал на юг; впрочем, не строго на юг. Перед нами стояла еще дополнительная задача – океанографические исследования в Атлантическом океане. А это означало немалый крюк. Исчерпывающее описание этого рейса будет дано в другом месте. Здесь я о нем упоминаю ради связности изложения. После консультации с профессором Нансеном я наметил начать эти работы к югу от Ирландии и идти к западу, насколько позволят время и обстоятельства. Предполагалось на обратном пути продолжить исследования в районе северной оконечности Шотландии. По разным причинам эту программу пришлось потом сильно сократить.
В первые дни после отплытия из Норвегии стояла прекрасная летняя погода. Северное море было тихое, как пруд;

«Фрам» готов к выходу в море
качка немногим сильнее, чем когда «Фрам» стоял в Бюндефьорде. Это было тем более кстати, что мы еще не могли похвастаться полной готовностью, когда прошли маяк Фердер и впереди открылся капризный Скагеррак. У нас было слишком мало времени, чтобы как следует разместить и закрепить то, что было погружено в последнюю очередь, и свежий ветер на выходе из фьорда мог бы причинить нам немало хлопот. Теперь же нам удалось со всем управиться; правда, мы трудились день и ночь. Мне говорили, будто в прошлые плавания на «Фраме» морская болезнь была настоящим бичом. А вот мы легко отделались. Почти все участники экспедиции были привычны к морю, а те немногие, у которых не было такой привычки, располагали целой неделей хорошей погоды, чтобы освоиться. Насколько мне известно, у нас не было ни одного случая этой неприятной игрозной болезни.
После Доггер-банки очень кстати подул норд-ост, можно было с помощью парусов несколько увеличить отнюдь не головокружительную скорость, которую развивала наша машина. Перед отплытием я слышал самые противоречивые суждения о достоинствах «Фрама» как парусного судна. Одни говорили, что ветер его вообще не сдвинет с места. Другие не менее горячо утверждали противное: дескать, «Фрам» – настоящий крейсер. Как обычно, истину и тут следовало искать где-то посередине между двумя крайностями. Гоночным наше судно нельзя было назвать, но и неповоротливым тоже. Подгоняемые свежим норд-остом, мы шли к Ла-Маншу со скоростью семи узлов и были вполне довольны. Хорошо бы попутного ветра хватило нам, чтобы войти в пролив у Дувра, а еще лучше, если он нам не изменит и в проливе. Наша машина была слишком слаба, чтобы сражаться со встречным ветром. В таком случае нам пришлось бы прибегнуть к обычному для парусника способу, то есть лавировать. Между тем лавировать в Ла-Манше, с его самым оживленным в мире движением судов, – уже само по себе малоприятное занятие. Для нас же дело усугублялось тем, что намного сократилось бы время, отводимое для океанографических исследований. Однако восточный ветер продолжал дуть с похвальным усердием. В два дня мы прошли Ла-Манш, а через неделю с небольшим после выхода из Норвегии смогли произвести первые океанографические наблюдения в намеченном по плану месте.
До сих пор все шло как нельзя более гладко. Но затем для разнообразия возникли и затруднения. Сперва это проявилось в виде неблагоприятной погоды. В Северной Атлантике уж как зарядит норд-вест, так надолго. Так вышло и теперь. Мы не только не продвигались на запад – нас грозило прибить к ирландским берегам. Правда, до этого не дошло, но мы вскоре оказались вынужденными значительно сократить первоначально намеченный маршрут. Такому решению способствовало и то, что начал капризничать мотор. И механик никак не мог определить, кто виноват: то ли топливо, то ли сама машина. На случай, если понадобится серьезный ремонт, надо было вовремя двинуться домой.
Несмотря на все помехи, мы собрали изрядное количество проб воды и данных о температуре на разных глубинах, после чего, в первых числах июля, взяли курс на Норвегию, собираясь идти в Берген.
После Пентленд-Ферта крепкий норд позволил нам проверить, как «Фрам» ведет себя в непогоду. Испытание было довольно серьезное. Мы шли перпендикулярно ветру и волнам почти на всех парусах и с удовлетворением отмечали, что наше судно делает больше 9 миль в час. Из-за сильной качки расшатался брюканец мачты в носовой кают-компании, вода проникла в щели, и в каютах помощника и моей произошло небольшое наводнение. Остальные помещались по левому, наветренному борту, поэтому у них было сухо. Наши потери составили несколько промокших насквозь ящиков сигар. Да и то они не пропали. Рённе взял их себе и потом полгода наслаждался просоленными, заплесневевшими сигарами.
При скорости 8–9 миль расстояние между Шотландией и Норвегией тает быстро. К вечеру в субботу, 9 июля, ветер угомонился, и одновременно вахтенный доложил, что видит землю. Это был остров Бёммель. За ночь мы подошли к берегу, а в воскресенье, 10 июля, утром вошли в Сельбьёрн-фьорд. У нас не было карты пролива, но наша мощная сирена в конце концов разбудила персонал лоцманской станции, и на судно явился лоцман. Прочтя на борту название «Фрам», он изобразил явное удивление.
– Господи, а я-то думал, что это чужой, – изрек он, оправдывая свою медлительность.
До чего приятно было идти фьордами к Бергену. Насколько ветрено и холодно было в море, настолько же уютно и тепло оказалось здесь. Весь день царил штиль, машина развивала скорость от силы 4 мили, и был уже поздний вечер, когда мы отдали якорь у военной верфи в Сульхеймсвике. Как раз в эти дни в Бергене проходила большая национальная выставка. Выставочный комитет в знак внимания к членам экспедиции предоставил им право бесплатного входа.
Разные дела заставили меня выехать в Кристианию. «Фрам» я оставил на попечение лейтенанта Нильсена. Команда не сидела сложа руки. Фирма «Дизель» в Стокгольме прислала в Берген превосходного механика Аспелюнда. Он сразу же приступил к ремонту машины. Все необходимые работы бесплатно выполнил Лаксевогскин завод. Тщательно обсудив проблему, решили заменить запасенную нами солярку очищенным керосином. Любезное содействие одной фирмы позволило нам проделать замену на весьма льготных условиях в Сколевике. Пришлось потрудиться, но наши хлопоты себя потом вполне оправдали.
Пробы воды, привезенные нами из плавания, были доставлены на биологическую станцию, где Кучин[69] сейчас же приступил к титрованию (определению количества хлора вводе).
В Бергене нас покинул наш немецкий спутник, океанограф Шрёр. 23 июля «Фрам» вышел из Бергена и на другой день прибыл в Кристианию, где я снова встретил его. Здесь нам предстояло еще потрудиться. В одном из таможенных пакгаузов лежало множество грузов для нас, целых 400 связок сушеной рыбы, все лыжи и сани, лесоматериалы и прочее. На островке Фредриксхолм было размещено едва ли не самое главное – 97 полярных собак, доставленных в середине июля из Гренландии на пароходе «Ханс Эгеде». Пароход проделал довольно длинный и трудный рейс, и по прибытии собаки чувствовали себя не очень хорошо, но, попав на островок, под присмотром Хасселя и Линдстрёма они через несколько дней пришли в себя. Обилие свежего мяса сделало чудеса. Мирный островок с остатками старой крепости каждый день, а то и по ночам оглашался великолепным воем. Эти музыкальные упражнения привлекали массу любопытных, которым хотелось поближе рассмотреть исполнителей. И мы отвели публике определенные часы для знакомства с нашими собаками. Вскоре обнаружилось, что они в большинстве не свирепые и не трусливые, а очень даже рады посетителям. Глядишь, перепадет что-нибудь вкусненькое вроде бутерброда. Заодно и развлечение: какая радость полярной собаке все время сидеть на привязи? Вот именно, каждая из них была надежно привязана. Это было необходимо прежде всего во избежание усобиц. Нередко одна или несколько собак отвязывались, но два сторожа всегда были начеку.

Кучин Александр Степанович
Один предприимчивый пес даже пустился вплавь через пролив, его явно соблазнил вид ничего не подозревавших овечек, которые паслись на берегу. Однако заплыв этого охотника был вовремя прекращен.
С прибытием «Фрама» Вистинг заменил Хасселя в роли сторожа. Он и Линдстрём поселились неподалеку от островка, где мы держали собак. У Вистинга был свой подход к четвероногим подданным, и он быстро с ними поладил. И кроме того, он оказался совсем не плохим ветеринаром – чрезвычайно полезное качество – ведь здесь то и дело возникала нужда в медицинской помощи.
Как уже говорилось, в это время еще никто из членов экспедиции, кроме помощника начальника – лейтенанта Нильсена, не знал о расширении моего плана. Вот почему многое из того, что грузилось на судно, многие приготовления, которыми мы занимались в Кристиании, должны были казаться странными для того, кто пока настроился только на плавание вокруг мыса Горн до Сан-Франциско. Какой смысл грузить на судно всех этих собак и везти их с собой в такую даль? Да и вынесут ли они путь вокруг пресловутого мыса? И кроме того, разве нет собак – и хороших собак – на Аляске? Почему вся кормовая палуба завалена углем? На что нам все эти доски? Разве не сподручнее было бы погрузить такие вещи во Фриско? Много подобных вопросов задавали друг другу члены команды. Сами их лица стали походить на вопросительный знак. Нет, ко мне никто не обращался с вопросами, весь удар пришелся на моего помощника, ему приходилось отвечать и выкручиваться. Весьма неблагодарное и неприятное занятие для человека, у которого и без того хлопот полон рот.
Чтобы ему было немного полегче, я решил незадолго до отплытия из Кристиании сообщить Престрюду и Ертсену, что нам предстоит на самом деле. Они дали мне подписку держать все в секрете, тогда я рассказал им о задуманном походе к Южному полюсу и объяснил, почему этот план хранится в тайне. На мой вопрос, принимают ли они такое изменение, оба тотчас ответили утвердительно. Все в порядке.
Теперь уже трое – весь командный состав судна – были в курсе дела и могли справляться с щекотливыми вопросами и опровергать домыслы непосвященных.
В Кристиании в состав экспедиции вошли два новых участника: Хассель и Линдстрём. Произошла также одна замена. Механик Элиассен был списан. Не так-то легко было найти человека, обладающего нужной квалификацией, чтобы стать механиком на «Фраме». Во всей Норвегии вряд ли нашелся бы человек, достаточно знакомый с такой мощной машиной. Оставалось только обратиться туда, где она создавалась, – в Швецию. Фирма «Дизель» в Стокгольме выручила нас. Она прислала нам человека, который отвечал всем требованиям. Звали его Кнют Сюндбек. Можно написать целую главу о том, как добросовестно он трудился, как скромно и спокойно при этом держался. Между прочим, он с самого начала участвовал в сборке дизеля для «Фрама». И уж машину свою он знал досконально, обращался с ней, как с любимым существом, и она ни разу не подвела. Кнют Сюндбек достойно представлял свою фирму и свой народ.
Между тем мы полным ходом готовились к отплытию. Было решено, что старт состоится до середины августа: чем скорее, тем лучше.
«Фрам» побывал в сухом доке, там днище судна хорошо покрасили. Тяжело нагруженное судно сильно давило на кильблоки, и фальшкиль помяло. Водолаз помог нам быстро исправить повреждение.
Хотя в главном трюме было тесно, туда мы все-таки втиснули всю сушеную рыбу. Сани и лыжи заботливо уложили так, чтобы, по возможности, уберечь их от сырости. Не убережешь – покоробятся и станут негодными. За лыжи и сани отвечал Бьоланд, а он знал свое дело.
Как заведено, очередь пассажиров настала после того, как благополучно была завершена погрузка. «Фрам» стал на якорь у Фредриксхолма, и мы живо провели подготовку для приема наших четвероногих друзей. Под опытным руководством Бьоланда и Стюбберюда члены команды принялись орудовать топорами и пилами, и в несколько часов у «Фрама» появилась новая палуба. Она состояла из щитов, которые легко снимались, когда их надо было драить. Щиты лежали на трехдюймовых планках, прибитых к палубе, так что между ней и щитами оставался значительный зазор. В этом был, как уже говорилось, двойной смысл: во-первых, будет быстро стекать вода, которая в таком плавании неизбежно попадает на палубу, во-вторых, это обеспечит циркуляцию воздуха, и собакам будет прохладно лежать. Это устройство себя потом вполне оправдало.

«Фрам»
На фордеке «Фрама» фальшборт состоял из железных прутьев, обтянутых проволочной сеткой. Теперь для защиты от солнца и ветра фальшборт с внутренней стороны еще обшили досками. Везде, где только можно, были приделаны цепи для собак. На первых порах не стоило позволять им бегать свободно; может быть, потом, когда они лучше узнают своих хозяев и вообще освоятся на борту.
К вечеру 9 августа мы были готовы принять своих новых спутников. Их перевозили с острова на большой плоскодонке по двадцати штук за раз. Вистинг и Линдстрём отлично справлялись с транспортом. Они сумели завоевать доверие собак и в то же время внушить им уважение к себе – как раз то, что надо. У трапа собак ждал энергичный прием. Не успевали растерянные собаки прийти в себя от удивления и страха, как они уже оказывались надежно привязанными на палубе, где им любезно давали понять, что самое лучшее пока – спокойно примириться со своей судьбой. Все шло настолько быстро, что часа за два 97 собак были благополучно доставлены на судно; зато на палубе «Фрама» не оставалось свободного места. Мы надеялись хоть мостик сохранить незанятым, но это было невозможно, если мы хотели взять всех собак. Последнюю партию, 14 собак, пришлось поместить там. Остался незанятым лишь небольшой пятачок для рулевого. Вахтенному офицеру и вовсе негде было разгуляться. Были все основания опасаться, что он будет вынужден всю вахту стоять на одном месте. Но пока что время не позволяло нам ломать голову над такими мелочами. Не успели мы привезти последних собак, как начали свозить на берег посторонних, а там и брашпиль заработал. – Якорь поднять!
Полный вперед – и началось наше плавание к цели, до которой было 16 000 миль. Тихо, без всякой шумихи шли мы в сумерках по фьорду. Нас провожало несколько наших друзей.
После острова Флеккерэ лоцман оставил судно, а затем очертания родных берегов и вовсе пропали во тьме августовского вечера. Но Уксэ и Рювинген всю ночь посылали нам свой прощальный привет.
Когда мы в начале лета выходили в Атлантику, нам повезло с погодой и ветром. На этот раз погода была еще лучше, с первых дней – штиль, Северное море было гладким, как зеркало. Непросто поладить с таким множеством собак; хорошая погода, царившая всю первую неделю, чрезвычайно облегчила эту задачу.
Перед стартом не было недостатка в мрачных пророчествах относительно наших собак. Часть этих пророчеств дошла до наших ушей; вообще-то их, наверно, было гораздо больше. Дескать, худо, очень худо придется этим несчастным животным. Жара в тропиках быстро прикончит большую часть из них. А если какие и уцелеют, это будет всего лишь отсрочкой смертного приговора, ведь их смоет за борт или же они захлебнутся в воде на палубе, когда «Фрам» войдет в полосу западных ветров. Да разве их прокормишь сушеной рыбой… И так далее.
Как известно, пророчества эти не сбылись. Вышло наоборот. Правда, потом уже многих из нас, участвовавших в этом предприятии, спрашивали: должно быть, плавание до Антарктиды было страшно скучным и нудным? Не надоели вам все эти собаки? И как только вам удалось их довезти живыми?
Разумеется, пятимесячное плавание в тех водах, где шли мы, не может не быть довольно однообразным; многое зависит от возможности чем-то занять людей. Тут собаки оказались превосходным средством. Конечно, требовалось подчас немалое терпение; тем не менее эта работа, как и всякая другая, доставляла и удовольствие. Тем более что речь шла о живых существах, достаточно умных, чтобы вполне оценить заботу и по-своему благодарить за нее.
С первой минуты я всячески старался утвердить в сознании каждого, что благополучная доставка упряжных животных играет важнейшую роль для всего нашего предприятия. Если бы у нас был лозунг, то наверно такой: «Прежде всего – собаки». Результаты лучше всего говорят о том, как мы выполнили этот лозунг. Вот примерный порядок, который был установлен на судне. Собак – первоначально их держали на привязи – разделили на группы по 10 штук. К каждой группе прикрепили одного-двух человек, которые несли полную ответственность за своих животных и обеспечивали уход. Я взял на себя заботу о тех 14 собаках, которые попали на капитанский мостик. Для кормежки собак требовалось участие всей команды, поэтому ее мы приурочили к смене вахт. Еда – первейшее из земных благ для полярной собаки. Можно твердо сказать, что путь к ее сердцу лежит через желудок. Мы действовали соответственно и не ошиблись. Уже через несколько дней между собаками и смотрителями установилась прочная дружба.
Понятно, собакам не очень-то нравилось все время сидеть на привязи; для этого у них слишком живой нрав. Мы бы рады были пустить их побегать, чтобы они могли размяться, но пока не решались дать им такую волю. Они были еще недостаточно воспитаны. Добиться их привязанности несложно, гораздо труднее научить их хорошему поведению.
Трогательно было видеть радость и благодарность собак, когда мы уделяли им немного внимания. Особенно сердечно проходила первая утренняя встреча. При виде нас они начинали радостно визжать, но им недостаточно было только видеть нас. Не успокоятся, пока мы не обойдем всех, поговорим с ними, погладим их. Пропустишь одну, она сразу выказывает явные признаки огорчения.
Вряд ли найдется животное, способное выражать свои чувства так, как собака. Радость, печаль, благодарность, угрызения совести сразу проявляются в их поведении. Особенно же во взгляде. Мы, люди, любим воображать, что только нам присуще то, что называется «живой душой». Говорят, глаза – зеркало души. Все это так. А вы обратите внимание на собачьи глаза, присмотритесь к ним. Как часто выражение их кажется человеческим, с теми же оттенками, которые присущи взгляду человека. Чем не зеркало души?
Но предоставим решать этот вопрос тем, кому это интересно. Скажу только еще об одной вещи, подтверждающей, что собака не машина из крови и плоти, а нечто большее, – скажу о ее яркой индивидуальности. На «Фраме» было около 100 собак. По мере того как мы в повседневном общении ближе узнавали их, у каждой обнаруживалась какая-то характерная черта, та или иная особенность. Не было двух совершенно подобных обликом и нравом. Внимательному взгляду представлялись богатые возможности делать любопытнейшие наблюдения. Если кто-то слегка уставал от общества людей, – могу заверить, что это случалось редко, – можно было, как правило, найти развлечение в обществе животных. Я говорю «как правило»; конечно, и тут были исключения. Из месяца в месяц полная палуба собак – это не всегда приятно. Но, несмотря на все хлопоты и неудобства, связанные с перевозкой собак, я могу уверенно сказать, что наше многомесячное плавание было бы куда более скучным и однообразным без этих наших пассажиров.
Прошли первые четыре-пять дней, мы уже приблизились к проливу у Дувра, и родилась надежда, что нам удастся на этот раз без особых затруднений проскочить сквозь игольное ушко. Пять дней держался штиль, почему бы ему не продержаться целую неделю? Увы. Как только мы миновали самый западный плавучий маяк Гудвин-Сенда, кончилась хорошая погода, ее сменил юго-западный ветер с дождем, туманом и прочей пакостью. За каких-нибудь полчаса туман настолько сгустился, что видимость стала всего несколько десятков метров. Ничего не видно – зато отлично слышно… Непрерывное завывание множества пароходных гудков и сирен яснее ясного говорило о том, сколько судов нас окружает. Положение не из приятных: при всех достоинствах нашего великолепного судна оно было весьма неповоротливым и медлительным. А это очень опасное качество в здешних водах. И ведь случись авария – все равно по чьей вине, – для нас она стала бы роковым событием. Времени в обрез, и задержка могла сорвать всю нашу затею. Обыкновенное торговое судно может позволить себе рисковать. Осторожно маневрируя, шкипер почти всегда может выйти сухим из воды. Обычно столкновения происходят от небрежности или неосторожности одной из сторон. Виновный возмещает убытки; осторожный может даже заработать на этом. Нам сам бог велел быть осторожными, и нас совсем не утешала мысль, что в случае катастрофы кто-то другой заплатит за свою неосмотрительность. Мы не могли рисковать, а потому, как это нам ни претило, вошли на Даунский рейд и отдали якорь.
Перед нами лежал город Дил, весьма популярный курорт. Единственным нашим развлечением было созерцать отдыхающих, этих беззаботных с виду людей, проводящих время в купанье или прогулках по заманчивому белому пляжу. Их мало заботило, с какой стороны дует ветер. Мы думали только о том, чтобы он повернул на другой румб или вовсе стих. Наша связь с берегом ограничилась тем, что мы послали человека с поручением отправить телеграммы и письма на родину.

«Фрам» в Атлантическом океане. В ревущих сороковых…
Уже на следующее утро нашему терпению пришел конец. А зюйд-вест, знай себе, продолжал дуть с той же силой. Правда, зато прояснилось, и мы решили немедля сделать попытку идти на запад. Оставалось лишь прибегнуть к старому средству – лавированию. Миновали один мыс, затем еще один, и на том все кончилось. Сколько мы ни брали пеленг, никакого продвижения вперед не могли отметить. У Дангенесса пришлось снова отдать якорь и запастись столь восхваляемым товаром, имя которому терпение. На этот раз мы простояли на месте всего одну ночь. Ветер удосужился так изменить направление, что на рассвете можно было идти дальше. Тем не менее он оставался встречным, и нам пришлось чуть не весь Ла-Манш лавировать. Целая неделя ушла у нас на эти 300 миль. Многовато, когда впереди лежат еще такие громадные расстояния.
Сдается мне, большинство команды вздохнуло с облегчением, когда мы наконец миновали острова Силли. Правда, зюйд-вест не унимался, но теперь это уже не играло такой роли. Главное, мы находились в открытом море, и вся Атлантика впереди. Нужно самому поплавать на «Фраме», чтобы понять как следует, что мы ощутили, избавившись от соседства берегов и многочисленных парусников в водах Ла-Манша. Не говоря уже о том, что отпала нужда без конца переставлять паруса – нелегкое дело, когда кругом собаки.
Когда мы проходили Ла-Манш в июне, нам удалось поймать двух-трех почтовых голубей. Они в полном изнеможении опустились на снасти «Фрама», и, как только стемнело, мы без труда их изловили. Записали номера и метки, откормили птиц и дня через два, когда они восстановили свои силы, отпустили их. Покружив над мачтами, голуби полетели к английскому берегу.
Вероятно, этот эпизод внушил нам мысль взять с собой при выходе из Кристиании несколько почтовых голубей. Следить за ними должен был лейтенант Нильсен, в прошлом заядлый голубятник. Мы даже построили аккуратную голубятню в средней части судна, и птицы превосходно чувствовали себя в своей новой обители. Не знаю, как это вышло, только помощник начальника экспедиции решил, что в голубятне плохая вентиляция и, чтобы исправить этот недостаток, однажды чуть приоткрыл дверцу. Он добился своего: воздух устремился внутрь. Но зато голуби устремились наружу. Какой-то шутник, обнаружив, что птицы улетели, написал большими буквами на стенке пустой голубятни: «Сдается в наем». В тот день помощник начальника был явно не в духе.
Насколько я помню, этот побег состоялся в Ла-Манше. Голуби сумели вернуться в Норвегию.
Бискайский залив вполне заслуженно пользуется у моряков дурной славой. В этом беспокойном районе океана погибло немало добрых судов со всем экипажем. Тем не менее мы рассчитывали в это время года благополучно проскочить, и наши надежды оправдались. Заодно случилось то, на что мы даже не надеялись. Наш ярый противник, зюйд-вест, прекратил наконец свои упорные попытки остановить наше движение. Да они все равно были бесплодными. Конечно, он тормозил нас, но все-таки мы продвигались вперед. И вспоминали, как на уроках географии в школе учили про частые северные ветры у берегов Португалии. Нас ожидал приятный сюрприз, мы встретились с ними уже в Бискайском заливе. Долгожданная перемена после бесконечного лавирования в Ла-Манше, когда мы шли бейдевинд. Северный ветер проявил почти такое же упорство, как прежде юго-западный, и день за днем мы вполне приличным, на нашу скромную мерку, ходом продвигались на юг, к широтам, где нас ждала устойчивая погода и где, как правило, быть моряком одно удовольствие.
Кстати, даже в первые, трудные недели все в общем-то шло гладко. Не было недостатка в опытных руках, всегда готовых выполнить необходимую работу, даже если она была не совсем приятна. Взять хотя бы поддержание чистоты. Любой моряк может рассказать, что это такое, когда судно везет животных, да они к тому же находятся на палубе и мешают всяким работам. Я всегда считал, что полярному судну, так же как и всякому другому, не подобает превращаться в оптовый склад дерьма и грязи, даже если на борту десятки собак. По-моему, в таких экспедициях особенно важно заботиться о чистоте и порядке. Никаких вещей, которые могли бы действовать деморализующе и разлагающе. Отрицательное влияние неопрятности – факт настолько общеизвестный, что нет необходимости об этом много говорить.
Все на «Фраме» разделяли мое мнение, и мы старались действовать соответственно, несмотря на очевидные трудности. Два раза в день всю палубу хорошенько окатывали водой, не говоря уже о том, что частенько приходилось вооружаться ведром и шваброй и драить то тут, то там. Но меньше раза в неделю снимали настил и драили каждый щит до тех пор, пока он не становился снова таким же чистым, каким был еще в Кристиании. Для этой работы требовалась изрядная выдержка и терпение, но наши люди выдержали испытание.
То и дело можно было услышать призыв: – А ну-ка, наведем чистоту.
По ночам, когда из-за темноты не так-то просто было что-нибудь разглядеть, нередко можно было услышать более или менее сочные выражения людей, которые при перестановке парусов брались руками за ту или иную снасть, лежащую на палубе. Вряд ли нужно разъяснять, что их раздражало; как-никак, кругом лежали собаки, которых днем и поили, и сытно кормили. Впрочем, ругань постепенно сменилась остротами. Ко всему со временем можно привыкнуть. Если это часто повторяется, в конце концов начинаешь спокойно относиться и к тому, что у тебя на пальцах остаются следы собачьей неопрятности.
На судах заведено делить сутки на четырехчасовые вахты. Команда делится на две группы, которые сменяют друг друга каждые 4 часа. Но на судах, плавающих в Ледовитом океане, обычно устанавливают шестичасовые вахты. Такой распорядок избрали и мы после того, как за него при голосовании высказалось подавляющее большинство. При таком расписании на вахту поднимают 2 раза в сутки, и свободная смена успевает как следует поспать. Когда за 4 свободных часа нужно поесть, покурить да еще и поболтать малость, на сон почти ничего не остается. А случись какой-нибудь аврал, то и вовсе не поспишь.
Для работы в машинном отделении у нас при выходе в плавание было два механика – Сюндбек и Нёдтведт. Они сменяли друг друга через каждые 4 часа. И когда машина работала подолгу, им нелегко приходилось. Да и вообще не мешало иметь в запасе еще одного человека. Поэтому я решил, что следует подготовить третьего, резервного механика. Вызвался Кристенсен, и надо сказать, что он прекрасно справился с переменой специальности. Казалось бы, опытный палубный матрос – как бы потом не раскаялся. Но он быстро стал заправским механиком. Тем не менее, когда мы проходили полосу западных ветров и каждый умелый моряк был нужен, его не раз можно было видеть на палубе.
Дизель, который во время нашего плавания в Атлантике был для нас постоянным источником тревог и беспокойства, в искусных руках Сюндбека вернул себе наше доверие. Он работал так, что отрадно слушать. Послушав, как рокочет машина, можно подумать, что «Фрам» несется со скоростью миноносца. Не вина машины, что на самом деле было иначе. Возможно, отчасти виноват был винт. Наверно, ему следовало быть немного больше; впрочем, мнение специалистов тут расходится. Но у нашего винта был еще один серьезный порок. Стоит подняться небольшому волнению, как начинают стучать подшипники. Это обычный недостаток на судах, где винт для предохранения его ото льда делается подъемным. И мы его не избежали. Единственным средством было поднять всю раму и залить подшипники новым металлом. Работа весьма трудная, когда надо делать ее в открытом море, да еще на таком валком судне, как «Фрам».
Что ни день, мы с удовлетворением отмечали, что собаки все больше осваиваются на судне. Возможно, были среди нас скептики, поначалу сомневавшиеся, что проблема собак будет решена. Но если такие сомнения и были, они быстро развеялись. Очень скоро у нас появились все основания рассчитывать, что мы благополучно довезем собак. Главное, кормить их получше и посытнее, насколько позволяли обстоятельства. Как уже говорилось, мы припасли для них главным образом сушеную рыбу. Эскимосская собака не страдает особенной привередливостью, но и ее желудку мало получать всё одну только сушеную рыбу. Необходимо добавлять в рацион жиры, иначе дело может плохо кончиться. Мы везли с собой много бочек жира и сала, но не настолько много, чтобы можно было не экономить. Стремясь растянуть запасы подольше и скармливать нашим иждивенцам побольше сушеной рыбы, мы надумали варить своего рода кашу из рубленой рыбы, сала и кукурузной муки. Эту кашу собаки получали три раза в неделю, и она им безумно нравилась. Они быстро научились распознавать дни, когда им подавали любимое месиво. Услышав звон жестяных мисок, в которых разносили порции, они сразу поднимали такой шум, что нельзя было расслышать человеческого голоса. Готовить и раздавать этот дополнительный паек было порой довольно хлопотно, но эти хлопоты окупались. Если бы мы отступили перед трудностями, вряд ли нам удалось бы довезти всех собак до Китовой бухты.
Сушеная рыба не шла ни в какое сравнение с кашей, зато ее у нас было вдоволь. Собаки-то никогда не были довольны своей порцией, так и норовили что-нибудь украсть у соседа. Может быть, это был для них своего рода спорт, но во всяком случае они им сильно увлекались, и порой только хорошая трепка помогала псу уразуметь, что это недозволено.
Да и потом, боюсь, он продолжал заниматься воровством, хоть и знал, что это не годится; трудно отвыкать от дурной привычки.
Другая вековечная привычка эскимосских собак, от которой мы пытались отучить их в плавании, – страсть к концертам. В чем, собственно, смысл этих представлений – то ли это развлечение, то ли выражение удовольствия, а может, наоборот, – мы не могли точно установить. Они начинались вдруг, ни с того ни с сего. Вот лежат собаки тихо и спокойно. В следующую минуту какая-нибудь из них, взяв на себя роль запевалы, испускает долгий, тоскливый вой. Если им не мешать, скоро к этому вою присоединяется вся свора, все воют, одна хуже другой, и несколько минут продолжается эта адская музыка. Единственным забавным во всем этом представлении был конец. Все собаки смолкали разом, совсем как хорошо спевшийся хор слушается жеста хормейстера. Правда, тем, кто в это время спал, концерты не доставляли никакого удовольствия, и даже конец их не утешал, ведь собачий хор нарушал самый крепкий сон. А если вовремя остановишь запевалу, удается, как правило, сорвать весь концерт. Благодаря этому средству можно было не беспокоиться за свой ночной сон.
При отплытии из Норвегии у нас было 97 собак, в том числе целых 10 сук. Это давало нам право надеяться на прирост поголовья на пути к югу, и надежды оправдались очень скоро. Уже через три недели состоялось первое «радостное событие». Казалось бы, что тут такого, но для нас, живущих в условиях, когда день на день похож, это и вправду было большим событием. И когда стало известно, что у Камиллы родились четыре здоровых щенка, это известие вызвало всеобщую радость. Двух щенков, оказавшихся кобельками, оставили жить; сучек отправили на тот свет задолго до того, как у них открылись глаза на мирские радости и печали. Могут сказать, что, когда на судне есть сотня взрослых собак, тут уж не до щенят. Однако о них заботились со всей тщательностью. Причиной этому была прежде всего трогательная любовь помощника начальника к щенкам. С первой минуты он выступил их ярым защитником. И без того на палубе было тесно, а дальше грозило стать еще хуже, если щенков прибавится.
– Я возьму их к себе на койку, – заверял помощник начальника.
До этого дело не дошло, но, если бы понадобилось, он, наверное, так и поступил бы. Примеры заразительны. Когда малыши отвыкли от материнского молока и перешли на другую пищу, после каждого обеда можно было видеть то одного, то другого члена команды, который выносил на палубу остатки еды. Излишки попадали в маленькие голодные рты.
Во всем том, о чем я здесь говорил, проявлялось не только терпение и сознание своего долга. Тут сказывалась любовь к работе и живой интерес к делу. Мои повседневные наблюдения убеждали меня, что эти факторы налицо, хотя большинство команды по-прежнему считало, что наша отдаленная цель – длительный дрейф в Северном Ледовитом океане. Они не подозревали о расширении плана, о том, что нам вскорости предстоит сразиться со льдами Антарктиды.
Я считал, что нужно еще помолчать об этом, пока мы не выйдем из той гавани, куда шли сейчас, – из Фуншала на Мадейре. Многие скажут, пожалуй, что я шел на очень большой риск, откладывая до последней минуты. А вдруг часть команды, а то и все выступили бы против задуманного мной серьезного отклонения?! Ну, что ж, риск был, но мало ли нам приходилось рисковать в те дни.
Но в эти первые недели нашего долгого путешествия, все ближе узнавая каждого человека, я вскоре пришел к убеждению, что на «Фраме» нет никого, кто стал бы мне мешать. Напротив, у меня являлось все больше причин рассчитывать, что новость будет всеми принята с радостью. Ведь теперь все будет выглядеть в другом свете, до сих пор дело шло на диво гладко, без сучка, без задоринки, дальше пойдет еще лучше.
Не скрою, я с некоторым нетерпением ожидал прибытия на Мадейру. Каким облегчением будет наконец высказаться… Остальные посвященные, наверно, ждали этого дня с не меньшим нетерпением. Секретничать нелегко и неприятно, особенно на таком судне, как наше, где поневоле живешь в тесном общении с другими. Каждый день мы разговаривали, и непосвященные постоянно заводили речь о серьезных трудностях у мыса Горн, которые грозили омрачить нашу жизнь и помешать нашему продвижению вперед. Дескать, один раз пройти через тропики с собаками нам, пожалуй, удастся, а насчет второго раза – сомнительно. И так далее и тому подобное. Не могу даже описать наше щекотливое положение, как тщательно приходилось подбирать слова, чтобы не сказать лишнего. Будь кругом несведущие люди, это было бы еще не так трудно, но не забудьте, что на «Фраме» чуть ли не каждый второй человек много лет плавал в полярных областях. Малейший намек мог сказать им все. И если ни наши люди, ни кто-либо посторонний не раскрыли истины раньше времени, то это, быть может, потому, что она, как говорится, лежала на поверхности.
Наш корабль слишком зависел от ветра и погоды, чтобы можно было уверенно вычислить, сколько времени у нас уйдет на предстоящий путь, особенно в широтах с непостоянными ветрами. Предварительный расчет всего плавания основывался на предполагаемом среднем ходе в четыре узла. При такой, по видимости, весьма скромной скорости мы собирались достичь Ледяного барьера примерно в середине января 1911 года. Как мы увидим позднее, этот расчет оправдался с поразительной точностью. На путь до Мадейры мы отводили с месяц. Здесь наши ожидания были превзойдены, мы вышли из Фуншала ровно через месяц после старта из Кристиании. Такие ошибки любой простит.
Время, потерянное в Ла-Манше, нам удалось наверстать на пути вдоль испанских берегов и дальше на юг. Северный ветер держался, пока его не сменил северо-восточный пассат, после чего мы и подавно воспряли духом. Судя по полуденной обсервации, вечером 5 сентября мы могли надеяться увидеть маяки. И в самом деле, в 10 часов вечера вахтенный доложил, что видит маяк Сан-Лоренцо на островке Фора у Мадейры.
На другое утро мы бросили якорь на Фуншальском рейде. У меня было условлено с братом, что он постарается раньше нас попасть в Фуншал. И вот мы тут, а его что-то не видно. Мы уже стали льстить себя надеждой, что прибыли первыми, когда его вдруг заметили в лодке, которая подошла к «Фраму». Брат услышал от нас, что на судне все благополучно, а мы получили от него кипу газет и писем с вестями из дома. Какой-то суетливый человечек, объявивший, что он доктор и, как таковой, явился проверить состояние нашего здоровья, поспешно дал задний ход, когда на верху трапа его встретило два десятка широко разинутых по случаю жары собачьих пастей. Интерес ученого мужа к нашему здоровью сразу испарился, теперь его заботила целость собственных конечностей.
Поскольку Фуншал был нашим последним контактом с внешним миром, были приняты меры, чтобы всесторонне пополнить наши запасы; особенно важно было запасти возможно больше пресной воды. Расход будет огромный, надо сделать все, чтобы не остаться без воды. И уж мы постарались заполнить драгоценной влагой все наличные сосуды и вместилища. Даже в большую шлюпку, помещавшуюся как раз над большим люком, налили около 5000 литров. Довольно рискованный эксперимент, чреватый неприятными последствиями в случае сильного крена, но мы тешили себя надеждой, что ближайшие недели продержится хорошая погода, без большой волны.
Во время нашей стоянки в Фуншале в меню собак было внесено весьма приятное для них разнообразие: они дважды получили по доброй порции свежего мяса. Не успеешь оглянуться – и целой лошадиной туши как не бывало, и так оба раза. Сами мы, естественно, воздавали должное имевшимся здесь в изобилии фруктам и овощам; это была наша последняя возможность, и мы стремились использовать ее до конца.
Стоянка в Фуншале продлилась больше, чем мы предполагали. Механики сочли необходимым поднять винт, чтобы проверить подшипники. Они попросили на эту работу два дня, и пока три механика трудились на жаре, остальная команда воспользовалась случаем поближе осмотреть город и его окрестности. На берег сходило по половине команды за раз, состоялась экскурсия к одному из многочисленных туристских отелей в горах, окружающих город. На фуникулере легко поднимаешься на высоту нескольких сот метров; за полчаса, что продолжается подъем, можно вполне налюбоваться замечательным плодородием этого чудесного острова. В отелях прекрасный стол и, конечно, еще более прекрасное вино. Нужно ли говорить, что мы оценили и то и другое. Спуск совершается более примитивным способом – на санях. Наверно, читатель опешит, услышав о санных поездках на Мадейре; для пояснения сообщу, что у саней деревянные полозья, а дорога вымощена очень гладким черным камнем. Скорость спуска по крутым склонам приличная; каждые сани тянут или толкают три-четыре смуглых островитянина, у которых что ноги, что легкие – на зависть.
Как курьез можно упомянуть, что фуншальские газеты сразу же связали нашу экспедицию с Южным полюсом.
Местные газетчики не представляли себе, насколько ценна животрепещущая новость, которую они выпускали на мировой рынок. Ее восприняли как обычную газетную утку, состряпанную на том лишь основании, что если полярное судно идет на юг, речь может идти только о Южном полюсе. Случайно утка на сей раз попала в цель. К счастью для нас, она не вылетела за пределы Мадейры. К вечеру 9 сентября начались приготовления к отплытию. Механики поставили на место винт и проверили его в работе; все припасы были погружены, хронометры проверены. Оставалось только избавиться от назойливых лодочников, которые роились вокруг «Фрама» на своих маленьких посудинах, похожих на плавучие лавочки. Мы живо спровадили торгашей вниз по трапу; кроме экипажа на судне остался лишь мой брат. После того как мы таким образом полностью изолировались от внешнего мира, настала наконец долгожданная минута, когда я смог сообщить всем своим товарищам о принятом год назад решении идти на юг. Полагаю, все, кто был тогда на «Фраме», будут долго помнить этот душный вечер на рейде в Фуншале. Всех людей вызвали на палубу; не знаю, о чем они думали, но уж во всяком случае не об Антарктике и Южном полюсе. Лейтенант Нильсен держал в руках большую свернутую карту, и я заметил, что многие вопросительно глядели на нее.
Немного слов понадобилось, чтобы каждый понял, откуда ветер дует и каким отныне будет наш курс. Помощник начальника развернул карту Южного полушария, и я коротко рассказал о своем расширенном плане, объяснил также, почему не говорил об этом до сих пор. Рассказывая, я поглядывал на лица слушателей. Сначала на них, как и следовало ожидать, было написано недвусмысленное изумление, но это выражение скоро сменилось другим. Я еще не договорил, а уже все сияли и улыбались. И я не сомневался в ответе, когда под конец стал опрашивать каждого в отдельности, пойдет ли он со мной. И верно, какую бы фамилию я ни назвал, у всех был готов утвердительный ответ. И хотя я ждал, что так и будет, трудно выразить радость, которую я испытал, видя, с какой готовностью мои товарищи вызвались мне помочь в этом важном деле. Впрочем, похоже было, что не один я доволен. В тот вечер на палубе царило такое оживление, что можно было подумать, будто мы уже благополучно завершили наш поход, а не стоим в самом начале пути.
Правда, времени на обсуждение великой новости не было, на это у нас будет еще не один месяц, а сейчас главное – приготовиться к выходу в море. Команда получила два часа на то, чтобы написать домой своим близким о происшедшем. Судя по тому, как быстро были написаны письма, они были не очень длинные. Всю почту вручили моему брату, он взял ее с собой в Кристианию, а оттуда уже разослал письма по соответствующим адресам, но только после того, как об изменении нашего плана было объявлено официально.
Сообщить новость моим товарищам было несложно, и они ее приняли как нельзя лучше; другой вопрос, что скажут у нас в Норвегии, когда об этом станет известно публике. Позднее мы узнали, что говорили и хорошее, и дурное. Но в ту минуту нас это мало заботило. Брат взялся передать, куда мы направились; я ему нисколько не завидовал. Последнее крепкое рукопожатие, и он покинул нас, прервалась наша связь с беспокойным миром. Мы были предоставлены сами себе. Нельзя сказать, чтобы нас это очень угнетало, мы вышли в свое долгое плавание, словно на танцплощадку, никакого намека на грусть, обычный спутник всякого прощания. Люди смеялись, шутили, звучали более или менее удачные остроты по поводу оригинальности нашего положения. Якорь подняли на редкость быстро, и не успели мы с помощью дизеля выйти из гавани с ее невыносимой духотой, как все паруса, на радость нам, наполнились прохладным свежим северо-восточным пассатом.
Собаки, которым Фуншал наверно показался излишне жарким, дали выход своей радости по поводу желанной прохлады, устроив громкий концерт. На этот раз мы сочли возможным не лишать их этого удовольствия.
На следующее утро после нашего отплытия с Мадейры выйти на палубу было сплошное удовольствие: все здоровались как-то особенно радушно, у всех в глазах сияла улыбка.
Неожиданный оборот дела, совершенно новый строй мыслей и представлений – все это подействовало, как бодрящий душ на тех, кто еще накануне ориентировался на мыс Горн.
Большинство с улыбкой говорили, как это они не догадались прежде, в чем дело.
– Ну, и пень я, раньше не сообразил, – сокрушался Бек, сплевывая за борт кусок жевательного табака. – Ведь, если разобраться, все было яснее ясного. Эти собаки, этот роскошный дом с огромной плитой и клеенкой на столе, да и все остальное. Любой дурак смекнул бы, чем это пахнет.
Я попытался утешить его, сказал, что задним числом легко рассуждать правильно, а вот я только рад, что никто раньше времени не узнал, куда мы идем.
Конечно, тем из нас, кому приходилось помалкивать и всячески изворачиваться, чтобы не выдать тайну, тоже приятно было облегчить душу. До сих пор мы, как говорится, играли в темную, теперь ничто не мешало нам раскрыть карты. Как часто разговоры заходили в тупик только потому, что те, у которых было множество вопросов, не решались их задать, а те, кто мог бы кое-что рассказать, не хотели этого делать. Зато теперь у нас было о чем потолковать. Появилась вдруг такая обширная тема, что неизвестно, с чего и начать. На «Фраме» было много людей с богатым опытом многолетнего пребывания в Арктике. Зато великий антарктический материк практически для всех был terra incognita. Из всего экипажа один я видел Антарктику; кое-кто из моих товарищей, огибая в прошлом мыс Горн, возможно, видел антарктический айсберг; вот и все.
Вряд ли многие члены команды имели время и случай основательно познакомиться с тем, что уже было проделано для исследования южных полярных областей, с рассказами о тех, кто до нас старался расширить познания человечества об этой негостеприимной части света. Да и к чему. Зато теперь для этого были все основания. Я считал крайне необходимым, чтобы каждый основательно изучил отчеты прежних экспедиций. Только так можно было заранее составить себе хоть какое-то представление о характере нашей задачи и условиях, в которых нам предстояло работать. Для этого на «Фраме» была целая библиотека литературы об Антарктике – все, что написали многочисленные исследователи этих областей от Джемса Кука[70] и Джемса Кларка Росса до капитана Скотта[71] и сэра Эрнста Шеклтона.[72] И мы усердно пользовались этой библиотекой. Особенно ценились книги двух последних авторов; их прочли от корки до корки все, кто мог. Хорошо написанные и прекрасно иллюстрированные, эти отчеты давали очень много. Таким образом, мы не жалели времени и труда на теорию, но и практика не была забыта.
Как только мы вошли в полосу пассата, где практически неизменные направление и сила ветра вполне позволяли сократить число вахтенных, наши специалисты начали приводить в полную готовность разнообразное снаряжение для зимовья. Конечно, с самого начала было сделано все, чтобы каждый предмет снаряжения был возможно лучше и совершеннее, однако не мешало хорошенько все проверить еще раз. Такое сложное хозяйство, как наше, никогда не приведешь в идеальный порядок. Всегда найдется что подправить. Как мы позднее увидим, не только в долгом плавании, но и во время еще более долгой антарктической зимы мы постоянно были заняты подготовкой к санному переходу.
Наш парусный мастер Рённе превратился, можно сказать, в портного. Гордостью Рённе была швейная машина, которую он, благодаря хорошо подвешенному языку, сумел раздобыть на Хортенской верфи. Для него было великим горем, когда, по прибытии к Ледяному барьеру пришлось передать свое сокровище береговому отряду. Он никак не мог понять, зачем нам швейная машина в Фрамхейме. И как только «Фрам» пришел в Буэнос-Айрес, Рённе первым делом заявил местному представителю фирмы «Зингер», что ему совершенно необходимо возместить эту потерю. Красноречие и тут ему помогло: он получил новую машину.
Нет ничего удивительного в том, что Рённе любил свою швейную машину. Он одинаково ловко и умело пользовался ею для всевозможных работ – парусных, сапожных, шорных и портновских. Он устроил мастерскую в рубке, и там его машина жужжала без передышки – в тропиках, в полосе западных ветров, среди дрейфующих льдов, но как ни проворно работал наш парусный мастер, заказы поступали еще быстрее. А Рённе был из тех людей, честолюбие которых выражается в том, чтобы возможно быстрее сделать возможно больше. С возрастающим удивлением он убеждался, что здесь всей работы никогда не переделаешь. Как ни старайся, непременно что-то еще остается. Перечислять все, что вышло из его мастерской в эти месяцы, было бы слишком долго. Достаточно сказать, что все было выполнено превосходно и с поразительной быстротой. Сам он, пожалуй, больше всего ценил маленькую трехместную палатку, которую мы потом оставили на Южном полюсе. Не палатка – шедевр; она была из тонкого шелка, в сложенном виде можно в карман затолкать, вес – от силы килограмм.
На этой стадии мы не могли с уверенностью сказать, что все, кто пойдет на юг, достигнут 90-го градуса. Напротив, в наших приготовлениях мы должны были исходить из того, что кому-то придется возвращаться. Упомянутой палаткой я предполагал воспользоваться, если на последний этап выйдут два или три человека. Поэтому и делали палатку как можно легче и меньше. К счастью, нам не пришлось ею воспользоваться. Когда мы дошли до цели, было решено, что лучше всего будет оставить шедевр Рённе на полюсе как ориентир.
На попечении нашего парусного мастера не было ни одной собаки, у него для этого не было времени. Правда, он охотно помогал мне присматривать за моими четырнадцатью друзьями на мостике, и все-таки что-то мешало ему поладить с собаками. Полная палуба собак как-то не вязалась с его понятием о жизни на судне. Он смотрел на эту аномалию с каким-то презрительным состраданием.
– Эй, да у вас тут на корабле собаки! – частенько говорил он, выходя на палубу и оказываясь лицом к лицу со «зверями». Бедные звери и не помышляли о том, чтобы покушаться на особу Рённе, но он им долго не доверял. Он только тогда чувствовал себя спокойно, когда на собаках были намордники.
В числе предметов снаряжения, о которых мы особенно пеклись, естественно, были лыжи. Ведь им, по всей вероятности, предстояло стать нашим главным оружием в предстоящей битве. Как ни поучительны были для нас отчеты Скотта и Шеклтона, мы не могли понять, почему в них говорится, что от лыж на Ледяном барьере не было никакого толка. Из описаний снежного покрова и прочих условий у нас, наоборот, складывалось впечатление, что там только на лыжах и можно передвигаться. Мы не пожалели сил, чтобы обеспечить экспедицию хорошими лыжами, и для ухода за ними у нас был опытный человек – Улав Бьоланд.[73] Имя этого замечательного лыжника говорит само за себя.
Когда при уходе из Норвегии возник вопрос, где хранить наши лыжи, мы решили, что ради них стоит потесниться, и все лыжи поместили под потолком носовой кают-компании. Лучшее, что мы могли придумать. Бьоланд, который последние месяцы пробовал свои силы на не совсем привычном для себя поприще моряка, во время перехода через полосу пассатов вернулся к ремеслу столяра и лыжного мастера. Лыжи и крепления были нам поставлены одной фирмой в Кристиании. Оставалось только пригнать железные скобы и пяточные ремни к обуви каждого участника, чтобы все было в полном порядке, когда мы подойдем к барьеру. Мы заготовили лыжи для всех, чтобы и те, кто останется на судне, могли во время пребывания у барьера при случае пройтись на лыжах.
За время плавания Бьоланд изготовил на все десять саней по паре запасных полозьев. При этом мы исходили из опыта эскимосов. У этих детей природы прежде не было материала, которым можно было бы покрывать полозья. Они выходили из положения, намораживая слой льда. Конечно, для такой работы нужен навык и большое терпение, зато ледяное покрытие, без сомнения, превосходит все остальные. Мы собирались испытать этот способ на барьере. Но собаки тянули так хорошо, что можно было спокойно обходиться полозьями из стали или гикори.
Первые две недели после выхода из Мадейры держался настолько свежий северо-восточный пассат, что можно было с одними парусами развивать и даже превышать расчетную среднюю скорость. Поэтому машина могла отдохнуть, а механики – заняться наладкой. Они без конца наводят чистоту и порядок в машинном отделении – им все мало. Нёдтведт воспользовался случаем заняться любимым делом – кузнечным ремеслом. Молот и наковальня не простаивали. Если у Рённе всегда находилось что пошить, то у Нёдтведта было что ковать: обивка на полозья, ножи, тюленьи багорки, ободья, болты, сотни крючьев для собак, цепи и так далее и тому подобное. Мы давно вошли в Индийский океан, а на юте день-деньской звенела наковальня и летели искры. Правда, в полосе западных ветров было нелегко заниматься кузнечным делом. Не так-то просто угодить точно по шляпке гвоздя, когда опорой служит неустойчивая палуба, и не очень-то приятно, когда горн по несколько раз в день заливает водой.
Во время подготовки к экспедиции кое-кто в Норвегии шумел о якобы плачевном состоянии корпуса «Фрама». Дескать, он плохо ремонтировался, течет, как решето, да что там, прогнил весь насквозь. Странно выглядят все эти разговоры теперь, когда подумаешь о плавании, которое проделал «Фрам» за два года. Двадцать из двадцати четырех месяцев провел он в открытом море, к тому же в таких водах, где крепость судна подвергается очень серьезному испытанию. А «Фрам» такой же крепкий, мог бы без всякого ремонта проделать все плавание сначала. Мы, члены экспедиции, еще до выхода из гавани прекрасно знали, насколько беспочвенны и нелепы эти разглагольствования о «гнили»; знали также и то, что вряд ли найдется на свете такое деревянное судно, на котором не приходилось бы время от времени откачивать воду. При остановленном дизеле мы убедились, что достаточно поработать 10 минут ручной помпой каждое утро. Вот и вся «течь». Словом, в корпусе «Фрама» никаких изъянов не было. Иное дело такелаж, тут было что покритиковать. Его недостатки всецело объясняются проклятой необходимостью считаться с финансами. На фокмачте должно было быть четыре прямых паруса, а у нас было всего два. На бушприте было два кливера, а нужно было ставить три, да денег не хватило. В полосе пассатов мы пробовали для компенсации ставить лисель рядом с фоком, а выше марсареи – трюмсель. Не могу сказать, чтобы эти импровизированные паруса украшали судно, но они прибавляли нам скорость, а это гораздо важнее.
В эти сентябрьские дни мы продвигались на юг довольно быстро. К середине месяца мы уже далеко зашли в тропический пояс. Особой жары мы не чувствовали; вообще, на ходу в открытом море жара не очень дает себя знать. В штиль на парусном судне, когда солнце в зените, основательно припекает, но ведь у нас работала машина, так что воздух не застаивался. Во всяком случае на палубе. Хуже обстояло дело в каютах под палубой, где порой становилось «чертовски тепло», как любил выражаться Бек. У наших отличных в целом кают был один порок – полное отсутствие иллюминаторов, никак нельзя проветрить. Но большинство из нас считало, что с этим вполне можно мириться. Из двух кают-компаний носовая, безусловно, была предпочтительной в жару; в холодных зонах, вероятно, было бы наоборот. На носу ведущий под баком к трюму коридор позволял проветривать помещения; на корме это было сложнее, да тут еще сказывалась близость машины. Жарче всего приходилось, конечно, механикам, но неистощимый на выдумку Сюндбек изобрел способ улучшить вентиляцию, так что даже и в машинном отделении была относительно сносная атмосфера.
Часто спрашивают, что все-таки лучше: сильная жара или сильный мороз. На этот вопрос нелегко дать однозначный ответ. И то и другое неприятно, а что неприятнее – в конечном счете дело вкуса. На корабле, наверно, большинство предпочтет жару, даже самую сильную. Пусть днем тяжело, зато как чудесно ночью. А после сырого холодного дня еще более холодная ночь – плохая компенсация. Для людей, которым надо часто ложиться и вставать, раздеваться и одеваться, теплый климат обладает несомненным преимуществом: проще одежда. Долго ли собраться, когда тебе почти ничего не нужно надевать.
Если бы наши собаки могли высказать свое отношение к тропикам, они, вероятно, в один голос ответили бы: «Спасибо, нельзя ли вернуться в более прохладные места?» Их одеяние никак не было рассчитано на +30° в тени, и ведь не переоденешься. Впрочем, неверно думают многие, будто собакам непременно подавай трескучий мороз, наоборот, они предпочитают тепло и уют. В тропиках, естественно, было чересчур тепло, но они от жары не страдали. Мы натянули над палубой тент от носа до кормы, так что все собаки лежали в тени. А пока они не подвергались прямому облучению солнцем, можно было не опасаться скверных последствий. Насколько хорошо они переносили жару, лучше всего видно по тому, что ни одна собака не хворала от перегрева. За весь переход от болезни подохло две собаки, причем в одном случае это была сука, которая произвела на свет восемь щенков, – после такого в любых условиях трудно выжить. Что до второго случая, то тут нам не удалось выяснить причину смерти. Но это не была заразная болезнь. Больше всего мы боялись какой-нибудь эпидемии, однако благодаря тщательности, с какой отбирались собаки, у нас не было и признака чего-нибудь подобного.
Вблизи экватора, там, где проходит рубеж между областями северо-восточного и юго-восточного пассатов, есть так называемый штилевой пояс. Его местоположение и пределы несколько изменяются с временем года. Если повезет, можно угадать так, что один пассат непосредственно переходит в другой, но обычно в этой области движение парусных судов сильно тормозится. Либо сплошные штили, либо переменный, неровный ветер. Мы попали туда в неблагоприятное время года и потеряли северо-восточный пассат уже на десятом градусе северной широты. В штиль мы с помощью мотора довольно скоро прошли бы эту полосу, но штиля почти не было, чаще дул упорный южный ветер, и последние северные параллели тянулись для нас очень уж долго.
Мало этой заминки, так нас еще подстерегала неприятность более серьезная. К нашему удивлению, мы никак не могли дождаться хорошего дождя. В этих широтах обычно идут сильнейшие ливни, позволяющие быстро набрать целые бочки воды. Мы рассчитывали таким способом пополнить свои запасы, ведь нам приходилось очень бережно расходовать пресную воду, чтобы не остаться без нее. Увы, наши надежды практически не оправдались. Немного воды мы, правда, собрали, однако это нас никак не выручило, пришлось и впредь соблюдать строгую экономию. Собаки получали еще дневную норму, но она отмерялась с аптекарской точностью. Свое собственное потребление мы ограничили самым необходимым. Супы вычеркнули из меню, на них уходило слишком много драгоценной влаги. Умываться пресной водой было запрещено. Не подумайте только, что мы вовсе перестали умываться. Ведь мы везли с собой много мыла, которое пенилось в морской воде не хуже, чем в пресной, так что можно было содержать в чистоте и себя, и одежду. Впрочем, наше беспокойство насчет воды длилось недолго. Запас, хранившийся в шлюпке на палубе, оказался на диво большим, он вдвое превзошел наши расчеты, так что в общем положение было спасено. На крайний случай мы могли еще зайти на какой-нибудь из многочисленных архипелагов на нашем пути.
Вот уже полтора месяца наши собаки сидели на привязи на том самом месте, которое им отвели сразу по прибытии на судно. За это время большинство из них стали такими ручными и послушными, что вроде бы пришла пора отпустить их. Это будет для них желанным развлечением, но главное, они разомнутся наконец. Да мы и сами предвкушали для себя немалое удовольствие – вот будет суматоха, когда спустят всю свору! Но прежде чем дать собакам свободу, надо было их, как говорится, обезоружить, а то ведь затеют потасовку, без жертв не обойдется; этого мы не могли допустить. Крепкие намордники обезвредили грозные клыки. После этого мы отпустили собак и стали ждать, что теперь будет. Поначалу ничего не произошло, можно было подумать, что собаки и не помышляют о том, чтобы покинуть то место, где они так долго просидели. Наконец одной из них пришла в голову светлая мысль прогуляться по палубе. Неосмотрительное решение: ходить здесь было совсем не безопасно. Непривычное зрелище прогуливающейся собаки сразу подхлестнуло других, и около дюжины псов бросилось на неосторожную. То-то будет наслаждение вонзить клыки в грешницу… Не тут-то было. Проклятый ремень, стягивающий челюсти, не давал как следует укусить, в лучшем случае можно было вырвать несколько жалких клочков шерсти. Первая стычка послужила сигналом к поголовной потасовке. Часа два на палубе творилось что-то несусветное. Шерсть так и летела, но шкуры не пострадали. В этот день намордники спасли не одну жизнь.
Драка – главное развлечение эскимосских собак, они предаются этому спорту с подлинной страстью. И пусть бы развлекались, не будь у них странной привычки дружно набрасываться на одну собаку, которую они избирают в качестве жертвы. Все спешат добраться до нее, и если не вмешаться, они не успокоятся, пока не прикончат беднягу. Так можно в два счета потерять ценное животное.
Естественно, мы с первой же минуты постарались умерить воинственный пыл собак, и они очень скоро уразумели, что драки нам не по вкусу. Однако речь шла о врожденной особенности гренландских собак, которую нельзя полностью искоренить. Никогда нельзя было быть до конца уверенным, что природа не возьмет верх.
После того как собаки были спущены с привязи, мы уже до конца плавания не ограничивали их свободу, привязывали только на время еды. Просто удивительно, как ловко они умели прятаться в разные укромные уголки; бывало, встанешь утром – почти ни одной собаки не видно. И конечно они забирались туда, куда бы им вовсе не следовало забираться. Многие из них не раз падали через открытый люк в носовой трюм; высота 8 метров, а им хоть бы что. Одна собака ухитрилась даже проникнуть в машинное отделение.
И устроилась там между шатунами. Хорошо еще, что во время ее визита не пустили машину.
После первых жарких схваток собаки довольно скоро утихомирились. Бросалось в глаза, что бойцы явно обескуражены и сконфужены тем, как мало проку от всех их усилий. Любимый спорт во многом утратил свою привлекательность, как только собаки поняли, что им не придется вкусить крови врага.
Из того, что было сказано выше, а также, пожалуй, из других рассказов о нраве полярных собак может показаться, что вся жизнь этих животных проходит в сплошных драках. Это совсем не так; наоборот, собаки очень часто дружат между собой, и эта дружба порой бывает настолько сильна, что они просто не могут обходиться друг без друга. Пока собаки еще сидели на привязи, мы заметили, что некоторые из них почему-то, как говорится, не в своей тарелке. Они были пугливее и беспокойнее других. Мы не придавали этому особенного значения и не доискивались причины. А в тот день, когда собак спустили с привязи, мы сразу увидели, в чем тут было дело. Оказалось, что у этих собак были старые друзья, которых случайно поместили в другом конце палубы; разлука с товарищем и была причиной дурного настроения. Трогательно было смотреть, как они радовались свиданию; радость совсем их преобразила. Разумеется, мы сразу поменяли собак местами так, чтобы те, которые естественно тянулись друг к другу, потом попали в одну упряжку.
Мы надеялись пересечь экватор до 1 октября, но неблагоприятные ветры задержали нас. Правда, ненадолго. Под вечер 4 октября «Фрам» прошел экватор. Осталась позади важная веха на нашем пути. От одной мысли, что мы перешли в южные широты, у всех поднялось настроение; это событие надо было как-то отметить. Исстари заведено, что при переходе через экватор на судно является сам папаша Нептун – его роль исполняет какой-нибудь доморощенный талант из числа членов экипажа. Если этот высокий гость при осмотре корабля встретит человека, который не сможет доказать, что уже переходил через знаменательную окружность, его без долгих разговоров передают свите Нептуна для «бритья и крещения». Эта процедура, не всегда производимая с должной бережностью, вносит веселье и желанное разнообразие в монотонную жизнь на борту в дальнем плавании. Понятно, и на «Фраме» многие предвкушали визит Нептуна, но он не явился. Для него просто-напросто не нашлось места на нашей палубе, так она была загромождена.

Праздник в честь перехода через экватор
Мы довольствовались праздничным обедом с кофе, ликером и сигарами. Кофе был подан на фордеке, где мы, потеснив собак, очистили несколько квадратных метров площади. Программа развлечений была обширная. Струнный оркестр в составе скрипки и мандолин, на которых играли лейтенант Престрюд, Сюндбек и Бек, исполнил, как умел, несколько номеров; впервые прозвучал голос нашего великолепного граммофона. Когда раздались звуки вальса, на трапе появилась дюжая балерина в маске и короткой юбочке. Неожиданное появление столь прекрасной гостьи было встречено бурными аплодисментами. Они повторились, когда красотка представила на суд публики образцы своего искусства. За маской угадывались черты лица лейтенанта Ертсена, однако и костюм, и танец были в высшей мере женственны. Рённе не успокоился, пока не посадил «даму» к себе на колени. Да здравствуют иллюзии!
На смену вальсу пришел лихой американский кэк-уок, и тотчас на сцене очень кстати появился негр во фраке с цилиндром и в огромных деревянных башмаках. Как ни черен он был, мы сразу узнали помощника начальника. Одного его вида было достаточно, чтобы все громко расхохотались, а когда он принялся отплясывать джигу, восторгу не было предела. Очень уж это выходило потешно. Хорошо было отвести душу именно в эти дни, когда наше плавание превратилось в подлинное испытание. Может быть, мы требовали чересчур многого, но юго-восточный пассат, которого мы ждали каждый день, где-то замешкался; когда же он наконец соизволил явиться, то вел себя совершенно не так, как подобает ветру, который слывет самым постоянным в мире. Мало того, что ветер для нас был слишком слабым, он еще позволял себе всякие отклонения, перескакивал с румба на румб между югом и востоком, чаще всего склоняясь к югу. И так как мы все время вынуждены были идти бейдевинд на запад, то пересекали гораздо больше меридианов, чем параллелей. Мы быстро приближались к северо-восточной оконечности южноамериканского материка – мысу Сан-Роки. К счастью, нам удалось избежать тесного соприкосновения с этим полуостровом, сильно выдающимся в Атлантический океан. Наконец ветер установился, но он оставался таким слабым, что все время приходилось пользоваться дизелем. Судно медленно, но верно шло на юг. Температура опять начала приближаться к значениям, более или менее устраивающим северянина. Можно было снять не очень удобный, низко висящий тент. Мы облегченно вздохнули: теперь везде можно ходить не нагибаясь.
16 октября полуденная обсервация показала, что мы находимся поблизости от острова Южный Тринидад – одного из редких оазисов в водной пустыне южной Атлантики. Собирались подойти к острову, может быть, даже попробовать высадиться на берег, но, к сожалению, пришлось остановить дизель, чтобы очистить запальные шары, и это нас задержало. В сумерки мы заметили очертания земли; это позволило нам хотя бы проверить хронометры.
Южнее 30-й параллели юго-восточный пассат почти прекратился. А мы и не горевали по поводу разлуки с ним, уж очень он был ненадежный до самой последней минуты, к тому же «Фрам» не создан для хода бейдевинд. В тех широтах, где мы теперь находились, можно было рассчитывать на добрый ветер. Он нам был просто необходим. Мы прошли 6000 миль, но оставалось пройти еще 10 000, а дни летели поразительно быстро. Конец октября принес нам желанную перемену. Со свежим северным ветром мы довольно быстро шли на юг и до начала ноября достигли уже 40-й параллели. Мы вошли в воды, где можно было твердо надеяться на попутный ветер нужной силы. Отныне путь наш лежал на восток вдоль так называемого южного пояса западных ветров. Этот пояс огибает весь земной шар между 40-й и 50-й параллелями, для него характерны постоянные западные ветры, обычно очень сильные. Все наши надежды мы возлагали на эти ветры: если они нам изменят, нам придется туго. Но не успели мы войти в их владения, как они, что называется, навалились на нас. Нельзя сказать, чтобы они обращались с нами бережно, зато мы стремительно шли на восток, что и требовалось. Намеченный заход на остров Гоф пришлось отменить, сильная волна отбила у нас желание приблизиться к маленькой, тесной гавани.
То что было потеряно в октябре, мы с лихвой наверстали теперь. Мы рассчитывали подойти к мысу Доброй Надежды через два месяца после ухода с Мадейры, так и вышло. Проходя меридиан мыса Доброй Надежды, мы впервые попали в настоящую бурю. Поднялась высоченная волна, и тут мы узнали по-настоящему, на что способно наше замечательное суденышко. Любой из этих могучих валов мог бы мгновенно опустошить всю нашу палубу, но «Фрам» этого не допускал. Всякий раз, когда волна настигала судно, и казалось она сейчас обрушится на низкую корму, «Фрам» элегантно взмывал вверх, а гребень вала смиренно нырял под него. Даже альбатрос не мог бы лучше перевалить через волну. Известно, что «Фрам» рассчитан на льды, это верно, но верно и то, что, когда Колин Арчер создал свой знаменитый шедевр, его полярное судно стало одновременно и образцом судна с редкостными мореходными качествами. Увертываясь от волн, «Фрам» поневоле кренился; мы это испытали на себе. Все время, пока мы шли в поясе западных ветров, не прекращалась качка, но со временем мы свыклись и с этим неудобством. Неприятно, но еще неприятнее было ходить по залитой водой палубе. Пожалуй, хуже всего доставалось тем, кто работал в камбузе. Несладко быть коком, когда неделю за неделей нельзя поставить на стол кофейной чашки без того, чтобы она тотчас же не исполнила бы сальто-мортале. Нужны терпение и воля, чтобы не пасть духом, но Линдстрём и Ульсен, которые готовили нам пищу в этих тяжелых условиях, умели всё воспринимать с юмором. Молодцы.
Что до собак, то их крепкий ветер не беспокоил, было бы только сухо. Дождя они не любят, вообще сырость для полярной собаки хуже всего. Они отказывались ложиться на мокрую палубу, могли часами стоять неподвижно, пытаясь вздремнуть в таком неудобном положении. Да какой уж тут сон. Зато они могли отсыпаться круглые сутки, когда наступала хорошая погода. У мыса Доброй Надежды мы потеряли двух собак. Они вылетели за борт темной ночью, когда была очень сильная качка. На ахтердеке у нас был с левого борта ящик, в котором уголь лежал вровень с фальшбортом. Очевидно, псы упражнялись здесь и потеряли равновесие. Мы позаботились о том, чтобы такие вещи больше не повторились.
К счастью для наших собак, погода в полосе западных ветров часто менялась. С одной стороны, было немало бессонных ночей с дождем, слякотью и градом, но, с другой стороны, и солнце частенько проглядывало, поднимая настроение. Ветер здесь чаще всего циклонический, переходит вдруг с одного румба на другой, а такие скачки всегда влекут за собой перемену погоды. Падение барометра – верный признак, что будет норд-вест. Он почти всегда сопровождается осадками и продолжает крепнуть, пока не перестает падать барометр. После этого либо наступает пауза, либо сразу начинает дуть зюйд-вест нарастающей силы, причем барометр быстро поднимается. Как правило, при этом наступает прояснение.
При сильном ветре с кормы «Фрамом» было трудно управлять, он чуть что рыскал, и часто двоим еле-еле удавалось справляться с рулем. Однажды нас развернуло к ветру, и паруса обстенило, но наш опытный механик выручил нас, успев в невероятно короткий срок пустить машину на полный вперед, после чего судно снова подчинилось рулю.
Одна из причин, почему плавание в этих водах сопряжено с известным риском, – возможность столкнуться с айсбергом ночью или в туман. Дело в том, что эти зловещие странники в своих скитаниях забираются иногда довольно далеко на север от 50°. Понятно, вероятность столкновения незначительна, и ее можно свести до минимума, если соблюдать надлежащую осторожность. Внимательный, опытный впередсмотрящий и в темноте всегда заметит отблеск льда на достаточно далеком расстоянии.
Как только возникла угроза встреч с айсбергами, мы стали по ночам через каждые 2 часа измерять температуру воды.
Так как остров Кергелен лежал примерно на нашем курсе, по ряду причин было решено сделать там остановку и посетить норвежскую китобойную базу. За последнее время многие собаки начали худеть, вероятно, из-за недостатка жиров в пище. Мы рассчитывали, что на Кергелене сможем получить сколько угодно жира. Воды нам при бережном расходовании должно было хватить, и все же не мешало наполнить цистерны. Кроме того, я надеялся, что смогу нанять там еще трех-четырех человек. После того как нас высадят на Ледяном барьере, останется всего десять человек, а этого маловато, чтобы вывести «Фрам» изо льдов и провести мимо мыса Горн до Буэнос-Айреса.
И еще одна причина для визита: нам хотелось развлечься. Оставалось только побыстрей туда добраться; в этом нам отлично помогал западный ветер. Он почти все время был свежим, не достигая, однако, штормовой силы. Мы проходили в сутки около 150 миль, а однажды прошли даже 174 мили. Это была высшая суточная скорость за все наше плавание, притом совсем не плохая для такого судна, как тяжело нагруженный «Фрам» при его неполной оснастке.
Под вечер 28 ноября мы увидели землю. Попросту говоря, голую скалу, судя по координатам, – остров Блей-Кэп, лежащий в нескольких милях от Кергелена. Но была плохая видимость, и, не зная этих вод, мы предпочли на ночь лечь вдрейф.
Рано утром прояснилось, можно было уверенно ориентироваться, и мы взяли курс на Роял-Саунд, где надеялись найти китобойную базу. Свежий утренний ветерок придал нам неплохую скорость, однако в ту самую минуту, когда нам осталось обогнуть последний мыс, ветер снова усилился. Пустынный, негостеприимный берег скрылся в дожде и тумане, перед нами стоял выбор: либо снова ждать невесть сколько, либо продолжать путь. Мы без особого колебания выбрали последнее. Конечно, заманчиво встретиться с другими людьми, тем более с соотечественниками, но еще заманчивее было как можно быстрее одолеть остававшиеся до Ледяного барьера 4000 миль. Наш выбор себя оправдал. Декабрь принес с собой еще более крепкий ветер, чем ноябрь, и к середине месяца мы уже прошли половину расстояния от острова Кергелен до нашей цели. Собакам для подкрепления сил время от времени давали обильные порции масла. Результат был превосходный. Сами мы чувствовали себя хорошо и были в отличной форме, настроение все поднималось по мере того, как сокращался оставшийся путь.
Прекрасным состоянием здоровья в плавании члены экспедиции во многом были обязаны превосходному провианту. На пути от Норвегии до Мадейры наш стол украшала свинина, ведь мы везли с собой поросят; потом пришлось перейти на более скромное меню и налечь на консервы. Впрочем, это оказалось не так уж страшно, потому что консервы были лучшего качества. В обеих кают-компаниях пища для всех была одинаковая.
В 8 утра – завтрак: оладьи с вареньем или мармеладом, сыр, свежий хлеб, кофе или какао. Обед обыкновенно состоял из одного горячего блюда и десерта. Как уже говорилось, мы по большей части обходились без супа, потому что берегли воду. Супом кок потчевал нас только по воскресеньям. На десерт обычно ели калифорнийские фрукты. Вообще мы старались делать упор на фрукты, овощи и варенье. Это лучшая профилактика от болезней. За обедом всегда пили соки и воду. По средам и субботам полагалась рюмка водки. Я знал по собственному опыту, как хорошо выпить чашку кофе, когда тебя ночью поднимают на вахту. Глоток горячего кофе живо преображает самого сонного и брюзгливого человека. На «Фраме» ночная вахта всегда была обеспечена кофе.
К Рождеству мы вдоль 56° южной широты почти достигли 150-го меридиана. Оставалось немногим больше 900 миль до тех мест, где можно было ожидать встречи с паковым льдом. Работяга западный ветер, который много недель так прилежно нас подгонял вперед, развеяв все тревоги по поводу возможного опоздания, исчез. И пришлось нам опять несколько дней воевать со штилем и встречным ветром. 23 декабря – дождь, крепкий зюйд-вест; не очень-то многообещающее начало праздников. Чтобы устроить небольшой пир, нам нужна была хорошая погода, иначе качка все испортит. Конечно, с нами ничего не случится, если в сочельник придется сражаться со штормом, брать рифы и так далее. Нам не впервой. И все-таки немного хорошего, праздничного настроения никому не повредит. А то все сплошь одни будни. Как я уже сказал, 23 декабря не сулило еще никакой радости. О приближении Рождества говорило только то, что Линдстрём, несмотря на качку, принялся готовить коржики. Мы предложили ему, чтобы он сразу раздал всем, сколько положено, ведь известно, что коржики вкуснее всего, когда их только что извлекли из смальца, но Линдстрём не хотел и слушать и припрятал до поры всю свою продукцию. Пришлось нам довольствоваться одним запахом.
А в сочельник утром погода была такая тихая и ясная, какой мы давно не видели. Судно шло ровно, никакой качки. Ничто не мешало нам в меру наших возможностей готовиться к встрече праздника. И вот уже в полном разгаре рождественские хлопоты. Носовая кают-компания была прибрана и вымыта, латунь и лак блестели наперебой. Рённе украсил рубку сигнальными флагами, над входом в кают-компанию висел транспарант с традиционным пожеланием «Счастливого Рождества!». Лейтенант Нильсен обнаружил недюжинный дар декоратора. В моей каюте, на подвешенной под потолком доске, поставили граммофон. Было задумано выступление трио в составе пианино, скрипки и мандолины, но его пришлось отменить, так как пианино было расстроено.
Один за другим входили члены нашего маленького коллектива, чистые, принаряженные, иного не сразу и узнаешь. В самом деле, бороды исчезли, кругом сверкали гладко выбритые подбородки. В 5 часов машину остановили, и все собрались в носовой кают-компании; на палубе остался только один рулевой. В мягком свете разноцветных ламп этот наш уютный уголок выглядел совсем сказочным, и мы сразу прониклись рождественским настроением. Декоратор потрудился на славу, большая заслуга принадлежит и тем, от кого мы получили большинство украшений.
Наконец мы расселись вокруг стола, который ломился под тяжестью шедевров кулинарного искусства Линдстрёма. Улучив минуту, я зашел в каюту и запустил граммофон. Зазвучал рождественский гимн…
И сердца людей отозвались на голос исполнителя. Освещение было слабое, видно плохо, но мне показалось, что на глазах у закаленных судьбой мужчин, собравшихся за столом, поблескивало что-то вроде слез. Не сомневаюсь, что мысли всех летели одним курсом – домой, за тысячи миль, в далекую страну на севере. Мы могли только пожелать нашим соотечественникам, чтобы каждому из них было в этот день так же хорошо, как нам на «Фраме». Правда, мы чувствовали себя великолепно. Легкая грусть быстро уступила место шуткам и веселью. Во время ужина первый штурман исполнил песенку собственного сочинения, имевшую огромный успех. В ней более или менее остро высмеивались грешки и слабости каждого из присутствующих. Куплеты чередовались с короткими комментариями в прозе. Форма и содержание этого опуса вполне достигли своей цели, мы хохотали до упаду.
В кормовой кают-компании на столе стоял кофе, лежали целые горы рождественских коржиков Линдстрёма. В центре красовался огромный миндальный торт.
Пока мы воздавали должное всем этим яствам, Линдстрём прилежно трудился в носовой кают-компании. И когда мы после кофе опять перешли туда, там в полном уборе стояла чудесная небольшая елка. Она была искусственная, но поразительно похожая на настоящую, только что из леса. Тоже подарок из дому.
Затем началась раздача подарков. У нас было множество красивых и забавных вещиц. Мы от души благодарны тем, кто о нас позаботился; это и их заслуга, что Рождество осталось в нашей памяти как один из самых светлых моментов долгого плавания.
В 10 часов вечера елочные свечи догорели, празднику пришел конец. Он был удачным от начала до конца, осталось что вспоминать, когда снова потянулись будни.
Мы были готовы к тому, что на следующем участке пути – от Австралийского материка до пояса антарктических дрейфующих льдов – нас подстерегали всевозможные козни со стороны погоды. Мы столько читали и слышали о том, что пришлось пережить другим в этих водах, что невольно представляли себе самое худшее. Нет, за судно мы ни капли не опасались. Мы его знали и не сомневались, что «Фрам» любой шторм вынесет. Нас пугало другое: как бы не опоздать.
На деле обошлось и без опоздания, и без неприятностей. Уже в первый день Рождества, словно нарочно для лучшего праздничного настроения, подул свежий норд-вест, в самый раз, чтобы мы развили хороший ход в нужном направлении. Он потом отошел немного к западу и держался большую часть недели; 30 декабря мы достигли 170° восточной долготы и 60° южной широты. Тем самым мы прошли так далеко на восток, что наконец можно было взять курс на юг. И не успели мы повернуть, как подул крепкий норд. Идеальный вариант. Так мы скоро одолеем все оставшиеся параллели. Неотступно сопровождавшие нас в полосе западных ветров альбатросы исчезли. Не сегодня завтра увидим первых представителей пернатых обитателей Антарктики.
Последовательно стараясь во всем использовать опыт предшественников, мы решили проложить курс так, чтобы 65-ю параллель пересечь по 175-му меридиану. Важно было побыстрее пройти через пояс паковых льдов, преграждавших путь к лежащему южнее, всегда открытому летом морю Росса. Некоторые корабли задерживались в этом поясе до полутора месяцев, другие проходили его в несколько часов. Нас, понятно, больше устраивал второй вариант, поэтому мы избрали путь, которым следовали наиболее удачливые.
Естественно, ширина этого пояса может заметно изменяться, но похоже, что больше всего надежд быстро пройти – в районе между 175-м и 180-м меридианами. Во всяком случае, западнее этого входить в пак не следует. В полдень 31 декабря мы достигли 62°15 южной широты. Старый год истекал, и до чего же быстро он пролетел. Как и все годы, он принес и удачи, и неудачи, но главное – на исходе его мы благополучно добрались до нужной нам точки земного шара. Сознавая это, мы вечером тепло проводили 1910 год стаканом грога и пожелали друг другу всяческого счастья в 1911-м.
Первого января в 3 часа утра вахтенный начальник разбудил меня известием, что показался первый айсберг. Он предложил мне подняться на палубу и посмотреть на него. И правда, вдали с наветренной стороны, сияя, будто дворец, в лучах утреннего солнца, плыл айсберг: большой, сверху плоский, типичной антарктической формы. Может быть, это покажется противоречием, но все мы обрадовались этой первой встрече со льдом. Обычно айсберг отнюдь не радость для моряка, но мы пока не задумывались о риске. Нас встреча с колоссом занимала совсем в другом смысле, ведь она означала, что до пака уже недалеко. Нам всем не терпелось войти в паковый лед. Он обещал внести желанное разнообразие в нашу монотонную жизнь, которая нам уже слегка наскучила. Как чудесно будет хотя бы несколько шагов пробежаться по льду. Не меньше того радовала нас перспектива основательно накормить собак тюленьим мясом; да и мы сами не прочь были его отведать.
За вечер и ночь айсбергов стало больше. Учитывая такое соседство, хорошо, что было светло. Погода была такая, что лучше и желать нельзя: солнечно и ясно, слабый, но устойчивый попутный ветер.
В 8 часов вечера 2 января мы пересекли Южный полярный круг. Часа через два впередсмотрящий доложил из бочки, что видит льды впереди. Они ничем нам не грозили: льдины образовали длинные цепочки, разделенные широкими разводьями. Мы пошли прямо туда. Наши координаты были 176° восточной долготы и 66°30 южной широты. Лед сразу сгладил зыбь, палуба снова стала устойчивой опорой, и если два месяца подряд мы ходили по-матросски, то теперь снова можно было передвигаться нормально. Мы восприняли это как праздник.

Один из коренных обитателей Антарктики (тюлень Уэддела на льдине)
На другое утро, часов около 9, нам впервые представился случай поохотиться. На льдине прямо по курсу был замечен крупный тюлень Уэддела. Он совершенно спокойно отнесся к нашему приближению и даже не пожелал сдвинуться с места, пока две-три пули не убедили его, что с нами шутки плохи. Тогда он попытался добраться до воды, но было поздно. Два члена нашей команды уже высадились на льдину и не дали уйти драгоценной добыче. Через четверть часа туша лежала на палубе, разделанная опытными руками. Так мы одним махом добыли не меньше 300 килограммов корма для собак, да и люди не были обижены. До вечера мы еще 3 раза удачно поохотились; таким образом, у нас оказалось больше тонны свежего мяса и сала.
Нужно ли говорить, что в тот день на судне был настоящий пир. Собаки, как говорится, дорвались, наелись до отвала. Мы спокойно могли им это позволить. Что до нас самих, то мы, естественно, соблюдали меру, но обед все уписывали за обе щеки. У нас и раньше было много любителей тюленьего бифштекса, теперь их сразу прибавилось. Кажется, еще большим успехом пользовался суп, тут как нельзя более кстати пришлись наши превосходные овощи.
В первые сутки окружающие нас льды были настолько неплотными, что мы по сути дела все время шли прежним курсом и ходом. В последующие два дня обстановка осложнилась, пошел лед поплотнее, кое-где мы вынуждены были менять курс. Однако серьезных препятствий не было, всегда находилось достаточно разводий. 6 января положение изменилось, полосы льда стали уже, разводья – шире. В 6 часов вечера кругом, насколько хватал глаз, простиралась чистая вода. Мы находились на 70° южной широты и 180° восточной долготы.
Четыре дня, что мы шли через паковые льды, были приятной прогулкой. Подозреваю, что не один из членов экипажа вспоминал тихие воды между льдинами, когда волны свободного ото льда моря Росса снова дали «Фраму» повод продемонстрировать свою валкость.

«Фрам» у барьера Росса
Но и завершающая часть пути прошла вполне благополучно. Сравнительно плохо изученный район не таил в себе ничего страшного. Стояла на удивление хорошая погода, словно мы вышли на летнюю прогулку в Северное море. Айсбергов почти не было. За четыре дня, что мы шли через море Росса, нам встретилось всего несколько штук, да и то совсем небольшие.
11 января около полудня яркий отблеск на южной части неба возвестил, что мы уже недалеко от цели, к которой стремились пять месяцев. В половине третьего показался великий Ледяной барьер. Он медленно поднимался из моря и наконец, когда мы подошли близко, предстал перед нами во всем своем величии. Трудно передать на бумаге, какое впечатление производит эта могучая ледяная стена на человека, впервые оказавшегося с ней лицом к лицу. Это вообще невозможно описать; во всяком случае сразу понимаешь, почему этот 30-метровый барьер не один десяток лет считался неодолимой преградой для продвижения на юг.
Мы знали, что гипотеза о неприступности Ледяного барьера давно опровергнута. Существуют ворота, ведущие в простершееся за ним неведомое царство. Ворота эти – Китовая бухта, – судя по имеющимся на «Фраме» описаниям, находились в милях ста к востоку от нас. Мы изменили курс и сутки шли вдоль барьера прямо на восток, получив возможность вдоволь налюбоваться этим исполинским сооружением природы. Не без волнения ждали мы встречи с долгожданной гаванью. Какая там обстановка? Не окажется ли высадка слишком сложным делом?
Мы проходили мыс за мысом, но, сколько ни смотрели, видели только все ту же отвесную стену. Наконец под вечер 12 января стена расступилась. Так и должно быть, ведь мы находились на 164° западной долготы, как раз там, где обнаружили проход наши предшественники.
Перед нами открылась огромная излучина, настолько глубокая, что из бочки не было видно ее вершины. Но войти в бухту пока было совершенно невозможно. Она была забита здоровенными обломками недавно вскрывшегося морского льда. Мы проследовали немного дальше на восток, чтобы переждать. На следующее утро вернулись обратно, и через несколько часов льдины в бухте зашевелились. Одну за другой их выносило в море. Вскоре проход освободился.
Войдя в бухту, мы быстро убедились, что высадка вполне возможна. Оставалось только выбрать самое подходящее место.
Итак, 14 января, на день раньше намеченного срока, мы дошли до великого таинственного явления природы – Ледяного барьера. Была решена одна из труднейших задач нашей экспедиции – все собаки доставлены на место работы здоровыми и невредимыми. В Кристиании мы приняли на борт 97 собак. Теперь число их возросло до 116, и почти все они могли быть использованы для завершающего перехода на юг.
Следующей большой задачей было найти подходящее место на Ледяном барьере для нашей базы. Я собирался забросить все – продовольствие и снаряжение – как можно дальше на барьер и тем самым застраховаться от риска, что нас унесет в Тихий океан, если барьер вздумает обламываться. И решил, что 10 миль, или 18,5 километра, от края барьера нас устроят. Но уже первое знакомство с обстановкой показало, что, пожалуй, можно намного сократить долгие и утомительные перевозки. Вдоль внешнего края поверхность барьера ровная и плоская. Здесь же, в глубине бухты, все выглядело иначе. Еще с борта «Фрама» мы видели со всех сторон очень неровный рельеф. Во всех направлениях тянулись высокие гряды, разделенные долинками. Самая большая возвышенность находилась на юге и представляла собой купол, дальняя точка которого возвышалась примерно на 140 метров. Но похоже было, что за горизонтом эта гряда продолжает повышаться.
Итак, наше первоначальное предположение, что бухта образована самим материком, как будто подтвердилось. Пришвартоваться к прочной кромке льда, выдающейся от барьера в море километра на два, было делом недолгим. И можно было почти сразу приступать к первой вылазке. Ведь мы давно все приготовили. Бьоланд наладил всем лыжи. И каждый подогнал свою пару по себе. Лыжные ботинки мы примеряли не раз и не два, и с одной, и с двумя парами носков. И конечно, они оказались маловаты. По-моему, вообще невозможно заставить сапожника сшить просторную обувь. Ладно, вблизи корабля походим и с двумя парами носков. Для более далеких переходов у нас были, как я уже говорил, сапоги с брезентовыми голенищами.
Из остального снаряжения для нашей первой рекогносцировки упомяну лишь страховочные веревки. Они тоже давно лежали наготове. Длиной они были около 30 метров, скручены из тонкой шелковистой пряжи, хорошо переносящей мороз.
Быстро пообедав, четверо из нас отправились в путь. У всех было торжественное настроение, ведь от этой первой вылазки многое зависело. Стояла отличная погода. Тихо, солнечно. На чудесном светло-голубом небе – единичные тонкие перистые облака. Воздух пропитан теплом, которое чувствовалось даже в этом огромном царстве льда. На припае, насколько хватал глаз, лежали тюлени – горы жирного мяса, хватит пищи и нам, и собакам на многие годы.
Скольжение было идеальное. Лыжи совсем легко катились по рыхлому свежему снегу. Но мы после долгого, пятимесячного плавания были не очень-то в форме и не могли похвастаться скоростью. Через полчаса мы дошли до первой важной точки – стыка между морским льдом и барьером. Сколько мы думали об этом стыке, стараясь представить себе его. Будет ли это высокая отвесная стена, на которую нам с великим трудом придется втаскивать свой груз при помощи талей? Или опасная широкая расщелина, которую надо далеко обходить? Скорее всего, что-нибудь в этом роде. Должно же это огромное грозное чудовище как-то сопротивляться нам.

Маршрут Р. Амундсена к Южному полюсу (начало)
Таинственный барьер! Во всех описаниях, со времен блаженной памяти Росса и до наших дней, об этом примечательном природном образовании говорится с робостью и почтением. Так и кажется, что между строк можно прочесть одно и то же: «Тс, тише, тише! – таинственный барьер!»

Маршрут Р. Амундсена к Южному полюсу (завершение)
Раз, два, три, небольшой прыжок – и мы на барьере. Мы посмотрели друг на друга и улыбнулись. Наверно, все четверо подумали об одном и том же. Чудовище уже не казалось нам таким таинственным, страхи поумерились, непостижимое стало вполне постижимым.
Мы вступили в это царство, как говорится, без боя. Высота барьера здесь составляла около шести метров, и стык между ним и припаем был совсем заметен снегом, так что их соединял небольшой пологий склон. Какое уж тут сопротивление.
До сих пор мы продвигались без веревок. Мы знали, что на морском льду нам не грозит никакой скрытый подвох. Другое дело – на барьере. И так как все считали, что лучше связаться веревкой до того, как провалишься в трещину, чем потом, дальше первые двое шли в связке.
Мы двигались на восток по небольшой долинке между Маунт-Нельсон с одной стороны и Маунт-Рённикен – с другой. Пусть только уважаемый читатель при виде столь громких названий не подумает, что мы шли между какими-то могучими хребтами. Маунт-Нельсон и Маунт-Рённикен – просто-напросто два старых тороса, образовавшихся в те давние времена, когда вся эта махина льда беспрепятственно ползла вперед с неодолимой мощью, пока наконец здесь не столкнулась с превосходящими силами, которые раскололи и разбили ее и не пустили дальше. Наверно, чудовищная была схватка, настоящее светопреставление. Теперь все это было в прошлом. Мир, на всем покоилась печать бесконечного мира. «Нельсон» и «Рённикен» были всего лишь старые ветераны-пенсионеры. Но в ряду торосов они казались великанами, их гребни достигали в высоту добрых 30 метров. Часть ложбины, прилегающая к Нельсону, совсем ровная, все складки сглажены, а вот на Рённикене остался глубокий шрам – то ли расщелина, то ли провал. Мы осторожно приблизились к нему. Поди, угадай, какая тут глубина и нет ли скрытого хода под ложбиной, соединяющего Рённикена с Нельсоном. Но наши опасения не оправдались. Ближайшее исследование показало, что дно расщелины выстлано плотным снегом. Площадка между торосами была совсем ровная и прекрасно подходила для собак.
Вместе с капитаном Нильсеном я разработал своего рода программу наших действий, и в ней предусматривалось, как можно скорее доставить собак на барьер и поместить их там под присмотром двух человек. Найденная нами площадка вполне годилась для этого. Старые торосы достаточно красноречиво рассказывали о том, как сложился рельеф этого участка. Здесь можно было не опасаться никаких козней природы. И еще одно преимущество: отсюда было видно корабль, можно поддерживать постоянную связь с теми, кто остается на борту.
Дальше на юг ложбина постепенно повышалась. Отметив вехой место для нашей первой палатки, мы продолжали разведку. Ровный подъем по дну ложбины вывел нас на гребень высотой 30 метров. Отсюда открывался прекрасный вид на всю окружающую местность и долину, по которой мы шли. К северу барьер тянулся ровно, без складок и видимых препятствий, и оканчивался на западе крутым мысом Мэнхью, который окаймлял с востока внутреннюю часть Китовой бухты, образуя уютный уголок, – его-то мы и облюбовали для «Фрама». Вон она, внутренняя часть бухты, а кругом лед, лед и лед, куда ни глянь – Ледяной барьер, сплошь белые и голубые поля. Все здесь сулило красочные картины в будущем. Многообещающее место.
Гребень, на котором мы стояли, был неширок, метров 200, я бы сказал. Во многих местах ветер смел с него снег, и поблескивал голубой лед. Мы пересекли его и направились к Фермопильскому ущелью. Оно отлого спускается с гребня на юг и почти сразу переходит в широкую площадку, окруженную со всех сторон возвышенностями. Голый гребень, через который мы перевалили на пути к этой котловине, избороздили трещины. Они были узкие и почти совсем занесенные снегом и не представляли для нас опасности. Котловина выглядела очень уютной, а главное, безопасной. Ложе совершенно плоское, если не считать нескольких куполовидных бугров, и свободное от трещин.
Мы пересекли его и поднялись на отлогую гряду в южной части котловины. Гребень, насколько хватал глаз, был ровный и гладкий, но это еще ничего не значило, и мы прошли немного на восток, однако не встретили участка, который безоговорочно годился бы нам. Да, из всех мест, осмотренных нами, самое защищенное – котловина.
С гряды на юге была видна юго-восточная и внутренняя части Китовой бухты. В отличие от той части припая, где мы ошвартовались, внутри бухты был, по-видимому, довольно торосистый лед. Но более подробное исследование этого участка мы отложили на будущее. Котловина нам всем понравилась, и мы единодушно выбрали ее для своей базы. Итак – кругом и обратно. Спуск на дно котловины по собственному следу не занял много времени.
Основательно изучив местность и обсудив все возможности, мы решили, что дом надо ставить на этой небольшой возвышенности, поднимающейся к востоку. Похоже, что более тихого места нам не найти. И мы не ошиблись. Быстро выяснилось, что мы выбрали лучшее из всего, что нам мог предложить барьер. Воткнув лыжную палку на месте будущего дома, мы отправились к своим.
Приятная новость, что мы уже нашли хорошее место для дома, естественно, всех обрадовала. В глубине души все страшились долгой утомительной транспортировки грузов на ледяной барьер.
Льды кишели животными. Куда ни повернись, всюду видны большие залежки тюленей-крабоедов и тюленей Уэддела.[74] Морского леопарда, единичные экземпляры которого встречались нам на дрейфующем льду, здесь вовсе не было. За все наше пребывание в Китовой бухте мы его ни разу не видели. Не видели и тюленя Росса. Пингвины показывались не очень часто – здесь несколько, там несколько, – зато тем больше радости они нам доставляли. Среди них преобладали пингвины Адели. Когда мы швартовались, из воды на лед вдруг выскочило с десяток пингвинов. С минуту они изумленно озирались. Не каждый день им приходилось встречать людей и корабли. Но удивление скоро сменилось любопытством. Сидят и буквально изучают все наши движения. Лишь изредка захрюкают и пройдутся по льду. Похоже было, что больше всего их заинтересовало, как мы роем ямы в снегу для ледовых якорей. Они окружали работавших людей и с очевидным интересом смотрели на них, наклонив голову набок. Пингвины явно ничуть не боялись нас, да мы их в общем-то и не тревожили. Правда, некоторым из них все-таки пришлось расстаться с жизнью. Они были нужны нам для нашей коллекции.

Пингвины Адели
В тот же день состоялась увлекательная охота на тюленей. Три крабоеда отважились приблизиться к судну и мы решили за их счет пополнить наши запасы свежего мяса. Выслали двух великих охотников, которые стали приближаться к тюленям с предельной осторожностью, хотя в этом не было нужды, потому что животные лежали неподвижно. Охотники подкрадывались на индейский манер, пригнувшись до самого льда и выставив вверх наиболее мясистую часть своего тела. Начало многообещающее. Я смеюсь, но пока еще сдерживаюсь. Раздаются выстрелы.
Два спящих зверя вздрагивают, но остаются на месте. Иначе ведет себя третий. По-змеиному извиваясь, он удивительно быстро скользит вперед по рыхлому снегу. Это уже не стрельба по неподвижной мишени, а настоящая охота. По стрелкам и результат. Мимо, мимо, еще раз мимо. Хорошо, что у нас патронов вдоволь. Один из охотников, который похитрее, выпускает все свои заряды и возвращается обратно. А второй пускается вдогонку за ускользающей дичью. Как я хохотал! Где уж тут сдерживаться. Я буквально корчился со смеху. Гонка по рыхлому снегу – впереди тюлень, охотник за ним. По движениям преследователя сразу было видно, что он злится. Он чувствовал, что ввязался в такое дело, из которого ему не выйти с честью. Тюлень развил изрядную скорость. Хотя снег был довольно глубокий, зверь держался на поверхности. Не то что охотник, который на каждом шагу проваливался по колено и вскоре безнадежно отстал. Иногда он останавливался, прицеливался и стрелял. Потом он клялся, что его пули все до одной попали в цель. Однако я в этом сомневаюсь. Во всяком случае тюлень никак не реагировал на пули, он продолжал уходить с той же скоростью.

Охота на тюленей
В конце концов знаменитый охотник вынужден был сдаться и повернуть назад.
– Чертовски живучий, – услышал я, когда он поднялся на судно.
Не желая обижать человека, я сдержал улыбку.
Какой вечер! Солнце стоит высоко на небе, несмотря на поздний час. Уходящее к югу ледяное нагорье, весь этот могучий барьер залит ярким белым светом, до того сильным, что он слепит глаза. А на севере – ночь. Над самым морем небо черное и свинцово-серое, выше оно становится темно-синим, потом бледнеет и бледнеет, пока наконец не сливается с лучезарным сиянием барьера.
То, что лежит за гранью ночи, за черной стеной, нам известно. В той стороне мы побывали и одержали победу. А что скрывает ослепительный день на юге? Ты ждешь нас, восхитительная спящая красавица, мы слышим твой зов, и мы придем. Ты дождешься своего поцелуя, хотя бы это стоило нам жизни.
На следующий день, в воскресенье, была такая же прекрасная погода. Но для нас, разумеется, не могло быть и речи о каком-либо выходном. Никто из нас не захотел бы провести этот день в праздности. Мы разделились на два отряда – морской и береговой. Морской в составе 10 человек оставался на «Фраме», береговой в этот самый день обосновался на барьере на год-другой, а то и больше.
В морской отряд вошли Нильсен, Ертсен, Бек, Сюндбек, Людвиг Хансен, Кристенсен, Рённе, Нёдтведт, Кучин и Ульсен. В береговой – Престрюд, Юхансен, Хельмер Ханссен, Хассель, Бьоланд, Стюбберюд, Вистинг, Линдстрём и я. Линдстрём должен был еще несколько дней оставаться на судне, так как нам предстояло пока в основном питаться на борту.
По плану шесть человек должны были расположиться в 16-местной палатке, на площадке между «Рённикеном» и «Нельсоном», а двое поставят себе палатку на участке для дома и приступят к строительству. Естественно, эту двойку составили наши опытные плотники Бьоланд и Стюбберюд.
В 11 часов мы наконец были готовы выходить. Мы взяли нарты и восемь собак; вес снаряжения и провианта составлял 300 килограммов. Моя упряжка первой должна была пройти испытание. Морской отряд в полном составе собрался на палубе, чтобы наблюдать старт. И вот все готово. Основательно потрудившись, а точнее, хорошенько вздув собак, мы наконец выстроили их цугом в аляскинской упряжи перед санями. Лихой взмах кнутом на прощание, громкий щелчок, и мы поехали. Уголком глаза я поглядел на судно. Так и есть, все наши товарищи выстроились в ряд вдоль борта, любуясь нашим классическим стартом.
Кажется, я слегка задрал нос и изобразил на лице этакое торжество. В таком случае, я совершил глупость, лучше было подождать с этим, тогда провал не был бы таким полным. Ибо нас в самом деле подстерегал провал. Собаки уже полгода жили в полной праздности, только пили и ели, они явно считали, что от них ничего другого и не требуется. Им и в голову не приходило, что для них настала новая эра, отныне придется работать, да еще как. Пробежав всего несколько метров, они все, как по команде, сели на снег и уставились друг на друга. На их мордах было написано неподдельное изумление. Наконец основательной трепкой нам удалось дать им понять, что нам от них нужна работа, да только это не очень помогло. Вместо того чтобы слушать команду, они затеяли яростную потасовку. Боже мой, сколько нам в тот день пришлось повозиться с этими восемью собаками! «Если так будет до самого полюса, – думал я в разгар суматохи, – нам понадобится год, чтобы дойти до цели». Сколько уйдет на обратный путь, мне уже некогда было высчитывать. Пока шла эта катавасия, я снова тайком взглянул на судно. И поспешил отвести свой взгляд. Ребята громко хохотали, до нас доносились поощряющие возгласы довольно ехидного свойства.
– Если и дальше так дело пойдет, как раз к Иванову дню поспеете! – кричал один.
– Молодцы, не падайте духом! Так держать! – надсаживался другой.
– Ура, пошла! – и так далее.
А наш воз не двигался с места. Ну, и влипли. Наконец общими усилиями людей и животных удалось опять стронуть его. Нет, триумфом наш первый санный переход нельзя было назвать.
И вот мы ставим между Маунт-Нельсон и Маунт-Рённикен нашу первую палатку на барьере. Это была большая, крепкая 16-местная палатка с пришитым полом. Вокруг палатки мы натянули треугольником стальные тросы – ограждение для собак. Сторона треугольника равнялась 50 метрам. В палатке оставили пять спальных мешков и запас провианта. Расстояние до этого места по одометру[75] равнялось 1,2 мили, или 2,3 километра. Управившись с этим делом, мы двинулись дальше, к участку, который облюбовали для базы.
Здесь мы для плотников тоже поставили палатку – такую же, 16-местную, – и разметили площадку для дома. Исходя из местных условий, мы решили ставить дом в направлении запад-восток, а не север-юг, хотя именно второе решение напрашивалось, ведь считалось, что здесь господствуют южные ветры. Наш выбор себя оправдал. На самом деле здесь преобладал восточный ветер, он попадал в наиболее защищенный торец. Дверь была обращена на запад.
Потом мы занялись разметкой дороги от строительного участка до расположенной ниже палатки и дальше, до судна, ставя темные флажки через каждые 15 шагов. Теперь можно было спокойно передвигаться по этому пути, не плутая в непогоду. От судна до будущего дома было 2,2 мили, или 4 километра.
16 января, в понедельник, работа развернулась вовсю. Около 80 собак – шесть упряжек – возили к первой палатке столько продовольствия и снаряжения, сколько можно было погрузить на сани, и два десятка собак – упряжки Стюбберюда и Бьоланда – ходили с полной нагрузкой к верхнему лагерю. В эти дни нам пришлось немало повозиться с собаками, чтобы заставить их слушаться. Они так и норовили взять над нами верх и тащить сани туда, куда им хотелось. Бывало, весь взмокнешь, пока убедишь их, что командуем все-таки мы.
Рабочий день в эту пору был долгим. Редко ляжешь раньше 11 часов вечера, а в 5 утра – снова вставать. Но мы не жаловались. Всем хотелось поскорее завершить эту работу, чтобы не задерживать «Фрам». Гавань наша была не совсем без недостатков. Глядишь, ни с того ни с сего откололась пристань, к которой было пришвартовано судно, и приходилось объявлять аврал, чтобы ошвартоваться заново. Иной раз только люди уснут, как нужно повторять все сначала. Лед то и дело обламывался, не давая нашим бедным «пиратам» передышки. Немалая нагрузка для нервов – постоянно быть начеку и спать вполглаза. Тяжело досталось нашим 10 товарищам в эти дни, но они держались молодцом. Всегда веселые, и шуткам не было конца. На долю морского отряда выпало выгружать из трюма на лед провиант и снаряжение для зимовщиков. Дальше груз перевозил береговой отряд. Работа шла на диво гладко, отряды старались не заставлять друг друга ждать.
За эти горячие дни члены берегового отряда страшно охрипли, а некоторые почти совсем потеряли голос. Произошло это оттого, что вначале нам приходилось непрестанно кричать на собак, погоняя их. Разумеется, морской отряд не упустил случая наградить нас прозвищем, основанным на каламбуре.
Если исключить постоянную необходимость менять место стоянки из-за того, что лед обламывался и отдрейфовывал, надо признать нашу гавань очень хорошей. Правда, не обходилось без зыби. Иногда на судно обрушивались неприятные толчки, но не такие, чтобы это чем-то грозило. Огромным преимуществом было то, что здесь течение всегда было направлено к выходу из бухты и отгоняло все айсберги.
Первое время сообщение между судном и барьером осуществляли пять человек. Плотников не ставили на транспорт, они строили дом. Один человек дежурил у палатки. Мы могли запрягать в сани только 6 собак; попытки использовать полную упряжку – 12 собак – приводили к невообразимой катавасии. В итоге оставались свободные собаки, они нуждались в надзоре, и для этого требовался человек. В его же обязанности входило готовить пищу и убирать в палатке. Пост дневального ребятам очень нравился, и они чередовались, а то ведь надоедало все мотаться с санями туда и обратно.

Постройка Фрамхейма
17 января плотники начали расчищать площадку под дом. Мы решили сделать все возможное, чтобы дом мог устоять против сильных антарктических бурь, которые нам предстояли. И плотники сперва принялись делать выемку глубиной около 120 сантиметров. Нелегкая работа. Уже через 60 сантиметров пошел сплошной твердый лед, его надо было рубить. А тут еще подул сильный восточный ветер, началась метель, и снег засыпал площадку, сводя на нет труды наших ребят. Но они не падали духом, из досок и ставней соорудили надежный щит, отгородились им от метели и продолжали работать. К вечеру площадка была расчищена. С такими людьми можно смело браться за любую задачу.
Метель несколько затрудняла перевозки, и, убедившись, что аляскинская упряжка непрактична, мы отправились на судно и принялись делать для собак гренландскую сбрую. Все силы были обращены на эту работу. Наш опытный парусный мастер Рённе сшил за месяц 46 комплектов. Мы крепили к сбруе постромки, подгоняли ее, ставили на сани гужи из стальной проволоки. И вот уже готова новая упряжь для всех саней и собак. Проблема была решена, дальше все шло как по маслу.

Фрамхейм. Зимовка на ледяном барьере
Места в двух палатках распределялись так: пять человек спали в нижней, мы с плотниками – в верхней. Однажды вечером случилась забавная вещь. Только мы собрались лечь спать, вдруг совсем рядом послышался крик пингвина. Мы выскочили из палатки – в нескольких метрах от входа сидел здоровенный императорский пингвин, отвешивая поклон за поклоном. Как будто он нарочно пришел поприветствовать нас. Жаль было дурно платить ему за учтивость, но так уж создан мир: кланяющийся пингвин окончил свою жизнь на нашей сковороде.
18 января мы начали подвозить материалы для дома, и плотники сразу же приступили к сборке. Работа спорилась, одни сани за другими подкатывали к участку и разгружались. Собаки и каюры старались вовсю. Быстро подвозились материалы, и так же быстро рос наш будущий дом. Все его части были заранее перемечены, и выгружали мы их в том порядке, в каком должна была идти сборка. К тому же
Стюбберюд сам уже собирал дом и знал в нем, что называется, каждую щепочку. Я вспоминаю эти дни с радостью и гордостью. С радостью потому, что, хоть и трудновато приходилось, никто не скулил. С гордостью потому, что я стоял во главе таких людей. Это были настоящие люди. Все понимали свой долг и исполняли его.
Ночью ветер утих, и утро принесло с собой отличную погоду – было тихо и ясно. В такие дни работать одно удовольствие. Настроение у всех – и у людей, и у собак – было превосходное. Занимаясь перевозкой грузов с судна на базу, мы в то же время охотились на тюленей. Стреляли только тех, которых встречали по пути. За свежей пищей не нужно было далеко ходить. То и дело нам попадались залежки. Постреляешь тюленей, освежуешь туши и отвезешь вместе с провиантом и материалами. В такие дни собаки буквально обжирались теплыми внутренностями.
20 января перевозка строительных материалов кончилась, можно было приниматься за продовольствие и снаряжение. Сани так и сновали туда и обратно. Всего приятнее было прокатиться утром к «Фраму» на пустых санях. Дорога была хорошо накатана и походила на добрый норвежский проселок. Скольжение отличное. Выйдешь около шести утра из палатки и слышишь ликующий хор своих 12 собак. Словно состязаются, кто кого перевизжит. Дергают цепи, так и рвутся к тебе. Прыгают, скачут от радости. Пройдешь вдоль всего ряда, с каждой поздороваешься, каждую погладишь, приласкаешь, скажешь ей что-нибудь. Великолепные животные! Самые нежные, самые избалованные из наших домашних животных не сравнятся в преданности с этими прирученными волками. Гладишь пса и видишь, как он блаженствует. А остальные тем временем лают, визжат, дергают цепи, чтобы вырваться и наброситься на ту, которую сейчас ласкают. Да, они ревнивы, и еще как!
Поздоровались – берешься за упряжь. И снова бурное изъявление радости. Как ни странно это прозвучит, могу вас заверить, что полярные собаки любят свою упряжь. Ведь знают, что им предстоит тяжелый труд, и все же проявляют очевидный восторг. Спешу прибавить, что так бывает только в «домашней» обстановке. Когда дело доходит до длинных, утомительных санных переходов, картина меняется. Начинаешь запрягать – начинается и первая склока. После плотной трапезы накануне вечером и ночного отдыха у собак появляется такой избыток энергии и прыти, что никак не заставишь их стоять смирно. Как ни жаль начинать с этого день, приходится пускать в ход плетку.
Но вот сани установлены как надо, и упряжка, все шесть собак, на месте. Казалось бы, проблемы позади, осталось лишь тронуться, и вскоре ты уже будешь у судна. Не тут-то было. Вокруг лагеря за короткое время накопилось множество всяких предметов вроде ящиков, строительных материалов, свободных саней и тому подобное. Благополучно миновать их было чуть не главной задачей каждое утро. Собак, разумеется, все эти предметы занимали в высшей степени; справишься с ними – считай, что тебе повезло.
Давайте же проследим за таким утренним выездом. Люди готовы, собаки запряжены. Раз, два, три – все сразу срываются с места и несутся, как ветер. Не успеешь взмахнуть кнутом, как ты уже врезался в груду строительных материалов. Собаки счастливы, исполнилась мечта их жизни – хорошенько обработать эти предметы свойственным им и столь чуждым нашему уму способом. Пока они отводят душу, каюр, соскочив с саней, принимается распутывать постромки, которые обмотались вокруг досок, планок, всего, что только оказалось поблизости. Судя по его выражениям, он далеко не счастлив. Наконец все в порядке, он смотрит по сторонам и тотчас убеждается, что не только на его пути вдруг выросли препятствия. Среди ящиков разыгрывается спектакль, радующий его сердце. Один из «стариков» так прочно застрял, что он явно еще не скоро выберется. Каюр с торжествующей улыбкой валится на сани и мчится вперед.
Пока едешь по барьеру, обычно все идет хорошо. Здесь ничто не отвлекает собак. Иначе на морском льду. Тут и там лежат тюлени, греются на солнце. И пошла вместо прямой кривая. Если полным утренней бодрости псам взбредет в голову изменить курс и направиться к тюленям, нужно быть очень опытным каюром, чтобы вернуть их на правильный путь. Я в таких случаях прибегал к единственному доступному мне средству – опрокидывал сани. На рыхлом снегу опрокинутые сани быстро заставляли собак остановиться. Благоразумный человек после этого тихо и спокойно разворачивал их в нужную сторону, ставил сани прямо и ехал дальше. К сожалению, человек не всегда благоразумен. Иногда желание отомстить этим поганцам берет верх, и начинаешь их наказывать. Да не так-то это просто. Пока ты сидел на опрокинутых санях, они служили надежным якорем, но без груза он не держит, и собаки это отлично понимают. Только примешься колотить одну, как остальные срываются с места, и итог не всегда получается лестным для каюра. Хорошо, если успеет опять навалиться на опрокинутые нарты, но случалось и так, что собаки и сани прибывали на место без каюра.

Вид на барьер из Фрамхейма
Помучаешься вот так с утра пораньше, разгонишь кровь и приезжаешь к судну весь в поту, несмотря на 20-градусный мороз. Иногда обходится совсем без помех, и катишь во весь опор. Собак не надо понукать, они и без того бегут охотно. Глядишь, 2 километра от нижней палатки до «Фрама» одолел за считанные минуты.
Выйдя из палатки утром 21 января, мы опешили. Не может быть! Мы протирали глаза, таращились – все напрасно. «Фрам» пропал. Ночью был довольно сильный ветер и снежные заряды. Видимо, обстановка вынудила судно уйти. Был слышен рев волн, штурмующих барьер. Мы принялись за обычную работу. Накануне капитан Нильсен и Кристенсен убили 40 тюленей. Половину мы вывезли сразу. Теперь принялись перевозить остальных. А попозже, когда мы были заняты охотой и разделкой добычи, послышался милый сердцу знакомый стук машины «Фрама». Вот и бочка показалась над краем барьера. Но только под вечер судно подошло к своему старому месту. И мы узнали, что его заставило выйти в море сильное волнение.
Плотники трудились усердно. 21 января дом был уже под крышей, дальше оставались только внутренние работы – большое облегчение для ребят. В первые дни, несомненно, им доставалось хуже всех. Знай, работай на морозе, на ветру; но я ни разу не слышал, чтобы они жаловались. Придешь в палатку после трудового дня – один из них уже полным ходом готовит обед: блины и крепчайший черный кофе. Получалось очень вкусно. Вскоре два плотника-кока затеяли состязание, кто лучше испечет блины. По-моему, оба были одинаковые мастера. Утром тоже подавались блины – горячие, хрустящие, нежные блины и превосходный кофе. Такой завтрак подавали мне плотники в пять утра, когда я еще был в спальном мешке. Немудрено, что мне было хорошо в их обществе.
Впрочем, обитателям нижней палатки тоже жилось неплохо. Вистинг оказался незаурядным коком. Лучше всего ему удавались пингвины и чайки в сметане. В меню они фигурировали как рябчики и, право же, вкусом напоминали их.
В воскресенье, 22 января, все мы, кроме дежурных в двух палатках, отправились отдыхать на судно. Мы крепко поработали всю прошедшую неделю.
В понедельник, 23 января, начали перевозить провиант. Чтобы сберечь время, решили возить его не к самому дому а временно складывать на высотке южнее Маунт-Нельсон. Оттуда до дома оставалось всего 600 метров, но поверхность барьера на этом отрезке была неровная, и в конечном счете мы кое-что выигрывали. Предполагалось, что потом, когда «Фрам» уйдет, мы перебросим провиант к самому дому. На самом деле мы так и не смогли выбрать для этого времени, наш главный продовольственный склад остался на высотке.
На первых порах заброска провианта на склад шла не так уж гладко. Собаки привыкли сворачивать в нижний лагерь, на площадке между «Нельсоном» и «Рённикеном», и никак не могли взять в толк, что теперь этого не нужно делать. Особенно часто конфликт возникал, когда надо было возвращаться порожняком к судну. С высотки собаки слышали лай за «Нельсоном» в нижнем лагере. И нередко случалось, что они выходили из повиновения. А уж как настроятся на озорство, нелегко с ними сладить, это каждый из нас испытал на своем опыте. Никому не удалось избежать непредусмотренного зигзага.
Доставив продовольствие на место, каюр сгружал его с саней и укладывал ящики в надлежащем порядке. Первые ящики мы ставили прямо на снег, группируя их по содержимому. Такой порядок позволял легко находить то, что нужно. За один раз на сани обычно нагружали до 300 килограммов, то есть шесть ящиков. Всего надо было перевезти около 900 ящиков, и мы рассчитывали, что за неделю управимся.
Наши расчеты оправдались с поразительной точностью. В полдень 28 января, в субботу, дом был готов и все 900 ящиков доставлены на место. Склад выглядел очень внушительно. Длинными рядами выстроились на снегу ящики, на каждом – номер, чтобы сразу можно было отыскать необходимое. А поодаль красовался готовый дом, совсем как у себя на родине, в Бюндефьорде. Вот только природа кругом другая. Там зеленели сосны и ели, плескалась вода. Здесь – лед, сплошной лед. Но и тут и там красиво. Я стоял и думал: что мне больше нравится? Мысли унеслись далеко, летя со скоростью 1000 миль в секунду. Победил лес.
Как я уже рассказывал, мы привезли с собой все необходимое, чтобы укрепить растяжками дом на барьере. Но тихая погода, которая держалась все эти дни, позволяла предположить, что условия здесь будут уже не такие суровые. И мы довольствовались тем, что сделали выемку в барьере.
Снаружи дом просмолили, а крышу покрыли толем, и он отчетливо выделялся на белом фоне. Вечером 28 января мы свернули оба лагеря и вселились в свой дом – Фрамхейм. Заглянешь внутрь – до чего уютно и чисто! Везде, на кухне и в комнате, блестит линолеум. Мы имели полное основание быть счастливыми и довольными. Еще одна важная работа выполнена, притом куда быстрее, чем я мог надеяться. Дорога к цели намечалась все более явственно. Уже можно было различить волшебный замок вдали. Красавица еще спит, но уже близок час, когда поцелуй разбудит ее.
В тот первый вечер в доме было очень весело. Играл граммофон, и мы пили за будущее.
Всех собак, кроме щенят, перевели к дому и привязали к стальным тросам. Они и раньше развлекали нас музыкальными номерами. Но теперь, собранные вместе, они составили небывалый хор, который по сигналу того или иного великого запевалы устраивал дневной или – что еще хуже – ночной концерт. Удивительные животные! Что они всем этим выражали? Одна начнет, две-три подхватят, и вот уже все сто голосят. Усядутся поудобнее, задерут голову вверх как можно выше и воют что есть мочи. При этом вид у них чрезвычайно сосредоточенный, и ничто их не отвлекает. Но всего удивительнее то, как заканчивается концерт. Они смолкают все разом. Ни одна не издаст с опозданием лишнего звука. Чем определяется такая согласованность? Я много раз их наблюдал и изучал, но так ничего и не выяснил. Словно речь идет о хорошо разученной песне.
Могут ли животные общаться между собой? Это чрезвычайно интересный вопрос. Кто долго имел дело с эскимосской собакой, не усомнится в том, что она наделена таким даром. Под конец я так хорошо научился понимать издаваемые ими звуки, что не глядя мог сказать, чем заняты наши собаки. Драка, игра, любовь – для всего у них есть свои звуки. Любовь и преданность своему хозяину выражались специальными движениями и звуками. Если какая-то собака делала что-нибудь заведомо недозволенное, например покушалась на мясо в складе, другие, которым не удалось проникнуть в склад, бегали вокруг и издавали особые звуки, отличные от других. По-моему, большинство из нас научилось распознавать эти собачьи звуки. Вряд ли найдется животное, которое было бы так занятно и увлекательно изучать, как эскимосскую собаку. От своего волчьего предка она в гораздо большей мере, чем наши домашние псы, унаследовала инстинкт самосохранения, основанный на праве сильного.
Борьба за существование рано сформировала эскимосскую собаку и в поразительной степени развила ее неприхотливость и выносливость. У нее острый, проницательный ум, достаточно развитый для работы, которая ее ждет, и для условий, в которых она воспитана. Нельзя считать эскимосскую собаку бездарной только потому, что она не умеет служить и хватать кусок сахара по команде. Эти фокусы настолько чужды ее суровому жизненному предназначению, что она лишь с великим трудом может им научиться.
В отношениях между собаками господствует право сильного. Сильный правит и делает то, что ему заблагорассудится. Все лучшее – ему, слабому – крохи. Среди этих животных легко возникает дружба, но всегда сопряженная с чувством уважения и страха перед сильным. Инстинкт самосохранения заставляет слабого искать защиты у сильного. Сильный берет на себя роль покровителя и таким образом приобретает верного помощника на случай столкновения с еще более сильным. Инстинкт самосохранения пронизывает все. Его можно проследить и в отношении собаки к человеку. Она научилась видеть в нем своего благодетеля, дающего ей все жизненные блага. Конечно, мы видим и любовь, и преданность тоже, но и они, если разобраться, наверно, проистекают все из того же инстинкта самосохранения. В итоге эскимосская собака почитает своего хозяина гораздо больше, чем обыкновенные собаки, у которых почтение рождается только из страха перед побоями. Я мог спокойно взять кусок мяса изо рта любой из своих 12 собак, не боясь, что она меня укусит. Почему? Да потому что ее удерживал от этого страх в другой раз ничего не получить. Со своими собаками дома я, честное слово, не отважусь на такой опыт. Они тотчас кинутся защищать свою пищу и не постесняются пустить в ход зубы, если нужно. А ведь казалось бы, домашние собаки ничуть не меньше других почитают хозяина. В чем тут дело? А в том, что их почтение зиждется не на прочной основе инстинкта самосохранения, а всего лишь на страхе перед побоями. В приведенном примере выясняется, что эта основа слишком зыбкая. Голод пересиливает страх, и собака огрызается.
Дня через два в дом вселился последний член отряда зимовщиков – Адольф Хенрик Линдстрём; можно было считать, что все окончательно устроено. Он выполнял на судне обязанности кока, но теперь морской отряд мог обойтись без него. «Береговики» еще лучше сумеют оценить его искусство. С того дня вся забота о приготовлении пищи на «Фраме» перешла к самому молодому участнику экспедиции, коку Карениусу Ульсену, и он с редкой добросовестностью выполнял эту работу до тех самых пор, пока мы в марте 1912 года не пришли в Хобарт на Тасмании, и у него снова появился помощник. Неплохое достижение для двадцатилетнего юноши. Побольше бы таких ребят!
С прибытием Линдстрёма в нашем быту установился полный порядок. Вырывающийся из трубы дым свидетельствовал, что барьер стал по-настоящему обитаемым. До чего приятно было, возвращаясь после рабочего дня, видеть этот дым! Мелочь, конечно, а как много она значит.
Линдстрём не только кормил нас, он, можно сказать, принес нам свет и воздух; и то и другое по его специальности. Сперва он подвесил керосиновую лампу шведской фирмы «Люкс» и наладил освещение, столь важное, чтобы человеку было хорошо и уютно в долгую зиму. Наладил он и вентиляцию, правда, с помощью Стюбберюда. Вдвоем они позаботились о том, чтобы в наше жилище все время поступал чистейший воздух. Это требовало от них известного труда, но труда они не боялись. Вентиляция была капризная и временами отказывала. Чаще всего это случалось во время штиля. И мастерам нашей «фирмы» приходилось всячески изощряться, чтобы восстановить ток воздуха. Обычно они ставили примус под вытяжную трубу и накладывали ледяной компресс на приточный канал. Один лежит на животе и держит примус под вытяжной трубой, другой взбирается на крышу и бросает комки снега в приточную, – глядишь, и потек воздух через комнату. Иногда они возились так часами. И наконец, вентиляция, неведомо почему, сдавалась и начинала опять работать. Нет никакого сомнения, что на зимовье хорошая вентиляция очень важна для здоровья и отрады. Я читал об экспедициях, члены которых постоянно страдали от сырости и холода, что влекло за собой болезни. И все из-за плохой вентиляции. Если свежего воздуха хватает, то и топливо лучше горит, и теплообразование, естественно, больше. Если же приток воздуха мал, топливо отчасти пропадает даром, отсюда и холод, и сырость. Естественно, воздухообмен должен регулироваться согласно потребности. Кроме плиты на кухне и керосиновой лампы в комнате, у нас не было других источников тепла, и, однако, лежавшие на верхних койках постоянно жаловались на жару.
Комната была рассчитана на десять коек, но так как нас было девять, одну койку убрали и заняли это место ящиком с хронометрами. В нем хранилось три обыкновенных корабельных хронометра. Кроме того, у нас было шесть переносных навигационных хронометров, которые мы постоянно носили при себе и всю зиму тщательно сверяли. Метеорологические инструменты помещались на кухне, другого места у нас не было. Линдстрём занял должность помощника начальника «Метеорологической станции Фрамхейм» и стал мастером по ремонту приборов.
На чердаке мы сложили все вещи, не переносящие сильного холода, например, лекарства, соки, варенье, сливки, пикули и приправы, а кроме того, ящики для саней. Библиотека тоже разместилась на чердаке.
Начиная с понедельника, 30 января, мы целую неделю употребили на перевозку угля, дров, керосина и нашего запаса сушеной рыбы.
В это лето температура колебалась между -15 и -20 °C – чудесная летняя температура. Ежедневно мы отстреливали много тюленей, и на площадке перед домом у нас уже лежала целая гора, около 100 туш.
Однажды вечером, когда мы сидели за столом, вошел Линдстрём и объявил, что теперь нам не нужно ходить на морской лед стрелять тюленей, они сами пришли к нам. Мы выскочили наружу – и правда, прямо к хижине, серебрясь на солнце, приближался тюлень-крабоед. Он подполз к нам вплотную, был сфотографирован и… застрелен.
Однажды я наблюдал удивительный случай. Моя лучшая собака Лассесен отморозила себе левую заднюю лапу. Мы в это время занимались перевозкой грузов, а Лассесен был выходной. Улучив минуту, он отвязался, а свободу, как и большинство этих собак, использовал для драки. Любят они драться, без потасовки просто жить не могут. И вот Лассесен схватился с Одином и Туром. В пылу битвы их цепи обмотались вокруг его лапы настолько туго, что нарушилось кровообращение. Не знаю, сколько он так простоял, но, вернувшись, я сейчас же заметил, что Лассесен не на своем месте. Осмотрев его, я обнаружил обморожение и потратил полчаса на то, чтобы восстановить кровообращение. Для этого я грел лапу Лассесена в своих руках. Поначалу, пока лапа была нечувствительна, все шло хорошо. Но как только к ней снова прилила кровь, собаке, естественно, стало больно. Она начала беспокоиться, взвизгивала и тянулась головой к больному месту, как бы желая дать мне понять, что ей эта процедура неприятна, однако не огрызалась на меня. После лечения лапа сильно распухла, но уже на следующий день Лассесен снова был здоров, только немного прихрамывал.
Мои записи в дневнике за это время велись в телеграфном стиле, вероятно, из-за напряженной работы. Так, последняя февральская запись гласит: «Навестил императорский пингвин – в кастрюлю!» Не больно-то пространная эпитафия.
За эту неделю мы окончательно освободили морской отряд от собак, забрав около 20 щенков. Велика была радость команды, когда последняя собака покинула палубу, и это вполне понятно. При морозе до 20°, какой держался последнее время, было невозможно содержать палубу в чистоте. Все тотчас замерзало. Но и то неприятно браться. Высадив на лед всех собак, ребята принялись драить палубу солью и водой, и вот уже наш «Фрам» снова стал на себя похож. Щенков посадили в ящики и отвезли в Фрамхейм. Здесь для них была поставлена 16-местная палатка. Однако они наотрез отказались жить в ней, и пришлось их выпустить на волю. Все щенки провели большую часть зимы под открытым небом. Пока на площадке лежали тюленьи туши, они держались около них, потом облюбовали новое место. Палатка, которой они пренебрегли, нашла себе другое применение. В ней мы помещали сук, ожидавших потомства. Эту палатку прозвали родильным домом.
Одна за другой вырастали 16-местные палатки, и со временем Фрамхейм приобрел весьма внушительный вид. Всего палаток было 14. Восемь предназначались для наших восьми упряжек; шесть служили складами. Из них в трех лежала сушеная рыба, в одной – свежее мясо, в одной – разный провиант, еще в одной – дрова и уголь. Ставили их по заранее продуманному плану и вместе получился целый лагерь.
В один из этих дней заметно изменилась упряжь наших собак. Одному из участников пришла в голову хорошая мысль сочетать аляскинскую и гренландскую сбрую. И получилась упряжь, отвечающая всем требованиям. Отныне мы всегда пользовались этой системой, и все пришли к выводу, что она много лучше других. И собакам она явно больше нравилась. Во всяком случае, им в ней легче и лучше работалось. Потертостей, которые так часты при употреблении гренландской упряжи, совсем не стало.
4 февраля выдался памятный день. Как всегда, мы в половине седьмого утра отправились на порожних санях к «Фраму».

Один из уголков Фрамхейма
Первая упряжка выехала на гребень, и вдруг ездовой запрыгал и замахал руками, будто сумасшедший. Я сразу понял, что он что-то увидел, – но что? Подъехал второй, еще сильнее замахал руками и попытался что-то крикнуть мне. Я по– прежнему ничего не понимал. Между тем и мои сани приблизились к гребню; понятно, меня одолевало немалое любопытство. Осталось всего несколько метров, и вот – ответ. У кромки льда, чуть южнее «Фрама» стоял на швартовах большой барк. Правда, мы говорили между собой, что можем встретить «Терра Нова» капитана Скотта, когда судно будет на пути к Земле Короля Эдуарда VII, и все же это было так неожиданно. Настал мой черед изобразить дергунчика; не сомневаюсь, что я исполнил акробатический номер не хуже моих товарищей. И то же повторялось с каждым, кто следом за нами въезжал на гребень. Замыкающего я не дождался, но думаю, что он тоже прыгал и махал руками. Если бы кто-нибудь видел нас со стороны в то утро, мы, наверное, показались бы ему сумасшедшими.
В тот день путь до судна показался нам очень долгим, но наконец мы доехали и все разъяснилось. «Терра Нова» пришел в полночь. Наш вахтенный только что спускался вниз подкрепиться чашкой кофе. Когда он вышел снова на палубу, у края барьера стояло уже два судна. Вахтенный тер глаза, щипал себя за ногу – словом, всякими способами проверял – уж не спит ли он. Да нет! Ущипнул себя за ляжку – чертовски больно; значит, это не сон, значит, и впрямь у барьера рядом стояли два судна.
Лейтенант Кэмпбелл, начальник восточного отряда, назначенного исследовать Землю Короля Эдуарда VII, первым явился на «Фрам» к Нильсену с визитом. Он рассказал, что им не удалось подойти к берегу и теперь они возвращаются к проливу Мак-Мердо. Оттуда собираются идти к мысу Норт и исследовать тамошний край. Как только я поднялся на борт, лейтенант Кэмпбелл снова прибыл на «Фрам», и я услышал все от него самого. После этого мы нагрузили свои сани и поехали домой. В 9 утра мы имели удовольствие принимать у себя в новом доме первых гостей: капитана «Терра Нова» – лейтенанта Пеннела, лейтенанта Кэмпбелла и врача экспедиции. Мы провели вместе несколько очень приятных часов. В тот же день трое из нас были с визитом на судне «Терра Нова»; мы остались там на ленч. Хозяева были чрезвычайно любезны и предложили захватить нашу почту в Новую Зеландию. Будь у меня время, я охотно воспользовался бы этой дружеской услугой, но нам было просто некогда писать письма. Мы дорожили каждым часом. В 2 часа дня «Терра Нова» отдала швартовы и покинула Китовую бухту. Странное дело, после этого визита мы оказались простуженными. На всех напал насморк, но это продлилось недолго, всего несколько часов, а потом все прошло.
В воскресенье, 5 февраля, нашими гостями были «пираты». Мы принимали их в две смены, все сразу не могли оставить судно. Четверо отобедали с нами, шестеро поужинали.
Особенных яств не было, но ведь мы их пригласили не столько ради угощения, сколько чтобы показать им свой новый дом и пожелать счастливого плавания.
На перевозке вещей с «Фрама» всем нам восьми уже нечего было делать, и мне стало ясно, что пора найти для части отряда другую работу. Решили, что четверо будут возить то немногое, что еще осталось, а остальные отправятся к 80° южной широты. Во-первых, разведают местность; во-вторых, начнут заброску провианта на юг. Теперь все опять были заняты делом. На базе остались Вистинг, Хассель, Стюбберюд и Бьюланд. А наша четверка принялась собираться в путь. Правда, почти все было уже готово.
Мы еще не совершали дальних переходов, предстояло приобрести нужный опыт. Выход назначили на пятницу, 10 февраля. Девятого я отправился на «Фрам» и простился с товарищами, ведь предполагалось, что он уже уйдет, когда мы вернемся. Мне было за что поблагодарить этих славных людей. Я знал, что им совсем не улыбается покидать нас в такой интересный момент, чтобы в многомесячном плавании бороться с холодом и мраком, льдом и штормами, а на следующий год еще раз проделать этот путь, идя за нами. Их ожидал тяжелый труд, но никто не жаловался. Они помнили свое обещание сделать все для нашего успеха и безропотно выполняли свой долг.
Я оставил командиру «Фрама», капитану Нильсену, письменный приказ. Его содержание можно изложить в нескольких словах: «Выполняйте наш план так, как сами сочтете наилучшим». Я знал, с кем имею дело. Более добросовестного и верного помощника я не мог бы найти. Я знал, что «Фрам» находится в надежных руках.
Вместе с лейтенантом Престрюдом я совершил небольшую вылазку на юг, чтобы найти удобный подъем на барьер в другом конце бухты. На этом участке лед в бухте был совсем ровный. Лишь кое-где попадались трещины. А ближе к берегу почему-то шли длинные ряды старых торосов. Чем это объяснить? Участок совершенно защищен от моря, так что оно тут вроде ни при чем. Может быть, позднее мы еще сможем вплотную заняться этим вопросом. Сейчас у нас на это не было времени. Мы искали самый короткий и верный путь на юг. Ширина бухты здесь невелика. От Фрамхейма до этой части барьера было около 5 километров. Подъем нетрудный и ровный, если не считать нескольких трещин. Склон недлинный, только, пожалуй, крутоватый. Высота около 18 метров. Мы с волнением поднимались вверх – что нам откроется с гребня? Мы еще ни разу как следует не видели, каков барьер в южном направлении. Сейчас состоится первое знакомство…

Утренняя прогулка на Китовую бухту
Картина, которая открылась нам сверху, нас в общем не поразила. Безбрежная равнина, уходящая за горизонт на юге. Мы убедились, что этот курс приведет нас прямо к уже упоминавшейся возвышенности; очень хорошо. Скольжение превосходное. Лед был присыпан неглубоким слоем рыхлого снега, очень удобно для лыж. Характер рельефа сразу подтвердил, что мы правильно сделали, взяв длинные и узкие беговые лыжи. Задача была выполнена, мы нашли удобное место для подъема на барьер, и дальше путь на юг открыт. Потом это место отметили флажком и назвали «Стартовой линией».
По пути туда и обратно нам встретились большие залежки спящих тюленей. Они совсем не обращали на нас внимания. Подойдешь, разбудишь тюленя – он приподнимет голову, поглядит на тебя, перевернется на другой бок и продолжает спать. Сразу видно, что у этих животных здесь никогда не было врагов. Если бы им надо было чего-то опасаться, они, наверно, выставляли бы сторожа, как это делают их северные собратья.
В этот день мы в первый раз надели меховую одежду эскимосского покроя из оленьих шкур. И оказалось, что парки слишком теплые. Позднее это подтвердилось. В сильный мороз они, несомненно, лучше всего остального. Но здесь на юге во время наших санных вылазок сильных морозов, как правило, не было. В тех редких случаях, когда было по-настоящему холодно, мы надевали парки. А во время этой рекогносцировки мы пропарились, как в бане.
Десятого февраля в 9.30 начался наш первый поход на юг. Четыре человека на трех санях; 18 собак – по шести в упряжке. Груз – около 250 килограммов провианта на одни сани. Кроме того, продовольствие и снаряжение для участников похода. Мы не знали даже приблизительно, сколько он продлится, ведь у нас не было никаких данных. На санях лежал главным образом собачий пеммикан для будущего склада – по 160 килограммов на сани, – немного тюленьего мяса, сала, сушеной рыбы, шоколада, маргарина и галет. Десять длинных бамбуковых шестов с черными флажками предназначались для разметки маршрута. Из прочего снаряжения мы взяли две трехместные палатки, четыре одинарных спальных мешка и кухонную утварь.
Собаки бежали бодро, из Фрамхейма мы выехали галопом. До края барьера дело шло гладко. При спуске на морской лед нам пришлось пересечь неровный участок с большими торосами. Сразу начались осложнения. То одни, то другие сани опрокидывались. Но все обошлось благополучно. Наше снаряжение прошло испытание, а это всегда полезно. Несколько раз мы проезжали близко от тюленей. Собаки не могли устоять против соблазна, сворачивали в сторону и во весь дух неслись к тюленям. Но тяжелый груз быстро отбил им охоту делать дополнительные усилия. Посреди бухты мы увидели «Фрам». Лед совсем вскрылся, и судно пришвартовалось к самому барьеру.
Четверка остающихся на базе провожала нас. Во-первых, они хотели убедиться, что все будет в порядке; во-вторых, намеревались помочь нам на подъеме, так как мы подозревали, что там придется изрядно попотеть. Ну, а уж заодно наши товарищи собирались воспользоваться благоприятным случаем для охоты. Куда ни погляди, всюду лежали тюлени – огромные, жирные.
Начальником на базе я оставил Вистинга и поручил четверке выполнить немалую работу. Им предстояло забрать остаток грузов с судна и построить большой, просторный тамбур у западного торца дома, чтобы не выходить из кухни прямо на снег. Кроме того, мы думали использовать тамбур для столярной мастерской. И еще они должны были во все часы суток охотиться на тюленей. Важно было запасти побольше мяса, чтобы было вдоволь пищи и у людей, и у собак. Зверя тут хватало. Если останемся зимой без мяса, винить можно будет только самих себя.
Хорошо, что нам помогли на подъеме. Хоть и не велик он был, а причинил нам немало хлопот. Но собак хватало, и когда мы запрягли их в достаточном количестве, сопротивление саней было сломано. Интересно, что думали о нас на судне, видя, с каким трудом мы одолеваем подъем? А что будет, когда нам придется взбираться на плато? Возможно, им вспомнилась старая пословица: «Потрудишься – научишься».
Дойдя до «Стартовой линии», мы остановились. Здесь нам предстояло расставание. Никто из нас не был настроен сентиментально. Крепкое рукопожатие – и пошел.
Походный порядок был такой: впереди шел на лыжах Престрюд, задавая направление и подбадривая собак. С направляющим дело всегда шло как-то веселее. Далее следовал Хельмер Ханссен. Во всех наших переходах он шел на первых санях. Я хорошо его знал и считал лучшим из всех каюров, с какими мне доводилось встречаться. Он вез главный компас и проверял по нему курс, который прокладывал Престрюд. За ним двигался Юхансен, у него тоже был компас. И замыкал отряд я; на моих санях, кроме компаса, был одометр. Я предпочел ехать последним, потому что это позволяло мне видеть все, что происходило впереди. Сколько ни соблюдай осторожность в походе, непременно с саней что-нибудь обронишь. Внимательность замыкающего позволяет избежать многих неприятностей. Я мог бы назвать много важных предметов, потерянных во время наших походов и подобранных последним ездовым.
Тяжелее всего, конечно, приходится первому каюру. Он должен проторять дорогу, подгоняя своих собак, остальным надо только следовать за ним. Воздадим же должное тому, кто с первого до последнего дня исполнял эту обязанность, – Хельмеру Ханссену.
Разумеется, незавидна и роль направляющего. Правда, ему не надо сражаться с собаками, но до чего же скучно идти одному впереди и глядеть в пустоту. Только и развлечения, что крики с передних саней: «Чуть вправо – чуть влево!» Да и то развлечением служат не столько однообразно повторяющиеся слова, сколько интонация. Иногда в ней звучит одобрение его действий, но иногда по спине пробегает холодок. Так и чувствуешь, что кричащий не прочь прибавить что-нибудь вроде: «Шляпа!» Да и без того все ясно…
Нелегко выдерживать прямой курс, когда нет никаких ориентиров. Представьте себе, что вам надо пересечь по прямой безбрежную равнину, а кругом туман, да еще царит безветрие, и снег ровный, ни одного гребешка. Как вы поступите? Только эскимос справится с такой задачей, нам она не под силу. Мы отклоняемся то вправо, то влево, то влево, то вправо, доставляя уйму хлопот первому ездовому с морским компасом. Удивительно, как это действует на человека. Ведь отлично знает, что направляющий не виноват, что сам он на его месте делал бы то же, и все-таки начинает раздражаться, внушает себе, будто направляющий, – которому ничего подобного и в голову не приходит, – нарочно петляет на зло ему. Тогда-то и звучит команда «чуть влево» отнюдь не лестно. Я по личному опыту знаю положение и того и другого.
Ездовому скучать некогда. Ему надо править собаками и следить, чтобы все они работали и ни одна не ловчила. И тьма других вещей требует от него внимания. За санями тоже нужен глаз, не то какой-нибудь бугорок в два счета опрокинет их вверх полозьями. Поднимать груженые сани весом около 300 килограммов – не такое уж удовольствие, поэтому лучше поглядывать в оба.
От «Стартовой линии» начинается пологий подъем, он тянется до гребня, за которым барьер переходит в сплошную равнину. На гребне мы опять останавливаемся. Наших товарищей не видно, они вернулись к своей работе. Зато вдали, на лучезарном бело-синем фоне стоит «Фрам». Человек есть человек, и в глубине души таится тревога. Увидимся ли мы снова? И если увидимся, то при каких обстоятельствах? Следующий раз – от него нас столько отделяет… С одной стороны – могучий, необозримый океан, с другой – массив неизведанных льдов. Мало ли что может случиться. Флаг развевается на ветру… Прощальный взмах… Пропал. Мы уходим на юг.
Наш первый поход в глубь Ледяного барьера, естественно, был волнующим. Путь неизвестен, снаряжение не испытано. Каким окажется рельеф? Так и будет тянуться бесконечная равнина без каких-либо препятствий? Или нас ждут непреодолимые трудности, созданные природой? Верно ли мы считали, что в этом краю собаки – лучшее средство передвижения? Или лучше было бы взять оленей, пони, автомобили, аэропланы?
Мы развили хорошую скорость. Снежный покров был превосходным. Тонкий слой рыхлого снега не давал скользить собачьим лапам. Погода была не совсем такая, какую бы нам хотелось иметь в незнакомой местности. Правда, было тихо и тепло, в этом смысле все в порядке. Но видимость плохая, хуже бывает только в туман. Все окутала серая мгла, в которой барьер и небо сливались вместе. Горизонта не видно. Эта мгла, – очевидно, младшая сестра тумана, страшно неприятная штука. Невозможно судить о местности, никаких теней, все выглядит однородным. При таком освещении трудно быть направляющим. Неровности рельефа различаешь только тогда, когда столкнулся с ними в упор. С трудом удерживаешь равновесие, а то и падаешь. Ездовым легче, они могут одной рукой держаться за сани. Но им тоже надо быть начеку, следить, чтобы сани не опрокинулись.
К тому же такое освещение очень вредно для глаз, дело доходит даже до снежной слепоты. И не только потому, что непрестанно напрягаешь зрение; часто причиной является неосторожность. Ведь в таких случаях люди склонны сдвигать очки на лоб, особенно если стекла темные. Впрочем, мы отделывались всегда на диво благополучно. Лишь немногим довелось испытать эту неприятную болезнь. Как ни странно, но у снежной слепоты есть что-то общее с морской болезнью. Спросите человека, не страдает ли он от морской болезни, в девяти случаях из десяти вы услышите в ответ: «Нет, что вы, просто живот болит». Примерно так бывает и при снежной слепоте. Если вечером кто-то входит в палатку с воспаленными глазами, на вопрос, не снежная ли это слепота, он чуть ли не с обидой ответит: «Какая там снежная слепота, ты что, просто глаз засорился!»
В этот день мы легко прошли 28 километров. У нас было две палатки, по одной на двоих. Они были рассчитаны на троих, четверым пришлось бы слишком тесно. Пищу готовили только в одной. Отчасти ради экономии, чтобы оставить побольше горючего на складе; да и не было надобности готовить врозь, пока держалась относительно теплая погода.
Уже в этом первом походе – и потом тоже так было – у нас уходило слишком много времени на утренние сборы. Мы поднимались в четыре утра, а выходили в путь не раньше восьми. Я всячески старался сократить этот срок. На вопрос, в чем тут дело, отвечу честно и откровенно: виновата наша собственная нерасторопность. Пока мы занимались разбивкой складов, это еще было не так уж страшно, но в нашем главном переходе нерасторопности никак нельзя было допускать.
На второй день намеченные 28 километров были пройдены за шесть часов, и мы задолго до вечера разбили лагерь. Собаки изрядно устали, ведь мы весь день шли на подъем. О том, насколько мы поднялись, говорит то, что с расстояния 56 километров мы видели Китовую бухту. По нашим прикидкам, лагерь находился на высоте примерно 150 метров над уровнем моря. Такой результат удивил нас, хотя чему тут было удивляться, ведь в первый же день, обозревая бухту, мы определили, что эта гряда достигает 150 метров. Как бы то ни было, большинство людей любит выдвигать свои теории и придумывать что-то новое. Нас не удовлетворяет то, что видели другие. Так и теперь мы (я говорю «мы», так как сам в этом участвовал) не упустили случая выдвинуть новую теорию – о леднике, отлого спускающемся вниз с антарктического плато. Мы представляли себе, как постепенно и равномерно поднимаемся до самой вершины, избегая утомительных крутых перепадов.
День выдался очень теплый, всего -11°, мне даже пришлось раздеться чуть не до белья. Недаром этот подъем мы прозвали «Кальсонной горкой».
Выйдя из палатки на другое утро, мы увидели густой туман. Вот уж некстати! Идешь по неизведанному краю – и вот, пожалуйста, шагай вслепую. В этот день у нас было такое впечатление, что мы спускаемся куда-то в бездну. В час дня один из шедших впереди доложил, что видит землю, и развел руками, изображая какие-то огромные размеры. Я ровным счетом ничего не видел, и неудивительно: во-первых, у меня плохое зрение, во-вторых, никакой земли не было и в помине. Туман развеялся, и мы увидели, что дальше идет относительно пересеченная местность. Но миф о земле просуществовал до следующего дня, когда мы убедились, что речь шла всего-навсего о полосе тумана.
В этот день мы отличились, вместо намеченных 28 километров прошли все 40. Одеты мы были легко, ни о каких парках не могло быть и речи. Мы сразу же отказались от них. Легкие штормовки поверх нижней одежды – вот и все. В этом походе многие из нас ложились в спальные мешки босыми.
На следующий день нас ожидал сюрприз: ясное небо и полное безветрие. Впервые мы смогли хорошо рассмотреть местность. К югу, как будто, тянулась гладкая равнина, без подъема. Зато к востоку барьер заметно повышался в сторону Земли Короля Эдуарда VII, как нам показалось. В первой половине дня нам попалась первая трещина. Похоже было, что ее занесло снегом очень давно. В тот день мы прошли 37 километров.

Вехи у склада на 80° южной широты
Во время заброски провианта на склады нас здорово выручали термосы. Сделаешь привал среди дня и выпьешь по чашке горячего шоколада. Каково – вот так, среди снежных просторов без всяких хлопот подкрепиться шоколадом. В решающий переход на юг мы не взяли с собой термосов. Тогда нам было не до второго завтрака.
14 февраля, пройдя 18,5 километра, мы достигли 80° южной широты. К сожалению, в этом походе нам не удалось провести астрономических наблюдений, потому что наш теодолит забастовал, но последующие многократные наблюдения в этом месте дали 79°59 южной широты. Вполне приличная точность, если учесть, что мы шли в туман. Весь маршрут был размечен флагами на шестах, которые мы ставили через каждые 15 километров. Но так как мы не смогли провести астрономического определения места, было решено, что флагов недостаточно, надо придумать еще какие-нибудь ориентиры. Разбили несколько пустых ящиков на дощечки для всех, но этого было слишком мало. Тут кто-то обратил внимание на лежащую на санях сушеную рыбу и проблема была решена. Любопытно, кто-нибудь до нас размечал маршрут сушеной рыбой? Вряд ли.
Прибыв на 80° – это было в 11 часов утра, – мы сразу принялись устраивать склад. Вышло солидное сооружение высотой около 3,5 метра. Снеговой покров здесь заметно отличался от того, что было на нашем пути прежде. Кругом лежал глубокий рыхлый снег; видно, он выпал в тихую погоду И потом, проходя этот участок, мы почти всегда заставали такой же рыхлый снег.
Соорудив склад и сфотографировав его, мы уселись на сани и двинулись в обратный путь. Как-то странно было – сидишь, и тебя везут; мы к этому не привыкли. Престрюд тоже устроился на санях. Первым ехал Ханссен, и, так как достаточно было держаться старого следа, мы вполне обходились без направляющего. Вехи были сложены на последних санях. Престрюд следил за одометром и подавал сигнал через каждые полкилометра, а я втыкал в снег сушеную рыбу. Этот способ отлично себя оправдал. Мало того что рыба во многих случаях направляла нас по верному пути, она оказалась очень кстати, когда в следующий раз мы возвращались домой с изголодавшимися собаками.
В этот день мы проехали 70 километров и легли спать только в час ночи. Это не помешало нам уже в четыре утра приступить к утренним сборам и выехать дальше в половине восьмого. В половине десятого вечера мы подъехали к Фрамхейму, отмахав за день 100 километров. Мы гнали так не потому, что стремились установить «барьерный рекорд», просто нам хотелось вернуться до ухода «Фрама», еще раз пожать руки нашим товарищам и пожелать им счастливого плавания. Но, перевалив через край барьера, мы увидали, что, как ни старались, приехали слишком поздно. «Фрама» уже не было в бухте. В первую минуту нам стало как-то не по себе, душу сковала непонятная тяжесть. Но здравый смысл быстро взял верх, и мы порадовались, что после долгой стоянки у барьера судно ушло в плавание невредимым. Оказалось, что «Фрам» покинул бухту в 12 часов дня, как раз в то время, когда мы до предела взвинтили скорость, чтобы застать его.
Этот поход позволил нам достаточно ясно представить себе, что нас ожидает. После него будущее не без основания виделось нам в розовом свете. Три важнейших фактора – рельеф, снеговой покров и собаки – были проверены, и результат был такой, что лучшего нельзя и желать. Все в полном порядке. Я всегда высоко ценил собак как упряжных животных. Теперь мое преклонение перед этими замечательными работягами перешло в восхищение. В самом деле, посмотрим на достижения моей упряжки. 14 февраля собаки сначала прошли 19 километров на юг с грузом в 350 килограммов на сани, потом – 51 километр на север. Только четыре из них – «три мушкетера» и Лассесен – работали как следует; Фикс и Снюппесен бессовестно отлынивали. Груз, который они тянули от 80° южной широты, был такой: сани – 75 килограммов, Престрюд – 80 килограммов и я – 83 килограмма. Добавим к этому вес спальных мешков, лыж и сушеной рыбы – 70 килограммов. Итого 300, или от 70 до 80 килограммов на собаку. В последний день – 100 килограммов. За 25 ходовых часов пройдено 170 километров. По-моему, собаки на этом примере доказали свою пригодность на барьере.
Кроме этого замечательного результата, мы добились и еще кое-чего. Прежде всего встал вопрос о долгих утренних сборах. Во время главного перехода так дело не пойдет. Надо ускорить эту процедуру по меньшей мере на два часа, это очевидно, – но как? Об этом стоит основательно подумать. И еще одна проблема, которую нужно решить, – сани были рассчитаны на самый трудный рельеф. На деле он оказался очень простым, и можно было обойтись легким снаряжением. Сани следовало облегчить, по крайней мере, наполовину, а то и больше. Лыжные башмаки с брезентовым голенищем тоже предстояло совсем переделать. Они слишком малы и жестки, надо сделать их больше и мягче. Обувь играла столь важную роль для всей нашей экспедиции, что лучше уж хорошенько постараться.
Четверка, которая оставалась дома, поработала на совесть. Большая пристройка у западного торца преобразила Фрамхейм почти до неузнаваемости. Ширина тамбура равнялась ширине дома – 4 метра; длина второй стены – 3 метра. Два окна делали его уютным и светлым; впрочем, этот уют продержался недолго. Кроме того, наши строители вырыли вокруг дома проход полутораметровой ширины. Его накрыли, продолжив покатую крышу до самого снега. На восточной торцевой стене прибили на соответствующей высоте планку, и с нее опустили на снег доски. Этот навес как следует укрепили внизу, так как ему предстояло выдержать немалую нагрузку зимних снегопадов. С тамбуром ход сообщался через боковую дверь в северной стене. Мы собирались хранить в нем консервы и свежее мясо. А в восточном конце хода очень удобно было брать снег. Здесь Линдстрём мог добыть сколько угодно чистого снега, не то что вне дома, где носилось 120 собак, которых мало заботило, как мы получаем воду для кофе или чая. В стенке крытого хода Линдстрём мог брать снег, не опасаясь собачьих козней. И еще одно важное преимущество: не надо за каждым куском льда выходить на открытый воздух в буран и мороз.
Теперь до наступления сильных холодов надо было прежде всего оборудовать палатки для собак. Не держать же их попросту под открытым небом. А то как бы нам вскоре не пришлось убедиться, что собачьи клыки острые как нож. К тому же без укрытия будет слишком ветрено и холодно. Во избежание этого мы углубили пол в каждой палатке почти на 2 метра. Работать пришлось преимущественно топорами, так как мы быстро натолкнулись на лед. Готовая собачья палатка смотрелась очень внушительно, если стоять «на полу» и глядеть вверх. От пола до высшей точки потолка было около 5,5 метров, диаметр внизу – 4,5 метра. Вдоль стен на равном расстоянии друг от друга вбили в фирн 12 кольев, чтобы привязывать собак. Они с первого дня по достоинству оценили свои жилища; им там и правда было хорошо. Не помню, чтобы я хоть раз видел иней на шерсти своих собак, когда они находились в палатке. Просторно, много света и воздуха, никакого ветра – словом, все блага. Для палаточного шеста мы оставили посередине палатки столб снега в рост человека. На то, чтобы оборудовать все восемь собачьих палаток, у нас ушло два дня.
Еще до ухода «Фрама» мои товарищи подняли на барьер одну промысловую лодку. Мало ли что – вдруг пригодится, так уж пусть лучше будет под рукой. А не понадобится – ничего страшного. Лодку везли на двух санях, запряженных 12 собаками, и сгрузили подальше от края барьера. По высокой мачте издалека было видно, где она лежит.
Без нас остававшаяся четверка нашла еще время и для охоты и запасла уйму мяса. Надо было своевременно позаботиться о палатке для хранения нашего главного запаса – тюленины. Если держать его прямо на снегу, его ненадолго хватит. Для защиты от собак мы огородили палатку двухметровой стеной из больших снежных глыб. Собаки сами позаботились о том, чтобы она за несколько дней обледенела; теперь им никак нельзя было добраться до мяса.
Мы не собирались засиживаться на месте. Надо было продолжать заброску провианта на юг. Выход назначили на 22 февраля. До тех пор у нас хватало всякой работы. Сперва забрать с главного склада провиант и подготовить его для перевозки. Начали с ящиков, в которых лежал пеммикан. Вынули банки – по четыре в ящике, – открыли их, извлекли пеммикан и снова уложили в ящики уже без жестяной упаковки. Это давало значительную экономию в весе; кроме того, мы избавлялись от необходимости возиться потом с банками на морозе. Жестяная упаковка предназначалась для перевозки пеммикана через жаркие широты, я боялся, как бы он не растаял и не вытек из ящиков. На то, чтобы открыть все банки, ушло немало времени, но в конце концов мы управились с этим делом. Работали в тамбуре.
Много времени отняло и наше личное снаряжение. Мы обсудили, как быть с обувью. Большинство отдавало предпочтение большим сапогам, при условии их переделки. Кое-кто – совсем немногие – считали, что можно обойтись одной мягкой обувью. В данном случае это не играло такой уж важной роли, ведь все знали, что в заключительный переход так или иначе придется взять с собой большие сапоги, чтобы было в чем проходить ледники. А кто хочет идти в мягкой обуви, привязав сапоги на сани, – пожалуйста. Зачем навязывать людям обувь, которая им не по душе. Только рискуешь нажить неприятности, и ответственность большая. Поэтому каждому предоставлялось поступить по своему разумению. Лично я стоял за сапоги с твердой подошвой, лишь бы голенище было помягче и верх попросторнее, чтобы можно было надеть побольше носков. Хорошо, что изготовитель наших сапог не мог заглянуть к нам в Фрамхейм в эти дни, да и потом тоже. Нож без сострадания вонзался в эти шедевры и срезал весь брезент плюс изрядное количество лишней кожи. Я не большой знаток сапожного ремесла, а потому с радостью принял предложение Вистинга заняться моими сапогами. Они вернулись от него неузнаваемыми. Пожалуй, фасон был покрасивее до операции, но ведь форма играет подчиненную роль, была бы обувь удобной, так что в целом сапоги много выиграли от переделки. Толстый брезент был заменен тонкой ветронепроницаемой материей. Расклиненный носок позволял надевать гораздо больше пар чулок. Кроме того, мы выиграли в пространстве, удалив один слой в толстой подошве. Наконец-то я получил обувь, отвечающую всем моим требованиям. Жесткая подошва, в самый раз для крепления Хёйер-Эллефсена, и мягкий верх, так что ногу нигде не жмет. Несмотря на все эти усовершенствования, мои сапоги перед главным переходом еще раз подверглись операции. Но уж после этого они достигли совершенства. Сапоги остальных претерпели такую же трансформацию; пробелы в нашем снаряжении заполнялись с каждым днем.
Одежда тоже подверглась кое-какой переделке. Одному подай шапку с ушами, другому они ни к чему. Один прилаживает козырек, другой снимает его. И оба готовы стоять насмерть за свою идею. Речь шла о мелочах, но они отвечали личным вкусам и влияли на настроение и уверенность в себе. Мы увлекались изобретением подтяжек. Я сам придумал один вариант, которым долго гордился. Как я торжествовал, когда один из моих конкурентов на этом поприще – редкий случай! – перенял мой патент. Каждый стремился сам что-то придумать, притом возможно оригинальнее. Если вещь хоть немного походит на старые образцы – не годится. А в конечном счете выходило, как у крестьянина из притчи: старый способ часто оказывался самым лучшим.
21 февраля вечером мы готовы были снова тронуться в путь. Семь саней выглядели довольно внушительно с полным грузом. Ободренные успехом предыдущего похода, мы на этот раз чересчур нагрузили сани, во всяком случае некоторые из них. Мои явно были перегружены. За что я потом и поплатился – вернее, не я, а мои трудолюбивые собаки.
22 февраля в 8.30 утра наш караван – 8 человек, 7 саней и 42 собаки – отправился на юг. Начался самый утомительный этап всей нашей экспедиции. Как обычно, мы стартовали резво. Не подумайте, что Линдстрём, который должен был остаться один хозяйничать, стоял и махал нам вслед. Едва тронулись с места последние сани, как он радостно поспешил в дом, испытывая явное облегчение. Но я-то прекрасно знал, что он скоро начнет выбегать из дома и посматривать на подъем – дескать, где они там, еще не возвращаются?
С юга, прямо нам в лоб дул слабый ветер, небо было пасмурное. Свежий рыхлый снег затруднял движение, собаки с трудом тащили груз. Наших следов от первого похода не было видно, но нам удалось отыскать первый флаг, установленный на 18-м километре. Дальше мы ориентировались по сушеной рыбе, она резко выделялась на белом снегу, и мы видели ее издали. В 6 часов вечера, пройдя 29 километров, устроили привал. Наш лагерь выглядел внушительно – 4 трехместные палатки, в каждой по два человека. Пищу варили в двух палатках. Пополудни погода улучшилась, и вечером небо совсем очистилось.
На другой день дорога была еще хуже, и собакам приходилось очень туго. За 8 часов пути мы одолели всего 20 километров. Температура держалась сносная, – 15°. Мы потеряли наши вехи из сушеной рыбы и последние часы шли только по компасу.
Следующий день (24 февраля) начался скверно – свежий зюйд-вест, сильная метель. Мы ничего не видели и прокладывали курс по компасу Хотя мороз не превышал -18°, мы продрогли от встречного ветра. Весь день шли, не видя ни единой вехи. Около полудня метель прекратилась, а к 15 часам и вовсе прояснилось. Осматриваясь кругом в поисках места для палаток, мы обнаружили один из своих флагов. Подошли к нему, оказалось, что это флаг номер 5; все шесты были пронумерованы, и мы точно знали, где стоит какой флаг. Пятый стоял в 72 километрах от Фрамхейма. Это неплохо согласовывалось с пройденным нами расстоянием – 71 километр.
На другой день было тихо и ясно, температура начала падать, было -25°. Несмотря на понижение температуры, мороз казался слабее вчерашнего, так как ветер стих. Мы всю дорогу шли по шестам и рыбе и за день покрыли 29 километров – хороший итог, учитывая тяжелый снег.
Потом два дня было ветрено и холодно, туман, почти ничего не видно. Снова большую часть пути мы шли по вехам из шестов и рыбы. Рыба уже пошла в ход, мы скармливали ее собакам, и они жадно ее пожирали. Направляющий выдергивал из снега очередную рыбину и отбрасывал ее в сторону. Один из ездовых подбирал ее и клал на свои сани. Наскочи собаки прямо на рыбу, они живо затеяли бы яростную потасовку. Еще до того, как мы дошли до склада на 80-й параллели, собаки заметно выбились из сил, вероятно, из-за мороза (-27°) и напряженной работы. По утрам у них плохо слушались ноги, никак не заставишь идти.
27 февраля в 10.30 мы достигли склада на 80° южной широты. Склад был в том же виде, в каком мы его оставили, никаких сугробов не нанесло, из чего следовало, что здесь все время была тихая погода. В прошлый раз снег был рыхлым, теперь он затвердел от мороза. Нам повезло с солнцем, и мы точно определили местонахождение склада.
Странствуя по этим безбрежным равнинам, лишенным всяких ориентиров, мы ломали себе голову над тем, каким способом метить склады, чтобы потом их находить наверняка. Исход нашей битвы за полюс всецело зависел от этих осенних работ, надо было забросить побольше провианта как можно дальше на юг, да так, чтобы потом непременно его найти. Потеряем провиант, и сражение, скорее всего, будет проиграно. Основательно обсудив этот вопрос, мы решили, что надо попытаться отмечать склады в поперечном направлении – с востока на запад, а не вдоль нашего курса – с севера на юг. Вехи, расставленные вдоль, легко потерять в тумане, если они следуют недостаточно часто, и есть опасность отклониться от курса настолько, что рискуешь не найти их снова.
В соответствии с новым решением мы пометили склад на 80-й параллели 20 темными флажками на высоких бамбуковых шестах, по десяти с каждой стороны склада. От флажка до флажка – 900 метров; всего было размечено с каждой стороны склада по 9 километров. Шесты были нумерованы так, что по цифре всегда можно было видеть, в какой стороне склад и как далеко до него. Метод был совсем новый, еще не проверенный, но он показал себя абсолютно надежным. Естественно, на базе мы как следует выверили компасы и одометр и знали, что можем на них положиться.
Решив эту проблему, мы на следующий день продолжали путь. Температура все понижалась по мере того, как мы удалялись от края барьера. Если и дальше так будет, нас ждут сильные морозы на подходах к полюсу. Рельеф по-прежнему был ровный и плоский. У нас было такое чувство, будто мы все время поднимаемся в гору, но потом выяснилось, что это нам просто казалось. Трещины не попадались, и мы надеялись совсем избежать их. Естественно было ожидать, что участок вдоль самого края барьера будет особенно богат трещинами, но мы его давно прошли, а льда все не видели. Южнее 80-й параллели снеговой покров был лучше, но собаки заметно устали и сбили лапы, и стартовать по утрам было целой проблемой.
Здесь собаки калечили себе лапы гораздо меньше, чем на морском льду. В нашем походе главной проблемой для них были попадавшиеся нам участки наста. Он был недостаточно прочен, собаки проваливались и ранили себе лапы. Кроме того, снег застревал между когтями и смерзался. Куда хуже достается собакам на морском льду весной и летом. Острый лед режет лапы, а в ранки попадает соль. Приходится защищать их лапы чуть ли не чулками. Здесь в этом не было нужды. В долгом плавании лапы у собак стали нежнее и чувствительнее обычного. Во время первого похода никаких повреждений у них не наблюдалось, хотя условия тогда были скорее хуже, чем теперь. Очевидно, лапы натренировались за зиму.
3 марта мы достигли 81° южной широты. Температура в этот день понизилась до -43°, это было не очень-то приятно. Перемена произошла слишком быстро. Это сказывалось и на людях, и на животных. Мы разбили лагерь в 3 часа дня и сразу же забрались в палатки. Следующий день предполагалось использовать на постройку и разметку склада. Ночь была самая холодная за этот поход, – когда мы утром встали, градусник показывал -45°. Если сравнить условия в арктических и антарктических областях, мы увидим, что это очень низкая температура. Ведь начало марта соответствует началу сентября в Северном полушарии, когда еще стоит лето. Нас удивил такой холод в летнюю пору, особенно, когда я припоминал умеренную температуру, какую наблюдал Шеклтон во время своего санного перехода на юг. У меня сразу же родилась догадка, что в средней части барьера Росса, очевидно, есть локальный полюс холода. Сопоставление с наблюдениями, сделанными на английской базе в проливе Мак-Мердо, должно отчасти прояснить этот вопрос. Для полного ответа необходимо знать еще и обстановку на Земле Короля Эдуарда VII. Наблюдения, которые доктор Моусон[76] сейчас проводит на Земле Адели и на барьере дальше к западу, помогут решить эту проблему.

Трещины на барьере
На 81 ° южной широты мы оставили в складе 14 ящиков собачьего пеммикана, итого 560 килограммов. Шестов для разметки больше не было, и пришлось разбить на доски несколько ящиков. Лучше хоть что-нибудь, чем ничего. Лично я считал, что полуметровых досок будет вполне достаточно, судя по тому, сколько осадков здесь выпадало с тех пор, как мы сюда прибыли. Учитывая время года – весна и лето, – осадков было очень мало. Но если в это время года у края барьера осадки незначительны, еще неизвестно, какими они бывают осенью и зимой в глубине материка. Как бы то ни было, лучше хоть что-то, чем совсем ничего. А потому Бьоланду, Хасселю и Стюбберюду, которым предстояло на другой день возвращаться под крылышко Линдстрёма, поручили расставить вехи. Как и предыдущий, этот склад обозначили вехами с востока на запад, на 9 километров в каждую сторону. Чтобы знать, в какой стороне склад, если наткнешься на веху в тумане, на всех досках восточного плеча сделали зарубки топором. По правде сказать, небольшие дощечки, быстро теряющиеся вдали на безбрежной равнине, выглядели крайне невзрачно, и я невольно улыбнулся при мысли о том, что ими отмечено место, где хранится ключ от дворца спящей красавицы. Такой мелюзге – и такая честь.
Мы, кому предстояло идти дальше на юг, в тот день предавались праздности. Дневка была особенно нужна собакам. Однако мороз не дал им использовать ее как следует.
На другой день, в 8 утра мы расстались с тройкой, возвращающейся на север. Мне пришлось отослать домой одну из своих собак – Одена; у него появилась сильная потертость от гренландской упряжи. В моей упряжке осталось только пять собак, все они были очень тощие и явно изнуренные. Но сдаваться рано, мы должны, во всяком случае, дойти до 82° южной широты. Я-то мечтал добраться до 83°, однако теперь на это не приходилось надеяться. Начиная с 81° барьер выглядел несколько иначе. До сих пор рельеф был гладкий, а тут мы в первый же день увидели много бугров, напоминающих стога сена. Сначала мы не придали особого значения этим небольшим, казалось бы, неровностям. Но со временем мы научились держать ухо востро и ступать осторожно, когда проходили поблизости от них. А в этот день нас ничто не насторожило. Снеговой покров отличный, температура сносная (-23°), и дневной переход получился вполне приличный. Но уже на следующий день мы получили представление, что означают эти бугры: пошла трещина за трещиной. Не очень широкие, но, насколько мы могли судить, бездонные. В полночь три ведущих собаки в упряжке Ханссена – Хельге, Милиус и Ринг – провалились в трещину и повисли на постромках. Хорошо, что ремни выдержали; гибель трех собак была бы для нас очень чувствительной потерей. Как только следующие собаки увидели, что три передовых исчезли, они сейчас же остановились. К счастью, собаки здорово боялись трещин и всегда останавливались, заподозрив неладное. Стало ясно, что похожие на стог бугры образованы сжатием и всегда сопровождаются трещинами.
В этот день преобладала пасмурная погода с плохой видимостью. Временами дул северный ветер, была метель. В перерыве между двумя снежными зарядами мы увидели на востоке три-четыре очень высоких тороса. До них было километров 10. На другой день, 7 марта, мы наблюдали скачок вроде тех, которые несколько раз отмечал Шеклтон. С утра – ясная, тихая погода, температура -40°. Ближе к полудню подул зюйд-ост, и во второй половине дня был уже крепкий ветер. Температура воздуха быстро повышалась, и когда мы в 3 часа дня разбили лагерь, было всего -18°. Снимаясь со стоянки утром, мы оставили ящик с собачьим пеммиканом на обратный путь и размечали маршрут на юг досками, которые ставили через каждый километр. За день прошли всего 20 километров. Собаки – в особенности мои – страшно исхудали, и вид у них был жалкий. Стало ясно, что они дотянут от силы до 82° южной широты. И то обратный путь одолеть будет не просто. Поэтому мы вечером решили, что довольствуемся 82-й параллелью, затем поворачиваем назад.
На последнем этапе мы ставили наши две палатки лицом к лицу, вход к входу. Это было очень удобно, так как позволяло передавать еду из палатки в палатку, не выходя наружу. В итоге произошло коренное изменение в нашем походном снаряжении, и родилась идея лучшей пятиместной палатки, какая когда-либо видела свет в полярных областях. В тот вечер мы лежали и дремали в спальных мешках, думая о том о сем, и вдруг нас осенило: если сшить палатки вместе так, как они стоят, отпоров передние стенки, получится одна, гораздо большая палатка, и в ней пятерым будет куда просторнее, чем в двух трехместных. Идея была воплощена в жизнь, так появилась во всех отношениях идеальная палатка, которой мы пользовались во время перехода к полюсу. Ах, эти случайности! Да только стоит ли беспокоить провидение по таким мелочам…
8 марта мы достигли 82° южной широты; на большее мои собаки были неспособны. Да и это было уже чересчур, как мы увидим потом. Они совсем измотались, бедняги. Единственное, что омрачает мои воспоминания о нашем пребывании в Антарктике, – мысль, что я загнал своих чудесных животных, потребовал от них больше того, на что они были способны. Одно лишь утешение – я и себя не жалел. Стронуть с места 450 килограммов при обессилевшей упряжке – не детская забава. И не всегда было достаточно только стронуть их с места. Порой приходилось толкать, заставляя собак идти. Кнута они давно перестали бояться. Попробуешь пустить его в ход – они лишь сожмутся в комок, пряча голову; по телу попадет – ничего. Бывало, так и не удается заставить их идти, приходилось просить помощи у товарищей. Двое толкают сани, третий нахлестывает собак кнутом, подбадривая их всякими словами.
До чего жестоким и бесчувственным бывает человек в таких случаях. Как меняется его характер. Я по природе своей очень люблю животных и стараюсь им не вредить. Поэтому я отнюдь не страстный охотник. Мне в голову не придет убить животное, – исключая крыс и мух, – кроме как для поддержания жизни. Пожалуй, я вправе сказать, что в нормальных условиях я любил своих собак, и это чувство, наверно, было взаимным. Но сейчас условия нельзя было назвать нормальными. Или это я сам был ненормален? Позже мне не раз приходила в голову мысль, что так оно и было на самом деле. Ежедневная тяжелая работа, плюс цель, которой я хотел достичь во что бы то ни стало, сделали меня безжалостным. Иначе не назовешь человека, заставляющего пять ходячих скелетов тянуть перегруженные сани. До сих пор не могу забыть, как Тур, превосходный, большой гладкошерстный пес жалобно выл на ходу, чего обычно не услышишь от собаки на работе. Я никак не мог понять причины, а может быть, не хотел понимать. И гнал его вперед, пока он не пал. Когда мы потом разрезали его тушу, грудь собаки представляла собой сплошной нарыв.
Полуденная высота солнца дала координаты 81°54 30 ', поэтому мы прошли оставшиеся 10 километров к югу и в 15.30 разбили лагерь на 82° южной широты. В последнее время нам все казалось, что барьер повышается в сторону полюса, и теперь, по общему мнению, мы находились на высоте около 500 метров. Лично я был убежден, что путь к югу все время идет в гору. Но это было одно лишь воображение, как показали потом измерения.
Итак, мы достигли предельной в эту осень широты и имели все основания быть довольными. На 82-й параллели мы оставили 620 килограммов провианта, главным образом собачьего пеммикана. До конца дня мы больше ничего не делали, только отдыхали. Было ясно, тихо и холодно (-25°). С утра мы прошли 22 километра.
Следующий день мы оставались на том же месте, сооружали склад и метили его – метили так же, как на 81-й параллели, с той лишь разницей, что здесь мы снабдили доски лоскутами темно-синей материи, чтобы их было виднее. Мы постарались покрепче связать вместе ящики, чтобы быть уверенными, что зимние бури не разорят склад. И я оставил здесь свои сани, понимая, что моя упряжка их уже не дотянет. К тому же лишние сани здесь могли нам потом пригодиться.
Склад, высотой в 3,5 метра, обозначили флажком на длинном бамбуковом шесте, чтобы издали было видно.
10 марта мы отправились в обратный путь. Своих пятерых собак я поделил между Вистингом и Ханссеном. Правда, им от этих мешков с костями было мало проку, одна морока. Остальные три упряжки еще держались. Собаки Ханссена выглядели почти нормально; упряжка Вистинга считалась у нас самой сильной, но его собаки заметно исхудали. Тем не менее они еще тянули. Сани Вистинга были тоже перегружены. Они были еще тяжелее моих. Собаки Юхансена, которых мы считали самыми слабыми, оказались довольно выносливыми. Рысаками их нельзя было назвать, однако не было случая, чтобы они отстали. Видно, их лозунгом было: «Сегодня не поспеем – завтра доберемся». Эта упряжка вернулась на базу в полном составе.
Мы рассчитывали, что обратный путь будет легким – сел и поехал. Но из этого ничего не вышло. Хочешь не хочешь, а топай сам. Собаки только-только справлялись с пустыми санями.
Пройдя за день 48 километров, мы оказались там, где оставляли ящик с пеммиканом, и разбили лагерь. Погода мерзкая, холодная (-32°). Она совсем доконала моих собак. Вместо того чтобы отдохнуть, они всю ночь продрожали. Сердце кровью обливалось, как посмотришь на них. Утром пришлось силком ставить их на ноги, сами они не могли подняться. Потом немножко размялись, согрелись и как будто ожили. Во всяком случае, они кое-как поспевали за другими.

Фрамхейм в конце марта 1911 г.
На следующий день мы сделали 40 километров. Температура была -36°. 12-го миновали склад на 81° южной широты. Было хорошо видно большие торосы на востоке, и мы определили их пеленг; он мог потом пригодиться для отыскания склада. В этот день мы прошли 40 километров. Температура —39,5°.
13 марта с утра было тихо и ясно, но около 10.30 подул крепкий ост-зюйд-ост, начался буран. До сих пор мы шли по своему следу, и теперь, чтобы не потерять его, решили разбить лагерь и переждать непогоду. Ветер завывал и трепал палатки, но повалить их не мог. На следующий день ветер не унимался, и мы решили переждать еще. Температура, как обычно при ветре такого направления, была -24°.
Только днем 15 марта, в половине первого, ветер настолько стих, что можно было трогаться в путь. Выйдя из палатки, мы ахнули. Что делать, с чего начать, чтобы разобраться в этом хаосе? Сани совсем занесены снегом. Кнуты, лыжные крепления и упряжь почти целиком съедены. Да, картина. К счастью, у нас хватало веревок, и мы починили упряжь. Для креплений нашлись запасные ремни. С кнутами дело обстояло хуже. Ханссену ехавшему впереди, был просто необходим сколько-нибудь сносный кнут. Остальные могли на худой конец обойтись и так. В конце концов он все-таки что-то смастерил себе. Один из моих товарищей вооружился палаточным шестом и обходился им до самого Фрамхейма. Поначалу собаки дико боялись этого странного кнута, но вскоре сообразили, что дотянуться до них шестом трудновато, и перестали обращать на него внимание.
Наконец все как будто налажено. Осталось поднять собак и запрячь их. Многие из них настолько обессилели, что их совсем занесло снегом. Мы отыскали всех и одну за другой подняли на ноги. Один Том наотрез отказался вставать. Поднять его оказалось невозможно, он только лежал и скулил. Пришлось прикончить его. У нас не было с собой огнестрельного оружия, поэтому Тома прикончили топором. Это было нетрудно. Вистинг положил тушу на свои сани, чтобы довезти до следующей стоянки и там разрубить на куски.
День был пасмурный и холодный. Туман, метель, южный ветер, – 26°. Но нам посчастливилось сразу найти свои следы, и мы держались их. Косматый – лучший пес Вистинга – упал замертво на ходу. Он тоже был из тех собак, которые работают вовсю, ни на минуту не позволяя себе отлынивать. Тянул и тянул, пока смерть его не скосила. Нам было не до сентиментальности. Никто не подумал о том, чтобы воздать Косматому заслуженные почести. Оставшиеся от него кожа и кости были разрублены и поделены между его товарищами.
16 марта мы прошли 28 километров. Температура (-34°). Енса, одного из моих великолепных «трех мушкетеров», пришлось весь день везти на санях Вистинга. У него не было сил идти дальше. Собирались вечером скормить Тура его товарищам, но подумали о его нарыве и воздержались. Положили пса в свободный ящик и закопали в снег. А ночью нас разбудил дикий шум. Собаки затеяли яростную драку, и по их вою можно было легко понять, что дерутся они из-за еды. Вистинг, который всегда раньше других выбирался из спального мешка, живо очутился на поле битвы. Оказалось, что собаки откопали Тура и устроили пир. Их никак нельзя было обвинить в привередливости. Вистинг снова закопал дохлого пса, можно было спокойно спать дальше.
Семнадцатого выдался трескучий мороз (-41°), дул леденящий зюйд-ост. В это утро остался на стоянке Лассесен из моей упряжки, который трусил следом за санями. Мы хватились его только днем. В тот же день пал Расмус, один из «трех мушкетеров». Как и Косматый, он тянул, пока не свалился. Енс совсем обессилел и не мог есть; Вистинг продолжал везти его на своих санях. Вечером мы дошли до склада на 80° южной широты и выдали собакам двойные порции. За день было пройдено 35 километров. За время нашего отсутствия местность заметно изменилась. Куда ни погляди, всюду высокие сугробы. На одном из ящиков склада Бьоланд написал нам несколько приветственных слов. Нашли мы и знак, о котором уславливались с Хасселем, – поверх ящиков лежала глыба снега; значит, наши товарищи прошли здесь и все впорядке.
Мороз не унимался. На следующий день (-41°). Нам пришлось прикончить последних из «трех мушкетеров» – Улу и Енса, чтобы не продлевать их мучений. Больше мы с ними не встретимся на этих страницах. Три неразлучных друга, все трое почти совсем черные. На островке под Кристианией, где мы несколько недель держали наших собак, прежде чем забрали их на судно, Расмус сбежал, и нам никак не удавалось его поймать. А когда за ним не гонялись, он приходил сам и ложился около своих двух друзей. Его изловили лишь за несколько дней до погрузки собак на судно. Он успел совсем одичать. Всю тройку привязали на мостике, где разместилась моя будущая упряжка, с той поры и началось наше знакомство. Первый месяц они не очень-то подпускали к себе. Вооружившись длинной палкой, я почесывал им спину, чем мало-помалу и расположил их к себе, так что мы стали хорошими друзьями. На «Фраме» эти три разбойника были грозой всех собак, где ни появятся, непременно затеют потасовку. Они обожали драться. И они же были самыми резвыми из наших собак. Когда мы устраивали гонки на порожних санях около Фрамхейма, эта троица всех обгоняла. С ними в упряжке я всегда мог быть уверен в победе.
На брошенного нами в это утро Лассесена я совсем уже махнул рукой. Не без сожаления, ведь это был самый сильный и работящий из моих псов. И как же я обрадовался, когда он вдруг снова объявился, вполне бодрый и крепкий. Мы решили, что он все-таки откопал Тура и сожрал его. Что еще, кроме еды, могло его оживить! От 80° южной широты и до самого Фрамхейма он отлично работал в упряжке Вистинга.
В этот день произошел примечательный случай, который явился для нас полезным уроком на будущее. Компас на санях Ханссена, считавшийся у нас образцом точности, вдруг закапризничал. Во всяком случае его показания не совпадали с солнечным пеленгом, который нам, к счастью, удалось взять в этот день. Мы изменили курс с учетом пеленга. А вечером, перенося вещи в палатку, обнаружили, что рядом с компасом лежал мешочек, в котором мы держали ножницы, гвозди, иголки и тому подобное. Неудивительно, что компас взбунтовался.
19 марта – юго-восточный ветер, температура -43°. «Довольно свежо» – записано в моем дневнике. Утром, вскоре после старта, Ханссен обнаружил наш старый след. Замечательное зрение у этого человека. Он всегда видел все раньше других. У Бьоланда тоже было острое зрение, но с Ханссеном не сравнить. До дома оставалось не так много, и мы уже предвкушали финиш. Однако на другой день сильный юго-восточный ветер заставил нас остановиться. Температура была -34°.
Как всегда при зюйд-осте, на следующий день температура воздуха поднялась. Утром 21 марта было -9°. Перемена заметная и не неприятная! Мы уже были сыты по горло 40-градусными морозами. Странная погода выдалась в ту ночь. То сильные шквалы с востока, юго-востока, то полный штиль. Как будто ветер налетал с какого-то нагорья. Продолжая движение на север, днем мы прошли флаг номер 6; это означало, что до Фрамхейма осталось 85 километров. Вечером разбили лагерь в 60 километрах от базы. Учитывая усталость собак, мы рассчитывали пройти этот путь за два дня. Но вышло иначе. Утром мы потеряли свой старый след, прошли слишком далеко к востоку и набрали высоту у ранее упоминавшейся возвышенности. Вдруг Ханссен крикнул, что видит впереди что-то непонятное, что именно, не разобрать. Оставалось обратиться за советом к тому, кто видел еще лучше, чем Ханссен, то есть к моему биноклю. Итак, достаю старый бинокль, верой и правдой служивший мне много лет. В самом деле, что-то странное. Там, внизу, явно Китовая бухта, но что это за черные пятна движутся вверх-вниз?
– Ребята на тюленя охотятся, – предположил кто-то.
Все согласились. Ну, конечно, отчетливо видно, ошибиться нельзя.
– Вон сани видно… еще одни!.. Еще…
Мы чуть не прослезились, видя такое рвение.
– А теперь пропали! Нет, опять видно. Непонятно – то покажутся, то пропадут!
В конце концов мы разобрали, что это Фрамхейм со всеми его палатками маячит во мгле. Ребята, скорее всего, сейчас спали после обеда. Слезы умиления на наших глазах сразу высохли. Можно было спокойно и трезво оценить ситуацию. Так, вон Фрамхейм, вон там мыс Мэнхью, а вот это Западный мыс. Значит, мы забрались слишком далеко на восток.
– Даешь Фрамхейм в половине восьмого вечера! – послышался чей-то призыв.
– Превосходная мысль! – отозвался другой, и мы рванули с места, курсом на середину бухты.
Очевидно, мы поднялись довольно высоко, потому что вниз понеслись со свистом. Направляющий не выдержал такой скорости и на ходу вскочил на чьи-то сани. Ханссен возился со своим кнутом, когда начался спуск, и я успел только увидеть, как мелькнули в воздухе его подметки. Лежа на его санях, я корчился от смеха, уж очень потешно все вышло. Наконец, он поднялся и успел плюхнуться на последние сани, когда они проносились мимо него. Под горой мы все свалились в кучу, люди, собаки и сани вперемешку.
Заключительный этап дался нам не так легко. Мы снова нашли потерянный утром след. Торчащие из снега рыбьи головы вели нас к цели. В 7 часов вечера – на полчаса раньше намеченного – мы добрались до Фрамхейма. 60 километров за день – не так уж плохо для измотанных собак. Из моей упряжки уцелел один Лассесен. Оден, которого я отослал домой с 81 ° южной широты, издох по возвращении. Всего в этом походе мы потеряли восемь собак. Столько же погибло у Стюбберюда сразу после того, как он вернулся с 81-й параллели. Вероятно, мороз – главный виновник. Уверен, что, не будь так холодно, все собаки остались бы живы.
Трое наших товарищей, которые пошли обратно с 81 ° южной широты, благополучно добрались домой. Правда, в последний день у них кончились спички и продукты, но на худой конец у них оставались собаки. После возвращения они успели застрелить, перевезти, разделать и заложить на хранение полсотни тюленей – отлично поработано.
Линдстрём в наше отсутствие трудился без устали, навел кругом идеальный порядок. В крытом ходе вокруг дома он вырезал в снегу полки и поместил туда запас тюленины. На одних этих полках было достаточно бифштексов для всех нас на то время, что мы собирались пробыть здесь. На полках, прибитых к наружным стенам дома (они же образовали вторую стенку хода), он сложил различные консервы. Тут царил такой порядок, что можно было отыскать нужный вам предмет с завязанными глазами. Вот лежит солонина, сало, вот рыбные котлеты. Вон поблескивает банка с карамельным пудингом – значит, и другие банки где-нибудь поблизости. Так и есть, вот они выстроились в ряд, словно солдаты.
Эх, Линдстрём, долго ли продержится этот порядок? Разумеется, этот вопрос я задавал только мысленно. Перелистываю свой дневник. В четверг, 27 июля, записано: «В продовольственном коридоре теперь полный хаос. Как не вспомнить те дни, когда можно было без фонаря и без лампы найти все что угодно! Протяни руку за пудингом, и непременно в руке оказывался пудинг. И так в любом уголке хозяйства Линдстрёма. А теперь – боже мой! Совестно рассказать, что случилось со мной вчера. Я отправился туда, не подозревая, что там теперь творится; фонаря, понятно, не взял. Зачем фонарь, когда все стоит на своем месте? Протянул руку, схватил что-то. По моим расчетам, это должны были быть свечи. Какое там. Моя рука держала все что угодно, только не свечи. Что-то шерстяное. Я отложил таинственный предмет в сторону и прибег к старому, испытанному средству – зажег спичку. Знаете, что это было? Грязные кальсоны! А хотите знать, где я их нашел? Между маслом и конфетами. Славный винегрет. Но Линдстрём тут ни при чем. Ребята с утра до вечера носились взад и вперед по этому ходу, по большей части в темноте. И если им случалось при этом что-нибудь уронить, сомневаюсь, чтобы они останавливались и клали упавший предмет на место».
Линдстрём побелил потолок в комнате. И до чего же уютной она нам показалась, когда вечером явились домой. Этот хитрец издали заметил нас на барьере. И теперь стол ломился от всяких вкусных вещей. Нас-то больше всего манил запах бифштекса и кофе, и уж мы навалились в тот вечер и на то и на другое. Дома! Славно звучит это слово, где бы ваш дом ни находился, – в море, на земле или же на барьере. Это был не вечер, а сплошное блаженство.
Первым делом мы занялись сушкой меховой одежды. Она изрядно намокла, и с ней пришлось повозиться. Каждую вещь надо было растягивать на веревках под потолком; понятно, сразу всего не развесишь.
Собираясь устроить еще один склад, мы начали готовиться к последнему до зимы походу с учетом приобретенного опыта. Мы хотели забросить на 80-ю параллель 1200 килограммов свежей тюленины. Ведь это будет очень важно для глазного перехода, если мы сможем накормить собак до отвала свежим мясом на 80° южной широты. Все это понимали и спешили управиться с задачей. Снова занялись снаряжением. Последний поход подсказал нам немало нового. Так, Престрюд и Юхансен пришли к выводу что один двойной спальный мешок лучше двух одинарных. Не стану вдаваться в подробности дискуссии, которая, естественно, возникла по этому поводу. У двойного мешка свои преимущества, у одинарного свои. Так сказать, дело вкуса. Впрочем, только эти двое и поменяли одинарные на двойной. Ханссен и Вистинг занялись конструкцией новой палатки и довольно быстро с этим управились. Палатки стараются делать возможно более похожими на иглу – снежную хижину. Они не совсем круглые, скорее чуть продолговатые, без плоских граней, ветру, так сказать, не за что ухватиться. Подправили мы и личное снаряжение.
Китовая бухта – внутренняя ее часть, от Мэкхью до Западного мыса – теперь замерзла, но дальше темнел океанский простор. Наш дом совсем занесло снегом. Главная заслуга в этом принадлежала Линдстрёму и его лопате; пурга ему тут мало помогала. Под снегом дом теплее и уютнее.
Наши собаки, все 107, стали похожи на откормленных свиней. Даже те, что отощали в последнем походе, начали приходить в норму. Просто удивительно, как быстро отъедаются эти животные.
Чрезвычайно интересно было наблюдать, как восприняли наши собаки возвращение домой. Когда мы въехали в лагерь, они не проявили никаких признаков удивления, как будто и не покидали его. Правда, они пожаднее обычного бросались на еду, а в остальном вели себя, как всегда. Забавно было наблюдать встречу Лассесена с Фиксом. Они ведь были неразлучные друзья. Первый исполнял роль вожака, второй слепо ему повиновался. Я не брал Фикса в наш последний поход, мне показалось, что он не совсем в форме. И этот обжора успел основательно отъесться. Я смотрел на них: что теперь будет? Может быть, Фикс воспользуется случаем взять верх над другом? Собак было много, и они не сразу наткнулись один на другого. Это была трогательная сцена. Фикс бросился к Лассесену, начал его облизывать и всячески выражать свою радость и преданность. Что до Лассесена, то он явно важничал, как и подобает вожаку. Не долго думая, опрокинул своего дородного приятеля на снег и встал над ним, как бы напоминая, что продолжает оставаться неоспоримым и абсолютным властелином. Бедный Фиксушка выглядел таким обескураженным, когда поднялся на ноги. Впрочем, это длилось недолго, он живо отыгрался на другой собаке, в победе над которой был уверен.
Чтобы дать вам представление о том, как протекала наша жизнь в эти дни, процитирую описание одного из них по дневнику: «25 марта, суббота. Отличная, мягкая погода, целый день -14°. Слабый юго-восточный ветер. Наши зверобои, ребята, которые вернулись с 81° южной широты, добыли сегодня в первой половине дня трех тюленей. Итого со дня их возвращения, 11 марта, ими добыто 63 тюленя. Теперь у нас вполне достаточно свежего мяса и для себя и для всех собак. С каждым днем нам все больше и больше нравится тюлений бифштекс. Мы готовы есть его три раза в день, но на всякий случай несколько разнообразим меню. К завтраку, в 8 утра, подаются оладьи с вареньем – блюдо, которое Линдстрёму отлично удается. Они нисколько не уступают оладьям, которые подаются в лучших американских домах. Кроме того, получаем масло, хлеб, сыр и кофе. На обед по большей части – тюленина (правда, зимой мы все чаще обращались и к консервам) и десерт: калифорнийские консервированные фрукты, сладкий пирог, консервированный пудинг. На ужин – тюлений бифштекс с брусничным вареньем, сыр, масло, хлеб и кофе. В субботние вечера еще грог и сигара.
Должен откровенно сказать, что мне никогда еще не жилось так хорошо. Остальные тоже довольны, у меня твердое впечатление, что мы добьемся успеха.
Выйдешь вечером из дома, смотришь на льющийся из окна занесенного снегом жилья мирный теплый свет, и как-то странно думать о том, что наш уютный дом стоит на грозном, устрашающем барьере.
Возле дома резвятся наши щенки, круглые, как рождественские поросята. Ночью они ложатся клубочками у дверей, не ищут крова. Уж они-то вырастут закаленными. Есть среди них такие толстяки, что на ходу переваливаются с боку на бок, как гуси».
Вечером 28 марта мы в первый раз наблюдали полярное сияние. С юго-запада на северо-восток через зенит протянулись лучи и ленты бледно-зеленого и красного цвета.
А сколько здесь великолепных солнечных закатов. Какие изумительные краски. И весь ландшафт подчеркивает их прелесть. Волшебная бело-синяя страна.
Старт последней экспедиции для устройства склада был назначен на 31 марта. За несколько дней до нашего выхода охотники отправились на лед и застрелили нам в дорогу шесть увесистых тюленей. Чтобы груз был полегче, их выпотрошили и срезали с них ласты, после чего вес шести туш составил примерно 1100 килограммов. В назначенный день в 10 утра вышел в путь отряд в составе семи человек на шести нартах, с 36 собаками. Я не принимал участия в этом походе. Погода на старте выдалась чудесная – полное безветрие, ослепительно ясное небо.
Выйдя в 7 утра из хижины, я увидел такую прекрасную картину, что не забуду ее до конца жизни. Участок вокруг базы лежал в глубокой тени, которую отбрасывала гряда на востоке, но дальше к северу тень кончалась, и барьер купался в золотисто-розовых лучах утреннего солнца. Вдали переливались багрянцем и золотом могучие зубчатые торосы, ограничивающие барьер с севера. Все дышало несказанным миром и покоем, А над Фрамхеймом курился в воздухе дымок, оповещая о том, что тысячелетние чары уже развеяны.
И вот тяжело нагруженный караван двинулся на юг. Я смотрел, как он медленно переваливает через гребень у «Стартовой линии». После напряженной работы и гонки, когда мы готовили эту экспедицию, для нас двоих, оставшихся дома, наступила более спокойная пора. Это вовсе не означает, что мы сидели сложа руки. Нет, мы не теряли время даром. Прежде всего нужно было наладить работу метеостанции. С 1 апреля все инструменты уже были в строю. На кухне у нас висели два ртутных барометра, четыре анероида, термограф и термометр. Для них отвели укромный уголок подальше от плиты. Инструменты для наружного наблюдения еще не были никак укрыты, но помощник начальника живо принялся за дело и проявил такую оперативность, что к возвращению отряда с юга на снегу уже стояла, сверкая белой краской, превосходная метеобудка. Наш искусный механик Сюндбек смастерил великолепный флюгер, не флюгер – шедевр, никакая фабрика не сделала бы лучше. В метеобудке мы установили термограф, гигрометр и термометры.
Наблюдения производились в 8 утра, в 2 часа дня и в 8 вечера. Когда я находился на базе, этим делом занимался я, а без меня – Линдстрём.
В ночь на 11 апреля на кухне что-то обрушилось; по словам Линдстрёма – верный знак того, что сегодня надо ждать возвращения наших. А в полдень мы и впрямь увидели их у «Стартовой линии». Они лихо спускались вниз в облаке снежной пыли. Через час путники уже подъехали к дому. У них было о чем порассказать. Прежде всего, они доложили, что груз благополучно доставлен на 80° южной широты. Затем поразили меня сообщением, что в 75 километрах от станции наткнулись на район сплошных трещин, где и потеряли двух собак. Странное дело. Ведь мы 4 раза проходили по этому месту и ничего похожего не видели. И вот теперь, когда мы было решили, что на снег можно положиться, как на каменную гору, он грозит нам все сорвать. Оказалось, что при плохой видимости ребята зашли слишком далеко на запад. Вместо того чтобы следовать по склону, как это мы делали до сих пор, они спустились в долину и попали в такой переплет, что дело чуть не кончилось катастрофой. Рельеф там очень похож на тот, который мы наблюдали южнее 81 ° южной широты, с множеством невысоких бугорков. И что самое опасное, снег выглядел вполне надежным. А когда они вступили на этот участок, снеговой покров за ними стал проваливаться, и открылись бездонные трещины, вполне способные поглотить и людей, и собак, и сани.
Они взяли курс на восток и еле выбрались из этого ада. Теперь мы были предупреждены и решили, что уж постараемся не запороться туда снова. Тем не менее нам пришлось-таки еще раз иметь дело с этой «чертовой дырой», как мы ее прозвали.
Отряд потерял еще одну собаку. Она поранила ногу и не могла работать в упряжке. Ее отпрягли в нескольких километрах от склада в расчете на то, что она пойдет за караваном сзади. Но собака рассуждала явно иначе. Больше они ее не видели. Высказывалось предположение, что она могла вернуться к складу и теперь живет там припеваючи среди привезенных туда с таким трудом тюленьих туш. Должен признаться, что такая мысль не особенно мне понравилась. Этак большей части мяса уже не будет, когда оно нам понадобится… Потом мы убедились, что беспокоились напрасно. Этот пес – его звали Кук – пропал без вести. (У нас, разумеется, был и Пири.)
Усовершенствования, которые мы внесли в снаряжение, полностью себя оправдали. Ребята превозносили до небес новую палатку. Престрюд и Юхансен были в восторге от двойного спального мешка. По-моему, остальные были не менее довольны своими одинарными мешками.
Итак, столь важная осенняя работа завершена. Заложен прочный фундамент. Осталось сделать последнее дружное усилие.
Позвольте вкратце подытожить, что было выполнено нами с 14 января по 11 апреля.
Построена и оборудована база на 9 человек, способная прослужить не один год.
Заготовлено на полгода свежее мясо для 9 человек и 115 собак. Вес убитых тюленей достигал примерно 60 тонн.
И наконец, заброшено 3 тонны провианта на склады на 80, 81 и 82° южной широты. На 80-й параллели: тюленье мясо, собачий пеммикан, галеты, масло, сухое молоко, шоколад, спички и керосин, а также разное снаряжение. Общий вес заброшенных сюда грузов – 1900 килограммов. На 81-й параллели оставлено полтонны собачьего пеммикана. На 82-й – пеммикан для людей, собачий пеммикан, галеты, сухое молоко, шоколад, керосин и разное снаряжение. Общий вес – 620 килограммов.
Зима! Кажется, большинство людей видят в зиме только бураны, мороз и всякие неприятности. Встречают ее с унынием в душе, покоряясь неизбежности. Дескать, сам бог так установил. Конечно, можно сходить на бал раз-другой, но все равно – темнота, холод, брр… То ли дело лето!
Не берусь сказать, что думали мои товарищи о надвигающейся зиме. Что до меня, то я ждал ее с радостным чувством. Стою на снегу, гляжу на свет, струящийся из кухонного окна, и на душе так хорошо, так уютно. Чем яростнее будет буран, чем чернее ночь, тем сильнее будет это чувство благополучия в нашем чудесном домике.
Могут спросить: «А вы не боялись, что барьер обломится и вас унесет в океан?»
Отвечу на этот вопрос честно и откровенно. В то время все мы, за исключением одного человека, считали, что участок барьера, на котором стоял наш дом, покоится на твердой земле.[77] Так что морского путешествия нам опасаться не приходилось. Кроме того, я готов поручиться, что даже тот единственный из нас, кто считал нашу льдину плавучей, не боялся. Кстати, он, по-моему, в конце концов присоединился к мнению остальных.
Полководец, который хочет выиграть битву, должен быть во всеоружии. Если противник сделает ход, умей ответить ему. Все должно быть продумано заранее, чтобы никакая неожиданность не застигла вас врасплох. Это полностью относилось к нам. Мы должны были заранее предусмотреть, что нам готовит будущее, и действовать соответственно.
Когда солнце покинет нас и наступит темная пора, будет слишком поздно.
Больше всего нас занимали и заставляли сообща ломать голову женщины. Даже здесь, на барьере, они не давали нам покоя. Дело в том, что все наши дамы – 11 штук – дружно оказались в положении, которое принято называть интересным, но которое мы, в наших условиях, отнюдь таким не считали. Ей богу, у нас и без того хватало забот. Что делать? Созываем большой совет. Открывать 11 «родильных домов» представлялось нам слишком затруднительным. Между тем мы уже знали по опыту, что нашим дамам потребуется наилучший уход. Собери в одном помещении несколько мамаш, и будет страшная катавасия, а кончится все тем, что роженицы сожрут детей друг у друга. Ведь что случилось на днях? Кайса, большая черно-белая сука, воспользовалась минутой, когда их оставили без надзора, и сожрала трехмесячного щенка. Когда мы подоспели, у нее из пасти только кончик хвоста торчал. Вмешиваться было поздно.
К счастью, одна из собачьих палаток освободилась, так как упряжку Престрюда распределили по другим палаткам. Работая направляющим, он не нуждался в собаках. В освободившуюся палатку можно было при некотором старании поместить двух сук – достаточно поставить перегородку.
Еще во время строительства базы мы подумали об этой стороне бытия и учредили «родильный дом» в 16-местной палатке. Но оказалось, что этого далеко не достаточно. Тогда мы обратились к материалу, которого в этой части света сколько угодно, – к снегу. И сложили отличную, просторную снежную хижину. Кроме того, Линдстрём в свободное время возвел небольшую постройку, пока мы забрасывали провиант на второй склад. Когда мы вернулись, никто из нас не спросил, для чего эта постройка. Если ты полярник, это еще не значит, что ты нетактичный человек. И теперь мы рассчитывали на доброе сердце Линдстрёма, если уж очень припрет.
С таким запасом помещений мы считали, что можно смело встречать зиму. Всех хитрее оказалась Камилла. Она знала, что значит воспитывать детей, когда наступит полярная ночь. И правда, сомнительное удовольствие. А потому она поспешила ощениться, как только была оборудована первая «родильная палата». Теперь она могла спокойно глядеть в будущее «при последних лучах заходящего солнца». Когда кончится полярный день, молодняк уже будет вполне самостоятельным. Впрочем, у Камиллы был свой взгляд на воспитание потомства. Не знаю уж, чем ей не понравилась «родильная палата»; во всяком случае ей там никак не сиделось. Нередко можно было видеть, как Камилла в 30-градусный мороз и крепкий ветер куда-то тащила в зубах щенка. Опять новое место ищет… Тем временем остальные трое щенят скулят и визжат в ожидании мамаши. По нашему разумению, места, которые она выбирала, были отнюдь не комфортабельными. Скажем, какой-нибудь ящик, стоящий на боку на самом ветру. Или уголок за штабелем досок, где продувало, как в фабричной трубе. Но что же делать, коли ей так нравилось… Не потревожишь ее – несколько дней так и живет со всем семейством, пока в ней опять не проснется охота к перемене мест. В «родильную» она добром не возвращалась. Смотришь, Юхансен, на чьем попечении находилось семейство, тащит мамашу и столько щенят, сколько успел захватить, к «родильной палате» и сажает их туда, приговаривая что-то назидательное.
В это же время кое-что изменилось в содержании собак. До сих пор нам приходилось держать их на привязи, учитывая их страсть к охоте на тюленей. А то ведь они просто безобразничали, особенно некоторые из них. Взять, например, одну из собак Вистинга, по кличке Майор – прирожденный охотник, и тут с ним не было никакого сладу. Или Черный из упряжки Хасселя. Правда, он охотился один, тогда как Майор непременно увлекал за собой целую свору. И возвращаются потом – вся морда в крови. Чтобы положить конец этому неприглядному спорту, мы стали их привязывать. Но теперь, когда тюлени ушли, можно было спустить собак с привязи.
Разумеется, прежде всего они воспользовались свободой для того, чтобы свести счеты. Некоторые из них успели, невесть почему, основательно невзлюбить друг друга, и когда представился случай выяснить, кто сильнее, они тотчас приступили к делу.
Но постепенно отношения наладились и массовые потасовки стали редкостью. Были, конечно, псы, которые не могли видеть друг друга без того, чтобы не сцепиться, – например Лассесен и Ханс. Но мы это уже знали и присматривали за ними.
Собаки быстро привыкли к своим палаткам и своему месту в палатке. Мы спускали их с привязи утром, как только вставали, и снова привязывали вечером перед кормежкой. Они хорошо усвоили этот распорядок, и у нас не было с ними особых хлопот. Собаки сами собирались, когда мы приходили вечером, чтобы посадить их на привязь. Каждый пес точно знал своего хозяина и свою палатку, поэтому, как только наступало время и собаки видели своих опекунов, они тотчас понимали, что надо делать, – визжа и радостно тявкая, они окружали хозяина и весело направлялись к палаткам.
Один день собаки получали тюленье мясо и сало, другой – сушеную рыбу. Как правило, и то и другое ели без капризов, но все же мясо им нравилось больше. Почти всю зиму у нас лежали на снегу тюленьи туши. Понятно, они были предметом усиленного интереса. Эта площадка стала чем-то вроде Фрамхеймского базара. И не всегда здесь бывало мирно. Клиентов много, спрос велик, отсюда и оживление, частенько царившее на базаре. Основной запас тюленины хранился в «мясной палатке». В ней лежало штабелями около 100 разделанных туш.
Как я уже рассказывал, мы окружили эту палатку двухметровой стеной от собак. Хотя они ели вдоволь и знали, что склад – запретное место (а может бьть, именно поэтому), – они всегда поглядывали на палатку жадными глазами. Многочисленные следы когтей на стене ясно говорили, что там происходит, когда никто не глядит в ту сторону. Особенно сильно склад притягивал суку по кличке Снюппесен. Эта ловкая и шустрая собака могла рассчитывать на успех. Она никогда не ходила одна на промысел, обязательно увлекала за собой своих кавалеров Фикса и Лассе. Но они уступали ей в умении прыгать и довольствовались ролью зрителей. Пока Снюппесен прыгала через стенку, – правда, ей это удалось только дважды, – кавалеры бегали кругом и подвывали. Заслышав их голоса, мы сразу понимали, что происходит, и кто-нибудь шел туда с палкой. Чтобы поймать Снюппесен на месте преступления, требовалась хитрость. Завидев человека, кавалеры переставали выть, и она смекала, что надвигается опасность. Видно, как то тут, то там выглядывает ее рыжая лисья морда. Естественно, собака не мечтала о встрече с палкой. Обычно нам все же удавалось изловить и наказать ее. Заодно немного доставалось и Фиксу с Лассе. Пусть они не сделали ничего дурного, но ведь могут и сделать. Зная, что им грозит, они на почтительном расстоянии наблюдали, как наказывают Снюппесен.

Палатка для хранения запасов мяса
Палатка, где хранилась сушеная рыба, всегда была открыта. На рыбу никто не покушался.
Солнце совершало свой дневной путь все ниже и ниже над горизонтом. Вернувшись после устройства последнего склада, мы его видели совсем мало. 11 апреля оно показалось и сейчас же исчезло. Наступила Пасха – здесь, как и в других уголках земного шара, – ее полагалось отпраздновать.
Праздник выразился в том, что обед был поплотнее обычного, только и всего. Мы не принаряжались и ничего не затевали. В такие праздничные дни по вечерам у нас играл граммофон, каждый получал по стаканчику грога и по сигаре. Впрочем, граммофон мы берегли, зная, что он нам скоро надоест, если заводить его слишком часто. Зато в тех редких случаях, когда мы им пользовались, он доставлял нам большое удовольствие.
Все облегченно вздохнули, когда прошла Пасха. Уж очень устаешь от этих праздников. Они надоедают даже там, где развлечений больше, чем на барьере, а здесь и подавно кажутся слишком долгими. Наш быт был теперь вполне налажен, работа предстояла легкая и приятная. Главной задачей на зиму была подготовка снаряжения для похода на юг.
Нашей целью было достичь полюса. Все остальное играло подчиненную роль.
Полным ходом шли метеорологические наблюдения. Мы проводили их в 8 утра, 2 часа дня и 8 вечера. Нас было так мало, что я не мог никого выделять для ночного дежурства. Да и что за жизнь это была бы, если бы в такой маленькой комнате все время шла работа, не давая людям покоя.
Я считал особенно важным, чтобы каждому было хорошо и уютно, тогда все будут здоровы и весной с жаром возьмутся за выполнение конечной задачи.
Мы вовсе не собирались проводить зиму в праздности, напротив. Работа необходима для хорошего настроения. Поэтому я требовал, чтобы в отведенные для работы часы все были чем-нибудь заняты. Кончится трудовой день – делай, что хочешь. Правда, надо было еще, насколько позволяли условия, следить за порядком в доме. Поэтому мы постановили, что каждый несет недельное дежурство. В обязанности дежурного входило подметать пол каждое утро, выбрасывать окурки из пепельниц и так далее.
Чтобы у нас, особенно там, где стояли кровати, было побольше чистого воздуха, условились не держать под койками ничего, кроме обуви, в которой ходишь. Для платья у каждого было по два крючка – вполне достаточно для повседневно употребляемой одежды. Все лишнее мы держали в мешках для платья, которые выносили наружу. Таким образом, нам удавалось поддерживать относительный порядок в доме. Во всяком случае, мы не сидели по уши в грязи. Хотя я сомневаюсь, чтобы строгая хозяйка не нашла бы, к чему придраться.
У всех были свои постоянные обязанности. Престрюд с помощью Юхансена занимался астрономическими и гравитационными наблюдениями. Хассель заведовал углем, дровами и керосином. Он отвечал за то, чтобы нам хватило топлива. Глава Фрамхеймской дровяной и угольной лавки, естественно, носил титул директора. Возможно, это и вскружило бы ему голову, если бы ему одновременно не приходилось выполнять обязанности рассыльного. Дело в том, что Хассель не только принимал заказы, он должен был лично доставлять товар. И он блестяще со всем справлялся. Ему даже удалось провести своего главного клиента, Линдстрёма, так что за зиму он сэкономил немало угля.
На долю Ханссена выпало содержать в порядке главный склад и приносить оттуда все, что требовалось. Вистинг отвечал за снаряжение, следил, чтобы ничего не брали без спроса. За порядком в тамбуре и около дома наблюдали Бьоланд и Стюбберюд. Линдстрёму достался самый тяжелый и неблагодарный в такой экспедиции участок – кухня. Пока еда хороша, никто ничего не скажет. Но стоит коку нечаянно испортить суп, и уж он наслушается. У Линдстрёма было одно великолепное качество. Недаром он называл себя обтекаемым. Я думал сперва, что он подразумевает свое телосложение, но потом понял: ему все как с гуся вода.
Девятнадцатого апреля мы видели солнце в последний раз, когда оно ушло за наш горизонт – гряду на севере. Оно было ярко-красное, окруженное огненным заревом. Это зарево погасло только 21 апреля.
С жильем у нас теперь был полный порядок, лучше не пожелаешь. Но тамбур, который мы задумали как рабочее помещение, вскоре оказался слишком тесным, темным и холодным. К тому же, через него постоянно ходили люди – какая уж тут работа. Другого помещения, кроме этого темного угла, у нас совсем не было, а дел предстояло много. Конечно, можно использовать нашу комнату, но мы весь день напролет толклись бы здесь и мешали бы друг другу. Да и не годилось превращать в мастерскую единственную комнату, где время от времени можно посидеть и отдохнуть. Я прекрасно знаю, что очень часто так и делают, но мне это всегда казалось неразумным.
Кто подскажет выход? И снова нас выручили обстоятельства. Дело в том, что мы – чего уж скрывать! – забыли взять с собой такой полезный и нужный в полярной экспедиции инструмент, как снеговую лопату. Хорошо оснащенной экспедиции, какой в известной мере являлась наша, следовало бы располагать по крайней мере 12 крепкими лопатами. У нас же не было ни одной, лишь два обломка, да что от них толку. К счастью, мы привезли большой и толстый лист железа, и Бьоланд смастерил целую дюжину отличных лопат. Стюбберюд сделал к ним ручки; работа кипела, как на заправской фабрике. Это оказалось, как мы увидим, очень важно для нашего благоустройства. Будь у нас с самого начала снеговые лопаты, мы, как принято у аккуратных людей, каждое утро разгребали бы снег перед домом. Но так как лопат не было, перед нашей дверью с каждым днем накапливалось все больше снега, и когда, наконец, Бьоланд смастерил лопаты, от двери на запад уже протянулся огромный сугроб.
Естественно, этот сугроб, который был разве чуть поменьше нашего дома, вызвал у нас далеко не радостное настроение, когда мы однажды утром вооружились новыми лопатами и пришли его разгребать. Мы стояли, не зная, с какого конца начинать, и вдруг одному из нас, кажется, Линдстрёму или Ханссену, а может быть, мне, – впрочем, какое это имеет значение! – пришла в голову блестящая идея не идти против природы, а сотрудничать с ней. Идея заключалась в том, чтобы превратить огромный сугробище в столярную мастерскую и соединить ее впрямую с домом. Эта мысль тотчас была всеми одобрена. И начались «подземные» работы, они потянули за собой целую цепочку аналогичных работ, и мы не успокоились, пока не вырыли целый подземный город.
Наверно, это был один из самых интересных проектов, когда-либо осуществленных на полярных базах. Начнем с того утра, когда мы впервые взялись за лопаты. Это было в четверг, 20 апреля. Пока трое углублялись в сугроб от дверей дома на запад, трое других соединяли его с домом. Для этого мы перекрыли просвет между сугробом и тамбуром щитами из досок – теми самыми, которыми застилали палубу «Фрама», оберегая собак. Между сугробом и тамбуром с северной стороны насыпали мощную стену почти под самую крышу из щитов. А с южной стороны просвет оставили свободным для выхода.
К этому времени нами овладела настоящая строительная лихорадка, и посыпались новые предложения, одно грандиознее другого. Условились вырыть ход во всю длину сугроба и закончить его большой снежной хижиной, где мы устроим баню. Что вы скажете об этом проекте? Баня на 79° южной широты. Ханссен, для которого строительство из снега – вторая профессия, приступил к работе. Он сделал небольшую прочную хижину, расширяющуюся книзу; высота от пола до потолка составила около 3,5 метров. Для бани в ней места вполне хватало.
Тем временем строители туннеля тоже не сидели сложа руки. Стук их кирок и лопат звучал все ближе и ближе. Ханссен не мог с этим смириться и, управившись с хижиной, пошел им навстречу. А уж когда Ханссен берется за работу, он долго не возится. Сверху было слышно, как два отряда сближаются. Волнение росло. Встретятся – или пройдут мимо друг друга? Мне невольно вспомнились Симплон, Гравехалсен и другие знаменитые туннели. Если рабочие сумели встретиться где-то в толще горы, то уж мы-то… Привет! Мои размышления были нарушены появлением ухмыляющейся физиономии в стене как раз там, куда я собирался всадить лопату.
Это был Вистинг, на его долю выпала честь произвести сбойку Фрамхеймского туннеля. Ему еще посчастливилось, что он не остался без носа. Еще секунда, и его орган обоняния лежал бы у меня на лопате.
Красив он был, этот длинный белый ход, заканчивающийся высоким сверкающим куполом. Продвигаясь вперед, мы в то же время зарывались вниз, чтобы не ослаблять потолка. Вниз можно было копать сколько угодно, барьер глубокий.
Завершив эту работу, принялись за столярную мастерскую. На сей раз пришлось копать гораздо глубже, так как сугроб тут немного закруглялся сбоку. Поэтому мы сперва врубились в правую стену туннеля, ближе к бане, чем к дому, потом пошли вниз. Помнится мне, мы углубились здесь в барьер почти на два метра. Помещение сделали большое, просторное, чтобы хватало места обоим столярам и можно было поставить наши сани. Для верстака сделали выемку в стене и настелили доски. В западной стенке был ход в каморку, где столяры хранили свой самый драгоценный инструмент. С туннелем мастерскую соединяла удобная лестница с досками поверх снежных ступенек.
Как только мастерская была готова, мастера заняли ее и основали столярную артель. Здесь были полностью переоборудованы сани перед походом к полюсу. Прямо напротив артели разместилась кузница, выкопанная на той же глубине. Ею пользовались реже. Рядом с кузницей, ближе к дому, вырыли глубокую яму, куда сливали помои из кухни.
Между артелью и тамбуром, как раз напротив выхода на барьер, построили небольшое помещение, которое вполне заслуживает самого подробного описания, но, за неимением места, мы от этого воздержимся. Пока шли все эти работы, выход на барьер оставался открытым, теперь же мы сделали дверь. Несколько слов о ее устройстве. Есть люди, которые явно не приучены закрывать за собой дверь. Из двух или трех человек один непременно заражен этим пороком. А нас было девять. Просить такого человека закрывать за собой дверь бесполезно. Все равно ничего не выйдет. Я еще недостаточно хорошо знал своих товарищей, чтобы судить, как у них обстоит дело на этот счет, но на всякий случай мы сделали самозакрывающуюся дверь. Эту задачу выполнил Стюбберюд. Он попросту поставил дверную раму наклонно, как у нас в Норвегии делают в погребах. Тут уже не оставишь дверь открытой, сама захлопнется. Я был рад ее появлению, теперь можно было не бояться вторжения собак. От двери вниз в туннель вели четыре снеговых ступеньки, покрытые досками. В итоге, мы не только обзавелись новыми помещениями, но и обеспечили неприкосновенность нашего жилья.
Строительство строительством, а наш специалист по точной механике тоже не сидел без дела. Испортился часовой механизм термографа, какая-то ось сломалась. Совсем некстати, если учесть, что этот термограф очень хорошо работал на морозе.
Второй термограф был явно изготовлен с расчетом на тропики, ибо на морозе он не желал работать. У нашего механика есть одно средство, которое он применяет чуть ли не ко всем инструментам без исключения. Положит их в духовку и прогревает. Это средство и на сей раз себя оправдало: оно помогло точно установить, что прибор никуда не годится. Не хочешь работать на морозе? Ладно. Механик очистил термограф от старого масла, которое облепило штифты и колесики, словно клей, и подвесил его на кухне под потолком. Может быть, тепло его оживит, заставив поверить, что он попал в тропики…
Так мы наладили запись температуры в «камбузе»; вероятно, со временем мы по этим данным сможем установить, что нам подавали на обед в течение недели. Будет ли профессор Мун доволен такими наблюдениями – другой вопрос, которого механик и директор не решались касаться.
Помимо этих приборов, у нас есть еще гигрограф, но у него заведено раз в сутки делать передышку. Уж Линдстрём и чистил, и смазывал его – все напрасно, в 3 часа утра он останавливается. Но Линдстрём не признавал безвыходных положений. Посовещавшись с товарищами, он принялся мастерить термограф из неисправного гигрографа и бастующего термографа. Задача как раз по его вкусу. При виде результата, который он мне предъявил несколько часов спустя, у меня волосы поднялись дыбом. Что сказал бы Стен? Знаете, что я увидел? В коробке термографа крутилась консервная банка. О, боже, какое надругательство над самопишущим метеорологическим прибором! Я опешил. И решил, что он разыгрывает меня. Внимательно смотрю на Линдстрёма, пытаясь по выражению его лица понять, в чем дело. То ли мне надо плакать, то ли смеяться. Он сохраняет полную серьезность. Если верить его лицу, мне, скорее, следует плакать. Но тут я снова заглядываю в термограф, вижу вращающуюся банку с надписью: «Лучшие котлеты фирмы Ставангер Пресервинг» – и не выдерживаю. Чувство юмора берет верх, и я покатываюсь со смеха. Наконец, вдоволь посмеявшись, слушаю объяснение. Барабан не подходил, тогда Линдстрём попробовал заменить его банкой, и все заработало. «Котлетный термограф» работал вполне исправно до -40°, но тут механизм отказал.
Мы организовали две рабочих бригады. Одна принялась откапывать четыре десятка тюленьих туш, на метр занесенных снегом. На это ушло два дня. Огромные туши затвердели, как кремень, – не так-то легко справиться. Эта работа чрезвычайно заинтересовала собак. Они принимали и тщательно исследовали каждого тюленя, извлеченного из ямы. Туши сложили в две кучи; собакам хватило с ними работы на всю зиму.
В это время другая бригада под начальством Хасселя строила подвал для керосина. Бочки, привезенные на базу в начале февраля, очутились под толстым слоем снега. Бригада Хасселя зарылась в снег с двух сторон и проложила туннель вдоль бочек. Туннель углубили так, чтобы бочки оказались выше его пола. Потом одно отверстие закупорили, а от другого провели вниз наклонный ход. Здесь очень кстати пришелся строительный опыт Стюбберюда. Это его руками был выложен прекрасный сводчатый ход в керосиновый склад. Войти туда было очень приятно. Вряд ли у кого-нибудь еще был такой замечательный склад горюче-смазочных материалов.
Но Хассель на этом не успокоился. Строительная лихорадка овладела им не на шутку. От его великого проекта – соединить ходом угольно-дровяной склад с домом – у меня даже дух перехватило. И ведь справились! От склада до дома было около 10 метров. Хассель и Стюбберюд разметили трассу так, чтобы этот туннель соединился с ходом вокруг дома в юго-восточном углу. Между домом и палаткой они прорыли в барьере огромную яму, затем пошли из нее в противоположные стороны и вскоре закончили работу.
Однако тут и Престрюда осенило. Он решил воспользоваться случаем, пока еще не закрыли яму, чтобы устроить себе обсерваторию для гравитационных наблюдений. Вышло очень здорово. Он врубился в снег в стенке хода, и между угольным складом и домом появилась маленькая удобная обсерватория. Расчистив ход, яму сверху замуровали. Теперь можно было под снегом пройти от кухни до самого угольного склада.
Сначала идешь по ходу вокруг дома. Тому самому, где так аккуратно были расставлены консервы. В юго-восточном углу от него ответвлялся другой ход, ведущий к угольной палатке. Посредине этого хода в правой стене находилась дверь гравитационной обсерватории. Идя дальше, оказываешься перед ступенями, уходящими вниз, потом упираешься в высокую, крутую лестницу, поднимаешься по ней и вдруг оказываешься в палатке, где хранился уголь. Честь и слава творцам этого замечательного туннеля. Их труд вполне себя окупил. Теперь Хассель мог принести уголь, не выходя наружу.
Но наши обширные подземные работы на этом не кончились. Мы нуждались в помещении, где Вистинг мог бы складывать все, что находилось в его ведении. Особенно он беспокоился за меховую одежду: мол, не худо бы убрать ее под крышу. И мы решили оборудовать такое просторное помещение, чтобы там хватило места и для всех этих вещей, и для Вистинга с Ханссеном, которым предстояло собирать сани после их переделки Бьоландом.
Вистинг выбрал огромный сугроб, образовавшийся вокруг палатки, где он хранил имущество, к северо-востоку от дома. Здесь и был устроен интендантский склад, как мы назвали новое сооружение, достаточно большое, чтобы поместить в нем и вещи, и мастерскую. Через ход в стене можно было попасть в каморку, где Вистинг поставил швейную машину и работал на ней всю зиму. Идя дальше на северо-восток, мы попадали в другое обширное помещение, так называемый хрустальный дворец. Здесь хранились все лыжи и ящики для саней. Здесь же упаковывали походный провиант. Поначалу эти склады располагались изолированно, и, чтобы попасть в них, нужно было выходить наружу. Позднее, когда Линдстрём выкопал целую пещеру в барьере, беря снег и лед для кухни, мы соединили ее с двумя вышеупомянутыми помещениями, так что и туда можно было попасть подземным ходом.
Появилась и астрономическая обсерватория. Она находилась рядом с хрустальным дворцом. Правда, вид у нее был какой-то хилый, и она вскоре приказала долго жить. Престрюд не унимался, изобретал все новые и новые патенты. Одно время он использовал в качестве цоколя под приборы пустую бочку, потом старую лохань. В этом смысле он приобрел немалый опыт.
В первых числах мая строительство было завершено. Оставалось сделать еще одно, последнее усилие, и все будет в порядке. Надо было переоборудовать продовольственный склад. Выяснилось, что мы допустили промах, разложив ящики небольшими партиями. Проходы между штабелями все время заносило снегом. Теперь мы сложили ящики в два длинных ряда на таком расстоянии друг от друга, что они не задерживали поземку. С этим мы управились в два дня.
Дни стали совсем короткими, пришла пора переходить к работе в помещении. На зиму обязанности были распределены так: Престрюд – научные исследования, Юхансен – упаковка всего походного провианта, Хассель обеспечивает Линдстрёма углем, дровами, керосином и делает кнуты. С этим делом он хорошо освоился еще во втором походе «Фрама». Стюбберюд доводит до минимума вес санных ящиков и выполняет всякую иную работу. Это делало круг его обязанностей несколько неопределенным. Я знал, что его энергии хватит на большее, чем ящики. Хотя, по чести говоря, ему досталась отнюдь не приятная работа.

План зимней квартиры экспедиции
Бьоланду поручили дело, которому все мы придаем величайшее значение: переделку саней. Мы знали, что тут можно очень много выиграть в весе, но сколько же именно? Ханссен и Вистинг собирают сани из готовых частей. Эта работа происходит в интендантском складе. Кроме того, обоим предстояло выполнить за зиму кучу других заданий.
Кое-кому полярная экспедиция представляется сплошным ничегонеделанием. Хотел бы я, чтобы кто-нибудь из них попал к нам на базу в ту зиму; ему пришлось бы изменить мне ние. Не буду утверждать, что у нас был очень длинный рабочий день, – условия этого не допускали. Но в положенные часы мы трудились напряженно.

Сборка и обвязка саней
Слева направо: Бьоланд, Престрюд, Вистинг
По опыту многих санных походов я знал, что термометр – очень хрупкая штука. Нередко бывает, что уже в начале похода разобьешь все градусники и нечем измерить температуру. И если вы при этом выработали у себя навык угадывать температуру, то можете более или менее точно определить среднюю месячную. Конечно, возможны отклонения по дням в одну и в другую сторону, но средние данные будут достаточно удовлетворительными.
И вот я объявил конкурс. Каждый, входя утром в комнату со двора, говорил, какая, по его мнению, сегодня температура. Цифру записывали, а в конце месяца подводили итог, и лучший отгадчик получал премию – несколько сигар. Мало того, что люди приучались определять температуру. Этот спорт был отличным утренним развлечением.
Когда живешь, как мы, – каждый день почти одно и то же, – случается иной раз встать утром с левой ноги. И ходит человек кислый, пока не выпьет кофейку. Должен сказать, что угрюмые лица утром у нас были редкостью. Но разве можно за всех поручиться. Самый обходительный человек способен на всякие неожиданные капризы, пока еще не оказал своего действия утренний кофе. Угадывание температуры было прекрасным профилактическим средством. Оно всех увлекало и служило громоотводом в критические моменты. Все предвкушали, что скажет очередной отгадчик.
Высказывать свою догадку раньше времени не полагалось, чтобы не повлиять на других. Участники входили по очереди и говорили свое мнение.
– Ну, Стюбберюд, сколько градусов сегодня? У Стюбберюда был свой, особый метод определения температуры воздуха. Как сейчас, например. Он внимательно изучает лица окружающих. И наконец, уверенно произносит:
– Сегодня не жарко.
Ничего не скажешь, верно угадал. Градусник показывал -56°. Интересно бывало подводить месячный итог. Насколько я помню, лучшим результатом месяца было восемь приблизительно верных ответов. Кое-кто ухитрялся много дней подряд удивительно точно угадывать температуру. А потом вдруг – промах, отклонение до 15°.
Если взять данные лучшего отгадчика, среднемесячная температура всего на какие-нибудь десятые градуса отличалась от истинной. А средний из всех этих средних результатов был настолько близок к истине, что разницей практически можно было пренебречь. Собственно, я потому и придумал всю эту затею. Есть выход на тот крайний случай, если мы останемся совсем без градусников.
По этому поводу добавлю, что в большой переход на юг мы взяли с собой четыре термометра. Температуру воздуха измеряли три раза в день. Все четыре градусника привезли домой в целости и сохранности. Отвечал за эти наблюдения Вистинг, и то, что он не разбил ни одного термометра, по-моему, можно назвать беспримерным достижением.
Чтобы лучше представить себе наши будни, заглянем на базу Фрамхейм. Раннее утро 23 июня. На барьере царит полная тишина, знакомая только тому, кто сам побывал в этих краях. Полная тишина в подлинном смысле слова.
Поднимаемся по старой колее от того места, где стоял в первый раз «Фрам». Идем и поминутно останавливаемся, спрашивая себя: возможно ли такое на самом деле? Никто еще не видел такой непостижимой красоты… Вот северный край барьера «Фрама», по соседству – Маукт-Нельсон и Маунт-Рённикен, а дальше, зубец за зубцом, пик за пиком, один выше другого громоздятся старые, седые торосы. И восхитительное освещение. Откуда этот удивительный свет?
Светло, как днем, а ведь сейчас самые короткие дни в году. Теней нет, значит, луна ни при чем. А, вот оно что: сегодня в небе играет на редкость яркое полярное сияние.
Словно природа захотела в честь гостей показаться в лучшем своем убранстве. В самом деле, он красив, ее наряд. Безветрие, сверкающие звезды. И ни звука. А впрочем… Что это? По небу, как огненный луч, пробегает сполох, и его полет сопровождается шелестом. Тс-с… Слышите? Вот опять скользит, теперь в виде ленты, отливающей красным и зеленым. Замирает, будто раздумывая, в какую сторону двинуться, и плывет дальше с неровным шелестящим звуком.
Да, в это чудесное утро природа преподнесла нам одну из своих самых таинственных загадок – говорящее полярное сияние.
– Вернетесь домой, можете рассказывать, что сами видели и слышали полярное сияние. Ведь теперь вы больше не сомневаетесь?
– Сомневаюсь? Как можно сомневаться в том, что лично видишь и слышишь?
– И все-таки вы заблуждаетесь, как и многие другие до вас. Шелестящего полярного сияния не существует и никогда не существовало, это плод вашего воображения, которое жаждет таинственного и которому помогает ваше дыхание, замерзающее в холодном воздухе.
Прощай, прекрасная мечта! Остался только великолепный ландшафт. Возможно, я зря вас просветил. Чарующая таинственность во многом развеялась, и ландшафт утратил свою былую привлекательность в глазах гостей.
Тем временем мы миновали «Нельсон» и «Рённикен» и подошли к первому гребню. Внизу под нами, неподалеку возвышается огромная палатка, а подле нее видно две длинные темные полосы. Это наш главный продовольственный склад.
Убедитесь, в нашем хозяйстве полный порядок. Ящик на ящике, как на образцовой стройплощадке. Все обращены в одну сторону, номерами к северу.
– Почему вы выбрали именно это направление? – звучит естественный вопрос. – Намеренно?
Да, разумеется. Посмотрите на восток, вы заметите, что там небо на горизонте чуть посветлело. Это все, что осталось от дня на здешних широтах. При таком свете трудно что-либо разглядеть, и, если бы не полярное сияние, мы бы не держали ящики номерами к северу. Но слабое зарево на горизонте будет разрастаться, становясь все ярче. В девять утра оно будет на северо-востоке и поднимется в небе на 10 минут. Настоящим светом это не назовешь, и все же при нем без труда можно разобрать номера. Более того, вы прочтете названия фирм, которые стоят на многих ящиках. А когда утренняя заря сместится к северу, надписи станут еще явственнее. Конечно, цифры и буквы крупные, около пяти сантиметров в высоту и ширину, но все же из этого следует, что даже в самое темное время года у нас бывает день. Абсолютного мрака, как думают некоторые, здесь нет.
Вон в той палатке хранится сушеная рыба. Ее у нас много. Собакам голодать не придется. А теперь надо поторопиться, если вы хотите увидеть, с чего начинается утро в Фрамхейме. Вот этот флаг, мимо которого мы проходим, – веха. У нас пять вех между лагерем и складом. Они помогают в темные дни, когда дует восточный ветер и метет снег.
А вот и Фрамхейм стоит на склоне. Отсюда видно только тень на снегу, хотя до него недалеко. Острые крыши, что торчат на фоне неба, – собачьи палатки. Самой хижины не различить. Она совсем занесена снегом и утоплена в барьере. Кажется, вам стало жарко от ходьбы? Пойдем помедленнее, чтобы вы не очень вспотели; потеть вредно. Сейчас всего каких-нибудь -40°, да еще безветрие, не мудрено и упариться, если быстро идти.
Сейчас мы с вами как бы на дне котловины. Если вы наклонитесь и посмотрите на горизонт, то при некотором усилии можно различить гребни и торосы.
Приближаемся к склону, где стоит наш дом. Мы намеренно поставили его в этом месте, считая, что он тут будет хорошо защищен. И не ошиблись. Если здесь и бывает ветер, то преимущественно восточный и не очень сильный. Пригорок надежно прикрывает от него. Построй мы наш дом на площадке около продовольственного склада, мимо которого только что прошли, нам, конечно, пришлось бы иметь дело с ветром всерьез.
Да, только вы поосторожней, когда подойдем к дому, чтобы вас собаки не услышали. У нас их теперь около 120 штук, и, если они поднимут лай, конец очарованию полярного утра!

Воскресная прогулка с собаками на барьер
Вот мы и пришли, и того света, который есть, достаточно, чтобы разглядеть окрестности. Что, вы не видите дома? Охотно верю. Труба, что торчит вон там из снега, – все, что осталось над барьером. Видите щит на снегу – это вовсе не случайно брошенный люк, а вход в наш дом. Спускаясь в глубь барьера, пригнитесь пониже. Здесь, в полярном краю, масштабы небольшие, особенно не размахнешься. Сперва четыре ступеньки вниз, осторожно, они довольно высокие. Хорошо, мы пришли вовремя, проследим все с самого начала. Лампа в коридоре не горит, значит, Линдстрём еще не встал. Держитесь за хвост моего анорака и шагайте за мной. Этот ход, в котором мы сейчас находимся, ведет в тамбур. Ой, простите, ради бога, умоляю вас. Вы ушиблись? Совсем забыл вас предупредить о пороге в дверях тамбура. Вы не первый шлепнулись, споткнувшись о него. Все мы проделывали этот номер. Теперь-то научены, больше не попадаемся.
Если вы подождете секунду, я зажгу спичку, и мы найдем вход. Вот это кухня. Теперь превратитесь в невидимку и сопровождайте меня весь день, и вы увидите, как протекает наша жизнь. Сегодня, как вам известно, канун Иванова дня, мы работаем только до обеда, зато вы увидите, как мы отмечаем вечером праздник. Обещайте мне, когда будете передавать домой свои репортажи, не сгущать красок. Ну, пока…
Др-р-р-р-р. Будильник. Я жду, жду… Дома я привык, что за звонком будильника следует шлепанье босых ног по полу, громкий зевок или еще что-нибудь в этом роде. А здесь – ни звука. Покидая меня, Амундсен забыл сказать, где мне лучше всего спрятаться. Я сунулся было следом за ним в комнату, но там такой воздух… И без объяснения сразу понятно, что здесь, в помещении 6 на 4 метра, спит девять человек.
По-прежнему тишина. Похоже, будильник у них существует лишь для самообмана, помогает им внушить себе, будто они встали.
Но, чу…
– Линтром, Линтром! Ну-ка, давай вставай! Ты что, будильника не слышал!
Это Вистинг – я узнаю его по голосу. Видать, он ранняя птица.
Страшный грохот – это Линдстрём осторожно слезает на пол. Если он долго раскачивался, зато оделся в два счета. И вот уже стоит в двери с лампой в руке. На часах около 6. Выглядит он хорошо. Такой же толстый и круглый, каким был в последний раз, когда я его видел. На нем плотная одежда темно-синего цвета. На голове – вязаный колпак. Зачем? Ведь в комнате отнюдь не холодно. Дома у нас, в деревне, зимой на кухне часто бывает холоднее. Значит, не в этом дело. А, ну конечно! Линдстрём лыс и стесняется своей «ахиллесовой пяты». С лысыми так бывает.
Первым делом он кладет дрова в печку. Она стоит под окном и занимает половину кухни, вся площадь которой 2 на 4 метра. Обращаю внимание на то, как он растапливает. У нас дома заведено сперва настрогать лучину, потом аккуратно положить дрова. Линдстрём сует их как попало, без всякого порядка. Ну, если они у него теперь разгорятся, то он ловкач! Пока я соображаю, как он справится с этой задачей,
Линдстрём решительно нагибается и не задумываясь, словно так и надо, плескает на дрова керосином. Да не каплю-другую, а льет столько, чтобы быть уверенным в успехе. Теперь спичку… Все понятно, хитро придумал. Но если бы Хассель это видел…
Кастрюля еще с вечера наполнена водой, остается лишь подвинуть ее, чтобы освободить место для кофейника. На таком огне кофе живо закипит. Пылает так, что в трубе гул стоит. Видно, этот молодец не знает нехватки в горючем.
Удивительно, что это Линдстрём так торопится сварить кофе. Насколько я понимаю, завтрак в 8, а сейчас всего четверть седьмого. Вон как прилежно мелет, даже щеки трясутся. Если качество соответствует количеству заварки, кофе должен получиться на славу.
– А, черт! – слышно утреннее приветствие Линдстрёма. – Этой кофейной мельнице место на помойке! Прямо хоть сам разгрызай зерна. И то было бы скорее.
Что верно, то верно. После четверти часа прилежной работы набирается только-только на одну заварку. А на часах уже половина седьмого. Так, заварил. Запах, запах-то какой! Где только Амундсен достает такой кофе? Тем временем кок набил свою трубку и знай дымит натощак. Непохоже, чтобы ему это вредило. Эй! Кофе убежал. Пока кофе закипал, а Линдстрём курил, я все пытался сообразить, куда он спешит? Балда, как я сразу не понял. Просто он хочет выпить горячего, свежего кофе, пока еще не поднялись остальные. Только ивсего.
Когда кофе вскипел, я сел поудобнее в уголке на складной стул и приготовился смотреть, как Линдстрём будет наслаждаться. Но он и тут поразил меня. Снял кофейник с огня, взял чашку с полки, чайник со стола и налил себе – вы не поверите! – холодного вчерашнего чая.
– Ну, и чудак! – подумал я про себя.
После этого его внимание привлекла эмалированная миска, которая стояла на полке над плитой. Хотя на кухне было жарко – термограф, висящий под потолком, показывал +29°, – для таинственного содержимого миски этого, очевидно, было мало. Она была так закутана в полотенца и одеяла, словно страдала сильной простудой. Время от времени Линдстрём бросал на миску испытующий взгляд. Посмотрит на часы и опять с задумчивым видом приподнимет одеяло.
Но вот лицо его просветлело, он издает протяжный и не очень мелодичный свист, нагибается, хватает мусорный совок и бежит в тамбур. Мой интерес достиг предела. Что теперь будет? Через минуту он возвращается с радостной улыбкой, неся полный совок угля.
Если прежде меня одолевало любопытство, то теперь к нему примешивается страх. Отодвигаюсь подальше от плиты, сажусь прямо на пол и гляжу на термограф. Так и есть, график полез вверх. Это уж слишком. Решаю, как только вернусь домой, посетить метеорологический институт и доложить там о том, что я тут видел.
Даже на полу, где я сижу, жара становится невыносимой. А каково ему… Господи, что это такое, он усаживается прямо на плиту! Не иначе, помешался. Я готов закричать от ужаса, но тут отворяется дверь и из комнаты выходит Амундсен.
Облегченно вздыхаю. Уж он-то наведет порядок. На часах – десять минут восьмого.
– Доброе утро, толстяк!
– Доброе утро!
– Что за погода сегодня?
– Когда я выходил, был восточный ветер, шел снег, но это было уже довольно давно.
Ну и ну! Линдстрём с невозмутимым видом толкует о погоде, хотя я могу поклясться чем угодно, что он с утра еще не выходил за дверь.
– Ну, а тут как дела? Удается? – Амундсен с интересом глядит на таинственную миску.
Линдстрём снова приподнимает одеяло.
– Да поднимается, но уж и пришлось мне поднажать сегодня.
– Оно и видно. – С этими словами Амундсен выходит наружу.
С одной стороны, меня занимает содержимое миски, с другой стороны, я предвкушаю возвращение Амундсена и продолжение метеорологической дискуссии.
А вот и он уже вернулся. Видно, температура воздуха на дворе не из приятных.
– Простите, дорогой друг, – Амундсен садится на складной стул рядом со мной, – как вы сказали, какая была погода с утра?
Я посмеиваюсь про себя. Это становится совсем весело.
– Я выходил в шесть, дул восточный ветер, валил густой снег.
– Гм! Что-то с тех пор удивительно быстро прояснилось, и ветер стих. Сейчас полное безветрие, ясно.
– Я так и думал. Ветер явно шел на убыль, и на востоке просвет появился.
Ловко выкрутился. А теперь опять взялся за миску. Переносит ее с полки над плитой на стол. Снимает один за другим покровы, в которые она закутана, и вот уже миска предстает во всей своей наготе. Я не могу удержаться, подхожу поближе. Что ж, в самом деле есть на что посмотреть! Миска полна до краев золотистым тестом, и по множеству пузырьков воздуха и прочим признакам сразу видно, что тесто удалось. Я начинаю проникаться почтением к Линдстрёму. Молодец, да и только! Лучшего теста и у нас дома ни один кондитер не приготовит.
На часах 7.25. Похоже, здесь все делается по часам. Линдстрём бросает последний взгляд на предмет своих забот, берет бутылочку со спиртом и идет в соседнюю комнату. Пользуюсь случаем проскользнуть туда следом за ним. Оставаться с Амундсеном, который дремлет, сидя на стуле, не очень-то интересно. В комнате полный мрак, а атмосфера… нет, тут все десять атмосфер!
Тихо стою у дверей, тяжело дыша. Линдстрём возится в темноте, ищет ощупью спички, наконец находит, чиркает и зажигает спирт в чашечке под висячей лампой. При свете горящего спирта ничего не видно, можно только гадать. Правда, кое-что слышно. До чего же ребята здоровы спать!
Тут кто-то сопит, там кто-то похрапывает. Проходит минута-другая, вдруг Линдстрём срывается с места. Одновременно воцаряется полная тьма – спирт догорел. Слышу, как падают, опрокинутые Линдстрёмом, бутылочка со спиртом и ближайший стул; что-то еще летит на пол – что именно, не знаю, так как я еще не знаком с обстановкой. Щелчок… ничего не понимаю… Теперь он возвращается к лампе. Разумеется, спотыкаясь о то, что перед этим сбросил на пол. Слышно какое-то сипение, в нос ударяет удушливый запах керосина.
Я уже был готов открыть дверь и удрать, но тут вдруг – наверно, так было в первый день мироздания, так же вдруг – появился свет. И какой свет, описать невозможно. До того белый и яркий, что даже глаза слепил. И вместе с тем очень приятный. Не иначе, это была одна из 200-свечевых ламп фирмы «Люкс». Мое восхищение Линдстрёмом перешло в восторг. Чего бы я ни дал за то, чтобы опять сделаться видимым, обнять его и выразить ему свои чувства. Нельзя. Тогда я не смогу наблюдать жизнь Фрамхейма такой, какая она на самом деле. И я продолжал стоять смирно.
Первым делом Линдстрём постарался навести порядок, поднять все, что он опрокинул, возясь с лампой. Спирт, естественно, разлился по всему столу. Но это Линдстрёма явно не смущало. Одно движение руки – и спирт со стола перекочевал на лежащую поблизости одежду Юхансена. Вот человек, ему ни спирта, ни керосина не жалко.
Затем Линдстрём исчез на кухню, но тотчас появился снова с тарелками, чашками, ножами и вилками. В жизни не слышал, чтобы кто-нибудь с таким шумом и грохотом накрывал на стол. Он не просто клал ложку в чашку, у него был для этого свой способ. Поставит чашку на стол и с порядочной высоты роняет в нее ложку. Естественно, получается адский грохот.
Теперь мне стало понятно, почему Амундсен вышел так рано. Просто он заранее спасался от этого аттракциона. Зато сцена накрывания на стол помогла мне получить представление о характере лежащих здесь товарищей. В любом другом месте Линдстрёму полетел бы в голову башмак. Но тут явно собрались самые кроткие люди на свете. Тем временем я успел немного оглядеться в комнате. Около двери, где я стоял, над самым полом зияло отверстие какой-то трубы. Я сразу сообразил, что это должна быть вентиляционная труба. Наклонился, накрыл отверстие рукой – никакого намека на тягу. Так вот почему здесь такой отвратительный воздух.
Затем я обратил внимание на койки – девять коек: у правой стены три, у левой – шесть. Большинство спящих – если кто-нибудь еще был в состоянии спать под такой концерт – лежали в спальных мешках. Наверно, им было и мягко, и тепло. Остальную площадь занимал стол и стоящие по бокам стола маленькие табуретки. В комнате царил порядок. Большая часть одежды повешена на крючках. Правда, кое-какие вещи валялись на полу, но ведь недаром здесь во мраке хозяйничал Линдстрём. Может быть, он их и уронил.
Ближе к окну на столе стоял граммофон, несколько банок с табаком, пепельницы. Обстановка не роскошная, отнюдь не в стиле Людовика XV или XVI, но все необходимое есть. На одной стене у окна висело несколько картин, на другой – портреты короля, королевы и кронпринца Улава, очевидно, вырезанные из газеты и наклеенные на голубой картон. Ближайший к двери угол направо, свободный от коек, был занят развешенной на гвоздях и веревках одеждой. Значит, это и есть их незамысловатая сушилка. Под столом стояло несколько лакированных ящиков неведомо с чем.
Ага, на одной из коек кто-то зашевелился. Это Вистинг, ему явно надоел непрекращающийся шум. Линдстрём накрывал не торопясь, гремя ложками, злорадно улыбаясь про себя и поглядывая на койки. Похоже, он шумел не без умысла. Вистинг оказался первой жертвой и, судя по всему, пока единственной. Во всяком случае, на других койках не было видно никаких признаков жизни.
– Доброе утро, толстяк! А я уж думал, ты будешь валяться до обеда, – приветствовал его Линдстрём.
– Ладно, брат, ты лучше за собой следи. Если бы я тебя не поднял, ты и сейчас еще спал бы.
Как говорится, дал сдачи. Да, Вистинг явно умеет за себя постоять. А впрочем, оба улыбаются, значит, ничего страшного.
Но вот, наконец, Линдстрём поставил последнюю чашку и уронил в нее ложку с особенно громким звуком, как бы ставя точку.
Я ждал, что он теперь вернется к своим делам на кухне. Но у него явно было еще что-то на уме. Он весь подобрался, вытянул шею, закинул голову назад – точь-в-точь молодой петушок, который собрался кукарекать, – и гаркнул во всю глотку:
– Все наверх, рифы брать!
Вот теперь его утренняя миссия здесь завершилась. Спальные мешки сразу начинают шевелиться, и, судя по возгласам вроде: «Вот ведь дьявол!» или «Заткнись, балаболка!», обитатели Фрамхейма, похоже, наконец-то просыпаются. Сияя от удовольствия, нарушитель покоя исчезает на кухню.
Из спальных мешков появляются головы, плечи и все остальное. Вот это, должно быть, Хельмер Ханссен, тот самый, что ходил на «Иоа».[78] Сразу видно – удалец. Нет, вы посмотрите – Улав Улавсен Бьоланд! Мой старый друг по Холменколлену.[79] Да-да, тот самый, что так здорово ходит на лыжах. И в прыжках не последний, – отлично прыгнул тогда – кажется, на 50 метров. Если у Амундсена много таких ребят, он уж как-нибудь дойдет до полюса!.. А вот Стюбберюд, тот, которого газета «Афтенпостен» называла большим знатоком двойной бухгалтерии. Не очень-то похож он сейчас на счетовода, но как знать!.. Появляются Хассель, Юхансен, Престрюд. Ну, вот, теперь все встали, скоро приступят к работе.
– Стюбберюд! – Линдстрём просовывает голову в дверь. – Если хочешь горячих оладий, позаботься воздух освежить.
Стюбберюд только улыбается в ответ. У него такой вид, будто он уверен в том, что все равно получит оладьи. Так вот для чего делалось чудесное тесто, вот отчего такой нежный, заманчивый запах, что просачивается через дверную щель. Стюбберюд выходит, я спешу за ним. Так и есть, Линдстрём стоит, колдует у плиты, размахивая своим оружием – лопаточкой. А на плите, трепеща на жарком огне, жарятся три золотистых оладьи. Господи, как мне сразу есть захотелось! Снова занимаю свое место в уголке, чтобы никому не мешать, и наблюдаю за Линдстрёмом. Ну, молодец, ну, мастер! Как он ловко управляется с оладьями.
Прямо как жонглер с мячиками, так лихо, так уверенно работает. Орудует своей лопаточкой со сказочной сноровкой. Одной рукой наливает из половника тесто на сковороду, в это же время другой снимает готовые оладьи. Да полно, под силу ли такое одному человеку.
Вистинг подходит к нему, отдает честь и протягивает жестяную кружку. Польщенный приветствием, Линдстрём наливает ему в кружку кипятку, и Вистинг уходит в тамбур. Но он отвлек Линдстрёма, и тот сбился с ритма в жонглировании горячими оладьями. Одна из них скатывается за плиту. До чего же он невозмутим. Ни за что не скажешь, заметил он, что оладья упала, или нет. Вздох, который у него при этом вырвался, можно истолковать приблизительно так: «Надо же и собакам что-то оставить!»
Ребята подходят по очереди, протягивают маленькие кружки и получают немного кипятку. Заинтригованный, встаю, проскальзываю за одним из них в тамбур и дальше, за дверь. Вряд ли вы поверите мне, когда я расскажу вам, что я увидел: полярники все, как один, чистили зубы! Что вы на это скажете? Выходит, не такие уж они неряхи. Так и пахнет зубной пастой. А вот и Амундсен. Очевидно, он ходил производить метеорологические наблюдения, так как у него в одной руке анемометр. Иду за ним по снежному ходу. Пользуюсь случаем, когда нас никто не видит, хлопаю его по плечу и говорю: «Какие славные ребята, черт возьми!» Он только улыбается в ответ. Но улыбка порой красноречивее всяких слов. Я понял, что он хотел сказать: «Я давно это знаю, и не только это».
8 часов. Дверь из кухни в комнату распахнута настежь, тепло устремляется внутрь, смешиваясь со свежим воздухом, который Стюбберюд в конце концов заставил устремиться по вентиляционной трубе. Совсем другое дело: тепло, и воздух чистый. Далее последовала интереснейшая сцена. Возвращаясь в дом, каждый из чистивших зубы должен был по очереди угадывать температуру воздуха. Это дает повод к шуткам и веселью. Под смех и непринужденный разговор начинается завтрак.

Линдстрём подает горячие оладьи
В застольных речах, когда царит приподнятое настроение, наших полярников часто сравнивают с нашими предками – доблестными викингами. Такое сравнение не приходило мне в голову, когда я смотрел, как группа самых обыкновенных, ничем не примечательных людей чистила зубы. Но теперь, когда они принялись за еду, оно само напрашивалось, и мне пришлось признать его верность.
Даже викинги не набросились бы на еду так, как эта девятка. Одна горка оладий исчезала за другой, словно они ничего не весили, а я-то по простоте своей думал, что каждому полагается по одной оладье. Намазанные маслом и вареньем, эти огромные – я чуть не сказал «омлеты» – проглатывались с баснословной быстротой. Невольно мне представился фокусник, который держит яйцо в руке – миг, и яйца уже нет. Говорят, для повара лучшая награда, когда его стряпня пользуется успехом; если это так, Линдстрём не мог пожаловаться на вознаграждение. «Омлеты» запивались большими кружками душистого, крепкого кофе.
Ну вот и оживились, разговор становится всеобщим. Первая из злободневных тем – роман, явно очень популярный здесь, под названием «Экспресс Рим—Париж». Насколько я мог понять по отзывам (к сожалению, самому мне не довелось прочесть этого знаменитого произведения), в этом экспрессе произошло убийство. И вот теперь развернулась оживленная дискуссия, кто совершил его. Кажется, сошлись на том, что это не убийство, а самоубийство.
Мне всегда казалось, что в таких экспедициях, где одни и те же люди общаются друг с другом изо дня в день целыми годами, очень трудно найти, о чем поговорить. Но здесь я не увидел ничего похожего. Не успел экспресс исчезнуть вдали, как на всех парах подкатил вопрос о национальном языке. И закипела дискуссия. Тут явно хватало сторонников обоих лагерей. Чтобы не обижать ни той, ни другой стороны, я не буду повторять того, что услышал. Скажу только, что сторонники лансмола[80] в заключение объявили его единственно пригодным, и то же самое заявила другая сторона о господствующем литературном языке.
Появились трубки, и вскоре развернулся жаркий поединок между запахом «крошеного листа» и свежим воздухом. Наслаждаясь табачным дымом, участники экспедиции обсуждали программу на день.
– Да, придется мне поднатужиться, чтобы обеспечить к празднику этого пожирателя дров, – сказал Хассель.
Я усмехнулся в душе. «Знай он о том, сколько утром ушло керосина, так, наверно, назвал бы его еще и «ходячей керосинкой», – подумал я.
На часах половина девятого, Стюбберюд и Бьоланд встают и надевают на себя столько, что мне сразу ясно: они собираются прогуляться. Не говоря ни слова, оба уходят. Остальные продолжают курить утреннюю трубку, некоторые даже принимаются за чтение. Но к 9 часам все поднимаются. Надевают меховые одежды и готовятся выйти.
Между тем Бьоланд и Стюбберюд вернулись с прогулки, я слышу выражения вроде: «Зверский холод», «Около склада ветер лютый». Один Престрюд никуда не собирается. Подходит к открытому ящику под дальней койкой, где стоит большая банка, открывает ее, и я вижу три хронометра. Одновременно трое из присутствующих достают свои часы, сличают их и заносят результат в журнал. После этого владельцы часов выходят. Пользуюсь случаем выскользнуть следом за ними. Престрюд и сличение хронометров – это не для моего ума.
Мне хотелось посмотреть, что происходит снаружи. И там уже царило оживление. Из палаток на все лады звучали собачьи голоса. Я не видел никого из тех, кто вышел перед нами; вероятно, они вошли в палатки. В палатках виднелся свет; очевидно, сейчас отвязывали собак. До чего красиво смотрелись освещенные палатки на фоне темного звездного неба! Впрочем, темным его уже не назовешь. Багряная заря одолела полярное сияние. Оно заметно потускнело с тех пор, как я его видел в последний раз. Было похоже, что его поражение предрешено.
И вот на волю высыпала четвероногая орда. Собаки ракетами вылетали из палаток. Каких только мастей тут не было – серая, черная, рыжая, коричневая, белая и смесь их всех. Меня удивил маленький рост большинства собак. В остальном же они выглядели превосходно. Круглые, упитанные, чистые, ухоженные, полные энергии. Они тотчас разбились на группы от двух до пяти штук. Нетрудно понять, что эти группы состояли из близких друзей. Они буквально ласкали друг друга. В каждой группе какая-то одна собака была предметом главного внимания. Остальные сновали вокруг нее, лизали ее, виляли хвостом, всячески выказывая свое смирение. Шла всеобщая возня без каких-либо намеков на вражду.
Главный интерес собак явно был прикован к двум большим черным кучам на краю палаточного лагеря. Что это за кучи, я не мог определить – мало света. Но вряд ли я ошибусь, предположив, что это были тюлени. Во всяком случае, что-то жесткое и съедобное, судя по тому, как оно хрустело на зубах у собак. Здесь мир иногда нарушается. За едой собаки явно хуже уживаются друг с другом.
Правда, до настоящей потасовки дело не доходит. Есть тут сторож с палкой, и стоит ему показаться и повысить голос, как собаки живо разбегаются. Похоже, что они приучены к послушанию. Больше всего мне понравилась молодежь и щенки. Молодым псам на вид месяцев десять. Стати у них – не придерешься. Заметно, что уход был хороший с самого рождения. Шерсть густая, куда гуще, чем у старших. Удивительно смелые псы, ни перед кем не отступят. А вот и самые маленькие. Катятся по снегу, будто клубки шерсти, веселятся вовсю. Стою и дивлюсь, как эти малыши могут переносить трескучий мороз. Я думал, что такой молодняк не переживет зимы. А мне потом рассказали, что они не только хорошо переносят мороз, но оказываются куда закаленнее взрослых собак. Те не прочь забраться вечером в палатку, а щенята отказывались входить туда, предпочитали спать на воле и большую часть зимы проводили на воздухе. Но вот все собаки отвязаны, участники экспедиции расходятся с фонариками в руках в разные стороны и исчезают, как будто проваливаются в барьер. Да, здесь за день явно можно увидеть немало интересного… Куда это они вдруг все подевались?
Ага, вот и Амундсен. Он опять остался один. Похоже, он сегодня дежурит при собаках. Подхожу и заговариваю с ним.
– Хорошо, что вы пришли, – говорит он. – Я представлю вам кое-кого из наших звезд. Начнем с троицы Фикс, Лассе и Снюппесен. Вот так они всегда меня осаждают, стоит мне выйти. Ни на минуту не оставят в покое. У серого здоровяка Фикса, смахивающего на волка, на совести не один укус. Свой первый подвиг он совершил на Флеккерэ, крепко тяпнул Линдстрёма за ягодицу. Что вы скажете об этой пасти?
Фикс теперь ручной и безропотно позволяет своему господину взяться одной рукой за верхнюю челюсть, другой за нижнюю и широко открыть его пасть. Вот это зубища! Я радуюсь про себя, что в тот день не я был в штанах Линдстрёма.
– Присмотритесь, – продолжает Амундсен, улыбаясь, – и вы увидите, что Линдстрём до сих пор садится с осторожностью. У меня тоже на левой ноге есть метина, да и других Фикс пометил. Кое-кто по сей день его остерегается. А вот Лассесен – это ласкательное прозвище, вообще-то его звать Лассе. Видите, он почти совсем черный. Пожалуй, он был из них всех самый злой, когда мы приняли собак на борт. Я держал его наверху, на мостике, вместе с другими своими собаками рядом с Фиксом. Они были друзьями еще с Гренландии. Но когда мне надо было пройти мимо Лассе, я всегда рассчитывал дистанцию. Обычно он стоял и смотрел вниз, на палубу, – ну прямо свирепый бык. Когда я пробовал подойти, он не двигался, продолжал стоять неподвижно. Но я видел, как верхняя губа поднимается и обнажает такие зубы, с которыми мне отнюдь не хотелось познакомиться. Так продолжалось две недели. Наконец верхняя губа перестала задираться, и пес начал слегка поднимать голову, как будто у него появилось желание взглянуть на того, кто ежедневно приносил ему пищу и воду. Но путь отсюда до дружбы был еще долог и извилист. Некоторое время я почесывал ему спину палкой. Сперва он изгибался, хватал палку зубами и разгрызал ее. Счастье, что это не была моя рука. С каждым днем я подходил все ближе и ближе и наконец отважился коснуться собаки рукой. Пес злобно покосился на меня, но не тронул. И вот наступило время, когда завязалась дружба. Дальше мы, что ни день, становились все лучшими друзьями, и теперь вы сами видите, какие у нас отношения.
Третья, темно-рыжая Снюппесен – так сказать, дама. Верный друг обоих псов, никогда с ними не расстается. Самая подвижная и прыгучая из всех наших собак. Небось, видите, как она любит меня. Все стоит на задних лапах и норовит лизнуть лицо. Сколько ни пробовал отучить ее от этого, не получается, она верна себе. Других собак, достойных внимания, лично у меня сейчас нет. Разве что вам захочется послушать красивое пение. А то у меня есть Уран, завзятый певец. Возьмем троицу с собой, и вы послушаете.
Мы направились к двум собакам, черным с белым, которые лежали особняком на снегу. Три друга прыгали и плясали около нас. Как только черно-белые разглядели нашу троицу, обе вскочили, как по команде, и я понял, что перед нами певец. Боже, что за ужасный голос! Было очевидно, что концерт дается в честь Лассе. Пока мы стояли там в обществе троицы, Уран продолжал свое пение. Но тут мое внимание вдруг привлекло появление другой троицы. Великолепные на вид собаки. Я спросил своего спутника, что это за псы.
– А, эти из упряжки Ханссена, одни из наших самых лучших. Вон ту большую черную с белым звать Цанко. Она, вроде, уже немного старовата. Две другие, похожие на сосиски на спичечных ножках, – это Кольцо и Милиус. Сами видите, они небольшие, скорее даже маленькие, но зато чуть не самые выносливые у нас. Мы решили, что они, наверно, братья. Похожи друг на друга, как две капли воды. А теперь пройдем через всю свору и посмотрим, не встретится ли нам еще какая-нибудь знаменитость. Вот Карениус, Баран, Шварц и Люсси. Они принадлежат Стюбберюду и относятся к числу заправил в лагере. Палатка Бьоланда здесь рядом. Вот лежат его любимцы – Квен, Лопарь, Пан, Горький и Иола. Ростом невелики, но отличные собаки. Вон там, в юго-восточном углу, стоит палатка Хасселя. Правда, его собак сейчас нет. Они лежат у входа в керосиновый склад, где Хассель проводит большую часть времени. Следующая палатка – Вистинга. Зайдем-ка туда, может быть, застанем там его гордость. А вот и они, видите ту четверку, что затеяла там возню. Большой рыжеватый пес справа – это Полковник, наш главный красавец. У него три друга: Зверюга, Арне и Брюн. Сейчас я вам расскажу, что приключилось с Полковником, когда он находился на Флеккерэ. Он тогда был совсем дикий, сорвался с привязи и прыгнул в море. Когда его заметили, он уже был на половине пути между островом и берегом; видимо, собрался баранинки отведать. Вистинг и Линдстрём – они тогда сторожили собак – поспешили сесть в лодку. Им удалось догнать беглеца, но в лодку они втаскивали его с боем. Потом Вистингу как-то довелось плыть наперегонки с Полковником; не помню уж точно, кто победил. На этих собак мы возлагаем большие надежды.
А вон в том углу – палатка Юхансена. О его собаках много не расскажешь. Пожалуй, больше всех выделяется Камилла. Она прекрасная мать, хорошо воспитывает своих детей, у нее их обычно целая куча. Ну, теперь вы, наверно, достаточно насмотрелись на собак. Если не возражаете, я покажу вам подземный Фрамхейм и то, что там происходит. Добавлю сразу, что мы гордимся этой работой. Надеюсь, вы согласитесь, что у нас есть на это право. Начнем с Хасселя, его хозяйство здесь ближе всего.
Мы подошли к дому, миновали его западный торец и очутились у каких-то козел. Под козлами лежал большой деревянный щит. К козлам в том месте, где соединялись три ножки, был приделан маленький блок. Через него проходила тонкая веревка, привязанная одним концом за щит. На другом конце ее, в полуметре над снегом, висел груз.
– Ну вот мы и у Хасселя, – сказал мой проводник. Хорошо, что он меня не видел: должно быть, я выглядел довольно глуповатым. «У Хасселя? – подумал я. – Что он хочет этим сказать? Ведь мы стоим на голом снегу».
– Слышите шум? Это Хассель пилит дрова.
Тут Амундсен нагнулся – легкое движение, довольно тяжелый щит поднялся вверх. Груз сработал. Глубоко в недра барьера вели широкие снежные ступеньки. Мы оставили щит поднятым: как ни слаб дневной свет, а все-таки виднее. Мой хозяин пошел вперед, я последовал за ним.
Спустившись на четыре-пять ступенек, мы очутились перед дверным отверстием, завешенным шерстяным одеялом. Откинули его в сторону. Ровное жужжание, которое я слышал раньше, стало громче; теперь я уже отчетливо различал, что это звук пилы. Мы вошли.
Мы очутились в длинном, узком помещении, вырубленном в толще барьера. На прочной снежной полке лежали в ряд, в образцовом порядке бочки. Если все это керосин, то можно понять расточительность Линдстрёма во время утренней топки. Здесь керосина хватит не на один год. Посреди помещения висел обыкновенный фонарь с стеклянным колпаком и проволочной сеткой. В помещении с темными стенами от него, конечно, было бы немного света, но здесь, среди сплошной белизны, казалось, что он источает солнечный свет. На полу стоял горящий примус. Термометр, висевший неподалеку от примуса, показывал -20°. Так что Хассель вряд ли страдал от жары. Ничего, когда пилишь дрова, и так сойдет. Мы подошли к Хасселю. Вон как торопится, только опилки летят.
– Доброе утро.
Пила заработала еще живее.
– Видать, у вас сегодня хватает дел.
– Ага, – пила работает с бешеной скоростью. – Приходится нажимать, чтобы управиться к празднику.
– Как расход угля?
Эти слова, видимо, возымели действие. Пила замерла, потом поднялась из распила и была приставлена к стене. Я опешил и с нетерпением стал ждать, что сейчас последует, полагая, что должно произойти нечто особенное. Хассель огляделся по сторонам – осторожность никогда не мешает, – приблизился к моему хозяину и доверительно сообщил:
– За прошлую неделю мне удалось надуть его на двадцать пять килограммов.
Я облегченно вздохнул: мне представлялось что-нибудь похуже! С довольной улыбкой Хассель снова принялся за прерванную работу. Теперь, наверно, ничто на свете не смогло бы его отвлечь. Последнее, что я видел, когда мы исчезли за одеялом, был Хассель в вихре опилок.
Мы снова вышли на поверхность. Легкое движение пальца, щит повернулся и бесшумно захлопнулся. Я понял, что Хассель умеет не только пилить дрова. На снегу лежала его упряжка, наблюдающая за каждым шагом своего хозяина. Миккель, Лис, Масмас и Эльсе. У всех здоровый, крепкий вид.
Идем проведать других. Подошли к входу в дом и подняли щит. В глаза мне ударил ослепительный свет. В стенку лестницы, ведущей вниз, был врезан деревянный ящичек, обитый блестящей жестью. В этом ящичке и стояла лампа, которая светила так ярко. Конечно, ей помогало окружение, сплошной лед и снег. Теперь я смог по-настоящему оглядеться, ведь с утра здесь было темно. Вот ход, ведущий к тамбуру. Сразу видно по этому коварному порогу. А что это такое там, в другом конце? Я еще раньше приметил, что у хода есть продолжение в ту сторону, но куда он приводит? Со светлого пятачка, где мы стояли, казалось, что он теряется во тьме.
– Сперва заглянем к Бьоланду.
С этими словами мой проводник свернул и пошел по темному ходу.
– Посмотрите на снежную стенку, у самых наших ног… Видите свет?
Мои глаза успели привыкнуть к полумраку, и я, в самом деле, различил пробивающееся сквозь стену зеленоватое сияние. Одновременно я снова услышал шум, какой-то монотонный звук, доносившийся снизу.
– Осторожно, лестница.
Да уж, будьте спокойны, хватит с меня того, что я сегодня один раз уже шлепнулся. Мы снова углубились в недра барьера по крепким широким ступеням, покрытым досками.
Вдруг открылась дверь в снежной стенке, и я очутился в хозяйстве Бьоланда и Стюбберюда. Высота помещения – около двух метров, длина – четыре с половиной, ширина – два с небольшим. Пол усеян стружками, от них было как-то уютнее и теплее. На примусе стоял жестяной ящик, из него валил пар. – Как дела?
– Хорошо. Вот, гнем полозья. Я тут прикинул, выходит, что можно уменьшить вес до двадцати двух кило.
Я не верил своим ушам. Амундсен утром по дороге сюда рассказывал мне, какие у них тяжелые сани – 75 килограммов каждые. И вот Бьоланд берется довести их до 22 килограммов, это меньше трети первоначального веса! Кругом в снежные стены вбиты крючки и вделаны полки для инструмента. Верстак Бьоланда производил внушительное впечатление, он был вырублен в снегу и покрыт досками. Такой же мощный верстак, только покороче, тянулся вдоль другой стены. Это явно рабочее место Стюбберюда. Мы не застали его, но было видно, что он занят обстругиванием ящиков для саней, чтобы сделать их полегче. Заметив готовый ящик, я наклонился и рассмотрел его поближе. На верхней стороне, где была вделана круглая алюминиевая крышка, я прочел: первоначальный вес – 9 килограммов, уменьшенный – 6 килограммов. Нетрудно было уразуметь, что значит такая экономия в весе для людей, которые готовились к дальнему переходу.
В помещении была всего одна лампа, но она давала вполне достаточно света. Мы простились с Бьоландом. Я убедился, что забота о санях отдана в надежные руки.
Мы прошли в тамбур и встретили Стюбберюда. Он наводил порядок, готовясь к празднику. Пар, который вырывался из кухни, когда отворяли двери, осел на потолке и стенах тамбура слоем инея в несколько дюймов толщиной. И теперь Стюбберюд сметал этот иней длинной метлой. Я понял, что к Иванову дню и здесь будет все сверкать.
Вошли в дом. На плите кипел и бурлил обед. Пол в кухне чисто вымыт, линолеум празднично блестит. То же и в комнате. Уборка произведена, сияет линолеум на полу, стол покрыт праздничной белой клеенкой. Воздух чист, абсолютно чист. Все койки прибраны, табуретки расставлены по местам. Сейчас в комнате никого не было.
– Вы видели только частицу наших подземных дворцов, но я хотел сначала подняться с вами на чердак, посмотреть, как там. Следуйте за мной.
Мы вышли на кухню и по прибитым к стене ступенькам поднялись к чердачному люку. Амундсен зажег электрический фонарь, и сразу стало светло. Первым делом мое внимание привлекла библиотека. Собрание книг Фрамхейма выглядело очень представительно. На трех полках – книги под номерами от 1 до 80. Рядом лежал каталог, и я заглянул в него. Литература на все вкусы. На каталоге в уголке написано: «Библиотекарь Адольф Хенрик Линдстрём». Он еще и библиотекарь? Поистине, мастер на все руки.
Длинными рядами стояли ящики с брусничным вареньем, морошкой, фруктовым соком, сливками, сахаром и пикулями. В одном углу я увидел нечто вроде фотолаборатории. Слуховое окно завешено, стоят бачки для проявления, мензурка и прочее. Ни один метр чердака не пропадал даром.
Осмотрев его, мы спустились вниз, чтобы продолжать обход. В тамбуре навстречу попался Линдстрём, он нес лед на большом подносе, очевидно, для получения воды.
Мой спутник вооружился большим, мощным фонарем, и я понял, что сейчас начнется подземное странствие. Отправной точкой стала дверь в северной стене тамбура. Через нее мы вошли в крытый ход. Темно, как в могиле… Здесь от фонаря было мало проку. Казалось, его тусклый, мертвенный свет не проникает за пределы стеклянного колпака. Я шел ощупью. Мой хозяин остановился и прочел мне доклад о блестящем порядке, которого им удалось добиться сообща. Я слушал внимательно. Того, что я успел увидеть, было вполне достаточно, чтобы я безоговорочно подтвердил этот отзыв. Однако на этом участке мне оставалось только принимать услышанное на веру, ибо в коридоре царил кромешный мрак.
Двинулись дальше, и только что выслушанный доклад о порядке на базе меня настолько успокоил, что я выпустил анорак своего спутника, за который крепко держался. И напрасно выпустил.
Миг, и я растянулся во весь рост на полу. Наступил на что-то круглое, и оно повергло меня на пол. В падении я схватил что-то руками – тоже нечто круглое – и теперь лежал, судорожно держась за таинственный предмет. Естественно, мне захотелось посмотреть, что же это может валяться на полу здесь, в этом царстве порядка. В слабом свете фонаря я разглядел… головку голландского сыра. Чтобы не нарушать порядок, я положил его на место, потом сел и глянул себе под ноги: на что я наступил? Еще один сыр. А рядом, лопни мои глаза, валялся третий представитель того же семейства. У меня начало складываться свое, особое мнение о порядке на базе, но я ничего не сказал. Интересно, почему идущий первым не споткнулся о сыр? «А, ну да, – ответил я сам себе, – просто он хорошо изучил здешние порядки».
У восточного торца дома ход хорошо освещался через врезанное в этот торец единственное окно. Я смог получше осмотреться. Прямо напротив окна, в той части барьера, которая составляла противоположную стену хода, было прорублено огромное отверстие, которое вело куда-то во мрак.
Мой спутник все здесь знал, и я мог положиться на него. Один я вряд ли решился бы туда входить. За отверстием туннель расширялся, переходя в довольно большое помещение со сводчатым потолком в толще барьера. Лопата и топор на полу, вот и все, что я тут увидел, для чего же служит этот зал?
– А, столько снега и льда ушло на получение воды для нашего хозяйства.
Так вот он, «колодец» Линдстрёма, где он все эти месяцы рубал снег и лед для приготовления пищи, питья и умывания. В одной из стен под самым полом было небольшое отверстие, как раз впору, чтобы пролезть человеку.
– Теперь постарайтесь съежиться и следуйте за мной, мы навестим Ханссена и Вистинга.
С этими словами мой спутник змеей скользнул в отверстие. Я живо бросился на пол и полез за ним. Мне вовсе не улыбалось оставаться одному в полной темноте. На ходу я успел поймать его за штанину и не выпускал ее, пока не увидел свет впереди. Ход был настолько тесным, что нам пришлось ползти на коленях. К счастью, он оказался не длинным. Оканчивался он довольно просторным, почти квадратным помещением. Посередине стоял низкий стол, на этом столе Хельмер Ханссен собирал заново сани. Несмотря на лампу и свечи, было довольно темно. Потом я сообразил, что виной тому, вероятно, множество темных предметов. У одной стены сложена в большие кучи меховая одежда, прикрытая сверху одеялами от падающего с потолка инея. У другой стены нагромождены сани. По соседству с входом лежала шерстяная одежда. Любой магазин в Кристиании мог бы позавидовать такому ассортименту. Анораки, свитеры, нижнее белье невероятной толщины и размеров, носки, варежки и многое другое.
Вход помещался в углу, образованном этой стеной и той, вдоль которой стояли сани. А за санями находилась завешенная дверь, из-за нее доносился странный гул. Мне очень хотелось узнать, что это за звук, но сперва я хотел послушать, о чем говорят здешние обитатели.
– Ну, как вам теперь нравится крепление, Ханссен?
– Ничего, выдержит. Во всяком случае, лучше того, что было прежде. Взгляните, как они закрепляли концы.
Я тоже наклонился, чтобы посмотреть, как выглядит крепление. Прямо скажу, увиденное меня поразило. Разве так делают? Моряк придает большое значение тому, как закреплен конец веревки, связывающей вместе те или иные части. Он знает: если концы плохо заделаны, самая тщательная вязка долго не продержится. Отсюда непременное правило – как можно лучше заделывать концы. А тут конец веревки был укреплен маленьким штифтиком вроде тех, которыми обычно прикрепляют ярлычки.
– Представляете себе, если бы мы с этим отправились к полюсу!
Эта оценка, похоже, в самой мягкой форме выражала мнение Ханссена о такой работе. Я посмотрел на новые крепления и согласился с Ханссеном, что они себя должны оправдать.
Не очень-то приятно делать такую работу при -26° (такую температуру показывал термометр), но Ханссен явно с этим не считался. Я слышал, что Вистинг тоже участвует в этой работе, но его что-то не было видно. Где бы он мог быть? Мой взгляд невольно обратился к занавеске; из-за нее-то как раз и доносился гул, который я слышал. Меня распирало любопытство. Наконец обсуждение вопроса о креплениях как будто закончилось, мой проводник собрался идти дальше. Отставив фонарь, он направился к занавеске.
– Вистинг!
– Да.
Казалось, отвечают откуда-то издалека. Гул прекратился, занавеска отдернулась, и я увидел картину, которая больше всего меня поразила за весь этот день, такой насыщенный событиями. Сидя в недрах барьера, Вистинг работал на швейной машине. Температура на воле – 51°.
Чудо из чудес. Подкрадываюсь к входу, чтобы посмотреть поближе, и тут мне в лицо – уф! – пышет буквально тропическая жара. Гляжу на термометр – +10°. Как все это вяжется одно с другим? Вот сидит человек в ледяном погребе и шьет при температуре +10°. В школе меня учили, что лед тает приблизительно при 0°. Если этот закон еще действует, Вистинг должен сидеть под душем… Вхожу. Швейная мастерская невелика, примерно два на два метра. Рядом с швейной машиной (ножная машина новейшей марки) в этом закутке, помимо огромной палатки, которой Вистинг сейчас занят, можно увидеть всякие приборы, компасы и тому подобное. Но мне особенно интересно, как мастер спасается от душа. Ах, вот оно что. Остроумно придумано. Он обшил потолок и стены жестью и брезентом так, что вся талая вода стекает в стоящий на полу таз. Заодно он получает столь драгоценную в этих краях воду для умывания. Ишь, хитрец!
После я узнал, что здесь, в этом ледяном чуланчике, было пошито почти все снаряжение для похода к полюсу.
С такими людьми да не достичь полюса! Бить надо Амундсена, если он этого не сделает.
Что ж, кажется, теперь мы все осмотрели. Мой спутник подходит к стене, подле которой сложена одежда, и начинает рыться в ней. «Осмотр одежды, – говорю я себе, – интересного мало…» И присаживаюсь на сани у противоположной стены, чтобы передохнуть. Вдруг Амундсен наклоняется вперед, как для нырка, и исчезает в ворохе мехов. Вскакиваю и бросаюсь туда. Мне немножко жутко от всех этих загадок. Второпях задеваю сани на столе Ханссена и чуть не сбрасываю их на пол. Он сердито оглядывается. Хорошо еще, что не видит меня, не то была бы мне взбучка. Протискиваюсь через груду одежды – и что же я вижу? Опять отверстие в стене, опять низкий темный ход. Собравшись с духом, устремляюсь туда. Этот ход чуть выше предыдущего, можно идти почти в рост. К счастью, навстречу мне пробивается свет, так что на сей раз странствие в потемках длится недолго.
Вхожу в еще одно большое помещение, почти такое же, как предыдущее, «интендантство». Позднее я услышал, что за этим помещением закрепилось название «хрустальный дворец», очень меткое, здесь все переливается хрустальным блеском.
У одной стены сложено множество лыж, у других стоят ящики, желтые и черные. Теперь, когда я побывал у Стюбберюда, мне не трудно сообразить, в чем дело. Желтые ящики – старые, черные – улучшенные. Даже о такой мелочи они подумали! Разумеется, на снегу черный цвет имеет все преимущества перед светло-желтым. Он приятнее для глаза. И черные ящики гораздо легче увидеть издалека. Представьте себе, что понадобятся вехи: достаточно разбить ящик, и делай сколько угодно черных вех. На снегу их сразу заметишь.
Но что за странные крышки на ящиках? Не больше крышки от молочного бидона и такой же формы, так же снимаются и ставятся на место. И тут меня осеняет. Когда я сидел у Ханссена, то заметил укрепленные на санях куски троса, по восьми с каждой стороны. Ну, конечно. Они предназначены для крепления четырех ящиков: больше на одни сани вряд ли погрузишь. С одной стороны все тросы кончаются петлей, с другой – тонкой бечевкой. Видимо, на каждый ящик приходится по две пары, одна – впереди, другая – сзади крышки. Затяни потуже, и ящики будут стоять, как приколоченные. А крышка свободно снимается. Хитрая выдумка, она сбережет много труда.
Посреди дворца сидит Юхансен. Он занят упаковкой – задача явно нелегкая. У него такой озабоченный вид. Перед ним стоит наполовину уложенный ящик с пометкой: сани № V, ящик № 4. В жизни не видел такой причудливой смеси – пеммикан вперемешку с колбасой. Никогда не слышал, чтобы в санные переходы брали колбасу. Это что-то новое. Куски пеммикана – цилиндрические, около 12 сантиметров в диаметре, высотой – около пяти. Когда их укладывают по четыре в ряд, между рядами остаются широкие ромбовидные промежутки. В них-то и засунуты колбасы, по одной в каждый. Колбаса стоит торчком, ее длина как раз под стать высоте ящика. Колбаса? Постой-ка… Вон там лежит одна с надорванной кожицей. Подхожу ближе и рассматриваю ее. Вот хитрецы! Это они таким способом укладывают сухое молоко. Используют все пустоты. Промежутки между кругами пеммикана и стенками ящика, естественно, вполовину меньше, «молочную колбасу» не втолкнешь. Но не подумайте, что место это пропадает зря. Ничего подобного. Туда суют шоколад, разломанный на маленькие кусочки. В итоге готовый ящик упакован так плотно, что похож на сплошную, цельную колоду. Вот стоит такой упакованный ящик. Подхожу к нему и смотрю, что в нем. На крышке надпись: «Галеты – 5400 штук». Говорят, ангелы славятся особым терпением. Но что такое ангельское терпение по сравнению с тем, которым наделен Юхансен. В этом ящике не оставалось ни одного свободного миллиметра.
Хрустальный дворец сейчас похож на бакалейный магазин. Пеммикан, галеты, шоколад, «молочные колбасы»…
В стене напротив лыж есть люк. Мой спутник приближается к нему. На этот раз я его не упущу. Он поднимается по двум ступенькам, толкает люк – и вот уже он на барьере. И я тоже. Люк закрывается.
Рядом – еще одна дверь. Обращаюсь к своему хозяину и от души благодарю его за интересную экскурсию в недрах барьера, за показ всех этих замечательных сооружений и всего прочего. Он перебивает меня: мы еще далеко не закончили осмотр. Он вывел меня сюда только для того, чтобы мне не пришлось ползти обратно тем же ходом.
– Войдем, – говорит он, – и продолжим наше странствие в барьере.
Я уже сыт по горло всеми этими подземельями, но вижу что возражать бесполезно. Мой хозяин, словно угадав мои мысли, добавляет:
– Надо осмотреть все теперь, пока люди работают. Потом это будет не так интересно.
Он прав, я собираюсь с духом и следую за ним.
Но судьба рассудила иначе. Выйдя, мы увидели Ханссена и его сани, запряженные шестеркой энергичных собак. Мой проводник едва успевает шепнуть мне: «Садитесь! Я подожду вас здесь», – как сани срываются с места и мчатся с бешеной скоростью, унося меня в качестве пассажира у ничего не подозревающего Ханссена.
Мы неслись так, что снег летел из-под полозьев. Сразу видно, что этот парень хорошо управляет своими собаками. Но до чего же буйная у него команда. Чаще всего я слышал имена Коршун и Того. Эти двое и впрямь были не прочь по-безобразничать. Смотришь, перескочили через постромки или нырнули под ними к своим товарищам, и начался беспорядок. Правда, особого вреда причинить они не успевали: направляемый искусной рукой кнут так и свистел у них над головой. Впереди бежали две «сардельки», на которые я обратил внимание еще на базе, – Кольцо и Милиус. Этих озорников распирал задор, но в общем они послушно держали строй. В той же упряжке были Акула и Прыткий с раздвоенным ухом. Прыткого так и подмывало вместе со своим другом Акулой затеять небольшую потасовку с Коршуном и
Того. Вот только этот кнут… Он безжалостно щелкал между ними, заставляя их быть паиньками.
За ними в нескольких шагах бежал Цанко. Он явно был обескуражен тем, что его не запрягли. Мы полным ходом взлетели вверх по откосу к главному складу и миновали последний флаг. По сравнению с ранними утренними часами сейчас было совсем другое освещение. Было уже одиннадцать, и заря отвоевала изрядный кусок неба, приближаясь к северу. Различались цифры и надписи на ящиках.
Ханссен лихо свернул к ящикам и остановился. Мы встали с саней. Он постоял, озираясь по сторонам, потом опрокинул сани вверх полозьями. Очевидно, для того, чтобы собаки не умчались прочь, когда хозяин отвернется. Мне лично эта мера показалась не очень-то надежной. Я вскочил на ящик и уселся на нем, чтобы наблюдать за ходом событий. А события не замедлили последовать, об этом позаботился Цанко. Ханссен отошел в сторону с какой-то бумажкой в руке, изучая ящики. Тем временем Цанко догнал своих друзей Кольцо и Милиуса. Свидание сторон было чрезвычайно сердечным. Коршун не смог этого выдержать и ракетой метнулся к ним, сопровождаемый своим другом Того. Акула и Прыткий не могли упустить такой случай и с жаром включились всхватку.
– Проклятые канальи!
Это Ханссен, подбегая, благословил свою упряжку. Незапряженный Цанко ухитрился в разгар потасовки заметить надвигающуюся опасность, метнулся в сторону и с завидной быстротой помчался к Фрамхейму.
То ли остальные хватились шестого участника драки, то ли тоже увидели, какая гроза надвигается, – так или иначе, все как одна, словно по сигналу, прекратили бой и пустились следом за Цанко, не обращая внимания на опрокинутые нарты. Бурей пересекли бугор и скатились по откосу мимо флагштока. Ханссен тоже не стал мешкать, да что толку! Как он ни бежал, но достиг только флагштока, когда собаки уже примчали опрокинутые сани в Фрамхейм, где их остановили.
Я спокойно отправился в обратный путь, очень довольный этим непредусмотренным приключением. Навстречу мне попался Ханссен, который снова катил к складу. Он был заметно раздражен, и кнут его не сулил ничего доброго собачьим спинам. На этот раз и Цанко тоже был в упряжке.
Возвратившись в Фрамхейм, я никого не увидел снаружи. Тогда я тихонько пробрался в тамбур и стал ждать случая проникнуть в кухню. Он не заставил себя долго ждать. Сопя и пыхтя, будто маленький паровоз, появился Линдстрём. Он нес очередную порцию льда в огромной лоханке, держа в зубах электрический фонарь. Чтобы открыть кухонную дверь, ему достаточно было толкнуть ее коленом. И я юркнул внутрь. Дом был пуст.
«Уж теперь-то, – сказал я себе, – я увижу, чем занимается Линдстрём, когда остается наедине». Он поставил лоханку со льдом и наполнил им стоящее на огне ведерко. Посмотрел на часы – четверть двенадцатого, значит, обед поспеет вовремя. Тяжко вздохнул, вошел в комнату, набил трубку и закурил. Потом сел и снял сидевшую на настольных весах куклу. Его лицо сияло.
Видно было, что он предвкушает предстоящую потеху. Завел куклу, поставил ее на стол, отпустил, и она тотчас начала кувыркаться. Кувырок за кувырком, кувырок за кувырком. А Линдстрём хохотал чуть ли не до слез, выкрикивая:
– Молодец, Улава, ну-ка еще разок!
Я присмотрелся к кукле, вызвавшей такое ликование. В самом деле, своеобразное создание. Голова старухи, может быть злой старой девы; льняные волосы, отвисшая нижняя челюсть и томный взгляд. Платье в белый и красный горошек. Кувыркаясь, она, естественно, обнажала кое-какие части тела.
Кукла первоначально явно изображала акробата, это наши полярники преобразили ее в такое чучело… Он завел ее снова, теперь и я оценил шутку и не смог удержаться от хохота. Поразвлекавшись так минут 10, Линдстрём, как и следовало ожидать, потерял интерес к «Улаве» и снова посадил ее на весы. Некоторое время она еще сидела и кивала, пока ее не забыли.
Тем временем Линдстрём подошел к койке и стал рыться в ней. «Так, – сказал я себе, – решил вздремнуть перед обедом». Ничего подобного, он тут же выпрямился, держа в руке старую, потрепанную колоду карт. Вернулся к столу и сосредоточенно начал раскладывать какой-то пасьянс. Он не занял много времени и был, очевидно, не очень замысловат, но свое дело сделал. Видно было, как радуется Линдстрём каждый раз, когда карта ложилась на место. И вот все карты лежат как надо. Пасьянс вышел. Линдстрём еще посидел, любуясь стройными рядами карт, затем смешал их со вздохом, поднялся и пробормотал:
– Да, до полюса они дойдут, уж это точно, и ей-ей придут первыми.
И он убрал карты на полку под койкой, очень довольный с виду.
Дальше опять началась процедура накрывания на стол, однако спокойнее, чем утром. Ведь теперь некого дразнить… Без пяти двенадцать раздался звон большого судового колокола, и вскоре начали собираться участники трапезы. Они садились прямо за стол, не тратя много времени на туалет.
Блюд было немного. Густой темный суп из тюленины со всякой всячиной: нарезанное кубиками мясо (отнюдь не маленькими кубиками), картофель, морковь, капуста, репа, горох, сельдерей, чернослив, яблоки. Хотел бы я знать, как наши хозяйки назвали бы это блюдо! На столе стояли два больших кувшина с ледяным фруктовым соком и водой. И снова я удивился. Мне-то казалось, что такой обед будет проходить в полной тишине. Ничего подобного, они все время разговаривали, главным образом о том, что сделано с утра. На десерт был подан компот из слив.
Затем появились трубки и книги. К двум часам ребята зашевелились. Я знал, что сегодня во второй половине дня работы не будет – Иванов день. Но что поделаешь с привычкой. Бьоланд решительно встал и спросил, кто первый.
После долгих переговоров было решено, что первым будет Хассель. Я не смог разобрать, что это значит. Слышал, как они говорят об «одном» или «двух примусах», о том, что больше получаса не выдержишь, и так далее. И ничего не понимал. Ладно, проследим за Хасселем, ведь он «первый». Даже если второго не будет, я узнаю, в чем дело. Снова воцарился мир и покой. Только на кухне можно было обнаружить признаки жизни.
Выходивший на время Бьоланд вернулся в половине третьего и объявил, что «там теперь сплошной пар». Я не сводил глаз с Хасселя. Так и есть, эти слова заставили его оживиться. Он встал из-за стола и принялся раздеваться. «Очень странно, – подумал я. – В чем дело?» Ладно, попытаемся действовать в духе Шерлока Холмса. Итак: сперва Бьоланд выходит. Это факт. Затем он возвращается – это тоже точно установлено. До сих пор метод себя полностью оправдывал. Но вот деталь номер три: «Там сплошной пар». Как это понимать, скажите на милость? Человек выходил если не на барьер, то, во всяком случае, в его толщу, в толщу фирна. Возвращается и говорит про сплошной пар. Бессмыслица, абсурд.
Мысленно посылаю Шерлока Холмса подальше и с возрастающим волнением наблюдаю за Хасселем. Если он будет раздеваться дальше… я почувствовал, что краснею, и отвернулся, но тут он прекратил раздевание. Потом схватил полотенце и сорвался с места. Через тамбур – я едва поспевал за ним – и дальше через снежный ход в одних… Тут нас и правда встретил пар. И чем дальше в глубь барьера – тем он гуще. В конце концов пара стало столько, что я ничего не видел. Как бы мне сейчас пригодился хвост от анорака Амундсена… Но здесь не за что было ухватиться.
Вдали во мгле я различил свет и начал осторожно пробираться туда. И вот я уже в другом конце хода, а он ведет в большое заиндевевшее помещение. Снег, могучий ледяной купол… Только пар портил картину. Да, но где же Хассель? Я вижу только Бьоланда. И вдруг я сквозь пар увидел в каком-то просвете голую ногу, ныряющую в большой темный ящик. Через секунду над краем того же ящика возникла улыбающаяся физиономия Хасселя. Как будто ему отрубили голову. Но эта улыбка… Значит, голова еще не отделена от туловища. Постепенно пар начал рассеиваться, и я наконец-то смог рассмотреть, что происходит. Я невольно рассмеялся. Теперь все стало понятно. Но Шерлоку Холмсу, честное слово, пришлось бы нелегко, если бы он вроде меня попал с завязанными глазами в толщу антарктического барьера и его попросили разобраться.
Хассель сидел в американской складной паровой бане. Помещение, казавшееся во мгле таким просторным и роскошным, сразу съежилось до размеров маленькой, невзрачной снежной хижины. Пар концентрировался в бане, и по торчавшему из ящика лицу было видно, что в бане становится жарко. Бьоланд накачал до отказа два примуса, установленных под баней, и удалился. Думается мне, актеру было бы очень интересно понаблюдать за лицом человека в ящике. Сперва – улыбка, выражение полного блаженства. Но улыбка постепенно исчезла, лицо стало серьезным. Однако и это выражение продержалось недолго. Ноздри затрепетали, и вот уже видно, что баня перестала быть источником удовольствия. Нормальный цвет лица уступил место какому-то жуткому ультрафиолету. Глаза раскрывались все шире. Я ждал. Сейчас произойдет катастрофа…
И она произошла, но не так, как я ожидал. Баня вдруг беззвучно поднялась, пар снова вырвался наружу и все окутал мягким белым покрывалом. Я ничего не видел, слышал только, как были потушены оба примуса. Понадобилось, наверно, минут пять, чтобы пар рассеялся, и что же представилось моему взору? Хассель, сияющий, как новая монета, одетый, принарядившийся к Иванову дню.
Я воспользовался случаем, чтобы рассмотреть эту, вероятно, первую и единственную паровую баню на антарктическом барьере. Весьма остроумная конструкция, как и все, что я здесь видел. Высокий ящик без дна, с отверстием вверху – как раз для головы. Стенки из ветронепроницаемой материи в два слоя, с промежутком в два миллиметра для циркуляции воздуха. Ящик стоял на платформе примерно в полуметре над снегом. Плинтус по нижнему краю придавал ящику герметичность. В платформе как раз под баней было прямоугольное отверстие, обитое резиной. В это отверстие плотно вставлялся небольшой жестяной ящик; под ним стояло два примуса. Полагаю, теперь каждому понятно, почему Хасселю было жарко. Под потолком висел блок с веревкой. Один конец ее соединялся с верхним краем бани, другой был опущен в баню. Это позволяло парящемуся самому, без посторонней помощи поднять баню, когда жара становилась невыносимой. За снежной стеной температура была -54°. Ловкие ребята! Как я узнал потом, эту баню смастерили Бьоланд и Хассель.
Я вернулся в комнату и был свидетелем того, как почти все члены экспедиции один за другим отправлялись в баню. В четверть шестого банный день закончился. Все оделись в меховые одежды, явно собираясь выйти наружу. С первым же из них вышел из дома и я. Он вооружился фонарем – и не напрасно. Погода переменилась. Поднялся юго-западный ветер и закрутил метель. Снегопада не было, на небе в зените виднелись звезды, но ветер гнал снежные вихри. Нужно было хорошо знать местность, чтобы ориентироваться. Люди двигались ощупью, так как приходилось все время жмуриться.
Я укрылся от ветра за сугробом и стал ждать, что будет. Собак перемена погоды явно не смущала. Некоторые из них лежали на снегу, свернувшись кольцом и прикрыв хвостом морду, другие бегали кругом. Один за другим участники экспедиции выходили из дома, каждый с фонарем в руках. На площадке их тотчас окружали собаки, с радостным гамом провожая своих хозяев к палаткам. При этом не обходилось без конфликтов. Так, я услышал страшный шум в одной палатке, по-моему, это была палатка Бьоланда.
Я заглянул внутрь. Внизу шла жаркая схватка. Собаки сбились в кучу, кусали друг друга, выли, визжали. В гуще рассвирепевших псов я увидел человека. Он держал в руке связку ошейников, отбиваясь ими налево и направо и выкрикивая страшные проклятия. Опасение за собственные ноги побудило меня поспешно отступить. Но человек, которого я видел, очевидно, одержал верх, так как шум мало-помалу утих и воцарился покой.
Привязав своих собак, люди направились к мясной палатке. Здесь на стенке, чтобы собаки не достали, стоял ящик с нарубленной тюлениной. Его нарубили двое еще с утра, и я узнал, что здесь бросают жребий, кому выполнять эту работу. Началось кормление собак. Через полчаса в лагере снова наступил мир и покой, как это было рано утром, когда я только пришел. Температура -54°, юго-западный ветер силой десять метров в секунду взметал высоко над Фрамхеймом вихри снега. Но сытым и довольным собакам в палатках буря была нипочем.
А в доме готовились к празднику Да, что значит добротный дом… Какой контраст после завывающего ветра, колючей метели, лютой стужи и густого мрака снаружи. Комната чистая, люди чистые, стол празднично украшен. Кругом национальные флажки. В шесть часов началось торжество, и снова викинги принялись уписывать за обе щеки.
Линдстрём приложил все свое усердие, а это кое-что да значит. Больше всего я проникся почтением к его искусству и щедрости, когда он появился с пирожными наполеон. Угощать – так угощать! Учтите, что пирожные были поданы после того, как каждый уплел по четверти плумпудинга. Пирожные выглядели чудесно. Нежнейшее сдобное тесто, начинка из ванильного крема и взбитых сливок. У меня слюнки текли. Но размеры-то, размеры… Не пирожное – гора, неужели каждое рассчитано на одного человека? Один торт на всех – еще куда ни шло, если кто-нибудь вообще способен есть наполеон после плумпудинга. Но ведь Линдстрём принес восемь штук: по четыре на двух огромных блюдах. Бог ты мой! Один из «богатырей» уже врубился в свою «гору». Его примеру последовали остальные, все восемь трудились как один. Да, когда вернусь домой, мне не придется рассказывать про нужду, тоску и холод.
У меня закружилась голова, в глазах потемнело. Наверно, здесь было столько же градусов выше нуля, сколько снаружи – ниже. Я взглянул на градусник, висевший над койкой Вистинга. Плюс 35°. А «богатырям» хоть бы что. Они знай себе расправлялись с наполеоном.
Но вот великолепному пирожному пришел конец, и появились сигары. Никто не отказался от этой услады. До сих пор они не проявляли особой воздержанности. Интересно знать, как тут у них с крепкими напитками? Я слышал, что потреблять алкоголь в полярных экспедициях очень вредно, чтобы не сказать – опасно. «Бедняги, – подумал я про себя. – Ну, конечно, вот почему вам так нравятся пирожные. Должна же у человека быть какая-то слабость. Не имея возможности предаться пороку пьянства, они ударились в чревоугодие». Я хорошо их понимал и от души жалел. Каково-то им после наполеона? Они явно слегка осовели. Видно, пирожному требовалось время, чтобы перевариться.
Вошел Линдстрём, который сейчас, несомненно, выглядел интеллигентнее остальных, и начал убирать со стола. Я думал, что сейчас все повалятся на свои койки для лучшего усвоения пищи. Но у них явно не было никаких проблем с пищеварением. Все продолжали сидеть, словно ждали еще чего-то. Ну, конечно – кофе. Линдстрём уже несет чашки и кофейники. Понятно, после такого обеда чашечка кофе очень к месту.
– Стюбберюд! – донесся откуда-то издалека голос Линдстрёма. – Давай живей, пока они не успели согреться!
Кажется, ему нужно помочь что-то вынести? Господи! Лежа на животе, Линдстрём из чердачного люка протягивал – что бы вы думали? – бутылку бенедиктина и бутылку пунша, обе белые от инея! Как говорится, «рыбка любит плавать»! Только бы они ее не утопили. Более блаженной улыбки, чем у Стюбберюда, когда он принимал бутылки, и более бережного и любовного обхождения с ними на пути из кухни до комнаты я не видел никогда. Даже трогательно. А как его встретили – бурной овацией! Да, эти ребята умеют подать ликер к кофе. «Подавать охлажденным», – гласила надпись на бутылке с пуншем. Могу заверить поставщика, что в тот вечер его предписание было выполнено в точности.
Затем появился граммофон, и я с удовольствием смотрел, как радостно его приняли. Похоже, наибольший успех все-таки выпал на его долю. Для каждого завели его любимую музыку. Согласившись почтить Линдстрёма за его труды и старания, начали концерт с «Та-ра-ра-бум-бия!». Затем был исполнен популярный вальс. Завершила программу по заявкам Линдстрёма «Речь в честь мадам Ханссен». Сам Линдстрём стоял в дверях и блаженно улыбался.
Дальше последовали любимые мелодии остальных. Несколько пластинок приберегли к концу. Очевидно, самые популярные. Сперва прозвучала ария из «Гугенотов» в исполнении Михайловой. У «богатырей» хороший вкус – ария красивая, пение чудесное.
– А что, – прозвучал чей-то нетерпеливый голос, – разве Боргхильд Брюн сегодня не будет?
– Будет, вот она.
И зазвучала песнь Сольвейг. Жаль, не было здесь самой Боргхильд Брюн. Наверно, самые бурные овации не тронули бы ее так, как прием, оказанный ее пению в этот вечер. Слушая эти чистые, высокие ноты, все как-то посерьезнели. Возможно, слова тоже растрогали этих людей, сидящих в темной ночи среди ледяной пустыни, за тысячи километров от всего, что им было дорого. Наверное, так. Но больше всего, конечно, их души тронула восхитительная мелодия, мастерски исполненная. Она до самого сердца дошла. Кончилось пение, но еще долго царила тишина. Словно каждый боялся нарушить ее своим голосом. Наконец чувства прорвались.
– Господи, как чудесно она поет! – воскликнул кто-то. – Особенно конец.
Я побаивался, что певица, как ни совершенно она владеет голосом, слишком резко возьмет последнюю ноту, больно она высокая. Но прозвучала такая чистая, звонкая и нежная нота, что казалось, люди, слушая ее, должны становиться лучше.
После этой песни граммофон убрали со стола, ничего другого им уже не захотелось слушать.
А на часах половина девятого; должно быть, уже и спать пора. Хорошо погуляли – поели, выпили, музыку послушали.
Вдруг все поднялись с места и прозвучал возглас:
– Лук и стрелы!
Кажется, спиртное подействовало. Я поспешил спрятаться в углу, где висела одежда. Судя по тому, как все оживились, предстояло что-то очень интересное.
Кто-то зашел за дверь и принес маленькую пробковую мишень, кто-то вытащил из-под койки ящик со стрелами.
А, так вот в чем дело, детки будут забавляться. Мишень вешают на дверь, ведущую в тамбур. Первый метатель становится у конца стола; дистанция до мишени – 3 метра. Под общий смех и гомон начинается состязание. Уровень мастерства далеко не ровный, не все одинаково меткие. Но вот позицию занимает чемпион, это сразу видно по тому, как решительно он целится и метает стрелу в цель. Он победит, никакого сомнения. Это Стюбберюд. Из пяти стрел две попадают в яблочко, три – по соседству. Следующий Юхансен. Тоже неплохо метает, но Стюбберюда ему не превзойти.
Выходит Бьоланд. Интересно, он в этом спорте такой же мастер, как на трамплине? Он становится, как и все, у края стола, но затем делает огромный шаг вперед. Ну, и ловкач. Теперь всего полтора метра отделяет его от цели. Здорово метает. Стрелы описывают большую дугу Ему удается даже так называемый портальный бросок, что вызывает всеобщий восторг. Портальным называется такой бросок, когда стрела летит слишком высоко и попадает в стену или в косяк. Хассель метает с расчетом. Непонятно только, на что направлен его расчет. Во всяком случае, не на мишень. Разве что на кухонную дверь… Когда метает Амундсен, то с расчетом и без, оценка у него одна – «мазила». Такая же оценка у Вистинга. Престрюд – твердый середняк. Ханссен – метатель по профессии, он посылает стрелу в цель с такой силой, словно охотится с гарпуном на моржа. Все результаты тщательно записываются. Потом будут вручены призы.
Тем временем Линдстрём занялся пасьянсом. Его трудовой день окончен. Но карты не мешают ему живо интересоваться состязанием метателей. Он остроумно комментирует происходящее. Наконец встает с решительным видом и приступает к выполнению своей последней обязанности: погасить большую лампу под потолком и зажечь взамен две маленьких. Это необходимо, так как на верхних койках очень сильно дает себя знать жар от большой лампы. Одновременно его маневр служит тонким намеком на то, что порядочным людям пора укладываться спать. В комнате сразу становится темнее после того, как гаснет яркое солнце под потолком. Две маленькие лампы тоже светят неплохо, но все равно впечатление такое, словно сделан шаг назад, в эпоху лучины.
Один за другим «богатыри» забираются на свои койки. Без описания этой сцены картина дня в Фрамхейме будет неполной.
Я уже слышал: Линдстрём больше всего гордится тем, что ложится первым. Чем только он ни жертвовал, чтобы удержать первенство. И как правило, торжествовал, потому что другие не торопились ложиться. Однако на сей раз вышло иначе. Стюбберюд давно уже начал раздеваться, когда вошел Линдстрём. И, увидев, что у него есть шансы лечь первым, он тотчас вызвал Линдстрёма на соревнование. А тот, не оценив ситуации, принял вызов. И началась гонка. Остальные жадно следили за ее ходом. Раз, два, три – Стюбберюд готов и хочет прыгнуть на свою койку, на втором ярусе над койкой Линдстрёма. Вдруг он чувствует, как его хватают за ногу и тянут назад. Это Линдстрём повис на ноге Стюбберюда и жалобно кричит:
– Погоди чуть-чуть, дай и мне раздеться!
«Постой, – сказал один мужик, готовясь к драке, – дай ухватиться как следует»…
Но Стюбберюд не поддается уговорам. Он хочет выиграть. Тогда Линдстрём выпускает его ногу, сдергивает с себя правую подтяжку – больше он не успевает ничего снять – и головой вперед ныряет на свою койку. Стюбберюд пытается протестовать:
– Это жульничество! Он не разделся…
– Ладно, чего уж там, – говорит толстяк, – все равно япервый.
Сцена эта сопровождалась поощрительными возгласами и бурным весельем, которое перешло в ликование, когда Линдстрём бухнулся одетый на койку. Но комедия на этом не кончилась. За прыжком Линдстрёма последовал страшный треск, на который в пылу поединка никто, и в том числе сам виновник, не обратил должного внимания. Теперь же последствия сказались. Полка над койкой, где лежала куча всяких вещей, обрушилась, на постель посыпались ружья, патроны, граммофонные пластинки, ящики, банки из-под леденцов, трубки, коробки с табаком, пепельницы, спичечные коробки и прочее, и для самого толстяка уже не осталось места. Пришлось ему слезть и вкусить горечь поражения. Со стыдом он должен был уступить Стюбберюду пальму первенства.
– Но, – сказал он, – это в последний раз!
Наконец все улеглись и взялись за книги, а кое-кто и за трубки. Так прошел последний час. В одиннадцать лампы были потушены, день кончился.
Немного погодя мой хозяин вышел, и я последовал за ним. Я предупредил его, что должен сегодня же вечером отправиться в обратный путь, вот он и решил проводить меня.
– Провожу вас до склада, а дальше вы уж сами доберетесь. Погода заметно улучшилась. Правда, чертовски темно.
– Возьму с собой свою троицу, – говорит он, – чтобы не заблудиться. Если глаза не помогут, чутье выручит.
Спустив с привязи трех собак, которые явно недоумевают, что бы это означало, он ставит фонарь на доски – очевидно, для ориентировки на обратном пути, – и мы шагаем дальше. Судя по тому, как уверенно собаки направляются к складу, им этот путь знаком.
– Ничего удивительного, – подтверждает мой проводник, – они бегают здесь каждый день, а то и два раза в день с тех пор, как мы сюда прибыли. Три человека по-прежнему совершают здесь свою ежедневную прогулку: Бьоланд, Стюбберюд и я. Они выходят, как вы наметили сегодня утром, в половине девятого. Это чтобы обернуться к девяти, когда начинается работа. У нас еще много дел, надо нажимать, чтобы со всем управиться. Ну вот, они прогуливаются до склада и обратно. В девять часов и я прохожу там же. Остальные тоже начали зиму таким образом, все охотно совершали утреннюю прогулку. Но это увлечение скоро прошло, и теперь нас осталось всего трое энтузиастов. Хотя тут всего-то около шестисот метров, мы не решились бы ходить без вех, которые вы видели, и нас всегда сопровождают собаки. Часто я, кроме того, вешаю у дома фонарь, но в такой мороз, как сегодня вечером, керосин замерзает и свет гаснет. А сбиться с дороги здесь опасно, лучше не подвергаться такому риску. Видите, вот первая веха. Нам с вами повезло, сразу попали на нее. Собаки убежали вперед, к складу. На пути к складу я всегда внимательно смотрю под ноги, ведь тут на откосе, где, как вы помните, стоит последний флаг, есть под торосом глубокая ямина метров на шесть. Забредешь в нее, недолго и кости поломать.
Мы прошли вплотную мимо второй вехи.
– Два следующих знака найти потруднее, они очень низкие, здесь мне часто приходится останавливаться и подзывать собак, чтобы найти дорогу. Как сейчас, например. Ни зги не видно. Если не упрешься нечаянно в веху, лучше ждать, пока собаки выручат. Я точно знаю, сколько шагов от знака до знака. Отсчитаю положенное число, и уж дальше не иду, сперва хорошенько исследую все кругом. Если и это не поможет, свищу собак, они мигом являются. Вот смотрите (звучит протяжный свист) – долго ждать не заставят. Я уже слышу их.
И правда, из темноты прямо на нас выскочили собаки.
– Теперь пошли, чтобы они поняли, что нам к складу. Мы так и сделали. Увидев это, собаки опять затрусили к складу, но не очень быстро, так что мы поспевали за ними. И вот мы уже у последней вехи.
– Как видите, фонарь в лагере начинает гаснуть. Надеюсь, вы извините меня, если я не буду провожать вас дальше, а пойду назад, пока он еще светит хоть немного. Отсюда вы сами найдете дорогу.
С этими словами мы расстались, и мой проводник пошел обратно в сопровождении своей верной троицы, а я…
ПЕСНЯ В ИВАНОВ ДЕНЬ, ИЛИ В СОЧЕЛЬНИК,
ИСПОЛНЕННАЯ ВО «ФРАМХЕЙМЕ» 23 июня 1911 г.[81]
После сего испуга поздравили друг друга: Лишь ящику с приборами пришлось немного туго, Да наш теодолит, мы думали, сгорит – В календаре дыра и копоти гора.
После Иванова дня время потекло еще быстрее, чем прежде. Самая темная пора уже миновала, с каждым днем солнце подходило все ближе к горизонту. Темным утром пришел Хассель и сообщил, что у Эльсы родилось восемь щенят. Шесть из них были сучки, это решило их судьбу. Они были убиты и скормлены родител м. Те вполне оценили угощение, проглотили его, почти не разжевывая. И явно вошли во вкус, потому что на другое утро исчезли и остальные два щенка.
Нас удивляла погода. Все данные об антарктических областях, какими мы располагали, говорили о том, что там всегда неспокойно. На «Бельжике» в дрейфующих льдах к западу от Земли Грейама[82] нам не давал покоя ветер. То же самое, шторм за штормом, испытал Норденшельд[83] восточнее этого полуострова. Английские экспедиции, которые работали в проливе Мак-Мердо, говорят о господствующих сильных ветрах. Мало того, теперь мы знаем, что в то время, как у нас на барьере стояла превосходная погода – штиль или слабый ветер, – Скотту на его базе примерно в 650 километрах западнее нас мешали в работе частые ветры.
Я ожидал, что температура воздуха будет высокая, так как небо над океаном всю зиму было темным. Каждый раз, когда позволяло состояние атмосферы, мы отчетливо видели темное, тяжелое «водяное» небо; эта картина не оставляла сомнения в том, что обширные участки моря Росса круглый год не замерзают. На самом же деле были очень сильные морозы, и средняя температура, отмеченная нами за год, насколько известно, самая низкая, какая когда-либо наблюдалась. 13 августа 1911 года мы зарегистрировали -59°. Пять месяцев в году градусник отмечал мороз ниже 50°. Стоило подуть ветру, как температура поднималась, только при зюйд-весте она обычно понижалась.
Мы часто наблюдали полярное сияние, но лишь изредка очень яркое. Оно было всевозможной формы, но, пожалуй, преобладали ленты преимущественно разноцветные, красные и зеленые. Мое предположение о монолитности барьера, о том, что его подстилает земля, вроде бы целиком подтвердилось нашими годичными наблюдениями. Зимой и весной паковый лед напирал на барьер, образуя торосы высотой до 12 метров. Это происходило в каких-нибудь двух километрах от нашего дома, а мы ничего не замечали. Мне кажется, если бы барьер был плавучим, столь мощные толчки не только ощущались бы у нас – они заставили бы дом содрогаться. Собирая дом, Стюбберюд и Бьоланд слышали вдали мощный гул, но ничего не чувствовали. Сколько мы находились здесь, ни разу ничего не слышали и не ощущали никаких колебаний. Еще одним надежным свидетельством служил большой теодолит, с которым работал Престрюд. Достаточно было самого малого пустяка, чтобы сбить его уровень, даже незначительного колебания температуры. Такой точный и чувствительный инструмент сейчас же сообщил бы нам, если бы основание плавало. В тот день, когда мы впервые вошли в бухту, откололся небольшой кусок западного мыса. Весной под напором дрейфующего льда обломился уголок одного из многочисленных мысов на внешней стороне барьера. Если исключить эти два случая, мы покинули барьер таким, каким застали его, совсем не изменившимся. О близости земли говорит и то, что, когда мы шли на «Фраме» вдоль барьера на юг, промеры указывали на быстрое уменьшение глубины. И наконец, лучшим доказательством должен служить рельеф барьера. Он не достигал бы высоты трехсот с лишним метров на 50-м километре к югу от Фрамхейма, если бы не покоился на материке.
Подготовка снаряжения для санного перехода шла теперь с лихорадочной быстротой. Мы давно уже поняли, что надо трудиться вовсю и использовать все рабочее время, если мы хотим подготовить основное снаряжение к середине августа. Личным снаряжением можно заниматься в свободное время. В первой половине августа дело стало приближаться к завершению. Бьоланд закончил изготовление четырех новых саней. За зиму он создал настоящий шедевр. Сани вышли удивительно легкие, но крепкие. Длина первоначальная – около трех с половиной метров. Полозья не окованные. Мы собирались взять с собой старые сани фрамовского типа с прочными стальными полозьями на тот случай, если этого потребует поверхность снега и рельеф. Новые сани весили в среднем 24 килограмма. Таким образом, мы сэкономили по 50 килограммов на каждых санях. От Бьоланда готовые части переносили в интендантство. Здесь Ханссен и Вистинг связывали их вместе, причем связывали на диво прочно.
Вообще, есть только одно средство добиться, чтобы работа была выполнена по-настоящему добросовестно: поручить ее тем, кто будет пользоваться ее плодами. Они знают, какая задача поставлена, и работают не только затем, чтобы достичь цели, но и чтобы вернуться. Каждый конец для вязки внимательно осматривают и проверяют, прежде чем пустить его в ход. Каждый виток кладут так, чтобы он лег точно на свое место. И вяжут так туго, что, когда соединение готово, намотку можно снять только ножом или топором. Пальцами не развяжешь. Санный переход, какой нам предстоял, – дело серьезное, и готовиться надо всерьез.
Помещение, где выполняли вручную эту работу, никак нельзя было назвать теплым и удобным. В интендантстве всегда было особенно холодно, вероятно, из-за постоянного сквозняка. Тут и дверь на барьер, и открытый ход в дом, – вот вам и непрерывный ток свежего воздуха. Правда, не очень сильный, но много ли надо, чтобы его почувствовать, когда температура воздуха около -60°, а работаешь голыми руками. В этом помещении температура всегда была ниже нуля. И чтобы концы для вязки не задубели, Ханссен и Вистинг ставили рядом с рабочим местом горящий примус, на котором грелся камень. Глядя на них, я восхищался их терпением. Сколько раз они час за часом работали голыми руками при температуре около -30°. И если бы это продолжалось недолго, то им пришлось много дней так трудиться в самую холодную и темную зимнюю пору. Для этого нужно немалое терпение. А каково ногам? Как ни обувайся, толку мало, когда надо стоять на одном месте. Мы убедились, что здесь – и вообще на морозе – для малоподвижной деятельности лучше всего обувь с деревянной подметкой. Но ребята из интендантства невесть почему не признавали этот вывод и всю зиму проработали в пимах из оленьего и тюленьего меха. Лучше колотить ногой об ногу, чем признать несомненное превосходство деревянной подметки в таких условиях…
Готовые сани получили номера от 1 до 7 и были сложены до поры в интендантстве. В это число вошло трое старых саней, изготовленных во время второй экспедиции «Фрама».
Очень крепкая конструкция; естественно, гораздо тяжелее новой. Их тщательно осмотрели, проверили всю вязку и обновили ее там, где это оказалось необходимым. С одних саней сняли стальные полозья, на двух других оставили: вдруг попадем в такие условия, где они понадобятся. Кроме работы в намоточной мастерской, Вистинг и Хассель были заняты и другими делами.
Так, если Вистинг не возился с санями, можно было слышать, как стрекочет швейная машина. У него была тьма заказов, и он просиживал за машиной до позднего вечера, появляясь только в половине девятого, когда начиналось состязание метателей стрел. Если бы он не взял на себя обязанности судьи в этом конкурсе, мы и тогда, пожалуй, не видели бы его. Его первым важным заказом была переделка четырех трехместных палаток на две. Не так-то просто было управляться с ними в пещерке, получившей название пошивочной мастерской. Правда, кроил он на столе в интендантстве, и все же остается загадкой, как он ухитрялся в своей яме делать правильные швы. Я приготовился увидеть нечто не совсем обычное, когда палатки извлекут на свет из мастерской. Скажем, выяснится, что пол одной пришит к стенке другой… Ничего подобного. Когда палатки установили в первый раз, они оказались безупречными. Словно их шили не в сугробе, а в просторной мастерской. Нет цены таким умельцам в экспедиции, вроде нашей.
Во втором плавании «Фрама» применяли двойные палатки; давно известно, что у других всегда все лучше, поэтому теперь эти палатки превозносили до небес. Спору нет, дом с двойными стенами теплее, чем с одинарными, но не забудьте, что двойные стены вдвое тяжелее. А когда даже вес носового платка играет роль, естественно, надлежит основательно взвесить реальные преимущества дома с двойными стенами, прежде чем делать окончательный выбор. Я представлял себе, что двойная стенка в палатке в какой-то мере позволит избавиться от столь нежелательного инея. Если двойные стенки хоть как-то ограничат его образование, я готов их признать. Ведь добавочный вес ежедневно образующегося инея очень скоро сравнится с весом двойных стенок, а то и превзойдет его. В такой палатке наружное полотно основное, а внутреннее пристегивается. Испытания показали, однако, что в двойной палатке иней образовался так же быстро, как и в одинарной. Это заставило меня усомниться в преимуществах двойной палатки. Если все дело лишь в том, чтобы было на два-три градуса теплее, я предпочитал поступиться этим плюсом ради экономии веса. К тому же у нас было столько теплых спальных принадлежностей, что нам ничто не грозило. Правда, в ходе дискуссии возник другой вопрос – о наиболее практичном цвете палатки. Мы быстро согласились, что лучше всего темный цвет. По ряду причин. Во-первых, темный цвет – лекарство для глаз. Ясно, что после целого дня движения по сверкающей глади барьера – великое облегчение для глаз очутиться в темном помещении. Не менее важно, что в темной палатке намного теплее, когда светит солнце. В этом легко убедиться, если выйти на солнцепек в темной одежде, а потом сменить ее на белую. И наконец, темную палатку на белом фоне куда легче различить, чем светлую. Обсудив все эти вопросы и признав превосходство темной палатки, мы, как говорится, попали из огня в полымя. Ведь наши палатки как раз были очень светлые, чуть не белые, и шансов на то, чтобы обзавестись темными, было мало. Правда, у нас было какое-то количество легкой ветронепроницаемой материи темного цвета, которая вполне подошла бы для этой цели, но она давно уже была израсходована вся до последнего сантиметра и никак не могла нас выручить.
– Но ведь у нас есть чернила и чернильный порошок, – сказал кто-то с лукавым видом, – взять да выкрасить палатки!
Ну, конечно. Мы снисходительно улыбнулись. Элементарное решение, настолько примитивное, что даже как-то неудобно говорить, но тем не менее… Мы простили автору предложения его простоту и оборудовали красильню. Вистинг взял на себя обязанности красильщика и справился с делом так успешно, что вскоре на снегу вместо белых появились две темно-синие палатки. Сейчас, сразу после крашения, они смотрелись хорошо, но как они будут выглядеть через месяц-два? Большинство считало, что палатки обретут свой прежний цвет, точнее, обесцветятся. Значит, наш патент надо совершенствовать. Однажды за чашкой кофе после обеда кто-то вдруг изрек:
– А что, если взять да сшить для палаток чехлы из коечных занавесок?
На сей раз улыбки товарищей выражали явное сострадание. Никто ничего не сказал, но лица были достаточно красноречивыми. «Нашелся умник! Да мы об этом давно уже думали!» Предложение было принято без дискуссии, и к многочисленным обязанностям Вистинга прибавилась еще одна, притом весьма трудоемкая. Наши коечные занавески были пошиты из легкой темно-красной материи. Теперь их соединили друг с другом и пришили к палатке сверху. Занавесок хватило только на одну палатку. Но, как говорится, лучше хоть что-то, чем ничего, спасибо и на этом.
Красная палатка, появившаяся на снегу через несколько дней, была всеми одобрена. Такую увидишь за несколько километров. И еще одно явное преимущество: чехол будет защищать палатку. Сочетание красного и синего цветов создавало приятное, неяркое освещение внутри. Теперь меня беспокоил еще один немаловажный вопрос: как защитить палатку от сотни бегающих на воле псов? Известно, даже две-три собаки способны так «обработать» палатку, что только держись. Наши псы были невоспитаннее других, поэтому требовались определенные меры предосторожности. Затвердевшая на морозе ткань становится ломкой – глядишь, и вся палатка испорчена, а мы требовали от своих палаток, чтобы их хватило по меньшей мере на 120 дней. И я поручил Вистингу сшить две ограды для палаток, как мы их потом называли, два «заборчика». Заборчик представлял собой всего-навсего длинный кусок ветронепроницаемой ткани, которым можно было огородить всю палатку, чтобы собаки не могли подойти к ней вплотную. Пришитые к заборчикам петли позволяли растягивать их на лыжных палках. Готовые заборчики выглядели здорово, но пользоваться ими нам не пришлось. Ибо сразу после начала похода мы нашли еще более подходящий материал, который к тому же всегда был у нас под рукой, – снег. Элементарное дело, мы с самого начала это знали, только не хотели говорить… Так или иначе «прокладка» была создана. А заборчики пришлись очень кстати как запасной материал для всяких нужд в походе.
Затем Вистингу пришлось шить для всех штормовки. Имевшиеся у нас были слишком малы, зато пошитые им оказались достаточно просторными. В мои брюки, например, свободно влезли бы еще двое! А так и должно быть. В здешних краях со всем так. Очень скоро убеждаешься на опыте: что просторно, то тепло и удобно. А что облегает плотно, – исключая обувь, разумеется, – то тепло и неудобно. Быстро начинаешь потеть, и одежда портится. Кроме брюк и курток, Вистинг из той же легкой ветронепроницаемой материи сшил чулки. Я считал, что они, надетые вперемешку с другими чулками и носками, будут служить дополнительной изоляцией. Мнения разделились, тем не менее я и мои четыре товарища по переходу к полюсу должны признать, что без них не смогли бы совершить серьезный поход. Эти чулки выполнили свое назначение. Осаждавшийся на них в изобилии иней легко счищался. Промокнут – их почти в любую погоду легко высушить; я не знаю другой материи, которая сохла бы так быстро, как эта. И к тому же такие чулки защищают остальные от износа, позволяя им служить намного дольше.
В подтверждение того, как мы, участники большого перехода, ценили эти чулки, расскажу один случай. Когда мы – уже на обратном пути, то есть поход фактически был закончен, – дошли до склада на 80° южной широты, то нашли там несколько мешков с одеждой. В одном мешке лежали две пары новых чулок из ветронепроницаемой материи; очевидно, владелец мешка не признал этот патент. Что тут было! Каждый хотел взять их себе. Счастливчики, которым они достались, схватили свою добычу и спрятали, словно какую-нибудь драгоценность. На что они им понадобились? Ведь мы были уже дома. Во всяком случае, из этого видно, какого высокого мнения мы были об этих чулках. Горячо рекомендую их всем, отправляющимся в подобные путешествия. Но должен предупредить о необходимости каждый вечер разуваться и счищать иней с чулок. Если этого не делать, иней, естественно, за ночь растает, и на утро у вас будут мокрые ноги. Только вините тогда не чулки, а себя.
Затем наступила очередь нижней одежды. Не было в портновском деле такой задачи, с которой не справился бы Вистинг. В наше медицинское снаряжение входило два рулона превосходнейшей тонкой фланели. Из нее он сшил нам всем нижнее белье. То, что мы привезли с собой, было из очень толстой шерсти, и мы боялись, что в нем будет слишком жарко. Я лично пользовался в переходе изделием Вистинга и не помню лучшего белья. Кроме того, на его долю выпало шить и латать спальные мешки, то да се. Есть люди, которые все умеют и со всем быстро справляются.
Умелец Ханссен тоже не сидел без дела. Мастерить сани для него – привычное дело, здесь он точно знал, что к чему. С ним я мог быть спокоен. Он ничего не делал на авось. Кроме сборки саней у него еще было множество поручений. В частности, на его долю выпало изготовить 14 кнутов, по два на каждого. За кнутовища отвечал Стюбберюд. Посоветовавшись с Артелью, я остановился на кнутовище из трех гикориевых планочек. Если их хорошенько связать и обшить кожей, они выйдут такими крепкими, что лучше не придумаешь. Составное кнутовище будет гнуться, но не сломается. А цельное, как мы убедились, долго не служит. Сказано – сделано. Стюбберюд изготовил кнутовища и передал их Ханссену. Хассель за зиму наделал ремни по эскимосскому образцу – круглые, тяжелые – грозное оружие в умелых руках.
Сборкой этих частей занимался Ханссен. Работал он, как всегда, очень тщательно. Каждое кнутовище туго связывал в трех местах, потом обшивал сверху кожей. Сам Ханссен не был сторонником составного гикориевого кнутовища, но задание выполнил безропотно. В это время мы заметили, что он против своего обыкновения после ужина отправлялся к Вистингу. Меня это заинтриговало, так как я знал, что Ханссен любит поиграть в карты после ужина и ни за что не откажется от этого удовольствия, если только у него нет какого-нибудь неоконченного дела. И однажды я высказал вслух свое удивление. Стюбберюд объяснил: —Они делают ручки.
– Какие еще ручки?
– Для кнутов. Но я могу вполне поручиться за те кнутовища, которые я нарезаю. Крепче не бывает.
Я заметил, что он недоволен; понятно, его идею не оценили.
В эту минуту, словно услышав, что о нем речь, вошел Ханссен с роскошным кнутом в руках. Я постарался изобразить удивление.
– Что это, еще какие-то кнуты?
– Ага. Что-то нет у меня веры в те, которые я днем делаю. Зато на этот кнут я вполне могу положиться.
Ничего не скажешь, красивый кнут. Кнутовище сплошь обтянуто кожей, не поймешь, из чего оно сделано.
– А как с прочностью? – несмело возразил я. – Не уступит другим?
– Что до прочности, то он даст 100 очков вперед любому из этих…
Он не договорил, но и без того было понятно, что он хотел сказать: «этих паршивых кнутишек». Я не успел в полной мере оценить значение этих страшных слов, как чей-то решительный голос произнес:
– Ну, это мы еще посмотрим!
Я обернулся. Стюбберюд поднялся из-за стола, явно уязвленный словами, которые он воспринял как личное оскорбление.
– Выходи со своим кнутом, если не боишься.
Он взял со своей полки кнут, о котором так уничижительно отозвались, и стал в боевую позу. Начало многообещающее! Все посмотрели на Ханссена. Теперь отступать нельзя, надо сражаться. Взяв свое оружие, он вышел на «ринг». Условия поединка были обсуждены и приняты обеими сторонами. Бой продолжается до тех пор, пока не сломается одно из кнутовищ. И вот начался поединок – «дуэль кнутов». Противники были настроены серьезно. Раз, два, три – кнутовища скрестились. Бойцы зажмурились, ожидая результата. Открыв глаза, оба просияли: кнутовища были целы. Сами удивляясь такому успеху, они продолжали бой гораздо смелее, удары следовали один за другим. Стюбберюд, стоявший спиной к столу, до того увлекся, что при каждом взмахе, сам того не замечая, с силой ударял своим оружием по краю стола. Не знаю уж, сколько раундов прошло, когда вдруг раздался треск, и я услышал возглас:
– Что, брат, съел!
Стюбберюд покинул «ринг», и моим глазам предстал Ханссен, который стоял на поле боя, глядя на свой кнут, напоминающий сломанную лилию. Зрители не оставались бесстрастными, они горячо болели, раздавался смех и поощрительные восклицания.
– Так его, Стюбберюд, не сдавайся!
– Браво, Ханссен, вот это удар!
Впоследствии кнуты показали себя с лучшей стороны. На весь поход их не хватило, но они долго послужили. Кнутовище – вещь недолговечная. Если бы только ремень пускали в ход, кнут мог бы служить вечно. Но кто же ограничивается ремнем… И когда начинаешь, как говорится, «причащать» собак, тут-то кнутовище и не выдерживает. Да, когда какой-нибудь грешник ведет себя особенно строптиво, его «причащают». Иначе говоря, как только сани остановятся, оттаскиваешь строптивца в сторону и угощаешь кнутовищем. Если это происходит часто, расход кнутовищ сразу возрастает…
Совершенствуя снаряжение, Ханссен задумал делать очки эскимосского типа. И взялся было за дело, но оказалось, что у каждого есть на этот счет своя идея, лучше других. Его порыв иссяк, и каждый сам занялся своими очками.
Главным делом Стюбберюда было облегчить санные ящики. И он успешно с этим справился, правда не без труда. Работа эта потребовала гораздо больше времени, чем предполагалось. Доски оказались сучковатыми и не очень-то поддавались рубанку. Стюбберюд сострогал изрядный слой, оставив всего несколько миллиметров, но за прочность ручался. Для крепости он схватил стыки алюминиевыми уголками.
Бьоланд кроме саней занимался еще и лыжами. Для наших больших широких сапог требовались крепления пошире. Они у нас были, и Бьоланду оставалось только поставить их взамен прежних. С креплениями было то же, что со снежными очками: у каждого своя идея. Крепления, которые Бьоланд приспособил для себя, показались мне настолько удобными, что я, не раздумывая, заказал себе такие же. К чести креплений и их творца надо сказать, что они оказались превосходными и отлично служили мне весь поход. В сущности конструкция оставалась прежней, но крючки и петли позволяли очень быстро снять и надеть их. Это было как раз то, что мы требовали от наших креплений: чтобы они крепко держали ногу и легко снимались с лыж. В походе нам все время приходилось проделывать эту процедуру. Оставь ремни на ночь – утром не найдешь. Собаки считали их желанным лакомством. Вот и приходилось снимать с лыж все ремни.
Юхансен кроме упаковки был занят изготовлением весов и палаточных кольев. Он очень искусно делал весы типа безмена. И не его вина, что мы ими не воспользовались. Просто весь наш провиант был упакован так, что не было необходимости его взвешивать. По тому же принципу Юхансен смастерил большие весы, использовав в качестве груза точильный камень. 6 августа мы все взвесились, и оказалось, что Линдстрём тяжелее всех: 86,5 килограмма. Тогда-то его и окрестили официально «Толстяком».
Колья, изготовленные Юхансеном, в корне отличались от обычных, они были совсем плоскими. Мы быстро убедились в преимуществе такой конструкции: во-первых, они были во много раз легче, во-вторых, значительно крепче. По-моему, за весь переход мы не сломали ни одного колышка. Разве что потеряли один или два. А большинство доставили в целости обратно.
Хассель готовил ремни для кнутов у себя в керосиновом складе. Жуткое место, вечный мороз. Но свое задание он выполнил в срок. Престрюд чертил карты и размножал таблицы; нам нужно было шесть экземпляров.
На каждые сани причиталось по журналу для наблюдений; в нем же содержалась опись провианта. Журнал был за тем же номером, что и сани. Сначала шла подробная опись содержимого провиантных ящиков, потом – таблицы для астрономических наблюдений. Ежедневно каждый записывал, что взято из продовольствия. Таким образом, мы всегда могли узнать, что осталось в ящиках, сколько у нас провианта. Во второй части заносились наблюдения, записывался пройденный за день путь, курс и так далее.
Я рассказал в основных чертах, чем у нас было заполнено зимой так называемое рабочее время. Кроме того, была еще тысяча дел по подготовке личного снаряжения. Зимой каждому выдали его снаряжение, чтобы он заблаговременно мог внести желаемые изменения. Из меховой одежды были выданы оленьи парки – одна полегче, одна потяжелее, – а также варежки и чулки из оленьего меха. Кроме того, чулки из собачьего меха и тюленьи камики. Далее, комплект нижней одежды и штормовой костюм. Все выдавалось не глядя, никто не выбирал. Первым делом взялись переделывать меховую одежду. Работы хватало. Все было сшито не по мерке. Один считал, что капюшон анорака слишком длинный, закрывает глаза. Другому он казался чересчур коротким. Первый обрезал, второй надставлял. У одного штаны были велики, у другого – малы; давай исправлять. И в каждом случае надо было браться за иглу – то ли пришить надставку, то ли заделать распоротые швы. Хотя мы начали заблаговременно, казалось, этой работе не будет конца. По утрам дежурный выметал целые горы меховых лоскутов и оленьей шерсти. А на другой день – новая гора. Останься мы там, наверно, наш отряд до сих пор еще сидел и перешивал бы разную одежду. Какие только идеи не рождались. Разумеется, опять вспомнили защитную маску, – в скромном масштабе, в виде нашлепки для носа. Я не устоял против соблазна и тоже занялся экспериментами. Мне казалось, что вышло очень здорово, однако на деле меня ожидал провал. Мое изобретение представлялось мне несравненно лучше всего, что знали раньше. Когда же я испытал его, у меня не только нос окоченел, но и лоб, и подбородок. Больше я никогда его не надевал. Из Хасселя новые идеи били ключом. Он был готов весь облепиться защитными масками. Я ничуть не удивился, если бы увидел маску у него на заду. Все эти изобретения хороши как средство убить время. А когда выходишь в большой поход, от них остается одно воспоминание. В серьезном деле они не годятся.

Вечером во Фрамхейме
Все увлеченно занимались спальными мешками. Юхансен был верен идее двойного мешка. Один бог ведает, сколько шкур он потратил на него. Мне это не известно. Да я и не допытывался. Бьоланд тоже полным ходом переделывал свой мешок. Его не устраивало отверстие вверху, он предпочитал сделать его посередине. И когда Бьоланд ложился спать, замысловатая система отворотов, крючков и пуговиц придавала ему сходство с драгунским полковником. А сам он был чертовски доволен своим мешком. Правда, он был не менее доволен своими снежными очками, что не помешало ему заболеть снежной слепотой, хотя через них ничего не было видно. Остальные не стали менять конструкцию своих спальных мешков, только укорачивали или удлиняли их. Способ завязывания – как у обыкновенного мешка – всех устраивал.
У нас были для спальных мешков чехлы из ткани для наперников. Эти чехлы нас здорово выручали, и я ни за что не расстался бы со своим. Днем он надежно защищал спальный мешок от снега, а ночью, пожалуй, оказывался еще полезнее. Влага от нашего дыхания осаждалась на него, вместо того чтобы пропитывать мех. Образующаяся за ночь ледяная корка обламывалась и исчезала днем, когда мешки лежали, просыхая, на санях. Чехол должен быть просторным; главное, делать его подлиннее спального мешка, чтобы можно было поплотнее обернуть шею, защищая мешок от влажного дыхания. У нас были двойные мешки: внутренний и внешний. Внутренний – легкий, из меха пыжика или оленихи. Наружный – из меха оленя, весом около шести килограммов. Оба затягивались вверху шнурком, как простой мешок. Мне такая конструкция всегда казалась самой простой, удобной и надежной, рекомендую ее всем.
Снежные очки у нас были самых различных видов. Это тоже была чрезвычайно важная проблема, требовавшая углубленного изучения. И уж мы постарались! Особенно настойчиво старались мы придумать хорошие очки без стекол. Правда, я всю осень носил обыкновенные очки со светло-желтыми стеклами, и они себя вполне оправдали. Но теперь, готовясь к долгому переходу, я опасался, что они окажутся недостаточно надежной защитой для глаз. А посему я тоже включился в конкурс на лучший патент. Кончилось тем, что всех снабдили кожаными очками с щелочкой для глаз. Бьоланд выиграл конкурс, и его конструкция применялась чаще всего. Хассель придумал очки, сочетающиеся с нашлепкой для носа. В распластанном виде они напоминали орла с американского герба. Сам он никогда не пользовался ими. Вообще, никто из нас не отдал предпочтения собственному патенту, кроме Бьоланда, – зато он один из всех заболел снежной слепотой. Простые очки, которыми пользовался я (кроме меня, такие же были у Ханссена), оказались вполне достаточными. Меня ни разу не поражала снежная слепота. Самые обыкновенные очки с дужками, без какой-либо дополнительной оправы, свет свободно проходил по бокам. Доктор Шанц из Берлина, приславший их мне, вправе быть довольным изобретением. Эти очки превосходят все, что я видел и надевал.
Следующая серьезная проблема – наша обувь. Я специально всех предупредил, чтобы непременно взяли сапоги с собой. Сапоги обязательно понадобятся на ледниках, встречи с которыми нам не избежать, судя по известным описаниям края. А какими должны быть сапоги, пусть каждый решает сам. Все принялись совершенствовать обувь, основываясь на прежнем опыте. Усовершенствование было направлено на то, чтобы сделать ее просторнее. Вистинг опять взялся за мои сапоги и начал выдирать все лишнее. Чтобы понять, как сработана вещь, надо ее разобрать. Мы получили хорошее представление о том, как сработаны наши сапоги. Они были сделаны как нельзя более тщательно и добросовестно. Мы немало помучились, разрывая их. Из моей пары были удалены еще одни стельки, не помню уж, которые по счету. Взамен я получил то, к чему всегда стремился, – простор. Можно было надеть все имеющиеся у меня чулки и носки, да еще оставалось место для деревянной стельки. Я был счастлив – заветная цель достигнута. Теперь какой бы ни был мороз, через мои деревянные стельки и, если не ошибаюсь, семь пар чулок ему не проникнуть. В тот вечер, когда состоялась окончательная примерка, я был очень доволен. Победа далась мне не сразу – почти два года добивался я своего.
Еще надо было привести в порядок собачью упряжь. Нельзя допустить повторения того, что произошло при заброске провианта на последний склад, когда две собаки провалились в трещину из-за плохой упряжи. И уж мы потрудились на совесть. Использовали самые лучшие материалы. По труду и результат – получилась отличная, крепкая упряжь.

Груженые сани с одномером
Возможно, наш рассказ открыл кое-кому глаза на то, что снарядить такой поход, который нам предстоял, – дело нешуточное. Одни деньги исхода не решают, хотя, видит бог, без денег далеко не уедешь. Важную, я бы даже сказал решающую, роль играет то, как снаряжена экспедиция, предусмотрены ли все трудности и средства их преодолеть или избежать. Побеждает тот, у кого все в порядке; кое-кто называет это везением. Поражение непременно ожидает того, кто не принял заблаговременно нужных мер; это называют невезением. Не подумайте только, что я сочиняю хвалебную эпитафию для своей могилы. Нет, вся заслуга по справедливости принадлежит моим товарищам, которые терпеливо, настойчиво, опираясь на большой опыт, довели наше снаряжение до предельного совершенства и тем самым обеспечили победу.
16 августа мы начали нагружать сани. Двое саней стояли в хрустальном дворце, еще двое – в интендантстве. Хорошо, что мы могли заниматься этой работой в помещении. Температура отплясывала канкан между -50° и -60°, иногда дул освежающий ветерок, 6 метров в секунду. В таких условиях вряд ли было бы возможно заниматься укладкой на воздухе, учитывая необходимость делать это тщательно и надежно. Закрепленные на санях тросы для ящиков надо было сплеснить с бечевкой (сплесень – соединение отдельных прядей каната), а это требовало времени. Зато привязанные как следует ящики будут стоять, как в тисках, и не сдвинутся с места. Цинковые листы, укрепленные под санями, чтобы они не проваливались на рыхлом снегу, мы сняли, поняв, что они нам не потребуются. Взамен на это место привязали по запасной лыже; они нам потом очень пригодились. 22 августа сани были готовы и ждали старта.
Затянувшиеся морозы были в тягость собакам. Когда температура падала до минус 50–60°, сразу было заметно, что они ее чувствуют. То одну, то другую лапу подожмут и не торопятся опустить ее на холодный снег.
До чего же хитры были эти псы. Мы давали им мясо и рыбу через день. К рыбе они относились без особого восторга, и некоторые из них не спешили домой вечером в те дни, когда им полагалась рыба. Особенно много хлопот причинял Стюбберюду молодой пес Фунчо, родившийся в сентябре 1910 года, когда мы были на Мадейре. В мясные дни, как я уже говорил, вечером, посадив своих собак на привязь в палатках, каждый забирал по ящику с нарубленным мясом на ограде вокруг «мясной» палатки. Фунчо это приметил. Увидит, что Стюбберюд берет ящик, и, понимая, что будет мясо, спокойно идет в свою палатку. Если же Стюбберюд не шел за ящиком, Фунчо становился неуловимым. Так повторялось, пока Стюбберюд не придумал одну хитрость. В очередной рыбный день, когда Фунчо по своему обыкновению издали наблюдал, как сажают на привязь других собак, Стюбберюд подошел к ограде, взвалил на плечо пустой ящик и вернулся с ним к палатке. И Фунчо клюнул, поспешил в палатку, радуясь тому, что Стюбберюд проявил неожиданную щедрость. Увы, его ожидал совсем не тот прием, на какой он рассчитывал. Его схватили за шиворот и привязали на ночь. Фунчо свирепо поглядел на пустой ящик, потом на Стюбберюда. Не знаю, что делалось в его голове, но впоследствии эта хитрость редко удавалась Стюбберюду. А в тот вечер Фунчо пришлось довольствоваться сушеной рыбой на ужин.
За зиму мы потеряли совсем немного собак. Еппе и Якоб околели от какой-то болезни. Валета пристрелили, у него вылезла почти вся шерсть. Мадейро, родившийся на Мадейре, исчез еще осенью. Затем пропал и Том. Оба, вероятно, упали в трещину. Дважды нам довелось наблюдать, как это происходит. На наших глазах собака проваливалась в трещину, и мы видели ее сверху. Она спокойно бродила взад и вперед на дне, не издавая ни звука. Трещины были неглубокие, но крутые, без посторонней помощи собаке не выбраться. Мадейро и Том, несомненно, погибли именно таким образом. Это была медленная смерть, если вспомнить, как живучи собаки. Много раз случалось, что собаки пропадали на несколько дней, потом возвращались. Возможно, побывали в трещине, но сумели в конце концов выкарабкаться. Интересно, что собаки не считались с погодой, когда у них появлялось желание побродить, уходили даже при температуре ниже -50°, в метель и ветер. Влюбленные нередко удалялись, чтобы в уединении проявлять свои нежные чувства. Так, Жеманница, одна из собак Бьоланда, вздумала однажды уединиться с тремя кавалерами. Мы обнаружили их за торосом на льду, они спокойно лежали уже больше недели. Все эти дни температура держалась около -50°. Холодновато для любви!
23 августа выдалась тихая погода, редкие облака, температура -42°. Самая подходящая погода, чтобы вынести сани и подогнать их к месту старта. Мы решили выносить их через дверь интендантства – она была шире других, легче пролезть. Но сначала пришлось разгрести снег, который накопился здесь за последнее время, так как ребята предпочитали пользоваться внутренним ходом. Метель все сгладила, сверху и не увидишь вход; впрочем, две-три крепкие лопаты и двое-трое крепких работников быстро решили эту проблему. Вытащить сани было потруднее. Они с грузом весили по 400 килограммов каждые, а подъем был крутой. Поставили тали с блоками. Сверху тянули, снизу подталкивали, одни сани за другими медленно извлекались на поверхность и оттаскивались на площадку около метеобудки, чтобы можно было стартовать без помех. Нашим бойким собакам нужен был свободный путь. Если увидят какой-нибудь ящик или столб, не говоря уж о будке, непременно потянутся туда, сколько бы каюр ни протестовал. В то утро мы не спускали собак с привязи, и теперь все каюры пошли в палатки надевать на них сбрую. Глядя на груженые сани, готовые начать долгий рейс, я силился настроиться на поэтический лад. «Беспокойный дух человека…», «таинственная, грозная ледяная пустыня…». Нет, не получается. Может быть, оттого, что еще слишком рано. Я оставил тщетные потуги, придя к выводу, что сани с черными ящиками больше всего похожи на гробы.
Как мы думали, так и вышло. Собак распирала энергия. Запрячь их было делом нелегким, они ни минуты не могли постоять спокойно. Кому-то надо поприветствовать друга, кому-то вздуть недруга. Не то, так другое. Вот две собаки роют снег задними лапами и вызывающе смотрят друг на друга: жди потасовки. Увидишь такую картину, вмешаешься вовремя, можно еще предотвратить готовящуюся драку. Но разве всюду поспеешь… И завязались яростные схватки. Странные животные. Всю зиму вели себя сравнительно спокойно, а облачились в сбрую – непременно надо суетиться.
Наконец мы справились с ними и тронулись с места. Мы впервые испытывали по 12 собак в упряжке и с волнением ждали исхода. Против ожидания все шло хорошо. Не скажу «как по маслу», но этого и нельзя было требовать с первого же раза. Некоторые собаки за зиму растолстели и с трудом поспевали за другими. Им первый выезд дался нелегко. Но большинство было в отличной форме, в меру упитанные, без лишнего жира. Вверх по откосу мы поднялись быстро. Большинство собак было не прочь передохнуть на подъеме, но некоторые одолели его одним махом. А на гребне все было так же, как в апреле, когда состоялась наша последняя вылазка. Флаг на месте и даже не очень пострадал от ветра. Самое удивительное – видно было наши старые следы, ведшие на юг. Мы выкатили сани наверх, распрягли собак и отпустили их, не сомневаясь, что они радостно помчатся домой, к «кормушкам». Большинство из них так и поступило. Радостные, веселые, ринулись они обратно, и вскоре весь лед пестрел собаками. Нельзя сказать, чтобы они вели себя паиньками. Кое-где над льдом словно курился туман – это драчуны барахтались в облачке снега. Но на базе их ни в чем нельзя было упрекнуть. Правда, кое-кто из них прихрамывал, но это пустяки.
А вечером проверка показала, что не хватает десяти собак. Странно. Неужели все десять провалились в трещины? Не может быть. На другое утро два человека отправились к «линии старта» поискать пропавших. По пути они миновали несколько трещин, но там не видно было собак. И ни одна не попалась им навстречу. А дойдя до саней, они увидели, что все десять недостающих собак преспокойно лежат и спят, свернувшись калачиком. Появление людей не произвело на них никакого действия. Две-три собаки приоткрыли глаза – и только. Они чрезвычайно удивились, когда их подняли и довольно решительно дали им понять, что их ждут дома. Некоторые наотрез отказались в это поверить, покрутились на месте и снова легли. Пришлось силой гнать их домой.
Вот и пойми их! Лежат в 40-градусный мороз в 5 километрах от своего уютного дома, где их ожидает обильная пища. Хотя они провели здесь целые сутки, ни одна не собиралась уходить. Было бы еще лето, солнце, тепло, я бы их кое-как понял. А так я просто теряюсь.
Двадцать четвертого августа солнце впервые за четыре месяца снова выглянуло из-за барьера. Казалось, оно улыбается и кивает старым знакомым торосам, с которыми встречается уже столько лет. Но когда лучи его коснулись «линии старта», солнечный лик выразил явное изумление: «Гляди-ка, они все-таки меня опередили! А я-то так торопилось, чтобы быть первым!» Что верно, то верно, мы выиграли гонку, днем раньше солнца вышли на барьер.
Дату старта еще нельзя было точно определить. Подождем, посмотрим, пока установится сколько-нибудь сносная температура. Пока лютует такой мороз, нечего и думать двигаться в путь.
Все было готово для старта, оставалось только запрячь собак и трогаться. Однако, если бы кто-нибудь заглянул к нам, он не подумал бы, что мы завершили подготовку снаряжения. Ребята кроили и шили усерднее, чем когда-либо. Мимолетные идеи, которым прежде не придавали значения, – будет время, можно сделать, а можно и не делать, – вдруг стали казаться страшно важными. И вот уже нож кромсает шкуры, и растет гора лоскутьев и шерсти. А теперь – за иголку, добавлять к старым новые швы.
Шли дни, а температура воздуха оставалась совсем не весенней. Иногда поднимется до -30° и тут же снова опустится до -50°. Не очень-то приятно ходить так и ждать. Мне все казалось, что один я хожу и жду, а другие давно в пути. Впрочем, так казалось не только мне.
– Хотел бы я знать, куда Скотт уже дошел?
– Да он еще и не выходил. Слишком холодно для его пони, неужели не понимаешь?
– А кто сказал тебе, что у них такой же мороз, как у нас? Может, у них там под горой много теплее, а уж тогда, бьюсь об заклад, они не будут лежать на боку. Эти ребята уже показали, на что способны.
Такие реплики можно было слышать каждый день. Многие из нас страдали от неопределенности, а я буквально изводился. Я твердо решил стартовать при первой возможности. Кое-кто считал, что, стартовав слишком рано, мы многим рискуем, но меня это возражение не убеждало. Ведь если станет чересчур холодно, можно просто взять и вернуться. Так где же риск?
Первый день сентября – минус 42°. С такой температурой уже можно сладить, но все-таки лучше повременить. Вдруг это снова обманный ход природы. На другой день – минус 53°, ясно, безветрие. 6 сентября – минус 29°. Наконец-то перемена, давно пора! На следующий день – минус 22°. Слабый восточный ветерок воспринимался как теплое дыхание весны. Дождались-таки подходящей температуры для старта. Все готовы. Завтра в путь…
Наступило 8 сентября. Мы поднялись в обычное время, позавтракали и приступили к сборам. Дел было немного. Пустые сани, на которых нам ехать к «линии старта», стояли наготове, захватил кое-какую мелочь и кати. Но как раз из-за того, что у нас было мало вещей, на сборы ушла уйма времени. Нам предстояло запрячь в пустые сани 12 собак, и мы предчувствовали, что придется с ними помучиться. Каждую собаку подводили к саням и запрягали двое.
Самые предусмотрительные из нас зачалили свои сани за кол, надежно вбитый в снег. Другие довольствовались тем, что опрокинули сани, а кое-кто проявил полную беспечность. Надо было закончить приготовления до того, как первый тронется с места. А то ведь тем, кто замешкается, не удержать собак, и покатят, не подготовившись как следует.
Собаки в это утро совсем отбились от рук. В двух упряжках были суки в поре, и они вносили разлад не только в свою упряжку, но и в другие. Один из каюров предусмотрительно оставил свою даму дома, запер ее в помещении артели. Да только это его не спасло от хлопот. Псы прыгали на задних лапах и дергали сбрую, норовя удрать в артель. А каюр только хитро улыбался. Он знал: как только упряжка тронется, в азарте бега любовь будет забыта. Другой каюр не стал выпрягать даму, дескать, это его лучшая собака, без нее он далеко не уедет.
Наконец почти все готово. Остались сущие пустяки. Вдруг я услышал страшный шум, обернулся и увидел упряжку, которая сорвалась с места без каюра. Сосед бросился помогать товарищу – тут же и его собаки рванулись вперед. Двое саней впереди, за ними бегут во всю прыть два каюра. Но силы были слишком неравные. Через несколько секунд каюры безнадежно отстали. Беглецы взяли курс на юго-запад и неслись с ураганной скоростью. Преследователям пришлось несладко. Они давно уже перешли с бега на шаг, идя по санному следу. Сани исчезли за торосами, много спустя туда же подоспели два каюра. Мы ждали их.
Тут возник вопрос: что сделают те двое, поймав наконец своих собак? Повернут домой или сразу отправятся к «линии старта»? Ждать было скучно, и мы решили доехать до «старта»; в крайнем случае, лучше уж подождем там. Сказано – сделано, и мы тронулись в путь. Заодно проверим, как справляются ребята со своими псами. Ведь и наши упряжки скорее всего изберут тот же курс, что беглецы. Наше опасение было не напрасным. Троим удалось повернуть своих собак и направить их по нужному курсу. А двое других тоже помчались по новой колее. Правда, потом они клялись, будто думали, что мы все туда двинемся. Я только улыбался в ответ, ничего не говоря. Сколько раз собаки отнимали у меня бразды правления. Конечно, неприятно, но, ей-богу, с кем не бывает.
Только в 12 часов дня мы все опять собрались вместе. Ребятам пришлось основательно потрудиться, догоняя собак, их даже пот прошиб. Я уже подумывал о том, чтобы вернуться обратно, тем более что за нами увязались три щенка. Если они и дальше побегут за санями, придется их застрелить. Но возвращаться после таких трудов, чтобы назавтра, вероятнее всего, повторить все снова, нам вовсе не улыбалось. И увидеть, как Линдстрём стоит в дверях и корчится от смеха… Нет, лучше продолжить путь. Никто не возражал. Мы впрягли собак в нагруженные сани, а пустые поставили друг на друга.
В половине первого состоялся настоящий старт. Замеченный нами старый след вскоре пропал, но мы тут же встретили флажки, которые ставили через каждые два километра, когда последний раз выезжали устраивать склад. Скольжение было отличное, мы стремительно продвигались к югу. В первый день мы ехали недолго и, покрыв всего 19 километров, стали лагерем в половине четвертого.
Первая ночь на воздухе никогда не бывает приятной, но эта была ужасной. «Дама», о которой я говорил выше, дала повод для весьма бурных сцен. Наши 90 собак шумели так, что мы не сомкнули глаз. Мы облегченно вздохнули, когда часы показали четыре и можно было приступить к утренним сборам. Каюр за ночь передумал: эту суку нельзя оставлять в упряжке. С ней на полюс идти невозможно. И когда мы остановились на второй завтрак, я велел застрелить ее. Одновременно пристрелили и трех щенят.
Скольжение в этот день, как и накануне, было идеальное. Флажки стояли на своих местах, и, если судить по ним, за это время здесь вовсе не было осадков.
За день мы прошли 25 километров. Собаки были еще не тренированы, но с каждым часом бежали все лучше. Десятого они явно обрели надлежащую форму. В этот день никто не мог сдержать своей упряжки, собаки наперебой рвались вперед. Упряжки сталкивались, и начиналась неразбериха. Неприятно. Собаки без толку тратили свои силы, а время, уходившее на то, чтобы их разнять, пропадало зря. На них нашло какое-то буйство. Так, Лассесен, заметив в другой упряжке своего врага Ханса, поддержанный своим другом Фиксом, рванулся вперед. Глядя на них, и все остальные собаки упряжки понеслись во весь опор. Каюр был бессилен остановить их. Собаки мчались, не сбавляя хода, пока не догнали упряжку, где шел предмет ненависти Лассесена и Фикса. Обе упряжки сцепились. Поди-ка, разберись в 96 собачьих лапах! Пришлось тем, кто не мог справляться со своими упряжками, выпрячь несколько собак и привязать их к саням. Таким образом нам удалось навести порядок. За день было пройдено 30 километров.
Когда мы проснулись в понедельник одиннадцатого, на градуснике было -55°. Погода чудесная – тихо и ясно. Собакам было явно не по себе, недаром они всю ночь вели себя сравнительно спокойно. Мороз тотчас отразился на скольжении. Теперь снег тормозил сани. Нам попалось несколько трещин, и Ханссен чуть не провалился, но сани удалось удержать, обошлось без последствий.
На ходу мороз не чувствовался, напротив, по временам нам становилось жарко. От дыхания над упряжками стоял такой туман, что и не разглядишь соседа, хотя мы следовали один за другим почти вплотную.
12 сентября – минус 52°, встречный ветер. Мороз пронизывал насквозь. Видно было, что собаки страдают от холода, особенно утром, когда они лежали, свернувшись калачиком и грея нос хвостом. Время от времени по телу их пробегала дрожь, а некоторые дрожали непрерывно. Надо было силой поднимать их, чтобы надеть сбрую. Пришлось мне признать, что при такой температуре не стоит идти дальше, риск слишком велик.
Решили дойти до склада на 80° южной широты и оставить там свой груз. К тому же в этот день мы сделали зловещее открытие: в компасах замерзла жидкость, и они вышли из строя.[84] Видимость заметно ухудшилась, и мы очень смутно представляли себе, в какой стороне солнце. Идти вперед при таких условиях – дело неверное. Возможно, мы держим правильный курс, но столь же вероятно, пожалуй, даже еще вероятнее, что мы сбились с курса. Значит, лучше всего разбить лагерь и переждать. В тот день по адресу мастера, поставившего нам компасы, произносились далеко не лестные слова.
Мы остановились в 10 утра. Весь день еще впереди, и мы решили устроиться получше, соорудить две снежные хижины. Снег не очень подходил для строительства, но нам удалось кое-как заготовить нужное число кирпичей. Одну хижину сложил Ханссен, другую – Вистинг. При царившей в тот день температуре снежная хижина во много раз лучше палатки. И мы сразу воспрянули духом, когда забрались в хижины и разожгли примус. Ночью вокруг нас был слышен какой-то подозрительный шум. Я даже заглянул под спальный мешок, чтобы проверить, далеко ли до дна, но никакой трещины не обнаружил. Обитатели второй хижины ничего не слышали. Позднее мы поняли, что звук этот происходил от оседания снега. Случается, что большие участки снежного покрова обламываются и оседают. При этом чувство такое, словно у вас грунт уходит из-под ног, – не очень приятно. Оседание сопровождается гулом, заставляющим подчас собак – да и каюров тоже – подпрыгивать в воздух. На плато однажды мы услышали гул такой силы, что он напоминал канонаду. Впрочем, мы скоро привыкли к этому явлению.
На следующий день – минус 52,5°, ясно, безветрие. Мы прошли 30 километров, стараясь держать верный курс по солнцу. Когда остановились, градусник показывал -56,2°. На этот раз я сделал то, против чего всегда восставал, а именно – взял с собой спиртные напитки: бутылку простой и бутылку имбирной водки. Решив, что сейчас самая пора ее употребить, я достал имбирную водку. Оказалось, что она замерзла. При оттаивании бутылка лопнула, и мы выбросили ее на снег, после чего все наши собаки принялись чихать.
Другая бутылка – «Люсхолм № 1» – тоже замерзла. Наученные неудачей, мы стали осторожнее и сумели оттаять вторую бутылку. Подождали, пока все забрались в спальные мешки, и разлили ее. Меня ожидало полное разочарование. Водка не доставила нам никакого удовольствия. Но я доволен, что произвели опыт: второй раз я его не повторю. Водка совсем не подействовала, не ударила ни в голову, ни в ноги.
Четырнадцатого – снова холодный день, – 56°. К счастью, было ясно, видимость хорошая. Вскоре после старта на ровной поверхности снега вдруг показался какой-то блестящий бугор. Бинокль сюда! Склад… Он находился прямо по нашему курсу Ханссен, который все время ехал первым без направляющего и по большей части без компаса, не ударил лицом в грязь. Мы ограничились единодушным выводом, что он молодец.
В половине одиннадцатого мы подошли к складу и тотчас разгрузили сани. Вистинг взял на себя отнюдь не приятный труд – приготовить нам по чашке горячего молока при -56°. Поставил примус за ящиками с продовольствием и разжег его. Как ни странно, керосин в бачке не замерз; наверно, это потому, что примус был надежно защищен от мороза в ящике. Чашка «солодового молока Хорлика» показалась мне в этот день куда вкуснее, чем когда я пил его в последний раз в ресторане в Чикаго. Насладившись горячим напитком, мы сели на опустевшие сани и двинулись домой.
Скольжение было плохое, но с легким грузом собаки бежали прытко. Я сидел на санях Вистинга, так как считал его упряжку самой сильной. Мороз не ослабевал, и я с удивлением думал о том, как это мы сидим неподвижно на санях и не мерзнем. Кое-кто весь день не вставал с саней, но большинство иногда соскакивало и бежало рядом, чтобы согреться. Сам я надел лыжи и покатил за санями на буксире. Мне этот сомнительный спорт никогда не нравился, но сейчас куда ни шло. Ногам тепло, а это главное. Я и после занимался этим «спортом», но по другой причине.
Вечером 15 сентября, когда мы сидели в палатке, болтая и занимаясь стряпней, Ханссен вдруг объявил:
– Кажется, я без пятки остался!
Разулся и предъявил нам отмороженную, словно восковую, пятку. Зловещее зрелище. Он растирал пятку до тех пор, пока не «почувствовал ее снова», после чего надел чулки и залез в спальный мешок. Тут послышался голос Стюбберюда:
– А ведь и у меня с пяткой что-то неладно.
То же лечение, и тот же результат. Да, ситуация: две ненадежных пятки, а до Фрамхейма 75 километров!
К счастью, на следующее утро потеплело, было «почти лето» – минус 40°. Совсем другое дело! По мне так разница между -40° и -50° весьма ощутима. Казалось бы, при таком морозе несколько градусов больше или меньше уже не играют роли. А вот играют!
В этот день нам пришлось отпустить несколько собак, которые не поспевали за другими. Мы надеялись, что они доберутся сами по нашим следам. Но Адам и Лазарь так и не пришли на базу. Сара вдруг упала замертво на бегу. Камилла тоже входила в число отпущенных.
На обратном пути порядок следования был такой же; Ханссен и Вистинг обычно уходили далеко вперед, если не останавливались и не поджидали остальных. Собаки бежали быстро. Мы собирались остановиться у флага на 30-м километре от Фрамхейма и дождаться отставших, но так как погода была отличная, тихо и ясно, а старый след был отчетливо виден, я решил продолжать путь. Чем скорее больные пятки окажутся дома, тем лучше! Первые двое саней были на базе в 4 часа дня. Еще одни – в шесть, затем еще двое – в половине седьмого. Последняя упряжка пришла в половине первого ночи. И где только она замешкалась!
В эти морозные дни нам попалось одно необычное образование, я прежде никогда такого не видел. Мельчайшие снежинки, собираясь вместе, образовали маленькие цилиндры средней высотой около трех сантиметров и с таким же примерно диаметром. Они катились колесом по поверхности, иногда собираясь в большие кучи, потом продолжали катиться дальше по одной или по несколько штук. Если положить такой цилиндрик на ладонь, не ощутишь ни малейшего веса; сожмешь самый крупный – от него практически ничего не остается. При -40° мы таких образований не наблюдали.
Вернувшись домой, мы тотчас занялись пятками. Престрюд поморозил обе пятки, одну слегка, другую посильнее, но, насколько я мог судить, не так сильно, как двое других. Прежде всего мы разрезали огромные пузыри и выпустили из них жидкость. Потом поставили борные компрессы, меняя их утром и вечером. Это лечение продолжалось долго. Наконец, можно было снять старую кожу – под ней уже наросла новая, здоровая и крепкая. Как говорится, на пятки поставили заплатки.
В сложившейся ситуации я счел необходимым разделить наш отряд на две части. Один пойдет на юг, другой попытается достигнуть Земли Короля Эдуарда VII, посмотрит, что там можно сделать, а заодно исследует окрестности Китовой бухты. В этот отряд вошли Престрюд, Стюбберюд и Юхансен под начальством первого. Такое деление давало много преимуществ. Во-первых, меньший по численности отряд будет двигаться быстрее. Наши вылазки уже показали, что много людей и много собак – не самое удачное решение. В частности, мы оттого и собирались утром по 4 часа. Сократив отряд наполовину, так, чтобы понадобилась только одна палатка, я рассчитывал и вдвое сократить время на сборы. Много больше пользы будет и от наших складов, ведь на пять человек тех же запасов хватит на гораздо более долгий срок. Что до научных результатов, то преимущества настолько очевидны, что нет надобности об этом подробно говорить.
Перед восточным отрядом были поставлены такие задачи:
1. Дойти до Земли Короля Эдуарда VII и произвести там исследования, насколько позволят время и обстоятельства.
2. Нанести на карту и исследовать Китовую бухту с ее ближайшими окрестностями.
3. Насколько возможно, поддерживать Фрамхейм в порядке на случай, если нам придется зимовать еще раз.
Итак, дальше мы работали, так сказать, в два отряда. Полярный отряд должен был выступить, как только всерьез установится весна. Срок выхода второго отряда я предоставил назначить самому Престрюду. Это дело было не такое уж срочное. Они могли не торопиться.
Опять началась возня со снаряжением, опять прилежно заработали иголки.
Через два дня после нашего возвращения Вистинг и Бьоланд отправились на 30-й километр, чтобы забрать отпущенных на этом отрезке собак, которые все еще не вернулись. Они одолели 60 километров за 6 часов и привели с собой все десять оставленных нами собак. Некоторые из них лежали у самой вехи. Ни одна собака не поднялась с места при виде саней. Пришлось их поднимать и впрягать. Двух-трех, у которых были поранены лапы, погрузили на сани. Вероятно, большинство из них самостоятельно вернулось бы домой через несколько дней. Я не мог взять в толк, как это здоровым и сильным собакам могло прийти в голову отлеживаться на снегу.
24 сентября был отмечен первый признак весны: вернувшись с морского льда, Бьоланд сообщил, что застрелил тюленя. Значит, тюлени начали выходить на лед – добрый знак. На другой день мы отправились за тушей и убили еще одного зверя. Собаки сразу оживились, получив свежее мясо, не говоря уже о сале. Да и люди тоже были рады свежему бифштексу.
26-го после десятидневного отсутствия возвратилась Камилла. Ее отпустили во время последнего похода в 110 километрах от Фрамхейма; вернулась она такой же толстой и упитанной, какой была. Вероятно, оставшись в одиночестве, закусила кем-нибудь из своих товарищей. Многочисленные поклонники восторженно встретили ее.
27 сентября мы убрали навес над окном нашей комнаты. Свет проникал к нам через длинную деревянную шахту; естественно, освещение было не ахти какое. Но как-никак настоящий дневной свет, и мы ему были очень рады.
29 сентября появился еще более верный вестник весны – стайка антарктических буревестников. Свидание с этими красивыми быстрыми птицами обрадовало нас. Они несколько раз облетели вокруг дома, словно желая убедиться, что мы еще тут. Мы вышли из дому приветствовать их. Нас рассмешили собаки. Птицы сначала летали довольно низко над землей. Заметив это, собаки все как одна ринулись их ловить. Каждая хотела быть первой, они буквально распластались на снегу. Но птицы вдруг поднялись так высоко, что собаки потеряли их из виду. И уставились друг на друга, явно сбитые с толку. Но замешательство длилось недолго, в одну секунду решение было принято, и собаки схватились друг с дружкой.
Итак, весна наступила, осталось только залечить пятки – и в путь!
Наконец 20 октября мы отчалили. Погода в последние дни была ненадежная. То ветер, то тихо. То пасмурно, то ясно. Словом, настоящая весенняя погода. Так и в этот день – с утра изморозь и туман, в перспективе ничего хорошего. Но в половине десятого с востока потянул ветерок и стало проясняться. Настроение членов отряда не надо было долго штудировать.
– Ну, как – отправляемся?
– Конечно, чего там, пошли.
Полное единодушие. Мы живо запрягли наших «рысаков» и, кивнув остающимся, словно расставались с ними только до завтра, тронулись в путь. Линдстрём, по-моему, даже не вышел нас проводить. «Заурядное дело. Ничего особенного». Нас было пятеро – Ханссен, Вистинг, Хассель, Бьоланд и я. Мы шли на четырех санях, по 13 собак на каждые. Сани на старте были совсем легкие, ведь они несли только снаряжение, нужное нам для перехода до 80° южной широты: там стояли наготове все наши ящики. Знай себе сиди да лихо помахивай кнутом. Я сидел верхом на санях Вистинга; со стороны поход к полюсу, наверно, показался бы приятным путешествием.
Престрюд стоял на морском льду с киноаппаратом и принялся усиленно крутить ручку, когда мы проезжали мимо. Мы поднялись на барьер по ту сторону залива – опять он стоит и вертит ручку. Последнее, что я видел, когда мы пошли по гребню и все знакомое исчезло из виду, был киноаппарат.
Мы неслись во весь опор на юг. Сани скользили легко, но постепенно сгущались облака. Первые 20 километров я ехал вместе с Хасселем. Но потом убедился, что собаки Вистинга лучше других тянут двух седоков, и пересел к нему. Ханссен ехал первым. Из-за облачности он мог ориентироваться только по компасу. За ним ехал Бьоланд, потом Хассель и наконец Вистинг и я.
Сразу за небольшим подъемом нас подстерегал довольно крутой спуск метров около 20, не больше. Я сидел спиной к собакам, смотрел назад и наслаждался быстрой ездой. Вдруг снег рядом с санями провалился, и разверзлась черная пасть, достаточно широкая, чтобы запросто поглотить нас всех. Еще несколько дюймов, и наш переход к полюсу не состоялся бы. Местность была неровная, и мы поняли, что забрали чересчур на восток, а потому теперь взяли более западный курс. Как только опасный участок остался позади, я воспользовался случаем, надел лыжи и прицепился к саням. Все-таки легче собакам.
Вскоре немного прояснилось, и мы увидели впереди один из флагов, которыми разметили маршрут. Подъехали к нему. С этим местом было связано много воспоминаний. Мороз, застреленные собаки: в прошлый раз мы убили здесь суку и трех щенков. Итак, пройдено 37 километров. Вполне довольные первым днем своего долгого пути, мы разбили лагерь.
Мое предположение, что с маленьким отрядом мы быстрее поставим палатку и управимся со всеми прочими делами, тотчас оправдалось. Палатка словно сама выросла из земли, можно было подумать, что мы долго упражнялись. В палатке было достаточно просторно, и выработанный нами распорядок вполне оправдал себя в походе. Как только мы останавливались, сейчас же все брались за палатку. В петли вставлялись колышки, Вистинг забирался внутрь и устанавливал шест, а мы натягивали оттяжки. После этого я входил внутрь и принимал все, что должно было находиться в палатке, – спальные мешки, личные вещи, ящики с кухней, продовольствие. Все раскладывалось по местам. Зажигался примус, на него ставился котелок со снегом. Тем временем остальные кормили собак и распрягали их. Вместо габардинового «заборчика» мы окружали палатку снежным валом. В другой защите не было нужды, собаки с ней считались. Лыжные крепления снимали с лыж и либо засовывали в ящик с другим мелким имуществом, либо вместе с упряжью вешали на концы лыж, которые втыкали в снег и привязывали к передней части саней. Палатка оказалась превосходной во всех отношениях. Темная окраска смягчала свет и придавала уют нашему жилищу.

Лагерная стоянка
Еще на десятом километре мы отпрягли Нептуна. Отличный пес, но такой жирный, что не поспевал за остальными. Мы рассчитывали, что он побежит за нами. Но он не пришел в лагерь. И мы решили, что Нептун повернул обратно, чтобы продолжать отъедаться. Как ни странно, он этого не сделал, не вернулся на базу Куда он подевался, остается загадкой. Отпустили мы и Крысу. Тоже хорошая собака, но ее почему-то раздуло, и она не могла идти. Позднее она пришла на базу Ульрика пришлось поначалу везти на санях, потом он оправился. Мишка ковылял прихрамывая за санями. Пири совсем не тянул. Его отпрягли, и некоторое время он шел за нами следом, но затем исчез. Когда позднее восточный отряд проходил склад на 80° южной широты, он застал Пири там в хорошем состоянии. Сначала пес сторонился людей, но потом им удалось подойти и надеть на него лямку. Он честно послужил впоследствии. Уран и Фухс были не в форме. Словом, в первый же день мы понесли изрядные потери, зато остальные были не собаки, а золото.
Ночью дул свежий восточный ветер, однако к утру он стих, и мы снялись в 10 часов. Хорошая погода держалась недолго. С новой силой подул восточный ветер, разгулялась метель. Все же мы продвигались хорошо, минуя флаг за флагом. Отмахав 31 километр, мы достигли снежной пирамиды, которая была сложена еще в начале апреля и простояла уже семь месяцев. Пирамидка была крепкая и надежная. Это позволяло сделать вывод, что на такие знаки можно положиться. Они не разваливаются. Опираясь на этот опыт, мы возвели затем целую вереницу пирамид на своем пути к югу.
Постепенно ветер перешел к зюйд-осту. Он не унимался, но метель, к счастью, прекратилась. Температура была 24,2°, не самая приятная для похода.
Вечером, незадолго перед тем, как поставить палатку, мы обнаружили следы, которые оставили во время предыдущей вылазки. Четкие, ясные следы, хотя прошло уже полтора месяца. Это было очень кстати, потому что нам уже давно не попадались флаги, а мы приближались к отвратительной дыре на 75-м километре от базы и надо было соблюдать осторожность.
Следующий день – 22 октября – принес с собой сплошную облачность. Сильный ветер с юго-востока, снег, метель. Вряд ли мы отважились бы в такую погоду пройти через «дыру», если бы накануне не нашли свои старые следы. Правда, видимость была ограничена, но мы хоть видели их направление. Для верности я наметил курс норд-ост-тен-ост, на два румба восточнее первоначального. Такое направление выглядело очень подходяще и по отношению к нашему старому следу, так как новый путь пролегал значительно восточнее.

Руаль Амундсен во время экспедиции к Южному полюсу
Последний взгляд на место, где стояла палатка, чтобы убедиться в том, что ничто не забыто, и мы ныряем в пургу. Погода была отвратительная. Снег идет, метель слепит глаза. Видимость такая, что порой с задних саней с трудом различаешь первые.
Перед нами ехал Бьоланд. Мы уже давно катили под гору, а это не соответствовало нашим расчетам. Впрочем, какие уж расчеты в такую погоду. Несколько раз мы пересекли трещины, правда, не очень большие. Вдруг смотрим – сани Бьоланда опрокинулись. Сам он соскочил с них и ухватился за потяг. Несколько секунд сани пролежали так на боку, потом начали уходить в снег и наконец совсем исчезли. Бьоланд крепко уперся ногами, собаки распластались на снегу, цепляясь когтями. Но сани продолжали погружаться. Все это произошло почти мгновенно.
– Не удержу!
Мы – Вистинг и я – как раз подоспели к нему. Он судорожно держал потяг, силясь удержать груз. Тщетно. Сани дюйм за дюймом уходили все глубже под снег. Похоже было, что и собаки понимают всю серьезность положения. Они упирались, сколько могли, вонзив когти в снег, да что толку. Дюйм за дюймом, медленно, но верно их затягивало в провал. Да, Бьоланд верно решил, что не справится. Еще несколько секунд, и его саням вместе с 13 собаками никогда бы уже больше не видать белого света! Помощь подоспела в последний момент. Ханссен и Хассель – они ушли немного вперед, когда случилась беда, – схватили веревку и прибежали на помощь. Веревку прочно связали с потягом, и двое – Бьоланд и я, – хорошенько уперевшись ногами, удерживали сани на весу. Первым делом выпрягли собак. Затем подтащили назад сани Хасселя и поставили их поперек трещины, в самом узком месте, где были крепкие края. После этого мы все вместе подтянули болтавшиеся внизу сани возможно выше и привязали лямками к саням Хасселя. Теперь можно было отпустить веревку. Одни сани надежно удерживали другие. Наконец-то мы могли перевести дух.
Дальше нам предстояло извлечь сани из трещины, а для этого сперва надо было их разгрузить. Кто-нибудь должен спуститься в трещину на веревке, развязать ящики и посылать их наверх. Все рвались в бой; отправился в трещину Вистинг. Он обвязался веревкой и пошел вниз. Бьоланд и я заняли свои прежние места, играя роль якоря. Тем временем Вистинг докладывал нам, что он видит. Ящик с кухней держался на волоске. Его обвязали веревкой и извлекли снова на свет божий. Хассель и Ханссен вытаскивали ящики один за другим по мере того, как Вистинг набрасывал на них петлю. Два храбреца действовали на краю пропасти с лихостью, на которую я поначалу взирал с восхищением. Мне всегда нравились мужество и презрение к опасности. Но эти ребята хватили через край. Они буквально бросали вызов судьбе. Вистинг снизу осведомил их, что слой, на котором они стоят, всего каких-нибудь несколько сантиметров толщиной, а им хоть бы что. Наоборот, они словно бы почувствовали себя еще увереннее.
– Мы удачное место выбрали, – заявил Вистинг. – Ведь только здесь трещина такая узкая, что можно поставить сани поперек. Возьми мы немножко левее (Ханссен с вожделением взглянул в указанном направлении) – всем была бы крышка. Там совсем нет снежного покрова, только корочка тонкая. Да и здесь внизу картина непривлекательная. Со всех сторон зубцы ледяные торчат, сразу бы насквозь пропороли.
Не очень приятное описание.
Повезло нам, что нашли «такое удачное место». Но вот Вистинг закончил свою работу, и его вытащили наверх. На вопрос, рад ли он снова очутиться наверху, Вистинг, улыбаясь, ответил, что «внизу было очень уютно». Затем мы вытащили сани; пока все обошлось благополучно.
– Но впредь нужно быть осторожнее, – сказал Хассель, – ведь я чуть не провалился, когда мы с Ханссеном тащили сюда сани.
Он улыбнулся, словно речь шла об отрадном воспоминании. Итак, Хассель тоже убедился, что лучше быть осторожным. В самом деле, трещин тут хватало, кругом сплошные трещины.
О том, чтобы продолжать движение через «дыру» (мы уже давно поняли, что, несмотря на все предосторожности, все-таки угодили в нее), не могло быть и речи. Надо искать место для палатки. Но это оказалось не так-то просто. Мы никак не могли найти достаточно большую площадку, чтобы разместить и палатку, и оттяжки. Палатка встала на маленьком, вроде бы надежном пятачке, а оттяжки мы протянули в разные стороны над трещинами. Мы уже всё тут знали. Вот эта трещина идет туда, потом туда, от нее отходит еще вторая трещина, вон она. Совсем как реки на школьной карте. Мне становилось не по себе, когда я глядел на эти трещины, – тут не развернешься. Как бы то ни было, мы постарались понадежнее разместить свои вещи. Собак не выпрягали, так меньше риска их потерять.
Вистинг пошел к своим саням – он уже несколько раз проходил по этому месту, – и вдруг я увидел над снегом только его голову, плечи и руки. Он провалился, но сумел задержаться, расставив руки. И сам же выбрался наверх. Эта трещина, как и прочие, была бездонна.
Мы забрались в палатку и приготовили себе рагу. Погода – погодой, мы же постарались устроиться поуютнее. Был час дня. Кстати, ветер начал ослабевать сразу после того, как мы разбили лагерь, а теперь он и вовсе угомонился.
К 3 часам начало светать, и мы вышли взглянуть – «как там». Погода явно налаживалась, на севере над горизонтом проглянуло что-то вроде голубого неба. На юге было пасмурно. В густом тумане смутно проступали очертания какого-то куполовидного образования. Вистингу и Ханссену захотелось его исследовать. Оказалось, что это один из тех небольших бугров, похожих на стог, на которые мы уже обращали внимание в этом районе. Удар палкой – так и есть, бугор полый, открылся черный провал. Ханссен буквально упивался блаженством, рассказывая об этом. Хассель смотрел на него с завистью.
В 4 часа прояснилось, и небольшой отряд из трех человек отправился разведать выход из лабиринта трещин. В числе тройки был и я, поэтому мы связались длинной веревкой: не люблю проваливаться, когда этого так просто избежать. Мы взяли курс на восток, которым раньше выходили отсюда. И уже через несколько шагов трещины остались позади. Ясная погода позволяла осмотреться. Наша палатка стояла в северо-восточном углу участка, изобилующего ледяными буграми. Никакого сомнения – «чертова дыра». Мы прошли еще немного на восток, убедились, что путь свободен, затем вернулись к палатке. Живо собрались и не мешкая двинулись дальше. Было великим облегчением снова ощутить под ногами надежную опору, и мы устремились на юг. Несколько маленьких стогов на юге, поперек нашего курса, свидетельствовали, что мы еще не совсем вышли из опасной зоны.
Длинные, но узкие трещины на нашем пути тоже напоминали о необходимости смотреть под ноги. Приблизившись к буграм, мы остановились, чтобы посовещаться.
– Пошли напрямик, – предложил Ханссен, – это гораздо быстрее, чем идти в обход.
Что верно, то верно. Но ведь и риск гораздо больше.
– Ну, давай попробуем, – настаивал он. – Не получится, так не получится.
Я поддался на уговоры, и вот нас опять окружают стога. Видно было, что Ханссен счастлив. Как раз то, что он так любит… Теперь держись! К своему удивлению, мы благополучно миновали несколько стогов. И начали уже надеяться, что пронесет, – вдруг три первых собаки в упряжке Ханссена исчезли, и вся упряжка тотчас остановилась. Ханссен без труда вытащил собак из трещины и пересек ее. Следом за ним и мы ее одолели без происшествий. Но дальше пошел ненадежный грунт, уже через несколько шагов снова провалились три собаки.
Мы опять очутились на участке, испещренном трещинами, словно оконное стекло. Нет, хватит, не желаю больше участвовать в этом смертельном номере. Я решительно заявил, что надо пройти обратно по своему следу и обогнуть этот участок. Ханссен заметно приуныл.
– Еще немного, и мы выберемся, – возразил он.
– Возможно, – сказал я, – но сначала отступим назад.
Нелегко ему было смириться с этим. Один бугор особенно пришелся ему по вкусу, и он мечтал померяться с ним силами. Это был торос; судя по виду, он вполне мог образоваться в дрейфующих льдах. Как будто четыре огромные льдины вздыбились и срослись между собой. Мы и без проверки знали, что у него внутри: зияющая бездна. Ханссен с тоской поглядел на него в последний раз и отвернулся.
Мы отчетливо видели все окрестности. Как я уже говорил, этот участок находился в котловине. Мы двинулись в обход и без приключений поднялись на высоту к югу от котловины. И увидели с нее один из своих флагов. Он стоял восточнее, подтверждая нашу догадку, что мы зашли слишком далеко на запад. Мы еще раз соприкоснулись с коварным участком, пересекая несколько трещин и проходя мимо широкого провала. Зато дальше снова можно было двигаться спокойно. Правда, Ханссен все-таки не удержался, подошел и заглянул в провал. Вечером мы добрались до двух снежных хижин, построенных нами в прошлую поездку в 42 километрах от склада, и расположились там лагерем. Хижины были забиты снегом, и погода стояла такая теплая, что мы предпочли палатку. День был насыщен приключениями, мы еще легко отделались. Скольжение было хорошее, этап этот прошли играючи.
Когда мы стартовали на другое утро, было облачно, видимость плохая, и вскоре зюйд-вест нагнал такую метель, что на расстоянии длины десяти саней почти ничего и не видно. Мы задумали в этот день достичь склада, но в такую погоду его вряд ли найдешь. Тем не менее мы катили дальше. До склада еще далеко, можно не опасаться, что проскочим мимо. К тому же в зените небо оставалось чистым, и мы надеялись, что ветер и метель прекратятся. Однако надежды не оправдались. Ветер только усиливался. На санях Вистинга был установлен наш самый испытанный одометр, на который вполне можно было положиться. Поэтому Вистингу мы поручили проверять, сколько пройдено. В половине второго он повернулся ко мне и сказал, что мы прошли нужное расстояние. Я крикнул Ханссену, чтобы он смотрел в оба.
В эту самую минуту несколько левее нас показался склад. В вихрях снега он напоминал снежный дворец. Одометр и компас с честью выдержали испытание.
Мы подъехали к складу и остановились. На пути к югу нам предстояло отыскать три важных пункта, и вот первый найден. Как тут не радоваться. 160 километров от Фрамхейма одолели за четыре перехода, теперь можно дать собакам отдых и тюленины сколько влезет. Пройденные километры явно пошли на пользу нашим собакам. Все они, за одним лишь исключением, были в отличном состоянии. Исключение составлял Уран. Нам никак не удавалось откормить его. Он оставался хилым и тощим, смерть подстерегала его у склада на 82° южной широты. В отличие от Урана, Жеманница была отнюдь не тощей. Бедняжка. Несмотря на свое положение, она старалась не отставать, работала изо всех сил. Молодец, но если она не похудеет до старта с 82° южной широты, придется ей последовать за Ураном в мир иной.
Ящики с провиантом и снаряжение, оставленные нами здесь в прошлый раз, совсем занесло снегом. Впрочем, откопать их было недолго. Первым делом мы принялись за тюленя и нарубили корм собакам. Их не надо было заставлять есть великолепные куски мяса с жиром. Они набросились на угощение, а уничтожив нарубленные куски, спокойно принялись за тушу, и было одно удовольствие смотреть, как они наслаждаются тюлениной. Поначалу все шло тихо и мирно. Проголодавшиеся собаки думали только о еде, но едва они заморили червячка, миру пришел конец. Акула, не управившись и с половиной своей доли, пошел отнимать у Бойкого его порцию. Естественно, не обошлось без визга и лая. Явился Ханссен, Акула поспешил исчезнуть. Отличный пес, но страшно упрямый. Как вобьет себе что-нибудь в голову, нелегко выбить.
В одну из наших вылазок, когда мы устраивали склады, мне довелось кормить собак Ханссена. Акула живо проглотил свой пеммикан и стал смотреть, чем бы еще поживиться. Ага, вот Бойкий наслаждается своим пеммиканом – как раз то, что надо. Он вцепился в загривок сопернику, заставил его отдать пеммикан и приготовился сам с ним управиться. Но я все видел, и не успел Акула опомниться, как сам был схвачен за шиворот. Ударив его по морде кнутовищем, я попытался отнять у него пеммикан. Это оказалось не так-то легко. Никто из нас не хотел сдаваться. Дошло до того, что мы, сцепившись, покатились по снегу. Жаркая схватка кончилась моей победой, Бойкий получил обратно свою долю. Любая другая собака после удара по морде сейчас же отдала бы пеммикан, но только не Акула.
Хорошо было войти в палатку, мы основательно прозябли. Ночью юго-восточный ветер сменился нордом, и весь снег, который накануне несло на север, мог поворачивать кругом – путь открыт, даровой проезд. И он этим воспользовался. Когда на другое утро мы вышли из палатки, то из-за бурана ничего не увидели. Правда, нас это сейчас не беспокоило, ведь мы решили провести здесь два дня. Но отсиживаться в палатке не больно-то приятно, особенно если приходится все время лежать в мешке. От разговоров быстро устаешь. Писать без конца тоже нельзя. Еда – доброе занятие, когда можно есть вволю, и читать не худо, когда есть книги. Но если меню ограничено, а библиотеки в таких поездках не отличаются полнотой, обе эти возможности отпадают. И однако, есть развлечение, которому в этих условиях спокойно можно предаваться, это – сон. Да, счастлив тот, кто в такую пору может спать сутки напролет. Но не все наделены этим даром, а кто наделен, не склонен признаваться. Мне доводилось слышать такой храп, что казалось – человек сейчас задохнется, а разбудишь его – ни за что не признается, что спал. Иные даже утверждают, будто страдают бессонницей. Правда, из нас никто до этого не доходил.
Днем ветер утих, и мы вышли немного поработать, разобрали старый склад и сложили новый. У нас здесь лежало три комплекта санного снаряжения, в котором мы не нуждались, его можно было оставить. Что-то пригодится восточному отряду во время его вылазки, но не так уж много. Богатый склад может оказаться очень кстати, если кто-нибудь надумает исследовать области к югу от Земли Короля Эдуарда VII. Мы сумели обойтись без него.
Одновременно мы нагрузили свои сани, и вечером все было готово к старту. Собственно, с этой работой можно было и не спешить, ведь мы все равно собирались просидеть на месте весь следующий день. Но в этих краях быстро усваиваешь, что не стоит упускать хорошей погоды. Никогда не знаешь, сколько она продержится.
Однако следующий день нас не подвел. Спи, сколько влезет. И это не было потерянным временем. Собаки усердно работали челюстями, с каждым часом набираясь сил.
Пройдемся теперь к нашим саням и посмотрим, что на них нагружено. Первыми, носом к югу, стоят сани Ханссена. Дальше следуют сани Вистинга, Бьоланда и Хасселя. Выглядят они примерно одинаково. Запас продовольствия идентичный. Ящик № 1 содержит около 5300 галет и весит 50,38 килограмма; ящик № 2: 112 порций собачьего пеммикана, 11 «колбас» с сухим молоком, шоколад и галеты, вес брутто 80,40 килограмма; ящик № 3: 124 порции собачьего пеммикана, 10 «колбас» сухого молока и галеты, вес брутто 74,90 килограмма. Чистый вес провианта на каждых санях 303,2 килограмма. Вместе со снаряжением, включая собственный вес, сани весили почти 400 килограммов. Сани Ханссена отличались от других тем, что тросы были не стальными, а алюминиевыми, и у него не было одометра: Ханссен вез главный компас, поэтому на его санях не должно было быть железа. Остальные трое саней имели и компас, и одометр. Таким образом, у нас было три одометра и четыре компаса. Из инструментов мы везли два секстанта и три искусственных горизонта: два стеклянных и один ртутный, – один гипсометр для измерения высоты, один барометр-анероид, четыре термометра для метеорологических наблюдений. Кроме того, два бинокля. Взяли походную аптечку, а из хирургических инструментов – щипцы для зубов и… машинку для стрижки бороды. Иголки, нитки в изобилии. Маленькую, легкую резервную палатку – вдруг кому-нибудь придется возвращаться домой. У нас было два примуса и вдоволь керосина – 102 литра на трех санях, в обычной посуде. Правда, бидоны оказались непрочными. Керосин не вытек, но Бьоланду приходилось постоянно заниматься пайкой. Все необходимое для этого мы имели.
У каждого был свой личный мешок, где хранилась вся запасная одежда, дневники и журналы для наблюдений. Взяли мы в запас и ремни для лыжных креплений. Спальные мешки первое время были двойные – внутренний и наружный. Часов – пять штук, из них трое для наблюдений.
Мы решили пройти от 80 до 82° южной широты дневными переходами по 28 километров. Мы вполне могли бы проходить вдвое больше, но для нас главное было не скорость, а цель, поэтому мы предпочитали небольшие переходы. К тому же от склада до склада мы были хорошо обеспечены пищей, можно и не спешить. Мы с интересом ждали, как собаки будут справляться с нагруженными санями. Мы надеялись, конечно, что все будет в порядке, но действительность превзошла наши ожидания.
26 октября мы покинули 80° южной широты, дул слабый норд-вест, было ясно и тепло. Пришло время занять место направляющего. Я стал в нескольких шагах перед санями Ханссена, направив лыжи в нужную сторону. Последний взгляд назад.
– Порядок.
Я стартовал. Я подумал… нет, я не успел ни о чем подумать. Миг, и собаки сбили меня с ног. К счастью, они запутались в сбруе и остановились, так что я отделался благополучно. Конечно, я обозлился, но у меня хватило ума понять, что и без того комическая ситуация станет вдвойне смешной, если я дам волю своему гневу. И я благоразумно промолчал. Да и кого, собственно, винить? Разве что себя самого. Почему не развил достаточную скорость? Я решил в корне изменить свою политику – в этом ведь нет ничего постыдного? – и пристроился в хвост. Уж там я не ударю лицом в грязь…
– Все в порядке? Пошли!
Ух ты! Первым ринулся вперед Ханссен, словно метеор. За ним по пятам последовал Вистинг, затем Бьоланд и Хассель. Они катились на лыжах, прицепившись к саням. Я решил идти сам, мол, собакам и без того придется нелегко. Но меня ненадолго хватило. Первые 10 километров мы покрыли за один час. После этого, сытый по горло, я догнал Вистинга, примостился на его санях и так добрался до 80,5° южной широты. 50 километров! Приятный сюрприз. Кто из нас мечтал о том, чтобы катиться к полюсу на прицепе! Это оказалось совсем несложно благодаря замечательному таланту Ханссена в роли каюра. Собаки беспрекословно повиновались хозяину. Они знали, если начнут отлынивать, их остановят, и последует хорошая порка. Случалось, конечно, и здесь, что натура брала верх над выучкой, но «причастие», которое неизбежно следовало, надолго отбивало у них охоту повторять такие штуки.

Постройка гурия
Быстро завершив дневной переход, мы рано стали лагерем. Уже на следующий день на востоке показались огромные торосы, которые мы впервые увидели между 81 и 82° южной широты, когда везли провиант на второй склад. Очевидно, воздух был очень чистый. Но количество различаемых нами торосов было таким же. Опыт подсказывал нам, что пирамиды, сооружаемые по пути на юг, будут превосходными ориентирами на обратном пути. И мы решили сделать побольше таких вех. Всего мы построили 150 двухметровых пирамидок. На них пошло 9000 снежных кирпичей, которые мы нарезали сделанными для этого большими ножами.
В каждой пирамидке оставлялась записка с ее номером, координатами и указанием, сколько и в какую сторону ехать до следующей пирамидки, лежащей севернее. Такая осторожность с моей стороны может показаться чрезмерной. Но я всегда считал, что в этих безбрежных просторах, где нет никаких ориентиров, понятие «излишняя осторожность» не существует. Если собьешься с дороги, нелегко будет добраться до дома. К тому же в работе с пирамидками было еще одно очевидное преимущество. Каждый раз, когда мы останавливались строить знак, наши собаки отдыхали, а это очень важно, чтобы выдерживать темп.
Первую пирамидку мы поставили на 80°23 южной широты. На первых порах мы ограничивались одним знаком через каждые 13 и 14 километров.
Тридцатого застрелили первую собаку Это был Буне из упряжки Ханссена. Из-за преклонного возраста он не поспевал за остальными и был только обузой. Мы оставили его про запас в пирамидке, и он нам, вернее собакам, потом очень пригодился.
В этот день мы достигли второго важного пункта – склада на 81 ° южной широты. Мы самую малость отклонились к востоку. Расставленные поперек курса дощечки, которыми мы обозначили склад, было видно издалека. Если судить по ним, здесь совсем не было осадков. Как воткнули их, так и стоят. Перед складом мы пересекли две внушительные трещины; очевидно, снег заполнил их на большую глубину, поэтому обошлось без осложнений. В 2 часа дня мы подошли к складу Все было в полном порядке. Флаг развевался на флагштоке – и не скажешь, что он скоро 8 месяцев висит здесь. Сугробы вокруг склада достигали в высоту около полуметра.

Прибытие к складу на 81° южной широты
Следующий день был отличный – ясно и тихо. Солнце буквально припекало. Мы решили подсушить меховую одежду. В глубине спальных мешков всегда образуется немного инея. Кроме того, воспользовались случаем определить свое место и проверить компасы. Они оказались исправными. Пополнив походный провиант, мы 1 ноября двинулись дальше. На другое утро – густой туман, скверная погода. Возможно, она казалась хуже, чем была после чудесного дня накануне. Когда мы проходили здесь на юг в первый раз, собаки Ханссена провалились в трещину, но это мелочь, а других неприятностей у нас тут не было. Не ждали мы их и на этот раз. Но в этих местах так: чего не ждешь, на то нарвешься. Снег был рыхлый, идти тяжело. Время от времени мы пересекали узкие трещины. Один раз увидели зияющую дыру – совсем недалеко, иначе мы просто не заметили бы ее в таком тумане. Но до 22 километра все шло благополучно. Здесь Ханссен решил пересечь метровую трещину. И надо же: зацепился лыжей за гужики задних собак и упал поперек трещины. Неприятная история. Собаки уже прошли трещину, но сани стояли как раз над ней. Когда Ханссен упал, они сдвинулись так, что малейший толчок мог развернуть их вдоль трещины, а тогда ищи их на дне. Собаки мигом смекнули, что их хозяин и господин сейчас не способен их «причащать». Разве можно упустить такой случай! И вся упряжка, яростно рыча, затеяла такую драку, что шерсть летела клочьями. Естественно, собаки при этом дергали гужики, все больше разворачивая сани боком. И сами они в пылу битвы приближались к краю пропасти. А уж если провалятся – прощай вся упряжка! Кто-то из нас перепрыгнул через трещину, бросился в гущу собачьей своры и, к счастью, сумел унять драчунов. Одновременно Вистинг бросил Ханссену веревку и оттащил его подальше от трещины. Затем мы все вместе спасли сани. Потом, когда мы тронулись дальше, я подумал: «Интересно, как-то Ханссен себя чувствовал – небось, наслаждался, вися над пропастью и ожидая, что сейчас сорвется вниз! Это как раз в его вкусе!»
Завершив очередной 28-километровый этап, мы разбили лагерь.
От 81 ° южной широты начали ставить пирамидки через каждые 9 километров. На следующий день была отмечена самая низкая температура за весь переход —34,5°. Ветер юго-юго-восточный, не очень сильный, но все же летней погоду трудно было назвать. Мы ввели обычай, который оставался в силе на всем нашем пути к югу, – при постройке пирамидки посередине очередного этапа завтракать. Завтрак этот был не очень плотный, 3–4 овсяные галеты всухомятку – и все. Если кто-то хотел пить, он мог есть галеты со снегом: так сказать, хлеб и вода. В наших родных широтах вряд ли кого-нибудь соблазнишь таким блюдом. Но то родные широты, а здесь, если бы нам предложили еще «хлеба и воды», мы были бы только рады.
В этот день мы пересекли последнюю за много дней трещину, да и то она была всего несколько дюймов шириной. Дальше шла спокойная равнина, словно отлогие длинные волны, которые мы замечали только благодаря тому, что наши пирамидки часто как-то вдруг исчезали из виду. 3 ноября дул свежий южный ветер, сильно мело. Снег тяжелый, но собаки тянули неожиданно хорошо. Температура воздуха, как обычно при южном ветре, поднялась до -10°. Несмотря на ветер, путешествовать при такой температуре было одно удовольствие.
На другой день подул легкий норд. Скольжение резко изменилось к лучшему, и собаки то и дело переходили на галоп. По плану в этот день мы должны были бы дойти до склада на 82° южной широты, но густой туман подрывал наши шансы на успех. Под вечер мы одолели положенное число километров, но склада не было видно. Правда, видимость была не ахти какая, от силы метров 30. При таких условиях всего разумнее было разбить лагерь и ждать, пока не прояснится.
В 4 утра проглянуло солнце. Мы дали ему прогреть воздух и разогнать туман, а затем – в путь. Утро было дивное. Ослепительно ясное небо, тепло. Могучая равнина, полное безмолвие, сплошная гладь, абсолютная белизна. Хотя нет – там впереди что-то виднеется, нарушая белизну и гладь… Мы дошли до третьей важной точки, крайнего южного форпоста цивилизации. Перед нами был наш последний склад. Мы испытывали невыразимое облегчение и чувствовали себя наполовину победителями. В тумане мы отклонились к западу на пять с половиной километров. Тем не менее оказалось, что если бы мы вчера продолжали путь, то вышли бы прямо на наши флажки. Вон они выстроились в ряд, и черные лоскутки развевались так гордо, словно ждали похвалы за образцовую службу.
Как и у склада на 81° южной широты, здесь почти не было заметно осадков. Как и там, вокруг склада намело снега на полметра. Очевидно, тут держалась такая же погода. Склад был в точности таким, каким мы его оставили, сани стояли по-прежнему. Даже их не замело. А плотный снежный бугорок послужил отличной площадкой под нашу палатку.
Мы тотчас принялись за работу. Прежде всего отправили на тот свет Урана. Хотя он выглядел тощим и костлявым, мы увидели у него массу жира вдоль хребта. Пригодится, когда придем сюда на обратном пути. Жеманница явно не укладывалась в отведенный ей срок. У нее оставалась еще одна ночь. Дай бог…
Собачьего пеммикана в складе как раз хватило, чтобы сытно накормить собак и снова нагрузить сани. Другого продовольствия у нас было так много, что можно было оставить хороший запас на обратный путь.
На другой день устроили дневку, чтобы в последний раз дать собакам как следует отдохнуть. Хорошая погода позволила нам просушить снаряжение и проверить инструменты. К вечеру все было готово, и мы подумали о том, что неплохо потрудились осенью, полностью выполнили задуманное – перенесли базис с 78°38 на 82° южной широты.
Жеманнице пришлось отправиться следом за Ураном. Их положили поверх склада, а рядом – 8 малюток, которые так и не увидели дневного света.
Здесь мы решили дальше ставить пирамидки через каждые 5 километров и устраивать склады на каждом градусе широты. Сейчас собаки хорошо тянули сани, но мы-то знали, что им в конечном счете станет туго, если груз не убавится. Чем скорее мы их разгрузим, тем лучше.
7 ноября в 8 часов утра мы покинули 82° южной широты. Теперь впереди простиралось неведомое, начиналось серьезное испытание. Барьер выглядел по-прежнему. Плоский рельеф, отличное скольжение. У первой же очередной пирамидки пришлось застрелить Люсси. Чудесная собака, жалко убивать, да что поделаешь. Ее фавориты Карениус, Баран и Шварц мрачно косились на труп, когда мы проходили мимо него. Им явно не хотелось расставаться с возлюбленной, однако долг призывал, и кнут грозил каждому, кто не внимал этому зову.
Мы увеличили дневные переходы до 37 километров. Это позволяло проходить градус широты в 3 дня. 4 ноября устроили дневку. Удивительно, как собаки с каждым днем втягивались в работу; теперь они достигли наилучшей формы. Легко одолевали дневной переход со скоростью семь с половиной километров в час. Мы ни шага не делали, от нас требовалось только умение катиться за санями на лыжах на прицепе.
Вечером четвертого пришлось прикончить последнюю из наших «дам» – Эльсе, гордость Хасселя, украшение его упряжки. Увы, в последнее время ее поведение не отвечало правилам «хорошего тона», а такое прегрешение у нас неукоснительно каралось смертной казнью. Еще одна собака осталась лежать на верху пирамидки.
Остановившись вечером на 82°20 южной широты, мы увидели на юго-западе большие бело-бурые облака, какие обычно бывают над материком. Однако в тот вечер мы не разглядели никакого материка. Зато на другое утро, выйдя с биноклем из палатки, отчетливо увидели освещенный утренним солнцем гористый край. Ясно различая отдельные вершины, мы определили, что это земля, которая простирается к юго-востоку от ледника Бирдмора. Мы все время выдерживали строго южный курс и сейчас находились приблизительно в 400 километрах к западу от ледника Бирдмора. Мы и дальше должны были следовать строго на юг.
Вечером 9 ноября мы по счислению дошли до 83° южной широты. Полуденная высота солнца на следующий день соответствовала 83° 1 южной широты. Мы оставили здесь склад с четырехдневным запасом продовольствия на 5 человек и 12 собак. Обложили его большими снежными кирпичами, так что получился квадрат с длиной стороны два метра, и водрузили большой флаг. В этот вечер произошел странный случай: три собаки дезертировали, убежали на север по нашему следу. Это были фавориты Люсси; они, очевидно, задумали разыскать свою возлюбленную. Серьезная потеря, особенно для Бьоланда, ведь вся троица была из его упряжки. Отличные собаки, одни из самых работящих. Ханссен уступил Бьоланду одну из своих собак, и он, хотя и не так легко, как прежде, поспевал за всеми.
Одиннадцатого мы смогли засечь горную цепь от азимута 180 до азимута 270. Мы намного приблизились к материку и с каждым днем различали все больше подробностей. Могучие вершины, одна выше и круче другой, вздымались на высоту до 4500 метров. Нас особенно поражали голые склоны многих гор. Мы ожидали увидеть на них больше снега. Гора Фритьофа Нансена, например, была сплошь иссиня-черная. Лишь самая вершина на высоте 4500 метров венчалась сверкающей снежной шапкой. Дальше на юг высилась гора Дона Педро Кристоферсена. На ней снега было побольше. Но длинный конек вершины был почти весь обнажен. Еще южнее можно было различить горы Алисы Ведель-Ярлсберг, Алисы Гаде и Рут Гаде. Сплошной снег от подножья до вершины. В жизни не видел более прекрасного и дикого ландшафта. Нам казалось, что мы уже видим, где подниматься. Вот ледник Лив – ровный, отлогий подъем; но он лежит слишком далеко к северу. Огромный ледник, интересно было бы исследовать его поближе. Горы Кронпринца Улава сулили больше трудностей. Но и они лежат далеко к северу. А вот как раз на юге, чуть к западу, похоже, есть удобный подъем. Ближайшие к барьеру горы казались не очень сложным препятствием. А что будет дальше, между горами Дона Педро Кристоферсена и Фритьофа Нансена, сказать пока очень трудно.

Гора Дона Педро Христоферсена
13 ноября мы достигли 84° южной широты. В этот день мы сделали интересное открытие, обнаружив уходящую на восток горную цепь. Она образовала глубокую излучину, соединяясь с горами Земли Южной Виктории. Излучина эта находилась прямо к югу от нас, то есть по нашему курсу. В складе на 84° южной широты мы оставили, кроме обычного четырехдневного запаса продовольствия на 5 человек и 12 собак, 17-литровый бидон керосина. Спичек у нас был избыток, мы могли оставлять их во всех складах.
Барьер оставался все таким же ровным, скольжение – лучше не пожелаешь. Мы думали, что придется на каждом градусе давать собакам день отдыха, но в этом не было надобности. Они как будто не знали усталости. У некоторых из них поначалу было не совсем ладно с лапами, но они поправились. Вместо того чтобы слабеть с каждым днем, собаки как будто становились только крепче и выносливей. Они тоже заметили землю, и похоже было, что иссиня-черная гора Фритьофа Нансена пришлась им особенно по душе. Ханссен подчас с трудом удерживал их на верном курсе.
На другой день мы, не задерживаясь, покинули 84° южной широты и пошли дальше к «излучине». В густом тумане, не видя гор, мы проделали очередные 37 километров. Обидно двигаться вдоль новых земель вслепую, но ведь должна же погода наладиться. Ночью лед развлекал нас рокотом. Ничего особенного, похоже на редкую перестрелку пехоты; то тут, то там под палаткой словно выстрелы звучали. Артиллерия еще не подоспела. Мы никак не реагировали. Правда, утром кто-то сказал:
– Мне показалось ночью, что выстрел попал прямо в ухо.
Судя по тому, что этот самый коллега своим храпом в эту ночь чуть не выгнал нас из палатки, его сон не пострадал.
В первой половине дня мы пересекли множество свежих, по видимости, трещин не больше дюйма в ширину. Значит, произошло смещение, вызванное одним из многих ледничков на материке. На следующий вечер все было тихо, и мы уже не слышали никаких шумов.

Склад на 85° южной широты
15 ноября достигли 84°40 южной широты. Мы быстро приближались к материку. Горная цепь на востоке как будто отклонялась к северо-востоку. Облюбованный нами подъем, который мы так внимательно рассматривали, чуть уводил нас к западу, но так мало, что можно и не считать. Излучина на юге выглядела посложнее.
На следующий день рельеф начал меняться. Будто огромные волны накатывались на материк. В одной из ложбин нам попался замысловатый участок. Огромные трещины и провалы прежде здесь вряд ли удалось бы пройти, но теперь все занесло снегом, и мы прошли без осложнений. В этот день – 16 ноября – мы дошли до 85° южной широты и разбили лагерь на гребне одной из складок. Ложбина, которую нам завтра предстояло пересечь, была довольно широкой, с заметным подъемом на другой стороне. На западе, где ближе всего проходил материк, складка поднималась так высоко, что почти совсем закрывала от нас землю.
Под вечер мы, как обычно, устроили склад, а на другой день продолжили путь. Судя по картине, которая открывалась из лагеря, нам надо было пересечь огромную «волну». Из-за солнца подниматься на нее было довольно жарко, хотя по анероиду высота не превышала 100 метров. От гребня «волны» барьер шел сначала ровно, и мы издали приметили морщины на его поверхности. «Видно, нам придется поработать, чтобы выбраться на материк!» – подумал я. Естественно было ожидать, что барьер, несколько смятый на этом участке, будет изборожден трещинами. Замеченные нами «морщины» оказались большими старыми трещинами, отчасти занесенными снегом. Мы легко обошли их. И снова увидели впереди огромную ложбину с последующим высоким подъемом. Вниз мы съехали очень лихо – совершенно гладкий снег, никакого намека на трещины или ямы. «Значит, наверху подстерегают», – подумал я. Подъем дался нам нелегко, тем более что мы не привыкли ездить в гору. Я изо всех сил вытягиваю шею – что-то там будет… Наконец мы наверху, и что мы увидели! Ни одной складки, ни малейшей борозды. Ровная, гладкая поверхность до самого подъема, подмеченного нами издали. Наверно, мы уже тогда вышли на материк. Трещины, которые мы обогнули перед этим, видимо, обозначали границу. Гипсометр показал 270 метров над уровнем моря.
Подъем на плато, замеченный нами издали, начинался тут же, и мы окончательно решили попытать счастья здесь. По этому случаю разбили лагерь. Было еще рано, но и сделать предстояло немало, готовясь к завтрашнему дню. Проверить весь провиант, упаковать только самое необходимое, а остальное поместить в кладку. Мы начали с разбивки лагеря, определили свое местонахождение, накормили собак и отпустили их, потом забрались в палатку, чтобы перекусить и заняться учетом.
Мы достигли одного из самых важных пунктов на нашем пути. Дальше план нужно было составить так, чтобы подъем дался нам возможно легче, но не увел от цели. Надо все тщательно рассчитать, взвесить все возможности. Как всегда, когда принималось важное решение, мы обсуждали его сообща. Отсюда до полюса и обратно 1100 километров. Перед нами долгий подъем, вероятно, и другие препятствия. И можно не сомневаться, что сил у наших собак заметно убавится.
Поэтому мы решили взять с собой продовольствия и снаряжения на 60 дней и оставить склад – снаряжение и продовольствие на 30 дней. Опыт подсказывал нам, что мы, наверно, сумеем обернуться, сохранив 12 собак. Сейчас их у нас было 42. Поднимемся с этим количеством на плато, там 24 собаки забьем, а дальше пойдем на трех санях с 18 собаками. Из них, по нашим расчетам, шесть придется убить, чтобы на 12 дойти обратно. Одновременно с сокращением числа собак и сани будут становиться все легче. И когда останется только 12 собак, мы сведем число саней до двух. Наши расчеты и на сей раз оправдались почти полностью. Только в днях мы немного ошиблись, потратили на восемь дней меньше, чем предполагали. А с собаками угадали, их было 12, когда мы вернулись к этому складу.
Обсудив все и выслушав мнение каждого, мы вышли из палатки и принялись заново укладывать провиант. Счастье, что была хорошая погода, не то этот переучет мог бы стать весьма неприятным делом. Все продовольствие было упаковано так, что не надо взвешивать, только считай упаковки. Пеммикан кирпичиками по полкилограмма. Шоколад, как и всякий шоколад, в плитках, вес каждой известен. Сухое молоко – в «колбасах» по 300 граммов, ровно на один раз. Галеты тоже можно было сосчитать; правда, это была долгая процедура, ведь галеты мелкие. Здесь нам пришлось отсчитать 6000 штук. Пеммикан, шоколад, сухое молоко и галеты – вот и весь наш набор. И он вполне себя оправдал, мы не ощущали недостатка ни в сахаре, ни в жирах. Известно, как не хватает именно этих продуктов в долгом путешествии. Галеты у нас были отличные: овес, сахар, сухое молоко. Конфеты, варенье, фрукты, сыр и прочее мы оставили в Фрамхейме. Меховую одежду (она нам пока еще не понадобилась) уложили на сани. Может пригодиться теперь, когда мы начнем набирать высоту. Мы не забывали и о том, что на 88° южной широты Шеклтон отмечал -40°. Если и нас ждут такие морозы, меховая одежда выручит. Сверх того, в наших личных мешках было немного вещей. Единственную смену белья мы надели здесь, а старую повесили проветриваться. Повисит два месяца, а когда вернемся сюда, вполне можно будет надевать ее снова. Помнится мне, и этот расчет тоже оправдался. Больше всего мы взяли с собой обуви. Сухие ноги – великое дело.
Покончив со сборами, вся пятерка надела лыжи и двинулась к ближайшей земле, горе Бетти, расположенной в 3 километрах от нас. Ее не назовешь ни крутой, ни высокой, но все-таки – около 300 метров над уровнем моря. Как ни мала она была, а сыграла большую роль, потому что на ней были взяты все наши геологические образцы. Как-то непривычно было идти на лыжах, хотя я проскользил на них уже 620 километров. Всю дорогу мы ехали на прицепе, и с тренировкой дело обстояло плохо. Мы это почувствовали в тот день, идя вверх по склону.
После горы Бетти шел довольно крутой, но ровный подъем, скольжение было отличное, и мы продвигались быстро. Мы поднялись на отлогий косогор на высоте около 360 метров над уровнем моря, пересекли небольшой горизонтальный участок, дальше опять был подъем вроде первого, за ним спуск на довольно длинный плоский участок, который вскоре сменился отлогим склоном и перешел в небольшие ледники. У этих ледников мы закончили рекогносцировку убедившись, что путь, насколько хватает глаз, вполне проходим. Мы удалились от палатки примерно на 9 километров и поднялись на высоту 650 метров.
Спуск прошел отлично. На двух последних горках перед барьером мы хорошенько разогнались. Мы с Бьоландом решили заглянуть на Бетти, чтобы ощутить под ногами настоящую твердую землю, по которой не ступали с сентября 1910 года, когда заходили на Мадейру; теперь был ноябрь 1911 года.

Гора Бетти
Сказано – сделано. Бьоланд приготовился элегантно выполнить поворот и отлично справился с задачей. Я тоже приготовился, неизвестно только, к чему именно. Во всяком случае, я покатился кубарем и выполнил этот номер с блеском. Меня подвели сугробы под горой. Я живо вскочил на ноги и глянул на Бьоланда. Не знаю, видел ли он, как я падал. Так или иначе я приосанился и небрежно бросил: – И мы еще кое-что помним!
Кажется, Бьоланд поверил, что у меня получился поворот по всем правилам. А если не поверил, у него во всяком случае хватило такта не показать это.
Гора Бетти не могла похвастаться ни отвесными стенками, ни обрывами, которые могли бы разжечь в нас альпинистские страсти. Мы просто отцепили лыжи, и вот уже оба стоим на вершине. Крупный обломочный материал не очень располагает к прогулке людей, которые вынуждены беречь обувь. И все же приятно снова ощутить под ногами скалу. Мы сели на камни, чтобы насладиться. Однако сидеть на камне было не так уж уютно, и мы скоро встали. Сфотографировали друг друга в «живописных позах», взяли несколько камней для своих товарищей и надели лыжи. Собаки, которые так рвались к земле, теперь почему-то игнорировали ее. Они лежали на снегу и отнюдь не стремились подняться на гору.
Между голым камнем и снегом простирался сверкающий сине-зеленый лед, свидетельствуя о наличии здесь проточной воды. Собаки старались не отставать от нас на спуске, но мы их быстро обогнали.
Вернувшись к палатке, мы в качестве сувенира преподнесли нашим товарищам образцы здешнего грунта. Кажется, они не очень оценили наш подарок. Послышались слова вроде: «Норвегия», «камни», «сколько угодно». Связав их между собой, я все понял. «Подарок» остался на складе, без него вполне можно обойтись в нашем походе на юг.
Уже в это время мы обратили внимание на прожорливость собак. Что им ни попадется, тотчас исчезнет. Кнуты, лыжные крепления, ремни с саней и многое иное они почитали за лакомство. Только положишь что-нибудь – уже нет.
Иные поглощали даже экскременты, как свои собственные, так и своих товарищей. И мы стали привязывать собак, ибо это блюдо явно не шло им на пользу.
На следующий день, 18 ноября, мы начали подъем. На всякий случай я оставил в пирамидке записку, в которой говорилось, каким путем мы собираемся идти через горы, какие у нас планы, какое снаряжение, продовольствие и так далее. Погода по-прежнему была отличная, скольжение хорошее. Собаки превзошли наши ожидания. Две довольно крутые горки они одолели легкой рысцой. Похоже было, что им никакие трудности не страшны. Отрезок, который мы прошли накануне и считали вполне достаточным для дневного перехода, был преодолен с полным грузом быстрее вчерашнего. Маленькие ледники оказались довольно крутыми, кое-где пришлось впрягать в сани двойные упряжки и одолевать подъем в два приема. Похоже было, что ледники старые и давно не движутся. Мы не обнаружили свежих трещин. Края огромных, широких старых трещин были закруглены, а сами трещины почти заполнены снегом. Чтобы не провалиться в них на обратном пути, мы обозначили пирамидками безопасную трассу.
На таких косогорах в полярной одежде не поработаешь. Высокое солнце припекало, и нам пришлось почти все сбросить. Мы миновали несколько вершин высотой от 900 до 2000 метров. Снег на одной из них был какого-то ржавого цвета. В этот первый день мы прошли 18,5 километра, поднявшись на 650 метров. Вечером устроили стоянку на ледничке между широкими трещинами. С трех сторон нас окружали высокие вершины.
После того как была поставлена палатка, два отряда пошли разведать дальнейший путь. Вистинг и Ханссен пошли по маршруту, который выглядел наиболее легким, а именно вверх по леднику; он здесь довольно круто поднимался до 1300 метров и терялся на юго-западе между двумя вершинами. Бьоланд, составлявший второй отряд, явно счел этот подъем слишком простым и полез по крутой стенке, словно муха. Мы с Хасселем занялись всякими текущими делами.
Сидя в палатке и болтая о том о сем, мы вдруг услышали, как кто-то лихо подъехал на лыжах к палатке. Мы переглянулись: вот это скорость! Бьоланд, кто же еще. Решил тряхнуть стариной… Мы услышали от него пространный отчет. В частности, он обнаружил на той стороне «отличный» спуск. Я был не совсем уверен, что он подразумевает под «отличным» спуском. Если спуск такой же «отличный», как избранный им подъем, – нет уж, благодарю покорно!
Тут мы услышали, как возвращается второй отряд. Они двигались не так стремительно. Им тоже довелось многое увидеть. Правда, никакого «отличного спуска» они не обнаружили, но оба отряда сходились в печальном выводе, что придется терять высоту. Все трое видели внизу могучий ледник, простирающийся с востока на запад. Завязалась долгая дискуссия, в ходе которой спорщики весьма презрительно отзывались об «открытиях» другой стороны.
– Да брось ты, Бьоланд, мы сами видели – там, где ты стоял, вниз идет крутой обрыв.
– А вы не могли меня видеть. Я же стоял западнее вершины, которая расположена к югу от той вершины, которая…
Я оставил всякую надежду разобраться в этом споре. Сопоставил, как оба отряда удалились и как возвратились, и решил предпочесть второй маршрут. Поблагодарил товарищей за усердие, проявленное в интересах экспедиции, и тотчас заснул. Всю ночь мне снились склоны и обрывы. Под утро я проснулся оттого, что Бьоланд скатился на меня прямо с неба. Я еще больше утвердился в своем решении идти маршрутом второго отряда и снова уснул.
Утром мы призадумались: может быть, лучше уж сразу запрягать в сани по две упряжки и одолеть подъем в два этапа? Простирающийся впереди ледник выглядел достаточно крутым. На коротком отрезке – перепад в 650 метров. С другой стороны, хотелось сперва попробовать, как пойдет дело с одной упряжкой. Собаки уже показали, на что способны; может быть, и теперь справятся? И мы двинулись вперед, сразу же на подъем. Хорошая разминочка после выпитого литра шоколада. Не скажу, чтобы мы двигались быстро, но и на месте не стояли. Часто казалось, что сейчас караван станет, но окрик каюра и щелчок кнута делали свое дело. Довольные таким началом, мы устроили заслуженный отдых собакам, когда выбрались наверх. За узкой щелью перевала нам открылась величественная панорама. Мы очутились на небольшом плоском уступе, а в нескольких метрах от нас начинался крутой спуск в долину Кругом, вдоль всего горизонта выстроились вершины.
Проникнув за кулисы, мы могли лучше ориентироваться. Отсюда была видна южная сторона могучей горы Нансена. А вот и Дон Педро Кристоферсен стоит во весь рост. Между ними в несколько уступов поднимался ледник. Он казался сильно разрушенным, но среди многочисленных трещин прослеживался все-таки сплошной путь. Видно, что по леднику можно пройти далеко, – но не до конца. Участок между первым и вторым уступами явно непроходим. А вот вдоль склона горы идет сплошная кромка… Похоже, Дон Педро Кристоферсен нас выручит! По северному краю ледника, вдоль горы Нансена, – сплошной хаос, пройти невозможно. Мы соорудили высоченную пирамидку и от нее взяли азимуты по всем направлениям. Я прошел обратно к перевалу взглянуть на барьер в последний раз. Отчетливо было видно новую горную цепь. Начинаясь на востоке, она поворачивала на восток-северо-восток, затем терялась на северо-востоке, где-то около 84° южной широты. Судя по цвету неба, хребет продолжался еще дальше. Высота уступа за перевалом составляла по анероиду 1200 метров над уровнем моря.
Спуститься можно было только одним путем. С нагруженными санями на таком спуске нужно соблюдать величайшую осторожность, чтобы не набрать такую скорость, когда с ними уже не совладать. Иначе рискуешь не только искалечить своих собак, но и врезаться в сани едущего впереди. Для нас это было тем важнее, что сани шли с одометрами. Вот почему мы на спуске пользовались веревочными тормозами, наматывая на полозья несколько витков тонкой веревки. Естественно, чем больше витков, тем сильнее тормоз. Задача заключалась в том, чтобы верно рассчитать число витков и силу торможения. Это удавалось нам не всегда, а потому на спуске не обходилось без столкновений. Один из каюров явно считал, что нечего ломать себе голову над тормозом. Сорвется с места и снесет едущего впереди. Мало-помалу мы освоились, но несколько раз попадали в тяжелый переплет. По первому склону мы спустились на 250 метров. Дальше, перед новым подъемом, надо было пересечь широкую ложбину. Она далась нам нелегко, снег между горами был рыхлый, тяжелый для собак. Затем последовал подъем по очень крутым ледникам. Последний из них оказался вообще самым крутым участком на всем нашем маршруте. Непростая задача даже для двойной упряжки. Понимая, что Бьоланд куда лучше меня проведет собак по этим кручам, я охотно пустил его вперед.
Как ни крут был первый ледничок, второй оказался еще похлеще. Смотреть, как Бьоланд форсирует его на лыжах, было сплошным удовольствием. Сразу видно, что ему не впервой ходить по горам. Не менее интересно было наблюдать за собаками и каюрами. Ханссен в одиночку проводил одни сани, Вистинг и Хассель – вторые. Рывок за рывком, шаг за шагом мы добрались до верха. Второй заход, по готовому следу, дался нам куда легче. Мы оказались на высоте 1350 метров, иначе говоря, поднялись сразу на 400 метров. Дальше опять шел ровный участок. Дав собакам отдохнуть, мы продолжали движение. Отсюда был лучше виден дальнейший путь. До сих пор ближние горы заслоняли его. Теперь же открылся большой ледник, который, как мы смогли убедиться, простирался от самого барьера вверх между горами, выстроившимися с востока на запад. Стало очевидно, что дорога на плато лежит через этот большой ледник. Нас отделял от него еще один спуск. Сверху мы различили на спуске края зияющих провалов и решили, что не мешает разведать местность. Правильно решили: путь проходил через сильно разрушенный боковой ледник с множеством зловещих широких трещин. Тем не менее, соблюдая осторожность и притормаживая, мы в конце концов спустились на могучий главный ледник – ледник Акселя Хейберга.
Мы задумали дойти туда, где ледник крутыми уступами уходил вверх между горами. Но задача оказалась потруднее, чем нам представлялось. Во-первых, расстояние в 3 раза больше того, что мы думали; во-вторых, снег такой глубокий и рыхлый, что утомленные собаки с великим трудом пробивались вперед. Курс был взят на сплошную белую полосу, которая вела между трещинами к первому уступу. Со всех сторон к подножью гор сходились малые ледники, сливаясь в один большой. В этот вечер мы дошли до одного из таких рукавов, как раз под горой Дона Педро Кристоферсена. Склон над лагерем представлял собой хаотическое нагромождение огромных ледяных глыб. Ледник, на котором мы поставили палатку, был изборожден трещинами, но трещины и здесь тоже были старые, почти совсем занесенные снегом. Снег на льду был такой рыхлый, что нам пришлось его утаптывать, прежде чем ставить палатку. Палаточный шест легко пронизывал его. Мы надеялись, что выше снег будет поплотнее.
Вечером Ханссен и Бьоланд отправились на разведку. Она подтвердила наши впечатления. Путь до первого уступа легко проходим. А что будет между первым и вторым уступом, пока оставалось неизвестным.
На следующий день нам пришлось основательно поработать. Рукав, который вел к первому уступу, был не такой уж длинный, зато очень крутой и изрезанный широкими трещинами. Мы двигались поэтапно, по двое саней за раз. К счастью, снег был лучше вчерашнего, поверхность ледника служила для собак надежной опорой. Бьоланд шел направляющим, и ему приходилось нажимать, чтобы полные энергии собаки не наступали ему на пятки. Не верилось, что мы находимся между 85° и 86°, до того нам было жарко. Мы были легко одеты, однако потели так, будто состязались в беге в тропиках. Хотя мы быстро набирали высоту, перемена атмосферного давления пока не влекла за собой неприятных явлений в виде одышки, головной боли и т. п. Ничего, в свое время все еще будет. Мы хорошо помнили, как Шеклтон описывал свое странствие через плато, когда сильнейшие головные боли были в порядке вещей.
Сравнительно скоро мы достигли уступа, который приметили еще издалека. Он был не совсем плоский, а постепенно повышался. С того места, куда накануне вечером доходили Ханссен и Бьоланд, открывался хороший обзор на продолжение ледника. И видно, что дальше по нему не пройдешь. Участок меж двух могучих гор представлял собой трещину на трещине, притом такие огромные и зловещие, что казалось – конец нашему продвижению по этому маршруту. Свернуть к горе Фритьофа Нансена? Исключено. Гора отвесно вздымалась в воздух, чернея голыми стенками, и вместе с ледником представляла такую дикую и грозную картину, что мы сразу оставили всякую мысль пересечь ледник этим курсом. Только под горой Дона Педро Кристоферсена намечалась какая-то возможность. Кромка ледника здесь, насколько мы могли судить, позволяла продолжать движение. Ледник плотно смыкался со снежным склоном и круто вздымался вверх к кое-где обнаженной вершине. Впрочем, мы видели не так уж далеко. Фасад горы пропадал за идущим с востока на запад высоким гребнем с зловещими пропастями. С нашего места было похоже, что, продвигаясь под гребнем и между пропастями, можно обойти сверху область трещин на леднике. Как будто, должно получиться. Но окончательно мы убедимся в этом только, поднявшись наверх.
Мы немного – совсем немного – передохнули и двинулись в путь. Нам не терпелось увидеть, сможем ли мы пройти. Понятно, здесь тянули только двойные упряжки. Сани Ханссена и Вистинга шли вперед, остальные – вторым заходом. Не очень-то приятно дважды совершать такой рейс, но обстановка этого требовала. Да мы бы и не горевали, знай, что это последнее восхождение, требующее двойной упряжки. Но мы этого не знали, даже не надеялись на это. А пока – опять сам нажимай и собак подгоняй, чтобы шли без заминок. И вот мы под гребнем, в окружении зияющих провалов.
Нечего было и думать о том, чтобы идти дальше без тщательной разведки. Правда, пройденный нами отрезок был не очень велик, но сил на него мы потратили много. Поэтому мы разбили лагерь на высоте 1700 метров над уровнем моря. И сразу же приступили к разведке. Сперва – путь, который мы видели снизу. Он вел с востока на запад, вдоль оси ледника, и был кратчайшим. Принято говорить, что кратчайшая дорога – лучшая. Но в данном случае нам оставалось лишь надеяться, что есть путь подлиннее. Ибо кратчайший маршрут оказался ужасным, пожалуй, даже вовсе непроходимым. Сперва – скользкий, твердый участок с наклоном в 45°, обрывающийся в бездонную пропасть. Пересекать его на лыжах было отнюдь не приятно, а каково будет идти здесь с тяжелыми санями? Слишком велика опасность, что сани вместе с людьми и собаками поедут вниз по склону и сорвутся с обрыва.
Мы благополучно одолели этот участок на лыжах и продолжали разведку. Широкие трещины сверху и еще более грозные трещины снизу подступали все ближе, под конец от всего склона остался лишь узкий мостик, чуть шире саней, соединяющий его с ледником. По обе стороны мостика зияли темные провалы. Да, не очень-то заманчиво. Конечно, можно выпрячь собак и перетащить сани, при условии, если мост выдержит; но дальнейший путь по леднику сулил нам изрядное количество неприятных сюрпризов. Не исключено, что мы в конце концов сумеем терпеливо, не спеша распутать этот лабиринт глубоких трещин. И все же стоит посмотреть, не найдется ли другого маршрута, получше. И мы вернулись к лагерю.
Здесь все шло, как положено: палатка поставлена, собаки накормлены. Предстояло найти ответ на главный вопрос: что за хребтом? Такой же непроходимый хаос – или там будет полегче? Три человека пошли наверх. Чем ближе к гребню, тем сильнее волнение. Чуть ли не все зависело от того, удастся ли нам здесь разведать приличный маршрут. Последнее усилие, и мы наверху Не зря трудились! С первого же взгляда стало ясно, что наш путь должен проходить именно здесь. Под высокой, похожей на церковь, вершиной горы Дона Педро Кристоферсена – ровное, гладкое плечо, идущее в ту же сторону, что и ледник. Нам было видно, где они смыкаются. Похоже, «шов» достаточно гладкий. Правда, есть несколько трещин, но очень редкие, вряд ли они будут серьезной помехой. Полной уверенности у нас не было – слишком далеко мы стояли, чтобы выносить окончательное суждение. И мы пошли к верховьям ледника, взглянуть поближе на обстановку.
Снег наверху был рыхлый и довольно глубокий. Лыжи шли хорошо, а вот собакам здесь будет тяжеловато… Быстро продвигаясь вперед, мы подошли к чудовищным трещинам. Они были достаточно длинными и широкими, но настолько редкими, что мы без труда нашли проход между ними. Ложе между двумя горами, занятое ледником Хейберга, сужалось к верховью, и, хотя до сих пор все выглядело вполне прилично, я приготовился увидеть не столь приятную картину там, где склон и ледник встречаются. Мои опасения оказались напрасными. Прижимаясь к Дону Педро, мы благополучно миновали все ужасы и вскоре, к своей великой радости, очутились выше области трещин, через которую не смогли пробиться в лоб. Здесь рельеф был на диво спокойный. Склон горы и ледник, смыкаясь, образовали широкий плоский уступ без единой трещины. По углублениям можно было определить, где проходили когда-то огромные расселины, но теперь они были доверху заполнены снегом. Вид на верховье могучего ледника позволял представить себе обстановку. Он начинался от гор Вильхельма Кристоферсена и Уле Энгельстада. Две снежные вершины вздымались к небу, похожие на улья. Было ясно, что нам остался всего один подъем, а наверху между вершинами мы видим уже само плато. Осталось разведать наиболее простой путь наверх и одолеть последнее препятствие. Прозрачнейший воздух позволял рассмотреть в наш превосходный призматический бинокль мельчайшие подробности и достаточно уверенно наметить маршрут. Наверное, можно даже лезть прямо через Дона Педро. Нам уже доводилось решать не менее трудные задачи. Правда, склон крутоват, изрезан широкими трещинами и загроможден ледяными глыбищами.
Один рукав ледника поднимался между горами Дона Педро и Вильхельма Кристоферсена. Но он был так изрезан, что по нему нельзя идти на плато. Между горами Вильхельма Кристоферсена и Уле Энгельстада не пройдешь. Пока что похоже было, что лучше всего идти между горами Уле Энгельстада и Фритьофа Нансена, но первая из них заслоняла интересующий нас отрезок, и мы не могли сделать окончательный вывод. Все трое основательно устали, однако условились продолжать разведку, чтобы выяснить, что там кроется. Потрудимся сегодня – завтра будет много легче. И мы двинулись дальше, через верхний плоский уступ ледника Хейберга. С каждым шагом нам открывался все более полный вид на урочище между горами Нансена и Энгельстада. Все, дальше можно не ходить, и без того по всему видно, что здесь нас ждет самый удобный путь наверх. Правда, верховье ледника мы еще как следует не рассмотрели, но если там возникнут серьезные проблемы, мы без особого труда поднимемся по склону горы Нансена, по леднику, выводящему на плато. Ибо теперь, без сомнения, мы наконец видели перед собой большое плато.
За перевалом между двумя горами слегка возвышалась над плато гора Годфреда Хансена. Своеобразная вершина – продолговатая, похожая на конец двускатной крыши. Такая неприметная, а высота – 3330 метров над уровнем моря.
Закончив разведку и убедившись, что завтра, если позволит погода, отряд выйдет на плато, повернули назад, очень довольные результатами вылазки. Мы порядком устали, нам не терпелось вернуться в лагерь и подзакусить. Высота точки, от которой мы пошли обратно, составляла по барометру-анероиду 2400 метров над уровнем моря. Иначе говоря, мы поднялись на 700 метров выше пятачка, где поставили палатку.
Спускаться по собственному следу было легче; правда, обратный путь показался нам несколько однообразным. Местами хороший уклон позволял набрать скорость, кое-где тянулась вполне приличная лыжня. Спуск к лагерю был самым крутым. Как ни манило нас промчаться с ветерком, мы сочли наиболее благоразумным тормозить лыжными палками. Да и то развили неплохую скорость.
Красивый и величественный вид открывался с гребня, под которым далеко внизу стояла палатка. Окруженный со всех сторон грозными трещинами и зияющими провалами, лагерь наш выглядел отнюдь не уютно. Нет слов, чтобы описать этот дикий ландшафт. Сплошные трещины, провалы, беспорядочное нагромождение огромных ледяных глыб… Сразу видно: здесь с природой не поборешься. Нечего и думать о том, чтобы пройти напрямик.
Но нас эта грозная картина не пугала. Темное пятнышко посреди хаоса внизу – наша палатка – внушало нам уверенность и силу. Не такие препятствия надо воздвигнуть на нашем пути, чтобы мы не нашли лазейку и не подыскали площадку для нашего крохотного жилища. Кругом гремело и рокотало. То с горы Нансена залп прозвучит, то еще с какой-нибудь. И вздымается в воздух снежная пыль. Горы явно сбрасывали зимние шубы, меняя их на более весенний наряд.
Мы стремглав скатились по склону к палатке. Наши товарищи, которые оставались в лагере, позаботились о том, чтобы все было в наилучшем порядке. Собаки лежали на солнце и посапывали. Они даже не пошевельнулись, когда мы затормозили рядом с ними. В палатке царила совсем тропическая жара. Солнце так и пекло красное полотнище. Примус гудел и сипел, в кастрюле булькало варево с пеммиканом. Больше всего на свете нам сейчас хотелось забраться в палатку, растянуться на спальнике и есть, пить, сколько влезет.
Новости у нас были неплохие: завтра – плато! Даже самим не верилось. Мы рассчитывали, что на подъем уйдет десять дней, а тут укладываемся в четыре. Таким образом, мы сэкономим уйму собачьего корма, ведь теперь можно лишних собак убить на шесть дней раньше. В этот день мы устроили в палатке настоящий пир. Нет, порции были не больше обычного, этого мы не смели себе позволить. Но при мысли о свежих собачьих котлетах, которые ожидали нас, когда мы поднимемся на плато, у нас заранее текли слюнки. Мы успели свыкнуться с мыслью о предстоящем убое, и это дело не представлялось нам таким жестоким. Мы уже подвели итог, решили, кто заслужил право пожить еще, а кто будет принесен в жертву. Между прочим, это было не так-то просто решить, все собаки трудились на славу.
Всю ночь не прекращался грохот, одна лавина сильнее другой обнажала склоны, которые были закрыты с незапамятных времен.
На следующий день, 21 ноября, мы поднялись и стартовали в обычное время, около 8 утра. Погода была отличная – ясно, безветренно. Туго пришлось нашим собакам – начинать день с восхождения на гребень. А они отменно справились со своей задачей. Мы не стали прибегать к двойным упряжкам. Снег, как и накануне, был тяжелый, и сани шли нескоро. Мы не пошли по вчерашнему следу, а взяли курс прямо туда, откуда решили начать восхождение. По мере приближения к горе Уле Энгельстада, под которой нам надо было пройти, чтобы попасть на рукав ледника между ней и горой Нансена, напряжение возрастало. Что мы увидим в верховье? Как переходит ледник в плато – плавно? Или он изрезан трещинами, не пройти? Гора Энгельстада уходит в сторону, просвет все шире… Неплохо, даже совсем хорошо; кажется, наше вчерашнее предположение оправдается.
И вот нам открылась вся панорама. Последняя часть подъема. И никаких помех. Но путь и долгий, и крутой. Мы решили остановиться и передохнуть, прежде чем начинать решающий штурм.
Мы остановились под самой горой Энгельстада на уютном, солнечном пятачке. И в виде исключения разрешили себе перекусить. Достали кухонный ящик, и вот уже примус гудит так, что сразу ясно: шоколад скоро поспеет. Райский напиток… Мы основательно упарились, во рту все пересохло. Разливал наш кок, Ханссен. Тщетно было просить его разливать поровну. Себе он взял только половину положенного, а вторую половину разделил между товарищами. И хотя он называл приготовленный им напиток шоколадом, мне трудно было ему поверить. Наш Ханссен расточительства не допускал. Это было сразу заметно по его шоколаду. Впрочем, людям, привыкшим смотреть на «хлеб и воду» как на лакомство, и такой шоколад казался райским напитком. А больше ничего на ленч не было подано. Хочешь чего поплотнее, сам добывай, никто не предложит. Хорошо тому, у кого остались галеты от первого завтрака.
Привал наш не затянулся. Странно, когда ты одет легко, достаточно постоять немного без движения, и уже озяб. Хотя было всего-то -20°, мы обрадовались, когда пришла пора снова двинуться в путь.
Последний подъем дался нам нелегко, особенно, его первая половина. Мы не рассчитывали обойтись одинарной упряжкой, но все же решили сделать попытку. Что собаки, что каюры заслуживают самой высокой похвалы за это восхождение. И те и другие славно потрудились. Я до сих пор ясно представляю себе, как это было. Собаки словно понимали, что от них в последний раз требуется такое мощное усилие. Они буквально распластывались на снегу, цеплялись когтями и тащили сани вперед. Но они не могли обойтись без отдыха, и тогда нелегко приходилось каюрам. Не шуточное дело – снова и снова трогать с места тяжеленные сани. Да, помучились и люди, и собаки на этом подъеме! Но отряд упорно пробивался вперед дюйм за дюймом, и вот наконец самый крутой участок позади.
Дальше простирался отлогий склон, настолько простой, что его мы одолели без остановки. Впрочем, и тут пришлось потрудиться, и прошло немало времени, пока мы выбрались на плато южнее горы Энгельстада.
Каким же, каким оно будет, это плато? Мы представляли себе теряющуюся на юге обширную, гладкую равнину. Однако тут мы разочаровались. На юго-западе и вправду все ровно и гладко, но ведь нам не туда. А на юг уходили волны поперечных кряжей – то ли продолжение уходящего на юго-восток хребта, то ли звено, соединяющее его с плато.
Мы упрямо продолжали движение – не сдадимся, пока нашему взору не откроются просторы плато. Мы надеялись, что протянувшийся впереди отрог горы Дона Педро Кристоферсена будет последним. Здесь условия сразу изменились: слой рыхлого снега исчез, начали появляться заструги, особенно неприятные как раз на последнем гребешке. Они тянулись с юго-востока на северо-запад твердые как кремень, острые как нож. Сорвешься – не обрадуешься. Казалось бы, собаки в этот день достаточно потрудились и должны были устать. И однако последний гребень с этими коварными застругами их ничуть не озадачил. Катясь на прицепе за санями, мы лихо въехали на то, что посчитали началом плато, и в 8 вечера остановились.
Погода весь день стояла хорошая, мы были вполне довольны видимостью. Далеко на северо-запад уходила цепочка вершин, тот самый хребет, который мы видели с другой стороны. А вблизи – только гребни гор, о которых столько говорилось выше. Однако потом нам пришлось убедиться, сколь обманчиво здесь освещение. Как только мы стали на привал, я обратился к барометру. Результат (позднее подтвержденный гипсометром) – 3212 метров над уровнем моря. На всех одометрах была одна цифра – 17 миль, или 31 километр.
Подводя итог этому дню – 31 километр, при подъеме в 1800 метров, – видишь, на что способны хорошо тренированные собаки. И ведь сани еще оставались достаточно тяжелыми. Надо ли говорить что-нибудь еще, не достаточно ли одного этого факта?
На таком твердом снегу было трудно найти место для лагеря. Все же мы нашли его и поставили палатку. Как обычно, я принимал снаружи спальные мешки и личные вещи и наводил порядок внутри. Вот и кухонный ящик, и продукты на вечер и на утро. Но в этот день я быстрее обычного разжег примус и посильнее накачал его, надеясь его гудением заглушить выстрелы, которые вот-вот должны были последовать. 24 наших верных товарища и прилежных помощника были обречены на смерть. Жестоко, но иначе нельзя. Мы были готовы на все ради достижения своей цели. Каждый сам убьет тех из своих собак, на которых пал выбор.
Пеммикан в этот вечер закипел на редкость быстро, и я помешивал его особенно усердно. Грянул первый выстрел. Признаюсь, что я вздрогнул, хотя не отношу себя к числу нервных. Выстрел за выстрелом гулко раскатывался по плато. И каждый из этих зловещих звуков означал, что еще один наш верный слуга расстался с жизнью.
Прошло немало времени, прежде чем я услышал первый доклад о выполнении задачи… Каждый должен был разделать убитых собак и вынуть внутренности, чтобы мясо не испортилось. Величайшая осторожность необходима, иначе мясо станет непригодным для еды. Большую чисть внутренностей тут же, еще горячими сожрали ненасытные товарищи убитых. Особенное рвение проявил Зверь из упряжки Вистинга. Его буквально раздуло после этого пиршества. Многие собаки сначала отказывались есть внутренности, но потом и они вошли во вкус.
Первый вечер на плато, а праздничного настроения в палатке нет и в помине… Царила какая-то мрачная, гнетущая атмосфера; мы успели привязаться к своим собакам. Это место получило название Бойни. По плану мы должны были простоять здесь два дня, отдохнуть и поесть собачатины. Кое-кто из нас сперва и слышать не хотел о таком блюде, но по мере того, как время шло и аппетит становился все лучше, взгляды менялись, и в последние дни мы думали и говорили только о собачьих отбивных, собачьем лангете и т. п.
Тем не менее в первый вечер на Бойне мы сдержались. Все-таки негоже набрасываться на еще не остывшие туши своих четвероногих друзей…
Мы быстро убедились, что Бойня – отнюдь не гостеприимный уголок. Ночью похолодало, подул сильный ветер. Он дергал и трепал палатку, норовя сорвать ее, но это было не так легко. Собаки провели ночь за едой. Просыпаясь, мы слышали треск разгрызаемых костей.
Быстрый и значительный набор высоты сразу дал себя знать. Я поворачивался в спальном мешке в несколько приемов, чтобы не задохнуться. Хочешь повернуться кругом – сделай 2–3 дополнительных вдоха. Не надо было спрашивать моих товарищей, чтобы убедиться, что им приходится не лучше, достаточно было прислушаться.
Когда мы встали утром, ветра не было, но мрачные облака не сулили ничего хорошего.
Утро ушло у нас на то, чтобы освежевать часть убитых собак. Как уже говорилось, еще не все оставшиеся в живых соблазнились мясом своих собратьев, поэтому нужно было подать его как-то позаманчивее. Итак, туши освежевали и разделали. После этого все набросились на мясо, даже самые разборчивые псы не отказались от него. А будь на нем шкура, мы не смогли бы всех им соблазнить. Вероятно, все дело в запахе шкуры. Что правда, то правда, неаппетитный запах.
Что до мяса, которое лежало перед нами, то оно выглядело очень аппетитно. Ни в одной мясной лавке вы не увидели бы зрелища роскошнее того, какое открылось нам, когда мы освежевали десять собак. Целые горы отличного красного мяса с большими кусками чудесного жира лежали на снегу. Собаки ходили и принюхивались. Одна выбирает себе кусок, другая уже переваривает съеденное. Люди успели отобрать себе что помоложе и помягче. Мы поручили это дело Вистингу. Он отдал предпочтение Рексу, небольшому славному псу из его же собственной упряжки. Опытной рукой он разделал тушу и заготовил необходимое, по его мнению, количество мяса на обед. Я не мог оторвать глаз от его работы, меня буквально гипнотизировали эти маленькие нежные котлеты, одна за другой ложившиеся на снег. Они рождали воспоминания о былых днях, когда нас вряд ли соблазнила бы собачатина, о фарфоровых блюдах с аккуратно выложенными в круг котлетками – косточка обернута гофрированной бумагой, посередине горка восхитительного зеленого горошка. Да, мысли витали далеко-далеко… Но все это не относится к делу, и Южный полюс тут ни при чем. Я очнулся от грез, когда Вистинг решительно всадил топор в снег, собрал котлеты и пошел в палатку.
Облачный покров поредел, и время от времени проглядывало солнце, правда, какое-то хмурое. Нам удалось вовремя засечь его и определить широту: мы находились на 85°36 южной широты. Нам повезло, так как вскоре поднялся ветер с ост-зюйд-оста, и не успели мы оглянуться, как уже началась метель. Но погода нас сейчас не тревожила. Что нам вой ветра, что нам снег, коль скоро мы решили посидеть на месте, и пищи у нас вдоволь? Мы знали, что собаки думают примерно так же: было бы корма побольше, а там бог с ней, с погодой.
Когда мы после наблюдений вернулись в палатку, Вистинг уже развил там кипучую деятельность. Котелок стоял на примусе, и, судя по заманчивому запаху, обед должен был вот-вот поспеть. Мы не жарили котлеты, у нас не было ни сковороды, ни масла. Конечно, можно было бы вытопить жир из пеммикана, и сковороду мы при желании сумели бы смастерить. Но гораздо проще и скорее было сварить их. Заодно мы получили и восхитительный суп. Вистинг справился со своей задачей на диво успешно. Он выбрал из пеммикана те куски, где было больше всего овощей, и теперь подал нам чудесный мясной суп с овощами. Но «гвоздем» обеда было второе. Если мы сомневались в качестве мяса, то после первой же пробы все сомнения улетучились. Мясо оказалось отменным, бесподобным, и котлеты исчезали с молниеносной быстротой. Конечно, они могли быть помягче, но нельзя требовать от собаки слишком многого. Лично я съел пять котлет и тщетно искал в котелке шестую. Вистинг явно не рассчитывал на такой спрос.
Вторая половина дня ушла у нас на то, чтобы проверить наш провиант и распределить его на трое саней. Четвертые сани – Хасселя – мы оставляли здесь. Провиант разделили так: на сани № 1 (Вистинга) – 3700 галет (из расчета 40 штук на человека в день); 126 килограммов собачьего пеммикана (500 граммов на собаку в день); 27 килограммов пеммикана для людей (350 граммов на человека в день); 5,8 килограмма шоколада (40 граммов на человека в день); 6 килограммов сухого молока (60 граммов на человека в день). На двух других санях примерно то же самое. Таким образом, мы могли продолжать свой поход еще 60 дней с полным рационом. 18 уцелевших собак составили три упряжки, по 6 в каждой. Мы рассчитывали, что дойдем до полюса с 18 собаками, а уйдем с него с 16. Хассель – его сани оставались здесь – подвел итог и снял остатки; его провиант был записан в книги трех его товарищей. Впрочем, в этот день передача состоялась только на бумаге. С настоящим распределением лучше было подождать до лучшей погоды. Сейчас выходить из палатки и заниматься этим не рекомендовалось.
На следующий день, 24 ноября, дул свежий норд-ост, погода была сносная, и в 7 часов утра мы принялись перераспределять провиант. Не очень-то это было приятно. Хотя погода, как я сказал, была «сносной», однако отнюдь не благоприятствовала укладке продовольствия. Разломанный на маленькие кусочки шоколад надо было весь извлечь, куски пересчитать и разделить на трое саней. Галеты тоже предстояло считать поштучно, а когда их тысячи, нетрудно понять, что значит при 20-градусном морозе, в свежий ветер, почти все время голыми руками заниматься этим кропотливым делом. Ветер все усиливался, и когда мы наконец завершили работу, то сквозь метель почти не различали палатки. Мы отказались от намерения продолжить путь, как только приготовим сани. И мы на этом не так уж много теряли. А фактически даже выигрывали. Собаки, от которых все зависело, получили возможность основательно отдохнуть и подкормиться. После нашего выхода к Бойне в них произошла разительная перемена. Они были теперь толстые, упитанные, довольные, от прежней прожорливости не осталось и следа. Для нас один-два дня не играли никакой роли. Наше основное продовольствие – пеммикан – оставалось почти в неприкосновенности благодаря собачатине. Вот почему в палатке не заметно было особого уныния, когда мы вернулись в нее после работы.
Входя в палатку, я заметил, что Вистинг стоит в сторонке на коленях и рубит котлеты. Собаки окружили его кольцом, с интересом наблюдая за его занятием. Норд-ост завывал, сильно мело. Да, не очень приятная работа выпала на долю Вистинга. Однако он благополучно справился с ней, обед мы получили вовремя. Под вечер стало потише, ветер сместился к востоку Мы легли спать, возлагая большие надежды на завтрашний день.
И вот – воскресенье, 26 ноября. Удачный день во многих отношениях. Я и прежде не раз мог убедиться в том, какие молодцы мои товарищи. Но в этот день они выдержали такое испытание, что я до конца своих дней, сколько бы мне ни довелось прожить, не забуду его. За ночь ветер опять сместился к северу и достиг силы шторма. Когда мы вышли утром, из-за пурги не было видно саней, наполовину занесенных снегом. Собаки свернулись калачиком, защищаясь от непогоды. Мороз был не такой уж сильный, – 27°, но для такого ветра вполне достаточный. Мы все по очереди выходили из палатки посмотреть, что за погода, и теперь сидели на спальных мешках, обсуждая неутешительную перспективу.
– Снег здесь на Бойне паршивый, – говорил один. – И похоже, лучшего не будет. Вот уже пятый день, а дует хуже прежнего.
Все были с этим согласны.
– Хуже нет, когда непогода прихватит, – продолжал другой. – Лучше идти с утра до вечера, чем сидеть вот так.
Я думал точно так же. Один день еще ничего, но два, три, четыре (а теперь, похоже, что и все пять дней) – это ужасно!
– Может, попробуем?
Это предложение было тотчас единодушно одобрено. Думая о моих четырех товарищах по этому переходу на юг, я обычно вижу их в ореоле этого утра, когда особенно ярко проявились те качества, которые я ценю выше всего: мужество и бесстрашие, без хвастовства и громких слов. С шутками и прибаутками мы уложили вещи и вышли в шторм.
Глаз почти нельзя открыть! Мелкий снег проникал всюду, по временам казалось, что ты ослеп. Палатку совсем замело, она обледенела, и пришлось очень осторожно убирать ее, чтобы не лопнула. Собаки не рвались в путь, и запрячь их удалось далеко не сразу. Наконец все готово. Последний взгляд на лагерную площадку – не забыто ли что-нибудь? 14 остающихся собачьих туш сложены в кучу, к ним в виде вехи приставлены сани Хасселя. Лишняя сбруя, несколько веревок, все кошки – они нам не понадобятся дальше – были оставлены здесь. Да нам и без того хватало груза. Напоследок мы воткнули в снег около склада сломанную лыжу. Это сделал Вистинг. Очевидно, решил, что еще одна веха не помешает. Дальше мы убедимся, что он сделал доброе дело.
А теперь – марш. Трудно было поначалу и людям, и собакам. По-прежнему на нашем пути, осложняя продвижение вперед, стояли заструги. Тем, кто вел сани, надо было не зевать, поддерживать их, чтобы не опрокинулись на сугробах. А у остальных была проблема устоять на ногах, ведь не на что опереться. Мы двигались чуть ли не на четвереньках, но двигались. Сперва местность как будто немного повышалась. Снег был необычайно тяжелый, мы словно тащились по песку. Постепенно заструги становились все меньше, потом и вовсе исчезли, рельеф стал совсем плоским. И грунт становился лучше и лучше – неизвестно почему, ведь буря продолжала бушевать с неослабной силой, и все гуще валил снег. Каюр едва различал своих собак. Пошла совсем ровная местность, кое-где даже с небольшим уклоном, судя по тому, что сани вдруг ускоряли ход. Собаки то и дело переходили на галоп. Конечно, сильный попутный ветер способствовал этому, но ведь не он один. Мне не нравилось то, что местность вдруг понижается. Я не ожидал таких вещей на этой высоте. Небольшой подъем – еще куда ни шло, но уклон – нет, на это я не рассчитывал.
Правда, уклон еще не был настолько велик, чтобы внушать нам тревогу. В крайнем случае остановимся и разобьем лагерь. Мчаться галопом вслепую под уклон в совершенно неизвестной местности было бы сумасшествием. Чего доброго, и ахнуть не успеешь, как свалишься в какую-нибудь пропасть. Как обычно, впереди ехал Ханссен. Мне полагалось выполнять роль направляющего, но из-за неровного рельефа, а потом – быстрого хода невозможно было соперничать в скорости с собаками. Поэтому я держался возле саней Вистинга и переговаривался с ним. Вдруг я увидел, как собаки Ханссена прибавили ход и с бешеной скоростью понеслись под гору. Вистинг ринулся следом. Я успел крикнуть Ханссену, чтобы он остановился. Ему удалось это сделать, развернув сани поперек. Его сани помогли остановиться остальным. Мы находились на крутом косогоре. Что ждет нас внизу – неизвестно, да в такую погоду лучше и не выяснять этого. Неужели горы остались позади? Да нет, скорее всего, мы очутились на склоне одного из многочисленных отрогов. Но окончательно убедиться в этом сможем только, когда наладится погода. Мы утрамбовали площадку в рыхлом снегу и быстро поставили палатку. Дневной переход получился не очень большим, всего 19 километров, но мы хоть ушли с Бойни, а это уже было достижение.
Определив вечером температуру кипения, мы получили высоту 3030 метров над уровнем моря. Иначе говоря, мы спустились на 182 метра по сравнению с Бойней. Мы забрались в палатку и легли спать, чтобы на рассвете встать и проверить обстановку. В этих краях лучше не зевать. Иначе можно надолго застрять и много потерять. Поэтому мы спали вполглаза: если что-нибудь произойдет, тотчас заметим. В 3 часа сквозь тучи проглянуло солнце, и мы выскочили из палатки. Не сразу удалось нам оценить ситуацию. Тусклое солнце еще не рассеяло мглу. Ветер хотя и притих, но не совсем угомонился. Нет хуже – вылезть из теплого, уютного спального мешка и долго стоять на ветру в тонкой одежде, сторожа погоду. Мы знали по опыту, что проясниться может неожиданно, и уж тут надо быть начеку. И вот прояснилось. Правда, ненадолго, но нам и этого было достаточно. Оказалось, что мы находимся на довольно крутом отроге. К югу спуск был слишком крут, зато юго-восточный склон был более отлогим и заканчивался обширной равниной. Мы не заметили ни трещин, ни каких-либо иных препон. Впрочем, мы видели только ближайшие окрестности, и ни одной горы – ни Фритьофа Нансена, ни Дона Педро Кристоферсена.
Вполне довольные проделанной работой, мы снова легли и проспали до 6 утра, после чего возобновили свои утренние дела. Стихия, несколько присмиревшая за ночь, снова разбушевалась, и норд-ост дул нещадно. Однако теперь, когда мы изучили окрестности, шторм и метель не могли нас остановить. Только бы нам выбраться на равнину, а там хоть ощупью, да пройдем. Наложив на полозья надежные тормоза, мы двинулись под уклон на юго-восток. Утренние наблюдения подтвердились. Спуск оказался отлогим и ровным, и мы одолели его без происшествий. Теперь снова можно было взять курс на юг. Сквозь пургу мы продолжали свой путь в неведомое, подгоняемые завывающим норд-остом. Мы снова начали ставить пирамидки; на подъеме в них не было надобности.
До полудня мы перевалили через еще один гребешок, последний на нашем пути. Дальше пошел хороший рельеф – гладкая равнина, никаких заструг. И все-таки мы двигались медленно и трудно. Виноват был снег. Истинная мука, скольжение отвратительное, чистая Сахара. Вот когда понадобились направляющие. Отсюда вплоть до самого полюса мы с Хасселем чередовались в этой роли. Постепенно погода стала налаживаться, и когда мы под вечер разбили лагерь, ландшафт выглядел совсем приветливо.
Выглянуло солнце и подарило нам столь желанное тепло после ряда хмурых дней. Видимость еще не позволяла рассмотреть окрестности. Три одометра показали, что пройдено 30 километров. Совсем неплохо, учитывая отвратительный снег. Определение высоты дало нам 2790 метров над уровнем моря; значит, мы спустились за день на 240 метров. Удивительно. Что это значит? Вместо того, чтобы понемногу набирать высоту, мы ее теряем. Нас явно ожидает впереди какой-то сюрприз, – но какой? По счислению мы в этот вечер находились на 86° южной широты.
Двадцать восьмое ноября принесло нам далеко не идеальную погоду. Всю ночь с севера налетали холодные шквалы. Утром дул слабый ветер, но зато был туман, снегопад. Черт знает что. Идем по нехоженому краю и ничего не видим. Рельеф оставался примерно таким же, разве что стал более волнистым. Твердые, как железо, снежные наметы свидетельствовали, что здесь бывали сильные ветры. К счастью для нас, последний снегопад сгладил неровности. Сани скользили плохо, но все же лучше, чем накануне. Мы продолжали идти вслепую, досадуя на скверную погоду и плохую видимость, вдруг кто-то крикнул: – Глядите!

На пути к югу
На востоке-юго-востоке, высоко у нас над головой из тумана торчала угрюмая, темная вершина. Совсем недалеко, так и кажется, что она угрожающе нависла над нами. Мы остановились, созерцая величественное зрелище. Но природа недолго показывала нам свои достопримечательности. Густой холодный туман тут же скрыл заветный клад. Во всяком случае, мы знали, что надо быть готовым к всяким неожиданностям.
Пройдя около 16 километров, мы в поредевшем на минуту тумане совсем близко, в одном-двух километрах, увидели на западе две занесенных снегом узких гряды, протянувшиеся с севера на юг. Эти горы – горы Хелланд-Хансена – были единственными, которые мы видели по правую руку во время перехода через плато. Достигая высоты от 2700 до 3000 метров, они обещали стать прекрасным ориентиром на обратном пути. Между этими горами и кряжами, лежащими дальше к востоку, не было никакой явной связи в виде поперечных гребней. Похоже было, что это совсем обособленные вершины.
Мы продолжали следовать своим курсом, постоянно ожидая встретить еще какой-нибудь сюрприз. Черная мгла словно таила что-то. Непогоду? Вряд ли, она уже была бы здесь. Идем, идем – и ничего. За день было пройдено 30 километров.
Моя запись в дневнике 29 ноября начинается не очень весело: «Туман, туман, опять и опять туман. Да еще сыплет мелкий снег, из-за него ужасное скольжение. Бедные собаки, им пришлось сегодня крепко потрудиться». Впрочем, день в итоге оказался не такой уж плохой: кончилась безвестность, мы узнали, что таила черная мгла.
Около полудня выглянуло солнце и немного потеснило туман. И мы увидели на юго-востоке, в нескольких километрах, могучий горный массив. От него поперек нашего курса шел большой старый ледник. Солнце освещало его поверхность, покрытую огромными бороздами. Под горами они достигали таких размеров, что сразу видно: там не пройти. А вот прямо, насколько мы могли судить, на ледник как будто можно было подняться.
Туман то сгущался, то снова рассеивался, и мы ловили минуты просветления, чтобы ориентироваться. Конечно, удобнее всего было бы остановиться, поставить палатку и ждать, когда совсем прояснится, чтобы спокойно, не торопясь осмотреть местность и выбрать лучший путь. Плохо идти вперед, не зная местности. Но сколько придется ждать ясной погоды? На этот вопрос никто не мог ответить. Может быть, неделю, а может быть, и две, но мы таким временем не располагали. Так лучше идти вперед, а там будь что будет! Та часть ледника, которую мы видели, была довольно крутой. Но только в секторе юг – юго-восток туман иногда отступал настолько, что мы могли хоть что-то разглядеть. В секторе юг – запад туман был что каша. Огромные трещины, которые мы видели, терялись в тумане. Каков ледник дальше на запад? Ладно, нам-то надо на юг, а там начало пути намечается.
Мы продолжали идти, пока ледник не выслал нам навстречу небольшие трещины, потом остановились. Стоит облегчить сани, прежде чем всерьез приниматься за форсирование ледника. Уже то, что мы увидели, сулило нам изрядные трудности. Значит, сани должны быть возможно легче. И мы принялись устраивать склад. Снег здесь был самый подходящий, твердый, как стекло. Очень скоро выросло высокое сооружение из снежных глыб, содержащее продовольствие на 5 человек на 6 дней и на 18 собак на 5 дней. Кроме того, мы оставили тут разную мелочь.
Пока мы работали, туман то редел, то снова сгущался, и во время просветов мне удалось хорошо рассмотреть ближайшие горы. Они стояли как будто обособленно, и я насчитал четыре вершины. Одна из них, гора Хельмера Ханссена, высилась в стороне от других, три остальных – гора Оскара Вистинга, гора Сверре Хасселя и гора Улава Бьоланда – жались одна к другой. Небо за ними все время оставалось темным и тяжелым; очевидно, где-то там скрывались еще горы.
Внезапно темная пелена разорвалась, и возникли вершины огромного горного массива. Нам показалось, что высота этой громадины – горы Нильсена – по меньшей мере шесть тысяч метров с лишним. Мы буквально потеряли дар речи от этакого зрелища. Но видение длилось лишь несколько секунд и тотчас снова пропало в тумане. Мы успели взять не очень надежные азимуты отдельных вершин в ближайшей к нам группе; и на том спасибо. Да к тому же место это у подножья ледника было так заметно, что мы были спокойны – не потеряем склад.
Завершив двухметровую постройку, мы водрузили на нее один из своих черных провиантных ящиков, чтобы вернее обнаружить склад на обратном пути. Заодно успели определить широту и получили 86°21 южной широты. Это неплохо согласовывалось с данными счисления – 86°23 южной широты. Тем временем окрестности опять заволокло туманом, пошел мелкий снежок.
У нас был взят азимут на участок ледника, не столь изобилующий трещинами, и мы пошли туда. Вот наконец и ледник. Трещины по краю были небольшие, но едва мы приступили к подъему, как началась потеха. Даже жутко было идти вслепую в окружении трещин и провалов. Поглядывая на компас, отряд осторожно продвигался вперед. Мы с Хасселем шли впереди в связке. Правда, каюрам это мало что давало. Если мы проскочили на лыжах, это еще не гарантия, что собаки не провалятся. Нижняя часть ледника была не очень надежной, кое-где трещины скрывались под тонким слоем снега.
В ясную погоду еще куда ни шло, свет и тени позволяют разглядеть края этих волчьих ям, но в такой день, когда все сливается, чувствуешь себя менее уверенно. Все же мы продолжали идти вперед, соблюдая величайшую осторожность. Вистинг чуть не измерил собственной персоной глубину одной такой опасной трещины, когда перед ним обрушился мост. Присутствие духа и молниеносная реакция – кто-нибудь назовет это везением – спасли его. Так мы одолели по леднику метров шестьдесят, но затем попали в такой лабиринт зияющих провалов и трещин, что дальше нельзя было шагу шагнуть. Делать нечего, пришлось отыскать пятачок поровнее и ставить палатку.
Как только это было сделано, мы с Ханссеном отправились на разведку. Для надежности шли в связке. Непросто было выбраться из ловушки, в которую мы угодили. Небо со стороны упомянутых гор – они теперь были к востоку от нас – прояснилось настолько, что там ледник просматривался достаточно хорошо. Подтвердилось то, что мы видели издали. Под горами поверхность ледника была смята так, что негде ногу поставить. Словно здесь произошло сражение, участники которого стреляли ледяными глыбами. Они громоздились беспорядочно, создавая картину дикого хаоса. «Слава богу, что нас тут не было во время этой бомбардировки, – думал я, обозревая поле брани. – Наверно, это было чистое светопреставление».
Итак, сюда не пройдешь. Ну, и что, ведь нам-то надо на юг. В южном направлении мы ничего не могли рассмотреть из-за плотного тумана. Попробуем двигаться ощупью. И мы осторожно двинулись на юг. Сначала надо было форсировать довольно узкий снежный мост. Дальше шел вздыбленный гребешок, окаймленный с двух сторон широкими открытыми трещинами. Гребешок выводил на ледяной вал высотой около восьми метров. Вал образовался оттого, что сжатие прекратилось раньше, чем он распался на торосы.
Конечно, тут будет нелегко пробраться с санями и собаками, но ничего лучшего не видно.
С гребня ледяного вала открывался вид на участок, который прежде был от нас заслонен. Туман ограничивал видимость, но все же мы решили, что при известной осторожности можно будет пробиться. Да, спуск с вала потребует величайшей осмотрительности, ибо внизу зияла огромная трещина, способная поглотить и каюров, и собак, и сани.
Мы с Ханссеном шли наугад, ничего не видя. Нашей задачей было проложить след для завтрашнего перехода. Недобрыми словами отзывались мы о леднике во время этого странствия. Бесконечные петли, крюки… На каждый шаг вперед – десять в сторону. Неудивительно, что мы окрестили этот ледник «Чертовым». Во всяком случае, наши товарищи бурными овациями одобрили это название.
У «Врат ада» мы с Ханссеном остановились. Необычное образование… Посреди длинного ледяного вала высотой около шести метров разверзся открытый портал метра в два шириной. Вал, как и весь ледник, был очень старый и почти весь занесен снегом. Дальше к югу ледник, насколько мы могли судить, становился лучше, и мы пошли обратно, теша себя уверенностью, что как-нибудь сумеем пробиться. Понятно, и наши товарищи обрадовались добрым новостям.
Определение высоты в этот вечер дало 2540 метров над уровнем моря; у подножья ледника мы находились на высоте 2480 метров, на 700 с лишним метров ниже Бойни. Мы отлично понимали, что придется снова набирать эту высоту, если не больше. Мысль эта нас не особенно воодушевляла. Я читаю в своем дневнике итоговую запись этого дня: «Какой сюрприз стоит теперь на очереди?» Странное путешествие: неизведанный крап, новые горы, ледники и так далее, – а мы ничего не видим. Вполне естественно, что мы были готовы ко всяким неожиданностям. Больше всего в этом странствии вслепую мне не нравилось то, что будет трудно – даже очень трудно – опознавать местность на обратном пути. Ладно, этот ледник, что пересек наш курс, и все наши пирамидки должны нас выручить. Вряд ли мы промахнемся по ним, когда пойдем назад. Ведь главное для нас – найти спуск на барьер там, где мы поднялись. Иначе нас ждут большие неприятности. Дальше читатель увидит, что я не зря боялся заблудиться. Нам помогли пирамидки, так что конечной победой мы обязаны своей собственной осторожности и предусмотрительности.
На следующее утро, 30 ноября, была куда более ясная погода, и мы смогли довольно хорошо осмотреться. Оказалось, что две горные цепи на 86° южной широты соединяются в могучий хребет с вершинами от 3000 до 4500 метров, который уходит на юго-восток. Крайней вершиной, которую мы видели на юге, была гора Нильсена. Горы Ханссена, Вистинга, Бьоланда и Хасселя составляли, как мы это определили еще накануне, отдельный массив, лежащий в стороне от большого хребта.
Каюрам пришлось жарко в это утро. На таком участке, какой нам предстоял, от них требовалось большое терпение и умение. Малейшая ошибка, и сани вместе с собаками мигом отправятся на тот свет. Тем не менее мы удивительно быстро прошли путь, разведанный накануне. И вот уже перед нами Врата ада. Бьоланд сделал здесь превосходный снимок, на нем хорошо видно, какие трудности были на этом участке. На переднем плане, под высоким снежным гребнем, обрамляющим широкую, кое-где занесенную снегом трещину, видны отпечатки лыж. Это фотограф, проходя через снежный мост, несколько раз топнул, проверяя его прочность. Рядом со следами виден провал, сверху голубой, а в глубине – совсем черный. Фотограф благополучно прошел в оба конца по мосту, но рисковать санями и собаками мы не собирались. На фотографии как раз видно, что сани развернуты в другую сторону. Мы с Хасселем – две черные фигурки вдали – ищем другой путь.
В этот день пройденный этап был невелик, всего 15 километров по прямой. Правда, с учетом всех вынужденных петель и крюков выходило не так уж мало. Мы поставили палатку на хорошей, надежной площадке, вполне довольные итогом дня.
Высота над уровнем моря была 2635 метров. Солнце стояло на западе, освещая могучий горный массив. Сказочный ландшафт – белое и синее, красное и черное… Нет слов, чтобы передать эти краски. Несмотря на хорошую видимость, мы не торопились успокаиваться. Юго-восточная часть горы Нильсена терялась в плотной, темной мгле, позволяя предположить, что там может быть продолжение.
Гора Нильсена… Я не видел более красивого массива. Вершины самой различной формы вздымались вверх, отчасти скрытые летящими клочьями тумана. Некоторые из них были острые, но преобладали округлые и продолговатые. Тут и там по крутым склонам низвергались переливающиеся на солнце ледники, создавая внизу дикий, хаотический ландшафт.
Но всех удивительнее была гора Хельмера Ханссена. Ее круглая, будто опрокинутая чаша, вершина была накрыта причудливым ледником, настолько разрушенным, что глыбы торчали во все стороны, словно иглы ежа. И все это сверкало на солнце – изумительная картина. Во всем свете нет другой такой горы. Бесценный ориентир! Уж ее мы ни с чем не спутаем на обратном пути, как бы изменившееся освещение ни преобразило вид местности.
Разбив лагерь, мы организовали разведку. Вид из лагеря открывался не очень утешительный, но, может быть, на деле рельеф окажется несколько лучше? Нам повезло со снегом. Ведь кошки были оставлены на Бойне, и нам пришлось бы туго, если бы вместо крепкого фирна мы нашли здесь гладкий лед.
Все выше и выше, среди грозных расселин и трещин шириной в десятки и глубиной в сотни метров… Невеселая картина. Впереди, сколько хватал глаз, поднимался вал за валом, и за каждым прятались широкие расселины, которые надо обходить. Мы упорно пробивались вперед, какими бы долгими и трудными ни были обходы. Шли без веревки, потому что трещины были ясно видны, не оступишься. И все-таки веревка тут была бы не лишней. Только мы нацелились перевалить через очередной гребешок – он выглядел вполне крепким и безопасным, – вдруг под лыжей Ханссена сзади провалился снег. Мы не могли отказать себе в удовольствии заглянуть в дыру. Картина была настолько несимпатичная, что мы условились провести собак и сани в обход этого места.
Не проходило дня, чтобы мы не хвалили наши превосходные лыжи. Частенько спрашивали друг друга, где бы мы были сейчас без них. И отвечали: скорее всего, на дне какой-нибудь трещины или провала. Для нас, родившихся и выросших с лыжами на ногах, еще при чтении литературы о строении и поверхности барьера было очевидно, что без них не обойтись. Это подтверждалось с каждым днем, и можно смело сказать, что лыжи сыграли не только очень важную, но, пожалуй, даже наиважнейшую роль в нашем походе к Южному полюсу. Много раз нам на пути попадались такие пересеченные участки, что без лыж мы бы далеко не ушли. А об их роли на глубоком рыхлом снегу и говорить нечего.
После двухчасовой разведки мы решили повернуть назад. С гребешка, на котором мы стояли, открывался очень обнадеживающий вид. Правда, мы уже столько разочаровывались на этом леднике, что стали совсем недоверчивыми. Только настроимся на то, что еще один вал – и нашим испытаниям конец, дальше откроется свободный путь на юг, как оказывается, что за валом рельеф чуть ли не хуже прежнего. Но на сей раз в воздухе, как говорится, повеяло победой. Может быть, все дело в инстинкте? Не знаю, одно верно: обсудив перспективу, мы с Ханссеном оба согласились, что вон там, за последним валом, мы отпразднуем победу над ледником. Нам страшно хотелось заглянуть за него, но надо было обходить столько трещин, да и, по чести говоря, мы устали.
Обратно путь шел под уклон и отнял немного времени. И вот уже мы докладываем своим товарищам, что на завтра перспективы благоприятные. Хассель успел измерить высоту горы Нильсена, у него получилось 4550 метров над уровнем моря.
Отлично помню, как мы в тот вечер любовались изумительной картиной. Нам казалось, что воздух чист и мы видим все, что только может охватить наш взор. И как же мы были поражены, когда на обратном пути с полюса увидели совсем иной ландшафт. Если бы не гора Хельнера Ханссена, мы могли бы подумать, что заблудились.
В этих краях воздух способен на всякие козни. Хотя он нам в тот вечер представлялся абсолютно прозрачным, на самом деле, как мы потом убедились, видимость была далеко не лучшая. Так что надо быть чрезвычайно осторожным, судя о том, что ты видишь и чего не видишь. Чаще всего оказывалось, что полярные путешественники видели больше, чем есть на самом деле. Что до нас, то если бы мы нанесли на карту этот участок таким, каким видели его в тот раз, были бы пропущены обширные горные массивы.
Ночью подул сильный зюйд-ост. Растяжки гудели; хорошо, что колья выдержали. Утром, когда мы завтракали, еще дуло так, что мы были готовы повременить с выходом. Но тут ветер вдруг стих настолько, что все наши сомнения развеялись. Правда, зюйд-ост успел натворить дел! Великолепный снег, благодаря которому вчера идти на лыжах было сплошным удовольствием, во многих местах смело, обнажился твердый лед.
Было над чем призадуматься. Кошки, которые мы оставили на Бойне, так и плясали у меня перед глазами, так и дразнили. Будет здорово, если придется возвращаться за ними! Но вот вещи собраны, можно идти. Вчерашний след был ненадежным – то пропадет на гладком льду, то опять покажется на сугробе, устоявшем после бури. Каюрам было очень тяжело. Трудно управлять санями на покатом льду. Они то и дело разворачивались поперек; гляди в оба, чтобы не опрокинулись. Упаси бог, ибо тонкие провиантные ящики не выдержат ударов о лед. К тому же ставить сани правильно было так трудно, что одно это вынуждало каюров быть крайне осторожными. В этот день сани прошли серьезное испытание на многочисленных неровностях. Это чудо, что они не сломались, чудо – и показатель отличной работы Бьоланда.
Такого хаоса мы еще не встречали на леднике. Мы с Хасселем, как обычно, шли в связке впереди. До вчерашнего вала добрались относительно легко. Всегда легче идти, если знаешь маршрут. Дальше стало хуже, кое-где мы подолгу искали путь в разных направлениях. Не раз приходилось орудовать топором, срубая препятствия. В одном месте мы совсем приуныли. Сплошные провалы и торосы, высокие икрутые, как горы.
Мы все облазили в поисках перехода. И наконец нашли один, если только его можно называть переходом, – мостик был до того узкий, что только-только саням пройти, а по бокам – чудовищные провалы. Это было все равно, что идти по канату через Ниагару. Хорошо, что никто из нас не страдал головокружением и что собаки не понимали, чем грозит им малейший неверный шаг.
За мостиком начался уклон, наш путь пролегал в ложбине между двумя высокими валами. Ложбина была длинная и шла прямо на запад – хорошая проверка терпения. Несколько раз мы пробовали повернуть на юг и перевалить через складку. Тщетно. Влезть еще можно, а вот спуститься по той стороне нельзя. Оставалось только следовать естественному направлению долинки и ждать, когда откроется выход к югу.
Особенно тяжело дался этот участок каюрам. Не довольствуясь разведкой, которую проводили мы с Хасселем, они сами поднимались на гребень – лишь для того, чтобы покориться прихоти природы и последовать за нами. Да и то не обходилось без препятствий. То и дело путь нам пересекали большие и малые трещины.
Вал, или гребень, на который мы взобрались под конец, производил внушительное впечатление. Крутыми уступами спадал он на восток, достигая здесь в высоту 30 метров. Западный, плавный скат был вполне доступным.
Для лучшего обзора мы поднялись на восточную, самую высокую часть гребня. И сразу подтвердилась наша вчерашняя догадка. Гребень, на который мы смотрели накануне, надеясь, что после него все будет легче, уходил в сторону. А то, что открылось за ним, заставило сердце радостно екнуть. Неужели эта сплошная белая равнина – реальность? Или это обман зрения? Время покажет.
Мы с Хасселем пошли дальше, остальные – за нами. На пути к равнине нам еще предстояло взять немало препятствий, но они не шли в сравнение с теми головоломными переходами, которые мы уже преодолели. Мы облегченно вздохнули, выйдя на заманчивую равнину. Она оказалась не очень обширной, да и мы не были так уж требовательны после нескольких дней движения среди трещин. Правда, на юге еще виднелись вздыбленные гребни, но их разделяли большие просветы с гладкой поверхностью. Впервые с тех пор, как мы вступили на Чертов ледник, можно было километр за километром выдерживать курс строго на юг. Действительность подтвердила, что дальше идет другой рельеф. На сей раз обошлось без подвохов. Нет, это была не сплошная ровная гладь – до этого еще было далеко, – но мы могли подолгу идти своим курсом. Широкие трещины попадались все реже, и они были настолько заполнены снегом, что мы пересекали их без больших обходов.
Люди и собаки сразу приободрились, мы быстро продвигались на юг. И чем дальше, тем лучше путь. Вдали вздымались к небу могучие куполовидные образования. Они обозначали южный рубеж широких трещин и знаменовали переход к третьей фазе ледника. Взбираться на эти высокие, скользкие купола, преграждавшие нам путь, было серьезной проблемой. С них открывался хороший обзор. Поверхность здесь заметно отличалась от поверхности района, расположенного к северу от куполов. Трещины – совсем закрытые, можно пересекать в любом месте. Особое внимание привлекало множество небольших стоговидных образований. Большие участки ледника были обнажены и сверкали голым льдом. Было очевидно, что все эти особенности ледника определяются его ложем. На первом участке, где был такой беспокойный рельеф, видимо, близко залегали коренные породы. Чем дальше от скалы, тем ровнее становилась поверхность ледника. На участке со стоговидными образованиями складки не привели к заметным нарушениям, были только вспучивания тут и там. Нам скоро довелось узнать, как образовались эти стога и что у них внутри.
Кончились долгие обходы и крюки, и двигаться через плато стало сплошным удовольствием. Только самые крупные стога заставляли нас сворачивать в сторону. В остальном же мы выдерживали курс. Обширные бесснежные участки, встречавшиеся нам то и дело, изобиловали трещинами, но трещины были совсем узкие, всего с полдюйма.
В тот вечер нам было нелегко подобрать площадку для лагеря. Всюду одинаково твердо. Так и пришлось ставить палатку на голом льду. К счастью для наших колышков, лед был не прозрачный, а молочно-белый, и не стальной твердости. Топор довольно легко вогнал колья в лед.
Хассель, как обычно, отправился с кастрюлей за снегом. Он всегда нарезал его специально сделанным для этого большим ножом, но в этот вечер вооружился топором, радуясь обилию великолепного материала. Ему не пришлось далеко идти. У самой палатки, на расстоянии меньше метра от входа, стоял чудесный небольшой стог. Как раз то, что надо. Хассель поднял топор и ударил им со всего плеча. Топор легко ушел в снег по самую рукоятку. Стог оказался полым. Хассель вынул топор, корка рассыпалась, и стало слышно, как комья снега летят в темный провал… Итак, меньше чем в метре от палатки у нас удобный вход в погреб. Хассель явно упивался своим открытием.
– Темно, как в мешке, – улыбался он, – и дна не видать!
Ханссен снял. Ему хотелось, чтобы палатка стояла еще ближе к дыре.
Следующий день, суббота 2 декабря, всем нам дался тяжело. С самого утра – неистовый зюйд-вест, обильный снегопад, слепящая пурга. Лед – как зеркало, хуже не придумаешь. Я ковылял впереди на лыжах, у меня была еще сравнительно легкая работа. Каюры вынуждены были снять лыжи и идти рядом с санями, поддерживая их, когда собакам приходилось трудно. А это случалось часто, ибо на гладком льду тут и там были разбросаны наметы такого снега, который был для полозьев хуже клея. Если сани на снегу, а собаки на льду и не за что зацепиться когтями, им не стащить саней с намета. И, чтобы сани не останавливались, каюрам приходилось нажимать изо всех сил. Сообща людям и собакам чаще всего удавалось справиться с санями.
Во второй половине дня снова пошли неровные участки; то и дело путь нам пересекали широкие трещины. Притом довольно опасные. Заполненные снегом, они с виду казались безобидными, однако ближайшее знакомство показало нам, что они куда коварнее, чем мы думали. Между наполняющим их рыхлым снегом и твердой кромкой был довольно широкий просвет, уходящий далеко вглубь. Сверху этот просвет обычно прикрывала тонкая корка снега. Въезжаешь на трещину – ничего, а вот когда мы выбирались на противоположный край, наступал критический момент. Ведь собаки выходили на гладкий лед, когти скользили, и вытаскивать сани приходилось каюру. Упрется хорошенько – глядишь, и провалился сквозь корку. Естественно, каюр держался за трос на санях или за специально для этого укрепленную петлю. Но даже самый осторожный человек со временем теряет бдительность, вот почему наши каюры не раз, как говорится, отправлялись в погреб.
Такая езда очень изматывала и собак, и людей. Будь еще погода получше, чтобы мы могли что-то видеть, но, как назло, погода была отвратительная. Словом, ничего приятного.
Много времени уходило на отогревание замерзающих носов и щек. Нет, мы не останавливались для этого, время не позволяло. Просто снимали варежку и, продолжая идти, прикладывали теплую руку к онемевшему месту. А вернулась чувствительность – суй руку обратно в варежку, отогревай ее. В 20-градусный мороз при штормовом ветре с голой рукой долго не походишь.
Несмотря на неблагоприятные условия, одометры вечером показали, что пройдено 25 километров. Мы забрались в палатку, вполне довольные таким итогом.
Субботний вечер. Приглашаю вас заглянуть в палатку. В ней довольно уютно. Половину площади занимают три спальных мешка. Владельцы сочли для себя наиболее удобным и целесообразным забраться в них. Сейчас они заняты своими дневниками. Ближе к выходу лежат только два спальных мешка, зато между ними расположилась вся кухня. Владельцы этих мешков, Вистинг и Ханссен, еще не ложились. Ханссен – кок, он хочет сначала приготовить еду и накормить людей. А Вистинг – его верный помощник и друг.
Похоже, что Ханссен добрый кок, у него пища не пригорит. Ложка непрерывно размешивает содержимое кастрюли. «Суп готов». Вот это реакция. Все как один уже сидят, держа в одной руке чашку, в другой ложку. И каждому наполняют чашку отличнейшим – да, да! – супом из овощей. Горячий, по лицам видно, и все же он исчезает с поразительной быстротой. Чашки снова наполняются, на этот раз более плотной пищей – пеммиканом. И снова их опустошают с завидной быстротой, после чего следует добавка. С аппетитом все в порядке. Наконец чашки аккуратно выскоблены, можно наслаждаться хлебом и водой. Именно наслаждаться: судя по счастливым лицам, хлеб и вода доставляют больше удовольствия, чем самые изысканные блюда. Они буквально ласкают галету, прежде чем съесть ее. Вода – все требуют ледяной воды! – поглощается в больших количествах, явно принося куда больше удовлетворения, чем вино высшей марки.
Примус продолжает гудеть, и температура в палатке очень даже приятная.
После еды кто-то требует ножницы и зеркало, и вот уже полярники полным ходом прихорашиваются к воскресенью. Каждую субботу бороды коротко подстригаются машинкой и не столько в погоне за красотой, сколько из чисто практических соображений. В бороде чуть что намерзают льдинки, а это подчас очень неудобно. По-моему, носить бороду в таком путешествии так же неудобно, как, скажем, цилиндр на ногах.
Машинка и зеркало обошли по кругу, обитатели палатки один за другим исчезают в спальных мешках, и после пятиголосого «доброй ночи» наступает тишина. И вот уже ровное дыхание дает знать, что трудный день сделал свое. А снаружи воет зюйд-ост и снег сечет палатку. Собаки свернулись калачиком, как будто им пурга нипочем.
Буран не унимался и на следующий день, и мы решили, что лучше подождать, чем рисковать. Наконец около полудня ветер поумерился, и мы немедленно собрались в путь. Несколько раз выглянуло солнце; мы воспользовались случаем измерить его высоту. Результат – 86°47 южной широты.
На этой стоянке мы расстались со своей замечательной меховой одеждой – все равно при такой высокой температуре воздуха она не понадобится. Оставили только капюшоны с оленьих парок. В них хорошо идти против ветра. В этот день мы немного прошли. Полуденное затишье оказалось, как говорится, шуткой природы. Она тут же снова настроилась на серьезный лад – подул штормовой зюйд-ост. Знай мы местность, пожалуй, можно бы продолжать переход. Но в такую пургу, когда глаз не открыть, лучше было воздержаться. Не то случится беда, и все пропало. Четыре километра – вот и весь наш переход. Когда мы остановились, температура воздуха была -21°. Определение высоты дало 2880 метров над уровнем моря.
За ночь зюйд-ост сменился нордом. Ветер стих, прояснилось. Очень кстати для нас, и мы не стали мешкать. Перед нами, отлого поднимаясь вверх, простирался зеркальный лед. Как и в предыдущие дни, я ковылял впереди на лыжах, а остальные шли без лыж, поддерживая сани. По-прежнему нам встречались закрытые трещины, правда, не так часто. Но вот на сверкающей глади начали появляться пятна снега. Их становилось все больше, и вскоре они слились, накрыв неприятный лед сплошным пластом. Можно было снова надеть лыжи, и мы в отличном настроении продолжали свой путь на юг.
Мы радовались тому, что коварный ледник побежден, и поздравляли друг друга с тем, что наконец-то вышли на истинное плато. И вдруг прямо по курсу вырос гребень, красноречиво свидетельствуя, что еще не все неприятности кончились. Начался небольшой уклон, и по мере приближения к гребню стало ясно, что по пути к нему надо пересечь довольно широкую, но неглубокую ложбину. Со всех сторон вырастали длинные гряды торосов и стоговидные ледяные глыбы. Мы поняли, что нужно глядеть в оба. И вот перед нами часть ледника, которую мы назвали «Танцплощадкой дьявола».
Снежный покров, который мы так превозносили, постепенно исчез; перед нами простиралась сверкающая льдом широкая ложбина. Вначале все шло благополучно. На скользком уклоне мы развили хороший ход. Вдруг сани Вистинга резко затормозили и опрокинулись. Мы сразу поняли, что случилось: сани попали одним полозом в трещину. С помощью Хасселя Вистинг принялся поднимать сани и оттаскивать их подальше от опасного места. А Бьоланд тем временем достал свой фотоаппарат и приготовился снимать. Мы с Ханссеном привыкли к таким происшествиям и спокойно наблюдали эту сцену с того места, где были, когда сани провалились. Но фотографирование затянулось, и я решил, что речь идет о закрытой трещине, не представляющей серьезной опасности, просто Бьоланду захотелось получить еще один снимок, который напоминал бы о многочисленных трещинах и щекотливых ситуациях в нашем путешествии. На фотографии ведь не видно, что трещина закрытая… Я окликнул ребят, спросил, как дела.
– Все в порядке, – прозвучал ответ, – сейчас.
– Трещина какая?
– Обычная, дна не видно!
Я упомянул здесь об этом маленьком происшествии, чтобы показать, как человек ко всему на свете привыкает. Два человека, Вистинг и Хассель, висят над бездонным провалом, позируя фотографу, и совсем не отдают себе отчета в серьезности положения. Послушаешь этот смех и шутки, ни за что не догадаешься, как обстоит дело. После того как фотограф спокойно, не спеша закончил свою работу (снимок вышел превосходный), Вистинг и Хассель сообща подняли сани и поехали дальше.
Как раз после этой трещины началась Танцплощадка дьявола. На вид – ничего страшного. Правда, снег смело ветром и продвигаться было трудно, но трещин почти не было. Довольно много торосов, как уже говорилось, но даже рядом с ними мы не видели серьезных препятствий.

«Танцплощадка дьявола»
На переднем плане Вистинг и Хассель, вдали Амундсен и Ханссен
Первое предупреждение о том, что лед здесь более коварен, чем кажется с виду, мы получили, когда передовые собаки в упряжке Ханссена вдруг провалились, что называется, на ровном месте. Они повисли на постромках, и вытащить их было легко.
Мы заглянули в провал и решили, что не так уж тут опасно. В полуметре-метре от поверхности находился еще один пласт, как будто из ледяной крошки. Мы предположили, что нижний пласт достаточно плотен, поэтому не страшно провалиться. Однако Бьоланд убедил нас в обратном. Он провалился сквозь верхний пласт и уже пробил нижний, но в последнюю секунду ухватился за веревочную петлю на санях. Собаки проваливались снова и снова, люди – тоже. Из-за пустоты между двумя пластами каждый шаг отдавался зловещим гулом. Каюры изо всех сил нахлестывали собак и подбадривали их энергичными возгласами, торопясь пройти коварный участок.
К счастью, он тянулся недолго. Поднимаясь на гребень, мы сразу заметили, как грунт меняется к лучшему. Оказалось, что «Танцплощадка дьявола» – последний «поклон» ледника. Дальше все неровности кончились. Рельеф и скольжение заметно улучшились, и вскоре мы с удовлетворением отметили, что многочисленные трудности и препятствия окончательно побеждены. Ровный гладкий лед был покрыт плотным снегом; мы быстро продвигались на юг, чувствуя себя вполне уверенно и безопасно.
На 87° южной широты по счислению мы в последний раз видели на северо-востоке землю. Воздух казался кристально чистым, и мы были уверены, что нам все видно. Однако, как выяснилось позднее, мы и на этот раз были обмануты. За день прошли около 40 километров. Высота над уровнем моря 3070 метров.
Недолго стояла хорошая погода. На следующий день подул сильный норд, и вот уже по всему плато загуляла метель. Сильный снегопад слепил глаза, но на душе у нас было спокойно, и мы решительно и быстро продвигались вперед, хотя ничего не видели. В этот день нас ожидала новость – огромные заструги. Пробираться между ними отнюдь не приятно, тем более, когда их не видно. В таких условиях не было смысла высылать вперед направляющего. Все равно он не мог устоять на ногах. Сделает 3–4 шага и падает. Сугробы были высокие и крутые. Нужно было быть настоящим акробатом, чтобы, перевалив вслепую, удержаться на ногах.
И мы решили, что лучше всего пустить вперед упряжку Ханссена. Тяжело ему приходилось, да и собакам нелегко, но отряд продвигался неплохо. Конечно, не обходилось без того, чтобы сани не опрокидывались; ничего – понатужимся и поднимем их. Каюры основательно потрудились, поддерживая сани среди заструг. Правда, зато и сани служили им опорой. Хуже было нам, «холостякам», которые шли без саней. Впрочем, идя по пятам за нашими товарищами, мы видели все неровности и благополучно одолевали их. Ханссен заслуживал особой похвалы: он отлично вел упряжку по такой местности, в такую погоду. Нелегко заставить эскимосских собак идти вперед, когда они ничего не видят. Ханссен не только справлялся с собаками, но и держал верный курс по компасу. Казалось бы, это практически невозможно, когда компасная стрелка от частых толчков то и дело обегает кругом всю розу ветров, не успеет остановиться – опять сорвалась с места. И однако, когда нам наконец удалось определить свои координаты, оказалось, что Ханссен правил идеально: данные наблюдения и счисления сошлись с точностью до одной мили.
Несмотря на множество препятствий и на то, что мы ехали вслепую, одометры отсчитали почти 40 километров. Гипсометр показал 3260 метров над уровнем моря. Следовательно, мы поднялись выше Бойни.
7 декабря такая же погода: снег и метель, земля и небо заодно, ничего не видно. Тем не менее мы развили хороший ход. Заструги постепенно сгладились, пошел совершенно плоский рельеф. До чего же приятно было снова идти по ровному льду. Бесконечные борозды нас просто извели. Ладно еще, это было бы где-то внизу, но здесь, на большой высоте, где упадешь – долго не отдышишься, нам, честное слово, приходилось несладко. В этот день мы пересекли 88 параллель и разбили лагерь на 88°9 южной широты. Вечером нас ожидал большой сюрприз. Как обычно, пока готовилась пища, я решил определить высоту. При этом я ожидал, что точка кипения, как и накануне, понизится, свидетельствуя о дальнейшем подъеме, но, к нашему удивлению, вода закипела при такой же температуре, как накануне. Я повторил опыт несколько раз, проверяя, нет ли ошибки, – результат был тот же. И обрадовались же ребята, когда я объявил, что мы достигли высшей точки плато.
8 декабря началось так же, как 7-е: ни зги не видно. Пословица «О погоде говори на закате», кажется, не очень подходит для здешних условий – ну, да ладно. Конечно, солнце уже несколько недель не заходило, но я надеюсь, что снисходительный читатель не станет придираться к словам.
Дул слабый норд-ост, снег был отличный, и по гладкой равнине мы быстро катили на юг. Естественно, наши собаки на подъемах растеряли часть прыти, но совсем немного. Правда, они стали гораздо прожорливее. Дневной нормы – полкилограмма пеммикана – им было мало, и они с утра до вечера искали, чем бы еще закусить.
Поначалу они довольствовались тем, что плохо лежало: лыжными креплениями, кнутами, сапогами и т. п. Но мы заметили это и стали внимательно следить за своими вещами. Однако этим дело не кончилось. Собаки принялись за ремни, которыми были связаны сани. И если бы мы им позволили, они живо разобрали бы сани на составные части. Мы приняли контрмеры и по вечерам стали закапывать сани поглубже в снег, так что ремней не было видно. Помогло. Собаки почему-то не пытались одолеть снежный «барьер».
Примечательно: эти ненасытные животные, пожиравшие все, что им попадалось, вплоть до эбонитовых кружков на наших лыжных палках, никогда не покушались на провиантные ящики. Лежит треснувший ящик, собаки ходят кругом, нос вровень с ящиком, и чуют пеммикан, и видят его, но не трогают. Зато стоит поднять крышку, как они сбегаются со всех сторон, надеясь на добавку. Не знаю уж, чем это объяснить. Во всяком случае, не врожденной застенчивостью.
Ближе к полудню плотная серая пелена на горизонте начала редеть, и впервые за много дней открылся вид на несколько километров. Словно мы проснулись после крепкого сна, протерли глаза и оглянулись по сторонам. Мы настолько привыкли к серым сумеркам, что теперь свет нам буквально резал глаза. Но в верхних слоях атмосферы упрямо держалась мгла, мешавшая выглянуть солнцу.
Нам было очень важно взять меридиональную высоту, чтобы определить свою широту. После 86°47 мы еще не производили наблюдений, и трудно было сказать, когда нам это удастся. Пока что погода здесь, на плоскогорье, была не очень благоприятная.
Хотя надежд на успех было мало, мы остановились в 11 часов и приготовились засечь солнце, когда оно соизволит выглянуть. Хассель и Вистинг вооружились одним комплектом (секстант и искусственный горизонт), Ханссен и я – другим.
Не помню случая, когда бы я так настойчиво старался, как говорится, вытянуть солнце за хвост из-за туч. Если удастся произвести здесь наблюдения и результат совпадет с данными счисления, можно на худой конец идти до самого полюса по счислению. Если же ни теперь, ни потом не будет наблюдений, еще вопрос – признают ли за нами открытие полюса только по данным счисления.
Не знаю, помогло ли мое старание, но факт тот, что солнце в конце концов показалось. Правда, оно было не очень яркое, да мы ведь привыкли ловить малейшую возможность. И вот высота определена, проверена всеми и записана. Пелена облаков тем временем редела, и еще до конца наблюдений, пока мы ловили солнце в высшей точке и убедились, что оно пошло вниз, оно засияло вовсю.
Отложив инструменты, мы сели на сани и принялись за вычисления. Нужно ли говорить, что мы волновались. Столько шли вслепую, да к тому же по такой тяжелой местности – каков-то будет результат? Вычитаем, складываем, наконец ответ готов. Мы недоверчиво посмотрели друг на друга. Это было похоже на фокус, проделанный настоящим волшебником. 88°16 южной широты. И по счислению – 88°16 южной широты. С точностью до одной мили. Теперь, если мы пойдем к полюсу по счислению, даже самые придирчивые люди должны признать за нами право на это. Мы убрали свои журналы, съели по две галеты и снова двинулись в путь.
В этот день нам предстояло пронести флаг Норвегии в неизведанные широты. Так далеко на юг еще не ступала нога человека. Шелковый флаг, привязанный к двум лыжным палкам, лежал наготове на санях Ханссена. Я велел ему, как только мы пройдем 88°23 южной широты – предел, достигнутый Шеклтоном, – поднять наш флаг. В этот день я был направляющим. Держать курс было нетрудно, красивейшие облака указывали мне путь. Все шло автоматически. Впереди – направляющий, за ним – Ханссен, дальше Вистинг и, наконец, Бьоланд. Свободный направляющий мог идти, где хотел. Обычно он следовал за чьими-нибудь санями.

Пройден 88°39 южной широты, достигнутый Эрнестом Генри Шеклтоном во время экспедиции к Южному полюсу в 1907–1909 гг.
Я шел призадумавшись, и мысли мои были далеко отсюда. Не помню уж, о чем я так упорно думал, как вдруг меня вернул к действительности ликующий крик, за которым последовали громкие «ура!». Я живо обернулся, чтобы узнать, в чем дело, и застыл на месте, потеряв дар речи.
Нет слов, чтобы передать мои чувства в эту минуту. Все сани остановились, а на передних развевался норвежский флаг. Шелковое полотнище трепетало на ветру, удивительно красивое в прозрачном воздухе, среди ослепительной белизны. 88°23 пройдены, мы проникли на юг дальше, чем кто-либо. Это была самая волнующая минута с начала нашего путешествия. По щекам покатились слезы, и как я ни старался, не мог их удержать. Вид нашего флага сломил мою волю. Хорошо, что я ушел вперед; возвращаясь к своим товарищам, я успел взять себя в руки, укротить свои чувства.
Мы обменялись поздравлениями и рукопожатиями. Вот куда мы пробились сообща. И пробьемся еще дальше, к самой цели. Естественно, мы с великим уважением и восхищением вспомнили о человеке, который вместе со своими смелыми товарищами водрузил флаг родины намного ближе к цели, чем кто-либо из его предшественников. Имя сэра Эрнеста Шеклтона навсегда записано яркими буквами в истории исследований Антарктики. Мужество и воля творят чудеса. Подвиг Шеклтона, на мой взгляд, как нельзя лучше подтверждает это.
Разумеется, были вынуты фотоаппараты, и мы получили прекрасный снимок сцены, которую никто из нас не забудет. Пройдя еще 3–4 километра, мы на 88°25 разбили лагерь.
Погода заметно улучшилась. Почти полное безветрие, ясно, по-летнему (мы говорим о полярном лете) тепло – 18°.
А в палатке было даже душно; мы не ждали ничего подобного. Основательно все обсудив и взвесив, мы пришли к выводу, что здесь надо организовать еще один склад, последний. Ради выигрыша, который даст облегчение саней, стоит рискнуть. Да и не так уж велик риск, мы же поставим столько вех, что слепой не заблудится. На этот раз было решено, кроме поперечных знаков, с востока на запад, ставить снежные пирамидки через каждые 3,7 километра к югу. И на следующий день мы занялись складом.
Я не мог надивиться на собак Ханссена. Казалось, им все нипочем. Конечно, они слегка отощали, но на силе это почти не отразилось. И мы решили не облегчать сани Ханссена. Упряжки Вистинга и Бьоланда сдали, особенно последняя, поэтому мы сняли с этих саней почти по 50 килограммов – груз немалый. Следовательно, на складе было оставлено около 100 килограммов собачьего пеммикана и галеты. На санях лежало еще продовольствия приблизительно на месяц. Если, паче чаяния, нам не повезет, и мы потеряем этот склад, нам все равно должно хватить провианта до склада на 86°21 . Хотя снег здесь плохо подходил для строительства, нам удалось воздвигнуть внушительный монумент. На поперечную разметку пошло 60 черных ящичных дощечек. Мы их втыкали в снег через 100 шагов. К каждой второй дощечке привязали лоскут черной материи. Для лучшей ориентировки все дощечки с восточной стороны были с метками, с западной – без меток.
Похоже было, что теплая погода подействовала как проявитель на обмороженную кожу. Ну и вид был у нас! Вистинг, Ханссен и я особенно пострадали во время последнего бурана, у каждого из нас левая щека превратилась в сплошную болячку, из которой сочилась сукровица с гноем. Поглядеть на нас – бандиты и разбойники с большой дороги. Родная мама не узнала бы нас. Эти болячки нам очень докучали на последнем этапе. От малейшего ветерка появлялось такое чувство, будто кто-то резал лицо тупым ножом. Болячки долго не заживали. Помню, Ханссен снял последнюю корку, когда мы уже подходили к Хобарту, – это было три месяца спустя.
В этот день нам повезло с погодой. То и дело показывалось солнце, предоставляя нам отличный случай для азимутальных наблюдений; это были последние надежные наблюдения такого рода в нашем путешествии. 10 декабря с утра тоже была чудесная солнечная погода. Правда, мороз был 28° и встречный ветерок больно щипал наши обмороженные щеки, но ничего.
Мы сразу же принялись ставить пирамидки и продолжали это делать до самого полюса. Эти пирамидки были поменьше тех, которые мы сооружали на барьере. Одни метр в высоту – и хватит. На плоском плато малейший бугор бросался в глаза. Заодно мы основательно изучили характер здешнего снега. Зачастую здесь, южнее 88°25 , бывало трудно найти подходящий снег, то есть достаточно плотный, чтобы из него можно было нарезать кирпичи. Видно, он выпадал в тихую погоду, при слабом ветре, а то и вовсе при полном безветрии. Иной раз мы беспрепятственно втыкали в снег двухметровый палаточный шест до самого конца, не встречая твердой корки. И поверхность была совершенно гладкая, никакого намека на сугробы.
Теперь каждый шаг быстро приближал нас к цели. Можно было рассчитывать, что мы почти наверное достигнем ее пятнадцатого, во второй половине дня. Вполне естественно, наши разговоры вращались около этой даты. Никто из нас не признался бы, что мы нервничаем; думаю, однако, что все были в какой-то мере поражены этим недугом. Что мы увидим, когда дойдем? Широкую, безбрежную равнину, которой еще не видел глаз человека, где еще не ступала ничья нога? Или… Или?.. Нет, это исключено. При той быстроте, с какой мы двигались, мы должны быть первыми на финише, тут нечего сомневаться. И все же… все же!.. Была бы самая крохотная лазейка, сомнение непременно в нее проникнет и будет, и будет грызть свою жертву.
– Что там Непоседа учуяла? – спросил Бьоланд в один из последних дней, когда я шел рядом с его санями, беседуя с ним. – И ведь что удивительно, все на юг смотрит. Неужели…
Милиуса, Кольцо, Полковника и Зверя тоже чем-то привлекала южная сторона. Странно было смотреть, как они с явным интересом поднимали голову и, обратив нос прямо на юг, напряженно принюхивались. Можно подумать, что там и в самом деле крылось что-то особенное.
После 88°25 южной широты барометр и гипсометр начали показывать, что плато опять медленно, но верно понижается. Это было для нас приятной неожиданностью. Значит, нами обнаружена не только высшая точка плато, но и его противоположный склон. Это будет очень важно для понимания структуры всего плато. 10 декабря наблюдение и счисление расходились всего на 2 километра. 11 декабря тот же результат: итог наблюдения отставал от счисления на 2 километра. Погода и снежный покров оставались примерно такими же, как в предыдущие дни, – легкий юго-восточный ветер при -28°, снег рыхлый, но сани и лыжи отлично скользили.
Двенадцатого погода та же, температура —25°. Результаты наблюдения и счисления на этот раз снова в точности совпали. Мы находились на 89°15'южной широты. 13 декабря мы достигли 89°30 южной широты. Результат счисления отстал от наблюдения на 1 километр. Снежный покров и рельеф по-прежнему отличные. Погода превосходная – тихо и солнечно.
Полуденное наблюдение 14 декабря дало 89°37 , счисление – 89°38,5 южной широты. Под вечер, пройдя 8 миль, мы остановились и разбили лагерь на 89°45 южной широты по счислению. С утра держалась хорошая погода, во второй половине дня ветер пригнал с юго-востока несколько туч со снегом.

На полюсе 14 декабря 1911 г. Определение широты места
В тот вечер в нашей палатке царило предпраздничное настроение. Сразу чувствовалось, что мы стоим накануне большого события. Снова достали флаг и привязали его к тем же двум лыжным палкам. Потом свернули его и отложили в сторону: пусть лежит наготове. Ночью я несколько раз просыпался с тем же чувством, какое бывало у меня в детстве перед сочельником, когда я предвкушал праздник. А вообще-то, по-моему, мы спали эту ночь не хуже, чем все остальные.
Утром 15 декабря погода была великолепная, будто нарочно созданная для выхода на полюс. В этот день мы управились с завтраком, как мне кажется, несколько быстрее обычного и живее выбрались из палатки, хотя эта процедура, должен сказать, всегда осуществлялась достаточно прытко. Порядок следования был обычный: впереди направляющий, дальше Ханссен, Вистинг, Бьоланд и очередной направляющий. К полудню мы достигли 89°53 южной широты по счислению и приготовились одним махом пройти оставшийся отрезок. В 10 часов утра подул легкий юго-восточный ветер, небо заволокло тучами, так что нам не удалось определить полуденной высоты солнца. Но облачный покров был не очень плотный, и солнце время от времени проглядывало. Снежный покров на нашем пути в этот день был неоднородный. Лыжи шли то хорошо, то совсем скверно. Мы двигались, как и во все предыдущие дни, совершенно механически. Разговаривали мало, зато глаза работали с полной нагрузкой. По-моему, шея Ханссена в этот день вытянулась вдвое, так он ею крутил, стараясь видеть хоть на несколько миллиметров дальше. Перед выходом я просил его смотреть хорошенько, и уж он старался вовсю. Но сколько он ни всматривался, кроме безбрежной плоской равнины ничего не видел. Собаки перестали принюхиваться и явно потеряли всякий интерес к местности, расположенной около земной оси.
В 15 часов все каюры одновременно закричали: «Стой!» Они внимательно следили за одометрами, и вот теперь счетчики приборов дружно показывали расчетную точку – наш полюс по счислению. Цель достигнута, путешествие закончено. Не могу сказать – хотя знаю, это прозвучало бы куда эффектнее, – что я достиг цели своей жизни. Это было бы слишком уж явной и откровенной выдумкой. Лучше буду честен и скажу прямо, что, по-моему, еще никогда никто из людей не стоял в точке, диаметрально противоположной цели его стремлений в таком полном смысле слова, как я в этом случае. Район Северного полюса – чего там! – сам Северный полюс манил меня с детства, и вот я на Южном полюсе. Поистине все наизнанку!
Итак, можно было считать, что мы на полюсе. Разумеется, каждый из нас знал, что мы стоим не точно на самом полюсе, это было исключено, если учесть, каким временем и какими приборами для наблюдений мы располагали. Но мы находились от него так близко, что возможная разница в несколько километров практически не играла никакой роли. У нас было намечено сделать круг с радиусом в 18,5 километра около нашей стоянки и на том подвести черту.
Как только сани остановились, мы собрались вместе и поздравили друг друга. После проделанного пути у нас были все причины для взаимного уважения, и думаю, что именно это чувство вылилось в решительные, крепкие рукопожатия, которыми мы обменялись.

На полюсе. Перед норвежским флагом. 15 декабря 1911 г.
Затем мы перешли к следующему акту, самому важному и торжественному за всю нашу экспедицию: водружению флага. Пять пар глаз с любовью и гордостью смотрели, как наш флаг развернулся и затрепетал на ветру. На полюсе.
Я заранее решил, что водружать флаг будет весь отряд. В таком историческом событии должны участвовать все те, кто в борьбе со стихией рисковал жизнью и делил вместе и горе, и радость. У меня не было другого способа выразить свою благодарность товарищам в этом глухом и пустынном месте. Так это и было понято и принято ими. Пять мозолистых обветренных рук взялись за шест, подняли развевающийся флаг и первыми водрузили его на географическом Южном полюсе.
– Водружаем тебя, наш дорогой флаг, на Южном полюсе и даем равнине, на которой он находится, имя: «Равнина Короля Хокона VII».

Норвежский флаг на 90° южной широты. 15 декабря 1911 г.
Эти минуты, конечно, останутся в памяти у всех, кто там стоял. В тех краях отвыкаешь от длинных церемоний; чем короче, тем лучше.
И тотчас опять начались наши будни. После того, как мы поставили палатку, Ханссен убил Хельге. Нелегко ему было расставаться со своим лучшим другом. Хельге был на редкость прилежным и послушным псом. Безропотно тянул лямку с утра до вечера, служа примером для всей упряжки. Но за последнюю неделю он сильно сдал, и, когда мы вышли на полюс, от прежнего Хельге оставалась одна тень. Он просто тащился в упряжке, не принося никакой пользы. Удар по черепу – и Хельге перестал существовать. «Смерть одних – хлеб для других» – эта пословица как нельзя лучше подходит к такому случаю: собаку сейчас же освежевали, и через 2 часа от нее остались только кончик хвоста да зубы. Из наших 18 собак это была вторая, которую мы потеряли. Майор, один из красавцев Вистинга, на 88°25 южной широты оставил нас и больше не возвращался. Он был сильно истощен и наверное ушел умирать. Теперь у нас насчитывалось 16 собак, и мы собирались разделить их поровну на две упряжки, Ханссена и Вистинга, поскольку сани Бьоланда было решено оставить здесь.
Разумеется, в этот вечер у нас в палатке был праздник. Не скажу, чтобы шампанское лилось рекой, просто каждому досталось по кусочку тюленьего мяса – и вкусно, и на душе приятно. Других зримых признаков торжества внутри палатки не было. Мы слышали, как снаружи ветер трепал флаг, и оживленно толковали о том, о сем. Наверно, мысленно кое-кто передавал домой весть о том, что мы совершили.
Пришло время пометить наши вещи на память словами «Южный полюс», числом и годом. Вистинг оказался превосходным гравером, и ему пришлось основательно потрудиться.
До сих пор мы не курили в палатке. Иногда я замечал, как кто-нибудь сунет в рот немного жевательного табаку. Теперь порядки изменились. Дело в том, что у меня была с собой старая трубка с надписями, сделанными в разных арктических районах, и мне, понятно, захотелось добавить к ним надпись «Южный полюс». И когда я достал для этой цели трубку, вдруг последовало неожиданное предложение Вистинга. В его личном мешке лежало несколько плиток табаку, и он отдал его мне. Понятно ли вам, что означало подобное предложение в таком месте, к тому же сделанное человеку, который чертовски любит покурить после еды? Мало кто сумеет вполне понять это. Я с величайшей радостью принял дар, и на обратном пути у меня по вечерам была трубочка мелко крошенного жевательного табаку. Ох, уж этот Вистинг, он совсем избаловал меня. Мало того, что отдал мне табак, он каждый вечер – потом я не устоял против соблазна и выкуривал трубочку еще и утром – брал на себя не совсем приятную работу и во всякую погоду крошил табак и набивал мне трубку.
Но разговор особенно не затянулся. Нам не удалось взять высоту солнца в полдень, надо было постараться сделать это в полночь. Небо опять прояснилось, и похоже было на то, что в полночь мы сумеем провести наблюдение. Поэтому мы забрались в спальные мешки, чтобы немного поспать в оставшиеся часы. В начале двенадцатого, заблаговременно, мы вышли из палатки и приготовились ловить солнце. Погода была прекрасная, условия для наблюдения отменные. Как обычно, работали все четыре наблюдателя, и мы внимательно следили за движением солнца. Дело это требовало терпения, ведь высота солнца изменялась теперь очень мало. Полученный нами итог был чрезвычайно интересен, по нему очень хорошо видно, сколь ненадежно и малоценно такое единичное наблюдение в этих областях. В 0 часов 16 декабря мы убрали инструменты, очень довольные проделанной работой и совершенно уверенные в том, что наблюдали полуночную высоту солнца. Тут же выполнили расчеты и получили 89°56 южной широты. Всех нас вполне устраивал этот результат.

Привал по дороге к полюсу
Было решено заключить место стоянки в круг с радиусом около 20 километров. Конечно, я не хочу сказать, что мы собирались сделать полную окружность с указанным радиусом; на такое дело ушел бы не один день, так что об этом не могло быть и речи. А сделали мы вот что: три человека вышли по трем направлениям – двое перпендикулярно курсу, которым мы следовали до сих пор, третий по направлению курса. Для этой работы я выделил Вистинга, Хасселя и Бьоланда.
Проведя наблюдения, мы поставили на огонь котелок, чтобы выпить по глотку шоколада. Нельзя сказать, чтобы наши упражнения на воздухе в довольно легкой одежде согрели нас. Только мы принялись за горячий напиток, как Бьоланд вдруг заявил:
– Я бы предложил сразу же и выходить. Вернемся, тогда ивыспимся.
Хассель и Вистинг думали так же, и было решено, что они немедленно приступят к работе. Вот вам еще один из многих примеров воодушевления, которое владело нашим маленьким коллективом. Не успели завершить дневной переход – около 30 километров, – как ребята просят разрешить им отмахать еще 40. Можно было подумать, что этим молодцам неведома усталость.
Наша трапеза приняла характер легкого завтрака, а именно: каждый поел хлеба из своего пайка, после чего уходящие начали готовиться к предстоящей работе. Прежде всего были сшиты три мешочка из легкой ветронепроницаемой ткани. В мешочки положили по записке с указанием координат нашей стоянки. Кроме того, все трое брали с собой по большому квадратному флагу из хорошо видной издалека плотной темно-коричневой материи. На флагштоки мы пустили полозья: они и высокие – около трех с половиной метров – и крепкие; все равно мы решили снять их, чтобы предельно облегчить сани для обратного перехода.
Взяв это снаряжение, а также по три десятка галет в качестве дополнительного пайка, тройка разошлась. Маршруты были отнюдь не безопасные, и к чести моих товарищей надо отметить, что они взялись за дело без каких-либо возражений и даже с великим рвением.
Давайте посмотрим, какому риску они подвергались. В этой безбрежной равнине, лишенной каких-либо ориентиров, нашу палатку вполне можно было сравнить с иголкой в стоге сена. И вот нашим товарищам предстояло удалиться от нее на 20 километров. В такой маршрут не мешало бы взять компас, но наши санные компасы были слишком велики и не приспособлены для переноски. И пришлось им идти так. Правда, начиная маршрут, они могли ориентироваться по солнцу, но долго ли его будет видно? Погода-то хорошая, да кто может гарантировать, что она вдруг не переменится. Конечно, если случится такая неприятность, солнце скроется, можно возвращаться по собственным следам. Да только в этих краях опасно полагаться на следы. Не успеешь оглянуться, как уже вся равнина окутана пургой и любой след тут же стирается. Вполне вероятный случай, если учесть резкие перемены погоды, которые мы так часто наблюдали. Словом, нет никакого сомнения, что тройка, которая в половине третьего утра вышла в путь, рисковала жизнью. И каждый из них прекрасно это знал. Но если кто-нибудь думает, что их прощание с двумя остающимися товарищами было торжественным, то он ошибается. Все трое со смехом и шутками пошли каждый в свою сторону.

Листки из дневника Р. Амундсена с записями наблюдений, произведенных на полюсе
Тем временем мы с Ханссеном занялись разными текущими делами. Надо было уладить кое-какие мелочи, а затем приготовиться к серии наблюдений, которые мы хотели провести сообща, чтобы возможно точнее и лучше определить свои координаты. Первое же наблюдение показало, насколько это было необходимо. Измерение высоты, вместо того чтобы дать большую высоту по сравнению с полуночным наблюдением, дало меньшую, и нам стало ясно, что мы отклонились от того меридиана, по которому, как нам казалось, следовали.
Теперь надо было прежде всего определить линию север – юг и широту, чтобы ориентироваться. К счастью для нас, было похоже, что хорошая погода продержится. Начиная с 6 часов утра до 7 вечера, мы каждый час измеряли высоту солнца, и эти наблюдения позволили нам более или менее надежно вычислить свою широту и установить направление меридиана.
Около 9 часов утра мы начали уже ожидать возвращения товарищей. По нашим расчетам, к этому времени они должны были пройти все 40 километров. Только в 10 часов Ханссен заметил на горизонте первую черную точку, а затем вскоре показались вторая и третья. Каждую точку мы встречали вздохом облегчения. Все трое вернулись к палатке почти одновременно. Мы сообщили им предварительный итог своих наблюдений. Судя по всему, наш лагерь находился примерно на 89°54 30 ' южной широты; значит, самый полюс должен был попасть в захваченную нами площадь.
Мы могли бы вполне довольствоваться этим результатом, но так как погода была хорошая и вроде бы не собиралась портиться, а наш запас продовольствия после тщательной проверки оказался весьма обильным, мы решили пройти оставшиеся 10 километров и произвести определение места возможно ближе к самому полюсу. А пока три путника улеглись спать – не столько потому, что они устали, сколько потому, что так полагалось; тем временем мы с Ханссеном продолжали наблюдения.
Во второй половине дня мы еще раз придирчиво проверили свой запас продовольствия, чтобы затем повторно обсудить наши дальнейшие действия. Оказалось, что продовольствия для нас и для наших собак хватит на 18 дней. Оставшиеся 16 собак были разделены на две упряжки по 8 собак в каждой, а поклажа саней Бьоланда распределена по саням Ханссена и Вистинга. Разгруженные сани поставили на попа, и вышла прекрасная веха. Прикрепленный к ним одометр мы не стали снимать. На обратном пути вполне можно обойтись двумя одометрами. Все эти приборы показали себя очень точными. Мы оставили также 2–3 пустых ящика. На одной из досок я записал карандашом, что нашу палатку «Пульхейм» нужно искать в направлении NWtW, в 5,5 мили (10 километрах) от саней. Закончив все эти дела в тот же день, мы с удовлетворением легли спать.
На другой день, 17 декабря, рано утром мы снова тронулись в путь. Бьоланду, который покинул сословие каюров и с восторгом был принят в сословие направляющих, сразу же было поручено главное и почетное задание вести экспедицию к самому полюсу Это задание, которое мы все считали делом чести, я поручил ему в знак благодарности славным жителям Телемарка за их выдающийся вклад в развитие лыжного спорта. В этот день особенно важно было прокладывать совершенно прямую лыжню и, по возможности, точно держаться вычисленного нами меридиана. На некотором расстоянии за Бьоландом следовал Хассель, за ним Ханссен, потом Вистинг и поодаль – я. Это позволяло мне довольно точно контролировать наш курс и следить за тем, чтобы мы не очень отклонялись от него.
Бьоланд показал себя отменным направляющим. Всю дорогу шел как по ниточке, ни разу не отклонился в сторону, и когда 10 километров были пройдены, мы ясно могли видеть и пеленговать оставленные нами сани. Судя по азимуту, они стояли как раз в надлежащем направлении. Было 11 часов утра, когда мы дошли до цели. Одни принялись ставить палатку, другие готовили все к предстоящим наблюдениям. Был сооружен крепкий снежный пьедестал для искусственного горизонта. Затем второй пьедестал, пониже, чтобы можно было класть на него секстант, когда им не будут пользоваться. В 11.30 было произведено первое наблюдение.
Затем мы разделились на две смены, в одной Ханссен и я, во второй Хассель и Вистинг. Пока одна смена спала, другая вела наблюдения, и наоборот. Каждая вахта продолжалась 6 часов. Погода стояла великолепная, хотя небо не все время оставалось совершенно ясным. Время от времени небо заволакивала тонкая, легкая, похожая на пар пелена, которая вскоре опять рассеивалась. Эта пелена была не настолько плотной, чтобы закрывать солнце. Мы видели его все время. Однако в атмосфере происходили какие-то возмущения.

Карта ближайших окрестностей Южного полюса
Смотришь, высота солнца несколько часов остается неизменной, потом оно вдруг словно делает скачок.
Целые сутки мы проводили ежечасные наблюдения. Как-то странно было лечь спать в 6 часов вечера и, поднявшись в 12 ночи, увидеть солнце вроде бы на той же высоте. В 6 часов утра опять ложишься, а высота солнца все та же. Конечно, на самом деле она менялась, но так незначительно, что невооруженным глазом не заметишь. И нам казалось, что солнце движется по кругу на одной и той же высоте.
Приводимое мной время исчислялось по меридиану Фрамхейма. Мы продолжали основываться на нем. Наблюдения скоро показали, что мы находимся не на самом полюсе, но так близко к нему, как это возможно с нашими инструментами.
18 декабря в 12 часов дня наблюдения были закончены, и можно уверенно сказать, что мы сделали все, что было в наших силах.
Чтобы по возможности приблизиться еще хоть на несколько миллиметров к самому полюсу Ханссен и Бьоланд прошли 4 мили, или 7 километров, в направлении вновь определенного меридиана.
В этот день за обедом Бьоланд удивил меня. За весь поход еще никто не произносил речей, но тут он, видно, решил, что настала подходящая минута, и мы с удивлением услышали торжественный спич. Но больше всего я поразился, когда он, окончив свою речь, достал портсигар и угостил нас всех сигарами. Сигара на полюсе! Вы представляете себе? Мало того. В портсигаре осталось еще 4 сигары. И как же я был тронут, когда Бьоланд протянул мне портсигар со словами:
– А это тебе на память о полюсе.
Я принял подарок и буду хранить портсигар, как один из многих трогательных знаков преданности моих товарищей по этой экспедиции. Сигары мы потом поделили в сочельник, отметив тем самым и этот праздник.
После праздничного обеда на полюсе мы начали собираться в обратный путь. Сначала поставили маленькую палатку, которую везли с собой на случай, если бы нам пришлось разделиться на два отряда. Наш искусный парусный мастер Рённе сшил ее из тонкой ветронепроницаемой материи. Она была бурого цвета, очень приметная на белом снегу. Палаточный шест надставили так, что он достигал в высоту около 4 метров. Наверху привязали маленький норвежский флаг, а под ним вымпел с надписью: «Фрам». Палатку со всех сторон надежно укрепили растяжками. Внутри я оставил в мешочке письмо на имя короля с сообщением о результатах экспедиции. Кто поручится, что нам доведется лично доложить о своем путешествии: до дома еще далеко, всякое может случиться. Я написал также короткое письмецо Скотту, полагая, что после нас он первым попадет сюда. Из вещей мы оставили секстант со стеклянным горизонтом, футляр от гипсометра, три ножных мешка из оленьего меха, камики и варежки. Напоследок все по очереди зашли в палатку, чтобы расписаться на дощечке, привязанной к шесту.
Неожиданно мы получили поздравления от своих товарищей – на желтых лоскутках кожи, пришитых к палатке у растяжек, было написано: «Счастливого пути!» и «Добро пожаловать на 90°!». Нас очень порадовали эти добрые пожелания. Они были подписаны Беком и Рённе; друзья явно верили внас.
Расписавшись, мы тщательно завязали палатку, чтобы ветер не проник внутрь.
А затем – прощай, Пульхейм. Торжественная минута; обнажив головы, мы простились с палаткой и нашим флагом. Затем свернули лагерь и уложили все вещи на сани. Начинался обратный путь: домой, домой, шаг за шагом, миля за милей – немало их еще впереди. Мы сразу вышли на свой старый след и продолжали держаться его. Не один и не два раза мы оборачивались, чтобы бросить прощальный взгляд на Пульхейм. Снова спустилась белая мгла, и вскоре последний признак Пульхейма – наш маленький флаг скрылся вдали.
Скольжение отличное, настроение приподнятое, и мы развили хорошую скорость. Собаки словно понимали, что мы повернули домой. Слабый летний ветерок при температуре -19° мы воспринимали как последний привет полюса. Там, где были оставлены сани, остановились и взяли кое-какие вещи. Дальше начиналась череда пирамидок. Наш след почти стерся, но зоркий Бьоланд различал колею. Впрочем, пирамидки выполняли свою миссию так исправно, что след был не так уж и нужен. Хотя высота пирамидок была не больше метра, они сразу бросались в глаза на ровной глади плато. Под лучами солнца они сияли, как электрические маяки. А против солнца казались черными, напоминая темные камни.

Экспедиция Роберта Скотта на Южном полюсе около памятной палатки, оставленной Руалем Амундсеном и его спутниками
Мы хотели впредь передвигаться ночью. Это давало много преимущества. Во-первых, солнце в спину, а это играло немалую роль для наших глаз. Идти против солнца по снегу тяжело, даже если у вас хорошие снежные очки. А когда оно светит в спину, идешь и хоть бы что. Во-вторых – это преимущество мы оценили уже потом, – поскольку мы самое теплое время суток проводили в палатке, нам представлялся удобный случай подсушить мокрую одежду. Впрочем, как мы увидим дальше, это нас не так и выручило.
До чего приятно было повернуться спиной к югу. До сих пор ветер был преимущественно встречным и отнюдь не ласкал наши потрескавшиеся щеки. Теперь же он всегда будет попутным; глядишь, и кожа подзаживет.
А еще мы мечтали поскорее спуститься с плато, чтобы вздохнуть полной грудью. На плато не очень-то надышишься. На одно только слово «да» два вдоха потратишь. Непрерывное состояние одышки, в котором мы пребывали все полтора месяца, что находились на плоскогорье, никак нельзя назвать приятным.

Палатка Амундсена на Южном полюсе
Рисунок Эд. Уилсона, участника похода к Южному полюсу Роберта Скотта
На обратный путь мы наметили себе норму дневного перехода в 15 миль, или 28 километров. Конечно, появилось много положительных факторов, позволявших делать более длинные переходы, но мы боялись, что тогда наши собаки очень скоро переутомятся, а то и отправятся на тот свет. Однако мы недооценили своих собак. На 28 километров мы тратили всего 5 часов, это позволяло нам дольше отдыхать.
20 декабря мы убили первую собаку на этом этапе. Расстался с жизнью мой славный Лассе. Он совсем обессилел, и от него не было никакого проку. Тушу разделили на 15 относительно равных частей и скормили его товарищам. Они уже научились ценить свежее мясо, и нет никакого сомнения, что дополнительный паек, который они получали время от времени на пути домой, имел немалое значение для нашего успеха. Поедят мяса – потом несколько дней работают намного энергичнее.
Утром 21 декабря погода испортилась. Легкий юго-восточный ветер, пасмурно, плохая видимость. Мы потеряли след и долго шли по компасу. А затем, как обычно, вдруг прояснилось, и опять на плато стало светло и тепло. Даже слишком тепло. Мы сняли всю – почти всю – одежду, и все равно обливались потом. Сомнения насчет маршрута длились недолго. Наши превосходные пирамидки отлично несли службу, одна сверкающая веха за другой возникала на горизонте, ведя нас к столь важному для нас складу на 88°25 южной широты.

Гурий (опознавательный знак), оставленный участниками норвежского похода к Южному полюсу, и путевой знак Амундсена на Южном полюсе
Рисунок Эд. Уилсона, участника похода к Южному полюсу Роберта Скотта
Начался небольшой подъем – такой незначительный, что глазом и не заметишь. Но гипсометр и барометр не дали себя обмануть и так же дружно падали, как прежде поднимались. И хотя мы не видели подъема, но чувствовали его. Может быть, это чистое воображение, однако мне казалось, что увеличение высоты сказывается на моем дыхании. В последние дни страшно возрос наш аппетит, причем лыжная команда была куда прожорливее, чем каюры. Были дни (всего несколько дней), когда мы трое – Бьоланд, Хассель и я – могли бы, кажется, есть даже гальку. Каюры такого голода не испытывали. Возможно, это потому, что они на ходу могли опираться на сани, получая таким образом отдых, которого мы, лыжники, были совсем лишены. Казалось бы, много ли толку от того, что ты положил руку на сани, но с течением времени, возможно, что-то и набегает. К счастью, наши запасы позволяли есть больше, когда голод нас одолевал. Так, после полюса мы увеличили свой паек пеммикана, и вскоре эта прожорливость пропала, сменившись обыкновенным здоровым аппетитом.
На обратном пути мы установили такой порядок: утренние сборы начинались в 6 вечера, к 8 все готово, и в поход. Смотришь, 15 миль (28 километров) пройдены, и вскоре после полуночи мы опять могли ставить палатку, стряпать и отдыхать. Но через некоторое время этот отдых стал казаться нам невыносимо долгим. К тому же в палатке становилось (относительно) настолько жарко, что мы нередко вылезали из спальных мешков и лежали, ничем не покрываясь. Двенадцати-, четырнадцати-, даже шестнадцатичасовой отдых был серьезным испытанием нашего терпения на этом, первом этапе обратного маршрута. Мы отлично понимали, что это излишество, и все-таки сохраняли такой распорядок, пока находились на большой высоте. Мы много говорили о том, как лучше использовать этот чрезмерно долгий отдых.
В этот день, 21 декабря, Пер, наш добрый, верный, трудолюбивый Пер вконец обессилел, и последнюю часть пути до стоянки пришлось его везти. На стоянке он был вознагражден за свои труды. Легкого удара обухом оказалось достаточно, чтобы истощенное животное упало, не издав ни звука. Так Вистинг лишился одной из лучших своих собак. Пер был удивительный пес, он вел себя очень смирно, никогда не участвовал в общих потасовках. Посмотришь на него – непутевый какой-то, что от него толку. Но в упряжке он показывал, на что способен. Без понуканий, без кнута тянул с утра до вечера; не собака, а клад. Увы, его, как и большинство собак с таким нравом, не хватило надолго. Он выбился из сил, был убит и съеден.
Считанные дни остались до сочельника. Особенно не размахнешься, но хотелось бы отметить праздник в той мере, в какой это позволяла обстановка. Значит, надо в сочельник поспеть к складу, чтобы отпраздновать Рождество кашей. Накануне сочельника мы убили Крапчатого. О нем никто не горевал, этот пес из упряжки Хасселя всегда отличался строптивостью. В своем дневнике я читаю следующие слова, записанные в тот же вечер: «Сегодня вечером убит Крапчатый. Он отказывался тянуть, хотя выглядел вполне здоровым. Скверный характер. Будь он человеком, он начал бы с исправительного дома, а кончил бы в тюрьме». Крапчатый оказался довольно жирным и был съеден с явным удовольствием.
Наступал сочельник. В 8 часов вечера 23 декабря, когда мы выходили, погода была неустойчивая: то нахмурится, то прояснится. До склада было недалеко, и в полночь мы вышли к нему. Было тихо и тепло – чудесная погода, можно спокойно наслаждаться сочельником. Мы сразу разобрали склад и распределили груз на двое саней. Вистинг – дежурный кок – заботливо собрал в мешочек все крошки от галет. В палатке этот мешочек хорошенько поколотили и помяли, и получился порошок, из которого, добавив сухого молока, Вистинг приготовил превосходную рождественскую кашу. Вряд ли кто-нибудь дома ел ее с таким удовольствием, как мы в нашей палатке в то утро. Одна из сигар Бьоланда окончательно настроила нас на праздничный лад.
В этот день мы отметили еще одно большое событие: отряд снова достиг вершины плато. Через два-три дня мы начнем спуск, а там выйдем на барьер и почувствуем себя совсем нормально.
До сих пор мы во время очередного перехода делали один-два привала, давая отдых себе и собакам. В сочельник мы перешли на другой распорядок, покрыли все 28 километров без остановки. Нам так даже было лучше; кажется, и собакам тоже. После привала трудно было снова трогаться в путь, суставы не гнутся, да и лень одолевает – пока еще разомнешься.
27-го мы в отличном темпе миновали 88° южной широты, держа курс на север. Снег здесь с прошлого раза явно подвергся действию сильных солнечных лучей; он был буквально отполирован. По этой полированной глади мы катили, словно по льду, с той лишь существенной разницей, что собаки здесь не скользили.
На этот раз мы уже на 88° южной широты увидели горы. Нас ожидал большой сюрприз: это явно был виденный нами ранее могучий хребет, но теперь он простирался значительно дальше на юг. День был ослепительно ясный, видимость, по всем признакам – отличная. Вершина поднималась за вершиной, хребет тянулся к юго-востоку, теряясь вдали. Судя по цвету неба, он продолжался за пределами видимости. Мне кажется несомненным, что эта горная цепь пересекает весь антарктический континент.[85]
Вот вам прекрасный пример того, как в этих краях подводит атмосфера. Казалось бы, в совершенно ясный день мы на 87° южной широты простились с горами. И вот мы с 88° южной широты видим горы до самого горизонта. Мало сказать, что мы были удивлены. Мы смотрели и не узнавали края. Нам и в голову не пришло, что могучий горный массив, что так отчетливо вырисовывается над горизонтом, есть гора Нильсена. В мглистом воздухе прошлый раз она выглядела совсем иначе. Забавно читать в моем дневнике, как старательно мы каждый день брали азимут, думая, что это новая гора. Мы опознали ее лишь после того, как над плато возникла гора Хельмера Ханссена.
29 декабря вершина плато осталась позади, и мы начали спуск. Хотя для глаза уклон был незаметен, он сразу отразился на собаках. Вистинг поставил на своих санях парус, это позволило ему поспевать за Ханссеном. Видел бы кто-нибудь, как наш отряд в эти дни мчался через плато, ни за что не поверил бы, что мы уже 70 дней в походе. Лихо мы шли. Нас подгонял попутный ветер, пригревало солнце. Прибегать к кнуту не было надобности. Собаки были полны энергии и нетерпеливо дергали упряжь. Нелегко приходилось нашему направляющему. Он должен был подчас нажимать изо всех сил, чтобы его не настигли собаки Ханссена. Следом на всех парусах, под радостное тявканье собак несся Вистинг. Хассель едва поспевал за ними, да и мне приходилось нелегко. Наст был, словно отполированный, мы подолгу могли катить, просто отталкиваясь палками.
С того дня, как мы покинули полюс, наши собаки заметно изменились. Как ни странно и ни невероятно это покажется, они с каждым днем прибавляли в весе, становясь все более жирными. Мне кажется, это результат того, что их кормили свежим мясом вместе с пеммиканом. С 29 декабря наш рацион пеммикана был еще увеличен. Теперь каждый получал 450 граммов в день, а больше, сдается мне, мы просто не могли бы одолеть.
30 декабря мы весь день катили под гору, и устоять на лыжах, ей-богу, было нелегко. Каюрам что, они держались за сани и неслись через плато с бешеной скоростью. Снежные надувы здесь чередовались с наледями, и от нас требовались немалые усилия, чтобы не отставать. Для Бьоланда это не было проблемой. Ему приходилось бегать быстрее этого, и не в такой местности. Иное дело мы с Хасселем. У меня мелькали перед глазами то руки, то ноги Хасселя; иногда он отчаянным усилием удерживался на ногах. Хорошо, что я не мог видеть самого себя. Иначе мне, наверное, пришлось бы не раз от души посмеяться.
В этот день утром показалась гора Хельмера Ханссена. Нас окружали могучие складки, этого волнистого рельефа мы не заметили, когда шли через пургу на юг. Валы были настолько высокие, что временами заслоняли от нас горы. В первый раз мы увидели гору Хельмера Ханссена с гребня одной из таких складок. Она напоминала торчащий над снегом торос. Сперва мы даже не поняли, что это такое, и только на другой день разобрались – это одна за другой показывались острые ледяные глыбы, покрывавшие вершину. Как я уже говорил, только теперь мы окончательно уверились, что идем правильно. А все остальные горы были нам совершенно незнакомы. Мы ничего не узнавали.
31 декабря прошли 87° южной широты, быстрыми шагами приближаясь к Танцплощадке дьявола и Чертову леднику. В первый день нового года было яркое солнце, – 19°, хороший попятный ветерок. К великой радости, мы узнали местность вокруг Бойни. До нее было еще далеко, но нагретый солнцем воздух преподнес нам мираж.
Нам очень везло на обратном пути.
Танцплощадку дьявола мы вовсе обошли. К Чертову леднику, по нашему расчету, должны были выйти 2 января – так и получилось. Мы увидели его издали. Высоко к небу вздымались могучие торосы и гребни. И как же мы удивились, когда посреди этого хаоса и за ним рассмотрели ровные поля, совсем без борозд и трещин. Горы Хасселя, Вистинга и Бьоланда какими были, такими и остались. Их мы легко узнали, как только подошли поближе. Высоко к небу вздымалась гора Хельмера Ханссена. Купаясь в лучах утреннего солнца, она сверкала и переливалась, как драгоценнейший брильянт. Мы подумали, что на этот раз подошли к горам ближе, чем при движении на юг, оттого и местность выглядит иначе. Ведь тогда участок под горами казался практически непроходимым, на самом же деле за ним, похоже, скрывалось ровное поле, на которое нам теперь и посчастливилось выйти. Но видимость и на этот раз сыграла шутку с нами, мы убедились в этом на другой день, когда выяснилось, что мы очутились не ближе к горам, а дальше, оттого и задели только краешек неприятного ледника.
В этот вечер мы устроили лагерь посередине огромной закрытой трещины. Интересно, что-то нас ждет впереди.
Неужели эти редкие бугорки да старые трещины – все, чем ледник угостит нас теперь? Мы не смели на это надеяться, но вот уже и третий день, и слава богу – никаких огорчений. Каким-то чудом мы проскочили мимо всех опасных мостиков и жутких переходов и очутились на равнине под ледником.
В 7 вечера – снова в путь. Погода была не самая лучшая – туман такой, что мы едва различали вершину горы Бьоланда. Совсем некстати, ведь до очередного склада было уже недалеко и мы нуждались в ориентире, чтобы выйти к нему. А туман, как назло, все более сгущался, и пройдя около 11 километров, мы сочли за лучшее остановиться и переждать. Мы все время исходили из ошибочного предположения, что отклонились к востоку, то есть ближе к горам, а редкие просветы не позволяли нам узнать район под ледником. По нашим расчетам, мы находились восточнее склада. Ориентиры, которые мы засекли при мглистом воздухе, в этих условиях никак не могли нас выручить. Нет склада, и все тут.
Только мы управились с вкусным, горячим пеммиканом, выглянуло солнце. Наверно, мы никогда еще не сворачивали лагерь и не собирали поклажу так быстро. От того момента, когда мы выскочили из спальных мешков, прошло всего 15 минут до полной готовности отряда – невероятно короткий срок. «Нет, вы посмотрите, что это блестит там сквозь туман?» – такой вопрос вырвался у одного из ребят. И правда, на западном краю широкого, быстро растущего просвета показалось что-то большое, белое, простирающееся с севера на юг. Ура! Гора Хелланд-Хансена! Ну конечно, она. Наш единственный ориентир на западе. Мы бурно радовались встрече со старым знакомым. Но склад по-прежнему был скрыт густой пеленой. Посовещавшись, мы решили плюнуть на склад, проложить курс на Бойню и идти прямо к ней. Еды у нас хватит. Сказано – сделано.
Туман продолжал быстро расходиться, и тут-то, идя к горе Хелланд-Хансена, мы поняли, что отклонились не на восток, а на запад. Но поворачивать назад и искать склад не стали.
Под горой Хелланд-Хансена мы вышли на довольно высокий гребень. Намеченный путь был пройден, и мы расположились на привал. Позади, под совершенно чистым небом, раскинулся ледник. Та же картина, какую мы видели, идя на юг: сплошные трещины и провалы. Но среди всей этой чертовщины тянулась сплошная белая полоска. Тот самый маршрут, который мы просматривали несколько недель назад. И как раз под этой белой полоской – мы это точно знали – находится наш склад. Вот ведь досада, что он так легко от нас ускользнул… А до чего приятно было бы подобрать на обратном пути все, что мы разбросали на плато. Но в этот вечер я настолько устал, что не имел ни малейшего желания идти назад, одолевая 13 миль, или 24 километра, отделявших нас от склада.
– Если кто-нибудь хочет совершить такую прогулку, я буду очень ему благодарен.
Вызвались все – все как один! Да, тут за добровольцами дело не станет. Я выбрал Ханссена и Бьоланда. Они отправились налегке с пустыми санями. Это было в 5 утра. А в 3 часа дня они вернулись к палатке: Бьоланд – впереди, на лыжах, Ханссен – следом, правя санями. Да, потрудились и люди, и собаки. 42 мили, или около 80 километров, прошли с одной упряжкой Ханссен и Бьоланд за день со средней скоростью 5–6 километров в час. Они легко отыскали склад. Главной проблемой был участок с волнистым рельефом. Они подолгу следовали вдоль ложбин, ничего не видя кругом. Один гребешок сменялся другим.
– Да уж, сегодня ледник нас причесал, – заметил Бьоланд, вернувшись в лагерь.
Мы позаботились о том, чтобы к их возвращению все было готово, и в первую очередь припасли побольше воды. Воды, воды требовали у нас до и после еды. Утолив первую жажду, они перенесли свое внимание на пеммикан. Мы всячески обхаживали Бьоланда и Ханссена; одновременно все привезенное ими разложили на двое саней – и вот уже мы опять готовы в путь. Погода продолжала улучшаться, и впереди отчетливо вырисовывались горы. Вон там, как будто, Фритьоф Нансен, а это, должно быть, Дон Педро Кристоферсен… Мы засекли азимуты на случай, если снова сгустится туман.
Большинство из нас начало путаться, когда день, а когда ночь.
– Шесть часов, – отвечает кто-то на вопрос о времени.
– Точно, шесть утра, – подтверждает другой.
– Да ты что, – перебивает его первый, – сейчас вечер!
О числах и говорить нечего, хорошо еще, год помним. Только делая записи в дневниках и журналах для наблюдений, мы вспоминали день и число, а так в течение рабочего дня совсем о них забывали.
До чего же отличная погода нас ожидала, когда мы 4 января вышли из палатки. У нас уже было решено идти тогда, когда это будет сподручно, не считаясь со временем суток. Долгий отдых всем давно надоел; хватит, наотдыхались. А погода, как я сказал, была идеальная. Ясное небо, безветрие, – 19° – ну, прямо настоящее лето. Перед выходом мы сняли с себя лишнюю одежду и сложили на сани. Лишним оказалось почти все. Сомневаюсь, чтобы наряд, в котором мы в конце концов двинулись в путь, в наших широтах сочли бы приличным! Мы посмеивались: наше счастье, что дамы еще не проникли в эту часть земного шара. Иначе вряд ли мы смогли бы щеголять в таком удобном и практичном убранстве.
Горы сегодня выделялись еще резче. Интересно было снова видеть этот район, по которому мы проходили на юг в густом тумане, в бурю и метель. Мы тогда миновали могучий хребет, не подозревая, как близок он от нас и как огромен. К счастью, на этом участке рельеф был очень спокойный. К счастью потому, что одни боги ведают, чем бы это кончилось, если бы нам пришлось в такую отвратительную погоду распутывать лабиринт трещин. Может, мы справились бы с этим, а может, и нет.
Впереди был нелегкий этап. Бойня лежала на 790 метров выше места, где мы заночевали. Мы рассчитывали вскоре встретить какую-нибудь из своих пирамидок, но нам пришлось отшагать 20 километров, прежде чем впереди вынырнула пирамидка. Мы радостно приветствовали ее. Конечно, мы знали, что идем правильно, и все-таки приятно было увидеть старого доброго знакомого.
Должно быть, солнце хорошо поработало здесь, пока мы были на юге, ибо некоторые из пирамидок совсем покосились, и большие сосульки ясно свидетельствовали о силе солнечных лучей. Пройдя около 40 километров, мы разбили лагерь около пирамидки, поставленной нами под склоном, у которого нас 26 ноября остановила пурга.
Пятница, 5 января, была для нас особенно волнующим днем. В этот день мы рассчитывали отыскать склад у Бойни. Запас отличного, свежего собачьего мяса был для нас чрезвычайно важен. И не только потому, что собаки уже научились отдавать ему предпочтение перед пеммиканом; самое главное – как замечательно оно шло им на пользу. Конечно, наш пеммикан заслуживает только хорошей оценки, лучшего мы не могли получить, но разнообразие в еде играет большую роль, мой опыт говорит, что для собак в таком долгом путешествии оно еще важнее, чем для людей. На моей памяти были случаи, когда собаки отказывались от пеммикана, вероятно, потому, что он им приедался. В итоге, несмотря на обилие провианта, собаки тощали и слабели. В случаях, на которые я ссылаюсь, речь шла о пеммикане, приготовленном для людей, так что дело не в плохом качестве.
Мы начали переход рано утром, в четверть второго. Долго поспать не пришлось, мы стремились максимально использовать ясную погоду. Нам было известно по опыту, что в районе Бойни погода ненадежная. Расстояние от пирамидки до склада на Бойне мы знали по прошлому разу – 22 километра. На этом отрезке нами были поставлены только две вехи, так как мы считали, что при таком рельефе не запутаемся. Теперь мы убедились, что даже с пирамидками не так-то легко ориентироваться. Благодаря ясной погоде и острому зрению Ханссена, нам удалось отыскать обе пирамидки. Но что случилось с горами? Как я уже говорил, когда мы 21 ноября в первый раз вышли к Бойне, нам казалось, что видимость отличная. Я тогда засек наш подъем на плато между горами и тщательно записал все данные. И вот мы прошли последнюю пирамидку, приближаемся – по нашим расчетам – к Бойне, но совершенно не узнаем окружающей местности. В тот раз, 21 ноября, мы видели горы на западе и на севере, но они были далеко. Теперь весь этот сектор горизонта занят могучими горными массивами, которые словно нависают над нами. Что это значит? Наваждение? Ей-богу, в ту минуту я готов был поверить в нечистую силу. Я мог бы поклясться чем угодно, что впервые вижу этот ландшафт. Положенное число километров пройдено; судя по пирамидкам, мы должны быть на месте. Что за чудеса! В том направлении, где, по моим данным, должен был находиться наш подъем, мы видели теперь склон торчащей над плато совершенно неизвестной горы. По этому склону никак не спустишься. Только на северо-западе намечалось что-то похожее на спуск. Что-то вроде естественного понижения сбегало там к барьеру, который просматривался вдалеке. Мы остановились, чтобы обсудить ситуацию.
– Смотрите! – крикнул вдруг Ханссен. – Вон там уже кто-то проходил!
– Точно! – подхватил Вистинг. – Это же моя сломанная лыжа стоит, которую я воткнул у склада.
Так сломанная лыжа Вистинга выручила нас из неприятного положения. Хорошо, что он поставил ее там, – похвальная предусмотрительность. Мы направили в ту сторону бинокль и рядом с кучей снега, которая и была нашим складом, но которая легко могла бы ускользнуть от нашего внимания, отчетливо увидели торчавшую из снега лыжу. Окрыленные радостью, направились туда и, отшагав 5 километров, вышли к складу.
Для нашего маленького отряда было настоящим праздником, когда мы удостоверились, что достигли пункта, который считали самым важным на всем обратном пути. Мы стремились сюда не столько ради провианта, сколько потому, что здесь начинался спуск с плато. Теперь, очутившись тут, мы еще больше, чем раньше, поняли, как это было необходимо. Ведь даже сейчас, точно зная по нашим записям, где берет начало спуск, мы его не видели. Казалось, плато упирается прямо в гору, никакого пути вниз нет. А компас упорно свидетельствовал, что должен быть проход, по которому мы сможем спуститься. Гора, к которой мы шли целый день, не узнавая ее, была горой Фритьофа Нансена. Надо же, как освещение преобразило местность!
Выйдя к складу, мы прежде всего взялись за собачьи туши. Нарубили большущие куски мяса и роздали их псам. Они даже слегка опешили – не привыкли получать такие порции. Три туши мы положили на сани, чтобы было чем прикармливать собак на спуске. Бойня и на сей раз приняла нас не особенно приветливо. Правда, такой бури, как в прошлый раз, не было, но свежий ветерок при температуре -23° после жарких дней пронизывал до костей, не располагая к тому, чтобы задерживаться тут больше, чем того требовала крайняя необходимость. Поэтому, как только собаки были накормлены и сани нагружены, мы тронулись дальше. Хотя на глаз уклон был незаметен, мы его сразу почувствовали. Сани сами ехали вниз, да с такой скоростью, что нам пришлось останавливаться и прилаживать тормоза на полозья. По мере нашего движения сплошная, по видимости, стена все больше расступалась, и наконец открылся старый, знакомый подъем. Вот и гора Уле Энгельстада, холодная, белая, – такая же, какой мы видели ее в первый раз. Огибая ее, мы очутились на том самом крутом склоне, где я по пути на юг так восхищался работой своих товарищей и собак. Теперь я смог еще лучше оценить крутизну этого подъема. Не один тормоз пришлось нам поставить, чтобы умерить бег саней. Но даже при «умеренной скорости» мы живо скатились вниз, и вот уже первый участок спуска на барьер позади. Чтобы избежать шквалов с плато, мы зашли с подветренной стороны горы Энгельстада и разбили лагерь, вполне довольные тем, что сделали за день.
Как и в прошлый раз, снег был глубокий и рыхлый, и мы не сразу подыскали подходящее место для палатки. Чувствовалось, что мы спустились на полкилометра и закрыты горами. Царило полное безветрие, и солнце пекло, как в жаркий летний день в Норвегии. Мне даже показалось, что здесь иначе дышится – как будто легче и приятнее. Но, может быть, я это только вообразил себе.
В час ночи мы уже снова были в пути.
Картина, которая представилась в это утро нашему взору, когда мы вышли из палатки, навсегда останется у нас в памяти. Палатка стояла в ущелье между горами Фритьофа Нансена и Уле Энгельстада. Солнце, уйдя на юг, было скрыто горой Энгельстада, поэтому наш лагерь находился в густой тени. А прямо напротив нас, блестя и переливаясь в лучах полуночного солнца, вздымала к небу свой великолепный ледяной пик гора Нансена. Ослепительно белый цвет постепенно, почти незаметно переходил в голубой, голубой – в синий, а синий все сильнее сгущался, пока не тонул в тени. В самом низу, у ледника Хейберга, гора сбрасывала фирновый покров, обнажая суровый, угрюмый склон. Гора Энгельстада лежала в тени, но над ее вершиной застыло чудесное, нежное перистое облачко, красное с золотым ободом. На склоне беспорядочно громоздились ледяные глыбы. Дальше к востоку высилась гора Дона Педро Кристоферсена, кое-где окутанная тенью, кое-где ярко освещенная. Удивительно прекрасное зрелище. А какая тишина… Словно стихии не смели посягать на это неповторимое чудо природы.
Этот район мы хорошо знали по прошлому разу, а потому шли напрямик, без обходов. Лавин было больше, чем тогда. Обвал следовал за обвалом, Дон Педро сбрасывал зимний наряд.
Снег был такой же – рыхлый и довольно глубокий. Но сани скользили под уклон хорошо. На гребешке, где начинался спуск на ледник, мы остановились и приняли меры предосторожности. Приладили тормоза на полозья, связали лыжные палки для крепости по две, чтобы можно было сразу остановиться, если вдруг на пути появится трещина. Впереди шли мы, лыжники. Снег на крутом склоне был идеальный, небольшой рыхлый пласт позволял хорошо управлять лыжами. Лихо скатившись вниз, мы уже через несколько минут очутились на леднике Хейберга. Каюры не могли развить такую же скорость. Они ехали по нашему следу но крутизна вынуждала их соблюдать величайшую осторожность.
В этот вечер мы разбили лагерь там же, где стояли 19 ноября, на высоте около 900 метров над уровнем моря. Нам был виден весь ледник Хейберга и место, где он сливается с барьером. Он выглядел гладким и ровным, и мы решили идти по нему, вместо того, чтобы карабкаться через горы, как по пути на юг. Возможно, этот маршрут подлиннее, но мы должны пройти здесь намного скорее.
Теперь мы ввели новый распорядок. Долгий отдых стал для нас почти невыносимым, и мы решили непременно с ним покончить. Не менее важно было то, что разумный распорядок позволит нам сберечь много времени и поспеть домой на несколько дней раньше намеченного. Потолковав об этом, мы единодушно решили впредь делать так: проходим 15 миль, или 28 километров, отдыхаем 6 часов, затем встаем и снова проходим 28 километров и т. д. Это намного увеличит наш средний дневной переход. Этот порядок мы выдерживали до конца и в итоге сэкономили несколько дней.
Спускались по леднику Хейберга без затруднений. Только при его слиянии с барьером нам попалось несколько трещин, которые пришлось обходить. В 7 утра 7 января мы остановились на скальном участке, простирающемся от ледника Хейберга на север. Мы еще не опознали гору, под которой стояли, – вполне естественно, ведь прежде мы видели ее с противоположной стороны. Однако мы знали, что находимся недалеко от нашего главного склада на 85°5 южной широты. Под вечер мы снова стартовали. С небольшого гребня, который мы пересекли вскоре после выхода, Бьоланд как будто разглядел склад внизу на барьере. А затем показалась и гора Бетти, весь наш подъем. С биноклем мы убедились, что в самом деле видим склад там, где его заметил Бьоланд. Взяли курс на эту точку, и вот уже мы снова на барьере, после 51 дня на материке. Это было в 11 часов вечера 7 января. А начинали мы подъем 18 ноября.
Дойдя до склада, мы обнаружили, что все в полном порядке. Судя по всему, здесь было довольно жарко. Крепкое, высокое снежное сооружение под солнечными лучами растаяло и превратилось просто в кучу снега. Кубики пеммикана от солнца приняли самые причудливые формы. И конечно, прогоркли. Мы не мешкая погрузили провиант на сани, а здесь оставили часть одежды, которую не снимали на всем пути до полюса и обратно. Когда все было готово, двое пошли на гору Бетти, чтобы собрать там побольше различных геологических образцов. Одновременно была сооружена большая каменная пирамидка, в которой мы оставили бидон керосина (17 литров), две пачки спичек по 20 коробок в каждой и отчет о нашем походе. Возможно, когда-нибудь эти вещи кому-то пригодятся.
Здесь нам пришлось убить Фритьофа из упряжки Бьоланда. У него в последнее время появилась какая-то странная одышка. Пес так от нее страдал, что мы в конце концов решились на крайнюю меру. Так кончился жизненный путь храброго Фритьофа. Потом оказалось, что его легкие, как говорится, совсем усохли. Тем не менее останки довольно быстро исчезли в желудках его товарищей. Такая потеря в количестве никак не отразилась на качестве…
На спуске с плато был забит Ниггер из упряжки Хасселя. В итоге мы, как и рассчитывали, пришли к этому складу с12 собаками. Дальше продолжали путь с 11.
Читаю в моем дневнике: «Собаки выглядят ничуть не хуже, чем при выходе из Фрамхейма».
Когда мы через несколько часов двинулись дальше, на санях было провианта на 35 дней. Кроме того, у нас еще были склады на каждом градусе вплоть до 80° южной широты.
Кажется, мы вовремя отыскали этот склад, потому что, когда мы вышли из палатки, весь барьер окутала метель. Дул сильный южный ветер, небо заволокли густые тучи. Метель и снегопад затеяли такую свистопляску, что почти ничего не было видно. Хорошо, что теперь ветер дул нам в спину, а не в лицо, как прежде.
Зная, что путь нам пересекают трещины, мы соблюдали большую осторожность. Чтобы исключить всякий риск, Бьоланд и Хассель шли впереди в связке. Снег был очень глубокий и рыхлый, скольжение плохое. К счастью, о приближении трещин нас своевременно предупредили голые ледяные гребешки. Сразу видно, что поверхность ледника здесь разорвана и надо ждать еще больших препятствий. Вдруг в пелене туч открылся просвет, сквозь снежные вихри проглянуло солнце. В ту же секунду раздался голос Ханссена: – Стой, Бьоланд!
Бьоланд стоял на краю зияющей трещины. У него было отличное зрение, но замечательные снежные очки собственного изобретения мешали ему видеть. Конечно, Бьоланд не очень рисковал, даже если бы упал в трещину, ведь он был связан с Хасселем.
Как я уже говорил, по-моему, эти расщелины обозначают рубеж между барьером и материком. А на этот раз они, как ни странно, явно обозначали еще рубеж между хорошей и плохой погодой. За ними на севере барьер купался в лучах солнца, а на юге пуще прежнего бушевала пурга. Вершина Бетти последней послала нам прощальный привет. Земля Южная Виктория уже скрылась из виду насовсем.
Выйдя на солнце, мы тотчас натолкнулись на одну из своих пирамидок. Мы неплохо держали курс, хотя шли вслепую. В 9 часов вечера пришли к складу на 85° южной широты. Теперь можно было распространить свою расточительность и на пеммикан для собак. Они получили двойную порцию и, сверх того, овсяных галет, сколько были в состоянии съесть. У нас образовался избыток галет, мы могли буквально бросаться ими. Конечно, можно было оставить здесь большую часть этого провианта, но нас радовало такое обилие пищи, а собаки явно не тяготились небольшой дополнительной нагрузкой. Пока все шло гладко, люди и собаки ладили друг с другом, на душе у нас было хорошо.
Правда, погода, которая нас так порадовала, продержалась недолго. «Опять дрянная погода», – гласит моя запись в дневнике о следующем этапе. Ветер переместился к северо-западу, нагнал тучи и мглу, закружил противную метель. Тем не менее мы проходили пирамидку за пирамидкой, отмеряя очередные 28 километров. Как я уже говорил, этим мы были обязаны острому зрению Ханссена.
По пути на юг мы взяли с собой изрядный запас тюленьего мяса, которое распределили по складам на барьере. И теперь мы каждый день могли есть свежее мясо. Это было сделано не без умысла. Посети нас цинга, свежая пища оказалась бы неоценимой. Но мы все были здоровее и крепче прежнего, и тюлений бифштекс просто вносил приятное разнообразие в наше меню.
После спуска на барьер температура воздуха стала намного выше, держась около -10°. В спальных мешках было так жарко, что мы вывернули их мехом наружу. Это помогло. Мы радовались, что нам легче дышится.
– Все равно что в погреб спуститься, – заметил кто-то.
Да, чувство было такое, как если в жаркий летний день уходишь с солнцепека в тень.
Среда, 10 января. «Снова дрянная погода», снег, снег, снег. Снег и опять снег. Неужели это никогда не кончится? Да еще туман, в 10 метрах ничего не видно. Температура -8°. Все тает на санях, все мокнет. Не можем обнаружить ни одной пирамидки. Снег вначале был страшно глубокий, ноги проваливались, тем не менее собаки прекрасно справлялись с санями.
К счастью, вечером погода наладилась, и, когда мы в 10 часов вышли в путь, видимость стала много лучше. Вскоре увидели пирамидку к западу от нас, метрах в 200. Значит, не очень отклонились от курса. Свернули к пирамидке: интересно проверить, как у нас со счислением. Веха несколько пострадала от солнца и ветра, но мы нашли вложенную в нее записку, где говорилось, что пирамидка сооружена 15 ноября на 84°26 южной шпроты, а также – каким курсом идти по компасу, чтобы найти в 5 километрах следующую пирамидку.
Покинув старого друга и взяв курс, который он нам рекомендовал, мы вдруг, к своему несказанному удивлению, увидели летящих прямо на нас двух птиц. Это были большие поморники. Они покружили и сели на пирамидку. Представляет ли себе кто-нибудь из вас, читающих эти строки, какое впечатление это произвело на нас? Едва ли. Они были для нас словно весть, весть из живого мира в царство смерти обо всем том, что нам было дорого. Наверно, мы все думали об одном.
Посланники внешнего мира не долго отдыхали. Посидели, словно раздумывая над тем, кто мы такие, потом взлетели и продолжали свой полет к югу. Загадочные птицы! Мы встретили их на полпути между Фрамхеймом и полюсом, а они продолжали углубляться в сердце материка. Может быть, нацелились пересечь его?
Очередной наш этап закончился у пирамидки на 84° 15 южной широты. Как-то приятно и спокойно на душе, когда поставишь палатку около пирамидки. Такой надежный отправной пункт для следующего перехода. Мы пришли в 4 утра, а уже через несколько часов продолжили путь, так что приблизились за день к Фрамхейму на 55 километров. При нашем распорядке такие длинные переходы получались через день. Эти цифры всего красноречивее характеризуют наших собак: сегодня 28 километров, завтра – 55, и так всю дорогу домой.
Два поморника, как ни приятно было их появление, навели меня, однако, на отнюдь не приятные мысли. Мне вдруг подумалось, что эта пара – всего частица большой стаи прожорливых птиц, которые сейчас наверно уписывают свежее мясо, ценой таких трудов заброшенное нами в склады на барьере. У этих хищников невероятный аппетит. Пусть мясо мерзлое и твердое, как железо, – они с ним справятся, даже если оно будет тверже железа. В мыслях я вместо тюленьих туш, оставленных нами на 80° южной широты, видел одни кости. А от собак, убитых нами по пути на юг и положенных на пирамиды, должно быть, осталось и того меньше… А впрочем, я, кажется, настроился на слишком мрачный лад? И действительная картина будет не столь удручающей?
Погода и снег понемногу улучшались. Чем дальше от материка, тем лучше. И наконец, условия стали идеальными. Солнце сияло на безоблачном небе, сани легко и быстро скользили по ровной глади. Бьоланд, который от самого полюса выполнял функции направляющего, отлично справлялся со своими обязанностями. Но и к нашему славному Бьоланду применима пословица: «И на старуху бывает проруха». Нет человека, который мог бы без ориентиров идти строго прямо. Тем более, когда – как это часто случалось с нами – идешь вслепую. Подозреваю, что большинство будет отклоняться то в одну, то в другую сторону, а в итоге, возможно, получится нечто близкое к прямой. Иначе обстояло дело с Бьоландом. Он всегда отклонялся вправо. Как сейчас вижу его… Ханссен определил курс по компасу, Бьоланд поворачивается, становится лицом в нужную сторону и решительно пускается в путь. Сразу видно, что он настроился во что бы то ни стало выдерживать правильный курс. Глядит прямо перед собой, лыжи ставит твердо, так что снег разлетается во все стороны. А толку чуть. Если бы Ханссен не поправлял Бьоланда, тот, скорее всего, описал бы за час правильный круг и очутился бы в той самой точке, откуда столь энергично стартовал. А может быть, в конечном счете это был не такой уж страшный недостаток. Ведь, теряя пирамидки, мы всегда точно знали, что уклонились вправо от них, надо сворачивать на запад. Эта уверенность не раз нас выручала, и постепенно мы свыклись с правым уклоном Бьоланда.
В воскресенье, 14 января, мы должны были, по нашим расчетам, дойти до склада на 83° южной широты. Это был последний из наших складов без поперечной разметки – следовательно, последняя критическая точка. День не очень подходил для поисков «иголки в стоге сена». Безветрие и туман, такой густой, что видно всего на несколько метров. За весь переход мы не видели ни одной пирамидки. В 4 часа дня мы, судя по одометру, прошли нужное расстояние и по счислению должны были бы находиться у склада на 83° южной широты. Ничего подобного. Решили остановиться, поставить палатку и подождать, пока прояснится. Но только мы поставили палатку, в густой пелене тумана появилось окошко и в нескольких десятках метрах к западу мы увидели – что? Ну конечно, наш склад.
Живо свернули палатку, положили на сани и подкатили к горе провианта. Все в порядке. Никаких признаков того, чтобы сюда залетали птицы. Но что это? На свежем снегу – четкие собачьи следы. Мы быстро сообразили, что они оставлены беглецами, которые дезертировали, когда мы шли на юг. Очевидно, они долго лежали здесь, укрываясь от ветра за складом. Об этом ясно говорили две глубокие вмятины. Другие следы свидетельствовали, что они не страдали от голода. Но откуда же добывали они пищу? Склад был совершенно не тронут, хотя пеммикан лежал на виду и добраться до него было очень легко. Да и снежные кирпичи не настолько твердые, чтобы собаки не могли разрушить кладку и уничтожить все наши припасы. Свежие следы уходили на север, – значит, собаки недавно покинули это место. Тщательно изучив отпечатки лап, мы единодушно заключили, что это произошло от силы 2 дня назад. Во время следующего перехода мы то и дело снова сталкивались с этими следами.
Сделав привал у пирамидки на 82°45 южной широты, мы опять увидели следы, они по-прежнему уходили на север. На 82°24 южной широты они начали сильно петлять и в конце концов исчезли на западе. Дальше мы их не видели, но нам еще предстояло встретиться с собаками, вернее, с последствиями их хозяйничанья.
Мы сделали привал у пирамидки на 82°20 южной широты. Эльса, которую мы положили поверх пирамидки, валялась с ней рядом: снег подтаял от солнца. Бродячие псы здесь не побывали, иначе собачья туша не сохранилась бы. Закончив переход, разбили лагерь у пирамидки на 82°15 южной широты и раздали своим собакам мясо Эльсы. Оно вполне годилось в пищу, хотя и полежало на солнце, мы только соскребли с него немного плесени. Правда, от него попахивало, но наши псы были не очень-то придирчивы.
17 января дошли до склада на 82° южной широты. Издали было видно, что склад отнюдь не в том порядке, в каком мы его оставили. Подойдя, мы тотчас поняли, что произошло. Плотно утоптанный собаками снег красноречиво говорил о том, что беглецы долго тут гостили. Несколько ящиков упали – видимо, по той же причине, что и Эльса, – и в один из них негодяям удалось забраться. Естественно, от пеммикана и галет не осталось ничего. Не беда – у нас было пищи в избытке. Две убитые собаки, которых мы положили сверху, – Уран и Жеманница – исчезли, даже зубов не осталось. От Люсси, съеденной бродягами на 82°3 южной широты, остались хоть зубы. Восемь щенков Жеманницы по-прежнему лежали на ящике. Странно, что они не свалились. Еще бродяги сожрали несколько лыжных креплений. Все это были пустяки. Но кто знает, куда эти бестии пошли потом. Если им удалось найти склад на 80° южной широты, они наверно уничтожили оставленный нами там запас тюленины. Печально, если это так, хотя и ничего страшного для нас и наших собак. Уж если мы дойдем до 80° южной широты, как-нибудь доберемся до финиша. К тому же нас утешало то, что не видно следов, уходящих к северу.
На 82° южной широты мы разрешили себе небольшой пир. Хорошо помню «шоколадную кашу», которую Вистинг подал на третье. Мы единодушно решили, что эта каша – высшая степень совершенства и превосходит все, что нам когда-либо доводилось есть. Рецепт могу огласить: крошки от галет, сухое молоко и шоколад, все это кладется в котелок с кипящей водой. Правда, что происходит дальше, я не знаю. С этим вопросом обращайтесь к Вистингу.
Между 82 и 81° южной широты мы встретили старые вехи, которые ставили, когда забрасывали провиант на третий склад. В тот раз мы на каждой миле втыкали в снег ящичные доски. Это было в марте 1911 года, и вот мы видим их снова во второй половине января 1912 года. Стоят, как мы их ставили. Эта разметка заканчивалась двумя досками, воткнутыми в снежный цоколь на 81°33 южной широты. Цоколь был невредим.
Теперь пусть дневник расскажет, что мы увидели 19 января: «Сегодня на редкость хорошая погода, слабый юго-западный ветер, который очистил все небо от туч, пока мы шли. На 81°20 встретили наши знакомые огромные торосы. На этот раз мы увидели их в гораздо большем количестве, чем прежде. Насколько хватало глаз, в направлении северо-восток – юго-запад тянулись их гребешки и макушки. И как же мы удивились, когда вскоре после этого увидели в том направлении высокие, голубые скалы, а затем и две белые вершины на юго-востоке, вероятно, около 82° южной широты. По цвету воздуха можно было заключить, что горы простираются с северо-востока на юго-запад. Должно быть, это те самые горы, которые мы видели на горизонте около 84° южной широты, когда на подъеме обозревали барьер с высоты 1200 метров. Накопленные нами наблюдения вполне позволяют привязать этот кран – Землю Кармен[86] – к материку Местность сильно пересеченная, трещины и торосы, валы и ложбины вдоль и поперек. Наверное, мы завтра со всем этим столкнемся». Хотя виденное нами как будто позволяет заключить, что Земля Кармен простирается от 86° южной широты приблизительно до 81 °30 южной широты, а возможно, и дальше на северо-восток, я не решаюсь переносить эти наблюдения на карту Я ограничился тем, что обозначил область от 86 до 84° южной широты Землей Кармен, а все остальное называю «предполагаемой землей». Дальнейшее изучение этого края – благодарная задача для исследователя.
Как и ожидалось, на следующем этапе мы столкнулись с пересеченным рельефом. Три раза мы здесь проходили, не имея достаточно хорошей видимости. На сей раз погода нам благоприятствовала, и мы смогли наконец рассмотреть весь район. Беспокойный рельеф начался с 81 °12 южной широты, простираясь с севера на юг не очень далеко, километров на 5. Сколько он тянется в направлении восток – запад, трудно сказать; во всяком случае, насколько хватает глаз. Кругом зияли жуткие провалы таких размеров, что они вполне могли поглотить не один отряд вроде нашего. От этих провалов во все стороны расходились грозные, широкие трещины. Кроме того, повсюду высились бугры и стога. Просто чудо, как мы миновали этот участок невредимыми. Мы шли, как говорится, на цыпочках, стараясь проскочить поскорее. Ханссен провалился-таки в трещину, но, к счастью, легко выбрался.
Склад на 81 ° южной широты оказался в полном порядке. Никаких собачьих следов. И у нас сразу прибавилось надежды на то, что склад на 80° южной широты тоже не пострадал. На 80°45 южной широты лежал Буне – первая из убитых нами собак. Его жирное мясо собаки съели с огромным удовольствием. На пеммикан они смотрели довольно равнодушно.
22 января мы прошли свою последнюю пирамидку. Она стояла на 80°23 южной широты. Как ни рады мы были, что миновали ее, все же, по чести говоря, не без грусти смотрели, как она пропадает вдали. Мы полюбили, что ли, наши пирамидки и при встрече приветствовали их, будто старых друзей. Сколько важных услуг оказали нам они, немые стражи, в нашем долгом одиноком странствии.
В тот же день мы вышли к большому складу на 80° южной широты. Теперь мы все равно что дома… Сразу было видно, что после нас еще кто-то побывал у склада. И точно, мы нашли сообщение лейтенанта Престрюда – начальника восточного отряда – о том, что он вместе со Стюбберюдом и Юхансеном прошел здесь 13 ноября с двумя санями, 16 собаками и запасами на 30 дней. Итак, все как будто в отличном порядке!
Тотчас по прибытии к складу мы распрягли собак, и они бросились к тюленьим тушам, которых в наше отсутствие не тронули ни собаки, ни птицы. Впрочем, наши псы явно хотели не столько поесть, сколько подраться. Что ж, повод был стоящий. Они несколько раз обошли вокруг тюленьих туш, покосились на мясо, друг на друга и схватились между собой. Завершив отчаянную потасовку, разошлись и легли около своих саней. На этом складе по-прежнему вдоволь припасов, и он четко обозначен, так что вполне может еще кому-нибудь пригодиться.
О маршруте от 80° южной широты до Фрамхейма столько говорилось, что ничего нового не добавишь. 26 января в 4 часа утра мы вышли к своему доброму, славному дому. Двое саней, 11 собак; и животные, и люди – в отменном здравии.
У дверей дома мы остановились, поджидая отставших. Войдем все вместе! На базе царила тишина, наши товарищи еще спали. Мы вошли. Стюбберюд сел рывком и уставился на нас, как на привидения. За ним проснулись и остальные. Сперва они не поняли, в чем дело, потом посыпались приветствия.
– Где «Фрам»? – естественно спросили мы первым делом.

«Фрам» после возвращения из Буэнос-Айреса у барьера Росса
Велика была наша радость, когда мы услышали, что все обстоит благополучно.
– Ну, а как полюс? Дошли?
– Конечно дошли, иначе вы вряд ли увидели бы нас.
И вот уже греется кофейник, запах оладий дразнит наше обоняние, как в былые дни. Все были согласны, что в гостях хорошо, а дома гораздо лучше. Наш поход длился 99 дней. Расстояние – около 3000 километров.
«Фрам» пришел к барьеру еще 9 января[87] после трехмесячного плавания из Буэнос-Айреса. На борту все было в порядке, но плохая погода вынудила корабль выйти снова в море.
На другой день дежурный сообщил, что «Фрам» приближается. И сразу в лагере закипела жизнь. Шубы на плечи – и запрягай собак! Пусть убедятся, что наши собачки еще не выдохлись. Вот уже слышно, как кряхтит и пыхтит мотор, вот бочка показалась над краем барьера, и наконец мы увидели «Фрам», спокойно и уверенно бороздящий волны.

Санное путешествие восточной партии к Земле короля Эдуарда VII. Ноябрь – декабрь 1911 г. – январь 1912 г.
С радостью в душе я поднялся на борт и приветствовал своих славных товарищей, которые одолели все опасности и лишения и привели «Фрам» к цели, да еще по пути выполнили важную работу. Все улыбались, все были довольны, но никто не спрашивал о полюсе. Наконец у Ертсена вырвалось:
– Ну как, дошли?
Нет, не радость была написана на лицах моих товарищей, а нечто гораздо большее. Я заперся с капитаном Нильсеном в рубке, получил от него почту и услышал все новости.
Три имени захотелось мне выделить после того, как я по-настоящему осознал, что происходило. Имена трех людей, которые поддержали меня в критическую минуту. Я всегда с глубокой благодарностью буду их помнить: король Хокон, Фритьоф Нансен, дон Педро Кристоферсен.
Два дня напряженного труда, наконец на судно погружено все, что мы берем с собой. К вечеру 30 января мы были готовы к отплытию. Кажется, в ту минуту нас больше всего на свете радовало то, что мы уже можем идти на север, сделать первый шаг на пути в мир, который скоро начнет ждать вестей от нас или о нас. Но не примешивалось ли к нашей радости немножко грусти? Это может показаться вопиющим противоречием, однако для многих из нас так и было.
Не легко расставаться с местом, которое долго служило тебе домом, хотя бы даже дом этот лежал на 79° южной широты и был почти похоронен под снегом и льдом. Мы, люди, слишком зависим от того, что называется привычкой, чтобы вдруг рвать со средой, с которой успели свыкнуться, и ничего при этом не чувствовать. Другой, быть может, скажет: «Упаси меня бог от такой среды», – но это нисколько не умаляет верности этого положения. Большинство людей ни за какие блага не согласилось бы жить во Фрамхейме, для них это богом забытый уголок, беспросветная глушь, средоточие скуки и тоски. Для нашей девятки, которая теперь прощалась с этим местом, все представлялось несколько иначе. Маленький добротный домик, что укрылся под снегом за Маунт-Нельсоном, целый год был нашим жилищем – хорошим, уютным жилищем, где мы могли как следует отдохнуть после нелегкого трудового дня. Всю антарктическую зиму – а зима была лютая – его четыре стены защищали нас так надежно, что не один бедняга, стуча зубами от холода в более умеренных широтах, от души позавидовал бы нам, если бы увидел, как мы устроились. В суровых условиях, способных все живое обратить в бегство, мы во Фрамхейме жили, как ни в чем не бывало, – жили не как животные, а как цивилизованные люди, располагая большинством удобств, присущих благоустроенному жилищу. Снаружи царил мрак и мороз, буран силился замести следы нашей деятельности, но внутрь нашего прекрасного дома эти враги не проникали, нас окружали тепло, свет, уют. Что же тут странного, если этот уголок так сильно притягивал нас в минуту, когда мы навсегда прощались с ним. Конечно, нас ждал и манил мир, который сулил нам многое, от чего мы долго были отрезаны, но в том числе и немало такого, без чего мы охотно обошлись бы. Когда начнутся будни, неся тысячи забот и огорчений, пожалуй, не один из нас затоскует по мирной, покойной жизни во Фрамхейме.
Впрочем, толика грусти была не так сильна, и мы довольно быстро с ней справились. Во всяком случае, по лицам можно было подумать, что из всех настроений преобладает радость. А почему бы и нет? Зачем держаться за прошедшее, каким бы привлекательным оно ни казалось в настоящем? А что до будущего, то пока мы еще ожидали от него только самого лучшего. Кому надо ломать себе голову над неизбежными грядущими заботами? Никому. Вот почему «Фрам» был расцвечен флагами с носа до кормы, вот почему в эту минуту прощания с нашим домиком на барьере мы улыбались друг другу. Мы покидали его с сознанием, что цель нашего годичного пребывания здесь достигнута. И это сознание было как-никак много весомее мысли о том, что нам тут было совсем неплохо.
Если в эти два года нашей экспедиции мы никогда не жаловались, что время медленно тянется, и всегда были в отличной форме, это во многом благодаря тому, что я бы назвал полным отсутствием простоев. Не успеешь справиться с одной задачей, другая уже ждет. Только одна цель достигнута, как другая манит вдали. Так что мы всегда были заняты, а когда человек занят, время, как известно, быстро летит. Часто спрашивают, чем же можно заполнить время в такой экспедиции? Уважаемые, если нас что и заботило, так это вопрос, откуда взять время на все. Возможно, это кое-кому покажется неправдоподобным, и однако я говорю чистую правду. Во всяком случае, тот, кто прочел этот рассказ, должен был заметить, что безработицы наше маленькое общество не знало.

Экспедиционный отряд покидает Фрамхейм
Теперь, когда была достигнута конечная цель экспедиции, пожалуй, естественно было бы ожидать некоторого спада. Но его не было. Ведь сделанное нами обретет реальную ценность лишь после того, как весть об этом дойдет до человечества, и передать эту весть надо возможно быстрее. Если кому-то важно торопиться, так это нам. Конечно, вероятность говорила за то, что мы не опоздаем, но все же это была только вероятность. Зато несомненным фактом было то, что до Хобарта, первого порта на нашем пути, – 2400 миль, и путь этот будет нелегок и сложен.
Год назад переход через море Росса оказался немногим труднее увеселительной прогулки по столичному фиорду, но тогда была середина лета; теперь же февраль, близится осень. Что до дрейфующих льдов, то капитан Нильсен их не боялся. Он придумал безошибочный способ проходить через этот пояс. Это утверждение может показаться несколько смелым, но оно оправдалось на деле. Главная трудность поджидала нас в полосе западных ветров – там нам, возможно, придется лавировать против ветра. Разница в долготе между Китовой бухтой и Хобартом – около 40°. Если бы можно было все время идти в тех широтах, где мы сейчас находились и где градус долготы составляет всего около 13 миль, мы живо дошли бы, но могучее препятствие в виде Земли Северная Виктория исключало такую возможность. Нам надо сперва идти северным курсом, пока мы не обогнем крайний форпост антарктического материка – мыс Адэр и лежащий еще дальше к северу остров Баллени. Лишь после этого мы можем следовать на запад, но тут-то как раз мы и окажемся в области, где нас, скорее всего, ждет встречный ветер, а лавировать на «Фраме» – н-да… Все у нас достаточно хорошо знали обстановку и понимали, что нас ожидает, и естественно, все сейчас думали о том, как лучше и быстрее одолеть предстоящие трудности. Снова большая общая цель объединяла нас в совместном труде.
Среди новостей из внешнего мира, полученных нами в эти дни, было сообщение о том, что австралийская антарктическая экспедиция доктора Дугласа Моусона с удовольствием возьмет часть наших собак, если у нас окажутся лишние. База экспедиции находилась в Хобарте, так что это нас вполне устраивало. Случаю было угодно, чтобы мы смогли оказать эту маленькую услугу нашему достославному и высокоуважаемому коллеге. Напоследок наша свора насчитывала 39 собак, многие из которых выросли за год нашего пребывания на барьере. Около половины прошли с нами весь путь от самой Норвегии; 11 побывали на Южном полюсе. Мы думали оставить лишь несколько производителей, чтобы иметь упряжки для предстоящей экспедиции в Северном Ледовитом океане, но, узнав о просьбе доктора Моусона, взяли всех 39 собак. Из них 21, если ничего не случится, сможем передать ему.
И вот весь груз перевезен, осталось только принять на борт собак, и мы готовы. Интересно было смотреть, как многие из наших четвероногих ветеранов тотчас узнали палубу «Фрама». Статный старик Полковник из упряжки Вистинга вместе со своими двумя адъютантами, Зверем и Арне, немедленно заняли то самое место, где провели столько дней во время долгого плавания на юг: справа от гротмачты. Два брата-близнеца Милиус и Кольцо, любимцы Хельмера Ханссена, как ни в чем не бывало возобновили свою возню на фордеке, у левого борта, и, глядя на этих озорников, никто не сказал бы, что они прошли во главе отряда весь путь до полюса и обратно. Лишь один пес мрачно бродил в одиночестве, словно чего-то искал. Это был вожак из упряжки Бьоланда. Он не отвечал ни на какие заигрывания, никто не мог заменить ему павшего друга Фритьофа, который окончил свой жизненный путь в желудках товарищей на барьере, за сотни миль от Китовой бухты.
Как только была заброшена на палубу последняя собака и подняты оба ледовых якоря, зазвенел машинный телеграф и в ту же секунду заработал винт и увлек нас прочь от кромки льда в Китовой бухте. Прощание с уютной гаванью было подобно прыжку из одного мира в другой. Когда мы выходили, густой туман окутал влажной пеленой берег за нашей кормой. Через 3–4 часа вдруг прояснилось, но за кормой по-прежнему стоял стеной туман, скрывая столь великолепную при ясной погоде панораму, которой мы, естественно, были бы не прочь полюбоваться побольше.
Выходя из бухты, мы могли спокойно следовать тем же путем, каким входили в нее год назад. За все это время очертания бухты ничуть не изменились. Даже наиболее выступающий пункт в западной части бухты – мыс Мэнхью – спокойно стоял на своем месте, и не было похоже, чтобы он стремился отделиться от стены. Наверно, он просуществует еще много дней: ведь если лед в глубине бухты и движется, то чрезвычайно мало.
Лишь в одном ледовая обстановка этого года несколько отличалась от предыдущего. Если в 1911 году большая часть бухты уже 14 января была свободна от морского льда, то в 1912-м она вскрылась на две недели позже. Лед упорно держался, пока свежий норд-ост, который подул как раз в тот день, когда вернулся южный отряд, не расчистил фарватер. Это было весьма кстати, норд-ост сберег нам много времени и сил, ведь до того места, где «Фрам» стоял, прежде чем тронулся лед, было по крайней мере в пять раз дальше. Двухнедельная разница в сроках отступления льда показывает, как нам повезло, что мы высадились именно в 1911 году. Работа, которую мы, благодаря раннему вскрытию бухты в 1911 году, выполнили в три недели, наверно, заняла бы у нас в 1912-м вдвое больше времени и доставила бы гораздо больше трудностей и хлопот.

«Фрам» перед отплытием в 1912 г.
Густой туман, лежавший над Китовой бухтой, когда мы покидали ее, не дал нам также увидеть, чем заняты наши друзья японцы. Сильный ветер вынудил «Кайнан Мару» выйти в море вместе с «Фрамом» 27 января, после этого мы его больше не видели. Члены японской экспедиции, оставленные в палатке у края барьера севернее Фрамхейма, до конца вели себя весьма сдержанно. В день отплытия одному из наших довелось побеседовать с двумя гостями. Престрюд отправился за флагом, который мы поставили на мысе Мэнхью, чтобы на «Фраме» знали, что все вернулись обратно. Рядом с флагом стояла палатка – убежище для наблюдателя на случай, если бы «Фрам» заставил себя долго ждать. Поднявшись туда, Престрюд изрядно удивился, очутившись лицом к лицу с двумя сынами Ниппона, которые рьяно изучали нашу палатку и ее содержимое. Правда, в ней был всего-то один спальный мешок да примус. Японцы первыми начали беседу по-английски, радостно толкуя что-то насчет «найс дэй» (чудесного дня) и «пленти айс» (обилия льда). Заявив, что он совершенно согласен с такими неоспоримыми фактами, наш товарищ перевел речь на более интересующий его вопрос. Гости рассказали, что они сейчас единственные обитатели палатки на краю барьера. Двое их товарищей ушли в глубь барьера заниматься метеорологическими наблюдениями, они вернутся через неделю. «Кайнан Мару» отправился к Земле Короля Эдуарда. Предполагалось, что судно вернется к 10 февраля, заберет береговой отряд и возьмет курс на север. Престрюд пригласил своих новых знакомых навестить нас в Фрамхейме, и чем скорее, тем лучше; но они все не шли, а мы не могли их ждать. Если японцы все же посетили Фрамхейм, они могут засвидетельствовать, что мы сделали все, чтобы нашим возможным преемникам было хорошо.
Когда туман рассеялся, мы увидели со всех сторон почти совсем свободное ото льда открытое море. Иссиня-черный океан под свинцовым небом обычно не относят к разряду зрелищ, радующих взор. Но для наших глаз было истинным облегчением очутиться в среде, где преобладают темные цвета. Столько месяцев мы видели кругом сверкающее белое поле, и постоянно приходилось искусственными средствами защищать глаза от ослепительных потоков света. Причем даже с очками мы должны были щуриться. Теперь мы снова могли смотреть на мир широко открытыми глазами, как говорится, не мигая. Подумать только, что даже такая вещь может стать событием.

Карта моря Росса
Море Росса опять показало себя с самой лучшей стороны. Слабый зюйд-вест позволил нам воспользоваться парусами, и уже через два дня мы очутились примерно в 200 милях от барьера. Вроде бы не такое уж большое расстояние, но нам оно на карте казалось вполне внушительным. Не будем забывать, что с нашими средствами сообщения на суше 200 миль составляли не один дневной переход.
Нильсен обозначил на карте, где проходила граница дрейфующего льда во время трех предыдущих рейсов «Фрама». Предположение о том, что вблизи 150° долготы всегда есть открытый проход, как будто подтверждалось. По мнению Нильсена, небольшие смещения этого прохода могли быть вызваны переменой ветра. Он убедился, что при малейшем намеке на сплачивание льда лучше всего отклоняться в наветренную сторону. Конечно, курс получался слегка извилистым, зато он всегда выводил судно на открытую воду.
В этот раз мы достигли кромки паковых льдов через три дня после ухода от барьера. Граница пояса мало отличалась от наблюдавшихся ранее. Несколько часов мы шли своим курсом, но затем пак стал настолько плотным, что грозил нас вовсе остановить. Вот и представился случай испытать способ Нильсена. Ветер, довольно слабый, дул почти прямо с запада, поэтому руль был положен право на борт, и «Фрам» развернулся на запад. Одно время мы шли даже на юг, но крутой поворот и без того оправдал себя: после нескольких часов хода против ветра нам начали встречаться сплошные разводья. А не измени мы курс, возможно, надолго застряли бы.
Одного обходного маневра оказалось достаточно. Дальше все время шел редкий лед, а 6 февраля быстро усиливающаяся зыбь дала нам знать, что дрейфующие льды Антарктики остались позади. На этот раз мы во льдах практически не видели тюленей, а если бы даже и увидели, нам некогда было на них охотиться. Теперь у нас и без тюленьих бифштексов хватало доброй пищи. Для собак мы взяли весь оставшийся запас отличного собачьего пеммикана, а его оставалось довольно много. Кроме того, у нас было порядочно сушеной рыбы. Получая пеммикан и рыбу через день, собаки были в превосходном состоянии. К нашему приходу в Хобарт они сбросили жесткие зимние шубы и выглядели так, будто целый год провели в праздности.
Для нас, девяти зимовщиков, товарищи везли всю дорогу из Буэнос-Айреса несколько жирных свиней, которые вели роскошный образ жизни в своем загоне на юте; кроме того, в трюме висели три прекрасных бараньих туши. Надо ли говорить, что мы воздали должное этим аппетитным сюрпризам. Конечно, тюлений бифштекс отлично нам послужил, но разве плохо отведать для разнообразия жареной баранины и свинины, тем более что мы совсем не ждали такого угощения. Мы вообще не надеялись получить свежего мяса до возвращения в цивилизованный мир.

Амундсен и его товарищи по прибытии в Хобарт
Слева направо: Хассель, Вистинг, Амундсен, Бьоланд, Ханссен
Когда «Фрам» пришел в Китовую бухту, на борту было всего 11 человек. Вместо Кучина и Нёдтведта, уехавших домой из Буэнос-Айреса осенью 1911 года, были наняты три новых человека: Халворсен, Ульсен и Штеллер. Оба первых – из Бергена; Штеллер был немцем, который много лет жил в Норвегии и в совершенстве владел норвежским языком. Все трое – славные ребята и отличные работники; мы были им только рады. Смею надеяться, что и они чувствовали себя хорошо в нашем обществе. Вообще-то их наняли только до первого порта, но они остались на судне до возвращения в Буэнос-Айрес и, наверно, пойдут с нами дальше.
Когда зимовщики вернулись на «Фрам», лейтенант Престрюд опять занял должность первого штурмана, а остальные тотчас приступили к несению вахт. Теперь нас снова было 20 человек, и после того, как судно год ходило, как говорится, с недобором, теперь можно было сказать, что команда укомплектована. В этом рейсе у нас не было никаких особенных дел, кроме чисто морских, и, пока держалась сносная погода, нам жилось на борту сравнительно спокойно. Да и часы вахты тоже проходили быстро. Людям было о чем всласть поговорить. Мы, зимовщики, жаждали новостей из цивилизованного мира, а морскому отряду не терпелось услышать побольше подробностей о нашем житье-бытье на барьере.

«Фрам» в Китовой бухте
Лишь тот, кто сам пережил нечто подобное, может представить себе, какой это был град бесконечных вопросов и ответов. Все, что могли рассказать мы, сухопутные крабы, уже изложено в основных чертах в предыдущих главах. А из того, что сообщили нам, пожалуй, самым интересным был рассказ о том, как дома и за границей отнеслись к изменению плана экспедиции.
Целую неделю не ослабевал поток вопросов и ответов. Неделя эта пролетела быстро, может быть, даже быстрее, чем нам бы этого хотелось, ибо оказалось, что «Фрам» не поспевает за временем. Погода держалась вполне приличная, но она не во всем отвечала нашим желаниям. Мы рассчитывали, что юго-восточные и восточные ветры, которые были частыми гостями во Фрамхейме, не оставят нас и в море Росса, однако они нас покинули. Ветер дул редко, а когда дул, то обычно с севера, и как ни слаб он был, его хватало, чтобы тормозить наш старый добрый кораблик. Первые 8 недель сплошная облачность не давала проводить наблюдений. Спросишь шкипера о местонахождении судна и слышишь в ответ: дескать, сейчас можно наверное сказать только, что мы находимся в море Росса.
Во всяком случае, 7 февраля, как показало относительно надежное наблюдение, мы были достаточно далеко на север от мыса Адэр, а это означало, что мы окончательно простились с антарктическим материком. Мы прошли так близко от мыса Адэр, что это расстояние можно было бы одолеть за сутки, но как ни силен был соблазн, еще сильнее было стремление на север, возможно быстрее на север!
Как правило, около всех сильно выдающихся мысов на земном шаре постоянно дуют ветры. Мыс Адэр не составляет исключения. Он известен как средоточие скверной погоды. И мы, проходя здесь, не избежали встряски, но она была только кстати, ибо вышло так, что ветру было с нами по пути. Два дня свежего зюйд-оста помогли нам сравнительно быстро миновать остров Баллени, и 9 февраля мы могли поздравить себя с тем, что вышли благополучно из антарктической зоны. Больше года назад мы радовались, пересекая полярный круг в южном направлении; пожалуй, мы с не меньшей радостью прошли через него курсом на север.
Торопясь покинуть зимовье, мы не успели по-настоящему отметить воссоединение берегового и морского отрядов. Случай упущен, надо найти другой, и мы единогласно решили, что переход из холодного пояса в умеренный – отличный повод. Программа праздника была очень проста: лишняя чашка кофе с соответствующим приложением в виде пунша и сигар плюс граммофонная музыка. Наш заслуженный граммофон не мог удивить ничем новым девятку, зимовавшую в Фрамхейме, – мы знали весь репертуар чуть ли не наизусть, – но знакомые мелодии воскресили в нашей памяти приятные субботние вечера, проведенные за стаканом грога в уютном зимнем жилище в глубине Китовой бухты. Да, нам было что вспомнить… На борту «Фрама» не слушали граммофона с Рождества 1910 года, и участники морского отряда охотно повторяли многие записи.
Сверх программы выступил певец, который подражал граммофону в том смысле, что он пользовался огромным мегафоном; это должно было, как он сам говорил, возместить отсутствие голоса. Исполнитель укрылся за занавеской в каюте капитана Нильсена, и вот из мегафона полилась песня, призванная рассказать о нашей жизни на барьере в юмористическом плане. Успех был полный. Мы посмеялись от всей души.
Разумеется, такие песенки по-настоящему интересны только тому, кто участвовал в событиях, о которых они повествуют, или хотя бы знает о них. Все же я привожу для образца некоторые куплеты.
Напомню только, что опус сей сочинялся для Рождества, поэтому автор просил нас делать вид, что мы отмечаем именно этот праздник. Нам ничего не стоило уважить его просьбу.
Много признаков говорило о том, что мы достигли широт, где условия совсем иные, чем к югу от 66°. Желанной переменой было повышение температуры; ртуть, хоть и немного, поднялась выше нуля, поэтому те, кто еще ходил в мехах, окончательно расстались с полярной одеждой, снова сменив ее на более легкое и удобное платье. Позже всех зимний нар д сбросили… зимовщики. Тот, кто думает, что долгое пребывание в пол рных област х делает человека менее восприимчивым к холоду, сильно заблуждается. Чаще бывает как раз наоборот. Человек, живущий в областях с температурой -50° и ниже, не очень страдает от мороза, пока у него есть хорошая, надежная меховая одежда. Но выпустите его же на улицы Кристиании зимой при 15–20° мороза в обычном платье – бедняга будет так стучать зубами, что рискует их потер ть. Потому что в пол рных област х люди как следует защищаютс от холода, а вернешьс домой и выйдешь на улицу в пальто, котелке и крахмальном воротничке – как тут не замерзнуть.
Не столь желанным следствием перехода в другие широты было возвращение ночи. Не спорю, на земле в конечном счете устаешь от непрерывного дневного света, но на судне вечный день был бы очень кстати. Хотя мы вправе были считать, что распрощались с антарктическими льдами, нам еще приходилось остерегаться его неприятных форпостов – айсбергов. Выше говорилось, что опытный впередсмотрящий в темноте издали заметит «свечение» большого айсберга, но небольшие льдины, слегка выдающиеся над водой, не дают такого отсвета и не предупреждают об опасности. Такая льдина представляет не меньшую угрозу, чем айсберг; столкнешься – либо будет пробоина, либо сорвет такелаж. А на переходе из зоны в зону, где температура воды всегда низкая, показания термометра – ненадежный ориентир.
Воды, в которых мы теперь находились, еще не настолько изучены, чтобы нельзя было рассчитывать на встречу с землей. Капитан Кольбек, который командовал одним из вспомогательных судов, посланных на юг во время первой экспедиции Скотта, нечаянно встретил маленький остров восточнее мыса Адэр. Позднее этот остров был назван именем капитана Скотта. Капитан Кольбек сделал свое открытие, находясь примерно на том пути, которым следует большинство судов, направляющихся в море Росса. И теперь не исключена возможность открытия там новых островов при вольном или невольном отклонении от курса.[89]
На продающихся теперь картах в южной части Тихого океана обозначено много островов и архипелагов, местоположение которых, а то и само существование довольно сомнительны. Так, на нашем пути к Хобарту по этим данным должен был находиться остров Эмеральд. Но капитан Дэвис, ведя судно Шеклтона «Нимрод» в Англию в 1909 году, прошел через точку, где по карте должен быть остров Эмеральд, и не увидел его. Если остров существует, он во всяком случае неверно нанесен на карту. Чуть не две недели мы делали все, чтобы избежать встречи с ним, а главное – чтобы пройти возможно дальше на запад, прежде чем мы окажемся в полосе восточных ветров, – но упорный норд-вест долго грозил нам двумя одинаково неприятными альтернативами: дрейфовать на восток или попасть во льды севернее Земли Уилкса.
Эти дни были серьезным испытанием для всех тех, кому не терпелось поскорее сойти на берег, сообщить наши новости, а может быть, и услышать что-то взамен. Три недели февраля позади, а мы едва одолели половину пути; будь погода получше, мы за это время уже дошли бы до Хобарта. Оптимисты все время утешали нас, уверяя, что рано или поздно должна наступить перемена к лучшему. И она наконец наступила. Благоприятный ветер помог нам сразу уйти подальше и от сомнительного острова Эмеральд, и от лежащих севернее, действительно существующих островов Макуори. Кстати, на одном из островов Макуори в это время помещалась самая южная в мире станция беспроволочного телеграфа. Она принадлежала Антарктической экспедиции доктора Моусона. Он вез также аппаратуру, которую хотел установить на антарктическом материке, но, насколько мне известно, в первый год связь не была налажена.[90]
Последний бросок позволил нам продвинуться так далеко на запад, что теперь Хобарт был от нас почти строго на север. Это позволяло нам надеяться на помощь ветра в полосе западных ветров. Обстановка здесь мало меняется от года к году, и мы встретили привычную картину: частый свежий норд-вест, который держался до 12 часов, смещаясь затем к западу или юго-западу. Пока дул норд-вест, оставалось только лежать в дрейфе, держа минимум парусов; когда же ветер менялся, мы несколько часов шли в нужном направлении. Так мы шаг за шагом тащились на север к своей цели. Медленно двигались, что говорить; все же линия курса на карте с каждым днем становилась длиннее, и к концу февраля расстояние до южной оконечности Тасмании сократилось до очень скромных размеров.
На постоянной, сильной западной зыби легко нагруженный «Фрам» качало, как никогда, а это, скажу вам, не шутка. От качки пострадал такелаж: сломался гафель фока. Впрочем, это нас задержало не надолго. Сломанный гафель быстро заменили запасным.
Как ни надеялись мы дойти до места назначения до конца февраля, из этого ничего не вышло. Мы плыли еще всю первую неделю марта.
Под вечер 4 марта впервые показалась земля. Но так как видимость была плохая и за последние 2 дня у нас не было возможности надежно определить долготу, мы не знали точно, какой из мысов Тасмании находится перед нами. Чтобы внести ясность, коротко опишу берега, к которым мы подошли. Южная часть острова Тасмания образует три мыса; рядом с самым восточным из них, отделенный от большого острова лишь узким проливом, находится обрывистый, неприступного вида скалистый островок Тасмана. Но проход тут возможен, на вершине острова – на высоте 270 метров над уровнем моря – стоит маяк. Средний мыс называется Тасман-Хед; его отделяет от западного мыса залив Сторм-Бей, через который идут к Хобарту. Сюда-то мы и направлялись. Теперь спрашивалось, какой из мысов перед нами? В мглистом воздухе очертания земли расплывались, затрудняя решение этого вопроса; к тому же никто из нас прежде не бывал в этом уголке земного шара. С наступлением темноты хлынул проливной дождь. Так мы всю ночь и проболтались тут, не видя ни зги.
На рассвете подул свежий зюйд-вест, он разогнал большинство туч, и мы снова увидели землю. Решив, что это средний из трех мысов, Тасман-Хед, смело взяли курс на то, что приняли за Сторм-Бей. Ветер крепчал, мы развили хороший ход, и уже не сомневались, что через несколько часов будем в Хобарте. С этим приятным чувством сели завтракать в передней кают-компании, вдруг дверь почему-то рывком распахнулась, и показалось лицо вахтенного начальника.
– Мы не с той стороны мыса! – прозвучало зловещее сообщение, и лицо исчезло.
Прощайте, заманчивые планы, прощай, завтрак! Все мигом очутились на палубе и убедились, что удручающая новость, увы, верна. Из-за ливня мы промахнулись. Ветер, ставший теперь крепким, расчистил вершины скал, и на мысе, принятом нами за Тасман-Хед, мы увидели маяк. Значит, это остров Тасмана, и мы не в Сторм-Бее, а в Тихом океане, с подветренной стороны проклятого мыса.
Оставалось только идти галсами, пытаясь снова выйти на ветер, хотя мы знали, что это почти безнадежная затея. Ветер достиг силы шторма, и, когда мы попытались лавировать, было похоже, что нас совсем снесет. Мы слегка рассердились и решили сделать все, что в наших силах. Подняли все паруса, и «Фрам» начал пробиваться вперед, идя крутым бейдевинд. В первую минуту нам показалось, что нас перестало сносить, но, чем дальше от земли, тем сильнее становился ветер, и вскоре мы убедились, что шторм теснит нас назад. Около полудня мы снова взяли курс на землю, и тут же могучий шквал разорвал в клочья кливер; пришлось срочно убирать фок, пока паруса не обстенило с вытекающим отсюда повреждением такелажа. От других парусов было мало толку; оставалось только прижаться к берегу и с помощью машины по возможности держаться на месте, пока ветер не угомонится. Ну, и дуло в этот день! Один шквал хуже другого срывался с гор и трепал такелаж так, что все судно вздрагивало.
Понятно, настроение было довольно мрачное, и люди отводили душу в не совсем печатных выражениях. Досталось и погоде, и ветру, и року, и всей нашей жизни вообще. Не очень-то это помогло. Полуостров, отделявший нас от Сторм-Бея, нерушимо стоял на месте, и шторм продолжал бушевать, отнюдь не спеша пропустить нас в залив. Кончился день, и ночь прошла – никаких перемен. Только утром 6 марта появились намеки на улучшение. Ветер стих и сместился к югу. Правда, и нам нужно было на юг, но, держась вблизи берега, где совсем не было волны, мы сумели до темноты подойти к острову Тасмана. Ночь принесла с собой штиль, и мы не замедлили этим воспользоваться. Машина работала вовсю, да нам еще помогло попутное течение, и на рассвете 7 марта «Фрам» уже так далеко проник в Сторм-Бей, что мы могли наконец с полным правом считать себя хозяевами положения.

Участники экспедиции по прибытии в Хобарт
Верхний ряд (слева направо): Хассель, Л. Хансен, Стеллер, Бьоланд, Кристенсен, Рённе, Бек, Вистинг, Хальворсен, Сундбек. Средний ряд: Юхансен, Престрюд, Амундсен, Нильсен, Ертсен, Хельмер, Ханссен. Нижний ряд: Стюбберюд, К. Ульсен, А. Ульсен
Сияло солнце – и люди сияли, словно и не было никаких неприятностей. Скоро и «Фрам» начал сверкать. Белую палубу хорошенько продраили, не пожалев мыла, и краска заблестела, как прежде. После этого и во внешности людей произошла разительная перемена. Анораки и одеяльные костюмы уступили место выходному платью разного покроя, пролежавшему в рундуках 2 года; бритвы и ножницы скосили обильную жатву; большинство голов украсилось модными головными уборами, которые скорняк Рённе пошил из ветронепроницаемой материи. Даже Линдстрём, который до последнего дня сохранял звание самого тяжелого, самого толстого и самого… чумазого члена берегового отряда, явно выиграл от соприкосновения с водой.
А «Фрам» уже подошел к лоцманской станции, и к нам деловито подлетел небольшой катер. «Want a pilot, captain?» (Вам нужен лоцман, капитан?) Звук постороннего голоса – первого за столько месяцев – буквально заставил нас вздрогнуть. Вот и восстановлена связь с внешним миром. Лоцман, статный подвижной старик, с удивлением посмотрел вокруг, поднявшись на нашу палубу.
– Вот уж не думал, что на борту полярного судна может быть так чисто и опрятно, – сказал он. – И не представлял я себе, чтобы люди возвращались такими из Антарктики. Похоже, вам там неплохо жилось.
Мы охотно подтвердили это, но тут же дали ему понять, что еще не настроились давать интервью. Зато он не возражал против того, чтобы мы выспрашивали его. Правда, лоцман не был богат новостями. Он ничего не слышал про «Терра-Нова», только рассказал нам, что «Аврора» доктора Моусона, под командой капитана Дэвиса, должна вот-вот прибыть в Хобарт. «Фрам» здесь ждали еще в начале февраля, потом махнули на него рукой. Так что наше появление было сюрпризом.
Гость явно не стремился познакомиться с нашим камбузом; во всяком случае, он энергично отверг предложение позавтракать. Вероятно, боялся, что его накормят собачатиной или еще каким-нибудь оригинальным блюдом. Зато наш норвежский табак пришелся ему по вкусу. Уходя с судна, он уносил чуть ли не полный чемоданчик.
Город Хобарт лежит на берегу реки Дервент, впадающей в Сторм-Бей. Место очень красивое, и почва, должно быть, плодороднейшая, но, когда мы туда пришли, леса и поля были сожжены долгой засухой. Как ни пожухла зелень, для наших глаз было подлинной отрадой видеть лужайки и деревья. Мы отнюдь не были избалованы в этом смысле.
Хобарт – почти идеальная гавань, большая, вместительная, отлично защищенная. Когда мы подошли к городу, на борт поднялись обычные посетители: начальник порта, врач, таможенники. Врач быстро убедился, что медику у нас делать нечего; таможенные чиновники так же быстро удостоверились, что у нас нет контрабанды. Мы отдали якорь – можно сходить на берег. Я взял портфель с телеграммами и отправился на шлюпки начальника порта в город.
Роберт Пири. Северный полюс. В возрасте 53 лет, в 1908 г. Пири предпринял очередную попытку достичь Северного полюса. На этот раз его ждал успех. Но сам поход к полюсу в сопровождении пяти спутников: четырех эскимосов и афроамериканца, верного помощника на протяжении многих лет, Мэтью Хенсена – был необычайно сложен. Именно об этом рассказал Пири в книге «Северный полюс», которая имела несколько изданий в нашей стране. Назовем их.
В 1935 г. в Ленинграде книга была опубликована с предисловием известного исследователя Севера и Ледовитого океана В. Ф. Визе.
В 1948 г. Географгиз познакомил читателей с новым переводом книги.
В 1972 г. издательство «Мысль» в серии «XX век: Путешествия. Открытия. Исследования» публикует специальный том, в который вошли «Северный полюс» Роберта Пири в переводе В. А. Смирнова и «Южный полюс» Руаля Амундсена в переводе Л. Л. Жданова. В 1981 г. издательство «Мысль» повторяет это издание в виде отдельной самостоятельной книги.
Следует особо отметить, что том в серии «XX век: Путешествия. Открытия. Исследования» сопроводил послесловиями к каждому произведению и комментариями известный полярный исследователь академик АН СССР, руководитель многих полярных экспедиций, в том числе «Северный полюс-3», 2-й и 13-й антарктических экспедиций, Герой Социалистического Труда А. Ф. Трёшников.
В настоящем издании взята за основу именно эта публикаци произведений Роберта Пири и Руаля Амундсена.
Руаль Амундсен. Южный полюс. Имя выдающегося норвежского путешественника Амундсена было широко известно во всем мире, а в 1928 г. стало особенно популярно во время спасения экспедиции к Северному полюсу, предпринятой Умберто Нобиле. Книги Амундсена достаточно широко публиковались в нашей стране. Его «Южный полюс» был издан в 1937 г. в «Молодой гвардии» в полном переводе с норвежского М. П. Дьяконовой (под ред. М. А. Дьяконова) с большим предисловием В. Ю. Визе.
В 1936–1939 гг. в издательстве «Главсевморпуть» вышло пятитомное собрание сочинений прославленного путешественника: Т. 1. Северозападный проход. Плавание на судне «Иоа». – Л.: Главсевморпуть, 1939. Т. 2. Южный полюс. Плавание «Фрама» в Антарктике. 1910–1912 гг. – Л.: Главсевморпуть, 1937. Т. 3. Северовосточный проход. Экспедиция на «Мод» вдоль северного побережья Азии. 1918–1920. – Л.: Главсевморпуть, 1936. Т. 4. Полет до 88° северной широты. Полет над Северным Ледовитым океаном. – Л.: Главсевморпуть, 1936. Т. 5. Моя жизнь. – Л.: Главсевморпуть, 1937.
Настоящее издание книги Руаля Амундсена, как уже было сказано выше, в основе своей имеет текст, опубликованный издательством «Мысль» в серии «XX век: Путешествия. Открытия. Исследования» (М., 1972).
Иллюстрации в книге воспроизвод т фотографии Роберта Пири, Руаля Амундсена, а также участников их экспедиций к Северному и Южному полюсам.
До СП по льду добирались и позже. Так, в 1968 г. американо-канадская экспедиция во главе с Р. Плейстедом в составе шести человек, двигаясь от Канадского Арктического архипелага, достигла СП на малогабаритных моторных санях. В 1968–1969 гг. четверо англичан во главе с У. Хербертом пересекли Арктический бассейн от Аляски (мыс Барроу) до острова Шпицберген на собачьих упряжках и 5 апреля 1969 г. остановились на СП. 31 мая 1979 г. советская экспедиция Д. И. Шпаро дошла до СП только на лыжах (впервые за историю арктических путешествий).
(обратно)Калааллит Нунаат – местное название Гренландии.
(обратно)Позже он где-то обмолвится, что якобы собирался пройти с запада на восток Гренландии от моря Баффина до нунатака (скалы) Петермана.
(обратно)В 1911 г. Р. Пири «за заслуги» был произведен в адмиралы. Однако когда он поступил на военную службу и как она проходила, почти ничего не известно. Некоторые биографы, правда, упоминают, что будто бы он после Северогренландской экспедиции был переведен в Гидрографическое управление штаба ВМС США с присвоением первого офицерского звания лейтенанта флота, а в 1897 г. он уже был капитаном 3-го ранга. Но так ли это было на самом деле, автор настоящих строк утверждать не берется.
(обратно)Метеорит «Кейп-Йорк» ныне является крупнейшим из хранящихся метеоритов в музеях мира. Он находится в Нью-Йорке, в Хайденском планетарии.
(обратно)Первые трое суток пути его сопровождали четверо эскимосов. Потом двое, попрощавшись, вернулись назад.
(обратно)В комплект научного оборудования экспедиции входили: секстан, хронометры (для определения времени и долготы места), астролябия (для определения румбов (магнитных азимутов) направления), шагомер, а также карманный и жидкостной компасы, искусственный горизонт, термометры, барометр-анероид, инструменты для топографической съемки и др.
(обратно)По части «доброго здравия» было громко сказано: практически все путешественники, позже добиравшиеся до СП, впадали в той или иной мере в депрессию, переживали «жуткий нервный шок»: цель жизни достигнута, а дальше-то что? От этого, например, по свидетельству одного из участников советской лыжной экспедиции 1979 г., «некоторые мужики рыдали как дети».
(обратно)В 1925 г. Ф.Кук был обвинен в мошенничестве на нефтепромыслах. Расследование было предвзятым и скорым. Его приговорили к 14 годам и 9 месяцам заключения и солидному денежному штрафу. Это событие хотя и не имело отношения к покорению СП, но окончательно испортило репутацию Ф. Кука. В тюрьме он провел почти пять лет и был освобожден «ввиду новых обстоятельств» – открытые им нефтяные скважины «принесли прибыли на 100 миллионов долларов». 16 мая 1940 г Ф. Кук был реабилитирован «полностью и безоговорочно», а 5 августа того же года скончался. Ныне обвинение Ф. Кука в фальсификации его полюсного маршрута утратило остроту, его доброе имя покорителя СП восстановлено. Огромную роль в этом сыграло «Общество Фредерика А. Кука» со штаб-квартирой в Харлевилле (штат Нью-Йорк).
(обратно)Необыкновенная скорость движения Р. Пири, по некоторым оценкам в 1,5–2 раза превышающая достижимую когда-то им самим и другими арктическими путешественниками, объяснялась тем, что собаки бежали домой, чуя собственный след, а дрейф льда был учтен еще при прокладке маршрута.
(обратно)Роберт Пири впервые отправился в Арктику в 1886 г. Весной 1892 г. Пири на санях с собачьими упряжками пересек северный купол Гренландии, следуя от залива Инглфилд на северо-восток, и вернулся к заливу; весной 1895 г. повторил это двойное пересечение. Весной 1900 г. Пири, двигаясь на северо-восток от пролива Смит, впервые проследил весь северный берег Гренландии, в частности полуостров, позднее названный Землей Пири, где открыл мыс Моррис-Джесен. Весной 1906 г., идя на север от мыса Хекла отстрова Элсмир, Пири достиг 87°06 с. ш., а 6 апреля 1909 г. от мыса Колумбия – Северного полюса (89°55 с. ш.), сопровождаемый на последнем этапе (от 87°47 с. ш.) четырьмя спутниками.
(обратно)Хотя до Северного полюса оставалось всего 320 км, Пири вынужден был повернуть назад.
(обратно)Великой полыньей Пири назвал устойчивое разводье, находящееся к северу от Земли Гранта и Гренландии примерно вдоль 84-й параллели и образующееся под влиянием ветра и течений. Иногда эта полынь может быть шириной в несколько километров, иногда узкой. В периоды тихой погоды и сильных морозов полынья покрывается молодым льдом. (Т.)
(обратно)В 1906 г. с побережь Земли Гранта Р. Пири увидел «Землю Крокера», которая в действительности представляла собой торосы, приподнятые рефракцией, или облака над полыньями. Впоследствии Д. Макмиллан предприн л поиски легендарной земли и доказал, что она не существует.
(обратно)Участники итальянской экспедиции герцога Абруццкого на собаках пытались добраться с Земли Франца Иосифа до Северного полюса и 25 апреля 1900 г. достигли широты 86°34 .
(обратно)Много лет спуст на основании рассказа гренландских эскимосов известный знаток Гренландии Хоббс сообщил, что Росс Марвин не утонул, а был убит в ссоре сопровождающими его двумя эскимосами. Об этом стало известно только в 1926 году, через 6лет после смерти Пири. (Т.)
(обратно)Роберту Пири в покорении Северного полюса помогал Арктический клуб Пири – объединение влиятельных и богатых людей США, которые создали фонд для экспедиций отважного полярника. Первым среди них был Теодор Рузвельт, 26-й президент Соединенных Штатов (не случайно Пири в своей книге идеализирует его). Именами своих меценатов Пири назвал многие открытые им географические объекты.
(обратно)Пири говорит об экспедиции Фредерика Кука к Северному полюсу в 1908 г.
(обратно)Здесь и далее температура дается по Фаренгейту.
(обратно)В высоких широтах грозы почти ежегодное явление.
(обратно)Речь идет о полярной экспедиции на корабле «Эдванс», 1853–1855 гг., которой руководил американский исследователь Элайш Кент Кейн. Судно встало на зимовку у берегов Гренландии в бухте Ренселер (78°37 северной широты, 70°52 западной долготы), но из-за сплошных льдов вынуждено было остаться на второй год. Эта зимовка проходила в чрезвычайно сложных условиях: недостаток продовольствия, нехватка топлива. Летом 1855 г. Кейн и его спутники вновь не смогли вывести судно из ледового плена и вынуждены были на сан х и лодках с огромным трудом добираться до населенного пункта Упернавик, откуда на китобойном судне были доставлены в США. Во время путешествия, по дороге назад скончался матрос Христиан Ольсен.
(обратно)Американский генерал Грим в связи с проведением I Международного полярного года (1881–1882) основал на восточном побережье Земли Гранта, в бухте Леди-Франклин, станцию, на которой во время зимовки большинство участников погибли от цинги, голода и недостатка топлива.
(обратно)Чарлз Холл – американский полярный исследователь, руководивший экспедицией к Северному полюсу в 1871 г. на пароходе «Полярис». Достигнув 82°26 северной широты в Северном Ледовитом океане, судно повернуло назад, но попало в сжатие. Чарлз Холл, разбитый параличем, умер 8ноября 1871 г. Участники экспедиции, пережив одну зимовку и испытав психологические и физические перегрузки, лишь в 1873 г. смогли вернуться домой.
(обратно)Речь идет об английской экспедиции к Северному полюсу в 1875–1876 гг. под руководством Джорджа Нэрса на судах «Алерт» и «Дискавери».
«Дискавери» было поставлено на зимовку в бухте Леди-Франклин (восточное побережье Земли Гранта), а Нэрс на «Алерте» попытался продвигаться далее на север, в результате чего достиг 82°42 северной широты. На обратном пути «Алерт» был зажат льдами и стал на зимовку, которая прошла благополучно. На санях участники экспедиции по льдам достигли 83°30 северной широты, но далее продвижение пришлось прекратить. Во время зимовки многие члены экспедиции заболели цингой, некоторые умерли. В 1876 г. летом «Алерт» пробился к «Дискавери» и оба корабля вернулись на родину. После этой экспедиции Джордж Нэрс заявил, что Северный полюс невозможно достигнуть ни на судне, ни по льдам.
(обратно)Это утверждение Пири опровергнуто жизнью. В настоящее время эскимосы живут в домах со всеми удобствами, занимаются поставкой пушнины на мировой рынок.
(обратно)Пири, бесспорно, прав, что огнестрельное оружие и другие предметы цивилизации, полученные эскимосами от него, существенно изменили их жизнь, облегчили ее. В результате европейские товары стали жизненно необходимы эскимосам,
(обратно)Гипотеза о происхождении эскимосов, которую разделяет Пири, давно устарела. По современным представлениям, покоящимся на солидной археологической базе, эскимосы как народ сформировались не менее 4–5 тыс. лет назад на берегах Берингова пролива из этнических групп различного происхождения, они распространились оттуда по северному побережью Америки до Гренландии.
Около тысячи лет назад где-то на севере Аляски возникла новая эскимосская культура, называемая исследователями туле. Это культура морских зверобоев и китобоев. В XI–XII вв. ее носители, пройдя через Баффинову Землю и остров Элсмир, добрались до северо-запада Гренландии.
С XVI в. в связи с ухудшением климата ранее существовавшие связи полярных эскимосов с эскимосами Западной Гренландии прервались. До 1818 г., когда полярных эскимосов посетил Джон Росс, этот народ жил в полном неведении о том, что еще где-то в мире есть люди. (Г.)
(обратно)Современная наука считает, что по антропологическому типу эскимосы принадлежат к арктической расе монголоидов.
(обратно)Это утверждение необоснованно, для эскимосов характерно высокое и влиятельное положение женщины в семье.
(обратно)Росс Джон (1777–1856) – английский полярный исследователь, руководитель двух экспедиций по отысканию Северо-Западного прохода. Во время этих экспедиций были обследованы западный берег Гренландии до пролива Смита и все Атлантическое побережье острова Баффинова Земля, открыты острова Кинг-Уильям и Бутин.
(обратно)«Жаннетта» – яхта, на которой американский полярный исследователь де-Лонг (1844–1881) предполагал достичь Северного полюса. К северо-востоку от острова Геральд «Жаннетта» вмерзла во льды и начала дрейфовать. Во время дрейфа были открыты острова Жаннетты и Генриетты. В 1881 г. после гибели «Жаннетты» ее экипаж начал жизнь на льдине, во время плавания был открыт остров Беннетта. В результате де-Лонг с частью спутников достиг устья реки Лены, где погиб от голода.
(обратно)«Фрам» – корабль, специально построенный для экспедиции Фритьофа Нансена в Северном Ледовитом океане в 1893–1896 гг. Вмерзнув в лед к северо-западу от Новосибирских островов в сентябре 1843 г., «Фрам» начал свой знаменитый дрейф, достигнув 85°55,5 северной широты и 66°ЗГ восточной долготы. В последующие годы «Фрам» был использован Руалем Амундсеном во время его штурма Южного полюса.
(обратно)Замечание Пири не случайно. Дело в том, что зона наибольшей повторяемости полярных сияний, их яркости, красочности находится южнее места, где зимовала экспедиция Пири. Она проходит в районе Мурманска, вдоль северного побережья Норвегии, у южной оконечности Гренландии, по северной части Канады, через Аляску, остров Врангеля, мыс Челюскина и Новую Землю.
(обратно)Применяемый Пири метод счисления для определения пройденного в течение дня расстояния, уточняемого данными полуденного наблюдения высоты солнца, вызвал в последующем критику со стороны противников полярного путешественника и поставил под сомнение пребывание Пири на Северном полюсе. Дело в том, что стрелка магнитного компаса ведет себя неустойчиво вблизи магнитного полюса, а в результате дает не всегда верные показания. Кроме того, определение пройденного пути, расстояния по субъективным ощущениям путешественника весьма ненадежный прибор.
Все сказанное показывает, на что опирались те, кто ставил под сомнение точность пребывания Роберта Пири на Северном полюсе. Поэтому для большей уверенности принято говорить о пребывании Пири в районе Северного полюса.
(обратно)Пири не совсем прямо говорит о том, что приближается время активной подвижки льдов, которая наблюдается в периоды полнолуния и новолуния. Связано это с тем, что в эти периоды силы притяжения Луны и Солнца складываются, образуя наиболее высокую приливную волну в океане, наиболее сильные течения. Это так называемый сизигийный прилив.
(обратно)Для определения широты можно использовать секстант с искусственным горизонтом или малый теодолит. Мы взяли с собой в санное путешествие оба эти инструмента, однако теодолитом не пользовались из-за низкого стояния солнца. Если бы экспедиция задержалась на обратном пути до мая или июня, теодолит можно было бы использовать для определения местоположения и магнитного склонения.
Метод взятия меридиональной высоты светила при помощи секстанта с искусственным горизонтом в санном путешествии по Арктике состоит в следующем.
Если дует ветер, строится полукруглое укрытие от ветра, из снежных блоков, в два яруса высотой, открывающееся на юг. Если ветра нет, строить укрытие нет необходимости.
Ящик с инструментом прочно устанавливается на снегу, который утрамбовывается под ящиком и вокруг, чтобы была прочная опора. Затем на снег что-нибудь подстилается, обычно шкура, частью для того, чтобы снег не подтаял на солнце и ящик не сместился, частью для того, чтобы защитить глаза производящего наблюдения от отраженного снегом слепящего света.
Лоток искусственного горизонта помещается на верх ящика, и в него дополна наливается ртуть, предварительно разогретая в иглу. В мою последнюю экспедицию у меня был специально сконструированный лоток; ртуть в него можно было наливать вровень с краями, что давало возможность определять очень малые углы.
Лоток накрывается так называемой крышей – двумя оправленными в рамку матовыми стеклами, составленными наклонно, как скаты крыши дома. Назначение этой крыши не допускать искажения отражения солнца на поверхности ртути вследствие ветра, а также защищать поверхность ртути от находящихся в атмосфере снежинок и кристаллов льда. Лоток с крышей помещается на ящик с инструментом таким образом, чтобы его длинный конец был обращен к солнцу.
Затем на снег рядом с ящиком, с северной стороны, кладется шкура, и наблюдатель ложится на нее животом, головой к югу, так, чтобы его лицо и секстант приблизились к искусственному горизонту. Упираясь локтями в снег и твердо держа секстант обеими руками, он продвигает инструмент вперед до тех пор, пока не увидит на поверхности ртути отражение солнца или часть его.
Способ, каким определяется широта наблюдателя по полуденной высоте солнца, очень прост: широта наблюдателя равна расстоянию центра солнца от зенита плюс склонение солнца для данного дня и часа.
Склонение солнца для любого места и любого часа определяется по специально составленным для этой цели таблицам; в них даются склонения для полудня на каждый день по Гринвичскому меридиану, а также почасовые изменения склонения. У меня были с собой страницы «Морского календаря», содержавшие эти таблицы на февраль, март, апрель, май, июнь и июль месяцы, а также ординарные таблицы поправок на рефракцию при температуре до -10° по Фаренгейту.
(обратно)Пири при походе к Северному полюсу определял лишь широту, считая долготу постоянной – меридиан мыса Колумбия. Путешественник не учитывал того, что движение осуществлялось по дрейфующему льду, в результате чего из-за смещения льдов менялась долгота. Кроме того, Пири определял широту по максимальной высоте солнца на меридиане мыса Колумбия. Таким образом, произошла ошибка в определении места в момент нахождения на полюсе.
(обратно)Невежество и неверные представления относительно всего, что касается Арктики, настолько широко распространены, что здесь кажется уместным привести некоторые начальные положения. Всякий заинтересованный человек может дополнить их, прочтя вводную часть хорошего учебника географии или астрономии для начальной школы.
Северный полюс (географический полюс, в отличие от магнитного, и это представляет, как правило, первый камень преткновения для несведущих) является всего-навсего точкой, где воображаемая линия земной оси – то есть линия, вокруг которой Земля совершает свое ежесуточное вращение – пересекает земную поверхность.
Происходившие в последнее время дискуссии, на которых всерьез обсуждался вопрос о том, какой размер имеет Северный полюс – в четверть ли ярда, или в шляпу шириной, или в 36 квадратных миль, – абсолютно смехотворны.
Строго говоря, Северный полюс – это всего-навсего математическая точка и, следовательно, согласно математическому определению точки, не имеет ни длины, ни ширины, ни толщины.
На вопрос, насколько точно может быть определен полюс (именно этот пункт и путал невежественных мудрецов), следует ответить: это зависит от характера измерительных инструментов, умения пользоваться ими и количества произведенных наблюдений.
Если бы на полюсе была суша и там на прочных основаниях можно было бы установить мощные приборы высокой точности, подобные тем, что используются в крупнейших обсерваториях мира, то опытные наблюдатели путем многократных наблюдений в течение многих лет смогли бы установить местонахождение полюса с высокой степенью точности.
С помощью обычных полевых инструментов, таких, как теодолит и секстант, опытный наблюдатель, произведя ряд наблюдений, сможет определить пределы местонахождения полюса вполне удовлетворительно, однако не с такой степенью точности, как вышеупомянутым методом.
Считается, что при удовлетворительных условиях ординарное наблюдение на море с помощью секстанта и естественного горизонта, обычно производимое капитаном, позволяет определить местонахождение корабля с точностью до мили.
Что касается наблюдений в арктических областях, то здесь обнаруживается тенденция со стороны специалистов, не имеющих практического опыта такой работы, переоценивать и преувеличивать трудности и минусы астрономических наблюдений, производимых в условиях низких температур.
Мой личный опыт свидетельствует, что для опытного наблюдателя, одетого в меховую одежду и производящего наблюдения в безветренную погоду при температурах, скажем, не ниже -40° по Фаренгейту, холод не является серьезной помехой. Величина и характер ошибок, обусловленных воздействием холода на инструмент, возможно, могут быть предметом дискуссии и определенных расхождений во мнениях.
Я лично испытывал самые серьезные затруднения из-за глаз.
Для глаз, многие дни и недели подверженных неослабевающему действию яркого солнечного света, которые постоянно напрягаешь, прокладывая курс по компасу и двигаясь на определенную точку. Для глаз проведение серии наблюдений – это обычно что-то кошмарное после того напряжения, с каким сосредоточиваешь взгляд, ловишь на поверхности ртути отражение солнца и считываешь показания верньера на слепящем свету, о котором имеют представление только те, кто сам производил наблюдения при ярком солнечном свете на сплошных снежных пространствах арктических областей, – глаза обычно наливаются кровью и болят потом несколько часов.
После вышеописанной серии непрерывных наблюдений в окрестностях полюса мои глаза в течение двух или трех дней не годились ни для какой работы, требующей сосредоточенного зрения, и если бы на обратном пути мне в течение двух или трех дней пришлось прокладывать курс, это было бы для меня в высшей степени затруднительно.
Дымчатые очки, которые мы носили постоянно во время переходов, помогают лишь отчасти и не полностью защищают глаза, так что за время наблюдений мои глаза крайне устали и были временами ненадежны.
Авторитеты дают различные оценки ошибок, возможных при проведении астрономических наблюдений на полюсе. Я лично склонен допустить погрешность в 5 миль.
Никто, за исключением людей, абсолютно не сведущих в подобных делах, не может предположить, что с помощью своих инструментов я мог точно определить местонахождение полюса; однако, определив его местонахождение приблизительно и допустив возможную погрешность в 10 миль, я неоднократно пересек в различных направлениях соответствующую область в 10 миль в поперечнике, и никто, кроме людей самых невежественных, не усомнится в том, что в какой-то момент я прошел близко от самой точки полюса или, быть может, прямо по ней.
(обратно)Утонул 10 апреля, возвращаясь с 86°38 северной широты.
(обратно)До 90 % приходящего от Солнца тепла отражается снежной поверхностью обратно в мировое пространство и только 10 % идет на ее нагревание. Поэтому радиационный баланс Антарктиды отрицательный, а температура воздуха очень низкая.
(обратно)Магнитные полюса Земли – это точки на ее поверхности, в которых вектор индукции магнитного поля Земли направлен вертикально: вниз на Северном и вверх на Южном магнитных полюсах. Со временем координаты и полярность магнитных полюсов меняются. В текущую эпоху полярность такова, что в Северном полушарии Земли находится Южный магнитный полюс, а в Южном полушарии – Северный. Однако общепринято магнитные полюса Земли называть в соответствии с полушарием, в котором каждый из полюсов (независимо от полярности) находится. Магнитные и географические полюса не совпадают. Например, Южный магнитный полюс, определенный английского военным моряком Джеймсом Россом в 1841 г., находился примерно в 800 км от географического ЮП.
(обратно)Внук А. Омельченко Виктор стал профессиональным полярником и уже в наши дни провел несколько зимовок на украинской антарктической станции «Академик Вернадский».
(обратно)В дальнейшем тематика САЭ намного расширилась, значительно увеличилось и число учреждений, принимающих участие в экспедиционных работах и обработке материалов наблюдений.
(обратно)Позже были открыты станции Новолазаревская (1961), Молодежная (1962), Беллинсгаузен (1968), Ленинградская (1971), Русская (1980), Союз (1982), Дружная-4 (1987) и Прогресс (1988). Со временем некоторые станции были закрыты и законсервированы, станция Оазис в 1959 г. передана Польше. В настоящее время действующими являются станции Беллинсгаузен, Восток, Мирный, Новолазаревская и Прогресс. Станция Амундсен-Скотт при открытии в 1956 г. располагалась точно на ЮП, однако на начало 2006 г из-за движения льдов она находилась примерно в 100 м от него. Среднегодовая температура в районе станции составляет около -49°.
(обратно)Станция Амундсен-Скотт при открытии в 1956 г. располагалась точно на ЮП, однако на начало 2006 г из-за движения льдов она находилась примерно в 100 м от него. Среднегодовая температура в районе станции составляет около -49°.
(обратно)Автор этих строк прошел полный курс подготовки к 17-й САЭ (1972), но по ряду объективных причин в ней не участвовал.
(обратно)Внутренний мир Р. Амундсена долгое время оставался для широкой публики «тайной за семью печатями». Разгадать эту тайну попытался Т. Буманн-Ларсен. Написанная им книга не лишена интереса, но частые несовпадения изложенного в тексте с автобиографией Р. Амундсена, своеобразная трактовка его поступков, а порой и явное недоброжелательство автора к своему знаменитому соотечественнику как-то настораживают. Впрочем, правду знают все, а истину не знает никто!
(обратно)Сам Р. Амундсен ни слова не написал об этом конфликте в своей книге «Моя жизнь», зато Т. Буманн-Ларсен трактует случившееся так. Перед началом плавания барон А. де Жералаш якобы заключил с Брюссельским географическим обществом тайное соглашение, по которому экспедиция независимо от развития событий должна была оставаться под началом кого-нибудь из бельгийских офицеров. В принципе, никакого криминала в этом не было, поскольку экспедиция и судно были бельгийскими. Однако Р. Амундсена упомянутое соглашение почему-то сильно оскорбило.
(обратно)Местоположение Северного магнитного полюса было установлено в 1831 г. в ходе экспедиции английского полярного исследователя Джона Росса его племянником Джеймсом Россом. Этот полюс располагался на полуострове Бутия (Канадский архипелаг) примерно в 1000 км от СП.
(обратно)Результаты английской экспедиции 1901–1904 гг. в виде отчетов с метеорологическими, гидрологическими, биологическими и магнитными наблюдениями, данными по физической географии и геологии Антарктиды позже были обобщены и систематизированы в 12 объемистых томах.
(обратно)Незадолго до этого в Лондон вернулась экспедиция лейтенанта флота Э. Шеклтона, которая в январе 1909 г. не дошла до ЮП всего 180 км. Э. Шеклтон стал национальным героем. Но спортивный приз – Южный полюс – оставался еще не разыгранным. Экспедиции к сердцу Антарктиды начали готовить Япония и Германия. Так, в 1911 г. японское судно «Кайнан Маару» и немецкое судно «Дойчланд» с антарктическими экспедициями на борту пытались пройти к Антарктиде. Но японцы не смогли пробиться через пояс плавучих льдов и вернулись, а немцы в 1911–1912 гг. ограничились исследованиями в море Уэдделла.
(обратно)К 1927 г. официальным покорителем СП считался американец Р. Пири, поскольку Ф. Кук, добравшийся до СП на год раньше своего соотечественника, в это время сидел в тюрьме по сфабрикованному против него делу.
(обратно)«Не будьте со мной слишком строги, – писал Р. Амундсен в своем покаянном послании Ф. Нансену. – Я не обманщик, а всего лишь человек, вынужденный обстоятельствами, а потому прошу извинить меня за содеянное. Да позволено мне будет хотя бы частично искупить свою вину будущими трудами…»
(обратно)Правда, Р. Амундсену и Л. Элсворту пришлось долго объяснять амбициозному У. Нобиле, что его обязанности заключаются только в управлении дирижаблем, а их обязанности – в руководстве экспедицией (определение цели и направления движения).
(обратно)У. Нобиле спасли шведские летчики, остальных участников – советский ледокол «Красин». На родине генералу не простили бегства со льдины (за этот опрометчивый поступок ему всю жизнь пришлось оправдываться) и обвинили в гибели аэронавтов дирижабля «Италия». Не выдержав нападок, У. Нобиле эмигрировал в СССР, где в 1932–1936 гг. возглавил конструкторское бюро, занимавшееся созданием первых советских дирижаблей. В 1936–1945 гг. он жил в США, а затем вернулся в Италию.
(обратно)Первый поход «Фрама» экспедиции Фритьофа Нансена в 1893–1896 гг. – знаменитый дрейф в Северном Ледовитом океане, который описан в книге Ф. Нансена ««Фрам» в Полярном море». Второй поход – экспедиция Отто Свердрупа в 1902–1905 гг. в воды Северной Америки. Третий рейс «Фрама» – в экспедиции Руала Амундсена к Южному полюсу. В 30-х гг. «Фрам» превращен в музей.
(обратно)Деньги были собраны для повторного дрейфа «Фрама» через Арктический бассейн.
(обратно)С острова Мадейры Амундсен послал письмо Роберту Скотту, в котором сообщал о своем намерении идти к Южному полюсу. Скотт получил это письмо в Австралии (перед отплытием в Антарктику).
(обратно)«Кайнан Мару» – судно первой японской антарктической экспедиции под руководством лейтенанта Ширазе. «Кайнан Мару» в начале марта 1911 г. пыталось пройти к Антарктиде в море Росса, но не смогло пробиться через пояс плавучих льдов и повернуло обратно. На следующий год японская экспедиция на том же судне плавала в районе барьера шельфового ледника Росса, где, как описывает Амундсен, японцы встретились с «Фрамом» в январе 1912 г., когда его партия уже вернулась из похода к Южному полюсу.
Японская экспедиция в 75 км к востоку от места зимовки норвежской экспедиции в Китовой бухте обнаружила еще один глубокий залив в шельфовом леднике Росса, назвав его бухтой Кайнан. Через 44 года, в 1956 г., американцы на берегу этой бухты создали свою антарктическую базу Литл-Америка V. Японцы высадили на берег группу, установили здесь палатку, где вели кратковременные метеорологические наблюдения. Два японских исследователя совершили поход на юг на расстоянии 185 км и благополучно вернулись обратно. Тогда же японцы на «Кайнан Мару» обследовали прибрежные горы полуострова Эдуарда VII, высаживали здесь партию, которая совершила восхождение на одну из вершин горной цепи Александры. В тот же год японский корабль со всем составом экспедиции возвратился в Японию. (Г.)
(обратно)Земля короля Эдуарда VII теперь называется полуостровом Эдуарда VII. Открыта 30 января 1902 г. экспедицией Р. Скотта с борта «Дискавери».
(обратно)Росс Джеймс Кларк (1800–1862) – английский мореплаватель, участник шести арктических экспедиций по отысканию Северо-Западного прохода (1818–1833). В 1831 г. открыл северный магнитный полюс. В 1840–1843 гг. совершил три плавания в Антарктику; открыл море и ледяной барьер, названные его именем, Землю Виктории, вулканы Эребус и Террор.
(обратно)Ледник Бирдмора открыт в 1908 г. экспедицией Э. Шеклтона (Бирдмор оказал финансовую поддержку при организации экспедиции).
(обратно)Бюндефьорд под Кристианией. Кристиания – ныне Осло, столица Норвегии. Бюндефьорд – залив к югу от Осло. На берегу этого фьорда находится дом Амундсена.
(обратно)Хортен – военно-морская база Норвегии.
(обратно)Турденшёльд– известный норвежский адмирал (XVIII в.).
(обратно)Гикори– особый сорт субтропического орешника.
(обратно)В подвалах Исторического музея было устроено хранилище для грузов «Фрама».
(обратно)7 июня отмечается отделение Норвегии от Швеции, происшедшее в 1905 г.
(обратно)Кучин Александр Степанович (1888–1913) – единственный русский участник экспедиции Амундсена, позднее спутник и сотоварищ В. А. Русанова, погибший вместе с ним на судне «Геркулес» во время плавания от берегов Шпицбергена к Таймырскому полуострову в 1912–1913 гг.
Потомственный помор, родился в селе Кушерека на берегу Онежского залива Белого моря. С юношеских лет плавал с поморами на Шпицберген и Новую Землю, хорошо знал и любил море. В 1904 г. окончил Архангельское мореходное училище, затем плавал в качестве штурмана на разных торговых судах, серьезно занимался океанографией. В связи с этим отправился в Норвегию на Бергенскую гидробиологическую станцию к известному норвежскому океанографу Хелланд-Хансену, который предложил юному мореходу стать ассистентом. Кучин активно включился в работу своего руководителя и одновременно учителя. Хелланд-Хансен познакомил Кучина с Фритьофом Нансеном, который рекомендовал Амундсену понравившегося русского в качестве руководителя океанографических работ на «Фраме». По завершении высадки экспедиции на берег Антарктиды для дальнейшего пути к полюсу Кучин продолжал вести океанографические работы и наблюдения в южной части Атлантического океана, находясь на борту «Фрама». Перед вторым отплытием «Фрама» к берегам Антарктиды за участниками зимовочной партии Кучин в Буэнос-Айресе покинул корабль и вернулся в Россию. По дороге на Родину молодой океанограф побывал на Бергенской станции, куда доставил ценные научные материалы и коллекции, собранные в процессе работы на «Фраме».
В 1912 г. в Архангельске с Александром Степановичем встретился В. А. Русанов и предложил ему стать капитаном судна «Геркулес», на котором должна была плыть на север возглавляемая им экспедиция.
В том же 1912 г. «Геркулес», ведомый Кучиным, вышел на Шпицберген и взял курс Северным морским путем на восток. Через некоторое время «Геркулес» исчез, и только в 1934 г. на одном из островов Карского моря был найден столб, на котором вырезано название корабля – «Геркулес». Так закончилась жизнь этого талантливого морехода, разносторонне образованного человека, преданного Северному морю и любившему его.
(обратно)Кук Джемс (1728–1779) – знаменитый мореплаватель, открывший ряд новых островов. Он совершил три кругосветных путешествия, в 1768–1771, 1772–1775 и 1776–1779 г. Кук нанес на карту ряд островов в южной части Тихого океана и берега Австралии. Кук доказал островной характер Новой Зеландии и Новой Гвинеи и установил пролив между двумя островами Новой Зеландии. Куком была нанесена на карту береговая линия Северной Америки на протяжении более 6500 км.
Во время третьего путешествия открыл острова, названные им Сандвичевыми (теперь – Гавайские острова, или Гаваи). При столкновении между островитянами и командой Кука последний был убит.
(обратно)Скотт Роберт Фолкон (1868–1912) – английский исследователь Антарктиды. В 1901–1904 гг. руководил экспедицией, открывшей полуостров Эдуарда VII, Трансарктические горы, шельфовый ледник Росса, исследовавшей Землю Виктории. В 1911–1912 гг. возглавлял экспедицию, достигшую 18.01.1912 г. Южного полюса (на 33 дня позже Р. Амундсена). Погиб на обратном пути.
(обратно)Шеклтон ЭрнестГенри (1874–1922) – английский исследователь Антарктики. В 1901–1903 гг. участник экспедиции Р. Скотта, в 1907–1909 гг. руководил экспедицией к Южному полюсу (достиг 88°32 ю. ш., открыл горную цепь на Земле Виктории, Полярное плато и ледник Бирдмора). В 1914–1917 гг. возглавлял экспедицию к берегам Антарктиды.
(обратно)Улав Бьоланд – известный норвежский лыжник, участник и победитель многих соревнований.
(обратно)Тюлень-крабоед и тюлень Уэдделла– самые многочисленные виды тюленей в Антарктике. Тюлень Уэдделла почти черного цвета с бурыми пятнами, тюлень-крабоед – серовато-коричневого цвета со светлыми пятнами. Питаются моллюсками, рыбой и мелкими рачками.
(обратно)Одометр– колесо со счетчиком оборотов, служит в санных походах для измерения пройденного пути. Длина обода колеса 1 метр.
(обратно)Моусон Дуглас (1882–1958) – австралийский исследователь Антарктики. Участник трех антарктических экспедиций: 1907–1909 гг. (руководитель – Э. Г. Шеклтон), 1911–1914 и 1929–1931 гг. (возглавлял сам Моусон). Его именем назван ряд географических объектов в Антарктике.
(обратно)Современные наблюдения показали, что шельфовый ледник Росса находится на плаву и Ледяной барьер обламывается, в том числе и в районе Китовой бухты, но существенные обламывания больших масс льда от шельфового ледника происходят раз а несколько лет. (Г.)
(обратно)«Йоа» – судно, на котором в 1903–1906 гг. Амундсен впервые прошел от Гренландии к Аляске.
(обратно)Холменколлен – лыжный трамплин недалеко от Осло. На этом трамплине часто происходят международные соревнования.
(обратно)Лансмол– национальный литературный язык Норвегии, создаваемый на основе народных диалектов.
(обратно)Перевод А. М. Дьяконова.
(обратно)Земля Грейама– полуостров Антарктиды, вытянутый на 1200 км к северу в направлении Южной Америки; до 1961 г. на советских и английских картах назывался Земля Грейама, на американских – полуостров Палмера, на чилийских – Земля О'Хиггинса, на аргентинских – Земля Сан-Мартина.
(обратно)Нордтшельд Отто (1869–1928) – шведский геолог и путешественник. В 1901–1903 гг. возглавил шведскую антарктическую экспедицию на судне «Антарктик», которая обследовала северо-восточную часть Земли Грейама, собрала обширный материал по геологии и географии Антарктиды.
(обратно)Спиртовой раствор, в котором плавает магнитная стрелка.
(обратно)Амундсен оказался прав. Исследованиями последних лет установлено, что горный хребет пересекает весь континент от западных берегов моря Росса до восточных берегов моря Уэдделла. Теперь он называется Трансантарктическим хребтом. На значительном протяжении этот хребет перекрыт ледником и над поверхностью льда возвышаются лишь единичные горные вершины и отдельные горные гряды. (Г.)
(обратно)Земля Кармен – Амундсен принял мираж (частое явление на Северном и Южном полюсе) за горные вершины. В 1929 г. Ричард Бэрд (американский полярный исследователь, летчик) провел аэрофотосъемку данного района Антарктики и Землю Кармен не обнаружил.
(обратно)Так как при переходе «Фрама» через 180-й меридиан на пути в Китовую бухту не была изменена дата, все числа в этой главе нужно отнести на один день назад.
(обратно)Перевод стихов Л. Г. Горлиной.
(обратно)Впоследствии было установлено, что других островов в этом районе нет. (Г.)
(обратно)Регулярная радиосвязь между Антарктидой и Австралией была налажена во время экспедиции Моусона в 1913 г.
(обратно)