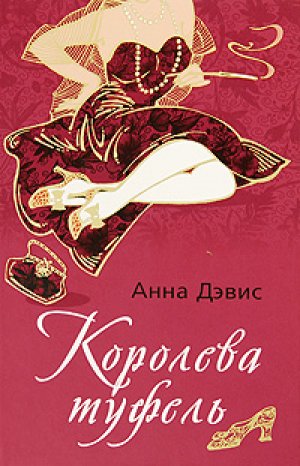
Глава 1 КВАРТАЛ
Вечернее платье было шедевром, созданным из обрывков бумаги.
Платье Женевьевы Шелби Кинг оттенка оперения зимородка состояло из искусно подогнанных страниц старых литературных журналов. Ее шелковые голубые бальные туфли украшали отрывки поэм и завитки из сонетов. Она просто источала аромат поэзии.
Бросив меховое манто лакею, стоящему у дверей, Женевьева вошла в мраморный холл под руку со своей лучшей подругой Лулу. Особняк графа Этьена де Фремона предстал в полном великолепии, словно подражал гостям. Где-то высоко над головами покачивались на невидимых проволоках велосипедные колеса, пустые бутылки и старые ботинки.
— Это в стиле Дада, — заметила Лулу.
— Дадаизм уже давно вышел из моды, — откликнулась Женевьева. — И почему никто не намекнет об этом Вайолет де Фремон?
Они направились сквозь толпу гостей, оставив мужа Женевьевы, Роберта, в холле, искать в карманах чаевые для гардеробщика и тихо ругаться себе под нос. Так обычно и бывало — девушки шептались и хихикали, плели интриги, делились секретами, а Роберт оставался не у дел.
В танцевальном зале они застыли перед огромным коллажем из театральных программок, потягивая шампанское и с интересом оглядываясь по сторонам. В этот вечер изысканные канделябры заменили их невероятные копии, сделанные из миллионов сверкающих осколков цветного стекла. Женевьева бойко оглядывала комнату в поисках многочисленных соперниц — дочерей, жен, любовниц и подруг парижской богемы, американских судовладельцев, итальянских владельцев заводов по производству гоночных автомобилей и английской аристократии. Тема мусора и отходов оказалась актуальной для многих присутствующих. Принцесса Мартиньяк вместо фамильных брильянтов нацепила на себя множество разнообразнейших пуговиц всех цветов и размеров и, похоже, не испытывала особенного восторга по этому поводу. Знаменитая своей изысканностью Хэрриет Дюпон в сияющем платье цвета бутылочного стекла сама напоминала бутылку.
И хотя Женевьева понимала, что ее платье не затмило своим великолепием наряды присутствующих дам, чувствовала, что искренняя, открытая и смелая уверенность может дать ей шанс превзойти это собрание. «Они ощущают себя такими маленькими и беззащитными, — думала она. — Стоит лишить их пышного убранства, и не останется ничего привлекательного!»
— Все собрались, — заметила Лулу, кивнув в сторону Эрнеста Хемингуэя, облаченного в костюм из коричневой бумаги. Тристан Тцара и Франсис Пикабиа использовали для своих нарядов билетики для поездок на метро; Поль Пуаре напоминал причудливый клубок переплетенной разноцветной ткани, вероятно, он хотел изобразить мягкий ворсистый коврик? Или меховой мяч? Конечно, никто не посмел не прийти, иначе Вайолет просто прекратила бы финансирование их маленьких выставок, журналов и шоу.
Женевьева нахмурилась:
— Где Вайолет, я что-то не вижу ее.
Оркестр грянул чарльстон; пары закружились в танце по залу, делая птичьи шажки и размахивая руками.
— Давай, Виви, найдем каких-нибудь симпатичных юношей и потанцуем.
Платье Лулу покрывал густой слой сияющих конфетных оберток. Серьги и ожерелье были сделаны из нанизанных на нитку конфет, которые вспыхнули в сиянии канделябров из осколков стекла, когда она, не оглядываясь, устремилась в толпу. Да, в этой комнате находилась только одна женщина, способная соперничать с Женевьевой…
— А, вот ты где. — На Роберте красовался серебряный костюм, который предположительно должен был изображать мусорный бак. Он отказался надеть свою «крышку», и потому костюм казался незавершенным. — Замечательная вечеринка, правда? Скажи, это не Гарри Мортимер? В костюме из газет? Немного похож на рыбу с жареной картошкой в газетном кульке.
Но Женевьева не смотрела на человека в костюме из газет, она наблюдала за Лулу, которая танцевала сразу с двумя мужчинами. Невысокий оказался художником Жозефом Лазарусом, давним поклонником Лулу. Другого, повыше, в светлом костюме, она раньше не встречала. Такого мужчину она бы не пропустила. У него было широкое, привлекательное лицо классического греческого типа.
— Думаешь, это Гарри? — Роберт по-прежнему пристально вглядывался в дальний угол зала.
Женевьева схватила его за руку, потянула за собой.
— Пойдем потанцуем.
— О, дорогая, ты ведь знаешь, что я не люблю танцевать. — Роберт ласково отодвинул ее руку. — Послушай, я хочу пойти поздороваться с Гарри. Почему бы тебе не потанцевать со своими друзьями? Я буду здесь.
— Ну, если ты так хочешь. — Женевьева раздраженно сжала губы. — Есть мужчины, которые готовы умереть за один танец со мной.
— Шери! — Лулу танцевала шимми с высоким мужчиной в светлом костюме.
Женевьева позволила Жозефу Лазарусу взять себя за руки и крепко прижать к себе. Но даже во время танца с Лазарусом она не отводила глаз от Лулу и высокого незнакомца.
— Разве она не чудо? — Лазарус нацепил костюм официанта, и Женевьева не могла сказать определенно, действительно он выбрал такой маскарадный костюм или все дело было в его ужасном вкусе.
— Посмотрите, как она двигается. Она похожа на царицу и должна быть изображена на той фреске. — Он указал на потолок. Женевьева взглянула на людей с головами шакалов среди пирамид и пальмовых листьев. Люди с огромными глазами стояли боком. Глаза Лулу тоже казались огромными, подведенные толстым слоем черной туши, и это определенно вызывало ассоциации с Древним Египтом.
— Леди и джентльмены, — руководитель группы музыкантов взмахнул рукой, и трубы стихли, — я уверен, что вы уже заметили: среди нас находится эффектная звезда кабаре, самая популярная модель художников и фотографов Парижа — Лулу с Монпарнаса! Эй, Лулу, идите к нам, спойте нам песню!
Не успел он договорить, Лулу оказалась на сцене, что-то быстро сказала пианисту, который кивнул ей в ответ. Обернувшись к залу, провозгласила:
— Это песня о Париже. Об особом времени, в самом замечательном и веселом городе. А 1925 год будет самым веселым. Песня называется «Счастливчики».
Ее голос, когда она начала петь, напоминал тонкий шелк, наброшенный на осколки разбитого стекла, он прикрывал, но не скрывал полностью шероховатости от посторонних глаз. Слова сливались, их невозможно было разобрать, но сейчас это не имело значения, важен был только голос. Боль пронизывала его, несмотря на веселое название песенки. Только боль разбитого сердца, отражавшаяся в больших глазах, имела значение, она противоречила улыбке, играющей на красных губах, и легкомысленной мушке.
Женевьева протянула бокал для новой порции шампанского, оглянулась в поисках Роберта, но вдруг прямо над ухом раздался глубокий голос с американским акцентом:
— Как вы полагаете, что бы это могло быть? Яйцо или голова?
Это оказался мужчина в светлом костюме. Он указывал на бронзовую статуэтку Бранкузи, возвышающуюся на постаменте.
— Это яйцо, которое похоже на голову, которая выглядит как яйцо, которое похоже на голову, — заявила Женевьева. Он и в самом деле был очень красив, этот мужчина: такие широкие плечи… замечательный тип!
— Вы заявляете об этом с таким авторитетом. Возможно, все дело в английском произношении?
— Я слышала об этом от Вайолет. Но я пересказала вам краткую версию, в ее исполнении объяснение затянулось бы на добрых двадцать минут.
Имя хозяйки ему было явно незнакомо.
— Вайолет? Графиня де Фремон?
— Это наша изумительная хозяйка, мистер…
— Монтерей. Гай Монтерей. Нет, меня не приглашали, по крайней мере лично. Я гость одного из гостей.
— Понимаю. — Она хотела узнать, с кем он пришел, но промолчала и снова оглянулась в поисках Роберта.
— Я впервые в Париже, — улыбнулся мужчина, — попал прямо с корабля на бал. Я абсолютно неопытный человек.
Она отпила глоток вина и искоса взглянула на него.
— Меня зовут Женевьева Шелби Кинг. — Она еще раз произнесла его имя, и оно показалось ей знакомым. — Вы поэт?
Благороднейшая улыбка.
— Не желаете потанцевать, мисс Шелби Кинг?
— Миссис.
— О, — в его глазах заискрилась улыбка, — прошу простить меня. А где же ваш муж? Он здесь?
Она неопределенно махнула рукой:
— Где-то здесь, он не танцует. — Как жаль.
— Да, — ответила Женевьева, — это так.
Роберт попыхивал сигарой, потягивал виски и наблюдал, как его жена танцует с невероятно высоким, широкоплечим мужчиной в светлом костюме.
— Парень похож на небоскреб.
— Точное сравнение, — его случайный собеседник казался таким незаметным, что Роберт не обратил на него внимания, — не возражаете, если я его запомню?
Роберт слегка захмелел и не заметил, что заговорил сам с собою.
— Запомните? — Он озадаченно нахмурился. — Это всего лишь слова. Они не имеют ко мне никакого отношения, так же как и к вам.
— Это опасная точка зрения. — Вкрадчивый голос. Худое лицо с блестящими глазами и лихорадочным румянцем. — Если большинство людей станут думать именно так, что будет со всеми нами?
— С нами? — Роберт наблюдал, как человек-небоскреб приподнял его жену с пола, а затем снова отпустил и закружил в танце. Похоже, это не составило ему никакого труда.
— С нами, бесчестными бумагомарателями, которые обращают слова в предметы потребления. Не говоря уже о литературе. Вы ведь не помните меня, правда, Роберт?
Жар в его голове нарастал.
— Вы приятель моей жены, ведь так? — Здесь он всегда попадал в точку, все вокруг были приятелями Женевьевы. Именно так обстояли дела с тех пор, как два года назад они поселились в Париже, с тех пор как она познакомилась с этой Лулу. Он изо всех сил старался принять эту ситуацию. Если вы женаты на женщине столь прекрасной, умной, общительной и прогрессивно мыслящей, как Женевьева, не стоит и мечтать о том, чтобы запереть ее дома. С тем же успехом можно требовать от птицы, чтобы она разучилась летать. Но все же иногда он жалел, что это не в его власти.
— Норман Беттерсон. Друг Женевьевы и человек, с благодарностью принимающий ваши щедрые пожертвования, сэр. — Сейчас улыбка собеседника казалась безумной. — На журнал, — добавил он в качестве объяснения.
Журнал… Роберт тщетно пытался вспомнить.
— Сейчас работа сдвинулась с места. Я уже получил рассказы от Хемингуэя и Скотта, стихи Гертруды Стайн. Надеюсь, через пару месяцев у меня накопится достаточно материала, чтобы выйти в печать. — Внезапно человечек остановился и разразился приступом кашля, который согнул его буквально пополам.
— С вами все в порядке? — забеспокоился Роберт.
— О, не беспокойтесь обо мне, — тот прижал к губам большой белый платок, — врачи отмерили мне еще целых пять лет жизни. У вас предостаточно времени, чтобы сделать хорошие вложения в журнал.
— Да, конечно, вы правы. — У Роберта резко пересохло во рту, он с размаху поставил пустой бокал на маленький столик. Он должен поговорить с Женевьевой. Жена слишком чувствительна к влиянию людей, подобных этому типу, с яркими идеями и поэтическим стремлением заполучить немного легких денег. Он молил Бога, чтобы речь шла о небольшом количестве денег… В этом не ее вина. Беда в том, что у Женевьевы были свои собственные мечты. Она мечтала стать поэтессой. Эти литературные амбиции позволяли другим использовать ее в своих целях. Ее невероятная ранимость делала уязвимым его. Что бы сказал на это его отец, если бы был жив?
Он снова попытался найти ее среди танцующих, но ему это не удалось.
— Ваша жена, — глаза собеседника сияли яростным блеском, — самая красивая женщина в Париже. В ней чувствуется дух британской аристократии, вы согласны? Как у породистой лошади. Настоящая порода. Вам крупно повезло. О, не смотрите на меня так, Роберт! Я же не говорю, что она похожа на лошадь! Я и в мыслях этого не держал. Я…
Она растворилась в толпе. А вместе с ней исчез мужчина-небоскреб.
— Простите меня. — Роберт расправил пиджак и откашлялся. — Я должен найти…
Мужчина, Беттерсон или как его там, тут же скрылся из глаз.
Роберт страстно желал, чтобы никто, кроме него, не мог наслаждаться красотой Женевьевы, красотой в ее полном, властном блеске. Ему нравилось думать, что он единственный человек, который по-настоящему знал ее. Он был на девяносто процентов уверен в том, что это так. Или даже на девяносто пять. Но все-таки где-то в глубине души таилась крупица сомнения, и он не мог понять, с чем это связано.
В тот момент, когда Роберт отставил бокал и отправился на поиски Женевьевы, она вместе с Лулу стояла около скульптуры Бранкузи. Официант на ходулях, пошатываясь, прошел мимо с подносом канапе зеленого цвета, и девушки недовольно вскинули брови. Даже если бы им захотелось попробовать бутерброд, они не смогли бы дотянуться до подноса.
— Да, ничего более нелепого мне видеть не приходилось, — заметила Женевьева. — Должно быть, это идея Вайолет.
— Она необычайно глупая женщина, — откликнулась Лулу.
— Но она не настолько глупа, чтобы отказаться от идеи закатить лучшую вечеринку года. Я едва ли смогу соперничать с ней.
Лулу отрешенно махнула рукой.
— О, милая моя. Не стоит даже думать о Вайолет де Фремон. Она ничего собой не представляет. Вайолет пытается купить свой успех, но ей никогда не проникнуть в сердце настоящего Парижа.
— А как насчет меня? Я стала частью настоящего Парижа?
— Держись своей подруги Лулу — и не прогадаешь. Веселись на полную катушку все ночи напролет там, где люди вроде Вайолет де Фремон чувствуют себя чужаками. Богатые здесь не более чем простые потребители. Сердце настоящего Парижа — в искусстве, которое таится в твоей душе, в твоих мыслях. — Она подмигнула Женевьеве. — Ну а теперь расскажи мне о Гае Монтерее.
— Похоже, тебе о нем известно больше, чем мне.
— Давай, Виви. Ты ведь понимаешь, о чем я.
— Неужели?
— Я видела, как вы смотрели друг на друга.
— Мы всего лишь разглядывали друг друга, не более того.
— Ну, если ты так считаешь. — На ее лице по-прежнему искрилось озорное и двусмысленное выражение.
— Прекрати!
— Прекратить что? — Теперь лукавая улыбка уступила место сочувственной мине. — О, Виви, твое настойчивое стремление сохранить неприкосновенность брака кажется мне очень милым, но абсолютно…
— Абсолютно что?
— Нереальным. — Подруга слегка вздохнула. Женевьева сжала губы и снова пристально оглядела зал.
— Куда же сегодня запропастился Кэмби?
Лулу была влюблена в известного фотографа Фредерика Кэмби. Их связь длилась многие годы.
— Откуда мне знать? Этот парень полный идиот. — Ни одной заметной яркой эмоции не промелькнуло под маской безупречного макияжа Лулу.
— Там Норман Беттерсон. — Женевьева коснулась руки Лулу. — Я должна поговорить с ним, недавно дала ему почитать некоторые свои стихи… — Женевьева не договорила, она вдруг заметила нечто необыкновенное, нечто, что просто невозможно было пропустить. Пару туфель…
В квартире Шелби Кинг на рю де Лота, расположенной в фешенебельном Шестнадцатом районе, целая комната была отведена под коллекцию туфель Женевьевы. Комнату до самого потолка загромождали полки, на которых стояли деревянные коробки, выложенные изнутри бархатом и шелком. В каждой коробке находилась пара туфель, количество коробок увеличивалось неделю за неделей, месяц за месяцем. Сотни коробок. Туфли для Женевьевы на заказ изготовляли самые известные дизайнеры. Туфли со стеклянными каблуками. Туфли, отделанные драгоценными камнями. Туфли настолько совершенные, что Женевьева с трудом могла поверить, что они существуют на самом деле, поэтому она каждый раз доставала их из коробки, чтобы ощутить хрупкое изящество, а затем снова убирала, боясь испачкать или повредить свое сокровище.
Большую часть туфель из этой замечательной коллекции она не надевала ни разу.
Женевьева зачарованно разглядывала туфельки оттенка слоновой кости с серебристым отливом, сплетенные, казалось, из кружева. Причудливое переплетение многослойного кружева, тончайший и хрупкий узор. Форма балетки и каблучок в стиле Людовика, не слишком толстый, не очень высокий и в то же время не низкий. Изящный носок. Было что-то необычное в этих туфлях… Они поражали благородной утонченностью, с первого взгляда приковывали внимание. Женевьева влюбилась в туфли с первого взгляда. Она безумно жалела, что на ее ножках сейчас красовались не они, а сделанные специально по случаю маскарада поэтические туфли-лодочки. В начале вечера она гордилась ими, но теперь собственные туфли казались чересчур наивными и ребячливыми. Они оказались всего лишь аксессуаром к ее маскарадному костюму, и это было неправильно. Туфли всегда должны быть чем-то большим, чем дополнение к наряду.
Женевьева страстно желала, чтобы эти кружевные туфли красовались на ее ножках, а вместо этого…
…Вместо этого они украшали ноги хозяйки дома, Вайолет де Фремон.
На графине было черное платье, покрытое слоем бумажных салфеточек, и шляпка из салфеток. Вайолет, без сомнения, можно было назвать привлекательной, но все-таки черты ее лица казались чересчур расплывчатыми для того, чтобы сделать ее лицо по-настоящему красивым. Курносый носик делал лицо Вайолет простым. И все же была в ней какая-то изюминка. Многие рисовали ее портреты и лепили скульптуры не только из-за ее денег. Ее лодыжки были безупречны, а ступни казались совсем крохотными. Эти туфли выглядели на ней божественно.
— Женевьева, я так рада, что вы пришли. — Вайолет с бокалом шампанского в руке шла ей навстречу. — И, Лулу, дорогая моя, вы великолепно пели. Как жаль, что у меня нет такого голоса.
— Потрясающий вечер, — ответила Женевьева. — Позвольте добавить, что у вас восхитительные туфли.
Вайолет едва не замурлыкала от удовольствия.
— Правда? — Три женщины уставились вниз, и хозяйка вечера принялась то так, то этак поворачивать ногу, чтобы заслужить еще большее восхищение. — Знаете, вчера я не утерпела и поднялась ни свет ни заря только для того, чтобы надеть их и полюбоваться ими в лунном свете. Этьен проснулся и обнаружил, что я раздвинула шторы и танцую в нижнем белье, разглядывая собственные ноги. Можете себе представить? Он подумал, что я сошла с ума.
— А я и не предполагала, что вы такая ценительница туфель, Вайолет, — заметила Женевьева.
— Неужели? Вы обязательно как-нибудь должны зайти посмотреть мою коллекцию. Ох-ох! — Она схватила Женевьеву за руку. — Посмотрите, сюда идет создатель моих туфель! Женевьева, Лулу, познакомьтесь, это Паоло Закари.
К ним не спеша подошел вальяжный и неторопливый, словно бархатный, мужчина тридцати пяти лет. Ласковый взгляд карих глаз. Черные, спутанные волосы, чересчур длинные, — так и хочется погладить, распрямить их. Его необычный костюм был слишком мрачным — почти черным, но легкое свечение придавало ткани оттенок голубого. Никакого костюма из бумажек и прочего мусора. Его лицо было серьезным, но в уголках рта затаилась неуловимая, смутная улыбка. Лицо показалось ей знакомым.
Когда он наклонился, чтобы поцеловать руку Женевьевы, она почти ощутила, как кончик его языка нежно коснулся пальцев. Почти.
— Мы раньше встречались? — спросила она, когда Паоло выпрямился.
— Несомненно, встречались.
Она нахмурилась. Он целовал руку Лулу, восхищался ее пением. Слишком худощавый, чтобы соответствовать общепринятым стандартам мужской красоты, новый знакомый все-таки казался невероятно привлекательным. Он принадлежал к числу тех мужчин, которые добавляют себе шарма умением одеваться и флиртовать. Да, он в совершенстве овладел наукой флирта. Даже во время разговора с Лулу Паоло несколько раз посмотрел в ее сторону и улыбнулся одной из своих неуловимых улыбок, бесстыдно разглядывая ее с ног до головы.
— Странно, — произнесла она спустя секунду, — я понимаю, что мы встречались, но не могу вспомнить, по какому поводу.
— Неужели? — Он обернулся к Вайолет и зашептал ей что-то на ухо, это заставило ее громко расхохотаться.
Женевьева почувствовала, что краснеет. Но почему она так смущается?
Теперь он наклонился к ней, чтобы рассказать о том, что рассмешило Вайолет, его губы были совсем близко.
— Неужели меня так легко забыть? — Губы почти касались ее уха.
— Конечно нет! — Слова прозвучали чересчур громко, но графиня, похоже, ничего не слышала, увлеклась разговором с Лулу. Понизив голос, Женевьева заговорила. Она сказала то, чего не хотела говорить. — Я много слышала о вас, — начала она.
— И что же вы слышали?
— Что вы выбираете клиенток, как спелые фрукты, только потому, что вам понравились их ножки. Что вы создали туфли только для двадцати женщин. И что женщина, носившая туфли от Закари, не станет больше обращаться ни к одному другому дизайнеру.
— Это действительно так? — Он вскинул бровь.
— Вы у всех на слуху, мистер Закари. Кто-то утверждает, что вы родом из Италии, из Калабрии. Возможно, из Неаполя. Другие говорят, вы из Ост-Индии, возможно уроженец Ост-Индии из Калабрии. Или неаполитанец из Ост-Индии. Я слышала о вас столько разных историй.
— Милая моя, это все слухи. — Закари печально покачал головой. — Я тоже мало знаю о вас, миссис Шелби Кинг.
— И что же вы знаете?
Он снова наклонился к ее уху, и она почувствовала, как его горячее дыхание обожгло ее шею.
— Тот человек, Закари… — Женевьева прислонилась к мраморной колонне, чувствуя, как комната медленно поплыла у нее перед глазами.
Лулу положила в рот канапе.
— И что ты хочешь узнать о нем?
— Что ты о нем думаешь?
— Темная лошадка. Не исключено, что несколько сгущает краски, чтобы казаться таинственным. Думаю, ему нравится тщательно подбирать клиенток. Очевидно, он наслаждается своей мнимой исключительностью. Я с подозрением отношусь к подобному типу людей.
— Не могу поверить, что он делает туфли для Вайолет де Фремон, — воскликнула Женевьева, — а не для меня.
Закари танцевал с графиней де Фремон. Он крепко прижимал ее к себе, обнимая за спину.
— Я слышала, они спят вместе, — заметила Лулу.
Женевьева застонала.
— И как только у человека, который создает такие прелестные туфли, может быть такой ужасный вкус в выборе женщин?
— Милая моя, ты ревнуешь?
— Я должна заполучить пару его туфель. Просто должна.
Лулу пожала плечами:
— Ну так иди и скажи ему об этом. Иногда девушка должна забыть о гордости и заговорить первой. Хотя это так скучно и утомительно.
Но Женевьева покачала головой:
— Он не выбрал меня и теперь уже никогда не выберет. Лулу, когда мы пришли сюда сегодня вечером, я приняла его за лакея, сунула ему свою шубу и попросила Роберта дать ему на чай.
— Ты должен увезти меня отсюда, — сказала Женевьева, когда Роберт опустился перед ней на колено в гостиной ее семейного особняка в Саффолке. Она прерывисто дышала, грудь вздымалась, синие глаза потемнели. — Ты должен увезти меня отсюда и никогда больше сюда не привозить.
Ему доставляли удовольствие ее воодушевление, страстность, казавшиеся признаком глубокого чувства. Но ее непонятное отчаяние пугало и тревожило его. И что такого ужасного в том, что они живут в богатом английском особняке? Определенно дом несколько сыроват, по нему бродят сквозняки, но, несмотря на это, особняк все-таки производил внушительное впечатление. Ее отец, виконт Тикстед, в первый момент показавшийся ворчливым старикашкой, был очень любезен и дружелюбен. Виконт невероятно обрадовался их помолвке, откупорил виски, хлопал Роберта по спине, называл его «мой мальчик» и так широко улыбался, что Роберт почти мог разглядеть кровеносные сосуды под его натянувшейся кожей. Леди Тикстед плакала и целовала его в щеку тонкими дрожащими губами. Чего такого ужасного могло быть в этих людях? Они были очень благожелательно настроены. Если бы только папа дожил до этого дня и увидел, как его паренек из Бостона женится на английской аристократке!
Но вот теперь Женевьева сжимает его руки с поразительной силой.
— Я умру, если нам еще хоть месяц придется провести здесь, Роберт. Я хочу жить в Париже, писать стихи и вращаться в кругу писателей, художников, модельеров. Мы вместе сможем войти в круг богемы.
Роберт и сам поддался притягательному очарованию Парижа. С одной стороны, жизнь там была довольно дешевой. После войны франк практически обесценился по отношению к доллару, поэтому в городе проживало множество американцев. Там они могли чувствовать себя как дома. К тому же он обожал старушку Европу. Он приехал на материк в 1918 году, когда водил санитарный транспорт на итальянском фронте во время австрийского наступления на Пьяве. Тогда он впервые влюбился в английскую медсестру по имени Агнес с лицом ангела, окруженную ореолом легкой и прекрасной печали. Причиной ее печали стал жених, пропавший без вести во время наступления. Роберт решил во что бы то ни стало подбодрить девушку и убедить ее в том, что жизнь без Эдварда существует. В конечном счете щеки Агнес снова заалели, ее смех стал более откровенным и радостным. После окончания войны Роберт собирался сделать ей предложение. Но как раз перед тем, как он решил заговорить об этом, она получила неожиданное письмо. Эдвард оказался жив, он больше года провел в немецком лагере для военнопленных, но сейчас вышел на свободу. И теперь он хотел возобновить отношения.
Агнес не могла вымолвить ни слова. Когда Роберт спросил ее, как она намерена поступить, та просто опустила голову, слезы безвольно катились по ее щекам. Потом Роберт спрашивал себя, ждала ли Агнес, что он что-то предпримет. Заявит, что полюбил ее навеки, и убедит в том, что по-прежнему существует жизнь без Эдварда? Но он этого не сделал. Его чувство достоинства и долга не позволило ему так поступить. Тогда он видел Агнес в последний раз.
Самое разумное, что он мог предпринять, — вернуться в Бостон. Но что-то удерживало его в Европе, и он путешествовал, осматривал достопримечательности, переезжал из страны в страну, хранил в сердце легкую печаль. Внутреннее чутье подсказывало ему, что, если ему суждено когда-нибудь снова встретить любовь, это произойдет здесь, среди военных руин, в одном из непонятных древних государств. Во время своих путешествий Роберт много читал и размышлял, и в конце концов его начала преследовать мучительная мысль, что он проявил невнимательность и повел себя бесчестно в отношениях с Агнес. Перед этой девушкой у него были определенные обязательства, перед ней, а не перед каким-то незнакомым Эдвардом. Он бросил ее самым бесчестным образом как раз тогда, когда она больше всего в нем нуждалась. Но он больше не совершит подобной ошибки, в этом можно не сомневаться. В следующий раз, когда он снова кого-то полюбит, он не станет трусливо медлить и сомневаться. Он ухватится за это мгновение и спасет свое счастье. Приняв решение, он в прекрасном расположении духа отплыл в Англию, где был представлен виконту Тикстеду и как-то вечером приглашен на ужин в его дом, расположенный на серых болотистых равнинах Саффолка. Там он увидел ее.
Оглядываясь назад, Роберт думал, что даже в первый вечер их встречи, наблюдая за мило улыбающейся двадцатилетней девушкой, со сдержанной аккуратностью поедающей жареного фазана, он сумел рассмотреть истинную сущность Женевьевы под притворно застенчивой, скромной внешностью. Три месяца подряд приходил он в дом родителей Женевьевы, его чувства разгорались как пожар. Как разительно отличалась эта девушка от ранимой и слезливой Агнес! Эта прекрасная девушка, достопочтенная Женевьева Сэмюэл, со всем своим огнем и страстью, была создана для него. Он станет беречь ее, он бросит к ее ногам все, чего она пожелает, лишь бы только Женевьева согласилась принадлежать ему.
— Я должна быть свободна, — сказала она в тот памятный день в гостиной и так крепко сжала его руки, что ему показалось: она вот-вот сломает их. — Здесь я никогда не буду свободной.
Затем она поведала ему свою историю. Горячечную, бессвязную историю о лошади, которая у нее была в детстве.
— Я проводила в седле час за часом, проезжала милю за милей, — говорила она. — Никогда в жизни я не ощущала себя такой свободной.
Но однажды прозвучал выстрел. Возможно, стрелял браконьер. Лошадь испугалась и сбросила Женевьеву. Девушка отделалась легкими ушибами, но свою лошадь больше никогда не видела.
— Ты должен увезти меня отсюда! (Сейчас ему казалось, что тогда она бредила!) Как ты думаешь, сколько понадобится времени, чтобы все уладить? — Наконец, Женевьева отпустила его руки, ее влажные глаза подернулись мечтательной пеленой. — Когда мы поженимся, я надену свои кремовые шелковые туфли с горным хрусталем от Альфреда Виктора Ардженса. Париж не простой город, Роберт. Ты скоро сам это поймешь.
Роберт краем глаза следил за Женевьевой, когда они возвращались домой с вечеринки в доме Вайолет де Фремон в своем «бентли». Сегодня вечером в ней явственно ощущалось какое-то неуловимое беспокойство. Она бесконечно проводила правой рукой по своим блестящим, коротко подстриженным волосам. Когда они познакомились в Саффолке, у нее были роскошные длинные волосы, выглядевшие немного по-детски. Сейчас у жены короткая элегантная стрижка, модно завитая в салоне Лины Кавальери на рю де ла Пэ. Эта прическа выгодно подчеркивает ее изящную шею.
Левую руку Женевьева прижала к длинной шее и теребила ожерелье (большие стеклянные бусы, завернутые в обрывки поэтических журналов). Так поступала и ее мать, именно у нее он наблюдал этот странный жест, то же неосознанное сжимание горла. Но Женевьеве вряд ли понравится, если он скажет ей об этом.
— Ты обратил внимание на туфли Вайолет де Фремон? — не оборачиваясь, неожиданно спросила она. Они проехали мимо Отель-де-Вилль и направились дальше по рю де Риволи. Шел дождь. Огни фонарей казались расплывчатыми и словно танцевали в черных лужах.
— Не могу похвастаться.
Она печально вздохнула, он почувствовал ее досаду и разочарование. Роберт никогда не обращал внимания на туфли до тех пор, пока не встретил Женевьеву. Ему нравилось разглядывать элегантные платья и украшения, и его внимание всегда привлекали стройная фигура и хорошенькое личико женщины. Ведь он, в конце концов, мужчина. В середине 1920-х дозволялось носить юбки до колена, что притягивало взгляды мужчин к лодыжкам, пленяло их тонкостью и изяществом. Но Женевьева научила его обращать внимание на туфли. Прекрасно скроенные, яркие, вычурные туфли, изготовленные из дорогих материалов, наделяли обладательницу удивительной чувственной властью. Высокие каблуки были соблазнительны и дерзки, вызов таился в том, как они подчеркивали высоту подъема, тугой изгиб икры. Женевьева гордилась тем, что едва ли не одной из первых поняла: туфли составляют основу всей композиции наряда. И именно поэтому она так сильно отличалась от остальных женщин.
— Они в каком-то смысле показались тебе особенными? — наконец выдавил он из себя.
— Они были особенными во всех смыслах. — Женевьева так сильно потянула ожерелье, что нитка порвалась и бусины рассыпались. — Не надо! — закричала она, когда муж нагнулся, чтобы подобрать бусы.
Но он все равно продолжил искать раскатившиеся бусины.
— Роберт, как ты думаешь, что важнее, красота или талант?
— Ну… — Он запихнул несколько бусин в карман пальто и склонился в поисках остальных.
— Красоты достаточно для того, чтобы заставить мужчину жениться на тебе, но красота не приносит уважения, ведь так? Она не заставляет людей принимать тебя всерьез. Только это не касается людей, которых на самом деле стоит принимать в расчет.
— Каких людей? — Одна бусина забилась сбоку под сиденье. Его пальцы едва не застряли в узкой щели, когда он попытался выудить ее оттуда.
— О, ради бога, прекрати это!
— Достал. — Бусина лежала у него на ладони. Она была завернута в бумагу, как и остальные.
— Если ты талантлива, но некрасива, ты можешь быть кем пожелаешь. Ты можешь жить, как живут мужчины, если тебе того хочется. Вспомни Гертруду Стайн.
— А я должен? — Он и понятия не имел, о чем она говорит. Вероятно, она выпила слишком много шампанского. — Это та поэтесса, которая похожа на бульдога, да?
Теперь она рассмеялась и, придвинувшись ближе, нежно поцеловала его в губы.
— Да, милый. Ты такой чувствительный и умный, мой сильный и надежный муж. — Она прильнула к нему, положила голову на плечо. — Что бы я без тебя делала?
— Ну, тебе необходимо найти кого-то, кто помог бы тебе быть законодательницей моды на туфли, это уж несомненно.
— У Лулу все это есть, — пробормотала она ему в плечо. — Красота, талант, известность, опыт… Она не намного старше меня, но я чувствую себя ребенком в сравнении с ней. Она столько всего знает.
На бусине, зажатой в его ладони, было написано одно-единственное слово — «нежность».
Обстановка в квартире на рю де Лота была спроектирована Эйлин Грей. Идеи принадлежали Женевьеве, но и Лулу сыграла не последнюю роль. На реконструкцию ушло более года, весь этот год они на широкую ногу жили в отеле «Ритц», умудрившись потратить целое состояние. И вот, наконец, перед ними лаковая симфония. В гостиной черные стены блестели, расчерченные серебряными геометрическими фигурами, в кабинете поражал и затянутый пергаментом потолок, и изящный книжный шкаф, знаменитая, выполненная в форме каноэ кушетка «Пирога» черепаховой расцветки. Здесь же находились модные кожаные кресла «Бибендум», абажуры цвета страусиного яйца. Квартиру много раз фотографировали для глянцевых журналов и газет вместе со счастливой парой, позирующей на переднем плане.
И все-таки Роберт чувствовал: до реконструкции квартира нравилась ему больше, сейчас она казалась менее уютной. Но они собирались прожить здесь долгое время, и потому роскошный и дорогой проект Женевьевы стоил потраченных денег. Тем временем Роберту приходилось руководить своей швейной мануфактурой на другом побережье Атлантики, полагаясь более, чем ему того хотелось, на Брэма Фэйли и других проверенных специалистов, а также на скрипучую систему связи. Телефоны имели обыкновение отключаться на самой середине важного разговора, а электричество, похоже, передавалось по проводам в каких-то судорогах, угрожающе при этом вибрируя. Все было далеко от идеала, но он хотел этого, потому что этого желала Женевьева. Ничто не придавало смысл его жизни в большей степени, чем осознание того, что сто жена счастлива.
— Ты счастлива, дорогая? — Они остановились, пройдя парадное, и целовались. Он крепко обнял ее, нежно придерживая ее затылок, словно держал в руках изящное, хрупкое яйцо. Его карманы были набиты стеклянными бусинами, завернутыми в бумагу.
— Я буду чувствовать себя счастливой, когда заполучу пару туфель от Паоло Закари. — Она вырвалась из его объятий и направилась к своей комнате. — А этой хрюшке Вайолет де Фремон, очевидно; стоит только пальцем поманить, и он у ее ног.
— Ах, опять туфли. — Их фигуры смутно отражались в крошечных золотых плитках, покрывавших стены. Два расплывчатых силуэта на небольшом расстоянии друг от друга. Он наблюдал, как отражения медленно приближаются друг к другу.
— Уже поздно. — Она взялась за дверную ручку. — Пора спать.
Роберта охватили грусть и давящая пустота. Даже его отражение погрустнело. Он вспомнил, как его жена смеялась вместе со своей ужасной подругой в этот вечер. Он вспомнил презрение в подведенных черной тушью глазах Лулу, пренебрежительную ухмылку, затаившуюся в уголках ее красных губ. Лулу, несомненно, была его врагом, только теперь он с удивительной ясностью понял это. Она всегда незримо присутствовала рядом с ними, и едва ли это было игрой его воображения. Сейчас он почти разглядел ее отражение в золотых плитках стен рядом с собой и Женевьевой.
— Но ты можешь присоединиться, — добавила она. — Если хочешь, пойдем.
На следующий день после званого вечера в доме де Фремон Женевьева направилась к Рампельмайеру, в австрийскую чайную на рю де Риволи, где они частенько встречались с Лулу, особенно когда у Лулу заканчивался очередной роман и она желала отпраздновать это событие или утешить себя с помощью десерта.
Женевьева устроилась на своем любимом месте, за столиком в углу под аркой, откуда хорошо было видно всех посетителей. Она наполовину расправилась с шоколадом по-африкански (лучший шоколад в Париже, приготовляемый по секретному рецепту) и пралине с миндальной начинкой, когда явилась Лулу в том же платье, что и прошлым вечером. Кое-где обертки от конфет, украшавших платье, отвалились, оставив болтающиеся нити. Макияж выглядел чересчур густым и небрежным, а искусно завитые локоны распрямились.
— Принесите шоколадный мусс, — крикнула Лулу официантке, — и кофе. — А затем, понизив голос, обратилась к Женевьеве: — Меня кто-нибудь преследовал?
Женевьева пристально оглядела зал, больше делая вид, что пытается обнаружить мнимых недоброжелателей.
— Кого я должна искать? Жандарма? Фаната? Обманутую жену?
Лулу пожала плечами:
— Полагаю, кого-то из них. Но в данный момент — Джо Лазаруса.
— О, дорогая? Что-то случилось?
— Просто он никогда не смирится с отказом. — Лулу сняла свою накидку и уселась поудобнее. — Он бродит за мной, словно тень. Лучше бы я никогда не спала с ним, Виви. Не знаю, о чем я только думала. У него такие короткие ноги и вывернутые ступни. И походка пингвина. Я раньше не обращала на это внимание, пока не увидела его без брюк. Знаешь, такое забыть невозможно. И еще он делает эту вещь. Он… — Но тут к их столику подошла официантка с приборами и салфетками для Лулу, и та замолчала.
— Итак, этот мусс за бедного старого Лазаруса. Лулу махнула рукой:
— Он ужасно невезучий человек, ничего уж тут не поделаешь. Пожалуйста, давай поговорим о чем-нибудь еще.
— Как все прошло вчера ночью?
Еще один небрежный взмах руки.
— О, ты ведь знаешь. Все как обычно.
— Расскажи мне все, я так хочу узнать, что пропустила.
— Нет. — Лулу недовольно надула губы. — Ты должна была остаться там со мной. Глупо слушать истории, к которым ты сама не имеешь никакого отношения.
Официантка принесла кофе и мусс.
— Не будь такой, Лулу.
— Какой? Ты убеждаешь меня, что тебе достаточно мужа. Если это действительно так, тебе не нужны мои истории, чтобы почувствовать себя счастливой. — Она принялась ковырять ложечкой десерт.
Женевьева вздохнула:
— И при чем здесь мой муж? Мне что, не дозволено поинтересоваться, как ты провела вечер?
— Ладно тебе, Виви. Ты прекрасно знаешь, что не хотела идти домой в конце вечеринки. Признайся же, наконец.
Женевьева допила горячий шоколад.
— Я ужасно хотела спать. — Ее шея затекла, ей хотелось размять плечи и покрутить головой. Она до сих пор чувствовала руки Роберта, которые поддерживали ее голову, когда он целовал ее в холле. И зачем он это делает? Она словно угодила в тесный корсет.
— А в супружеской постели было невероятно увлекательно, да?
Роберт любил «предварительные» ритуалы. Особый стук в дверь, один едва заметный, один сильный. Это напоминало ей сердцебиение. Каждый раз одно и то же. Затем, как будто еще оставалась необходимость в том, чтобы подтвердить, что это именно он, из-за двери доносилось: «Это я», — потом он, наконец, входил. Роберт всегда ложился в кровать с левой стороны, прижимался к ней своими ледяными ногами, чтобы согреться.
У него были и «промежуточные» ритуалы. Сначала щетинистые поцелуи, от которых она начинала задыхаться, затем бесконечная неловкая возня под простынями. Она пыталась осторожно поговорить с ним, надеялась, что это улучшит процесс для них обоих, но подобные обсуждения были неприемлемы для него. Это неприятно удивляло Женевьеву, потому что он казался ей человеком, с которым спокойно можно говорить о чем угодно. В конце концов он срывал с себя ночную сорочку, забирался на нее и приступал к делу. Тяжелый, краснолицый, он производил всегда одни и те же механические действия. И снова начинался стук. Интересно, какая часть кровати производила этот странный шум? Днем она пыталась разузнать это, внимательно осматривала ножки кровати, матрац… Тук-тук, все быстрее, быстрее. Это напоминало занятие любовью с заводной игрушкой.
А после муж начинал ласкать ее обнаженное плечо, рисуя на нем бесконечные круги, и пытался разговаривать с ней, когда ей меньше всего хотелось говорить. Маленькие круги. Большие круги. Вечно одни круги. И еще он что-то мурлыкал себе под нос. Женевьева почти всегда безошибочно угадывала мелодию, но иногда бывали и исключения.
— Ты кажешься… — начал он прошлой ночью, выписывая, как всегда, свои проклятые круги.
— Какой?
— Далекой. — Сегодняшнее мурлыканье очень сильно напоминало чарльстон, одну из танцевальных мелодий с вечеринки.
— Я просто думаю о прошедшем вечере. Размышляю обо всем, что видела и слышала.
— О чем же ты размышляешь? — Он продолжал рисовать круги.
— Ни о чем особенном.
— Но мне хотелось бы узнать, о чем именно ты думаешь. Я хочу, чтобы мы были близки, насколько это возможно.
— Но мы ведь достаточно близки? Неужели я должна сообщать о каждой мелочи, которая взбредет мне в голову? Разве не могу я сохранить кое-что только для себя?
— Но, дорогая, — он продолжал напевать. Возможно, он просто не осознавал, что делает это, — ты ведь моя жена.
«Я пытаюсь ей быть, — подумала она. — Действительно пытаюсь».
Когда Роберт наконец — наконец! — покидал ее комнату, Женевьева с закрытыми глазами оставалась лежать на своей стороне кровати, думая о том, чем сейчас занимаются Лулу и компания. Они собирались в кафе «Селект», когда она помахала им на прощание и села в «бентли» вместе с мужем. Постоянный любовник Лулу, Кэмби, должен был быть там, и она отчаянно желала увидеть его, хотя никогда не признавалась в этом. Наверняка сначала они выпили по паре бокалов, а затем еще и еще. Потом были танцы и, возможно, драка. Внезапно наступило утро, и они все отправились в Лез-Аль полакомиться луковым супом в одном из рыночных кафе или купили сандвичи и бутылку вина и на такси отправились в Буа. В конце концов они вернулись на бульвар Монпарнас выпить кофе в «Доме» или в «Ротонде». Круг замкнулся, снова оживший Париж проносился мимо, торопясь по своим делам, а они сидели, развалясь в креслах с газетами, смотрели по сторонам, мучаясь от головной боли, пока не начинали один за другим разбредаться по домам, чтобы улечься в постель. И только одна Лулу по-прежнему жаждала безудержного веселья, по-прежнему стремилась к недостижимому.
— Готова поспорить, он пылкий любовник, правда, Виви? Твой Роберт?
— Твоя пудра осыпается прямо в кофе, — заметила Женевьева. — Взгляни на хлопья, которые порхают вокруг тебя.
— Какая жалкая попытка сменить тему! — Лулу все-таки уставилась в чашку, а затем близоруко скосила глаза на свое отражение в зеркале в позолоченной раме, висевшее позади их стола.
— Лулу, мне кажется, тебе необходимы очки.
— Заткнись. — Ворча, Лулу наклонилась и посмотрела под стол.
— Что теперь?
— Хочу взглянуть на сегодняшние туфли.
Женевьева выставила ногу, повернула ее в разные стороны, чтобы подруга могла получше рассмотреть. Королевские туфли с высокой застежкой, украшенные жемчугом, камнями и золотым шитьем, со странными каблучками в виде штопора.
— Ну, эти действительно очень забавные.
— Они от Сальваторе Феррагамо. Я специально выписала их из Калифорнии. Он создал их для Глории Свенсон, она не догадывается, что вторую пару Феррагамо сделал для меня.
— Я никогда не видела ничего подобного.
— Феррагамо — гений. Он сделал открытие: вес женского тела распределяется полностью не только на подушечки пальцев и каблук, но и на весь подъем. Сальваторе вкладывает тонкую стальную полоску в подошвы своих туфель, для устойчивости ступни. Если подошва крепче, нет сильного давления на каблук, появляется возможность менять его форму — делать каблук тоньше, превращать его в штопор… да во что угодно!
— С тем же успехом ты могла бы рассказывать о проектировании зданий, дорогая. Чтобы построить высокое здание, необходимо создать прочный фундамент. Твой Феррагамо напоминает мне архитектора.
— Но так намного сексуальнее. Все голливудские звезды мечтают о его туфлях.
— Ну, — заметила Лулу, — кому нужен Закари, если ты стала обладательницей потрясающих спиралевидных каблуков Глории Свенсон?
При упоминании Закари улыбка Женевьевы погасла.
— И что теперь? — спросила Лулу.
— Ну, — ответила Женевьева, — как только я проснулась, сразу подумала о тех туфлях Вайолет. Я должна заполучить туфли от Закари, Лулу. И я так осмелела, что решила отправиться в его магазин и уговорить его сделать их для меня.
ПАОЛО ЗАКАРИ
САМЫЕ ДОРОГИЕ В МИРЕ ТУФЛИ
Вывеска занимала половину витрины. Женевьева уставилась в окно, занавешенное пурпурным бархатом, в комнате царил полумрак. Никаких показов и шоу, привлекающих посетительниц. Ни одного намека на то, закрыт или открыт магазин. Здесь царила полная тишина. Ей ничего не оставалось, как подергать за дверную ручку.
Нервничая и злясь на себя за нервозность, Женевьева потянулась к круглой медной ручке.
Дверь мягко открылась, она вступила в квадратную комнату, отделанную все тем же пурпурным бархатом. Дневной свет не проникал внутрь, комнату озаряли многочисленные мерцающие канделябры, установленные на расставленных у стен столиках черного дерева, среди копий журналов «Вог». Женевьева поморщилась, уловив жаркий, сладкий запах тающего воска. С потолка свисала гроздь из пяти или шести переплетенных вместе свечей, установленных в витиеватой серебряной клетке. Все это выглядело так старомодно и необычно, словно она в мгновение ока очутилась в прошлом веке.
Белый воск капал, образуя сферические узоры, неторопливо стекал на столики черного дерева и на неровный, сильно отполированный пол из темного дуба. Полосатый коврик цвета зебры в центре комнаты производил гораздо более благоприятное впечатление, привнося элемент современности в мрачноватую обстановку. Женевьева увидела пару кушеток в стиле Наполеона III, обтянутых пурпурным бархатом, и подумала, что, возможно, ей стоит присесть и подождать, пока кто-нибудь появится. Но знал ли кто-нибудь, что она здесь — ведь дверь открылась совершенно бесшумно. В магазине не оказалось звонка, чтобы позвонить и привлечь внимание.
В помещении не было туфель. Ни одной пары.
— Эй! — Голос прозвучал как-то по-особенному громко в тишине комнаты. — Bonjour? — Она увидела свое отражение в высоком серебряном зеркале в другом конце комнаты и показалась себе какой-то неуверенной, жалкой, черт побери, а ей так этого не хотелось! Несмотря на это, она была невероятно привлекательна. Под длинным пальто с отороченными беличьим мехом манжетами и воротником платье из кантонского крепа цвета копенгагенской лазури с круглым воротничком из тончайшего кремового кружева и жатым шелком, смягчающим чересчур вызывающий вырез, низкую талию опоясывал гофрированный пояс. Наряд дополняла шляпка «колокол» из китайского крепа со слегка загнутыми полями, а на ногах красовались туфли Глории Свенсон с уже известными нам смелыми спиралевидными каблучками. Несомненно, даже такой искушенный представитель элиты, как Закари, был бы впечатлен.
— Чем я могу вам помочь?
Женевьева резко обернулась, ужаснувшись тому, что кто-то смог застукать, как она восхищается собой. Одна рука инстинктивно потянулась к горлу в попытке защититься, но тут она заметила стройную, элегантную женщину лет сорока, с чистыми голубыми глазами и длинными волосами, собранными в шиньон. Ее волосы были примечательны своим неопределенным оттенком — ни светлые, ни седые, ни темные, ни серые, но сочетающие все вышеперечисленное, словно переливающиеся и изменяющиеся в прическе. В мерцающем пламени свечей они казались золотистыми, но стоило отступить в тень, они тут же превращались в сияющую, холодную сталь.
— Я вас слушаю? — повторила женщина, высокомерно добавив: — Мадам?
— Я хочу увидеть месье Закари.
Женщина несколько раз моргнула, а затем медленно оглядела ее с головы до ног. Пока она переводила взгляд с одной ноги на другую, свет снова переместился, и на мгновение ее волосы приобрели почти тот же радужный голубой оттенок, что и ее глаза. Женщина молчала.
— Прошу вас, я хотела бы увидеть месье Закари.
Взгляд незнакомки сбивал с толку. Она словно смотрела сквозь Женевьеву и видела все, что происходило за ее спиной.
— Послушайте, я не понимаю, в чем дело? — Женевьева начала раздражаться. — Я непонятно выразилась?
— Вполне понятно. Но вам не назначено на сегодня. — Она говорила с сильным акцентом. Возможно, русским? Или польским?
— Конечно же мне назначено. — Женевьева почувствовала себя глупо, произнеся эти слова, но не смогла вовремя остановиться. В этой женщине было нечто, что заставляло ее спорить, даже если у нее не было подходящих аргументов.
— Нет, вам не назначено. — На бледном лице появилась улыбка, но глаза источали ледяной холод.
Женевьева, изо всех сил стараясь скрыть смущение из-за глупой выходки, попыталась изобразить вежливую улыбку.
— Не могли бы вы сказать, здесь ли месье Закари?
— Не имеет значения, здесь он или нет. Вам не назначено.
— И откуда вы знаете, что мне не назначено? Вы ведь даже не заглянули в записную книжку и тем более не спросили у самого месье Закари. Вы даже имя мое не удосужились узнать.
— Я прекрасно осведомлена обо всех назначенных встречах. И знаю, что вам не назначено. — В лице женщины появилась твердость. Все как-то заострилось. При помощи своих бесцветных волос, неярких глаз и утонченной холодности она сумела погрузить Женевьеву в воображаемые осколки стекла.
Женевьева открыла кожаный ридикюль и, подкопавшись в нем, сухо протянула женщине визитку.
— Пожалуйста, передайте это месье Закари. Скажите ему, что я подруга и клиентка Коко Шанель и Поля Пуаре. Передайте ему… — слова вдруг застряли у нее в горле, — передайте ему, что я близкая подруга графини де Фремон и буду ему очень признательна, если он уделит мне несколько минут своего драгоценного времени. Я бы хотела заказать у него пару туфель.
Ассистентка не пошевелилась, чтобы взять карточку, и Женевьева протянула руку, сунув визитку почти ей под нос.
— Будьте так любезны, передайте мою визитку месье Закари.
Женщина подняла руку, словно собираясь взять карточку, но вместо этого коснулась прически, поправляя невидимые выбившиеся из шиньона пряди.
— Его здесь нет.
Женевьева резко опустила руку.
— Хорошо, а когда он будет здесь? Могу я назначить время?
Неожиданно откуда-то из глубины дома раздался резкий звук. Трудно было определить, откуда он доносился, возможно, откуда-то сверху, или снизу, или из-за двери. Это был кашель.
Женевьева нахмурилась:
— Вы уверены, что его здесь нет?
— Здесь никого нет.
Снова послышался кашель. Теперь в этом не было сомнения, она отчетливо слышала мужской кашель.
Женевьева шагнула в сторону, попыталась рассмотреть узкую лестницу в конце комнаты, пристальным взглядом словно пытаясь преодолеть преграду. Женщина двинулась следом, хотела загородить дорогу. Неожиданно ее лицо показалось Женевьеве странно изможденным.
— Это просто смехотворно. Я понятия не имею, почему вы мне лжете, но позвольте заметить, сейчас вы попросту вредите месье Закари. Я не забуду вашей неучтивости. — Она резко швырнула визитку на самый высокий столик. — Будьте так добры, покажите мою визитку месье Закари и попросите его сделать одолжение и позвонить мне. Я собираюсь заказать у него пару туфель и от своего не отступлюсь. — Быстро взглянув в зеркало, она заметила, что очень бледна. Женщина тоже посмотрела в зеркало. Какое-то мгновение они обе пристально разглядывали отражение Женевьевы. Она была ниже женщины и сейчас, возможно, впервые в жизни почувствовала себя по-настоящему крохотной.
Женевьева быстро направилась к двери.
— Если вы или месье Закари побеспокоитесь навести обо мне справки, вы поймете, что я не из тех женщин, которых можно не принимать во внимание. Это так.
И она бросилась прочь, поскользнувшись на ступеньках.
— О, дорогая. — Лулу отставила в сторону кофе. — Неприятная история, ничего не скажешь, но, возможно, он все-таки позвонит.
— Нет, — ответила Женевьева. — Я сомневаюсь, что эта гарпия передаст ему мою визитку.
— Думаешь, она настолько высокомерна? Если не станет передавать сообщения своему хозяину, вполне может лишиться работы.
— Не знаю, высокомерие ли это, но в ней явно есть что-то отталкивающее. Она сразу мне не понравилась. — Женевьева зачерпнула еще одну ложку мусса Лулу. — А я — ей. Нет, она не передаст ему мою визитку, я в этом уверена. Я должна найти способ как-то обойти ее.
Лулу задорно подняла вверх свою чашку.
— Я пойду с тобой, моя милая. Завтра же. Эта женщина не справится с нами обеими. Давай выпьем. Разговоры о борьбе вызывают у меня жажду.
— Не рановато ли для алкогольных напитков? Даже для тебя?
— Ты забыла, я ведь еще не ложилась. Для меня по-прежнему продолжается вчерашний вечер. Если уж на то пошло, сейчас очень поздно.
Женевьева нахмурилась. В голосе подруги прозвучало слишком много напускной веселости.
— Что-то случилось?
Лулу скорчила гримасу.
— О, ты ведь знаешь. Все как обычно.
— Кэмби? Что он на этот раз натворил?
Но Лулу просто покачала головой, так, словно это было слишком сложно для того, чтобы Женевьева смогла ее понять.
— Как жаль, что я не могу не думать об этом человеке! Это так символично, правда? На самом деле все мужчины в Париже влюблены в меня, но мне нужен именно тот, который меня не любит!
— Он тоже любит тебя. — Женевьева схватила ее руку и крепко сжала. — Если честно, вы друг друга стоите. Никто из вас не может принять другого таким, какой он есть. Вы наслаждаетесь своей загадочностью и непредсказуемостью. И делаете друг другу больно, потому что считаете, что лучше боль, чем сытая спокойная жизнь.
— Может быть, ты и права, милая. — Лулу улыбнулась. — Откуда ты так хорошо меня знаешь?
— Я просто так чувствую, — ответила Женевьева. — И ты тоже меня знаешь лучше, чем кого бы то ни было.
Лулу пожирала ее глазами.
— Если бы мы не были такими близкими подругами, обязательно стали бы врагами. — Она продолжила говорить о Кэмби и том, что он за негодяй. — Я так зла на него, Виви. Я ничего не могу с этим поделать. А как бы ты поступила на моем месте?
Женевьева пожала плечами:
— Не знаю. Возможно, написала бы стихотворение.
— Я не умею писать стихи. Что-то происходит, все мои слова словно улетучились куда-то. Буквы ускользают от меня.
— Ну, тогда просто спой об этом. Вложи все свои чувства в искусство. Ведь, в конце концов, Кэмби именно так и поступает.
— Точно. Свинья. Женевьева снова сжала ее руку.
— Гляди веселей, дорогая. Я решила устроить вечеринку. Грандиозную костюмированную вечеринку, как у Вайолет, только больше и лучше. Главная тема — кубизм. — На самом деле эта идея только что пришла ей в голову, но она уже загорелась ею. — Что скажешь?
Лулу захлопала в ладоши в полном восторге.
— Замечательно!
— И я, конечно, должна все устроить в подходящем месте.
Подруга оживилась:
— Ты могла бы договориться о каких-нибудь интересных и необычных работах. Что-нибудь от Брака[1] или Дерайна. О, и не забудь о Соне Делоне. Ты была на ее последнем модном показе? Все это очень в духе кубизма. Знаешь, она станет центральной фигурой нашей экспозиции.
— Великолепно. Ты поможешь мне, Лулу? Ведь ты же, в конце концов, знакома со всеми деятелями искусства.
Лулу снова помрачнела. Она внезапно посмотрела куда-то в сторону, судорожно ухватилась за руку Женевьевы и горячо зашептала ей на ухо:
— Не оборачивайся, шери, представляешь, этот проклятый пингвин только что вошел сюда.
Роберт задумался об этом в конце одной из своих вечерних партий в покер, во время ежемесячной увеселительной поездки с Гарри Мортимером и его приятелями в небольшой клуб на Монмартре. За ужином спиртное лилось рекой, они играли в покер. Роберт не был заядлым картежником, до приезда в Париж и до знакомства с Гарри он никогда не играл. Вечера в клубе проходили с обычными атрибутами: алкогольными напитками, густым туманом сигаретного дыма, фишками, передвигаемыми по зеленому сукну, определенными разговорами — все это стало, по крайней мере для него, определенной формой праздничного декаданса. Это казалось допустимым во время затянувшегося пребывания в Париже, но должно было навсегда закончиться с неизбежным (хотя еще не запланированным) возвращением домой — к его семьей мануфактуре, обычному стилю жизни в Бостоне.
Гарри был по меньшей мере лет на десять старше Роберта, тучный, лысеющий газетчик с острым умом, горячим темпераментом и богатым опытом, все это ему приходилось держать в узде, чтобы оправдать свои глубокие убеждения. Гарри отличался распутством, но чем-то напоминал Роберту отца, и это делало его компанию весьма привлекательной. Покер стал своего рода вызовом. Роберт играл слишком осторожно и знал это. Иногда, снова и снова выходя из игры, он замечал, как Гарри слегка приподнимает бровь, словно подстрекая его идти дальше. Вперед, Роберт. Включайся в игру. Разбуди в себе азарт. У него, похоже, просто не было этой дьявольской азартной искорки. На кону стояли слишком большие деньги. Если две его карты окажутся не слишком удачными, он просто выйдет из игры. Порой после того, как партия была разыграна, он понимал, что мог бы получить стрит[2] и сорвать банк. Но в другой раз его карты оказывались абсолютно недостойными игры, и он, потягивая напиток, с удовлетворением думал, что был прав, не желая попусту рисковать.
Женевьева знала про покер, но не догадывалась, чем еще занимались Гарри и его приятели в клубе на Монмартре. Для начала девушки приносили напитки в комнату для игры в карты, давали прикурить сигары и меняли пепельницы, мило улыбаясь гостям. Но позже, когда сигарный дым становился гуще, голос Гарри звучал громче, а фишки сновали туда-сюда во все более увеличивающихся стопках, девушки постепенно начинали задерживаться в комнате, при первом удобном случае усаживались на широкие колени, обнимали толстые шеи и начинали шептать на ухо и хихикать. Чуть позже джентльмены один за другим поднимались по маленькой лестнице в задней части клуба, ведущей в комнаты наверху.
И вот наступало самое любимое мгновение Роберта за весь вечер. Тот момент, когда он вставал из-за карточного стола и выходил на прохладный, темный, свежий ночной воздух или в чудесные сиреневые сумерки приближающегося рассвета. Он брел с холма вниз в поисках такси, которое отвезло бы его домой, один-одинешенек в огромном городе, если не считать случайно проехавшей мимо машины или щебечущей птицы. Деньги в целости и сохранности лежали в его кармане (потому что он всегда точно знал, когда следует обналичить фишки), а его добродетель по-прежнему оставалась безупречной (девушки быстро поняли, что зря теряют время, пытаясь кокетливо присесть на колени этого парня или нашептывая ему на ухо милые глупости). Иногда он всю дорогу шел, насвистывая какую-нибудь мелодию.
— Как поживает твоя великолепная кобылка? — спросил Гарри в тот вечер, перетасовывая карты. — Полагаю, ты хорошо взнуздал ее? — Он уже довольно много выпил и пылал от вожделения, но это была его обычная манера, его способ выражать дружелюбие.
— Такую женщину, как Женевьева, взнуздать невозможно, — ответил Роберт. — Последнее дело — вести себя с ней подобным образом.
Гарри пожал плечами и принялся раздавать карты пятерым игрокам.
— Вот тебе мой совет, приятель, хорошенько приглядывай за своей леди. Все эти друзья-артисты, с которыми она путается… Знаешь, я не стал бы доверять мужчине, который носит берет или накидку. — Произнеся эти слова, он взглянул на застывшую в дверях хорошенькую рыжеволосую девушку и подмигнул ей.
— Мне не надо доверять им, — откликнулся Роберт. — Я доверяю ей.
— Это похвально, я не сомневаюсь. Скажи, а почему бы тебе как-нибудь не пригласить ее ко мне в гости, а? Мы могли бы поужинать, а девчонки поболтали бы о детишках, или о цветочном оформлении, или прочих дамских глупостях.
— Конечно, это было бы замечательно. — Роберт слишком хорошо представлял, что думала Женевьева о перспективе провести целый вечер в обществе Мод Мортимер. В компании Мод, помешанной на своих благотворительных комитетах и вышивке гобеленов. Мортимеры — люди не ее круга, впрочем, как и все его друзья. Это стало очевидно сразу после того, как он представил им жену по прибытии в Париж. Но, в конце концов, чего он еще ожидал, женившись на такой женщине? Почему он никогда не влюблялся в тех девушек, которые могли бы близко подружиться с Мод Мортимер или, возможно, с любой девушкой у него на родине?
— Ежовые рукавицы, — Гарри вытянул две карты, — вот что нужно этим женщинам. — Он снова подмигнул рыжеволосой девушке. — И знаешь, я собираюсь позвонить тебе завтра с номера одного моего друга.
— Что это за друг? — Роберту показалось, что в его голосе прозвучала настороженность.
Гарри коснулся своего носа и наклонился ближе, чтобы сидевшие вокруг стола не могли слышать, о чем они говорят.
— Я все объясню, когда позвоню.
Роберт, хмурясь, вытянул карты.
— Давай поговорим завтра. — Гарри взглянул на него. — Играешь?
— Нет, я выхожу из игры.
Около четырех утра, оказавшись на улице, под ночным небом, затянутым густой пеленой облаков, которая словно плотное бархатное покрывало укутывало шпили крыш, трубы и башни, Роберт брел сквозь ряды обшарпанных улиц вдоль площади Пигаль в направлении своего дома и вспоминал о том, как Гарри отзывался о Женевьеве.
Гарри просто ничего не понимает, решил он. Но в этом нет его вины, почти нет. Он просто такой человек.
Роберт вытянул руку, чтобы остановить такси, и выдавил из себя улыбку. Женевьеве крупно повезло, что она выбрала такого мужчину, как он.
Рядом остановился кеб, одна из тех запряженных лошадью повозок, которые теперь не часто можно встретить на улице.
«Знает ли она, как ей повезло?» — думал он, открывая дверь.
И тут у него возникла идея.
На следующий день после званого вечера в доме графини де Фремон идея Роберта нашла свое воплощение в жизнь.
Женевьева вернулась домой после полудня, прослушав, как Лулу отрабатывает несколько новых музыкальных номеров со своим пианистом в «Койоте» на рю Деламбре. Едва она вышла из лифта, заметила, что дверь в квартиру слегка приоткрылась. Крошечное лицо, очевидно, это была горничная Селин, выглянуло оттуда, затем дверь снова резко захлопнулась, Женевьева не была уверена в том, что это ей не показалось.
— Селин? — Женевьева резко постучала в дверь. — Селин!
Но неожиданно появился Роберт и, выйдя ей навстречу, прикрыл за собой дверь. У него был странный вид.
— Ты заболел или что-то случилось?
— Закрой глаза, — Роберт схватил ее за руку, — у меня для тебя сюрприз.
— Что за сюрприз?
— Просто закрой глаза.
Она снова услышала, как заскрипела дверь, потом раздались его приглушенные шаги в холле. Он шумно дышал ртом, как всегда, когда волновался. Были и другие случаи, когда он так дышал… Она представила его себе, совсем близко, его лицо — прямо над нею, его тело придавливает ее своим весом. Его усы пахли сигарами, виски и ужином.
— Давай, Роберт.
Почему ее сердце так бешено колотилось? Из глубины квартиры послышался шелестящий звук, напоминающий звук рвущейся бумаги.
— Могу я открыть глаза?
Стоя с закрытыми глазами, она вдруг почувствовала, как окружающая реальность начинает исчезать. Пол под ногами казался теперь не таким устойчивым, как мгновение назад.
Ей почудилось, что ее уносит к потолку, но, возможно, она стремительно летела вниз, в шахту лифта. Женевьева хотела протянуть руку, прикоснуться ладонями к стенам в шелковых обоях, ухватиться за что-нибудь, чтобы понять, где оказалась.
— Хорошо. — Он снова оказался рядом. Его руки тяжело легли ей на плечи, он слегка подтолкнул ее через порог. — Можешь открыть глаза.
Сюрприз возвышался прямо перед ней, на мгновение показалось, что он раздавит ее. Женевьева слегка вскрикнула и попыталась отступить, но сильные руки держали ее, не давали сдвинуться с места, тело Роберта, словно стена, возвышалось у нее за спиной.
— Я не мог забыть ту историю, которую ты рассказала мне, — прошептал он. — О твоей лошади. Она как-то необъяснимо тронула мою душу. Я представлял тебя маленькой девочкой, скачущей верхом по своим владениям, свободной, словно птица. Я часто думал об этом.
Она на самом деле стояла там, прямо посередине холла, яростно взвиваясь на дыбы на своем мраморном пьедестале. Бронзовая статуя восьми футов высотой, не меньше.
— Видишь? — Роберт ткнулся носом в ее шею. — У тебя есть муж, который полностью тебя понимает. Ты догадывалась об этом?
Безумно вытаращенные глаза, огромные зубы, страшные раздувающиеся ноздри.
И как он на самом деле мог подумать?..
В тот вечер, когда Роберт впервые переступил порог дома родителей Женевьевы и они впервые увиделись за ужином, она мило улыбнулась ему через стол, точно зная, что он пришел спасти ее.
Она так долго ждала своего избавителя. Задолго до того, как наступило то полное неприятностей лето, она начала жаждать спасения. Женевьева пробиралась сквозь бесконечную вереницу дней, читая и мечтая о жизни, которой сможет когда-нибудь жить, и неразборчивым почерком записывая свои стихотворные фантазии в дневнике. А затем появился Роберт с его непринужденным смехом, мужественностью, обходительностью и такой доброй улыбкой. Каким спокойным и непринужденным он казался по сравнению с ее измученной, невротической матерью! Каким прямодушным выглядел по сравнению с ее двуличным отцом! Она выросла в доме, наполненном тайнами, там никто никогда не выражал открыто своих мыслей. И вот, наконец, появился человек, с которым она спокойно могла говорить о чем угодно.
Они встречались три месяца, Женевьева испытывала истинное наслаждение от разговоров с ним, пыталась серьезно оценить его и не позволить себе делать суждения под влиянием желания покинуть родительский дом. Она не была влюблена, по крайней мере, в ее душе не возникло и следа взрывной влюбленности, того невероятного ощущения, когда земля уходит из-под ног. Она испытывала огромную нежность и искренне надеялась, что это бесхитростное чувство сможет перерасти в Настоящую Любовь. К тому времени, когда он решился сделать предложение, Женевьева не сомневалась, что находится на полпути к заветной цели.
Лошадь была изваяна в натуральную величину, но выглядела абсолютно безжизненной.
— Я не слишком хорошо разбираюсь в искусстве, — говорил Роберт, — но я прислушался к некоторым советам, можешь мне поверить, это весьма удачное вложение денег. Гораздо более удачное, чем все те литературные журналы, которые ты заставляешь меня спонсировать.
Как-то днем, еще в период ухаживаний Роберта, они прогуливались в розарии леди Тикстед. Небесную твердь заволокло тучами, над головой рокотали раскаты грома.
Женевьева подняла голову и взглянула на небо. Буря обещала быть великолепной.
— Знаешь, как я голодна? — страстно прошептала она. — Я имею в виду жизнь, целый мир.
— Нам лучше вернуться, — предложил Роберт. — Собирается дождь.
— Ну, так давай вымокнем до нитки. — Она крепко держала его за руку.
— Твоя матушка будет недовольна мной. Что, если ты простудишься?
— О, Роберт, не будь таким занудой.
Неожиданно хлынул дождь.
— Быстрее, — крикнул он. — Мы промокаем насквозь.
— Мне все равно. — Она прижала ладонь к его щеке. — Я задыхаюсь в этом доме. Моя жизнь уходит от меня все дальше и дальше.
Он нахмурился, пристально посмотрел на нее. Это был взгляд потерявшейся собаки, он говорил: «О чем ты?» — он кричал: «Пожалей меня!» Впервые за все это время он смотрел на нее такими глазами.
Она тут же замолчала. И только одно слово громко звучало у нее в голове. Это было громкое и четкое: «Нет».
— Женевьева?
Через несколько мгновений она сумела совладать с собой. С трудом проглотила подступивший к горлу ком, отогнала навязчивое слово, заставила себя забыть его.
Он именно тот человек, который навсегда заберет ее отсюда и бросит к ее ногам целый мир.
Роберт сжал ее руку.
И она позволила ему увести себя обратно в дом.
— Женевьева? Ты ничего не хочешь сказать?
Но она больше не могла притворяться перед самой собой. Муж не понимал ее и никогда не сможет понять.
Утром Женевьева собиралась встретиться с Лулу, чтобы вместе отправиться на штурм магазина Закари, но, едва забрезжили первые лучи слабого мартовского солнца, она уже стояла в одиночестве перед магазином. Женевьева почти не спала этой ночью. Стоило закрыть глаза, как перед ее мысленным взором возникали взбрыкивающие бронзовые копыта. В голове звучали ржание и фырканье. Все это выглядело так, словно монстр, расположившийся в холле, насмехается над ней. Не в силах вынести мысли о том, что придется еще несколько часов лежать без сна, а затем завтракать с Робертом (и что она скажет ему за столом? Что она сделает?), Женевьева приняла ванну, оделась и тихо покинула квартиру.
Из цокольного этажа, расположенного под магазином, пробивался свет. Возможно, это его мастерская? Должно быть, он сейчас там совсем один. У нее возникло желание позвонить, но вывеска «закрыто», красовавшаяся на двери, обезоружила ее. Ей не хотелось раздражать его еще больше. Сделав два круга по крошечному дворику, она вышла через узкий проход на улицу.
На рю де ла Пэ стояла необычная тишина. Ставни известных модных домов были закрыты, кругом царило безмолвие. На мгновение она замерла, пристально разглядывая Вандомскую площадь. Знаменитая колонна казалась сегодня утром странно короткой и толстой. Какой-то мягкой. Словно рулон ткани стоял прямо в центре восьмиконечной площади. Но, вероятно, это была всего лишь игра света и тени.
Пока Женевьева стояла в мечтательном созерцании, длинный черный автомобиль «ли-фрэнсис» проехал мимо, слишком близко к тротуару, и, разбрызгав грязную лужу, облил ее ноги. В уникальных бальных туфлях от Андре Перуджи, парижского дизайнера обуви, с невероятно высокими испанскими каблуками и остроконечными носками, мягчайшее кожаное покрытие которых украшало множество ярко расцвеченных и переплетенных между собой треугольников из замши и парчи. На создание этих туфель, по словам самого Перуджи, его вдохновили картины Матисса. Эти туфли она надела, чтобы произвести впечатление на Паоло Закари, теперь они промокли насквозь и были перепачканы в грязи. Вне себя от ярости Женевьева шагнула вперед и уже открыла рот, чтобы выкрикнуть что-нибудь обидное, но машина уже скрылась за углом. На заднем сиденье сидела женщина. Женевьева не успела рассмотреть ее, но ей показалось, что раньше они встречались… Все те же старые знакомые…
После двух укрепляющих бодрость духа чашек кофе и круассана с маслом, за столиком у окна в ближайшем кафе с мрачноватым зеленым интерьером, Женевьева наконец смогла заставить себя наклониться и взглянуть на промокшие туфли. Все оказалось именно так, как она предполагала. Туфли были безнадежно испорчены. Она смочила свой платок в стакане с водой, чтобы протереть их, но какой теперь в этом был смысл?
— Вам лучше взглянуть на это с другой стороны, — раздался рядом мужской голос. — Они были не так уж и хороши, ведь правда? В них есть что-то клоунское, они немного напоминают туфли Арлекина. Невелика потеря.
— Невелика потеря! Вы представляете себе, сколько эти… — Выпрямившись, Женевьева вдруг обнаружила, что разговаривает с Паоло Закари.
— Это от Андре Перуджи, правда? — весело спросил он. — Знаете, вы определенно переплатили. — Затем он снял пальто и уселся за столик, не спрашивая у нее разрешения.
Поначалу она не могла выдавить из себя ни слова. Его высокомерие полностью лишило ее дара речи, она изумленно смотрела на него разинув рот. На нем было то, что она приняла за рабочую одежду: твидовые коричневые брюки отличного качества, но выцветшие и мешковатые, и хлопчатобумажная рубашка свободного покроя, расстегнутая на груди. Его чванливая манера вести себя с окружающими наводила на мысль, что такой человек едва ли унизится до того, чтобы утруждать себя работой. Бездонные черные глаза скрывали истинные мысли и намерения.
Официант с впалой грудью и меланхоличными усиками принес миндальный круассан и эспрессо и поставил все это перед ним. Похоже, это был обычный завтрак Закари, который уже давно не менялся, поэтому его не стоило обсуждать.
— Ну и как, ты выиграл вчера, Антон? — поинтересовался Закари.
Официант покачал головой:
— Это очень печально, месье Закари. Фабиен убьет меня, когда узнает, сколько я проиграл. Но я нисколько не сомневался, понимаете? Я на самом деле считал, что знаю, что делаю.
Закари дружески кивнул официанту:
— Никогда ни в чем нельзя быть абсолютно уверенным, мой друг. — И он снова посмотрел на Женевьеву, прищурив глаза.
Именно в этот момент Женевьева заметила веснушку на шее Закари, как раз над воротничком рубашки, она притаилась в маленькой впадинке на шее, там, где самая нежная кожа. Каким-то волшебным образом эта веснушка все изменила. Она выглядела очень мило и дружелюбно, намекая, что у этого человека есть другая сторона натуры — ранимость. Ухватившись за нее взглядом, Женевьева начала потихоньку расслабляться.
— Я устраиваю костюмированную вечеринку, — сообщила она Закари. — Главная тема — кубизм. Эта вечеринка превзойдет даже праздник у Вайолет де Фремон, она станет легендой. Там соберется весь свет, и все будут смотреть только на меня. — Она остановилась, чтобы перевести дух. — А на мне будет пара ваших туфель, месье Закари. Что скажете?
Губы Закари растянулись в улыбке. Он вытащил из кармана пальто пачку сигарет и, достав одну, положил пачку на стол.
— Не возражаете, если я закурю?
Осмелев, Женевьева протянула руку к его пачке и тоже взяла сигарету.
— Значит, туфли представляют для вас огромную ценность, миссис Шелби Кинг? — Он поднес зажигалку к ее сигарете, а потом прикурил сам.
— Совершенно верно.
Он откинулся на спинку стула и провел рукой по своим спутанным темным волосам.
— Почему? — Он выдохнул дым и пристально посмотрел на нее.
— Почему? — повторила она. Сигарета оказалась крепче, чем она ожидала. От ее дыма слегка засосало под ложечкой. Но тем не менее она сделала еще одну затяжку. — Неужели должна быть какая-то причина? Туфли могут быть невероятно красивы, мы оба знаем это. Они могут быть произведением искусства.
— Но ведь и платья тоже, правда? А также колье, кольца и духи. Но почему вас интересуют именно туфли?
— Я коллекционер, — ответила Женевьева, немного смутившись. — У меня целая комната отведена под туфли, там более пятисот пар. Туфли — моя страсть.
— Да, да. Но вы до сих пор так и не сказали почему.
От сигаретного дыма у нее кружилась голова.
— Я равнодушна к духам. Конечно, я пользуюсь ими, но не более того. Платья, драгоценности, ну что ж, они, несомненно, важны, но так тривиальны. По-настоящему красивые туфли впечатляют гораздо больше. Ну, конечно, несколько лет назад женщины могли носить под платьем подбитые сапожными гвоздями ботинки или деревянные башмаки — и никому до этого и дела не было. Но теперь… Теперь по-настоящему изысканный костюм — ничто без правильно подобранных туфель.
Его улыбка стала чуть шире.
— Продолжайте.
Она вдруг догадалась, что он испытывает ее. Для нее же будет лучше, если ее ответ окажется правильным.
— И потом, хорошие туфли не просто красивы. Наряд должен быть безупречен, иначе самая блистательная вечеринка может превратиться в сплошную пытку. Туфли связывают нас с окружающим миром, понимаете, в самом прямом физическом смысле. — Ей понравилось собственное последнее замечание, казалось, оно придавало глубину ее словам. Ее голова кружилась все больше, мир плыл перед глазами. Она затушила сигарету.
— Все это очень мило и интересно. — Закари тоже отложил сигарету. — Но ведь это не настоящая причина, не так ли?
Женевьева начала злиться.
— Послушайте, они просто нравятся мне. Вам понятно? А что еще вы ожидали услышать?
— Ничего. — Он допил свой кофе. — Абсолютно ничего.
Тишину, повисшую между ними, внезапно разорвал громкий стук в окно. Женевьева изумленно обернулась и увидела ледяную ассистентку Закари на улице рядом с кафе. Ее волосы отливали серебром в холодных лучах утреннего солнца. Сейчас лицо женщины показалось еще более неприветливым и суровым. Не обращая внимания на Женевьеву, глядя исключительно на Закари, она слегка кивнула и многозначительно указала на часы. А затем резко развернулась и пошла прочь.
— Мне пора. — Он схватился за пальто.
— Потому что так говорит та женщина?
— Потому что у меня назначена встреча с клиенткой.
Женевьева попыталась отыскать веснушку у него на шее, но теперь ее скрывал воротник рубашки.
— А как насчет меня?
— Вас?
— Насчет туфель для моей вечеринки?
Закари нахмурился:
— Я не обещал вам туфель, миссис Шелби Кинг.
— Но вы пообещаете, ведь правда? — Она постаралась улыбнуться как можно кокетливее.
Склонив голову набок, Закари, похоже, обдумывал важную проблему.
— Пожалуйста? — Женевьева терпеть не могла мелочность этого слова.
Закари склонил голову набок.
— Послушайте, я знаю, что обидела вас на вечеринке у Вайолет де Фремон. Если бы существовала возможность повернуть время вспять и снова вернуть то мгновение, чтобы исправить оплошность, я бы так и поступила. Это была нелепая ошибка, месье Закари, простая ошибка, о которой я ужасно сожалею.
— А почему вы думаете, что мне есть до этого дело, мадам?
Улыбка Женевьевы стала умоляющей. «Господи, — вдруг подумала она, — сейчас я унижаюсь перед ним!» Эта мысль привела ее в чувство. Ведь, в конце концов, он всего-навсего сапожник. Он мог быть абсолютно глух к ее чарам, извинениям, готовности унизиться, но у нее все же найдется то, от чего ему не отказаться. Это доллар, король всех валют.
Она потянулась за сумочкой и извлекла пачку денег. Пусть деньги скажут за нее.
Но он быстро поднялся, собираясь уйти, словно и не заметил денег в ее руке.
— Удачного вам дня, мадам. Это был необычный завтрак. Забавный, но в конечном счете он принес одни разочарования. Полагаю, для нас обоих.
Девушки ели ленч в «Куполе», сидя за столиком, который всегда был в полном распоряжении Лулу. Сегодня у нее на голове красовалась нелепая черная шляпа, украшенная павлиньими перьями, а замысловатый макияж более, чем обычно, напоминал египетский.
— Я узнала еще несколько историй о Закари, — сказала она, отодвигая тарелку в сторону.
— Что это за истории?
— Он приехал в Париж, потому что скрывался от мафии. Он расплатился за кровную вражду между его семьей и другим семейным кланом и вступил на корабль с кровью другого мальчика на руках. Мать отправила его сюда в корзине, когда он был еще младенцем, потому что сошла с ума и не могла позаботиться о нем. Его воспитали калабрианские волки.
— И где же правда?
Лулу пожала плечами:
— Откуда мне знать? Он, должно быть, наслаждается слухами, ведь иначе их не передавали бы в таком количестве. Думаю, ты должна стать первой, кто узнает правду, шери.
— Я не выношу его, — заявила Женевьева. — Он самый грубый, самый высокомерный…
Лулу откинулась назад и улыбнулась.
— Признайся, Виви, он кажется тебе неотразимым.
— Вовсе нет.
— Конечно да. Вся эта таинственность… а его глаза… И он отказал тебе. Этот недоступный мужчина становится еще более привлекательным хотя бы только по этой причине.
— Мне нужны его туфли, а не он, — передернула плечами Женевьева. — Я должна заполучить туфли. И как только они у меня окажутся, я собираюсь сказать этому чванливому мелкорослому сапожнику все, что о нем думаю!
Но Лулу пропустила ее замечание мимо ушей.
— Сдается мне, что эта недоступность может оказаться самым привлекательным качеством для такой женщины, как ты. Для женщины, которая только мечтает завести с кем-нибудь роман, но ничего не предпринимает для этого. Одно бесконечное томление и вздохи. Одни фантазии. Закари просто идеальный вариант для тебя.
— Последний раз предупреждаю, Лулу… — Теперь голос Женевьевы прозвучал недостаточно уверенно, она сама чувствовала это. Молодая женщина уставилась на свои ногти со свежим маникюром, сделанным как раз перед ленчем в салоне Лины Кавальери. Ее руки непроизвольно сжались в кулаки.
— Виви? В чем дело?
— Если бы еще Роберт не купил мне эту лошадь! — воскликнула Женевьева. — Я не выношу ее. Ты должна увидеть ее… эти кошмарные глаза… Когда бы я ни посмотрела на это ужасное создание…
— Пойдем. — Лулу подала знак, чтобы принесли счет. — Покажи ее мне.
— В одно мгновение все изменилось, — вздохнула Женевьева. — Я не могу не обращать на это внимания. Я не знаю, что мне теперь делать.
На следующее утро Женевьева, забыв о завтраке, прямо в ночной рубашке отправилась в кабинет. Усевшись за столик из индонезийского дерева акажу, стройные ножки которого были «обуты» в деревянные сабо, она принялась писать поэму о девушке, которая не знала собственного имени. Слова быстро приходили на ум. К тому времени, когда она остановилась, чтобы перечитать написанное, набросала более двадцати строчек и практически выдохлась от сильного наплыва вдохновения. Но как было восхитительно освободиться от самых тревожных чувств! Освобождение, как определенное вознаграждение, становилось актом творения. Перед ней лежала лучшая вещь из того, что она написала, так должно было быть. Этой поэмой она заявит о себе как о реальной фигуре в англоамериканской литературе, о ней заговорят не как о мнимой претендентке или прихлебательнице настоящих писателей.
Женевьева изо всех сил стремилась войти в круг богемной элиты Парижа с тех пор, как они приехали сюда с Робертом. В те дни, ощущая растущее неудовольствие от скучного, серого круга посредственных знакомых Роберта, она долго гуляла вдоль Сены, выходила на Левый берег и, проходя мимо станции метро «Ваван», отправлялась в Шестой муниципальный район. Она пристально вглядывалась в окна кафе «Селект», «Ротонды», «Купола», рассматривала столики на мостовой, за которыми собирались самые известные писатели и художники, проводили там целые дни напролет, делали записи и наброски в блокнотах. Она приносила в выбранное кафе тетрадь со стихами, заказывала кофе с молоком и устраивалась писать и подслушивать. Она оказалась здесь, в городе своей мечты, но как сторонний наблюдатель.
Прошло четыре месяца, веселые и в равной степени разочаровывающие, прежде чем Женевьева познакомилась с Лулу с Монпарнаса в баре отеля «Ритц». Она понравилась Лулу с первого взгляда, и та начала знакомить Женевьеву со всеми подряд и вдохнула жизнь в закрытый прежде для приезжей аристократки Париж. Теперь Женевьева знала всех и могла появляться где угодно не благодаря Роберту, на которого возлагала большие надежды как на мужа, а с помощью Лулу. Она нигде больше не хотела жить, в мире не было ни одного города, который мог бы сравниться с Парижем. Но все же Женевьева по-прежнему держалась на расстоянии от заветной мечты. Она так и не стала одной из них.
Чтобы войти в круг писателей, которыми она так восхищалась, чтобы ей позволили участвовать в обсуждениях, разговорах о значительных, умных, прекрасных вещах, чтобы к ее суждениям с интересом прислушались Беттерсон, Паунд, Форд и остальные, она должна была создать поистине блестящую поэму. Произведение, которое докажет, что она не просто очередная богачка со смехотворными стремлениями, с которой можно шутить и льстить в благодарность за ее покровительство, что она не просто хорошенькая англичанка, закадычная подруга Лулу, но настоящая, серьезная поэтесса.
Сегодняшняя поэма поможет ей в этом. Это облаченное в слова признание ее таланта, ее гения.
Но так ли это?
Как только Женевьева принялась читать свое творение, восторг, светившийся в ее глазах, померк. Поэма начала расплываться и терять форму прежде, чем поэтесса сумела найти ее. К шестой строчке она стала похожа на собрание бессвязных, разрозненных мыслей. К десятой строчке превратилась в жалобное нытье. А на тринадцатой Женевьева просто забросила чтение, перечеркнула написанное и принялась бездумно рисовать на полях. Она набросала небольшой и очень забавный портрет Жозефа Лазаруса, воздыхателя Лулу. Пингвин Лазарус держал рыбу в своем длинном клюве с таким смущенным видом, будто не мог понять, как она там оказалась.
— Так когда, ты говоришь, лошадь вернется домой? — Роберт возник в дверном проеме.
— Я точно не помню.
— Но ведь они должны были это уточнить, Виви. — Муж стоял перед зеркалом в холле, поправляя галстук. Она могла даже не смотреть на него, чтобы понять это, он всегда так делал, прежде чем уйти на работу.
— Мне показалось, служащий сказал, что на это потребуется три недели. Или четыре?
— Четыре недели? Целых четыре недели, чтобы почистить статую?
— Наверное, все-таки три недели. — Она пририсовала Лазарусу крылья и снова окунула перо в чернила, склонив голову так, чтобы Роберт не видел ее лица.
— Это ужасно долго. — Он стряхивал крошки с рукавов. — Жаль, я не заметил, что статую необходимо почистить. Мне показалось, что она и так замечательно выглядит.
— О, она такая грязная.
— А почему Селин не могла протереть ее?
— Дорогой! — Женевьева притворно округлила глаза, чтобы изобразить, как ее ужаснуло его предложение. — Я не могу доверить непрофессионалу заботу о предмете искусства, каким является статуя лошади. Конечно, я никогда не прощу себе, если ей причинят вред по моей вине. Такая деликатная работа требует умения, терпения и опыта.
— Ну что ж, полагаю, тебе виднее.
Он вышел через парадную дверь, прихватив шляпу и портфель, а она смогла наконец вздохнуть спокойно.
— Чем собираешься заняться сегодня? — спросил перед уходом.
— Мне необходимо окончательно решить, где будет проходить моя вечеринка. Скоро надо будет рассылать приглашения. Поэтому сегодня днем я собираюсь в салон Натали Барии. Там Поль Валери читает свои последние стихи. И Норман Беттерсон тоже придет.
— Ах да, тот газетчик. — Муж вошел в комнату и наклонился, чтобы поцеловать ее в макушку.
— Он не просто «тот газетчик», Роберт. Он гениальный поэт.
— Конечно, дорогая. Как скажешь.
Натали Барни, покровительница американского искусства, регулярно устраивала поэтические чтения в своем трехсотлетием особняке на рю Жакоб, но Женевьева впервые удостоилась приглашения. Желая произвести приятное впечатление, она долго обдумывала наряд и в конце концов остановила выбор на сером костюме-двойке от Шанель из импортного твида с зазубренным мужским воротничком, который придавал ей ощущение собственной значимости и глубокого ума. К костюму она подобрала пару выходных туфель-лодочек из змеиной кожи от английского дизайнера Себастьяна Йорка. В их форме не было ничего необычного, но изысканные материалы придавали им особый шик. В туфлях чувствовалась особая беззаботность, которая ей так нравилась. Ей нравилось представлять, как змеи обвивают ее ноги.
Общество в салоне мисс Барни составляли почти полностью женщины. Женевьева, похоже, оказалась единственной из присутствующих, не имевшей никакого отношения к лесбиянкам, насколько она могла об этом судить. Сейчас она чувствовала себя не в своей тарелке, возможно, потому, что не имела никакого влияния на этих женщин. Она ничего собой не представляла и оказалась там только благодаря рекомендации Нормана Беттерсона. И все же Женевьева хорошо понимала, что это одно из тех мест, которое она, как поэтесса, должна сделать своим. Если бы только Лулу оказалась здесь, чтобы познакомить ее с кем-нибудь из присутствующих. Лулу всегда всех знала. Но даже в те моменты, когда от нее требовалась серьезность, она не могла не шутить и не проказничать.
Не исключено, что Лулу отправилась бы вальсировать с одной из этих дам с моноклем и в галстуке, чтобы испытать нечто новое.
Поэтические чтения запаздывали. Женщины, одетые как мужчины, прохаживались среди старомодной обстановки прошлого века или сидели развалясь на кушетках, облокотившись на турецкие подушки. На Женевьеву никто не обращал внимания, она уселась и уставилась на куполообразный потолок из цветного стекла. В этом месте ощущалась какая-то древняя мифологическая атмосфера. Хотя маленькая, проворная Натали не имела ничего общего с греческой богиней. Если бы только Норман Беттерсон появился здесь!
Официанты разливали чай из серебряного чайника, но Женевьева словно приклеилась к своему месту. Вокруг нее поэтессы-лесбиянки грызли разноцветные пирожные и уплетали сандвичи с огурцом, сокрушались о прекращении деятельности Transatlantic Review, приветствовали появление «Этого квартала» и сплетничали о других событиях в известных салонах принцессы де Полиньяк и Гертруды Стайн. Женевьева мрачно разглядывала свои руки, сложенные на коленях, и жалела о том, что хозяйка не подала что-то более крепкое, сейчас ей не помешало бы выпить для храбрости.
Наконец из задней комнаты появился Валери, он был бледен и слегка пошатывался, казалось, что воротник его рубашки слишком тесно обхватывает горло. Он крепко сжимал в руках стопку бумаг. Зрители рассаживались по местам, устраивались с чайными чашками на стульях, расставленных аккуратными рядами, или пристраивались на кушетках.
И вот — ура! — маленький восточный человек, держа большую бутылку шампанского, вошел в шумную комнату в сопровождении горничной, которая несла поднос с бокалами. Затем появился Эзра Паунд в смехотворном берете и поприветствовал Женевьеву одновременно со всеми остальными присутствующими широким взмахом руки. И наконец, за Паундом возник Норман Беттерсон в накидке и галстуке-бабочке в сопровождении красавца Гая Монтерея, облаченного в неизменный светлый костюм. Дела определенно шли на поправку.
Женевьева пыталась сосредоточиться изо всех сил, но не могла внимательно слушать чтение. Она не понимала, о чем речь, возможно, проблема заключалась в том, что она не могла разобраться в тонкостях французского, или же ее способности почувствовать глубину поэтических выражений были ограничены. В конце концов она вытащила из сумочки ручку и блокнот, думая, что сумеет кратко записать некоторые из наиболее запоминающихся фраз. Но и это оказалось слишком сложно, и она сдалась, бросив свою затею, принялась легкими штрихами набрасывать портрет Эзры Паунда, изображая его в виде огромного берета с выбивающимися из-под него непослушными волосами, остроконечной бородкой и парой ступней, высовывающихся из-под него. На рисунке возникал живой парик, в то время как стихи Валери витали вокруг и рассыпались над ней, словно сорванные ветром лепестки цветка. И только когда все вокруг захлопали, она поняла, что чтение закончилось.
— Боже, это вы, добрый день, миссис Шелби Кинг. Знаете, во время этого бесконечного чтения я наблюдал за вами. Ведь, в конце концов, только на вас здесь и стоит смотреть.
— Благодарю вас, мистер Монтерей.
Все снова разбрелись по комнате, и Женевьева протянула свой бокал, чтобы наполнить его шампанским, когда бутылка опустела. Мужчина в светлом костюме подошел и похлопал ее по плечу как раз в тот момент, когда она с печалью размышляла над неприятной перспективой поживиться содержимым чайника. Женевьева смущенно улыбнулась, не вполне уверенная в том, насколько удачным можно было считать такой комплимент в подобной компании.
— Вы выглядели… — Он понизил голос и осторожно приблизился к ней, пытаясь создать атмосферу доверительного легкого дружелюбия, словно они были старыми приятелями. — Вы выглядели так, словно ваши мысли переполнялись чем-то глубоким и проникновенным, в то время как стихи проносились мимо вас, подобно поезду, как и сама жизнь. Казалось, что вы случайно обнаружили нечто очень важное.
— Ну… — Женевьева думала, стоит ли ей признаться в том, что она просто бездумно рисовала карикатуру.
— Это выглядело так, словно вы решали, каким способом лучше покончить с собой.
— Прошу прощения?
— Женевьева, моя дорогая! — К ним подошел Беттерсон, улыбаясь краешком рта, что придавало его лицу какой-то перекошенный вид. Его галстук-бабочка тоже сбился набок. — Вижу, вы встретили Гая. Знаете, он один из наших лучших поэтов.
— Да, мы раньше встречались. Норман, я думала…
— О журнале? Давайте поговорим об этом позже, хорошо? После этой шумной вечеринки? Мы собираемся в кафе «Селект», если хотите — присоединяйтесь.
— На самом деле я хотела поговорить не о журнале. Не совсем.
— Я думал, мы могли бы напечатать некоторые стихи Гая в первом выпуске.
— Замечательно. — Женевьева набрала побольше воздуха в легкие, глядя, как Монтерей направился через комнату, чтобы присоединиться к Паунду. — Я хотела поговорить о своих стихах, Норман.
— Ах да. — Беттерсон похлопал ее по руке и подмигнул ей, как обычно подмигивают ребенку. — Позже? В «Селекте»?
Громко прозвучал гонг. Женщина, одетая как английский дворецкий, объявила:
— Леди и джентльмены, сегодняшнее представление вот-вот начнется. Поскольку сегодня нас порадовало своим появлением прекрасное весеннее солнце, мы отправляемся в беседку, я прошу всех выйти в сад и захватить с собой чайные чашки. Те, кто чувствителен к холоду, могут прихватить пальто и шарфы. У нас есть пледы, в которые вы можете укутать ноги, но я уверяю вас, снаружи замечательная теплая погода.
— Потрясающе, — воскликнул Беттерсон. — Обожаю, когда Натали организует шоу.
Женевьева оглянулась в поисках Гая Монтерея, но ему, похоже, удалось незаметно ускользнуть.
Беседка в средневековом стиле напоминала греческий храм с колоннами и статуями, ступени которого сейчас были превращены в театральные подмостки. Зрители расселись по местам, защищенные от ветра высокими, увитыми плющом стенами соседних домов на рю Висконти и рю де Сен, на раскладных стульях, расставленных концентрическим полукругом. Женевьева расположилась рядом с Норманом Беттерсоном, который слегка прижался ногой к ее ноге.
Вышел мужчина в смокинге, Женевьева узнала в нем композитора и музыканта Вирджила Томсона. Он сел за рояль сбоку от беседки и, ударив по клавишам, заиграл какую-то современную импровизацию.
Когда Женевьева попыталась отодвинуться от Беттерсона, он еще сильнее прижался к ней.
В потрепанной шляпе с цветами из-за занавеса появилась Натали Барни, одетая как пастух, с посохом в руках, она вела за руку пастушку, свою худенькую, хрупкую любовницу, Рене Вивьен, в капоре и бесчисленных нижних юбках. Когда звуки рояля стихли, пастух встал на колени, громко декламируя по-французски нечто, что должно было начинаться как классическая греческая трагедия, и протянул руку, чтобы коснуться хорошенькой ножки пастушки.
После полуденного бокала французского белого вермута шамбери и черносмородинового ликера в кафе «Пре-о-Клер», а также после стакана свежего белого сухого вина «Сансерре», приятно охладившего ее в кафе «Селект», Женевьева почувствовала, что возродилась к жизни. Роберт сегодня приглашен на ужин, а значит, вернется домой поздно, она могла спокойно сидеть и наслаждаться приятным моментом. Гай Монтерей снова неожиданно появился в поле ее зрения, он увлеченно беседовал с двумя незнакомыми мужчинами.
— Что думаете о Монтерее? — Беттерсон проследил за ее взглядом сквозь клубы сигаретного дыма, его колено снова нашло под столом ее ногу, и ей пришлось резко отодвинуться.
— Он интересный человек.
— Мне кажется, что вы ему очень нравитесь, — заметил Беттерсон и зашелся в приступе кашля.
— Господи, с вами все в порядке? Принести воды?
Беттерсон поднес платок ко рту и вытер губы.
— Со мной все в порядке. Не согласитесь ли вы переспать со мной, Женевьева?
— О, Норман… — Неужели он пьян? Он так спокойно говорил об этом, в то время как его жена сидела в другом конце комнаты за барной стойкой в обществе его секретарши…
Он проследил за ее взглядом.
— Не обращайте внимания на Августу. Она не станет возражать. Она очень даже обрадуется этому.
До Женевьевы доходили слухи об отношениях его жены и секретарши.
— Я хочу поговорить о моей любовной лирике, — твердо произнесла она.
Его блестящие голубые глаза широко раскрылись.
— Я очень даже неплох, вы ведь знаете. Не отвергайте меня из-за болезни, она не заразна.
— Вы читали мои стихи?
— Милая, мне осталось жить всего пять лет. Когда дело касается хорошеньких женщин, я использую любую возможность. — Он снова разразился натужным кашлем.
Женевьева дождалась, пока приступ закончится, решила, что кашель станет своеобразной точкой в их разговоре. Однажды Эрнест Хемингуэй сказал, что Беттерсон «человек, отмеченный смертью». Замечание оказалось настолько удачным, что стало более знаменитым, чем сам Беттерсон. «Клеймо мертвеца» намертво приклеилось к нему.
— Норман, вы единственный, кто видел мои стихи. Ну, кроме Роберта, конечно, но он ничего не смыслит в поэзии. Мне необходимо знать… необходимо понять, выйдет ли из меня толк. Как вы считаете?
— О, я не сомневаюсь, вы великолепны. — Он снова начал вести себя непристойно.
Женевьева на мгновение закрыла глаза, но, когда она снова открыла их, выражение его лица изменилось.
— Вы очень милая девушка, Женевьева. — Беттерсон покачал головой и печально улыбнулся. — Но вся беда в том, что вы никогда никого не любили, правда? Это заметно, дорогая. Это очень заметно.
— Я понимаю.
Она вспомнила о Роберте, сделавшем ей предложение, и то, как она обдумывала свое решение, пытаясь убедить себя, что он для нее не просто средство спасения.
— Ну вот, я расстроил вас, хотя мне меньше всего этого хотелось.
Она покачала головой:
— Нисколько, мне необходимо было узнать правду.
Бар звенел от смеха, наполнялся густым туманом сигаретного дыма.
— Послушайте, Женевьева.
— Я лучше пойду домой, Норман.
— Милая. — Он накрыл ее ладонь своей рукой. — Ну почему вы не хотите попробовать написать о чем-нибудь еще? О чем-нибудь, о чем вы действительно имеете представление, о том, что вам довелось пережить.
Женевьева отдернула руку.
— Избавьте меня от своей снисходительности и опеки. Он потянулся за своим стаканом.
— Ладно, хорошо. Я буду с вами откровенен. Стихи просто ужасны, они напоминают старую засохшую еду, которую продолжают разогревать снова и снова и подают к столу. У вас есть что-нибудь еще?
— Ну… — Женевьева неохотно извлекла свой блокнот и принялась перелистывать страницы. — Я действительно считала, что любовные стихи удаются мне лучше всего, но… думаю, я могу переписать другие стихи и…
— Это все в этом блокноте? — спросил Беттерсон.
— Да.
— Тогда позвольте мне взять его. Если здесь есть что-то стоящее, я найду сам.
— О, но здесь полно набросков, я немного стесняюсь…
— Да ладно вам, оставьте это жеманство. — Он махнул рукой. Покраснев, она через стол подтолкнула к нему блокнот.
— Вы ведь сбережете его, правда? Это… очень личное.
— Конечно. — Он снова криво ухмыльнулся. — Ну а теперь давайте поговорим о журнале, хорошо?
— Не возражаете, если я присоединюсь?
Женевьева, слегка возбужденная разговором с Беттерсоном, садилась в такси на бульваре Монпарнас, напротив кафе «Селект». Обернувшись, она увидела Гая Монтерея.
— Куда вы едете? — поинтересовалась она.
— В «Шекспир и компанию».
Книжный магазин Сильвии Бич с примыкающей к нему библиотекой, расположенный на рю де Л'Одеон, представлял собой центр англо-американского литературного общества Левого берега Сены. Женевьеве стало очень любопытно, что за дела могут быть там у мужчины в светлом костюме в столь неурочный час. И хотя им было не по пути, она кивнула, приглашая его сесть в такси.
— Не могу поверить, что прошло столько лет, прежде чем я, наконец, приехал в Париж, — воскликнул он, положив руку на сиденье позади нее. — Я здесь всего несколько дней, но нигде раньше не чувствовал себя так особенно, как здесь. У меня ощущение, будто я вернулся домой.
— Я чувствую то же самое, — улыбнулась она.
— Здесь все ощущаешь гораздо острее. — Его губы приблизились к ее лицу. — Жизнь мчится стремительней и яростней. Вы так не считаете?
Она знала, что он собирается поцеловать ее и что она не станет этому сопротивляться, несмотря на то, что у нее есть муж и они находятся в общественном месте. И, господи, как было восхитительно чувствовать вкус его губ, его жар. Он протянул руку, чтобы коснуться ее груди, и она снова позволила ему. Она позволила ему запустить руку под ее пальто, под твидовый костюм-двойку, пока он не добрался до ее обнаженной плоти. Она жаждала отдаться неистовому порыву. Она хотела, чтобы он касался ее разгоряченного тела и целовал ее прямо в такси, пока они мчались по городским улицам. Автомобиль пробирался по запруженным транспортом улицам; испытывая легкое головокружение от алкоголя, она просто желала отдаться во власть мгновения и плыть по воле волн. Все происходящее казалось ей нереальным и походило на сон.
Такси подъехало к зданию, в котором располагался «Шекспир и компания». Они вышли, Монтерей расплатился с таксистом.
— Сильвия сказала, что пару ночей я могу переночевать в квартире над магазином, — объяснил он. — Пока не устроюсь достойным образом, ну, вы меня понимаете.
Прохладный вечерний воздух взбодрил ее, теперь она чувствовала себя не так уверенно. Женевьева провела рукой по губам, стирая остатки смазанной помады, он рылся в карманах в поисках ключей.
— Мне казалось, они были где-то здесь…
Похоже, это будет продолжаться вечность. Ее била дрожь. Наконец, он обернулся к ней и пожал плечами.
— Должно быть, я потерял их.
— Возможно, нам следует перейти улицу и постучаться в соседний дом. Сильвия наверняка там.
— Нет, она уехала вместе с Эдриэнн. Мне остается только проникнуть в квартиру через окно.
— Вы шутите.
Он упер руки в бока и взглянул на окно первого этажа.
— Думаю, это не составит особого труда. Я вскарабкаюсь по вывеске.
Такси уже уехало. Алкогольные пары постепенно рассеивались. Он поплевал на руки и цепко ухватился за раму, поставив ногу на карниз.
— Надеюсь, вы смотрите, — крикнул вниз. — Так я выгляжу особенно эффектно. — Он ухватился за вывеску, которая свисала с железного крюка как раз над дверью, на одной стороне было написано название магазина, на другой красовалось изображение самого Шекспира. Когда Монтерей рванулся вверх, крюк угрожающе прогнулся и заскрипел, Женевьева тихо вскрикнула и закрыла глаза.
— Смотрите, не отвлекайтесь, — раздался его голос, словно у него на затылке были глаза и он мог следить за ее реакцией.
Женевьева посмотрела сквозь пальцы и увидела, что он уже забрался на козырек магазина и медленно подбирается к балкону. Теперь она могла вздохнуть спокойно. Несколько секунд спустя он был уже в безопасности и возился с оконным шпингалетом.
— Подождите, сейчас я спущусь и открою дверь.
Стоило им войти внутрь, все изменилось в лучшую сторону. Женевьеве раньше не доводилось здесь бывать, хотя в магазинчике, расположенном этажом ниже, она оказывалась не раз. Здесь было очень уютно, в углу стояли односпальная кровать, кресло, стол и два деревянных стула, а в небольшом закутке располагалась крошечная кухонька. Оттуда выходили две двери.
— Идеальное для меня место, — заметил Монтерей. — Здесь есть все, что может понадобиться человеку, а внизу достаточно книг, чтобы хватило до конца жизни.
Он извлек из кармана пиджака небольшую флягу, а затем принялся рыться в буфете в поисках стаканов.
— Вот так. — Сказал он и наполнил стаканы.
Женевьева сделала глоток, чувствуя, как тягучая жидкость обожгла горло, и обрадовалась возвратившемуся опьянению. Она с любопытством посмотрела на кровать, как вдруг он подошел к ней сзади и принялся целовать ее шею. Она позволила его рукам ласкать свое тело, свои ноги. Когда он запустил руки ей под платье, она глубоко вздохнула. Что она делает?
— Тебе ведь нравится, правда? — прошептал он. — Тебе понравится еще больше.
Она почти слышала дразнящий голос Лулу: «В супружеской постели было так восхитительно, правда?»
В голове мелькнула смутная мысль: пора уходить! — но она уже изогнулась навстречу ему, держась за край стола, чтобы сохранить равновесие.
Женевьева вспомнила о привычном стуке Роберта в дверь ее спальни. О его ритуалах — предварительном, промежуточном, последующем.
Женевьева изо всех сил прижималась к Монтерею. Пусть это произойдет.
Вся беда в том, что ты никогда никого не любила, правда? Это очень заметно, милая.
Она почти теряла рассудок, желая, чтобы это произошло. Похоже, с ним происходило нечто похожее. Она не успела как следует разглядеть его лица, когда он резко вошел в нее. Она должна была опереться о стол, который стал двигаться вперед, деревянные половицы скрипели в такт их движениям. На самом деле пол скрипел сильнее, заглушая стоны Женевьевы. Дело вовсе не в том, что она не была возбуждена. Она наслаждалась запретной природой страсти, своей собственной порочностью. И чем больше боли это причиняло, тем сильнее ей нравилось.
Когда все закончилось, он принялся стягивать с нее одежду, путаясь в застежках.
— Тебе не кажется, что ты ошибся? — спросила она. — Разве не принято раздеваться в начале?
— Ты считаешь, что мы уже закончили? — поинтересовался он.
На этот раз их обнаженные тела сплелись на постели. Пальцы ласкали кожу легкими прикосновениями, они были не в силах отвести друг от друга взгляда, томились в мучительно-сладких поцелуях. Это был долгий и чувственный секс.
А после, когда они сидели, прижавшись друг к другу, на крошечной кровати, ее вдруг охватила не поддающаяся контролю дрожь.
— Ты необычная, ты знаешь об этом? — У него был изумленный, несколько отрешенный взгляд, словно кружилась голова.
— Правда? — Во второй раз ее проняло. Сначала, понятно, это была всего лишь страсть. Но все равно они занимались «любовью без любви». В чем же дело?
— Эй, да ты замерзла. — Он плеснул немного виски в ее стакан. — Это поможет тебе согреться.
— Мне не холодно. — Она все равно поднесла к губам стакан. — Я боюсь.
— Чего?
— Того, что сделала. Того, что это означает.
— Это может означать все, чего ты сама пожелаешь. — Он поцеловал ее в плечо. — Моя сладкая девочка.
Ты сладкая, сладкая девочка…
— Я говорю о своем браке.
Он сделал большой глоток прямо из фляжки, и она вдруг заметила татуировку у него на руке.
— Можно мне посмотреть? Это был череп. Черный череп.
— Я сделал ее в Северной Африке. Это часть договора.
— Что это за договор?
— Договор со смертью.
Какая-то ее часть сгорала от любопытства, желала узнать больше, но другая, более разумная, не хотела больше ничего слышать. Это было слишком страшно. Он снова предложил ей фляжку, но она покачала головой. Ей больше не хотелось виски. Его запах чувствовался в его дыхании, на ее коже, там, где он целовал ее и ласкал языком. Чтобы немного освежиться, Женевьева решила выпить воды. Она перелезла через него и выбралась из постели, чувствуя себя неловко, понимала, что он наблюдает за ней, пока она втискивается в свою рубашку из китайского шелка с кружевным подолом, а затем натягивает на себя свой до нелепости строгий, измятый костюм.
Кран в кухне резко заскрипел, ржавая вода потекла тонкой струйкой, но Женевьева с жадностью осушила стакан.
— Ванная здесь? — Она взялась за ручку одной из дверей.
— Да, — лениво откликнулся он.
Но это оказался чулан. Она подергала другую дверь, чувствуя себя ужасно неловко.
Пока умывалась и поспешно подправляла макияж, до нее донеслись его слова:
— Ты читала мои стихи? Это своего рода метафизика, нечто недоступное простому восприятию, но все-таки я еще не достиг совершенства. Мне никак не удается достичь необходимого состояния, в котором только и возможно осветить истину. Опиум помогает, но этого мало. Ты пробовала опиум?
— Нет, — отозвалась она. Ее лицо в зеркале выглядело довольно глупо. Она с тоской вспомнила о Роберте. Он уже наверняка вернулся со своего ужина и сейчас сидел со своими любимыми газетами — New York Times, Boston Cronicle, Le Monde — и сигарой, в домашних тапочках, держа на коленях чашку кофе или потягивая виски. Сейчас ей отчаянно захотелось оказаться дома рядом с ним, уютно свернуться калачиком на своей кушетке в виде пироги. Она желала, чтобы все было как прежде.
Хотя вполне возможно, что муж еще не вернулся домой. Если она поедет домой прямо сейчас, то успеет принять ванну и смыть с себя дым сигарет, виски, пот.
— Ты глупая девчонка, — прошептала она, обращаясь к своему запотевшему отражению в зеркале.
— Я жду не дождусь, когда познакомлюсь с Сильвией, — послышался голос Монтерея.
Она нахмурилась.
— Но… — Ведь это квартира Сильвии. Над магазином Сильвии. Он наверняка встречался с ней раньше. По крайней мере, должен был.
Она вспомнила, как Монтерей стоял на тротуаре, без ключей, а затем бодро карабкался в окно. Он не знал, где находится ванная.
— О господи!
Выйдя из ванной с притворной улыбкой на губах, она обнаружила, что его нет в комнате.
— Гай? — И куда он подевался?
Повинуясь инстинкту самосохранения, она быстро схватила с пола пиджак его светлого костюма. Тот же инстинкт приказал порыться в его карманах, добравшись до внутреннего кармана, Женевьева обнаружила в нем… тяжелый металлический предмет, известный любому человеку, хотя ранее ей и не доводилось держать в руках огнестрельного оружия.
Сердце гулко стучало в груди, она едва не выронила пистолет, но сумела вовремя взять себя в руки, засунула его в карман и осторожно положила пиджак на прежнее место. Затем принялась молча искать свои разбросанные повсюду вещи.
Необходимо было как можно быстрее выбираться отсюда. Но он наверняка внизу, в магазине, бродит обнаженный среди книг. Как ей пройти незамеченной?
— Гай? — Она изо всех сил старалась, чтобы ее голос звучал беспечно. — Где ты?
— Я здесь. — Голос доносился не снизу.
— Что ты делаешь, Гай?
— Я размышляю. В моей голове созрело стихотворение, я пытаюсь выпустить его наружу. Как замечательно думается в маленьких, тесных и темных местах.
Он притаился в чулане.
Женевьева молниеносно выскочила из квартиры и ринулась вниз по лестнице.
— Женевьева? — донесся до нее далекий голос, пока она бежала через магазин, а затем боролась с задвижкой на двери. — Ты не хочешь послушать мое стихотворение? Оно чертовски удачно получилось.
Роберт вернулся домой около одиннадцати часов вечера после отвратительного ужина в одном из самых снобистских ресторанов Парижа (официант на полном серьезе намекнул, что стейк тартар подается сырым. Не просто непрожаренным, а именно сырым). Компанию ему составили чванливый владелец йоркширской текстильной мануфактуры, худший представитель разновидности британских промышленников, напоминающий жабу, и его подобострастный помощник с плохими зубами. Казалось, что эти люди не имеют ни малейшего понятия о человеческих тепле и сердечности. Общаясь с ними, Роберт с потрясающей ясностью представил «темные фабрики сатаны».[3] Войдя в квартиру, он был несказанно удивлен, обнаружив, что жены до сих пор нет дома.
Откуда-то издалека раздавалось невнятное бормотание, он прошел через холл, ставший пустым и гулким с тех пор, как лошадь увезли почистить. Но это оказалась Селин. Звук шагов, приближавшихся будто бы из гостиной, очевидно, доносился из квартиры этажом выше. Неужели вздох, который, как ему показалось, прозвучал в комнате Женевьевы, отведенной под туфли, принадлежал какой-то паре ее безумно дорогих туфель? Возможно, он сам вздохнул и не заметил этого.
Роберт мрачно подумал, что эта квартира кажется невыносимо пустой, если ее нет рядом, и налил виски. Где она сейчас? Она говорила ему, что днем собирается посетить поэтическое собрание, но ничего не сказала о вечере. Он готов поклясться, за всем этим стоит Лулу.
Роберт как раз размышлял, стоит ли попросить Селин разжечь камин, когда раздался телефонный звонок. Он надеялся, что это звонит Женевьева, чтобы извиниться за свое опоздание и сообщить, что она появится с минуты на минуту, но не тут-то было.
— Я собираюсь сделать кое-какие изменения в своем розарии, — заявила леди Тикстед после сдержанного обмена приветствиями.
— Вы хотите поговорить об этом с Женевьевой?
— Господи, для чего мне говорить с ней об этом?
Он почесал в затылке.
— Вы хотите обсудить это со мной?
— С вами?
Это уже было чересчур. Очевидно, она напилась как сапожник, хотя ее голос казался абсолютно трезвым.
— Женевьевы сейчас нет дома, леди Тикстед. Уже довольно поздно. Передать ей, чтобы она перезвонила вам?
— И где же она?
— Я не знаю.
Он услышал шумный вздох.
— Вам не кажется, что вы должны держать ее на коротком поводке?
Хотя он хорошо знал этих людей, слова шокировали его.
— Она не собака.
— Это всего лишь образное выражение.
— Мне это известно. — Он почувствовал, что начинает скрежетать зубами.
— Роберт, мы с мужем доверили вам безопасность и благополучие нашей дочери. Вы прекрасно знаете, что Женевьева очень хрупкая девушка. Вы ведь не хотите нас разочаровывать, не так ли?
— Леди Тикстед, — Роберт начинал метать громы и молнии. Вот теперь он действительно пришел в ярость, — я отношусь к вам со всем должным уважением, но Женевьева уже не ребенок.
— Да, но…
— И она моя жена.
Еще один шумный вздох на другом конце провода. Затем Роберт услышал: «У Бесс родилось четверо малышей».
Разговаривая с этой проклятой женщиной, он словно постоянно пытался разгадать сложную загадку. Она стала для него настоящей китайской головоломкой.
— У Бесс?
— У нашей любимой маленькой собачки. Думаю, мы оставим двух щенков. Вы не хотите взять одного?
— Не думаю.
— Это миниатюрные собачки, вы ведь знаете. Это бигль. У вас в Америке есть такая порода? Возможно, вы называете их как-то по-другому?
— Простите, но мы не можем взять собаку.
— Вы ведь расскажете об этом Женевьеве, правда? Я бы хотела, чтобы она перезвонила мне.
— Чтобы поговорить о щенках?
— О ее отце. Он нездоров.
Положив трубку, он вернулся к бутылке виски, так и не выяснив, что произошло с виконтом, не разобравшись, что послужило причиной звонка матери Женевьевы, загадочная болезнь, щенки или что-то еще, о чем она не пожелала с ним говорить. Очень часто, разговаривая с леди Тикстед, он чувствовал, что она изъясняется на каком-то зашифрованном языке. Все эти непонятные сообщения о розарии и щенках Бесс для Женевьевы могли означать нечто важное, недоступное его пониманию.
Если бы только они вели себя как нормальные, простые люди и говорили на доходчивом английском языке, его жизнь стала бы намного легче! Но папочка был аристократом с высокомерно поджатыми губами, а мамочка совершенно выжила из ума и слишком часто прикладывалась к бутылке. Где-то глубоко под надоедливой уклончивостью, недосказанностью, безумием и туманными замечаниями скрывалось нечто запретное, какая-то тайна. Эта тайна имела прямое отношение к его Женевьеве, и именно поэтому ему так часто напоминали, что за ней надо приглядывать.
Он с самого начала чувствовал, что семья что-то скрывает. Когда он ухаживал за будущей женой, леди Тикстед как бы случайно напоминала о «хрупком здоровье» дочери и намекала на «затянувшееся состояние». Когда виконт дал свое благословение на помолвку, он еще раз подчеркнул, что на Роберта возлагается ответственность «заботиться» о его дочери. Возможно, это выглядело неразумно, но он продолжал упорствовать. Все это выглядело так, будто виконт до сих пор видел в Женевьеве ребенка или же больную, которой больше пригодилась бы сиделка, чем муж.
Роберт изо всех сил пытался проникнуть под покров тайны, но так и не дождался объяснений, а самому ему меньше всего хотелось проявлять неуважение или выглядеть чрезмерно подозрительным. В конечном счете он решил, что всему виной туманный английский сплин. Совершенно определенно, у Женевьевы не было ни малейшего намека на болезнь. Все выглядело как раз наоборот. Когда он увез свою невесту из дома Тикстедов, расположенного в скучной, серой болотистой местности, она буквально расцвела.
Роберт давно не вспоминал о тайнах из прошлого Женевьевы. Но сегодня вечером, в пустой квартире, эта мысль снова вернулась, и он никак не мог отделаться от нее. Роберт пробовал расспросить саму Женевьеву, но так ничего и не добился. Ее было так же трудно припереть к стенке, как и ее родителей, а недавно у нее начали появляться новые тайны…
Когда он пытался начать разговор об их переезде в Бостон, она тут же меняла тему. Жена делала это так быстро и искусно, что он не успевал понять, как это произошло. Еще одна тайна касалась ее отношений с Лулу. Ему ужасно хотелось узнать, куда они ходят по вечерам, с кем разговаривают, о чем эти беседы. Он хотел понять, почему жена так сильно сдружилась с женщиной, с которой у нее практически нет ничего общего. Неужели она не видит, что, если чуть-чуть приоткроет завесу таинственности, ему не придется забрасывать ее бесконечными вопросами?
А несколько недель назад произошел очень неприятный случай.
Все началось после телефонного звонка от ее матери, такого же, как сегодня вечером. Положив трубку, она заявила:
— Мамой так легко манипулировать. Она часто сама не понимает, что творит. — А затем глубоко погрузилась в свои мысли и вдруг выпалила: — Я ведь не такая как она, правда?
Роберт отрицательно покачал головой.
— Я знаю, что часто поступаю дурно. С этим ничего нельзя поделать. Что бы я ни предпринимала, как бы я ни боролась с собой. На самом деле, чем больше я пытаюсь от нее отличаться, тем больше открываю в себе похожих черт.
Он тогда не понял, о чем она говорит, но ему понравилось, что Женевьева смягчилась и стала нежной и ласковой во время того разговора. И все вокруг стало добрым и мягким, они долго и спокойно беседовали в тот вечер, что нечасто случалось за их совместную жизнь.
Женевьева редко сама приходила к нему в спальню, но в ту ночь пришла. И он испытывал несказанное блаженство, лежа с ней в постели и нежно сжимая ее в объятиях. А затем настал самый главный момент блаженства. Она склонила голову ему на грудь, он ощущал ее тихое и спокойное дыхание, она засыпала. Роберт почувствовал то неуловимое мгновение, когда она начала проваливаться в сон. Он хотел защитить ее и согреть своим теплом, ее, свою Женевьеву. Навсегда. Он хотел…
— Милая? — прошептал он. — Ты еще не спишь?
— Мм?
Он нежно провел рукой по ее мягким волосам, играя несколькими прядями, а затем осторожно убрал их за ухо. — Я подумал…
— О чем?
— Давай заведем ребенка.
Это был конец. Прощальное мгновение. Она похолодела, сжалась в его объятиях, как мертвая. А затем осторожно высвободилась, бормоча себе под нос, что ей надо в ванную. Он остался один в постели, с растерянным видом глядя на свет, пробивающийся сквозь наполовину распахнутую дверь спальни, и слушая приглушенный звук ее шагов, пока она решительно уходила не в ванную, как сказала, а в свою спальню, расположенную в другом конце коридора.
Роберт пил уже третью порцию виски и злился все больше и больше. Он отчаянно хотел сына. А она запретила ему даже упоминать об этом! И как она посмела сделать запретным самое естественное из человеческих желаний?
Он вскочил и принялся мерить комнату широкими шагами, ощущая, как в душе назревают два противоречивых чувства.
Когда твоя проклятая жена, наконец, заявится домой, произнес голос в его голове, чертовски напоминающий голос Гарри Мортимера, просто затащи ее в постель и покажи, кто в доме хозяин! Ты и глазом моргнуть не успеешь, как она забеременеет и будет несказанно счастлива. Придет конец ее шатаниям по городу и секретам в компании с Лулу. Ей кажется, что она не хочет ребенка, но, в конце концов, Женевьева всего лишь женщина.
Но другое чувство казалось более сдержанным и благоразумным, оно больше соответствовало его внутренней сути. Успокойся, уговаривал его внутренний голос, что ожидает вас обоих, если ты станешь вести себя как животное? Твою жену можно заставить смотреть на вещи так же, как смотришь ты, лишь узнав, что тревожит ее. Тогда ты сможешь дать ей те поддержку и уверенность, которых ей так недостает, стать хорошим, надежным мужем для нее. Странно, что такая женщина не хочет иметь детей. Здесь наверняка все не так просто, как кажется. Если она отказывается признаться, есть множество других способов выяснить, в чем дело. А теперь просто успокойся, сядь и обдумай план дальнейших действий.
— Селин? — Роберт распахнул дверь гостиной и вгляделся в пустой коридор. — Пожалуйста, не могли бы вы разжечь камин, прежде чем отправитесь спать?
Затем он снова вернулся к бутылке виски и налил себе новую порцию.
Такси почти подъехало к рю де Лота, но Женевьеве требовалась пара минут, чтобы прийти в себя, прежде чем встретиться с Робертом. Ей удалось остановить такси нового типа, полностью моторизованное, но оформленное в стиле старого конного фиакра, в этом автомобиле пассажирское сиденье было защищено со всех сторон, а водитель находился снаружи. Женевьеве пришлось несколько раз постучать в небольшой экран, чтобы привлечь его внимание.
Они остановились под раскидистыми платанами, чуть в стороне от шумного уличного движения. Женевьева разглядывала влюбленную парочку, молодые люди смеялись и протягивали руки навстречу друг другу, в то время как их лошади крутились в разные стороны. Компания хихикающих девушек видела в конной прогулке прекрасную возможность продемонстрировать стройные ножки, которые снова окажутся закрыты длинными платьями, стоит им только спешиться. Компания молодых парней неподалеку не сводила с них восхищенных глаз.
Чем могут грозить ей события сегодняшнего вечера? О том, что произошло, знали только она и Гай Монтерей. Она не сомневалась в том, что он абсолютно ненормальный человек. Поначалу Женевьева чувствовала легкую тревогу, но теперь, когда ей удалось благополучно ускользнуть, она начала понимать, что он не собирался причинять ей никакого вреда. Этот человек определенно был слишком погружен в свой безумный внутренний мир, чтобы задумываться о ее существовании.
Она никому не расскажет, что изменила Роберту. Даже Лулу. Особенно Лулу. Только так все это закончится. Она совершила ошибку, но не собирается вновь наступать на те же грабли. Она наведет порядок в своем браке. Все наладится, а иначе она просто не знает, как жить дальше. А Роберт, бедный Роберт, он ни в чем не виноват. Почему он должен страдать? Лучше ему ни о чем не знать.
Вообще, возможно, хорошо, что это произошло именно сейчас. Она «вышла за рамки», но ловко сумела ускользнуть целой и невредимой.
Женевьева уже собиралась попросить водителя ехать дальше, когда заметила высокую стройную женщину, которая шла по улице, держа за руку девочку лет десяти. На женщине было длинное шерстяное пальто с высоким воротником, отороченным мехом опоссума, и такая же шляпка-колокол. В ее манерах чувствовалось нечто величественное. Девочка в пальто, которое было почти уменьшенной копией пальто матери, изо всех сил пыталась поспеть за ее широкими шагами. Женевьева смотрела на них из окна, в этот момент девочка взглянула на мать с невероятным обожанием, а та улыбнулась ей в ответ. Девочка была в очаровательных гольфах до колена, а на ногах красовались кожаные ботинки Мери Джейн.
Что-то всколыхнулось в памяти Женевьевы, ее охватила какая-то странная печаль. Какое-то забытое воспоминание поднялось со дна души.
— Месье! — Женевьева постучала в стекло. — Разворачивайтесь, пожалуйста.
— Вы передумали ехать на рю де Лота? — раздался снаружи хриплый голос.
— Да. Пока да.
Женевьева вышла на Вандомской площади и расплатилась с шофером. Она прошла через восьмиконечную площадь, глядя на печально известную колонну. Первоначально на ее месте возвышалась статуя короля-солнца, Людовика XIV, но затем ее снесли и заменили колонной, отлитой из 1250 русских и австрийских пушек в честь празднования побед Наполеона. Затем она снова была снесена и позднее переделана в точную копию своего последнего воплощения. Из номера Женевьевы в отеле «Ритц» открывался замечательный вид на колонну, как раз через дорогу, за министерством юстиции. В свое время она славно повеселилась в «Ритце». Здесь Женевьева впервые встретилась с Лулу, как-то поздно вечером, в баре. Лулу заявилась босиком, ведя за собой на поводке черную пантеру. Она принесла миску и просила официанта наполнить ее водой для ее «подружки». Когда официант занервничал, Женевьева подошла к ней и наполнила миску шампанским из своей бутылки, к явному удовольствию «черной подружки», которая тут же все вылакала. Женевьеве ничего не оставалось, как еще раз наполнить миску до краев. Она пробормотала: «А у вашей пантеры дорогостоящие привычки».
— Совершенно верно, — откликнулась Лулу. — Именно поэтому мы так хорошо ладим. Мы могли бы быть с ней сестрами. У нас одинаковые, черные как смоль, волосы, сердитые глаза и одна манера разрешать проблемы с капризными мужчинами.
В следующий раз Лулу появилась в баре отеля «Ритц» через несколько вечеров, подошла прямо к столику Женевьевы и тепло поприветствовала ее по имени, будто они уже стали добрыми друзьями. Она не помнила о пантере.
— Должно быть, я одолжила ее у кого-то из знакомых, — рассеянно призналась новая знакомая.
Женевьева восхищалась непредсказуемостью и легкостью подруги. Никогда нельзя было предвидеть, что она скажет или сделает в следующую минуту, особенно когда бывала пьяна. И все же их дружба была продиктована определенными нуждами. У Лулу было множество друзей, но большинство из них оказались ненадежны и изменчивы, как погода. Ей нужен был кто-то преданный, человек, на которого можно во всем положиться. Кто-то, кому она могла бы довериться. Кто-то, кому не нужен ее портрет, кто не станет использовать ее, преследовать цель переспать с ней, кто не предаст ее, не посмеется над ней. А Женевьева искала того человека, который введет ее в круг парижской богемы, распахнет перед ней двери в огромный и удивительный мир.
Женевьева проходила мимо старинных величественных домов с изящными фасадами, переживших не одно поколение владельцев, населенных бесчисленными сонмами привидений. Большинство принадлежало сейчас модным модельерам, парфюмерам и ювелирам, а те несколько особняков, которые по-прежнему оставались частными резиденциями, стали пристанищем хирургов с сомнительной репутацией, гребущих деньги лопатой, известных астрологов и странных пожилых дам из прошлого века, компанию которым составляли их кошки и бесчисленные воспоминания.
Женевьева шла вперед, затем свернула на рю де ла Пэ и прошла по аккуратному переходу, который не бросался в глаза многочисленным туристам и покупателям, которые в основном собирались у домов моды на улице. Этот проход вел в маленький внутренний дворик, высокие стены которого были увиты плющом и другими ползучими растениями, они шелестели, словно перешептывались между собой, колыхаемые ночным ветерком. О существовании этого дворика Женевьева узнала всего несколько дней назад.
Стоя перед магазинчиком Закари, она внимательно разглядывала растянутую, манящую вывеску, затем заглянула в окно, стараясь увидеть хоть что-нибудь сквозь маленькие щели между пурпурными бархатными занавесками. Внутри царил полный мрак, что, впрочем, не удивило ее, ведь было почти десять часов вечера.
Наклонившись, Женевьева принялась всматриваться в маленькое подвальное окошко и вдруг обнаружила, что внутри горит тусклый свет. Она немного смогла разглядеть, только высокие спинки сидений, краешек рабочей скамьи, очертания инструментов. Напряженно прислушиваясь, уловила доносящиеся из глубины подвала приятные звуки скрипки, очевидно, играл патефон. Неясный силуэт медленно передвигался по комнате, время от времени присаживался на скамейку.
Женевьева прекрасно знала, что у нее великолепные ножки, красивые, округлые икры и изящные, словно точеные, лодыжки. У нее были маленькие ступни и высокий подъем (ей много раз намекали, что с таким подъемом она могла бы стать танцовщицей), а пальчики одинакового размера и привлекательной правильной формы, в нежном изгибе перебегали от большого к самому маленькому. Она всегда носила чулки из тончайшего шелка, и сегодняшний день не стал исключением — элегантные чулки только подчеркивали изящество ее ног. На ней по-прежнему красовались туфли из змеиной кожи от Себастьяна Йорка, и она почти слышала, как эти змеи восхищенно шипят, восторгаясь ее находчивостью, когда она вплотную приблизилась к железной решетке, закрывающей крошечное подвальное окошко. Закари выбирал своих клиентов, как простые смертные выбирают фрукты, нечто подобное она слышала о нем от других. Ему должен был нравиться вид их ног. Ну что ж, ни один истинный ценитель не сумеет устоять перед такими ножками…
Какое-то время Женевьева просто стояла перед окном, демонстрируя красивые ножки в изумительных туфельках, затем неторопливо прошлась взад-вперед. Вечерело, становилось холодно, она плотнее укутала шею в лисье боа, чувствуя стыд и молясь про себя, чтобы никто не наблюдал за ней из какого-нибудь скрытого занавеской окна в одном из соседних зданий. Потом прошлась еще, гадая, когда же Закари, наконец, заметит ее.
Женевьева ходила и ходила перед окном, спокойно считая про себя, постукивая каблуками по железной решетке, издавая резкий звенящий звук, такой, чтобы мастер мог услышать его из своей комнаты. Все, что угодно, лишь бы заставить его выглянуть в окно.
Она думала о Роберте, который уже наверняка вернулся домой со своего ужина и удивлялся, куда она пропала, а возможно, муж уже отчаялся ее дождаться и отправился спать. Затем ее мысли занял отец. В последнем письме мать написала, что ему нездоровится. У него разыгрался жесточайший бронхит, он почти три недели провел в постели. Мать, очевидно, надеялась, что дочь приедет навестить родителей, но при одной мысли о молчаливом доме и его несчастных обитателях ее начинала бить дрожь. Вполне возможно, это всего лишь уловка, чтобы заманить ее домой. Это так похоже на мать. Если бы отец действительно серьезно заболел, кто-нибудь позвонил бы, скорее всего, вечный ангел-хранитель их семьи, доктор Петерс. Леди Тикстед вела себя очень странно в том, что касалось недомогания отца, и исписала целую страницу, беспричинно беспокоясь о здоровье самой Женевьевы. Это волнение приводило ее в ярость, она ясно слышала ноющий голос матери, видела ее скрещенные руки. «Со мной все в порядке, — написала она в ответном письме. — Со мной ничего не произошло. — А затем: — Передайте папе, что я его очень люблю. Надеюсь, он скоро поправится».
Кто-то слегка толкнул ее в спину, Женевьева ощутила чье-то горячее дыхание. Она подпрыгнула от испуга, представив на мгновение, что это Гай Монтерей наставил на нее свой пистолет, но, резко обернувшись, увидела Паоло Закари, который стоял рядом со скрещенными на груди руками и с улыбкой разглядывал ее.
— Вы любите в одиночестве бродить по улицам?
— Я пришла сюда, чтобы поговорить с, вами, месье Закари.
— Но магазин закрыт, мадам.
— Все-таки вы только что вышли оттуда.
— Я пытался работать, — улыбнулся он, — но снаружи доносились ужасный дребезжащий шум, цоканье каблуков, и парочка ужасных рептилий бесконечно крутилась у меня перед глазами. Они не дали мне сосредоточиться на работе, понимаете?
Она кивнула с сочувствующим видом:
— А то кафе с зелеными стенами еще открыто? Мне бы хотелось выпить вместе с вами.
Смутная улыбка едва тронула его губы, ей показалось, что она вдруг снова увидела забавную веснушку у него на шее, несмотря на сгустившуюся вокруг темноту.
— Вы пытаетесь соблазнить меня, миссис Шелби Кинг? Женевьева поморщилась:
— Я размышляла над нашим последним разговором. Я хочу рассказать вам, почему туфли на самом деле так важны для меня.
Шла весна 1913 года. Сиятельная Женевьева Сэмюэл девяти лет от роду проводила день в Лондоне вместе со своей матерью. Они отправились в «Хэрродс»,[4] где мамочка сделала свою окончательную примерку наряда для приема по случаю ее предстоящего дня рождения.
— Что скажешь, дорогая? — Леди Тикстед появилась из-за занавески и теперь стояла перед зеркалом в платье с кринолином из аквамаринового и золотого шифона, усыпанного радужными блестками.
— Оно прекрасно.
— А как насчет этого? — Леди приподняла подол платья, демонстрируя изящные атласные бальные туфли аквамаринового оттенка.
— Великолепно!
— Пройдитесь, чтобы я смогла рассмотреть вас, — приказала ассистентка с суровым лицом. В ответ мать Женевьевы принялась вальсировать, кружась по примерочной, ее усыпанное блестками шифоновое платье мерцало и переливалось, отражая блики света, так что Женевьеве казалось, будто она смотрит на струящийся водный поток. Время от времени взгляду открывались божественные атласные туфли…
— Какой стыд, что папа так отвратительно танцует, — заметила Женевьева в отделе детской одежды.
— Женевьева!
— Прости. Я прос…
Но леди Тикстед уже мчалась вперед.
— Ну а теперь, дорогая… — заявила она, — ты была так терпелива сегодня утром, что заслужила подарок. Что ты скажешь об этом?
Она выбрала пару туфель Мери Джейн с ближайшей полки. Это были черные лакированные туфли, блестящие, словно отполированные зеркала.
— Они замечательные!
Было что-то особенное в том, как измеряли твои ступни, взрослый человек склонялся и почти вставал на колени перед тобой. Рулетка холодила ступни Женевьевы, и ей хотелось пошевелить пальцами и отодвинуться в сторону. Но это было приятно. Седовласая леди сообщила, что ее нога выросла до полного размера. Не наполовину, а до полного размера.
— Пройдитесь, чтобы я посмотрела. — Ассистентка снова поднялась в полный рост. — Как вы себя в них чувствуете?
В новых туфлях ощущалась особенная, безупречная жесткость. Они слегка жали, но это было даже приятно. Женевьева разглядывала свои ноги, поворачивала их то так, то эдак. Они выглядели как ноги настоящей взрослой женщины. Девочка взглянула на себя в зеркало и подумала, что ей совсем недалеко до настоящей леди. Однажды она станет такой же, как ее мать, и будет вальсировать в легком, струящемся шифоновом платье. Станет такой же прекрасной, как мама, только куда более счастливой…
— Ну как тебе, мамочка? — Она резко обернулась, чтобы увидеть, какое впечатление произвела на леди Тикстед.
Но мама не смотрела на нее, она разговаривала с каким-то мужчиной.
— Мамочка? — позвала она снова, на этот раз громче.
— О, они очень милы, дорогая. — Леди Тикстед выглядела взволнованной.
— Хороша, как картинка, — воскликнул мужчина, и в его голосе послышался странный акцент. — Не пожелают ли леди выпить со мной по чашечке чая у Фортнума?
Мистер Слэттери, а именно так звали мужчину, оказался «джентльменом из Нью-Йорка». Тот факт, что он приехал из Нью-Йорка, придавал ему невероятный шик. Женевьева никогда раньше не встречала американцев. Ее потряс его рассказ о том, как он плыл на корабле по Атлантическому океану, ее удивили его странный акцент и ширина его плеч. Ко всему прочему, он заказал огромное блюдо пирожных, и она успела съесть три штуки, прежде чем мать заметила, как она запихивает их в себя, и приказала остановиться.
— Где вам нравится больше, в Нью-Йорке или в Лондоне? — спросила Женевьева.
— Мне трудно ответить на этот вопрос. — Мистер Слэттери потер рукой массивный подбородок. — И тот и другой — замечательные города. В Лондоне есть ощущение многовековой истории, а что касается Нью-Йорка, нигде не царит такого оживления, как в этом шумном и веселом городе.
— Что за нелепый вопрос! — Леди Тикстед продолжала разглаживать волосы. В ее движениях сквозило застенчивое девичество, чего Женевьева никогда раньше не замечала в поведении матери. И хотя она в основном смотрела на букет цветов на столе, время от времени искоса странно посматривала на мистера Слэттери. — Ведь, в конце концов, Нью-Йорк — родной город мистера Слэттери.
— О, теперь я не очень в этом уверен. — Его щеки порозовели. — Больше не уверен.
— Вы женаты, мистер Слэттери? — поинтересовалась Женевьева.
— Женевьева!
Но американец, похоже, ничуть не смутился.
— Нет, милая, я не женат. Но надеюсь, когда-нибудь у меня будет семья. Жена, дочь, сын и чудесный дом. Разве не об этом мечтают люди?
— И вы все будете жить в Америке?
— Возможно.
— Думаю, мне понравилось бы жить в Америке, — воскликнула Женевьева. — Я поселилась бы в фургоне, какие показывают в фильмах, а мой муж был бы шерифом. А вы не шериф, мистер Слэттери?
По пути в дамскую комнату Женевьева незаметно бросила взгляд через плечо на мать и того мужчину. Они беззаботно смеялись, как старые друзья. Леди Тикстед казалась помолодевшей. А что касается мистера Слэттери, он вполне мог оказаться шерифом. Или кинозвездой. Женевьева никогда раньше не встречала такого красивого мужчины. И ее мать, кажется, тоже.
— Вы сочтете меня ужасно невежественной. — Мать повысила голос. — Я не могу вспомнить, когда в последний раз читала книгу. Журналы — да, но книги…
Женевьева относилась к тем детям, которые постоянно загадывают желания. Она загадывала их, задувая свечи на свои дни рождения, бросала монеты в фонтаны и колодцы, мечтала о сокровенном, когда выпадали молочные зубы.
— Что ж, вам следует прочесть эту книгу, — заявил мистер Слэттери. — Даже если вы никогда не прочтете ничего другого.
Теперь, стоя в новеньких восхитительных туфлях и наблюдая, как мать смеется в обществе красивого незнакомого американца, Женевьева вдруг подумала, что никогда в ее жизни не было столь замечательного дня. Она закрыла глаза, поджала пальцы в глубине новых туфелек Мери Джейн и загадала желание.
Кроме них двоих в кафе с зелеными стенами не осталось других посетителей. Антон, официант с впалой грудью и меланхоличными усиками, собирал стулья и подметал пол. Время от времени он поглядывал на часы, висящие над барной стойкой, и вздыхал. Вздохи были исключительно громкими, но парочка, сидящая за столиком у окна, или не слышала их, или им просто не было до них никакого дела.
— Итак, этот мистер Слэттери… Он был любовником вашей матери? — спросил Закари.
— Я не знаю. — Женевьева водила пальцем по рассыпанным на столе сахарным крупинкам. — Они могли быть просто друзьями. Возможно, в тот день они вообще только познакомились. Но их влекло друг к другу, в этом я не сомневаюсь. Ну а что касается всего остального… ведь мне было всего девять лет.
— Неужели вы действительно думаете, что такая красивая женщина, как ваша мать, и такой мужчина, как он, могли остаться «просто друзьями»?
— Ну, если все рассматривать с такой точки зрения… — Она уперлась взглядом в веснушку у него на шее, не смея посмотреть ему в глаза. — Я надеюсь, что они все-таки стали любовниками. Мне бы хотелось думать, что она была счастлива, хотя и недолго. Моя мать была… есть… остается… очень несчастливой женщиной. Отец ужасный зануда. И к тому же задира…
В тот вечер, когда мы вернулись из Лондона, между ними произошла ссора. Я должна была лежать в постели, но услышала их голоса, пробралась на лестничную площадку и, свесившись с перил, пыталась разобрать, о чем они говорят. Все было ужасно. Я не могла расслышать слов, он орал на нее, она плакала и пронзительно что-то выкрикивала в ответ. Затем она вдруг замолчала, теперь кричал только он один. — Ее ногти царапали поверхность стола. — На следующее утро она не вышла к завтраку, целый день провела в своей комнате. Прием по случаю дня рождения пришлось отменить. Мама так никогда и не надела то прекрасное платье и атласные туфли.
— Вы думаете, ваш отец что-то узнал?
— Возможно. Когда мы возвращались из Лондона, она уже начала меняться. Превращаться в такую, какой всегда была. Мы вместе сели на заднее сиденье «даймлера», я видела, каким отчужденным делается ее лицо. Это все равно что наблюдать, как кто-то умирает. — Она глотнула коньяк. — В те времена мою мать окружали сплошные пустота и безмолвие. Холод и отчуждение. Она почти никогда не играла со мной и редко разговаривала. Я гримасничала и не слушалась, вытворяла все, что взбредет в голову, просто чтобы она заметила меня. Бывали моменты, когда она словно оживала. Несколько таких минут за все мое детство, вот и все. И тот единственный день в Лондоне.
Женевьева снова поднесла стакан к губам, но стакан был пуст.
— Сейчас она совсем другая. Мама привыкла прятаться в пустоте и безмолвии, но сейчас это пугает ее. Она заполняет пустоту непрестанной, бессмысленной болтовней, превратилась в сплошной комок нервов и пытается успокоиться при помощи алкоголя. — Неожиданно Женевьева нахмурилась и подняла на него глаза. — Но я ушла в сторону от темы своего рассказа. Я рассказывала о туфлях. О причине, по которой я так серьезно отношусь к туфлям.
— Ваши изумительные туфли Мери Джейн, купленные в тот чудесный день, когда мама была счастлива.
Теперь она пристально смотрела в его глаза, в его бездонные глаза.
— Ваше желание не сбылось, ведь так? — спросил он. — Ваша мать так и осталась несчастной, тот мужчина никогда не вернулся.
Туфли, обшитые шелковыми цветочными лепестками. Туфли, сотканные из обрывков мечты. Туфли, которые лопаются, словно мыльные пузыри, когда вы хотите прикоснуться к ним.
Его ладонь накрыла ее руку. Она вздрогнула от прикосновения и отдернула руку, в голове неожиданно всплыли мысли обо всей этой чепухе вроде «занятий любовью без любви». Она немедленно должна была вернуться домой.
— Простите, — сказал он. — Я не хотел…
— Все в порядке. — Женевьева положила руки на колени, нервно потерла ладони.
Закари кивнул официанту:
— Уже поздно. Нам пора идти.
Куда пора идти? — подумала она. Домой? Но вместо этого произнесла:
— Так как насчет моих туфель, мистер Закари?
— Приходите утром в магазин, — ответил он. — В одиннадцать.
Когда, наконец, Женевьева вернулась домой, в квартире было темно и тихо. Но в камине в гостиной все еще тлели красные угольки.
Ее наряд был рассчитан до мелочей. На этот раз она превзошла саму себя. Шифоновое платье от Поля Пуаре с шарфом из меха рыси. Ее изумительные, изготовленные на заказ лайковые туфли с завязками и витиеватым узором в виде аппликации на дубленой телячьей коже и остроконечными каблуками казались эфемерными. Дизайнер, некий Уилфред Харгривз из Лондона, отличавшийся флегматичностью и абсолютным безразличием к славе в мире моды, не сможет представлять ощутимой угрозы самолюбию Закари и заставить его возмущаться. Словно в качестве компенсации за неяркие туфли, Женевьева была усыпана бриллиантами, камни яркими каплями сверкали на ее пальцах, в ушах, на запястьях, на шее.
Роберт оторвался от утренней газеты, чтобы взглянуть на жену, когда она вышла в холл и встала перед зеркалом, поправляя шарф; забывшись на мгновение, он громко присвистнул.
Женевьева в изумлении посмотрела на него. Муж покраснел. Тогда краска начала медленно заливать и ее щеки. Затем они оба захихикали.
— Полегче, парень! — воскликнула она.
— Ты выглядишь ослепительно, — признался он. — Куда собираешься?
Она начала весело рассказывать о примерке туфель, с каждым словом ее уверенность возрастала, она точно знала, что между ними все будет хорошо. Роберт никогда не узнает, что она натворила. А у нее никогда не возникнет соблазна рассказать ему о случившемся. Его свист спас их обоих.
— Вы вернулись, мадам? — Ассистентка Закари, распахнувшая дверь, показалась ей еще более суровой и неприветливой, чем прежде. Она начала закрывать дверь прямо перед носом у Женевьевы, и на ее лице возникло тихое удовольствие оттого, что она имеет на это полное право.
Но вдруг из глубины магазина раздался голос. Женевьева услышала, как Закари крикнул: «Ольга!» Женщина остановилась, не успев полностью закрыть дверь, и, повернув голову, стала ожидать дальнейших указаний.
— Полагаю, вы сейчас убедитесь в том, что мне назначено, — заявила Женевьева.
— Доброе утро, мадам. — Закари простер руку, приглашая ее в пурпурную глубину магазина. Сегодня в нем чувствовалось что-то официальное. Словно и не было вчерашнего вечера в зеленом кафе. «Ну что ж, — подумала Женевьева, — меня это вполне устраивает».
Ольга по-прежнему маячила за своей конторкой, и Женевьева ощущала, как ее ледяные глаза пристально и оценивающе следят за каждым ее движением. Затем, к ее великой радости, Закари приказал ассистентке отправляться вниз и ждать там, пока не закончится примерка.
— Итак, мистер Закари, как я уже рассказывала вам, я устраиваю костюмированную вечеринку в стиле кубизма. Она состоится примерно через шесть недель, и мне хотелось бы…
— Снимите, пожалуйста, туфли и чулки, миссис Шелби Кинг. — Не обращая внимания на ее слова, Закари взял ее под руку и настойчиво увлек к одной из пурпурных кушеток.
Она не сводила глаз со своих ступней, снимая туфли и мрачно наблюдая, как он проходит по комнате, чтобы закрыть дверь. Странное нервное волнение пронзило ее, когда она принялась стягивать чулки. Женевьева не предполагала, что понадобится их снимать, но, если их действительно надо снять, разве не должна была она пройти в комнату для переодевания? Черт ее подери, если она собирается стесняться из-за этого. И с Вайолет де Фремон наверняка обходились таким же образом. А то, что хорошо для графини…
Женевьева не знала, наблюдает ли Закари за ней, и была вынуждена довериться исключительно его профессионализму. Она приподняла юбку и расстегнула подвязку на правом бедре. Медленно стянув правый чулок, аккуратно отложила его в сторону, а затем взялась за левый. Деревянный пол холодил ступни. Она смущалась, словно не только ноги под платьем от Поля Пуаре были обнажены. Женевьева бессознательно поджала пальцы.
— Вам холодно? — послышался голос Закари. Она уловила легкий аромат дыма и, подняв глаза, увидела, что он сидит в другом конце комнаты в кресле эпохи Наполеона III и курит сигарету. Его официальность как ветром сдуло, он вел себя свободно, балансируя на грани дерзости. Закари непринужденно развалился в кресле, склонив голову набок, а его правая нога свешивалась с подлокотника кресла.
— Не то чтобы очень… — В комнате стоял ужасный холод. — Я готова к примерке.
— Я хочу, чтобы вы прошлись по комнате. — Закари взмахнул правой рукой, не выпуская из пальцев сигарету и показывая, что она должна дойти до зеркала в дальнем конце комнаты, а потом пройти обратно. — Перестаньте поджимать пальцы.
Женевьева взглянула на кончики пальцев и изо всех сил попыталась расслабиться. Поднявшись, она вдруг почувствовала, что ужасно боится разочаровать его. Направившись к зеркалу, ощущала себя так, словно ступает по натянутой над землей проволоке. Плечи назад, голова прямо, она вспоминала, как в пансионе ее учили держать правильную осанку, необходимо было представить, будто на голове лежит книга, и, чтобы удержать ее, нужно сохранять идеальное равновесие. Подойдя к зеркалу, женщина увидела свои раскрасневшиеся щеки, белые как снег ноги и выражение легкого смущения на лице. Затем она повернулась и пошла обратно. Закари лениво улыбнулся:
— А теперь сделайте это еще раз, но более естественно. Вам словно кол в спину воткнули.
Женевьева почувствовала, как все внутри закипает от гнева, ей пришлось приложить немалые усилия, чтобы сосредоточиться на походке.
— Еще раз, — потребовал он, когда она вернулась обратно. — Просто продолжайте ходить по комнате, пока я не скажу вам остановиться.
Она ходила туда и обратно, снова и снова, мрачно размышляя, не придумал ли он все это специально, чтобы унизить ее. Таким непостоянным оказался этот Закари. Женевьева понятия не имела, что он в действительности о ней думает, и очень хотела, чтобы ей не было до этого дела. Но пока она ходила, смущение, раздражение, неловкость постепенно начали улетучиваться, в голове не осталось никаких мыслей. Только гладкие, прохладные половицы, шероховатая мягкость ковра расцветки зебры, скольжение и приятные прикосновения юбки к босым ногам. И присутствие Закари, безмолвно наблюдающего за ней… Пристальный взгляд сосредоточен на ее ступнях…
— Отлично. — Его голос прозвучал резко. — А теперь садитесь.
Она присела на кушетку, он подошел и склонился над ней, поставив напротив длинную, обитую бархатом скамеечку для ног, указал, что она должна поставить на нее одну ногу, сам пристроился рядом. Закари вытащил небольшую рулетку, такую же, какими пользовались другие сапожники. Она поставила ногу, он скользнул маркером к кончикам ее пальцев. Затем при помощи ленточки в трех местах измерил ширину ее ступни. После ее странного дефиле по комнате все это выглядело прозаично и банально. Женевьева почувствовала разочарование.
— Я могу произвести расчеты на глаз, но все-таки лучше как следует проверить. — Он словно прочитал ее мысли.
— И что, вы не ошиблись в первоначальных расчетах? Он только улыбнулся в ответ.
Женевьева начала медленно убирать ногу со скамеечки, но он протянув руку, остановил ее. Его ладонь коснулась ее ступни, а затем переместилась к лодыжке. Женевьева вдруг вспомнила, как прошлым вечером он коснулся ее руки. У него были очень сильные пальцы, вероятно от работы.
Закари приподнял ее ногу и осторожно положил одну ладонь под изгиб ее ступни, а другую под кончики пальцев. Женевьева представила, как его руки вырезают форму из кожи, забивают гвоздики. Широкие ладони. Руки под рубашкой, вероятно, налиты твердыми мускулами. Она расслабила ступню, сделала ее мягкой и уступчивой.
И тут ее захлестнуло невероятно сильное ощущение, словно жар перетекал из его ладоней в ее ступню, раскаленные иголочки пробегали по всей ноге. Он медленно ощупывал ладонями ступню, нажимая то там, то здесь большими пальцами, ощущая выпуклости ее костей, разделяя и перебирая пальцы и надавливая между ними. Он поглаживал, надавливал, исследовал ее ступню до тех пор, пока Женевьева не вздохнула от удовольствия. Она позволила ему провести рукой по задней части икры, чтобы ощутить упругую мышцу.
Когда Закари аккуратно опустил ее ногу обратно на скамеечку, Женевьева ощутила, как ей не хватает его прикосновения, но, к счастью, у нее имелась еще одна ступня…
— Не останавливайся, — пробормотала она, не задумываясь, что делает, когда он, наконец, закончил.
Закари расхохотался.
— Я не массажист, миссис Шелби Кинг. — Он поднялся и направился через комнату, унося скамеечку для ног. — Теперь вы можете надеть чулки и туфли.
Подняв глаза, она вдруг заметила Ольгу. Та поднялась до половины лестницы и наблюдала за ней. Женевьева быстро повернулась к женщине спиной. Сколько она там стоит? Ей стало нехорошо при одной мысли, что Ольга могла видеть, как Закари ласкал ее ступни. Да, именно ласкал. Ни один любовник не дотрагивался так до ее ног.
Когда она справилась с застежками на чулках, заметила, что Ольга уже вошла в комнату и вместе с Закари стоит около стола, просматривает журнал и что-то тихо говорит ему. Взглянув на Женевьеву, Ольга откашлялась и толкнула Закари локтем. В конце концов он тоже посмотрел на нее.
— Благодарю вас, мадам. Мы закончили. Буду рад увидеть вас снова.
Деловая жилка Женевьевы тут же дала о себе знать.
— Но мы так ничего и не обсудили. Он приподнял брови.
— А что обсуждать?
— Ну, конечно, какие туфли я хотела бы иметь. И цену. Вы должны сказать, когда они будут готовы.
— Мы позвоним, когда туфли будут готовы, — вмешалась Ольга.
Но Женевьева не обратила на нее никакого внимания.
— Мы не обсудили детали, мистер Закари. Закари нахмурился:
— Я так не работаю. Я полагал, вам это известно, поскольку вы признались в любви к моим туфлям.
— Но мне необходимо, чтобы эти туфли соответствовали теме кубизма, и цвет… Он протянул вперед обе руки, приказывая ей замолчать:
— Предоставьте это мне. Мой дизайн будет идеально соответствовать форме вашей ступни. Вот и все, что я пока могу вам сказать. Я не ставлю четких сроков, не говорю, когда туфли будут готовы. Я должен приобрести необходимые материалы, подходящие ткани. Это займет какое-то время.
— Что такое? Я заказываю пару туфель для своей вечеринки!..
— Никто не смеет приказывать Паоло.
Закари коснулся руки Ольги, пытаясь успокоить ее.
— Я сделаю для вас туфли. Думаю, они вам понравятся.
— А деньги?
— Пятьсот долларов сейчас, остальное — когда туфли будут готовы.
— Сколько будет стоит это «остальное»? Он пожал плечами и широко развел руками.
— Пока не знаю. Я могу работать с простой кожей. Могу заказать заморские шелка или купить кружева и парчу на блошином рынке.
— На блошином рынке!
— Деньги не проблема, ведь так?
— Едва ли это звучит убедительно.
— Мадам, — произнес Закари, — мои туфли — волшебные. Они сделают вас счастливой. Вы ведь хотите быть счастливой, не так ли?
Глава 2 ЗАПЛАТКА
Начало мая. Париж пробуждается, готовится к головокружительному летнему празднику. Деревья на бульварах и около Сены оделись в нежнейшие оттенки розового и белого. Террасы кафе заполнены людьми от рассвета до сумерек, а порой, как на бульваре Монпарнас, всю ночь напролет. Пары за столиками смеются немного громче, чем раньше. Солнце разбрасывает ослепительные лучи между зданиями, вдоль крыш и на углах улиц.
В солнечный майский вечер окна квартиры четы Шелби Кинг распахнуты настежь. Тюль на окнах развевается под легким ветерком и, надуваясь парусом, влетает в комнаты. Любому прохожему, идущему по рю де Лота, становится очевидно, что здесь живут иностранцы. Парижане никогда не допустили бы courant d'air, нездоровых сквозняков, из-за которых и простудиться недолго. Но веяние парижского ветерка, напоенного головокружительным благоуханием цветов, смешанных с выхлопными газами, ароматом свежей выпечки, сигаретного дыма, запахом кофе, одеколона и речной свежести, нравилось и Роберту, и Женевьеве.
В комнатах тихо. Женевьева только что вышла из дома и уехала на такси. Горничная Селин ушла навестить мать. Роберт остался один. Он вошел в комнату для туфель и, наобум открывая коробки, стал пристально разглядывать их содержимое. Это занятие всегда приводило его в глубокое волнение, сродни легкому сексуальному возбуждению. Не сами туфли так возбуждают его, даже не мысль о жене, которая надевает их или снимает. Это волнение было сродни тому, которое охватывает, когда вы вторгаетесь в чужие владения, тайком читаете чей-то дневник. Он и мечтать не мог зайти сюда, когда Женевьева находилась дома. Жена абсолютно ясно дала понять, что эта комната — ее личные владения. Она не позволяла ему прикасаться к туфлям. Словно он мальчишка с грязными руками, которому нельзя доверять. Но Роберт часто приходил сюда, когда она уезжала.
Итак, с чего начать? Третья полка сверху, вторая коробка слева: пара зеленых атласных туфель, передняя вставка инкрустирована странными египетскими рисунками. Ни следа на подметке, она ни разу не надевала их. И скорее всего, никогда не наденет.
Он забрался двумя полками выше, отсчитал пять коробок вправо, его взору предстала пара вечерних туфель-лодочек из голубой парчи, с пряжками, на высоком каблуке. По крайней мере, ему казалось, что перед ним туфли-лодочки. Роберт не совсем понимал разницу между туфлями-лодочками и балетками, хотя Женевьева объясняла ему. И те и другие туфли имеют закрытую форму и держатся на ноге безо всяких застежек. Очевидно, нарядные пряжки на этих туфлях служили исключительно для украшения и не имели практического назначения. Если бы его приятель Гарри оказался здесь, непременно сказал бы какую-нибудь колкость, что-то вроде того, что в этом истинная суть женщин — они прекрасны, но бесполезны. Конечно, он не мог полностью согласиться с Гарри.
Спустившись на одну полку ниже, выдвинул коробку из глубины, его взору предстали вечерние туфли из серого шелка, украшенные сверкающим узором черного и прозрачного стекляруса, обрамляющего изящный цветок из горного хрусталя. Роберт хорошо помнил эти туфли. Женевьева надела их в тот день, когда он сделал ей предложение. Он заметил их, когда встал перед ней на одно колено, и не мог отказать себе в удовольствии полюбоваться их блеском. Туфли выглядели слишком роскошно для обычного воскресного дня. Но теперь, когда он хорошо изучил свою жену, Роберт часто думал, что она не случайно выбрала именно эти туфли. Женевьева казалась изумленной, когда он заговорил о своих серьезных намерениях, ее грудь вздымалась, глаза сверкали от переполнявших ее чувств. Но возможно, она каким-то непостижимым образом догадалась, что именно в этот день он собирается сделать ей предложение…
Три полки вверх и четыре коробки вправо: пара бело-розовых бальных туфель с радужными лентами. На этикетке написано HELSTERN & SONS. Туфли выглядели скромно и невинно. Она вполне могла надевать их на школьные балы. Интересно, устраивали балы в их аристократических английских школах? Роберт не мог представить себе Женевьеву танцующей с каким-нибудь прыщавым юнцом. Это было не в ее стиле. Она не производила впечатление девочки, блиставшей на школьных танцевальных вечерах, несмотря на красоту. Юноши безумно боялись ее. Бедняжка одиноко стояла в сторонке, в то время как другие девочки вальсировали по залу. А позже она окончательно засела дома, в то время как ее школьные подружки повыскакивали замуж за тех самых прыщавых юнцов. Но разве они что-нибудь понимали? Их потеря определенно стала его приобретением. Несмотря на то, что он сам никогда не был силен в танцах.
Соседями бальных туфель оказалась черная замшевая пара с изогнутыми каблуками, украшенная крошечными блестками, собранными в цветочные бутоны. Он зачем-то поднес к лицу одну туфельку и вдохнул аромат кожи, исходящий из ее глубины. Роберт не помнил, когда Женевьева надевала их, но видел их как-то на ее ножках. Она сидит, положив ногу на ногу, покачивает ступней и смеется.
Женевьева ни разу не надевала ботинки, стоящие на полке, расположенной ниже, но он хорошо помнил, сколько ему пришлось выложить за них. Эти ботиночки из темно-бордового атласа с цветочной вышивкой и лентами вместо шнурков олицетворяли собой моду поздних тысяча восьмисотых… Женевьева, шутя, попыталась представить ему эту покупку как удачное вложение денег, и он не станет отрицать: идея доставила ему удовольствие. До тех пор, пока он не увидел ценник…
Роберт отложил ботинки и задумался. Он понимал, дело не только в удовольствии от тайного подглядывания за частной жизнью Женевьевы, каждая из этих коробок хранила особый секрет. Если он хочет по-настоящему понять жену, должен научиться правильно истолковывать каждую свою находку. Теперь Роберт точно знал, какую пару он хочет увидеть следующей.
Вот здесь, на нижней полке, прямо в углу, находились его самые любимые туфли Женевьевы. Каждый раз, приходя сюда, он вытаскивал коробку, чтобы полюбоваться ими. Гладкая лакированная кожа, ремешок на лодыжке, аккуратная маленькая пуговка. Мыски туфель потерлись, подошвы изношены. Он ясно представлял себе ее в этих туфельках, видел, как она бегает, скачет, прыгает через веревочку. Вероятно, ей было лет восемь-девять, когда она носила эти туфли. Стоило ему представить Женевьеву маленькой девочкой с большими глазами, он буквально таял.
Девочка Женевьева наверняка примеряла материнские туфли. Она цокала каблучками по комнате, изображая из себя светскую львицу, восхищалась своим отражением в зеркале. Он помнит, его сестра вела себя так же, когда они были детьми. Наверняка все девочки играют в эту игру. Но Женевьева продолжает играть в нее и по сей день.
Роберт какое-то время молча разглядывает туфельки Мери Джейн, наслаждаясь сокровенностью тихих мгновений. Он улыбался самому себе и радовался этой улыбке.
У Марселя были длинные, невероятно подвижные желтые пальцы; ударяя по клавишам рояля, он виртуозно сплетал паутину из звуков. Его запястья почти не двигались, плечи и спина сгорбились после бесчисленных часов, проведенных за игрой, ноги сильно затекли. Долгие годы он сидел на стуле, который был слишком высок для него, а к тому времени, когда узнал об этом, было уже поздно менять привычки. Старик приобрел манеру вглядываться в лица людей, словно перед ним были ноты на нотном стане, и пытался расшифровать их близорукими глазами. По правде говоря, игра на рояле медленно разрушала его. Но в этом была его жизнь.
Марсель не многим нравился, но Лулу любила его. Он был немногословен, но ей и не требовались доверительные дружеские беседы. Музыкант всегда появлялся вовремя и не пытался затащить ее в постель. Он умел играть. Иногда, прислонившись к роялю и беря высокие ноты, она бросала взгляд на его паукообразные пальцы, двигающиеся по клавишам, от этого зрелища ее пронзала ледяная дрожь, навевая воспоминания о ночах, когда она зарабатывала несколько франков, демонстрируя грудь развратным старикам на бульваре Монпарнас. Туманные ночи остались в далеком прошлом, однако ее манеры ненамного изменились с тех пор. Она бросила стариков, когда познакомилась с артистической богемой. Художники были небогаты, но, если позировать обнаженной, покупали еду и выпивку и давали приют на ночь. Затем Лулу встретила Кэмби, который усадил ее перед зеркалом и принялся накладывать макияж, при помощи темных теней, белой пудры и красной помады создавая удивительный кошачий взгляд и чудесную мушку, которые впоследствии стали ее визитной карточкой. Теперь она предстала перед миром, как «Лулу с Монпарнаса», истинное лицо Современности.
Несколько ночей в неделю Лулу пела в «Койоте», старом и довольно тесном баре на рю Деламбре, недалеко от станции метро «Ваван», и с превеликим удовольствием наблюдала за туристами, которые теперь каждый вечер наводняли Квартал, слоняясь по бульварам Монпарнас и Распай, сбиваясь в тесные компании в крупных кафе с террасами и в новых американских барах. «Койот» всегда оставался территорией известных представителей богемы — художников, актеров, писателей, хотя теперь здесь все чаще появлялись богатые навязчивые поклонники, в основном из США и Англии. Многие приходили, чтобы поглазеть на известных художников и писателей, завсегдатаев «Койота», но большинство все-таки мечтали услышать ее пение. Лулу стала знаменитостью — Королевой Квартала. Именно благодаря ей «Койот» вернул былую популярность. В «Куполе» для нее постоянно был заказан отдельный столик. Месье Селект любезно улыбался, когда Лулу входила в его заведение, бесплатно подавал валлийские гренки с сыром, и ей даже не приходилось просить об этом работника, стоящего у маленькой плиты за барной стойкой. Она стала самой популярной представительницей артистической богемы в Париже. И Кэмби не стоило забывать об этом.
И вот он здесь, за стойкой бара, вместе с Кислингом попивает Remy Martin. Лоран, одноглазый бармен, обладатель ордена Мужества, наливал артистам рюмку за рюмкой в крохотные стаканчики в виде наперстков, поставив бутылку на барную стойку. Войдя в бар, Кэмби нахально ущипнул ее за зад, но теперь был полностью поглощен разговором с Кислингом и не обращал на Лулу никакого внимания.
Она закусила губу и нетерпеливо отстукивала ритм по полу. И как только этот ублюдок может все время сидеть, повернувшись к ней спиной? Что он о себе возомнил? Неужели думает, что она — какое-то мелкое ничтожество, которое можно выбросить, когда взбредет в голову? Нет, с ней этот номер не пройдет, Лулу этого не потерпит!
— Потерянная любовь? — Марсель взглянул на список песен, который она небрежно нацарапала для него.
— Черт возьми, ты прав, — пробормотала Лулу. А затем громко провозгласила для всех собравшихся: — А сейчас я спою песню для тех, кто любил не заслуживающих любви. Кому однажды повстречалась на пути подлая, бесчестная, отвратительная свинья…
Готовясь петь, она посмотрела в другой конец бара, отыскала свою лучшую подругу Женевьеву, та выглядела, как всегда, блистательно, на этот раз красовалась в изумрудном платье. Отсюда Лулу не могла разглядеть туфли, но они наверняка точно соответствовали наряду. Женевьева всегда одевалась безупречно, даже если собиралась провести день в одиночестве, дома. Лулу, чей стиль был ярким, но несколько легкомысленным и порой небрежным, притягивал эстетизм подруги. Но порой ей хотелось хоть разок увидеть Женевьеву одетой неряшливо. Женевьеве было просто необходимо, чтобы ее нерушимый мир основательно встряхнули и окружающие смогли, наконец, разглядеть его несовершенство.
— Это на самом деле невероятная женщина, — воскликнул Беттерсон. — Вы только посмотрите, какие у нее глаза… Словно она повидала все, что возможно в этом мире, все успела пережить и перечувствовать. Теперь это отражается в ее удивительном взгляде, в этих разбивающих сердца глазах.
Женевьева обернулась, чтобы взглянуть на Лулу, стоящую у рояля. Она с трудом могла разглядеть пронзительный взгляд густо накрашенных глаз — комната тонула в густых клубах сигаретного дыма. Но Беттерсон, несомненно, прав. В ней есть нечто особенное. Что-то необычное. Некая изюминка, которая заставляет мужчин рисовать ее портреты, создавать ее скульптуры, писать о ней романы. У всех захватывало дух, когда Лулу пела «Потерянную любовь». Даже у Жанин, железной барменши со шрамом и сломанным носом. Даже крошечный пудель Лорана, лизавший пролитый напиток на полу, замер, прислушиваясь к ее голосу. Женевьева вдруг ощутила укол ревности.
— Вас не удивляет, как она принимает собственную боль и обращает ее в нечто совершенное и изысканное? — заметил Беттерсон. — Именно это должны отображать в своих романах писатели, но большинство из них сдержанно наблюдает за проходящей мимо жизнью. Особенно писатели-романисты. Сейчас это настоящий бич литературы.
— В самом деле… — Женевьева изо всех сил пыталась унять ревность, выдавить ее из своего сознания.
— От некоторых книг так и веет холодом, они напоминают коллекцию бабочек, — продолжал Беттерсон. — Множество мертвых, красивых, безжизненных созданий, приколотых булавками к белой бумаге. Возможно, именно поэтому я стал поэтом, а не писателем-романистом. Я — страстная натура.
— Что касается писательства, — начала Женевьева, и ее голос прозвучал притворно весело, — я размышляла о названии для журнала. Что вы скажете о «Галерее»?
— Какой галерее? — Беттерсон все еще пристально разглядывал Лулу. — Кто-то обязательно должен запечатлеть ее образ в современной литературе. Она заслуживает, чтобы ее сделали бессмертной, даже если это окажется одна из безжизненных, сухих книг.
— Она вовсе не прячет свой неповторимый свет. Ведь это Лулу с Монпарнаса! Она бессмертна!
— Ничто не вечно под луной, милая, — заметил Беттерсон, — и прежде всего я.
Женевьева изо всех сил старалась сохранять спокойствие.
— Да, да, вам осталось пять лет жизни, мы все помним об этом. Я пытаюсь предложить название для нашего совместного проекта. Название «Галерея» придаст ему благородный лоск, вы так не думаете? Сразу станет понятно, что несет в себе журнал.
Воздух взорвался аплодисментами. Лулу закончила петь. Аплодисменты не смолкали, и Беттерсон восхищенно присвистнул. Из дальнего конца бара кто-то бросил розу. Лулу подняла ее, оторвала один лепесток и съела его. Лепестки были алыми, как ее губы.
— И еще кое-что, Норман… Вы посмотрели тетрадь с моими стихами?
Беттерсон развернулся, вероятно, для того, чтобы посмотреть, кто бросил розу.
— Эй, вы только посмотрите, кто здесь! Идите к нам, старый пройдоха!
Женевьева абсолютно не разделяла его воодушевления. Вместо этого она взглянула на барную стойку, где Кэмби что-то демонстрировал Кислингу при помощи вилки и винной пробки.
Стоя у рояля, Лулу съела второй лепесток.
— Вы не принесете мне выпить, Лоран? Мой друг у стойки заплатит. Тот парень, который размахивает ножами и слишком много мнит о своей персоне.
Герой войны моргнул в знак согласия своим единственным глазом.
— «Девушка из Клермона»? — спросил Марсель.
— Нет, я сыта по горло этой песенкой. Больше не желаю ее петь.
От барной стойки передали стакан, он переходил из рук в руки, пока не добрался до Лулу. Она подняла его, разглядывая на свет, и недовольно посмотрела на круглую темно-бордовую ягоду, плавающую в янтарной жидкости.
— Разве я просила вишню? — крикнула Лорану.
— Это заказал для вас джентльмен, — ответил бармен.
— Кэмби далеко до джентльмена.
— Нет, не он. Джентльмен, который сидит вон там. — Лоран указал в другой конец зала.
Норман Беттерсон поднял бокал в знак приветствия.
— Да здравствует Франция с ее картофелем фри!
Лулу выловила вишенку из бокала и принялась высасывать из нее сок до тех пор, пока ее рот не наполнился горячей сладостью бренди, затем бросила косточку в Беттерсона.
— Да здравствует Америка с ее техническим прогрессом!
— Ну, так что я играю? — спросил Марсель. Лулу неторопливо потягивала бренди.
— Дай мне немного подумать. — С отсутствующим видом она принялась жевать еще один лепесток розы, а затем задумчиво взглянула на Беттерсона, человека, о котором никогда особенно не задумывалась. Нечаянно поймала взгляд Женевьевы, в облике подруги сквозило нечто похожее на панику. Она прижала руку к горлу, движения казались резкими и нервными, словно она безумно желала бежать отсюда. Но зал был переполнен, почти не осталось свободного места, за исключением узкого прохода к дверям.
— Здесь кроется какая-то тайна, — произнесла Лулу.
— Что? Я знаю эту песню? — Марсель перебирал нотные листы.
Высокий мужчина в светлом костюме подсел за столик Женевьевы. Он разговаривал с Беттерсоном, Беттерсон в ответ смеялся над каким-то его замечанием, пытаясь увлечь шуткой Женевьеву. Но та побледнела и сжалась.
— Так-так, — пробормотала Лулу. — Женевьева и Гай Монтерей… Что все это значит?
— Лулу?
— Ладно, Марсель. Я хочу попробовать кое-что новенькое. Забудь о списке. Сыграй ту старую медленную Лионскую мелодию и продолжай до тех пор, пока я не закончу.
Марсель кивнул в ответ, его пальцы опустились на клавиши и начали медленно перебирать их. Зазвучала меланхоличная и многогранная музыка. Вместо того чтобы петь, Лулу вдруг заговорила сквозь эту музыку сухим, резким голосом, и все разговоры в баре разом смолкли.
— На рю де ла Юшетп есть отель под названием «Печаль», — начала она. — В нем тесные и темные комнаты, где люди целыми днями скрываются от солнца. Хозяин по ночам бьет свою жену, а после отправляется в соседнюю комнату заниматься любовью с девчонкой, которая обожает мужчин, деньги и вишни, для которой нет ничего святого в жизни. Пока хозяин занимается с ней любовью, девушка слышит, как за стеной плачет его жена. Она стонет громче, чтобы заглушить жалобный плач. Жена слышит стоны наслаждения и от этого рыдает еще сильнее. По ночам в отеле под названием «Печаль» очень шумно.
— Почему ты убежала? — прошептал Монтерей на ухо Женевьеве.
Женевьева бросила взгляд на Беттерсона, надеясь, что он спасет ее, но тот не сводил глаз с Лулу.
— Обычно женщины не бросают меня так грубо. Мне казалось, что тебе хорошо со мной. Я знаю, что я был…
— Кто-то лежит в ванной в отеле под названием «Печаль», — продолжала Лулу. — Она уже долго лежит там. Поначалу здесь было много пара, и он смешивался с ее дыханием. Но теперь пар рассеялся, и вода остыла…
Женевьева пыталась заставить себя не думать о пистолете. Возможно, он был ненастоящий… Просто глупая шутка.
— Знаешь, чего я хочу? — Ладонь Монтерея накрыла ее руку, она показалась ей горячей и тяжелой. Хотелось отдернуть руку, но он не позволил.
— Я совершила ошибку, — пробормотала Женевьева. — Тогда я была пьяна… Я замужем…
— Позвольте мне сказать, чего я хочу, миссис Шелби Кинг.
— Она лежала там всю ночь. — Лулу двинулась вперед и протянула руки двум дородным мужчинам, которые курили за столиком напротив нее, приказывая, чтобы они поставили ее на мраморную стойку бара, залитую красным вином. — Ванна полна, но вода все еще капает из крана. И вот настало утро, вода залила пол и просочилась сквозь половицы, через потолок холла, который расположен как раз внизу… просочилась, медленно стекая и капая… прямо на лысую голову хозяина, который подписывает счета для отъезжающих гостей. Он смотрит на потолок, на мокрое пятно, которое растет на глазах, и думает: «Где моя жена? Как она допустила это безобразие? Такую буйную протечку? Эти неполадки в ванной в моем отеле?»
— Я хочу, — произнес Монтерей, — снова войти в тебя, в тебя, где так горячо и тесно. Понимаешь?
— Отпустите мою руку, — пробормотала Женевьева сквозь стиснутые зубы.
Лулу преспокойно разлеглась на барной стойке, суровая барменша недовольно цокала языком, уперев руки в бока. Лоран улыбался, покачивал головой и приглаживал усы.
— Он стучит в дверь ванной. Он требует, чтобы ему открыли, кто бы там ни был внутри. Но, понимаете, ничего уже нельзя изменить. Она вскрыла вены, вся ее кровь вытекла вместе с водой. Внизу, на учетную книгу отеля, с потолка медленно падают темно-красные капли.
— Я должна возвратиться домой, Норман. — Женевьева резко высвободила руку. Но Беттерсон был слишком увлечен представлением Лулу, чтобы обратить на нее внимание.
— Милая! — На лице Монтерея появилось выражение невероятной озабоченности. — Я расстроил вас? Хочу заверить, я всего лишь хотел сделать вам комплимент. Тактичный обмен любезностями между двумя людьми, которые хорошо знают друг друга.
— Прошу вас, Гай. Я не хочу обсуждать то, что произошло между нами.
— Очень жаль. — Он пожал плечами. — Не часто встретишь женщину, подобную вам, и это тоже комплимент. Но се ля ви. Скажите, что мы останемся друзьями, Женевьева.
— Конечно. — Ее тон свидетельствовал об обратном.
— Ну что ж, значит, не все так плохо. Увидимся на вечеринке, на следующей неделе. Это ведь произойдет на следующей неделе? Я правильно понял?
— Никто не помогает хозяину в то время, когда он дергает ручку двери ванной комнаты. Отель тих и спокоен. И он понимает, что сегодня утром еще не видел своей жены. Он не видел своей жены сегодня утром.
Лулу раскинулась на холодной поверхности стойки, не обращая внимания на лужи спиртного и рассыпанный повсюду сигаретный пепел. Продолжая свою историю, она пристально смотрела в глаза своего любовника, Фредерика Кэмби.
— Дверь, наконец, распахнулась. Бэнг! — Лулу резко села на стойке, ее глаза сделались огромными. — Вот! Она там. Лежит в ванной.
Она оглядывала зрителей сквозь длинные ресницы. В другом конце зала Беттерсон и Монтерей по-прежнему сидели за столиком, но Женевьева исчезла.
— Позже жена хозяина отеля наводила порядок при помощи ведра и швабры. Теперь ей придется найти другую девушку, которая поселится в опустевшей комнате. — Лулу склонила голову. В баре повисла тишина. Даже Кэмби и Кислинг заслушались. — Ты можешь перестать играть, Марсель.
Только дома, в своей спальне, Женевьева смогла прийти в себя, прислушавшись к успокаивающим звукам тихого храпа Роберта, доносящегося из-за обитой васильковым шелком стены.
Все в порядке, сказала она самой себе. Ничего страшного не произойдет, если он все-таки явится на праздник. Он понимает, что между ними все кончено.
Поставив одну ногу на низенький столик из покрытой патиной бронзы, она внимательно разглядывала отвратительное пятно на своей зеленой замшевой туфельке с застежкой в виде буквы «Т», от Жюля Фернана. Кто-то в плотной толпе посетителей «Койота» пролил спиртное на ее туфлю, когда она, спотыкаясь, пробиралась к выходу.
«Все в порядке, — решила она. — Это можно отчистить. Лучше всего использовать мягкую ткань или чуть-чуть потереть пятно щеткой завтра утром».
Сняв туфли, принялась срывать тончайшие, словно лепестки, слои шелка, наматывая их на ширму в восточном стиле, бросая на африканский коврик. Когда полностью разделась, крошечный свернутый клочок бумаги вдруг упал на пол.
Она осторожно расправила его и разложила на прикроватной тумбочке.
Это был небольшой набросок карандашом. Рисунок черепа.
Туфли Вайолет де Фремон. Тончайшие, словно паутина. Это хрупкое сокровище казалось нерукотворным произведением искусства. Волшебный, непостижимый шедевр.
До вечеринки оставалось всего пять дней, но от Закари по-прежнему не было никаких известий. Однажды, когда Роберт отправился на работу, Женевьева сняла трубку и попросила, чтобы ее соединили с магазином. Еще одна попытка.
— Доброе утро. Это…
— Доброе утро, миссис Шелби Кинг. Мой ответ — еще нет.
— Ольга… Могу я звать вас просто Ольга?
— Его сейчас нет.
— Конечно нет. Его никогда не бывает на месте, ведь так? Как вам, должно быть, сложно все время обманывать людей? И как он смеет так себя с вами вести!
— Мы сообщим вам, когда туфли будут готовы.
— Ольга, поймите, когда дама собирается стать хозяйкой важного званого вечера, она стремится выглядеть безупречно. Разве вы не согласны? Все, что для этого требуется, — туфли от Закари. Абсолютно новые, тончайшие, словно цветок, роскошные, превосходящие все фантазии, но сидящие на ноге идеально, как перчатка.
— Конечно.
— Думаю, он прислушивается к вашему мнению, ведь так? Мне кажется, если вы объясните ему, как мне необходимы эти туфли, он поторопится с работой. Вы согласны? Я думаю, вы сможете заработать дополнительные пару долларов, правда?
— Мадам…
— Как насчет пяти? Десяти?
— Оставьте свои доллары при себе, миссис Шелби Кинг. Они могут вам пригодиться.
— Вы слышали о том, что новые туфли приносят удачу, Ольга? В прошлом веке, в Англии, люди обычно дарили друг другу на удачу крохотные деревянные или фарфоровые башмачки. Маленькие изящные табакерки в виде туфельки. Вам приходилось слышать истории о девушках, которые прятали лист клевера в туфельку, когда хотели встретить своего суженого? О детях, которые во время Рождества ставили башмаки на подоконник, надеясь утром найти там подарки? Это все правда, Ольга. Я прочитала об этом в книгах и много могу рассказать об этом. Мы можем вспомнить сказки — хрустальные туфельки Золушки, «Кот в сапогах», «Сапожник и эльфы». Как вы думаете, почему все мы так помешаны на туфлях, Ольга, разве все дело не в том, что они обладают невероятным волшебством?
— До свидания, мадам.
— Ну не могли бы вы хотя бы попросить его за меня? Если бы я точно знала…
— Вероятно, вам стоит приобрести для себя один из тех сувениров на удачу, мадам… В форме туфельки…
Великий день приближался. Женевьева попросила Лулу прийти и помочь ей закончить последние приготовления. Лулу отказалась.
— От меня не будет ровно никакого толку, шери. Я ведь не принадлежу к женщинам из общества. Что я знаю об организации праздников? Я сама сплошной праздник.
— Лулу, мне просто необходима твоя моральная поддержка. Мне надо, чтобы ты появилась утром, мило беседовала с художниками и писателями и весь день дружески держала меня за руку.
— Утром? Я понадоблюсь тебе утром? О нет, только не это, шери. Я этого не вынесу.
Но Женевьева была не из тех, кому можно отказать. В 8.30 утра она усадила Лулу в «бентли» (той удалось поспать всего четыре часа), чтобы отправиться вместе с ней в особняк графа Мориса Дюваля на рю Камбон, где должен был состояться праздник. Когда они приехали, Фернан Леже уже ждал их. В своей плоской кепке и мешковатых брюках он выглядел как старый грузчик, помогал разгружать свои специально заказанные творения — величественные, трехмерные изображения его картин, созданные из проколотых металлических пластин, перекладин и решеток. На месте была и Соня Делоне, она вывешивала свои яркие витиеватые коллажи из тканей на балконах в танцевальном зале у Дюваля. Их цвета показались заспанной Лулу настолько яркими, что она была вынуждена незаметно сунуть горничной несколько сантимов, чтобы та добавила рюмку водки в ее кофе.
Женевьева никак не могла успокоиться.
— Я должна была устроить эту вечеринку несколько месяцев назад, до того как открылась выставка.
В прошлом месяце они побывали на открытии художественной выставки в Гран-Палас (вместе с остальной публикой, не представлявшей собой ничего особенного), тогда мысль о предстоящем празднике только возникла в голове Женевьевы. В павильоне Элегантности, созданном Арманом Рато, Лулу мрачно вспомнила, как пыталась танцевать пьяный чарльстон с одним из манекенов, наряженных в костюмы от Жана Пакена. Они несколько часов кутили на одном из трех катеров, нанятых Полем Пуаре для выставочных экспозиций и украшенных Дюфи и ателье «Мартин». Теперь Женевьева беспокоилась, сможет ли ее праздник произвести на гостей не менее сильное впечатление.
— Шери, ты ведь устраиваешь вечеринку, — произнесла Лулу, — а не международную выставку!
Женевьева ответила, медленно произнося слова, словно разговаривала с ребенком.
— Кого привлечет моя скромная вечеринка, когда все уже видели грандиозный праздник? Мне повезет, если вообще кто-нибудь появится.
— Виви. — Лулу положила руку ей на плечо. — Это будет нечто потрясающее. — Она залпом допила последние зернистые капли своего сильнодействующего кофе.
Лулу как раз смаковала второй кофе с водкой, когда неожиданно появился Роберт и принялся спорить с поставщиками продуктов о количестве икры, которую они заказали. Ему казалось, что произошла ошибка, и он прямо высказал свои подозрения. Лулу, при которой Женевьева делала заказ, была осведомлена лучше. Роберт предпринял попытки подавить сопротивление, но Женевьева стала непревзойденным специалистом в укрощении мужа, и вскоре Роберт отправился в офис, а поставщики были искусно задобрены.
Третий кофе с водкой был заказан после телефонного звонка по поводу огромной абстрактной ледяной скульптуры, которую заказала Женевьева. Звонила мать скульптора.
— Мне кажется, мой долг предупредить вас, мадам.
— Предупредить о чем? — поинтересовалась Женевьева.
— Меня встревожила форма вашей скульптуры, когда я увидела ее в холодильнике.
— Форма?
— Я попрошу сына немного изменить ее.
— Мадам, а что не так с формой скульптуры?
— Ну, понимаете, она напоминает… некоторую часть мужского тела.
К полудню, когда они заехали в ателье «Мартин» за нарядом для Женевьевы, Лулу незаметно пронесла под пальто маленькую бутылку водки. После примерки они должны были вернуться в особняк графа Дюваля и посмотреть костюмированную репетицию отрывка хореографической постановки в стиле кубизма. Следующим пунктом их маршрута стал парфюмерный магазин Ричарда Хаднота на рю де ла Пэ, и, наконец, пока Лулу еще могла мыслить трезво, обе девушки отправились в салон Лины Кавальери, чтобы привести в порядок свои прически, маникюр и макияж, за Лулу платила Женевьева — в знак благодарности.
В ателье «Мартин» Лулу откинулась в кресле, наблюдая, как Женевьеве помогают надеть новое платье.
— Ну, что скажешь? — Женевьева появилась из-за китайской ширмы в ослепительном летящем наряде из бархата цвета пламени. На первый взгляд платье казалось ярко-оранжевым, но едва на него падал свет, ткань начинала мерцать и переливаться золотистыми бликами.
Поль Пуаре подошел, чтобы взглянуть на нее, вскинул голову и задумчиво посасывал свой толстый маленький палец.
— Если мы просто… — Он кивнул девушке с булавками, чтобы она поправила пояс.
— Я не уверена. — Женевьева пристально смотрела в высокое зеркало в позолоченной раме.
Ниже талии платье превращалось в буйную массу зазубренных бархатных пламенных лент, волнами ниспадающих вниз, отороченных золотым бисером. Хотя, возможно, они по своей форме и эффекту больше напоминали сосульки, но горячие, огненные сосульки, которые издавали треск пылающих поленьев и буйно пульсировали, когда она двигалась, дерзко открывая любопытным взглядам обнаженные ноги.
— Дорогая моя. — Лулу плеснула водки в свой бокал из-под шампанского, прикрываясь обложкой последнего выпуска журнала La Vie Parisienne. — Что с тобой такое? Ты стала плохо видеть? Это платье роскошно. Ты роскошна.
— Ты действительно так думаешь? — Женевьева помрачнела.
Лулу поджала губы. Избалованная богатая девчонка. Чувствовала она, что не стоит приходить сюда сегодня. Девушка подумала о собственном платье для предстоящего праздника, оно висело на вешалке в ее крошечной квартирке. Обтягивающее платье из серебристой ткани, купленное на блошином рынке, на нем красовалось одно из лучших изображений раннего Пикассо. Платье стоило копейки, но кому какое дело? Она будет выглядеть на миллион, потому что она Лулу с Монпарнаса!
— Меня беспокоит не платье, — заметила Женевьева. — Все дело в туфлях.
— Женевьева, дорогая, — Поль Пуаре закусил губу, — вам как нельзя лучше подойдет пара от Перуджи.
— Да, — откликнулась Женевьева, — они, несомненно, подойдут.
Это были золотые бальные туфельки из лайковой кожи. Каблучки в стиле Луи и вышитые языки пламени из оранжевого бархата. Не так давно Женевьева с великим удовольствием отправилась бы на свой праздник в туфлях от Перуджи. Но это было до того, как она увидела туфли Вайолет де Фремон от Закари.
Когда примерка закончилась и вконец обессиленный Пуаре заковылял прочь, Лулу отослала девушку с булавками и сама зашла за ширму, чтобы помочь Женевьеве снять платье.
— Он все испортил, — стонала Женевьева, пока Лулу сражалась с застежками. — И как я могу чувствовать себя счастливой сегодня вечером без туфелек от Закари? Лучше бы я никогда не встречала этого проклятого сапожника!
— Вот, возьми. — Лулу достала бутылку водки и сунула ей в руки. — Это проверенное лекарство.
— Лулу!
— Тебе ни за что не пережить сегодняшний день достойно без этого чудодейственного средства. Так же, как и мне. Давай, выпей немного и перестань волноваться. Все будет хорошо.
Женевьева со вздохом взяла бутылку.
— Ох, Лулу, ты ведь не знаешь и половины всего, что произошло.
— Половины чего? — Лулу нахмурилась.
Казалось, Женевьева собиралась открыть ей какой-то секрет, но затем, похоже, передумала.
— Ничего, не обращай внимания. Не сомневаюсь в том, что ты права. Все действительно будет хорошо.
Часы в холле пробили восемь. Роберт вместе с Пьером ждали ее на улице в «бентли». Завели мотор, Женевьева явственно слышала доносящееся снаружи урчание автомобиля. Сидя за туалетным столиком, она приглаживала по-новому завитую прическу, поправляла шарф, пыталась радоваться золотым туфелькам из лайковой кожи.
Туфли графини — удивительные слои тончайшей паутины, невесомого серебряного кружева, притягивающие взгляд своим изяществом… Они могли рассыпаться в прах, стоило коснуться их, рассеяться, как колдовские чары…
Снаружи прозвучал клаксон.
И тут она вспомнила о еще одной проблеме. Гай Монтерей и его череп. Она сильно нервничала всю неделю после их последней встречи в «Койоте». Часто на улице, слыша за спиной приближающиеся шаги, представляла, что кто-то преследует ее. Она пыталась отогнать навязчивые страхи, напоминала себе, что Монтерей — всего лишь поэт и дамский угодник. Он обожал игру, а она сама позволила втянуть себя в авантюру. Все это не более чем игра. Пройдет время, и все забудется.
Но на всякий случай решила предупредить привратников, стоящих у дверей особняка Дюваля, чтобы его не впускали.
Снова послышался автомобильный гудок.
— Хорошо, — пробормотала она, — я иду. — Подхватив накидку, направилась в коридор и резко остановилась около наполовину приоткрытой двери комнаты для туфель.
Посреди комнаты стояла девушка и любовалась собой в высоком зеркале. Такая миниатюрная, она могла бы запросто оказаться эльфом. Залитая сумеречным вечерним светом, девушка пристально разглядывала свои ножки, поворачивая их то так, то эдак…
Женевьева затаила дыхание. И именно в этот момент горничная Селин подняла глаза.
На Селин были туфли-лодочки на высоком каблуке от Жозефа Бокса. Невероятный розовый оттенок с едва заметными зелеными крапинками, каблук в стиле Луи и ленты-шнурки. Женевьева недавно примеряла их и оставила на полу рядом с зеркалом. Селин приподняла юбку, любуясь нежным изгибом своих икр и изящными лодыжками. Густые волосы, которые всегда были собраны в тугой маленький узел на затылке, сейчас мягкими локонами обрамляли ее лицо. Щеки порозовели от возбуждения, она чувствовала себя абсолютно непринужденно, пока не увидела хозяйку. Женевьева не разглядела выражения ее лица, потому что девушка вздрогнула и отвернулась, но могла представить себе то невероятное наслаждение, которое испытывала Селин в этот момент.
Она никогда не обращала внимания на горничную. Да и зачем? Это была забитая девушка лет пятнадцати-шестнадцати, с неяркими волосами и привычкой поспешно исчезать при ее появлении. Женевьева выросла в доме полном слуг, узнавала об их существовании только тогда, когда они совершали промахи. А этот проступок, несомненно, был для Селин ужасным.
— Мадам! Мне так жаль!
— Они тебе как раз? — прошептала Женевьева.
— Прошу вас, мадам. — Селин проворно скинула туфли и укладывала их в открытую коробку. — Они такие красивые. Я не смогла удержаться, мадам. Я…
— Они ведь тебе как раз, правда? — переспросила Женевьева. — Они идеально тебе подходят.
— Вы ведь не уволите меня, правда? — Девушка надевала свои собственные туфли, плоские коричневые башмаки со шнурками и квадратными носами. — Я никогда раньше не делала ничего подобного, это больше не повторится.
На улице снова загудела машина.
— Я с трудом в это верю.
— Я думала, что вы уже вышли к машине вместе с мистером Шелби Кингом. Мне и в голову не пришло… Моя мама больна, мадам. Я не знаю, что с нами станет, если я потеряю эту работу.
Снова послышался автомобильный гудок.
— Пожалуйста, мадам.
Женевьеву странно взволновала сцена, свидетельницей которой она так неожиданно стала. Конечно, эти туфли изумительно смотрелись на девушке, это тронуло ее, но было здесь и что-то еще. Она случайно вторглась в личную жизнь другого человека, неожиданно разгадала чьи-то горячие, страстные желания и страхи в тот момент, когда запуталась в своих собственных. Селин каким-то удивительным и приятным образом пробудила ее от самой себя.
— Женевьева! — послышался снизу голос Роберта.
— Все в порядке, — ласково сказала она девушке. — Ты можешь работать дальше. Оставь эти туфли себе. Но ни слова мистеру Шелби Кингу, пусть это будет нашим секретом.
Где-то вдалеке послышался телефонный звонок.
Дождь падал на золотистую бархатную накидку, элегантно отороченную роскошным мехом австралийского опоссума, капли стекали по золотым лайковым туфелькам от Андре Перуджи. Дождь хлестал по украшенной драгоценными камнями атласной ленте на ее голове и по прическе от Лины Кавальери. Дождь проливался на Женевьеву, когда она стучала в дверь магазина Паоло Закари и ждала, промокшая, взволнованная и возбужденная, никогда ранее не ощущавшая такого беспокойства.
Наконец, за дверью послышалась возня с отпираемым засовом.
— Миссис Шелби Кинг.
— Мистер Закари.
— Вы слишком великолепно одеты для визита к скромному сапожнику, если позволите мне выразить свое мнение.
— Позвольте войти. Я сыта по горло вашими играми.
— А я — вашими. Вы позволите взять вашу накидку?
Она сунула ему в руки накидку, со смущением вспомнив, как сделала это в первый раз, и быстро прошла внутрь.
В магазине было абсолютно темно. Сквозь плотно зашторенные окна не проникал ни малейший лучик света. Когда Закари закрыл парадную дверь, их окутал кромешный мрак.
Совсем рядом в темноте послышался его голос:
— Пожалуйста, снимите туфли и чулки.
— Я ничего не вижу. Не могли бы вы раздвинуть шторы или включить свет?
— Снимите туфли и чулки.
Роберт сейчас, должно быть, подъезжает к рю Камбон без нее. Сейчас наверняка устанавливают лестницы.
— Включите свет, мистер Закари.
— Снимите туфли и чулки. Наверняка вы способны справиться со столь простой задачей.
Она, вздохнув, пробормотала: «Хорошо» — и наклонилась, чтобы скинуть промокшие туфли от Перуджи.
— Могу я хотя бы сесть.
— Да, конечно.
Но в темноте она не могла добраться до кушетки, а он не пошевелился, чтобы помочь ей. Женевьева неуклюже начала расстегивать подвязки. До нее донеслось его шумное дыхание, и она поняла, что он отошел в другой конец комнаты.
Женевьева стянула один чулок, затем другой, едва не потеряв равновесие.
— Для вас же будет лучше, мистер Закари, если вы припасли для меня туфли.
В ответ раздался смешок. Он взял ее под руку и повел в другой конец комнаты.
— Садитесь.
Женевьева провела рукой по кушетке, чтобы убедиться, что она действительно здесь, и осторожна села. Услышала, как его шаги удаляются по деревянному полу, с трудом сумела разглядеть неясные очертания фигуры, а затем… он стал спускаться вниз по лестнице.
— Эй! Вы ведь не собираетесь оставить меня здесь одну!
— Боитесь темноты? — Где-то внизу скрипнула дверь.
Женевьева с особенной ясностью слышала тиканье часов, шум уличного движения и звон церковных часов. Девять часов! Первые гости наверняка уже прибыли на праздник.
Послышался скрип половиц. Он поднялся по лестнице, затем опустился на колени у ее ног. Женевьева с трудом смогла различить его силуэт.
— Дайте мне вашу левую ногу.
Его ладонь. Сила его пальцев. И вот… странное ощущение, словно… Ей показалось, будто он положил всю ее ступню себе в рот.
— И вашу правую ногу, пожалуйста.
Она вдруг представила себе шелковистую кожу младенцев, пушистые перья, нежный мех, легкие облака.
— Пожалуйста, включите свет, мистер Закари. Я хочу убедиться в том, что ваши туфли столь же прекрасны на вид, как и на ощупь.
— Что ж, но у нас есть небольшая проблема.
— Какая проблема? Раздвиньте шторы, я должна увидеть мои новые туфли.
Вздох.
— Все дело в вашем платье, миссис Шелби Кинг.
— А что такого в моем платье?
— Мне кажется, что оно абсолютно не сочетается с моими туфлями. Думаю, вам лучше снять его.
Женевьева нервно расхохоталась, не в силах сдержаться.
— Но я говорю серьезно, мадам.
— Вы хотите увидеть меня в нижнем белье? Все дело в этом?
В комнате воцарилось молчание. Женевьева почувствовала, как ее сердце ухнуло вниз.
— Я хочу увидеть вас в моих туфлях.
— Тогда вам лучше отдать мне накидку. Я должна что-нибудь надеть.
— Ваша накидка такого же ядовито-оранжевого цвета, как и платье, разве вы забыли?
Она жалела, что не видит его лица.
— Я хочу увидеть вас в моих туфлях, — повторил Закари. — А вы жаждете, чтобы я увидел вас в нижнем белье. А если быть точнее, вы хотите, чтобы я увидел вас без белья.
— Вы так думаете?
— Да, я так думаю.
— Ну, я не из таких женщин, мистер Закари. А теперь включите, пожалуйста, свет.
Тишина. Шуршание шин по мокрым улицам. Стук дождя в оконные стекла. Скрип половиц, раздающийся всякий раз, когда Закари медленно проходил по комнате. Взволнованное дыхание двух людей.
Женевьева осторожно сняла украшенный драгоценностями ободок с головы и положила его на кушетку. Ее руки дрожали, когда она потянулась к шее и принялась медленно расстегивать застежки платья. Перед ней творческий человек, успокаивала она себя. Это все равно что позировать художнику. «Мне уже приходилось делать это прежде. Лулу делает это каждый день».
«Мне нечего стыдиться». Она расстегнула застежки на корсете.
Раздался скребущий звук, в другом конце комнаты вспыхнуло пламя спички. В свете огонька она разглядела его лицо, тонкие губы, на которых играла полуулыбка. Ласковые глаза не смотрели на нее. Закари зажег свечу и задул спичку. Затем зажег одну за другой все шесть свечей, переплетенных в серебряной клетке, свисающей на цепи с потолка. Он осторожно раскрутил клетку левой рукой, и по стенам затанцевали причудливые тени и блики света. Затем он встал и немного отошел влево, ее взору предстало длинное серебряное зеркало в другом конце комнаты.
Она сделала шаг вперед, затем еще, с интересом разглядывая себя. Ее кожа золотилась в мерцании свечей, ее глаза казались черными и странно расплывчатыми, изгибы тела, грудь, бедра выглядели мягкими, неясными, ускользающими.
Женевьева бросила взгляд на свои ноги. Глубокие красные туфли, словно языки, словно кровь, озаренные яростным сиянием больших, украшенных драгоценностями пряжек. Каблучки-шпильки.
— Туфли сделаны из генуэзского бархата. — Закари стоял у нее за спиной, положив руки на ее обнаженные плечи. — Каблуки из стекла. — Он прижался губами к ее шее. — А пряжки украшены бриллиантами.
Он нежно обнял ее за талию и увлек к пурпурной кушетке. Откинувшись на спинку дивана, Женевьева закинула руки за голову и свободно вытянула вперед ноги. Она попыталась заглянуть в его глаза, но так и не смогла разгадать его странный взгляд. Он осторожно коснулся ее левой ступни, слегка приподняв ее, чтобы они оба могли полюбоваться туфелькой, а затем наклонился и поцеловал носок, пряжку, каблучок, лодыжку и нежную ямочку под коленкой… Она была абсолютно обнажена, потому что надела эти туфли. Их живой и яркий красный цвет на фоне ее белой кожи заставлял чувствовать себя более чем обнаженной.
Женевьева взглянула на руку, ласкающую ее ступню. Праздник перестал занимать ее мысли, он больше не существовал для нее. Ничто больше не имело значения. Ни Роберт, ни Гай Монтерей. Только рука Закари, касающаяся ее ноги. Только его прикосновения, его губы. Она была рождена для этого момента. Для него.
Около одиннадцати часов вечера такси Женевьевы подъехало к дому графа Дюваля на рю Камбон. Все вокруг застилала плотная пелена дождя.
Она поспешно вытащила зеркальце из украшенной кисточками сумочки и оглядела свое лицо. Свежий макияж выглядел безупречно, так же как и поспешно приведенная в порядок прическа. Но все-таки в ее внешности появился какой-то беспорядок.
«Я скажу Роберту, что меня ограбили… Я выходила из магазина Закари со своими новыми туфлями, в темном переулке ко мне подошел человек и приказал отдать ему кошелек. Да, именно так. Нет, не то, он обязательно обратится в полицию. Это не подходит…»
Двое привратников спустились по ступенькам, их ноги хлюпали по промокшему насквозь голубому ковру. Один из них нес стул с мягким сиденьем.
Водитель распахнул дверцу, раскрыл над ней зонт, стал ждать, пока привратники устанавливали стул.
— Если мадам пожелает присесть, мы могли бы внести ее в дом, не причинив вреда этим прелестным красным туфелькам.
— Спасибо. Я не стану возражать.
Приподнимая подол ярко-красного шелкового платья от Натальи Гончаровой, с дерзким низким вырезом и слегка присборенного на левом бедре под жемчужным украшением (она приготовила его для открытия выставки, но потом решила надеть платье от Шанель), стараясь не намочить туфли от Закари, Женевьева уселась на стул, мужчины подняли ее и понесли в дом.
«Я скажу, что упала в обморок в магазине Закари и должна была поехать домой и прилечь. Меня рвало. Я была абсолютно разбита, мне пришлось собрать в кулак всю свою волю и решимость, чтобы добраться сюда, я все еще очень слаба…»
Привратники опустили стул на пол в холле, и Женевьева протянула свой плащ служителю. До нее донеслись музыка и громкие голоса.
Двери в танцевальный зал были распахнуты.
Оркестр исполнял шумную и веселую импровизацию, по залу скакали танцоры в костюмах, пестреющих фантастическими полосами и безумными зигзагами. На их головах красовались невообразимые бесформенные шляпы или конические колпаки. Нувориши флиртовали с потомственной богатой аристократией под возвышающимися в зале металлическими скульптурами Леже. Красота мило болтала с богемой на фоне тканевых коллажей Делоне, выполненных в зеленых, красных, голубых и сверкающих желтых тонах. Обслуживающий персонал метался по залу, проносил в воздухе подносы. Норман Беттерсон потирал подбородок. Вайолет де Фремон в безупречных ярко-розовых туфлях, которые могли быть созданы только Паоло Закари, вцепилась в руку графа Этьена, ее величественного супруга. В дальнем углу зала Гай Монтерей приложил ладонь ко лбу в странном приветствии. По ледяному фаллосу стекали прозрачные капельки.
Роберт оставил графа Дюваля и широкими шагами поспешил к ней навстречу.
Женевьева запаниковала.
— Я… меня стошнило на человека в темном переулке.
Лулу кинулась вперед.
— Виви…
— Я должна была поехать домой и переодеться. Я…
— Дорогая. — Роберт взял ее за руку. — Думаю, тебе лучше пойти со мной.
— Что…
— Делай так, как он говорит, шери. — Лулу взяла ее за другую руку.
Оркестр грянул джаз, под ритм которого невозможно было усидеть на месте, и танцпол тут же наполнился людьми. А Женевьева, которую уводили из зала, едва успела разглядеть развевающиеся платья и смеющиеся лица.
Глава 3 ПОДМЕТКА
На обратном пути Роберт крепко держал Женевьеву за руку. Они последними покинули семейный склеп, остальные уже уехали на машинах или брели пешком по направлению к дому. Она не пожелала ехать в «даймлере» с родственниками, он мог понять ее. Роберта до глубины души тронуло то, что сейчас она хотела побыть с ним наедине.
Ее рука казалась крошечной и ледяной, в глазах застыла пустота. Ему хотелось прижать ее к груди, сжать ладонь, согреть своим теплом. Он чувствовал, что она не хочет этого, и уважал ее желание. Бывают моменты, когда человеку необходимо свободное пространство, чтобы жить, вспоминать, скорбеть. Если бы он только сумел подобрать правильные слова утешения!..
— Моя дорогая, — попытался начать Роберт, когда они проходили по усыпанной гравием дорожке между небольшими могильными плитами, витиеватыми мраморными распятиями, статуями ангелов, медленно двигались в тени серебристых берез и каштанов по направлению к огромному дубу. — Я помню, когда умер папа, у меня было чувство, словно кто-то выбил почву у меня из-под ног. Я не представлял, как мы сможем дальше жить без него. Он был таким значительным человеком. Его ум, его характер… Он обладал особенной статью. Но мы продолжали жить дальше, Женевьева. Я не думаю, что смогу когда-нибудь стать достойным отца, но я старался изо всех сил. Мы все старались, мама и моя сестра и…
Женевьева выдернула руку и бросилась к дубу. Он, смутившись, наблюдал за ней, пока она что-то искала на стволе, а затем, похоже, обнаружив то, что хотела, стояла спокойно, гладя кору дерева.
— Что это, милая?
Она не ответила. Просто продолжала смотреть на ствол дерева и гладить его.
Наконец, он откашлялся и произнес:
— Не лучше ли вернуться к дому? Они, наверное, удивляются, куда мы подевались.
— Пускай удивляются.
Солнечный свет яркими лучами метался среди веток, пронзая листья своими золотистыми копьями. Роберту стало жарко в глухом черном костюме, и он расстегнул воротничок.
— Несправедливо, что это произошло в столь прекрасный день, правда? Небо должно плакать вместе с нами. Конечно, когда мы хоронили папу, выдался ужасно жаркий день. Ну, так…
— Не мог бы ты заткнуться хотя бы на минуту? Сделай одолжение? — Слова вырвались из ее горла, напоминая звук мотора, который никак не хочет заводиться. Он знал, когда она повернулась и бросилась бежать прочь — к машине, что она плакала. Наконец. Она не плакала, когда они рассказали ей обо всем. Она не плакала во время службы и на кладбище.
А ей стоило поплакать. Это было бы естественно и пошло бы на пользу.
Он пристально рассмотрел ствол дуба, прежде чем отправиться следом за ней. На стволе была нацарапана надпись, всего одно слово — ЖОЗЕФИНА. Больше ничего.
Когда он вернулся к машине, жена припудривала лицо, глядя в маленькое зеркальце.
— Мы должны возвращаться, — сказала она. — Родные будут ждать меня.
Остаток дня он внимательно наблюдал за ней. Слушал, как жена разговаривает с тетушками и дядюшками, некоторые из них были на их свадьбе. Наблюдал, как она обменивается любезностями с приходским священником, наклоняется, чтобы расцеловать маленьких кузин, пожимает руки доброжелателям из деревни. Как она вежливо кивает, бесстрашно улыбается. Все делает автоматически.
В какой-то момент он устал от постоянной необходимости поддерживать светскую беседу и вышел прогуляться. В розарии присел на скамейку, чтобы покурить, и был удивлен, когда к нему присоединился стройный мужчина, в котором он узнал доктора Петерса, семейного врача, тот тоже раскуривал сигару.
— Печальное событие. — Доктор Петерс шепелявил и слегка причмокивал во время разговора.
— Да. Вы, должно быть, хорошо знаете семью.
— О да. — Петерс многозначительно кивнул. — Знаете, я помог маленькой Женевьеве появиться на свет. Это были очень трудные роды.
Роберт выпустил клуб дыма.
— Я этого не знал.
— Ну, она не из тех, кто легко проскальзывает, ведь так? Только не наша Женевьева. — Проговорив эти слова, доктор, похоже, понял, что позволил себе вольность, допустив приятельский тон. Его улыбка стала обеспокоенной.
— Полагаю, что нет. — Роберт искоса взглянул на него. Ему не понравилось, что доктор назвал Женевьеву словом «наша».
Петерс откашлялся.
— Женевьеве очень повезло.
Они немного помолчали. Роберт смотрел на море роз, множество великолепных цветков красного, желтого и кремового оттенков.
— Каким образом? — спросил он.
— Простите? — Это был один из тех случаев, когда человек говорит «простите» не потому, что не расслышал вопроса, а потому, что до конца не уверен, как следует отвечать. Роберт много раз сталкивался с подобной ситуацией в бизнесе. Это позволяло выиграть время и обычно означало, что собеседник не будет полностью откровенен.
— Я спросил, каким образом?
— Ну… — Доктор еще раз откашлялся. — Вы, очевидно, очень верный муж, сэр. Женевьеве очень повезло, что она встретила человека, который любит ее так преданно и безоговорочно.
— Безоговорочно? К чему, черт возьми, вы клоните, доктор?
— О боже мой. Абсолютно ни к чему, сэр. Мне жаль, что я… Это были, как я уже говорил, очень трудные роды. Некоторое время казалось, что ни Женевьева, ни ее мать не оправятся. — Он затушил красный уголек тлеющей сигары, а затем аккуратно завернул окурок в носовой платок и положил в нагрудный карман.
Роберт почувствовал, что доктор готов отступить, и, стремясь во что бы то ни стало приоткрыть завесу над тайной, коснулся его руки.
— Нет, простите, доктор. Вы помогли Женевьеве войти в этот мир. Вы знаете девочку всю ее жизнь. Это естественно, вы должны говорить о ней в дружеском, свободном тоне. — Затем добавил: — Вы знаете, она очень уважает вас и высоко ценит ваши заслуги.
— Это правда?
— О да. Это совершенно очевидно. Ведь, в конце концов, вы были с этой семьей и в плохие и в хорошие времена, так?
— Ну, думаю, я…
— Тогда выдалось трудное время, правда? Несколько лет назад, когда Женевьева была ребенком?
Доктор Петерс выглядел смущенным.
— Я должен вернуться в дом.
Но Роберт не собирался сдаваться.
— Вас часто приглашали к ней в то время?
— Я не уверен, что понимаю, о чем вы спрашиваете. — Он отвел глаза в сторону. Роберт хорошо знал, что это значит, — когда человек не может смотреть тебе в глаза…
— Думаю, вы все прекрасно знаете.
— Ну что ж. — Доктор слегка расслабил тугой галстук. — Тогда, надеюсь, вас удовлетворит мой ответ, я не могу это обсуждать. Не обижайтесь. — Он встал со скамейки и уже собрался уходить, но Роберт быстро погасил сигару и ринулся следом за ним.
— Да. — Он изо всех сил пытался найти тему, которая заставит доктора Петерса разговориться. — Неожиданная смерть, правда? Даже не верится?
— Абсолютно. Это ужасный удар для всех нас. Она отличалась крепким здоровьем и ни на что не жаловалась. Конечно, у нее случались мигрени и бессонница, но все это вполне типично для женщины ее возраста со слабыми нервами. Но ничего серьезного. По крайней мере, не было и намека на проблемы с сердцем.
— Как я понял, ее нашли здесь. — Роберт указал на розы. Почти неприличное для столь печального момента буйство жизни и ярких красок.
— Да, это так. Похоже, она срезала несколько бутонов для дома… очень любила свой розарий. Все случилось быстро, она даже не почувствовала боли.
— Не сомневайтесь, доктор, скажите об этом моей Женевьеве. Вы ведь знаете, она очень любила мать. Она такая чувствительная девушка… Доктор почти незаметно ускорил шаг.
— Есть вещи, о которых мне следует знать. Так я смогу стать ей хорошим мужем.
— Господи, посмотрите, который час! Вы должны простить меня, — вздохнул доктор и внезапно бросился бежать.
— Доктор Петерс!
Доктор резво уносился прочь странной кривоногой походкой, сначала в сторону дома, затем, сделав безумный зигзаг, резко изменил направление и ринулся к главным воротам…
Обеденный стол казался слишком длинным для трех человек. Если бы Роберт мог распоряжаться, приказал бы слугам накрыть маленький столик в гостиной и сделал бы обстановку менее официальной и сдержанной. Но они сидели в столовой в окружении семейных портретов, ели с фамильного серебра, в обстановке, которая когда-то произвела на него сильное впечатление, но при повторном появлении в доме показалась мрачной и зловещей.
— Как идет бизнес, Роберт? — Лорд Тикстед вяло ковырял вилкой еду.
— О, вы же знаете. Все прекрасно.
— Роберт невероятно преуспевает, — заявила Женевьева. — Он в четыре раза увеличил доходы компании с тех пор, как унаследовал ее. Разве это не так, дорогой?
— Я не люблю хвастовства.
— Хорошо, но тогда я стану хвастаться вместо тебя. Папа, он практически гений.
Роберт почувствовал, как краснеет. На скулах Женевьевы проступил сильный румянец, и он подумал, сколько вина она сегодня выпила. А лицо лорда Тикстеда наоборот казалось изжелта-бледным, он выглядел изможденным. Лорд выглядел так, словно его разум и душа витали где-то очень далеко. Он исхудал… Его кожа дряблыми складками свисала с подбородка и шеи… Словно они обедали в компании с призраком…
— Как вам Париж? — Лорд Тикстед обращался к Роберту.
— Ну… Конечно, я себя чувствую там как дома, но…
— Нам очень нравится. — В голосе Женевьевы прозвучал вызов. — Там можно жить ярко. Нас окружают люди, способные говорить. Писатели и художники. Люди, которым действительно есть что сказать.
— Но это не значит, что здесь не встречается интересных людей. — Роберт несказанно смутился.
— Там правят другие этические нормы, — продолжала Женевьева. — Не то что в этом болоте скудоумия.
— Женевьева! — Роберт не поверил собственным ушам. — Сэр…
Но старик остался безучастен к выпаду дочери и спокойно продолжал потягивать вино.
— Я рад, что Женевьева в таких надежных руках, Роберт. Ее мать, упокой Господь ее душу, постоянно беспокоилась о девочке. До самой смерти. Но я вижу, за ней неплохо приглядывают.
Женевьева молниеносно вскочила, опрокинув бокал с вином.
— Никто не приглядывает за мной. Мне не надо, чтобы за мной приглядывали. Роберт позволяет мне жить так, как я желаю. А вы, вы очень хорошо знаете, что сделали со мной. Вы и мама. Я никогда не смогу простить вас! Господи, это место прогнило до самого основания!
— Простите, сэр, — пробормотал Роберт, когда за ней захлопнулась дверь. — Думаю, она очень расстроена из-за матери. Она сама не своя.
— Именно так, мой дорогой. — Лорд Тикстед отодвинул тарелку. — Именно так. У нее всегда была очень ранимая душа, у моей маленькой Женевьевы. В детстве она тяжело болела, вы знаете. В конце концов мы вынуждены были забрать ее из школы и нанять преподавателей.
— Да… — Он сжал пальцы. — А что с ней произошло?
— О, это очень сложно. Различные трудности. — Вдруг слезы потекли по щекам старика. — Мне жаль. — Он прижал ладони к глазам. — Моя жена… Я не знаю, как я буду жить без нее, Роберт. Вы ведь поживете здесь несколько недель, правда? Вы и Женевьева? Мне так одиноко одному!..
Тикстед, Саффолк
27 июня 1925 года
«Дорогая Лулу.
Прошло уже больше месяца с тех пор, как я здесь. Почему ты не написала мне? Я подумала, что с твоей почтой могли возникнуть трудности, потому посылаю это письмо прямо в «Койот». Пожалуйста, постарайся ответить, моя дражайшая, пусть даже открыткой. Я сгораю от любопытства, хочу узнать, что происходило за время моего отсутствия. Я желаю знать все. Боюсь, что не смогу вернуться раньше середины июля, поэтому пропущу День взятия Бастилии. Я чувствую себя тенью, скрывающейся в этих местах. Настоящая я по-прежнему в Париже, с тобой. Моя жизнь протекает где-то в другом месте, пока я сижу в этом болоте.
Я начала постепенно разбирать мамины вещи. В конце концов, это надо было сделать. Собираю маленькие сверточки с безделушками и сувенирами для друзей и родственников. Викарий не мог нарадоваться, когда вчера пришел забрать то, что я приготовила. Бедняки и малоимущие жители Тикстеда хоть какое-то время будут хорошо одеты, в этом я уверена! Конечно же я собираюсь кое-что оставить и для себя. В основном драгоценности. У нее было несколько пар прелестных туфель, но ее нога гораздо больше моей. Это печальная и нудная работа, разборки маминых вещей. Это наводит меня на размышления, так в чем же смысл жизни? Что мы оставляем после себя? Если говорить о маме, не так уж много. Одежду, украшения, огромное количество бутылок, припрятанных в глубине сервантов и гардеробов (похоже, она пила гораздо сильнее, чем я предполагала). Ты оставишь после себя прекрасное наследие, Лулу. Все эти картины, скульптуры и фотографии. Не говоря уже о твоих великолепных песнях. Тебя никогда не забудут. А я, кто знает? Я хочу считать себя поэтессой, но это, похоже, весьма сомнительно. Если увидишь Нормана Беттерсона, не напомнишь ли ты ему, что у него остался мой блокнот со стихами. Я хочу знать его мнение. Без него я, похоже, не смогу больше писать.
Здесь очень тихо. Только я, папа и слуги. Папа по-настоящему одинок. Словно кто-то взял и отрубил ему одну руку. Он ужасно похудел и часто плачет. Мне кажется, он действительно любил ее, хотя она едва ли об этом догадывалась. Какие все-таки люди странные создания.
Я не любила свою мать. Как я могла, после того, что произошло? Иногда мне казалось, что я ненавижу ее. И все-таки мне жаль ее. Когда-то она была молода и прекрасна, но все это оказалось бесцельно растрачено впустую. Вероятно, она тосковала по чему-то большему, чем то, что ей выпало в жизни.
Я тоже тоскую. По чему-то за пределами этого дома, даже за пределами скованной и полной ограничений замужней жизни. Я так одинока. На прошлой неделе приезжал Роберт.
Должна заметить, что он был очень мил. И все равно, даже рядом с ним я чувствовала себя очень одинокой.
Я горюю, да, это так. Но не по маме. Ты ведь понимаешь, почему я горюю. Ты единственный человек, которому я доверила свою тайну. Единственный человек, которому я могу доверять. Я так по тебе скучаю, Лулу.
Поскорее напиши.
С любовью
Женевьева».
Модели, величавой поступью расхаживающие по увешанному зеркалами первому этажу салона мадам Элен, занимающемуся пошивом одежды высшего качества, были наряжены в купальные костюмы. Полосатые купальники из джерси, ставшие популярными благодаря Коко Шанель и продемонстрированные в балете «Голубой поезд». Именно их станут носить в этом сезоне на Ривьере. Девушки вальяжной походкой прогуливались по ковру, огибали замысловатый стеклянный фонтан в дальнем конце комнаты и возвращались обратно.
Женевьева два дня назад вернулась в Париж. Это был ее первый выход в свет вместе с Лулу, их прогулка должна была стать идеальным противоядием от унылой обстановки Тикстеда. День высокой моды давал прекрасный шанс покрасоваться в новинках ее обширного гардероба. Платье от Мадлен Вионне представляло собой каскад тончайших шифоновых лепестков. К платью она подобрала эффектные туфельки от Феррагамо на высоких каблуках в точно такой же неяркой цветовой гамме (что-то среднее между кремовым и розовым оттенками). Но Лулу показалось, что Женевьева выглядела чересчур бледной в этом платье и чувствовала себя как-то неуверенно. Она страстно желала вернуться в Париж, но, как ни странно, в ее глазах плыла отчужденность.
Стоял жаркий июльский день, в комнате было полно народу. Лулу нашла применение цветастому китайскому вееру, который принесла с собой, обмахивала и себя и Женевьеву.
— Все, что тебе необходимо, — шептала она подруге, — это устроить праздник. Почему бы не купить один из этих купальников? Мы могли бы поехать на побережье на несколько недель. Поплавать в море, понежиться на пляже.
— Но я ведь только что вернулась, — вздохнула Женевьева. — Я хочу быть именно здесь.
— Правда? — Лулу искоса взглянула на нее.
— Конечно. Я все еще не могу поверить, что пропустила День взятия Бастилии.
Лулу улыбнулась, видимо, что-то вспомнила.
— Ах, милая моя, это было невероятно. Праздники продолжались целых три дня. Я с трудом прекратила петь. «Койот», клуб «Жокей», «Динго», «У Бриктопа»… Заработала кучу денег, но потом все потратила. И знаешь, здесь столько американцев! — Она повысила голос. Люди, сидевшие рядом, оборачивались, взглядами выражали неодобрение. — Париж уже не тот, что раньше. Слишком много развелось экскурсоводов, распускающих слухи о лучших местах в городе. Квартал заполонили презренные туристы. Если так и дальше пойдет, придется перебраться куда-нибудь в другое место.
Женевьева изумилась:
— Ты ведь не уедешь, правда?
— Конечно нет, шери. На самом деле, нет. Что случилось? Что-то не так?
Женщина со вставными зубами и серой чешуйчатой кожей повернулась и зашикала на них. Лулу скорчила рожу.
— Ты получила мои письма? — шепотом спросила Женевьева.
— Да, да.
— Тогда почему ты мне не ответила?
— О, я не слишком обращаю внимание на почту. — Лулу беспечно махнула рукой. — В конвертах никогда не приходят хорошие новости.
— Лулу! Ты что, даже не читала?
— Ах, милая моя. — Она пожала плечами. — Я не слишком люблю читать написанные слова.
Услышав это, Женевьева пришла в ярость.
— Если бы ты удосужилась прочитать письма, узнала бы, как отчаянно я хотела вернуться. Ты поняла бы, как отвратительно сидеть в доме, переполненном ужасными воспоминаниями, пытаться найти нужные слова для огромного количества визитеров, которые бесконечно повторяли, что за чудесная женщина была моя мать. А на самом деле она вовсе ею не была.
— Виви, — Лулу коснулась ее руки, — мне так жаль. Наши судьбы такие разные. Семья… долг… Я никогда не знала, что это такое. Мне трудно понять, что все это значит. Но я все-таки попробую, я обещаю. Давай уйдем отсюда и отправимся туда, где мы могли бы спокойно поговорить?
— Я не могу избавиться от воспоминаний! — Женевьева сплела пальцы в замок. — Когда я вернулась туда, все снова предстало в ярком свете… Есть еще кое-что…
— Что? Что это, Виви?
— Будьте так добры, поговорите где-нибудь в другом месте, — снова раздался голос женщины со вставными зубами. — Шоу в самом разгаре, или вы не заметили?
— Шоу? — Лулу вскинула безупречно очерченные брови и наклонилась вперед. — Ты хочешь увидеть шоу, старая ящерица? Ты хочешь увидеть шоу?
Уродливое лицо женщины скривилось, она отвернулась. Женевьева расхохоталась. Похоже, то, что ее беспокоило, снова отступило на задний план.
— Итак, — сказала Лулу. — Так о чем мы говорили, прежде чем нас так грубо прервали?
После шоу на нижнем этаже выставили вино и прохладительные напитки. Клиенты бродили вокруг, разглядывали разодетых манекенщиц, продавщиц, которые давали советы по поводу уместности нарядов и отдавали распоряжения, если кто-то из клиенток желал приобрести понравившуюся вещь. Лулу вынашивала планы выпить как можно больше вина и съесть как можно больше канапе, а Женевьева пыталась воспользоваться подвернувшейся возможностью. Вскоре у нее появилась собственная продавщица, крошечная женщина с жидкими волосами и розовым, словно воспаленным черепом, она носилась туда-сюда, отвечала на множество вопросов о платьях. Нет, у них нельзя приобрести платье для тенниса из китайского шелка. Они не делают серебряные сандалии на ремешках. Но, возможно, ее интересуют купальные костюмы? Как насчет пляжных накидок?..
— Женевьева, дорогая! — Появилась графиня де Фремон в абсолютно не идущем ей сиреневом наряде, за ней по пятам следовала личная продавщица, — тащила несколько доверху набитых одеждой пакетов. Бедняжка едва переводила дух. — Как приятно встретить тебя здесь!
— Вайолет! Как я рада. — Женевьева посылала взглядами сигналы SOS Лулу, но ее закадычная подруга медленной беспечной походкой удалялась от них. Лулу слыла большой мастерицей «исчезать постепенно».
— Я слышала о том, что произошло с леди Тикстед. Мне очень жаль. Ты, должно быть, очень переживаешь. — В голосе графини прозвучала непереносимая, чрезмерно преувеличенная жалость.
— Благодарю… — Желая сменить тему, Женевьева опустила глаза и взглянула на ноги графини. Четырехдюймовые каблучки, тончайшая сетка блестящих черных ремешков, оплетающих ступню, прекрасная, искусно сплетенная клетка.
— Мои новые туфли от Закари. Что скажешь?
Женевьева вздрогнула, словно в глаза резко ударил яркий свет. С тех пор как два месяца назад она покинула его магазин, унося с собой красные бархатные туфли и свою тайну, она больше не слышала его имени. В Англии попыталась сделать все возможное, чтобы изгнать из мыслей образ Закари, внушив себе, что это была еще одна ошибка, вторая нелепая интрижка в ее жизни. Как и в первый раз, она никому не обмолвилась ни словом о том, что произошло. И так же, как в первый раз, внушила себе, что это не должно повториться. Это не должно повториться.
Но Закари не походил на Монтерея. Это было нечто совершенно другое. Снова и снова она вспоминала, как его губы прижимаются к ее спине. Снова и снова она ласкала его грудь, ощущала вкус его кожи, задыхалась от наслаждения, прижимаясь к его шее. Это были самые яркие и чувственные воспоминания ее жизни. Снова и снова она просыпалась от них в своей постели или, что еще хуже, рядом с Робертом. Ее преследовало чувство вины.
— Как ты думаешь, это правда, что Закари готовит специальные туфли для ручного леопарда Жозефины Бейкер? — послышался нахальный голос Вайолет.
— Откуда мне знать? — Женевьева прижала руку к голове. — Я ведь была в отъезде. Хотя, как бы ни обстояли дела, мы с ним едва знакомы.
— Ну, конечно, моя дорогая. — Вайолет пристально смотрела через плечо Женевьевы. — Подумайте, кого я вижу! Я сама могу пойти и спросить его об этом.
— Так он здесь?
Но Вайолет уже исчезла, она энергично пробиралась через толпы людей, преследуемая по пятам своей продавщицей.
Закари стоял к ней спиной, но она никогда не спутала бы его ни с кем другим. Он расположился в дверях и беседовал с мадам Элен. На нем были светло-серые брюки и белоснежная рубашка, казавшаяся полупрозрачной, что еще больше подчеркивало широту его плеч и сильную стройную спину. Он жестикулировал, что-то объяснял своей собеседнице.
Женевьева поднесла бокал к губам, попыталась скрыть дрожь в лице.
— Это Паоло Закари. — Продавщица Женевьевы вцепилась в ее руку.
— Да. Что он здесь делает?
— Думаю, у него какие-то дела с мадам Элен, — ответила та. — Он не присутствовал на шоу. — Затем с ноткой зависти в голосе добавила: — Вы знакомы с ним?
— Немного. Он сделал для меня туфли. — Стоило Женевьеве произнести эти слова, как Закари обернулся и посмотрел прямо на нее. Темные, непостижимые глаза… У нее перехватило дыхание. Женевьева быстро отвела взгляд.
— Я бы все отдала за пару его туфель. Позвольте мне принести вам еще вина, мадам. — Женщина выхватила пустой бокал из рук Женевьевы и исчезла, прежде чем та успела вымолвить слово.
«Я не должна больше смотреть на него, — приказала она себе. — Необходимо уйти отсюда как можно быстрее». Но куда запропастилась Лулу? Прежде чем она успела остановить себя, снова взглянула на него. Черт побери, теперь рядом с ним оказалась Вайолет! Она разговаривала с ним, касалась его руки, а он пристально смотрел ей в глаза. Даже отсюда Женевьева смогла различить подчеркнуто интимный тон, ужасный легкомысленный смех.
— Ты слышала, твой приятель Закари делает туфли для питона Марчезы Касати? — раздался рядом голос Лулу, раскрасневшейся от вина.
— Он мне не приятель.
— Неужели? — Ее движения и выражение лица были несколько преувеличены. — Мне кажется, ты немного… запала на него!..
— Неужели? — в тон ей ответила Женевьева, изобразив полное безразличие. — В любом случае у змей нет ног.
— Возможно, они мечтают о ножках, — откликнулась Лулу. — А вдруг это их тайная фантазия?
— У змей нет ни мечты, ни фантазии.
— У змей — да, но не у женщин. — Лулу задумчиво погладила подбородок. — Бизнес Закари, а возможно, и вся его жизнь построены на женских мечтах и фантазиях. Ты ведь знаешь об этом, шери?
Женевьева снова взглянула на дверь. Вайолет де Фремон все еще стояла и болтала с мадам Элен, но Закари исчез.
В разгар вечера Лулу нетвердой походкой удалилась куда-то в компании смуглого незнакомца с прекрасными глазами и сильными руками, а Женевьева направилась домой. Она обнаружила Роберта на кушетке в форме пироги, он лежал с книгой и курил. Пару дней после возвращения домой Женевьева вела себя с ним довольно резко, и он чувствовал себя виноватым. Она не понимала, почему все время пыталась придраться к нему. Он был сама доброта. Сегодня все произошло как обычно, стоило ей войти в дверь, он одарил ее теплой, ласковой улыбкой.
— У тебя болят ноги, милая?
Туфли от Феррагамо все-таки натерли пятку, она слегка прихрамывала.
— Иди сюда.
Женевьева прилегла вместе с ним на кушетку и закрыла глаза, он массировал ее ступни, неумело, но с большой нежностью и любовью. Массировал тыльную сторону ее стопы, разминал кончики пальцев. Она пыталась заставить себя не вспоминать о других руках, ласкающих ее ноги, о других прикосновениях…
— Наши ступни — невероятно сложная система, — спокойно произнесла Женевьева. — В стопе больше костей, чем в какой-либо другой части человеческого тела.
— Это правда?
— Возможно. — Она тосковала по прикосновениям Закари. Жаждала его. Как ей избавиться от этого томления? Она так хотела, чтобы случилось чудо, чтобы в ней пробудился бы интерес к Роберту.
— Я рада, что ты не принадлежишь к богеме, — задумчиво произнесла она.
Роберт перестал массировать ее ступни.
— Это правда?
Печальные глаза с небольшими мешками, усы, которые ей никогда не нравились и которые он упорно не хотел сбривать, большие мочки ушей… Она привыкла к нему, эта привычка прочно связывала их. Так было всегда. Но этого недостаточно для брака.
— Ты твердо стоишь на земле, — продолжала она. — Это очень хорошо.
Роберт похлопал ее по ноге.
— Я рад, что ты так думаешь. Я не уверен, что так было всегда.
— Я знаю, но теперь многое изменится.
— Действительно?
Она глубоко вздохнула.
— Я много думала. Я понимаю, насколько важна для тебя семья…
Он резко выпрямился, весь превратился в слух.
— Да?
— Это нелегко для меня. Но все же…
— Женевьева, ты имеешь в виду…
— Принесешь мне выпить?
— Конечно.
Она видела, как он взволнован и как изо всех сил старается взять себя в руки. Он не хотел испугать ее своим пылом, черт его побери, но тем не менее его поведение все равно напугало ее.
Роберт направился к облицованному слоновой костью бару.
— Чего желаешь?
— Я не знаю. — Она смахнула слезу. — Я не знаю.
Утро принесло чувство сожаления и отвращение. Прошлой ночью она была абсолютно уверена, что поступает правильно, что ребенок разрешит все трудности. Но во сне она снова увидела Закари, взгляд, который преследовал ее у мадам Элен. В этом сне между ними было множество женщин, бешено хватающих платья и туфли. Она боролась с соперницами, прорывая их заслон, царапая ногтями, молотя кулаками, кусаясь. Но не было никакой возможности пробиться к нему.
Затем вдруг сон о Закари оборвался, и вместо этого она увидела, как вырезает на стволе дуба имя «Жозефина», а нож вдруг соскальзывает и ранит ее руку. Вытаскивая платок, чтобы перевязать рану и остановить кровь, она вновь смотрит на дерево и видит, что надпись исчезла.
За завтраком Женевьева спряталась за свежим выпуском La Vie Parisienne и односложно отвечала на все бодрые вопросы и замечания Роберта. Через некоторое время он бросил свои попытки и сидел, молча глядя на нее. Именно этого она и хотела, чтобы он, наконец, замолчал, но от этого не стало легче. Он был так обескуражен и подавлен. И как можно было его обвинять?
Поднявшись, наконец, чтобы отправиться в офис, он помедлил в дверях.
— В чем дело, Роберт?
— Ну, на самом деле этот же вопрос я хотел бы задать тебе. — Он нервно провел пятерней по волосам. — Ты такая непостоянная, Женевьева. Прошлой ночью ты казалась совсем другой… но сегодня утром…
— И это тебя удивляет? Я ведь совсем недавно потеряла мать.
— Да, конечно. Конечно. — Он снова пристально смотрел на нее. — Только…
— Что?
— Возможно, здесь есть еще что-то, то, что я должен знать. Ты ведь сказала бы мне, ведь правда, дорогая?
— Я не понимаю, о чем ты. — Она снова опустила взгляд в журнал, раздраженно перевернула страницу. — Ты сегодня ужинаешь с Гарри?
— Да. Думаю, я вернусь поздно. Лучше не жди меня.
— Отлично. Я в любом случае собиралась вечером встретиться с Лулу.
— Хорошо, — откликнулся он, хотя это прозвучало не очень убедительно. — Кстати, Женевьева. Я буду очень рад, если ты найдешь номер чистильщика бронзы. Он слишком долго держит у себя лошадь, я хотел бы позвонить ему.
Как только за ним закрылась входная дверь, Женевьева торопливо подошла к маленькому телефонному столику в холле и дрожащим голосом попросила оператора соединить ее с магазином Паоло Закари. Через некоторое время на другом конце линии раздался щелчок, прозвучало знакомое, с неуловимой ноткой презрения приветствие Ольги.
Женевьева резко бросила трубку и, растерянно глядя в гостиную, где Селин стирала пыль с орнамента, украшающего камин, молча застыла, кусая ногти.
«Что я делаю?»
Этим вечером Лулу была расположена попроказничать. Она пожелала отправиться в какое-нибудь «шикарное» место и роскошно одеться в соответствии с этим событием. Приехав рано утром на рю де Лота, она тут же принялась рыться в шкафах Женевьевы и в конце концов остановила выбор на облегающем платье из черного кружева от ателье «Мартин», которое Женевьева ни разу не надевала.
Именно Женевьева предложила отправиться в бар в отеле «Ритц». Она заявила Лулу, что чувствует ностальгию по той ночи, когда они впервые встретились, но истинная причина заключалась в том, что неподалеку находился магазинчик Паоло Закари. А вдруг…
Когда они вышли из кеба, она не смогла сдержаться и оглянулась вокруг, но Закари не было видно. Будет ли он сегодня вечером в своей мастерской? Или наверху, над магазином, там, где, как она теперь поняла, находится его квартира? Возможно, позже она попытается улизнуть, чтобы одним глазком посмотреть, горит ли свет и слышно ли что-нибудь изнутри… Нет, она не должна делать этого… Она должна держаться от него подальше…
Но затем Женевьева увидела нечто такое, что заставило ее полностью забыть о Закари, по крайней мере на этот миг. Нечто, что не укрылось от наблюдательных глаз привратника отеля, водителя кеба и нескольких проходящих мимо служащих из министерства юстиции.
Под кружевным платьем Лулу не оказалось нижнего белья.
— А как выглядит грейпфрут? — поинтересовалась Лулу, когда они потягивали вермут и расправлялись с устрицами. — Какого он цвета?
— Желтого, — откликнулась Женевьева. — Он большой, круглый и желтый. А вкус у него очень резкий. Ужасно кислый. Зачем он тебе?
— Кислый. — Лулу закрыла глаза и, похоже, пыталась представить себе вкус грейпфрута. — Да, тогда в этом есть смысл. Это любимый фрукт Кэмби. Так он говорит. Я хочу попытаться достать для него несколько штук.
— В Париже? Сомневаюсь, что ты сумеешь их здесь найти.
— Какой кошмар. — Лулу нахмурилась. — В последнее время он сам не свой. Я не знаю, в чем дело, но что-то все-таки произошло, в этом я не сомневаюсь. Я хотела сделать ему подарок, чтобы подбодрить его. И тут вспомнила, как он рассказывал об этих самых грейпфрутах.
Женевьева улыбнулась:
— Я думаю, мы можем обратиться в «Компанию роскошных покупок». Если у кого и найдутся грейпфруты, так именно у них.
— Отлично, милая моя. — Лулу осушила бокал. — Я знала, что могу положиться на тебя.
— Давай, — воскликнула Женевьева, — выпьем еще. Я хочу напиться.
Выпив еще пару бокалов, они обе стали разговаривать неприлично громкими визгливыми голосами. Женевьева знала, что большинство мужчин в баре наблюдают за ними. Подглядывают из-за газет, открыто смотрят или искоса бросают взгляды, словно оценивая товары на прилавке магазина. Юные английские аристократы, только что из Итона, путешественники-американцы, модные французские ребята, ищущие любовных приключений… Их элегантно причесанные, обвешанные драгоценностями подруги бросали раздраженные взгляды в сторону экстравагантной парочки.
Лулу снова заговорила о Кэмби.
— Это так странно. Я не могу доверять ему, но и бросить его не в состоянии, в нем вся моя жизнь. Понимаешь? Я не знаю, что буду делать без него.
— Иногда я завидую тебе. — Женевьева наблюдала за молодым барменом, с зализанными назад волосами, тот взбивал коктейли и разливал розовую жидкость в стаканы, выставленные на барной стойке. — У тебя такое глубокое чувство к нему. Я никогда не испытывала к мужчине ничего подобного. В конце концов…
Бармен бросил вишенки во все бокалы, кроме одного. Он поставил их на круглый поднос для официантки, затем толкнул оставшийся бокал по барной стойке к светловолосой женщине, примостившейся на высоком стуле спиной к подругам. На ней было простое голубое платье без украшений.
— Ну… так было до сегодняшнего дня.
— До сегодняшнего дня? Милая моя? — Лулу возбужденно захлопала в ладоши. — Я знала это! Кто это? Гай Монтерей? Я не сомневалась, что ты переспала с ним!
— Тише, Лулу! — Женевьева огляделась вокруг. — Я не спала с Монтереем. Меня абсолютно не интересует этот ужасный человек.
— Тогда кто же это? — Лулу была немного сбита с толку. — О, я знаю, кто это.
Женщина, сидящая за стойкой, разговаривала с барменом. Он слушал ее, но при этом старался делать вид, что это его не касается.
— Это Закари, ведь так? — предположила Лулу. Женевьева проглотила ком, подкативший к горлу.
— Все началось с непреодолимого желания. Я пыталась всеми силами избавиться от него. Но чем сильнее пыталась, тем сильнее разгоралось желание. А сейчас я жажду разорвать кожу на куски, но понимаю, что это не приведет ни к чему хорошему.
— Значит, ты переспала с ним?
— Только один раз. В тот вечер, когда был мой праздник. В тот вечер, когда я узнала о смерти мамы. Это было потрясающе. Теперь я не знаю, что делать.
Лулу торжествующе улыбнулась:
— Ну, разве это не очевидно? Ты должна переспать с ним еще раз. Как только появится возможность.
— Нет, Лулу. Я не должна. Я не могу позволить этому зайти еще дальше. Это разрушает меня. Как же Роберт? Как же мой брак?
— Закари тронул твою душу. — Лулу ласково коснулась руки Женевьевы. — А Роберт не способен на это, и не стоит надеяться, что в ваших отношениях что-то изменится.
— Именно это меня и пугает.
Светловолосая женщина рылась в сумочке, предположительно в поисках денег. Но бармен, оглядевшись и убедившись, что никто этого не видит, быстро кивнул, давая понять, что она должна убрать свои деньги. Женщина попыталась коснуться его плеча, но он притворился, что ничего не заметил, и принялся деловито протирать стакан.
— Ты любишь его? — В лице Лулу появилась необычная серьезность.
— Я не знаю… может быть. — Одним глазом Женевьева наблюдала за светловолосой женщиной, которая вставала со стула.
— Возможно, тебе лучше еще раз с ним переспать, чтобы понять это.
— О, Лулу!
— Милая моя, ты же не можешь пройти мимо такого прекрасного момента в жизни! Это противоестественно.
— Но… я должна. Лулу округлила глаза.
— Именно поэтому я не говорила тебе. Но теперь я заявляю, ты должна помочь мне.
— Помочь тебе в чем?
Светловолосая женщина отошла от стойки.
— Помоги мне забыть его. Это нелегко, он практически каждую ночь снится мне. Теперь я натыкаюсь на него на каждом модном показе и даже не в состоянии при этом взять себя в руки и заговорить с ним. Я не могу остановиться на рю де ла Пэ, чтобы не пройти мимо дверей его магазина. К тому же стоило мне прийти сюда, как появилась эта женщина.
— Какая женщина?
— Та. — Женевьева махнула рукой в сторону светловолосой женщины, которая уже стояла в дверях. — Та самая Ольга, его помощница.
— Та женщина?
— Бармен налил ей три бокала. Я догадываюсь, что она затевает.
— Ну, так давай это выясним. — Лулу схватила Женевьеву за руку. — Пойдем скорее, шери!
Ольга быстрым шагом направилась через Вандомскую площадь, мимо колонны (сегодня вечером она напомнила Женевьеве тотемный столб), потом к югу, на рю Кастильон. Солнце только что скрылось за горизонтом. Небо окрасилось в странные темно-лиловые тона, огромную площадь окутали мрачные тени.
— Быстрее. — Лулу подхватила подол платья, она быстро шагала, переходя на бег за Ольгой. — Мы вот-вот потеряем ее.
— Лулу! — Женевьева едва смогла пройти от машины до бара на своих высоченных каблуках. И вот теперь, спотыкаясь, мчалась за Лулу в своих туфлях от Д'Орсэ благородно-синего оттенка. Ей очень повезет, если она не вывихнет ноги.
— Быстрее! — вопила Лулу.
— Лулу, остановись!
Она действительно остановилась, но лишь на мгновение.
— Разве ты не хочешь выяснить, куда она идет?
— Ну…
— Виви, я все равно сделаю это — с тобой или без тебя. — Она снова кинулась в погоню.
Когда они неслись по рю де Риволи, неожиданно хлынул бурный ливень. Официанты уводили недовольных посетителей с открытых террас кафе. Со всех сторон раздавались пронзительные вопли. Улица освещалась яркими вспышками молний, и над головой рокотали раскаты грома. Собаки хрипло лаяли. Люди спешили укрыться в домах, прикрывая головы газетами, сумками и ладонями, ныряли в дверные проходы, прятались под навесами.
— Куда она подевалась? — В мгновение ока Женевьева вымокла до нитки.
Лулу кидалась то в одну, то в другую сторону, промокшее платье плотнее облегало тело.
— Она исчезла, мы потеряли ее.
Роберт ужинал в компании Гарри Мортимера в ресторанчике «У Мишо» на углу рю Жакоб и рю де Сан-Пере.
Сначала он думал, что всему виной тяжелый туман в голове. В ресторане было шумно: с кухни доносилось дребезжание посуды, за соседним столиком визгливо смеялась женщина, отовсюду слышались преувеличенно громкий скрежет металла и фарфора. Поначалу они с Гарри наслаждались изысканной едой, но теперь все стало неуловимо гнетущим. Мимо их столика промчался официант, распространяя ощутимый запах пота. Этого было достаточно, чтобы отказаться от турнедо. Роберт подумал, заметил ли это Гарри, но у Гарри, похоже, были другие заботы.
— Это должно произойти в январе. Мод вовсю занимается подготовкой детской, подыскивает французских врачей и няню-англичанку.
— Это замечательно, — пробормотал Роберт. — Действительно замечательно.
— И это все, что ты собирался мне сказать?
В этот момент хлынул дождь. Он забарабанил по крыше и в окна так громко, будто кто-то изо всех сил стучал Роберту по голове. Истеричные крики донеслись до них с улицы.
— В чем дело? — Голос Гарри прозвучал уверенно и твердо. — С тобой что-то происходит. Что случилось?
Роберт с беспокойством подумал, что один из этих криков мог принадлежать Женевьеве, что Лулу сейчас тянет ее за собой по мокрым улицам. Молния сверкала, и гром отдавался в его грудной клетке.
— Роберт, дружище?
Вот в чем их вечная проблема, даже если она сейчас и не попала в бурю, она всегда находится вне его жизни. И все потому, что он многого не знает о ней.
— Ты как-то рассказывал мне об одном своем приятеле, — ответил Роберт. — О человеке, которому я могу позвонить, если возникнет нечто… что я захочу проверить.
— Его зовут Фелперстоун, — сказал Гарри. — Он англичанин, как и твоя жена. Он дорого берет за свои услуги, но он профессионал.
— Профессионал в чем?
Двое стариков, сидящих на высоких стульях, повернулись, чтобы взглянуть на двух подруг, ворвавшихся в тесный бар. Трое хохочущих проституток в дальнем углу тут же примолкли, толкая друг друга локтями. Лысый бармен поспешно подышал на стакан и протер его грязной скатертью. И бар, и его посетители казались неопрятными и невероятно запыленными.
— Здесь воняет псиной, — заметила Лулу. И точно, на полу, прикрытом потертым половиком, лежал, почесываясь, всклокоченный грязный пес.
— Я выпью бренди, чтобы согреться, — откликнулась Женевьева.
— Тогда и мне, — приказала Лулу бармену и направилась к единственному свободному столику.
— Где это мы? — Женевьева огляделась. Собака зевнула и закрыла глаза. — Что это за место?
— Здесь сухо, — ответила Лулу и чихнула. — И главное, можно выпить.
Бармен принес выпивку. Вода просачивалась сквозь потолок и капала в эмалированный таз, стоявший на полу.
— Это ты виновата, что мы промокли, — сказала Женевьева. — Я ни за что не стала бы преследовать ее, если бы не ты.
— Ну а я ни за что не стала бы преследовать ее, если бы ты не переспала с этим башмачником, — огрызнулась Лулу.
— Теперь мы все равно ее потеряли. — Женевьева сняла свои туфли от Д'Орсэ и поставила их на стул рядом с собой. Они сильно потемнели и были забрызганы грязью. Еще одна испорченная пара… Она посмотрела на свои ноги под столом, на них красовались пятна голубой краски, а затем оглянулась назад…
Это Ольга!
Она вышла из комнатки, где, вероятно, находился туалет, закрыла за собой дверь. Промокнув насквозь, она казалась темнее, тем не менее ее волосы, глаза сохраняли тот оттенок прозрачности. Словно масло в воде.
— Так-так. — Женевьева изо всех сил старалась изобразить неподдельное удивление. — Вот так неожиданность — встретить вас здесь!
— Да, как странно, — заметила Ольга.
Женевьева быстро убрала туфли на пол.
— Ольга, познакомьтесь, это Лулу с Монпарнаса.
— Я хорошо знаю ее. Разве есть кто-то, кто ее не знает?
— Присоединяйтесь к нам. — Лулу указала на свободный стул. — Виви купит выпить. Ведь так, шери?
Прошел час, они выпили несколько напитков, никто больше не вошел и не вышел из дымного бара. Лулу курила одну сигарету за другой, прикуривая новую от окурка старой. Она пыталась смягчить Ольгу, но помощница Закари оставалась напряженной и держалась настороженно. Так же как и Женевьева.
— Вы мне нравитесь, Ольга, — говорила Лулу. — Мы с вами похожи. Мы обе пережили трудные времена. Нельзя по достоинству оценить жизнь, пока не столкнешься с ее темной стороной. Вам так не кажется?
— Думаю, это так… — Ольга неприязненно взглянула на Женевьеву.
— Почему бы вам не заказать нам еще по стаканчику? — сказала Лулу и прибавила: — Леди Тикстед?
— Я не… — Но Женевьева остановила себя и сдержалась от того, чтобы продолжать дальше. Она глубоко вздохнула. Попытавшись два-три раза безуспешно привлечь внимание бармена, направилась к стойке и заказала три бренди. К тому времени, как она вернулась, Лулу уже зашла довольно далеко в своих рассказах.
— Что касается моей матери, она не могла дождаться, когда избавится от меня. А я не могла дождаться, когда смогу уйти от нее, я ждала этого с самого момента рождения. Я так быстро проделала свой путь из ее тела, что она даже не успела дойти до дома и лечь в постель. Я упала прямо на мостовую!
Ольга одним глотком осушила стакан. Ее лицо пылало, словно у нее был жар.
— Она отправила меня в служанки, когда я была совсем девчонкой, — продолжила Лулу. — Какой от меня толк, если я не приношу в дом хоть немного денег? Я отправилась в услужение к местному священнику, убирать его гадкий дом, готовить его мерзкую еду. Он был настоящий сукин сын. Конечно, я сбежала от него, как только представилась возможность. В шестнадцать я сшивала копии Камасутры, чтобы заработать на жизнь. Я знала все сексуальные позы, какие вы только можете себе представить, и даже больше, но по-прежнему оставалась девственницей. Ирония судьбы, правда? Как часто внешность бывает обманчива! А вы, Ольга? Расскажите свою историю? — Она придвинула к ней стакан и незаметно подмигнула Женевьеве.
Ольга залпом выпила бренди Лулу, не заметив, что это не ее бокал. Когда она поставила бокал на стол, в глазах появился странный блеск.
— Я приехала из России. За несколько лет до революции. До войны.
Лулу кивнула:
— Я так и думала.
— У моего мужа Виктора были неприятности. Я не хочу вам о них рассказывать. Он боялся, что его посадят в тюрьму. Но еще больше он беспокоился о том, что станет со мной и с детьми, если они заберут его.
Внезапно она зашлась в приступе кашля, ужасном, сухом, продолжительном. Женевьева переглянулась с Лулу и придвинула к ней свой стакан.
— Мы сбежали в Париж. Потратили все свои сбережения, чтобы добраться сюда. Это было долгое и трудное путешествие.
— Это, должно быть, было… — начала Женевьева.
Но Ольга не дала ей договорить:
— Виктор заболел. Он умер вскоре после нашего приезда.
— Какая трагедия! — воскликнула Женевьева.
Ольга презрительно усмехнулась:
— Он просто отвратительная свинья! Я осталась одна, с детьми, в чужой стране, без дома, почти не зная языка!
Теперь Женевьева подбирала слова более осторожно.
— Это ужасная история. Я и представить не могу, как вы это пережили.
Неожиданно странная пелена исчезла из глаз, взгляд женщины прояснился.
— Я не справилась бы, если бы не Паоло. Он стал для меня родным человеком.
Новый приступ кашля прервал рассказ, Лулу жестом приказала Женевьеве сходить к стойке и принести еще бренди. Когда она вернулась, разговор продолжился. Ольга расспрашивала Лулу о художниках, которые рисовали и фотографировали ее, Лулу пустилась рассказывать одну из своих многочисленных историй, увлеченная вниманием к собственной персоне, совсем забыв о необходимости сфокусироваться на выуживании информации из своей жертвы.
— …Да, он хотел переспать со мной, но, понимаете, переспать с художником это нечто иное, чем переспать с обычным мужчиной. Они ищут вдохновения, им нужна муза. Иногда они находят это в постели с женщиной. Это… искусство.
Ольга фыркнула.
— Художники ничем не отличаются от других мужчин. Когда вы поживете с мое, узнаете, что я имею в виду.
— Возможно, вы правы. — Взгляд Лулу неожиданно сделался отстраненным.
Сколько ей лет? Женевьева задумалась. Сорок три? Сорок пять? Трудно сказать. Тонкая кость, безупречная фигура. Интеллигентный вид. Но лицо казалось увядшим, вероятно, ей пришлось многое пережить.
— Люди не считают сапожников творческими людьми, — начала Женевьева. — Но они настоящие творцы. Паоло Закари такой человек. Вы знаете его лучше, чем другие, Ольга. Вы ведь давно работаете у него.
— Дождь перестал, — вздохнула Ольга, не глядя на Женевьеву. — Мне пора.
— Еще так рано! — Лулу толкнула ногой Женевьеву под столом. — Поедемте с нами к Бриктопу. Возможно, я спою.
— Мне надо домой. — Ольга снова стала кашлять, и на этот раз глоток бренди ей не помог. Все еще кашляя, она поднялась из-за стола.
— С вами все в порядке? — спросила Женевьева.
Ольга резко уронила стакан на столик и нетвердой походкой попыталась пройти к двери. Ее сильно шатало, ноги, похоже, отказывались служить ей. Подруги продолжали наблюдать за женщиной. Ее ноги подогнулись, она потеряла равновесие, пытаясь удержаться, споткнулась о ножку стула и упала.
Проститутки хохотали, над Ольгой или над собственной шуткой, сейчас это было невозможно понять. Бармен качал головой и что-то недовольно бормотал себе под нос. Старики и бровью не повели. А Ольга так и осталась неподвижно лежать на полу.
В такси она безвольно сидела между ними, опустив голову. Она уже пришла в сознание, но, похоже, плохо понимала, что происходит. Глаза были закрыты. Иногда она что-то бормотала по-русски.
— Откуда такая уверенность, что Закари там? — спросила Лулу.
— Я не уверена. Но что нам еще остается? Ведь это мы напоили ее. Я скорее отвезу ее к Закари, чем на рю де Лота. Но, возможно, ты захочешь взять ее к себе?
— Ты, наверное, шутишь! — взвизгнула Лулу. — Это твоя проблема. Ко мне она не имеет никакого отношения.
Такси резко повернуло за угол, голова Ольги резко наклонилась вперед. Женевьева осторожно приподняла ее, вытерла слюну своим платком.
— Здесь дело не только в спиртном, — сказала она. — Потрогай, какая она горячая.
Лулу потрогала ее лоб.
— Будем надеяться, что твой башмачник еще в своей мастерской.
Они завернули на рю де ла Пэ, лицо Ольги осветило множество ярких уличных фонарей. Она казалась бесплотной, бледной, словно призрак. В ней появилась необыкновенная мягкость, которой Женевьева не замечала раньше.
— Должно быть, когда-то она была настоящей красавицей. — Женевьева машинально убрала выбившиеся пряди волос Ольги за ухо.
— Женевьева! — Закари стоял на пороге магазина. На нем была рабочая одежда, рукава засучены по локти. Его улыбка, когда он увидел ее, говорила сама за себя, у Женевьевы сжалось сердце.
— Это не то, о чем ты думаешь. — Она старалась не смотреть в его глаза, опасалась, что выдаст собственные чувства.
— Входи. — Он протянул руку, чтобы коснуться ее, но она отскочила на пару шагов назад, уклонилась от него.
— Я не могу. — Ужасно, что они так поступили с Ольгой. Ей стало стыдно. И чего ради? Если бы Закари узнал…
Он покачал головой:
— Я не понимаю.
…Это была самая утонченная пытка…
— Я слышал о твоей матери, — сказал он. — Я знал, что ты должна вернуться в Англию. Я думал, что, возможно, ты не приедешь. А затем вчера, на модном показе…
— Паоло, я приехала сюда не ради тебя.
— И вот ты здесь! Ты выглядела… я все ломал голову, придешь ли ты. Я понял, что все это время ждал тебя…
Женевьева подумала о Лулу. Она нетерпеливо барабанила пальцами по обивке сиденья и ругалась про себя, голова Ольги тяжело лежала на ее плече.
— Я не могу приходить сюда ради тебя, Паоло. Это не должно повториться. — Когда она снова заговорила, ее голос стал ледяным. Настолько холодным, насколько она могла. — Твоя помощница заболела. Мы привезли ее в такси. Она на рю де ла Пэ.
Водитель отказался помогать вытаскивать Ольгу из такси. Лулу тоже оказалась абсолютно бесполезной, заявила, что должна выкурить сигарету, прежде чем предпринимать что-либо дальше. Закари и Женевьева совместными усилиями вытащили Ольгу из машины.
— Мы поможем вам довести ее до дома, — предложила Женевьева. Она взяла сумочку Ольги, в то время как Закари, прислонив бесчувственное тело женщины к автомобилю, пытался удержать ее в равновесии.
— Все в порядке, я справлюсь. — Закари подхватил Ольгу на руки, словно куклу. Ее голова упала ему на грудь.
— Спасибо, — сказал он. — Спасибо, что привезли ее сюда.
— У нас не было выбора.
— Ничего подобного. Всегда есть выбор. — В этот момент его лицо было более искренним и открытым, чем это когда-либо доводилось видеть Женевьеве. — Я очень благодарен тебе.
— А как же ее сумочка? — спросила Женевьева.
Он прихватил и сумочку, повесив ее на плечо.
— Неужели вы даже не предложите нам выпить? — крикнула Лулу.
— Спокойной ночи. — Закари направился по переходу обратно к магазину.
Лулу выпустила струю дыма.
— Такова благодарность!
Женевьева вдруг почувствовала, как больно защемило у нее в груди.
— Бросай сигарету, садись в такси. Я должна возвращаться домой, к мужу.
Глава 4 ПРЯЖКА
Миссис Гэллер статью напоминала пароход. У нее были широкое белое лицо и огромный бюст, над которым ее блузка натягивалась до того туго, что всем окружающим становилось видно белье из прочной белой ткани, проглядывающее между пуговицами. Голову венчала невыразительная коричневая шляпа.
Прежде чем встать со стула, Роберт перевернул лицом вниз фотографию Женевьевы в свадебном платье, чтобы не встречаться с ней взглядом. Затем вышел из-за стола и протянул руку.
— Как поживаете, мадам? Я благодарен вам за то, что вы проделали столь долгий путь, чтобы встретиться со мной. — Он был благодарен, хотя не мог ничего поделать с собой и слегка побледнел при упоминании о сумме, которую она потребовала на расходы. Он до сих пор не вполне понимал, почему они не могли просто поговорить по телефону.
— Она считает телефон новомодным аппаратом, которому не стоит доверять тайны, — объяснил мистер Фелперстоун. — Боится, что оператор может подслушать разговор. Она хотела бы поговорить с вами с глазу на глаз. Миссис Гэллер ничего мне не скажет, пока не встретится с вами.
У нее оказалось железное рукопожатие.
— Не стоит благодарности. Я рада познакомиться, можете не сомневаться.
Он позвонил Мари-Клер, своей секретарше, попросил принести два кофе. И еще один для мистера Фелперстоуна, который ждал в пустом офисе в конце коридора. А затем выжидающе приподнял брови:
— Ну, тогда приступим к делу.
Женщина сидела с отсутствующим видом, держа на коленях свою коричневую шляпу, и молчала. Роберт откашлялся.
— Вы сможете рассказать мне все, что помните о моей жене?
— Ну что ж, сэр. Я смотрительница школьных классов, понимаете. Я несу ответственность за девочек после уроков. На мне лежит забота об их здоровье, благополучии, чистоте и тому подобных вещах.
— Да, да. — Роберт все это уже знал. — Но вы можете вспомнить что-нибудь особенное?
Казалось, миссис Гэллер была обескуражена тем, что ее так неожиданно прервали. Она беспокойно теребила шляпу.
— Мисс Сэмюэл была очень хорошенькой девочкой, неплохо училась, но отличалась взбалмошностью, уж вы простите мне эти слова, сэр. У нее были свои особые манеры поведения и особенные качества. Я хочу сказать, я понимаю, что ее отец — аристократ и все такое, но все-таки она была не единственной сиятельной персоной в школе.
Роберт вдруг подумал, что, возможно, у этой гарпии припрятан в укромном месте остро заточенный топор.
— Давайте оставим обсуждение ее характера, хорошо? У нее было много близких подруг?
— Да, была одна маленькая девочка, не помню, как ее звали.
Женщина положила шляпу на стол. Было что-то отвратительное в этой шляпе. Она не имела никакого отношения ни к моде, ни к привлекательности. Это была старая отвратительная шляпа, она напоминала ему о его собственных школьных днях, о женщинах, подобных этой, злых, безжалостных солдафонках в юбках. В таких женщинах нет ни капли любви. Кто мог обвинить его Женевьеву в том, что она вела себя высокомерно по отношению к кошмарной миссис Гэллер? В том, что она считала себя лучше, чем классная надзирательница?
Раздался стук в дверь, вошла Мари-Клер с кофе, с дребезжанием поставила поднос на стол и удалилась. К тому времени миссис Гэллер, похоже, потеряла нить повествования.
Роберт решил испробовать новый способ допроса.
— Насколько я понимаю, Женевьева не закончила школьное обучение, отец забрал ее из школы по причине слабого здоровья.
— Именно так. — Женщина кивнула. — Хотя я не уверена… «Попросили уйти» звучало бы точнее.
— Вы говорите, что Женевьеву исключили?
— Ну, я точно не знаю. Все было сделано очень осторожно. Ее отец сам не появлялся в школе, вместо него приезжал их семейный доктор.
— Снова он, — пробормотал Роберт.
— Они долгое время беседовали в кабинете директрисы, мисс Сэмюэл, ее маленькая подруга, имени которой я не помню, и доктор. А затем позвали меня и попросили помочь собрать вещи. В тот же день она уехала с доктором, и мы больше никогда ее не видели. Ее подруга была очень расстроена.
— Но что же на самом деле произошло? Что случилось с моей женой?
Миссис Гэллер уставилась в пол.
— Что-то неприятное произошло в ванной.
— В ванной?
— Одна из девочек сказала, что ее подруга, та, имени которой я не помню, вошла в ванную, когда там была мисс Сэмюэл, и увидела что-то, что сильно расстроило ее. Вскоре мисс Сэмюэл уехала.
— Как вы думаете, что могла увидеть девочка?
Миссис Гэллер с заговорщическим видом наклонилась вперед.
— Знаете, сэр, девочки рассказывали, что в ванной была кровь. Некоторые считали, что мисс Сэмюэл могла… — она понизила голос, словно кто-то за дверью мог подслушать их разговор, — могла вскрыть вены.
Роберт сжал кулаки.
Здесь, очевидно, таилось нечто ужасное, иначе как объяснить секреты и шпионское поведение семейки. И все же… Роберт поднялся из-за стола:
— Благодарю вас, миссис Гэллер. Я признателен за то, что вы согласились приехать.
Она выглядела обескураженной.
— И это все? Я могу идти?
— Очевидно, да. — Роберт взял ужасную коричневую шляпу и вручил ее женщине. Затем распахнул перед ней дверь. — Наслаждайтесь отдыхом в Париже.
После того как она ушла, приказал Мари-Клер пригласить Фелперстоуна.
Когда Роберт повторил наполовину рассказанную миссис Гэллер историю, мистер Фелперстоун в ответ улыбнулся желтозубой улыбкой. Роберт почувствовал отвращение к его длинным, желтым зубам. Ему становилось противно при одной мысли о костлявых руках, подлых маленьких глазках человека, роющегося в жизни его жены, подобно тому как нищий роется в мусорном баке. И самое главное, он сам стал себе противен из-за того, что нанял этого негодяя. Но все же…
— Это только начало, сэр…
— Неужели?
Фелперстоун выудил табакерку из кармана и взял изрядную понюшку табаку, затем чихнул в грязный носовой платок. Не стоит и говорить о том, что Роберту была невероятно противна эта ужасная английская привычка.
— Помните старую поговорку, сэр? Нет дыма… — В желтозубой улыбке мелькнуло беспокойство. Не зря тревожился этот противный детектив. Чем больше Роберт размышлял, тем меньше ему нравилась эта история, сама мысль о том, что его Женевьева умышленно пыталась причинить себе вред. Это не могло быть правдой.
— История не представляет никакой ценности, — заявил он. — Женщина ничего не знает.
— Никому не понравится, если нечто подобное расскажут о близких и дорогих людях, сэр.
— Полагаю, дама впервые за границей, — заметил Роберт. — Ей повезло, что она приехала сюда в середине августа. Сейчас как раз школьные каникулы. Приятный отпуск, согласитесь? И главное, все оплачено.
— Все возможно, сэр, но не думаю, что стоит махнуть рукой на ее показания. Люди, которые придумывают истории, как правило, представляют более сложную цепь событий. Иногда чересчур сложную. Какой бы ни была история миссис Гэллер, она всего лишь маленький фрагмент, хотя я могу сказать, что в ней есть доля правды.
— Доля правды? Я заплатил деньги не для того, чтобы слушать сплетни. Она не представила никаких доказательств, даже не назвала имени подруги жены, этой пресловутой «малышки как там ее зовут?..».
— Имена можно узнать, сэр. — Он снова чихнул в грязный платок.
— Итак, вы считаете, что игра стоит свеч. — Это прозвучало как утверждение.
— Не беспокойтесь, сэр. К сожалению, прежняя директриса там больше не работает. Но мы разыщем «малышку как ее там зовут», где бы она ни пряталась. И узнаем всю правду, сэр. Мы близки к истине, я чую это.
И снова эти отвратительные желтые зубы. И еще одна изрядная понюшка табаку.
Роберт закрыл лицо руками, надеясь, что сможет просидеть так до ухода Фелперстоуна. Но детектив задержался.
— Я вот что подумал, сэр…
— О вашем чеке? — Роберт взглянул в щелку между пальцами.
— Я не об этом, сэр. С вашего позволения я мог бы подключить к делу своего коллегу в Англии, очень надежного человека, он бы пожелал…
Роберт его уже не слушал. Его захлестнул леденящий душу ужас, страшные картины ясно предстали в воображении.
Он увидел отвратительную, ржавую, старую ванну, испачканную кровью Женевьевы…
Несколько недель подряд Женевьева почти не видела Лулу, не считая редких встреч за десертом у Рамиельмайера. По вечерам она оставалась дома, выезжала только на ужин или в театр в сопровождении Роберта. Вечера в компании Лулу стали опасны, поскольку обычно приводили в те места, где не стоило появляться. Роберт был в восторге от того, что его жена стала больше времени проводить дома и меньше встречалась со своей ветреной подругой. Но Лулу это пришлось не по вкусу.
— Сегодня вечером будет вечеринка, — сказала она Женевьеве, когда они, как обычно, встретились за столиком у Рамиельмайера. — На барже, которую наняла одна сумасшедшая парочка немцев. Это будет нечто невероятное, и мы должны попасть туда!
— Я не могу.
— Почему же? Ты сказала, что вечером Роберт отправится ужинать. Он ведь не станет возражать, так? Все начнется в семь, ты сможешь уехать, когда пожелаешь, но ты обязательно должна прийти. Так всегда было, милая моя.
— Дело не в этом.
— Тогда в чем? Ты не можешь вечно хандрить из-за своего сапожника. О да, мне хорошо известно, что скрывается за всем этим, Виви. Ты не обманешь меня.
Женевьева уставилась на свои тефтели, не говоря ни слова.
— Это всего лишь мужчина, милая. В нем нет ничего особенного. А я, между прочим, твоя лучшая подруга.
Баржа стояла на якоре у Нового моста, одного из самых любимых мест Женевьевы. Она часто отправлялась на прогулку к Иль-Сен-Луи, чтобы побродить по узким улочкам и полюбоваться высокими, красивыми домами. Женщина переходила на Иль-де-ла-Сите, проходила мимо мрачного исполина Нотр-Дам и двигалась дальше, в сторону набережной Сен-Мишель. Здесь она могла не спеша идти вдоль реки, посматривать на книжные прилавки, а затем по маленьким ступенькам спускаться к небольшому парку рядом с Новым мостом, здесь можно было наблюдать за рыбаками, сидящими у воды с длинными удочками, греться в лучах испещренного листьями полуденного солнца.
Теперь Женевьева спускалась по ступенькам, приподнимая вечернее платье от Шанель из этрусского красного шелка, украшенное замысловатой вышивкой и прозрачными бусинами, демонстрировала изящные шелковые туфельки от Рамбальди с каблуками в стиле Луи и кружевным узором ручной работы, изображающим птиц. Но ее восторг мгновенно улетучился при виде старой ржавой посудины у причала.
— И это она? — После неистово-восторженных отзывов Лулу Женевьева ожидала увидеть нечто великолепное. Между тремя баржами Поль Пуаре устроил выставку.
Лулу в великолепном, блистающем драгоценностями тюрбане и потрясающем розовом платье с глубоким вырезом (сегодня в ложбинке между грудей у нее красовалась мушка) притворялась, что ничего не слышит.
— Пойдем, Виви. Давай поднимемся на палубу.
На тесной барже негде было повернуться. Когда они поднялись на палубу, человек в блузе художника как раз раскручивал за задние ноги кошку, несчастное животное выло и визжало от ужаса.
— Не беспокойтесь, — крикнул художник, — кошке это нравится. — Он положил ее на холст, расстеленный на палубе, позволил бродить по нему медленной неровной походкой, оставляя небольшие красные следы лапок на чистом холсте.
Пароход был набит людьми, на берегу собралось еще больше. Они спустились к самой воде и стояли на прибрежной гальке, попивая белое вино из стаканов, чашек, ковшей.
— А теперь настала очередь голубого цвета. — Безумный художник схватил еще одну кошку и сунул ее в склянку, так что лапки перепачкались в краске.
— Видишь? — Лулу подтолкнула Женевьеву локтем. — Что я тебе говорила? Сумасшедшие люди. Это будет незабываемая ночь.
Протанцевав целый час в тесном кольце людей, которые сгрудились, словно сардины в банке, Женевьева уже была не в силах разобрать, качается ли под ее ногами старая баржа, или у нее просто кружится голова. Двое стариков наигрывали зажигательные мотивы на аккордеоне, собравшиеся пили шампанское из ящика, который кто-то притащил из «Мулен Руж», с удовольствием поглощали вишни и кусочки сыра, разложенные на выщербленных голубых тарелках. Прокладывая дорогу сквозь толпу, Женевьева решила выбраться на берег, глотнуть немного свежего воздуха, как вдруг заметила Нормана Беттерсона и Роберта Макэлмона, которые примостились вдвоем на обломке старой стены, курили и оживленно о чем-то разговаривая, по очереди прихлебывая вино из бутылки.
— Присоединяйтесь к нам, — пригласил Беттерсон, указывая на свободное местечко рядом с собой на камне.
Женевьева с радостью согласилась.
— Вот так. Теперь можете вести протокол. — Он всучил ей карандаш и блокнот.
— Протокол? У вас здесь что, собрание?
— Как бы там ни было, — продолжал Макэлмон, — Скотт так напился, что свалился со стула прямо на собачонку. Она была такая маленькая, не больше крысы. Совершенно очевидно, что она тут же испустила дух.
— И что сделал Скотт? — поинтересовался Беттерсон.
— А что он мог сделать? Сказал, что ему очень жаль, предложил купить другую собачку. Ты ведь знаешь Скотта, он расшвыривает деньги направо и налево. Это ее не впечатлило. Тогда Чарли начал болтать, что неплохо бы приготовить чертову шавку. Ты можешь себе это представить?
Макэлмон передал бутылку Беттерсону, тот сделал глоток, а затем вернул ее, даже не предложив Женевьеве.
В Макэлмоне было что-то отталкивающее. Высокий, смуглый, худощавый, он мог казаться красивым, но что-то мешало этому. Вероятно, дело в его губах, решила Женевьева. Тонкие губы, слегка опущенные книзу в уголках, щеки с какими-то странными выпуклостями. Он выглядел так, словно запихнул в рот крошечное живое существо, мышку или птенчика, и ждал, когда это беззащитное создание перестанет сопротивляться, чтобы, наконец, проглотить его. В то же время в его глазах порой возникал виноватый простодушный блеск, словно глаза пытались отрицать то, что затеял коварный рот. Женевьева открыла блокнот, начала набрасывать карикатуру.
— Ты когда-нибудь пробовал собаку? — спросил Беттерсон.
— Нет, — откликнулся Макэлмон. — Но я знаю человека, который пробовал.
— Ах да, неужели ты в это веришь?
— Кто пробовал собаку? — спросила Женевьева, не отрываясь от карикатуры.
— Гай Монтерей, — хмыкнул Макэлмон. — По крайней мере, он так говорит.
— Я должна была догадаться.
— Меня удивляет, что он не появился здесь сегодня, — заметил Беттерсон. — Что скажешь, Боб?
— Я давно его не видел. По крайней мере с тех пор, как его подруга поднялась на баржу. — Макэлмон отхлебнул вина. — Я забыл, как ее зовут?
— Уиспер,[5] — пожал плечами Беттерсон. — Именно так мне ее представили. Хорошенькая девушка. К тому же богата до неприличия.
— Ну, это ненадолго, — откликнулся Макэлмон. — Я слышал, муж перестал присылать ей деньги и приказал возвращаться домой.
— Бедный Гай.
Женевьева насмешливо фыркнула. На самом деле она была рада узнать, что Монтерей увлекся другой женщиной. Татуировка в виде черепа все еще будоражила ее воображение.
Комары роились над кромкой воды, их становилось больше, дневной свет постепенно мерк. Женевьева чувствовала, как кровососы впиваются в ее ноги, когда вносила последние штрихи в портрет.
— И как продвигаются дела с журналом?
— Ну, — отозвался Беттерсон, — мы уже определили состав выпуска. Там будут стихи Гая, об этом я уже говорил. У меня появились новые стихи Гертруды Стайн, действительно превосходные. Есть свежий рассказ Эрнеста Хемингуэя, отрывок из одной вещи Фицджеральда, специфическая история, очень милая. Вы поймете, что я имел в виду, когда прочтете ее. Еще туда войдут несколько стихотворений вашего покорного слуги, и еще — вчера Боб показал мне свой рассказ. — Он заглянул в блокнот. — Скажите, а это действительно забавно! Взгляни-ка, Боб.
Макэлмон повернул голову и посмотрел на рисунок.
— Вы жестокая женщина, Женевьева. У меня что, изо рта торчит птичий коготь?
— Она и вам пририсовала огромные когти. — С этими словами Беттерсон разразился кашлем и достал платок.
Все больше и больше людей собиралось на барже и прогуливалось по берегу. Несколько мужчин в костюмах матросов танцевали на прибрежной гальке в компании трех девушек в коротких платьях. Чуть дальше расположилось сборище в купальных костюмах, это могли быть танцоры из постановки «Голубого поезда», которые еще не успели переодеться.
— Итак, он почти готов, — резюмировала Женевьева. — Наш первый выпуск.
— Точно. Почти готов. Боб предложил лучшее название. Скажи ей, Боб.
— «Фиеста», — хвастливо произнес Макэлмон. — Что скажете?
— Неплохо, но я все-таки настаиваю на «Галерее».
— «Галерея». — Макэлмон пробовал слово на слух. — Но разве вам не кажется, что название «Фиеста» несет в себе больше драматизма? Подумайте об этом, Женевьева. Фиеста.
— А разве это ваша забота, Боб? — Женевьева захлопнула блокнот и вручила его Беттерсону. — Мне кажется, это должны решать мы с Норманом.
— Ах. — Беттерсон похлопал ее по руке. — Произошли кое-какие изменения. Я очень рад сообщить вам, что Макэлмон присоединяется к нашей команде и становится соиздателем. Он вносит часть собственных денег в общую копилку.
Его собственные деньги! Деньги на содержание Роберт Макэлмон получал от своей жены, или бывшей жены, или что-то в этом роде… Все вокруг знали об этом.
— Мне кажется, вы во мне больше не нуждаетесь, — заметила Женевьева.
Беттерсон тут же подскочил со словами:
— Виви, у вас нет причин, чтобы быть такой злюкой. Конечно же вы нам нужны.
— Мы очень ценим ваши пожертвования, — эхом отозвался Макэлмон.
Но Женевьева смотрела только на Беттерсона.
— Вы сказали, что я для вас не просто кошелек с деньгами. Но вы не подпускаете меня к творческой стороне процесса.
— Чепуха, милая моя, — воскликнул Беттерсон. — Мы обожаем, когда вы занимаетесь творчеством. Правда, Боб?
— Абсолютно. — Макэлмон ухмыльнулся, и крошечное создание, угодившее в его пасть, почти вырвалось на свободу.
Темнота, сгустившаяся над местом веселого праздника, разрывалась только случайными вспышками камер фотографов. Разноцветные фонарики на деревьях в парке раскачивались под порывами легкого ветерка. Люди шумными компаниями толпились на ржавой барже и рядом на берегу, распивали спиртное и курили сигареты, смаковали вишню и сыр. Тела сплетались в тесных объятиях, губы касались губ, бедра раскачивались в такт музыке. Костюмы и летние платья, лохмотья и богатые одежды… Это была разношерстная толпа, но каким-то непостижимым образом получилось так, что все хорошо знали друг друга. Женевьева, медленно бредя по кромке воды, сняла одну из своих нефритовых сережек и машинально подбросила в воздух. Та описала широкую дугу и упала в реку.
— Эй, Женевьева. — Беттерсон шел за ней следом по берегу.
— Что? — Она не желала оборачиваться и не хотела разговаривать с ним.
— Мы немного забылись, Боб и я. Понимаете, нас занесло не в ту степь. Он принесет большую пользу журналу, поверьте мне. Он пишет как Бог.
— В отличие от меня. — Женевьева продолжала всматриваться в воду, по-прежнему не желая глядеть Беттерсону в глаза. — Мои стихи ужасны. Мы оба знаем это.
Он немного помолчал, прежде чем заговорить, без сомнения пытаясь быть тактичным.
— Да, моя дорогая. И, боюсь, этого никак нельзя исправить. Дело не в том, что вы милы и многого заслуживаете, даже не в том, сколько вы трудитесь, хотя, видит бог, вы действительно должны трудиться. Но это все не имеет значения, если у вас нет таланта.
Женевьева почувствовала странную тяжесть. Ее губы стали слишком непослушными, чтобы улыбнуться в ответ. Беттерсон подошел ближе. Она чувствовала: он хотел утешить ее простым человеческим движением, обнять или просто взять за руку. Но она отшатнулась.
— И что вам от того, что вы не можете писать хорошие стихи? Вы красавица. Более того, вы — личность. К тому же при деньгах.
— Вы ничего не понимаете.
— Не понимаю? Мне кажется, вы пытаетесь писать, прикрываясь общепринятыми иллюзиями. Творчество не делает нас счастливыми. Обычно оно приносит одни несчастья. Но мы продолжаем, потому что должны.
— Норман, когда я подошла к вам с Бобом Макэлмоном, хотела кое-что сказать. Нечто ценное. Я хотела стать частью чего-то важного, журнала, книги, разговора… Я хотела подкидывать интересные идеи, а не только деньги. И знать, что они приносят пользу. Думала, что это возможно, когда приехала в Париж, в этот Квартал. Я хочу, чтобы моя жизнь имела значение.
Неожиданно раздались звуки джаза. Трио музыкантов в галстуках-бабочках и смокингах — гитара, контрабас и труба — наигрывали негромкую приятную мелодию. К музыке присоединился одинокий голос, воспарил над веселым сборищем, сильный и чистый. Его ни с чем нельзя было спутать.
Лулу прислонилась к обвалившейся стене, на которой сидели Беттерсон и Макэлмон. Она медленно, провокационно подняла босую ногу и выставила пятку. Ее песня о двух бездомных котах, странствующих по улицам Парижа, звучала игриво и шаловливо. Распевая песню, она одну руку закинула за голову, потом вдруг опустилась на четвереньки, выгибая дугой спину, как кошки, о которых пела.
— Послушайте, милая моя. — Лицо Беттерсона скрывала густая тень, Женевьева не смогла разглядеть его выражение. — Вы написали несколько неудачных стихотворений. Бросьте, это не конец света. Вы ведь не можете сказать, что это мечта всей вашей жизни. Попробуйте себя в чем-нибудь другом. А как насчет рисунков? В этом блокноте есть потрясающие карикатуры. Ваш рисунок Боба — это было прямо в точку. Возможно, мы сможем напечатать некоторые из них в журнале.
— О, пожалуйста, — пробормотала Женевьева. — Только не надо меня жалеть.
Но внимание Беттерсона полностью переключилось на Лулу. Она стояла на стене, надувая губы и высоко вскидывая ноги, и пела о том, как в мертвой тишине ночного города коты становятся королями. Толпа резвилась на берегу, пытаясь танцевать у воды. Люди напоминали крабов, разбросанных по берегу.
Беттерсон пробормотал что-то себе под нос и направился к стене, пытаясь подойти к певице поближе.
Женевьева отвернулась и снова направилась к кромке воды. Когда она приблизилась к толпе, заметила знакомую фигуру, спускающуюся по ступенькам Нового моста. Она узнала склоненную темноволосую голову, сигарету в руке, рубашку свободного покроя, расстегнутую на шее.
Сердце бешено заколотилось и тут же ухнуло вниз.
Закари одиноко стоял в стороне, наблюдая за выступлением Лулу. Зажженная сигарета светилась желтым огоньком в ночном сумраке. С тех пор как они с Лулу напоили Ольгу, а затем привезли к нему в магазин, прошло несколько недель. Все это время Женевьева успешно избегала встреч с ним, но прекрасно понимала, что это не может продолжаться вечно. Сейчас он стоял в компании двух женщин в купальных костюмах, попивая шампанское прямо из бутылки.
«Я могу просто уйти», — подумала она. Но что-то остановило, не позволило двинуться с места. Она не могла просто так уйти с праздника, зная, что он здесь. Сняла вторую сережку, изо всех сил размахнулась, забросила ее как можно дальше в реку.
— Что вы делаете, сумасшедшая девчонка?
Голос прозвучал совсем близко. Она обернулась и увидела Гая Монтерея, тот стоял прямо у нее за спиной, засунув руки глубоко в карманы брюк своего светлого костюма. На его красивом лице светилась изумленная улыбка.
— А, это вы.
— Неужели вы совсем не рады мне?
Неожиданно послышались возня и завывания. Люди, стоявшие поблизости, пытались растащить двух обезумевших кошек, которые сцепились в драке, кусаясь и царапая друг друга перепачканными в краске когтями.
— Мне казалось, мы решили остаться друзьями, Женевьева.
Стоя у реки, глядя в загорелое лицо Монтерея, его блестящие, веселые глаза, она с трудом представляла, как оказалась в квартирке над «Шекспиром и компанией», вспоминала ужас, который испытала, обнаружив пистолет в кармане его пиджака. Гай выглядел разумным, абсолютно адекватным человеком. Беттерсон и Макэлмон хорошо отзывались о нем. Теперь у него есть женщина, та, которая бросила своего мужа, отказалась от богатства и пересекла Атлантику, лишь бы быть рядом с ним.
— О чем вы думали, когда подсовывали мне идиотский рисунок с изображением черепа?
— О господи! — Он прижал ладонь к лицу. — Простите меня, Женевьева. Я был пьян. Полагаю, тогда мне казалось, что это смешная шутка, это лишний раз доказывает, насколько сильно я напился!
Казалось, он искренне смущен. Она позволила себе расслабиться и испытать облегчение, решила навсегда забыть о черепе. Закари все еще беседовал с женщинами. Они смеялись.
— А где ваша новая подруга? — Она услышала ребячливые нотки в собственном голосе. — У нее забавное имя. Щепка, или Щекотка, или как-то еще?
— Шепот, — подсказал он. — Ее здесь нет. У нас с ней… соглашение.
— Понимаю. — Она ничего не понимала, но какое это имело значение?
Раздался еще один безумный вопль, вспышка ярости, мелькание когтистых лап и сияние желтых глаз. Кошки бросились им навстречу. Женевьева в испуге шагнула назад и едва не упала. Кошки пронеслись так близко, что она почувствовала прикосновение пушистого меха к ногам.
— Эй, успокойся. — Монтерей схватил ее за руку, пытаясь поддержать. Когда она выпрямилась, его рука все еще поддерживала ее. Женевьева встретилась взглядом с Закари.
Она молниеносно перевела взгляд на ноги. На носке шелковой туфельки от Рамбальди красовалось пятно голубой краски. Вот черт!
Лулу махнула рукой оркестру, музыканты тут же заиграли новый мотив, мелодию с неподражаемым заводным ритмом, который привел танцоров в неописуемый восторг. Певица спрыгнула со стены и ринулась в толпу.
Женевьева глубоко вздохнула и, заставив себя не смотреть на Закари, улыбнулась добродушному Гаю Монтерею.
— Потанцуйте со мной, — предложила она и, взяв его за руку, повела прочь от воды.
В какой-то критический момент ночного представления, в час, когда отупение и усталость от чрезмерного количества выпитого и танцев достигли высшей точки, возможно, в два или в три часа утра, баржа начала наполняться водой. Ее хозяин, мужчина в блузе художника, который крутил над головой кошку, запаниковал и стал орать, чтобы все расходились по домам, в это время его жена, темноглазая женщина с вьющимися волосами, вычерпывала ковшом воду и выливала ее за борт.
На кю де Конти опьяневшая Лулу носилась в толпе и приглашала всех, кого только могла, в том числе и прохожих, которые не были на празднике, в особняк, расположенный на ближайшей рю де Лилль — для продолжения ночного «сабантуя».
— Я поеду домой, — отказалась Женевьева. — Роберт уже давным-давно вернулся.
— О, не будь такой скучной, милая моя. Как бы там ни было, он наверняка лег спать, ведь правда? Поэтому какая разница, ну, задержишься еще на пару часов?
— Думаю, ты права. — Ей все равно придется возвращаться домой. Женевьева хорошо это понимала. Но она опьянела, теперь ей гораздо легче было поддаться на уговоры Лулу, чем принять непростое решение вернуться.
— Это замечательное место, — возбужденно заявила Лулу. — Фантастическое! Вот увидишь.
— Чей это дом? — поинтересовалась Женевьева. Во главе пестрой и шумной процессии они подходили к белому особняку, из которого доносились громкие звуки джазовой мелодии, парадная дверь была гостеприимно распахнута.
— Я не помню, — беспечно ответила Лулу.
— Ну, так откуда ты знаешь, что там так замечательно?
— Это я тоже не помню. Ну а кому какая разница, милая моя? Сейчас время веселиться! — Подруга рванулась вперед.
— Женевьева. — Кто-то положил руку ей на плечо. Оказалось, что это Закари. — Я так давно хотел поговорить с тобой. Но ты все время была с тем мужчиной, американцем в светлом костюме. Кто он такой?
— Ты ревнуешь? — Женевьева услышала сварливые нотки в собственном голосе. Она хотела, чтобы он ревновал.
Он махнул рукой:
— Будь осторожна, не доверяй этому человеку. Снова у нее перед глазами возник рисунок черепа.
— Почему? Что ты знаешь о нем?
Закари пожал плечами:
— Ничего. Это интуиция.
Женевьева отошла от входной двери, вырвалась из толпы людей, стремящихся на вечеринку, прислонилась к стволу платана.
— Я хочу, чтобы ты оставил меня в покое.
— Ты не хочешь этого.
— Я должна.
Он приблизился.
— Я знаю, ты боишься, Женевьева. Боишься своих чувств и меня.
— Что за вздор.
— Ты боишься своей страсти. Боишься, что это может причинить вред тебе и твоему браку… Если ты снова поддашься ей…
Она заставила себя взглянуть на его шею. И увидела веснушку. Она знала, что, если станет смотреть на веснушку, все будет в порядке, тогда она сможет держать себя в руках.
— Я так замечательно жила до того, как все это произошло, — ответила она. — Замечательно.
Вечеринка разгоралась. Люди вопили и шумно радовались. Повсюду раздавался звон стаканов.
— Но ты снова хочешь выпустить чувства на свободу. — Он подошел еще ближе. Она пыталась отодвинуться, но ее спина прижалась к дереву. — Мы оба знаем, как нам было хорошо вместе.
— Я не могу. Я…
Она чувствовала его дыхание. Он стоял так близко, что она могла наклониться и поцеловать его веснушку. Или впиться поцелуем в его губы.
— Эй, Женевьева! — До нее донесся голос Монтерея. Он выглядывал из окна на первом этаже.
Закари положил руку ей на плечо.
— Опять он. Я хочу поговорить с тобой наедине, Женевьева.
— Ты идешь? — крикнул Монтерей.
— Да, я сейчас приду. Закари нахмурился:
— Будь с ним осторожна. Встретимся завтра днем в Люксембургском саду.
— Этот человек пристает к тебе, Женевьева? — заорал Монтерей.
— В два часа, — сказал Закари. — Я буду у Циклопа, у фонтана Медичи.
— Не думаю, что смогу. — Женевьева сбросила его руку со своего плеча.
— Хочешь, я выйду и проучу его? — снова послышался голос Монтерея.
— Нет, я уже иду.
— Хорошо, до завтра. — Закари быстро удалился.
— Я не договаривалась с тобой. Ты это знаешь!
— Я буду ждать, — бросил он через плечо.
В гостиной гремела музыка в исполнении джазового ансамбля, к которому присоединились музыканты, игравшие на барже. Комната была завешана африканскими и египетскими масками. Повсюду стояли пальмы в фарфоровых горшках. Ползучие растения обвивались вокруг витиеватых мраморных колонн. Настенные фрески изображали египетских богов, золотая статуя фараона вполне могла быть извлечена прямо из гробницы Тутанхамона. Толпа танцевала чарльстон.
— Хотите потанцевать? — спросил Монтерей.
— Только не сейчас. — Женевьева все еще чувствовала странную слабость. — Вы не видели Лулу?
— Нет. А как насчет того, чтобы побродить по дому?
— Я не знаю. Мне надо возвращаться.
— Да ладно вам. — Он склонился к ней, прошептал на ухо: — Неужели вам ни капельки не любопытно, что это за место?
— Ну…
Он положил руку ей на талию и увлек в холл.
— Знаете, что я всегда говорю в подобных случаях? Единственный способ избавиться от искушения — это поддаться ему.
— Разве это сказал не Оскар Уайльд?
— Умная девочка, — откликнулся Монтерей. — Пойдемте. Возможно, нам посчастливится, и мы найдем Лулу.
Поднимаясь по широким дубовым ступеням, она снова подумала о том, как сильно пьяна. Ступенек становилось все больше и больше, она подняла голову и посмотрела наверх. Невероятное количество ступенек. Словно Женевьева взбиралась на высокую гору.
— Оскар Уайльд в какой-то степени мой кумир, — говорил Монтерей. — Он лучше кого-либо, живого или мертвого, в блеске острейшего ума, в сочетании утонченных чувств. Каким-то образом он никогда не надоедает. «Портрет Дориана Грея» — просто блистательное произведение. Я немного похож на него, вам не кажется?
— На Уайльда?
— На Дориана Грея.
На верху лестницы Женевьева обернулась, чтобы взглянуть на него.
— Что вы хотите этим сказать? — Вдруг у нее перехватило дыхание.
— Что случилось? — спросил Монтерей.
— Смотрите?
С потолка свисал скелет, одетый в желтый дождевик, изо рта у него торчал презерватив. Монтерей усмехнулся:
— Вот это да. Вам не кажется это забавным?
— Это просто ужасно. — Женевьева собиралась сбежать вниз по ступенькам, но он преградил ей дорогу.
— Он умер в Париже. Я имею в виду Уайльда. В отеле «Эльзас» на рю де Бёю-Ат. Знаете, какими были его последние слова? Глядя на безвкусные обои, он сказал: «Они меня убивают. Кому-то из нас придется уйти». По всей вероятности, обои победили писателя.
— Я ухожу. — Женевьева попыталась пройти мимо Гая, но он по-прежнему стоял у нее на пути.
— Вам понравился мой набросок черепа? — Теперь Монтерей понизил голос и говорил шепотом. — Вы сохранили его? Я очень надеюсь, что да.
— Но вы сказали, что это шутка!
— Это был подарок, моя милая. Специально для вас.
— О чем вы говорите?
— Вы прекрасно знаете.
Собрав силы, Женевьева отпихнула его в сторону. Когда она сбежала вниз, из комнаты на первом этаже неожиданно выскочила Лулу и схватила ее за руки. Она где-то потеряла свой тюрбан и была босой.
— Милая моя, ты должна это увидеть!
— Лулу, где ты была? Нам нора ехать.
Но Лулу тянула ее за собой.
В центре выложенного бирюзой пола находилось углубление, в нем располагалась просторная ванна, там лежали четверо обнаженных людей, две женщины и двое мужчин. Одним из них оказался Норман Беттерсон. В дальнем конце обнаженная пара сидела на краю, болтая ногами и распивая коктейли, еще одна обнаженная пара сжимала друг друга в страстных объятиях в углу, частично скрываясь от взглядов за широкими листьями тропического растения.
— Пойдем, Виви. — Лулу развязывала завязки на своем платье.
— Чей это дом? — Женевьева изо всех сил старалась не смотреть.
— Что? — Лулу боролась с застежками.
— Я спросила, чей это дом?
— Какой-то американки с забавным именем, — откликнулась Лулу. — Но в любом случае кому до этого есть дело?
— Не бойтесь скелета, — послышался сверху голос Гая. — Это всего лишь маленькая девочка. Я позаимствовал ее из магазина медицинских товаров.
— Ну, пойдем же! — хохотала Лулу. — Чего ты ждешь?
В квартире было темно и тихо. Женевьева, стараясь не шуметь, закрыла входную дверь, скинула туфли и на цыпочках прокралась в комнату. Наполовину раздевшись, села на кровать, бездумно уставилась в пространство. Она дома, все осталось позади, так почему же она не чувствует себя в безопасности? Почему ей просто не посмеяться над событиями прошедшего вечера, почувствовав облегчение оттого, что Роберт быстро уснул, а затем самой улечься в кровать?
И тут в дверь два раза постучали.
— Женевьева? — Роберт подергал дверную ручку. — Заперто! Зачем ты запираешься от меня?
— Дорогой мой, это не имеет к тебе никакого отношения. Я всегда запираю на ночь дверь. Это всего лишь привычка.
— Привычка? Немедленно открой.
Она громко зевнула.
— О, Роберт, а не может это подождать до утра? Я так сладко спала.
— Вздор. Не прошло и пятнадцати минут, как ты вошла в квартиру. Я слышал.
— Я так устала, что просто без сил упала на кровать и уснула.
Скрипнула половица. Может быть, он возвращается в свою комнату?
— Сейчас пятый час, Женевьева!
— Господи, неужели? Тогда понятно, почему я так устала. — Она скинула белье и потянулась за ночной рубашкой. — Ложись спать, дорогой. Я совершенно разбита.
— Женевьева! — Его голос сорвался на крик. — Я приказываю тебе немедленно открыть дверь.
Затем послышался глухой удар, словно он ударил в дверь кулаком. Или головой.
— Хорошо, я иду. Только успокойся. — Она старалась говорить ровным тоном, успокаивала дрожь в руках, поворачивая ключ в замке.
Роберт был очень бледен. Его кулаки сжимались и разжимались. И в то же время он казался каким-то потерянным. Он не мог дать волю своей ярости теперь, когда дверь открылась, и они оказались лицом к лицу.
— Где ты была?
— Ты же знаешь, я была на вечеринке с Лулу.
— Все это время?
— Потом мы пошли на другую вечеринку. Я хотела вернуться домой, но очень беспокоилась за нее. Она вечно попадает в неприятности. Понимаешь, она слишком много выпила.
Он вздохнул и взъерошил волосы.
— Хочешь войти? — Она изо всех сил старалась говорить ласково, хотя это было нелегко.
— Спасибо. Хочу. — Он шлепал по ее комнате, засунув руки глубоко в карманы халата. — Если честно, Женевьева, мне ужасно надоело твое чересчур независимое поведение.
— Это больше не повторится, я обещаю. — Она смотрела на свои ладони, уговаривая себя: «Иди к нему, обними его, смягчи его гнев», — но по-прежнему сидела на том же месте и кусала ногти.
— Я не хочу, чтобы ты шлялась по городу вместе с Лулу. Хватит.
— Да, конечно. — Это был единственный способ положить конец пытке. Подойти к нему и покончить с пустыми разговорами.
— Мне интересно, что это за жена, которая разгуливает по городу без мужа до четырех утра?
— Я так виновата, Роберт.
Теперь Роберт подошел к ней. Он толкнул ее на кровать и, взобравшись на нее, широко раздвинул ее ноги. Его губы целовали ее шею, она ощущала прикосновение жестких усов, слышала его вздохи. Неумелая возня с халатом, и его рука пробралась под ее ночную рубашку, оказалась у нее между ног. Она заплакала, беззвучно, не желая, чтобы он услышал ее плач, наваливаясь на нее всей тяжестью тела.
«Пусть это произойдет, — уговаривала она себя. — Пусть произойдет. Скоро все закончится, он уйдет, а ты сможешь заснуть».
Казалось, что она изнемогает под его весом. Затем он вошел в нее, и она уже не могла спрятаться. Он целовал ее лицо. Кровать принялась отбивать привычный такт. Тук-тук. Так всегда было у них с Робертом. Но сегодня ночью что-то изменилось. Возможно, стало еще более механическим. Ушла нежность. Вероятно, что-то изменилось в ней самой.
— Я боюсь, — прошептала самой себе Женевьева, когда Роберт, наконец, ушел к себе. — Мне очень страшно. — Она лежала на своей половине кровати, сжавшись в комок, комкая в кулаке простыню и не в силах уснуть.
В день, когда должны были делать школьные фотографии, сиятельная Женевьева Сэмюэл проснулась и обнаружила на подбородке прыщик.
— Какое это имеет значение? — Ирэн Николас сидела на соседней кровати. — Это всего лишь дурацкая фотография.
— Это невразумительный довод. — Женевьева прижгла прыщик одеколоном и поморщилась. — О, смотри, я сделала еще хуже.
— Какой довод? — Тут Ирэн понимающе улыбнулась. — Ах, я понимаю. Ведь дело в том мальчике, правда? Ты знаешь, о ком я говорю. Это сын фотографа, Александр? Если честно, Дженни, в нем нет ничего особенного.
Женевьева опустила карманное зеркальце, махнула рукой на прыщик.
— У него самые прекрасные карие глаза в мире.
— Такие глаза у всех щенков, — захохотала Ирэн. — И еще у коров.
Специальный помост был сооружен точно так же, как и в прошлом году. Деревянный стул с высокой спинкой стоял напротив черной бархатной занавески. Мистер Джилс возился с камерой, установленной на треноге, а его семнадцатилетний сын настраивал и регулировал мощные лампы.
— Мисс… Сэмюэл? Ваше сиятельство мисс Женевьева Сэмюэл? — Мистер Джилс прочитал имя девушки, даже не посмотрев в ее сторону.
— Да, это я.
Но Александр не сводил с нее глаз. Прекрасных глаз.
— Садитесь, пожалуйста, на стул, — предложил мистер Джилс.
Женевьева взобралась на помост и села, чувствуя, как пульсирует прыщик на подбородке. Возможно, если она чуть-чуть наклонит голову, Александр ничего не заметит.
Произошла заминка из-за проблем с камерой, и мистер Джилс, забыв о Женевьеве, увлеченно занялся аппаратурой. Его сын тем временем подошел поближе.
— Я запомнил вас с прошлого года, — спокойно сказал он. — Вы очень фотогеничны.
— Благодарю вас.
— Мне хотелось бы вас сфотографировать. Обычно я всегда бываю в магазине в воскресенье днем, совершенствуюсь в фотографии. Вы можете прийти.
Мистер Джилс выпрямился.
— Ну вот, все в порядке. Давайте приступим. — У мистера Джилса была бледная кожа и хохолок, который делал его похожим на графа Дракулу.
— Мисс Сэмюэл, повернитесь слегка в угол и сложите руки на коленях. Вот так, прекрасно. Поверните лицо немного вперед.
Александр, у которого тоже был хохолок, но не столь ярко выраженный, незаметно подмигнул Женевьеве. Мистер Джилс выразил недовольство:
— Александр, прекрати фамильярничать, иди сюда, займись делом, будь хорошим мальчиком.
Похоже, у всех девочек в дортуаре были новые, увлекательные романтические приключения. Миллисент Хорнби (ей было семнадцать, на год старше Женевьевы) только что получила письмо от своего молодого человека Эдварда, друга детства, и настояла на том, чтобы прочитать его вслух перед всеми девочками. Милли, не переставая, обсуждала его достоинства. София Харкер (на год моложе Женевьевы) не преставала хвастаться своей разгорающейся дружбой с одним юношей по имени Джулиан Честертон, тот учился в школе для мальчиков в соседней деревне. В выходные у них было назначено тайное свидание.
Ирэн Николас говорила об Александре Джилсе. Она утверждала, что во время фотосессии парень пытался передать ей записку.
— Ты уверена? — уточнила Женевьева.
— Конечно. — Ирэн лежала на кровати и читала «Джен Эйр». Она даже не оторвалась от книги. — Он с меня глаз не сводил.
— Но ведь ты все-таки не получила записку? К твоему сведению, это могла быть квитанция из фотоателье.
— Женевьева. — Ирэн отложила книгу. — Не надо ревновать, он того не стоит.
— Я ревную? — Женевьева попыталась расхохотаться, но у нее вышло очень неубедительно.
В воскресный полдень Женевьева дожидалась автобуса, чтобы отправиться в город, нарушив правило не покидать пансион без разрешения. На самом деле она не намеревалась встречаться с Александром, просто хотела на несколько часов сбежать от подружек с их бесконечными разговорами о мальчиках. Но когда она сошла с автобуса, ноги сами понесли ее прямо к небольшому, невзрачному фотоателье. Девочка решила не обращать внимания на вывеску «ЗАКРЫТО» и взялась за дверную ручку.
Дверь открылась. Женевьева вошла в приемную. На столе, за которым никого не оказалось, стоял телефон, лежали журнал для записи клиентов, карандаш и колокольчик. Она не стала звонить, прошла дальше по узкому коридору. В конце располагалась дверь с надписью: «Не входить».
За дверью находилась студия. Кресло с высокой спинкой, скамеечка для ног, высокая деревянная скамья и пара стульев стояли в ряд. Напротив дальней стены висела бархатная портьера на передвижной перекладине, она служила фоном для школьных фотографий, так же как и ширма с изображением скучной пасторальной сцены. Перед портьерой стояло маленькое розовое кресло. В дальнем конце помещения находилась еще одна дверь, надпись на которой гласила: «Темная комната. Вход строго воспрещен». Женевьеве показалось: она слышит, как Александр ходит за этой дверью.
Тут она затряслась от страха и присела в кресло, пытаясь сохранить самообладание.
И что теперь делать?
Раздался беспечный свист.
Обрадуется ли он?
На носке одной из ее новых красных туфелек с ремешками в форме буквы «Т» засохло пятно грязи. Она послюнила палец и потерла его.
«Я должна постучать в ту дверь!» Но она словно приклеилась к креслу. Возможно, будет лучше, если мальчик сам обнаружит ее, сидящей здесь откинувшись. Это будет очень элегантно.
«Подожду еще пять минут, — подумала она. — Если он не появится, уйду». Она медленно сняла туфли и откинулась на спинку кресла.
Вспышка. Резкий свет озарил ее закрытые веки, она испуганно заморгала и открыла глаза. Опять вспышка.
— Господи!.. — Ослепленная и смущенная, она резко выпрямилась. Он стоял за камерой, ткань покрывала его голову. Как она могла уснуть? Как долго он наблюдал за ней, помещая ее в фокус?
— Александр… Как ты мог!
Фотограф откинул покрывало и выпрямился.
— Ждали моего сына? — На лице мелькнуло презрительное выражение. — Он остался дома, помочь матери.
— Мистер Джилс… Я… — Яркая краска залила лицо и шею.
— О, как мило. Оставайтесь так. — Он снова исчез под покрывалом.
Она схватила свои туфли.
— Я просто… ждала. Я не хотела беспокоить его во время работы.
— Он работал? Замечательно.
Ее пальцы стали вдруг ужасно неуклюжими, она изо всех сил боролась с застежками на пряжках. Фотограф наблюдал за ней.
— Как тебя зовут, школьница?
— Женевьева Сэмюэл. — Она поднялась с кресла.
— О, точно. Ваше сиятельство, не так ли? Интересно, что скажет об этом ваша директриса, сиятельная мисс Сэмюэл?
— О, пожалуйста, не рассказывайте ей, мистер Джилс. Мне так жаль. Это больше не повторится, я обещаю.
— Вы посягнули на мою собственность, чтобы тайком увидеться с моим сыном, которому, кстати говоря, здорово попадет, когда я вернусь домой…
— Он ни в чем не виноват.
— Неужели?
— Просто сегодня мне захотелось перемен, — объяснила Женевьева. — Я ненавижу школу. Там скучно. — Слезы навернулись на глаза. — Я устала от того, что со мной обращаются как с ребенком.
Его лицо смягчилось. Казалось, его позабавили ее слова.
— Мне хотелось, чтобы произошло нечто особенное.
— Так-так. — Он в раздумье поглаживал подбородок и внимательно разглядывал ее. Лицо напоминало возмужавшего Александра.
У нее неприятно пересохло во рту.
— Можно мне выпить стакан воды, будьте так добры?
— Я могу вам предложить кое-что получше. — Он скрылся в темной комнате и через мгновение появился снова, неся бутылку красного вина, штопор и два стакана.
— Я еще никогда не пробовала вино.
— Ну что ж, тогда вам повезло, правда?
Он вонзил штопор в пробку и вытянул ее. Когда протянул стакан, его пальцы как бы невзначай коснулись ее руки. Женевьева почувствовала странное волнение.
Он склонил голову набок, разглядывая ее. У него были точь-в-точь такие же глаза, как у Александра. Прекрасные глаза.
— Итак, вы устали оттого, что все вокруг относятся к вам как к ребенку, не так ли?
Женевьева отпила глоток вина, изо всех сил стараясь не морщиться. Это был отвратительный напиток, но она не хотела демонстрировать неискушенность в столь важный момент.
— Интересно, как вы хотите, чтобы я относился к вам? Она никогда раньше не оставалась наедине с мальчиком, не говоря о мужчине. Что подумают другие девочки?
— Мне интересно, насколько вы сиятельны, мисс Сэмюэл?
И вдруг он подошел к ней так близко, что Женевьева почувствовала: он собирается поцеловать ее.
Она желала этого. Никогда раньше она ничего так страстно не желала.
Потом были другие воскресенья. Восемь или девять дней. Женевьева приобрела невесомое знание, которым слегка дразнила своих подруг и их юных кавалеров. Она с трудом удерживалась от соблазна, когда Ирэн Николас спрашивала, куда она ходит каждую неделю, так хотелось сообщить, что встречается с Александром Джилсом, но сдерживала себя. Она притворялась, что навещает тетю, вдову участника войны, и преподносила эту ложь с улыбкой.
Очень часто она лежала по ночам без сна и думала о мистере Джилсе, лаская себя под одеялом. У нее пропал аппетит, ей приходилось заставлять себя съедать хоть немного школьной пищи во время обычных трапез. Она потеряла в весе, ее щеки ввалились, глаза сверкали мрачным огнем. Она выглядела и чувствовала себя старше. Ее одноклассницы, похоже, чувствовали, что с ней что-то происходит, начали, сознательно или бессознательно, отдаляться от нее. Но Женевьеву это не особенно волновало. Ее волновали только воскресенья в обществе мистера Джилса. Она спрашивала себя, не любовь ли это?
Затем это произошло. Или, точнее, — не произошло. Ее месячные не начались в обычный день, и на следующий день, и спустя какое-то время. Через пять дней классная наставница спросила, все ли у нее в порядке со здоровьем, и попросила поваров выделить ей больше мяса и овощей. В субботу утром, в ванной, Женевьева слегка порезала ногу бритвой, выдавила несколько капель крови на гигиенические прокладки, и отложила их вместе со своим грязным бельем, чтобы обмануть классную наставницу. В субботу вечером она лежала без сна, мучительно соображая, что сказать мистеру Джилсу, а затем в воскресенье сообщила наставнице, что у нее мигрень, и весь день провела в постели, слишком напуганная для того, чтобы встать и встретиться лицом к лицу со школьными знакомыми.
Женевьева ни минуты не сомневалась в том, что беременна. Они не принимали мер предосторожности, даже не обсуждали это. Она верила: он позаботится о ней. Он определенно знал больше, чем она, и понимал, насколько они рискуют. Он не стал бы подводить под удар ее репутацию, ведь так? Он, в конце концов, женатый человек. А ей нравилось быть его марионеткой, делать все, что он пожелает, жить сегодняшним моментом. Когда ей в голову приходила мысль о возможной беременности, это казалось нереальной игрой, тогда она восклицала: «Что скажут мои родители!» Она думала о матери, которая будет рыдать, сжимая горло, об отце, мечущем громы и молнии и буквально взрывающемся от гнева.
Какой глупой маленькой дурочкой она была!
Три недели прошли в унынии и душевной пустоте. Женевьева перестала приезжать на свидания с мистером Джилсом, а он не пытался увидеть ее. Она представляла, как он обедает дома вместе с женой, которую никогда не видела, и с сыном, в которого была когда-то влюблена. Непонятно почему, она всегда представляла себе жареного цыпленка: мистер Джилс разрывает ножку на кусочки и облизывает жирные пальцы, его жена, женщина с одутловатым лицом и щербатыми зубами, тянет за другую ножку, а Александр бросает объедки собаке. Она представила, какой хаос могло бы внести в мирную и уютную семейную сцену ее появление. Эти образы стали нереальными и расплывчатыми, как и мысли о том, что ей придется убить родителей сообщением о своем «падении». Ее страсть охладевала с каждым днем. Женевьева понимала, что не любила, хотя определенно была очарована им. Теперь важно было скрывать происходящее как можно дольше, пока она что-нибудь не придумает. Она изо всех сил должна была держать себя в руках.
Женевьева имитировала вторые месячные. Ее грудь набухла и стала болезненной, а живот раздувался и казался тугим и напряженным. Аппетит вернулся, и она без труда сметала дополнительные порции мяса и овощей, грызла по ночам в дортуаре печенье, боролась с накатывающей волнами тошнотой и бесконечно сглатывала слюну.
Учительница французского обратила внимание на ее бесконечные глотательные движения и заявила, что она похожа на рыбу. Учительница гимнастики отругала ее при других девочках за лень и медлительность. Учительница алгебры обнаружила ее спящей за партой во время урока и наказала, заставив несколько раз написать одну и ту же строчку, о чем сообщила классной наставнице. Ирэн Николас обратила внимание на ее отстраненность, рассеянность и отрывистую речь, странную привычку при первом удобном случае ложиться в постель и нежелание подниматься снова. В конце концов Ирэн случайно вошла в ванную, когда Женевьева, держа в руках бритву, собиралась изобразить очередные месячные.
— Женевьева, остановись! — Ирэн резко захлопнула за собой дверь и вырвала бритву у нее из рук. — Нет ничего хуже того, что ты хочешь совершить!
Женевьева, которая не заметила, что оставила дверь незапертой, взвизгнула, а затем, представив, о чем подумала Ирэн, начала нервно хихикать.
— Я не понимаю, — воскликнула испуганная Ирэн. — Что здесь смешного?
Женевьева расхохоталась еще громче, скупые слезы нервного веселья текли по ее лицу, пока она, наконец, не задохнулась и не закашлялась.
— Он должен жениться на тебе, — заявила Ирэн, когда они вдвоем сидели на иолу в ванной, прижав колени к груди. — Кто бы он ни был… Ты уже сказала ему?
— Нет. — Женевьева съежилась в своем банном халате.
— Тогда тебе лучше поторопиться.
— Ты не понимаешь, я не могу сказать.
— Что ты имеешь в виду? Ты не сможешь это долго скрывать, Дженни!
— Я знаю. — Она закрыла лицо руками.
— Ты вообще представляешь, что натворила? — Ирэн вцепилась в ее ладони, пытаясь отнять их от лица подруги. — Если ты не заставишь его на тебе жениться как можно быстрее, это будет конец всей твоей жизни.
Женевьева вырвалась.
— Оставь меня.
— Я просто не могу поверить, что ты дошла до такого. Никто не захочет знаться с тобой, Дженни. Ни твои родители, ни школа. — Она с тем же успехом могла добавить: «Ни я».
— Я сказала, оставь меня в покое! И не смей никому рассказывать об этом!
Несмотря на то, что сказала Ирэн, на следующий день Женевьева прогуляла занятия и поехала в город.
Только добравшись до фотоателье, она вдруг подумала, что он там не один. В своих мыслях она обычно сразу входила в ателье, проходила через пустую студию и направлялась прямо в темную комнату. Но сегодня вторник, ателье открыто для посетителей. За конторкой сидела секретарь, женщина-посетительница с тщательно завитыми волосами читала журнал. У ее ног восседал такой же ухоженный и кудрявый пудель.
— Доброе утро, — сказала секретарша. — Чем я могу вам помочь?
— Я… — Женевьева откашлялась. — Простите, могу я увидеть мистера Джилса?
Секретарша, привлекательная женщина чуть за сорок со светлыми волосами и зелеными глазами, вежливо улыбнулась в ответ и, заглянув в журнал, спросила:
— Ваше имя, мисс?
— Мне не назначено.
— Простите. — Секретарша все еще улыбалась, но теперь уже недоуменно. Она взяла карандаш. — На сегодня нет свободного времени. Все утро он делает портреты, а днем уедет. Я могу записать вас на завтра около одиннадцати.
— О, я приехала не для того, чтобы фотографироваться. Я должна поговорить с мистером Джилсом.
Теперь секретарша разглядывала ее более пристально, очевидно, впервые обратила внимание на школьную форму.
— Ах да, конечно, он делал фотографии в вашей школе несколько месяцев назад, ведь так? Если ваши родители хотят получить дополнительные копии, я могу это устроить. Вас интересуют большие или маленькие фотографии? Мы также изготовляем чудесные рамки…
— Нет.
Завитая женщина оторвалась от журнала. Собака тоже подняла голову, на ее мордочке появилось точно такое же любопытное выражение, какое было на лице у хозяйки.
— Может быть, я могу чем-нибудь вам помочь? — Секретарша больше не улыбалась, но ее лицо по-прежнему казалось добрым. У нее был редкий тип лица красивой и одновременно по-матерински добросердечной женщины.
— Пожалуйста. — Снова подкатила тошнота, Женевьева несколько раз судорожно сглотнула. — Мне срочно нужно поговорить с мистером Джилсом.
— У Энтони сейчас клиент. — Голос прозвучал спокойно, но твердо. — Может быть, вы хотите что-нибудь передать?
Энтони… Вывеска над входом в ателье гласила: «А.Р. Джилс», Женевьева подумала, что начальная буква означает его имя, Александр, такое же имя, как у его сына. Ведь она никогда не называла его иначе чем «мистер Джилс». Какая чушь.
Энтони… Казалось, секретарша говорила о каком-то совершенно другом человеке.
— Мисс?
Женевьева почувствовала, что бледнеет под ласковым взглядом женщины, и пулей выскочила из ателье. Ее вырвало в сточную канаву (из окна за ней наблюдала завитая женщина и ее пудель). Тогда Женевьева наконец поняла, что жена мистера Джилса вовсе не была женщиной с одутловатым лицом и щербатыми зубами. Ничуть.
Всю дорогу до Люксембургского сада Женевьева прошла в шелковых бальных туфлях бледно-бирюзового цвета, украшенных розами из кремового шелка и точно такими же шелковыми лентами. Эти туфли были мягкими и такими хрупкими, что казались невесомыми. Она словно ступала босиком и от этого чувствовала себя еще более уязвимой.
Она решила пройтись пешком, чтобы подумать. Но сегодня город казался особенно шумным и таил в себе угрозу. Легковые автомобили, грузовики и запряженные лошадьми повозки выскакивали на нее со всех сторон, словно сговорившись стереть ее с лица земли. У шляпы от солнца были слишком широкие поля, они частично закрывали обзор. На бульваре Сен-Жермен, из дверей кафе на нее с вожделением глазел официант, заставив ее так внезапно сменить направление, что она почти столкнулась с продавцом каштанов. Пытаясь скрыться от потока ругательств, бросилась с тротуара прямо под колеса велосипедиста. Тот резко свернул в сторону и прокричал что-то невразумительное, уносясь прочь.
Только добравшись до Люксембургского сада, она смогла с облегчением вздохнуть. Пройдя сквозь ворота, неторопливым шагом направилась по тенистой аллее, обсаженной деревьями, возвышающимися безупречными геометрическими рядами. Все было прекрасно спланировано и поддерживалось в изумительном состоянии, от аккуратно подстриженных лужаек до строгих цветников, расцвеченных красными, белыми и голубыми оттенками французского триколора. Здесь не было места буйству и непокорности.
Только оказавшись у фонтана Медичи, Женевьева спросила себя, зачем она здесь. Пришла, потому что не в силах была оставаться в стенах квартиры, сидеть взаперти в то время, как Селин вытирала пыль и до блеска начищала мебель, размышлять, как закончилась ночь, вспоминать о страхе перед Монтереем, злиться на Лулу и Беттерсона и испытывать отвращение от прикосновений Роберта. Она пришла сюда, потому что хотела оказаться в саду, рядом с прирученной человеком природой. Она пришла, потому что снова хотела увидеть Закари.
Но его нигде не было.
В стороне двое пожилых мужчин играли в шахматы, ничего и никого не замечая вокруг. По усыпанной гравием дорожке две няни везли в колясках младенцев и болтали между собой. Вдалеке, под раскидистыми ветвями конского каштана, шла игра в кегли. Здесь текла парижская парковая жизнь, медленная и взвешенная.
Прошло десять минут, Женевьева вдруг почувствовала, как в ней растет гнев на саму себя. Она не должна была приходить сюда! Их встреча с Закари только больше все осложнит. Разве это может хорошо закончиться? Но она страстно жаждала его увидеть. Она не могла заставить себя повернуться и уйти домой.
Прошло еще десять минут, Женевьева так же стояла в тени грозной статуи Циклопа. «Похоже, он не придет», — подумала она. Это было самой худшей мыслью за сегодняшний день. Но как раз тогда, когда она потеряла надежду и уже собиралась двигаться в обратный путь по обсаженной деревьями аллее, раздались шум приближающихся шагов, тяжелое дыхание, и вот он появился перед ней, раскрасневшийся, согнулся пополам, чтобы перевести дух.
— Ты еще здесь, — сказал, выпрямляясь. — Я думал, ты ушла. Я высматривал тебя по пути сюда, но не смог разглядеть твое лицо под шляпой.
— Я как раз собиралась уходить.
— Мне очень жаль, — вздохнул он. — Примерка. Она длилась целую вечность, это было ужасно, я отчаянно хотел вскочить и бежать сюда сломя голову.
— Все в порядке.
— Нет, — воскликнул он. — Я опоздал на встречу с тобой, и туфли получились ужасными! Я терпеть не могу, когда у меня не получается идеальная пара.
— И что же с ними не так?
— Ничего. — Он провел рукой по спутанным волосам. — Они были не для нее. Вот в чем дело. Туфли должны идеально соответствовать женщине. Именно в этом и заключается суть моей работы.
— Но она все-таки взяла их?
Он нахмурился:
— Конечно нет. Я никогда не позволил бы.
— Она рассердилась?
— Она слишком хорошо меня знает.
— И как ты поступишь с туфлями? Изменишь их каким-то образом?
— Как я уже сказал, они безнадежно испорчены.
Женевьева покачала головой:
— Мой муж подумал бы, что ты сошел с ума, потратив столько времени и усилий на пару туфель, а затем просто выбросив их.
— Мы с твоим мужем слишком разные люди. Давай немного прогуляемся, ты согласна?
Он предложил ей руку, после минутного колебания Женевьева согласилась.
Какое-то время они шли в полном молчании. Когда проходили мимо играющих в кегли, один пожилой мужчина коснулся шляпы, приветствуя их. Другой бестолково улыбнулся.
«Они думают, что мы супруги, — решила Женевьева. — Или же влюбленная парочка». Она искоса взглянула на Закари:
— Все, что ты сказал вчера вечером, — правда. И я хочу… ты знаешь, чего я хочу. Но…
— Но? — Он улыбался.
— Все это подходит тебе. — Она отдернула руку. — Ты можешь делать все, что тебе вздумается, следовать любой своей фантазии. Для тебя не существует опасных последствий. Никто ничего не узнает. Нет никого, кому тебе пришлось бы лгать.
Закари глубоко вздохнул. Они снова двинулись вперед.
— Я не женат, это так, — произнес он. — Но моя жизнь невероятно сложна, поверь мне. И переполнена ложью.
— Да. — Неожиданно она вспомнила о Вайолет де Фремон. Интересно, сколько женщин у него было. — Да, я не сомневаюсь.
Они остановились перед одной из клумб и залюбовались дворцом: классическая итальянская архитектура, резиденция флорентийского правителя семнадцатого века.
— Ты знаешь, кто это? — Закари указал на статую грозной женщины.
— Кто?
— Святая Женевьева. — Он прикрыл глаза рукой. — Святая покровительница Парижа.
Она улыбнулась:
— Неужели? Это — святая Женевьева? Я всегда чувствовала, что должна оказаться здесь. Я могу задать тебе вопрос?
— Конечно.
Она хотела спросить его о женщинах, возможно, даже выяснить кое-что о его отношениях с Вайолет де Фремон. Но она не осмелилась. Вместо этого спросила о другом, что сильно удивляло ее:
— Расскажи мне об Ольге.
Закари выглядел изумленным.
— А что ты хочешь узнать о ней? О, я понимаю… все это выглядит немного странно.
Женевьева кивнула в ответ.
— Она сдавала мне комнату, когда я впервые приехал в Париж. Я искал дешевую комнату, а ей требовался квартирант. Она — русская эмигрантка. Вдова с двумя детьми, едва сводила концы с концами. Я переехал к ней, она готовила и убирала, спустя время мы подружились. Я прожил здесь несколько месяцев, как вдруг получил известие о смерти матери. Это было настолько неожиданно, что я с трудом оправился о удара. Отец к тому времени давно умер, мать была для меня всем. Я думал о том, чтобы вернуться, но понимал: она хотела, чтобы я остался здесь, получил шанс на лучшую жизнь. Ольга пожалела меня и приняла под свое крыло. Ей нравились мои туфли, она всячески одобряла мою работу. Когда я пытался заработать на собственный бизнес, сказала, что не станет брать с меня денег за комнату. Хотела, чтобы я преуспел в своем деле.
— Как это мило с ее стороны. — Женевьева не могла скрыть ледяного тона.
— Я был полностью поглощен своими проблемами, вероятно, это казалось невыносимым. Но она видела истинную суть вещей сквозь пелену бесконечного хвастовства. Она беспокоилась обо мне, поддерживала меня. Когда я добился успеха, сказала, что хочет работать со мной, быть моей помощницей.
— Удобно иметь помощницу вроде нее?
— А как я мог отказать? Обычно она зарабатывала на хлеб тем, что стирала и убирала квартиры других людей. У нее почти не было денег, она разделила со мной то малое, что имела. Я так ей обязан. Я навсегда останусь в неоплатном долгу перед ней.
— Понимаю.
— Я знаю, у нее есть свои недостатки, люди недолюбливают ее. Ты не первая, кто спрашивает меня об Ольге, признаюсь тебе. Но она играет важную роль в моей жизни, я не могу вычеркнуть ее просто так.
— Она всегда будет смешивать с грязью твоих заказчиц. Она ревнует тебя к ним. Она ясно дала понять, что не хочет, чтобы я встречалась с тобой.
Закари пожал плечами:
— Она… собственница. Она понимает, что происходит между нами. Она всегда все правильно понимает.
Женевьева обернулась и взглянула ему в лицо.
— Что же нам делать, Паоло?
— Я собираюсь сделать для тебя еще одну пару туфель. — Теперь улыбкой лучились и его глаза, и его губы. — Я уже представляю, как они будут выглядеть.
— Возможно, они не подойдут мне.
— Нет, этого не случится. — Он осторожно снял ее шляпу и положил на траву. — Вот так. Теперь я вижу тебя. — Он коснулся ее лица, нежно погладил щеку. Когда он наклонился к ней, Женевьева точно знала, что он собирается делать, ожидание оказалось приятным и мучительным в равной степени. Когда их губы соприкоснулись, их опалило невероятным пламенем. Невозможно было понять, исходило ли оно от него или от нее. Пламя таилось в их поцелуе и искрилось над ними, в ярком сиянии голубого неба. Теперь его руки обвивали ее талию. Она закрыла глаза, голос в ее душе отчетливо произнес: «Вот оно. Я всегда хотела испытать нечто подобное. Я не вынесу, если это закончится».
В этот момент Женевьева открыла глаза. Из-за его плеча она увидела женщину в цветастом платье, та шла в их сторону, но затем вдруг резко свернула на другую дорожку. Щеки женщины сильно покраснели. На мгновение она встретилась взглядом с Женевьевой, но тут же опустила глаза. Это была одна из тех женщин, про которых говорят «серая мышка». Невысокая и непримечательная, с толстыми белыми икрами и лодыжками, лишенными четких форм. Женевьева заметила: женщина наблюдает за ними. И тут же поняла, что встречала ее раньше.
— Что-то не так? — поинтересовался Закари.
Женщина быстро удалялась.
— Женевьева?
— Ничего. — Она закрыла глаза, а затем снова открыла их, пытаясь собраться с мыслями. — Та женщина.
— Какая женщина?
— Она так смотрела на меня, словно мы знакомы. Ее лицо действительно показалось мне… знакомым, но я не могу вспомнить, где ее видела. — Несмотря на жару, ее била крупная дрожь. — А что, если она узнала? И что, если она знает Роберта?
— Сомневаюсь. Скорее всего, женщина просто смутилась, потому что ты заметила ее взгляд. — Он попытался взять ее за руку, но она отшатнулась.
— Я должна идти. Я не могу… Я не должна делать этого…
— Ты просто разволновалась, вот и все.
Она покачала головой:
— Эта женщина видела меня. Она узнала меня. Я должна идти. — Она подхватила шляпу и быстро устремилась прочь по тенистой аллее.
— Женевьева!
«Я не должна оборачиваться, — сказала она себе. — Сейчас он смотрит, как я ухожу, и я не могу позволить себе еще раз взглянуть ему в глаза».
Она жалела, что не могла затеряться в тени, отбрасываемой деревьями, высаженными в геометрически правильном порядке. Она жалела, что не могла закрыть глаза и исчезнуть.
Глава 5 ЯЗЫЧОК
Мистер Фелперстоун сидел в самом дальнем и темном углу маленького ресторанчика, под скрипящим вентилятором. Роберт прежде бывал здесь только один раз, когда пробовал нечто, что выдавалось за телятину, но он подозревал, что это была конина. Рядом с его офисом располагался гораздо более приятный ресторанчик, как раз на другой стороне бульвара Батиньоль (там подавали прекрасного жареного цыпленка). Но когда Роберт предложил пойти туда, Фелперстоун пробормотал что-то насчет необходимости соблюдать конспирацию и настоял, чтобы они отправились в более спокойное место. Все же его необычайно разозлило, когда он обнаружил детектива, поглядывающего на него из-под широкополой шляпы с нескрываемой хитростью.
Когда Роберт наконец сумел привлечь внимание официанта и заказал эспрессо, просто спросил:
— Ну, так что? И к чему весь этот маскарад?
Подозрительно оглядевшись, Фелперстоун снял шляпу и положил ее на стул рядом с собою. Затем извлек из чемоданчика большой конверт и бросил его на стол.
Роберт нахмурился:
— Что это?
Фелперстоун кивнул, постучал по конверту длинным ногтем, приподнял брови.
— Послушайте…
— Прежде чем вы что-то скажете, — откликнулся Фелперстоун, — я советую вам вскрыть конверт.
Роберт внезапно почувствовал отвращение ко всему, что было связано с этим человеком. Конверт, Фелперстоун, даже ресторанчик казались отвратительными. Он почти ощущал запах разложения. Если он дотронется до этого конверта, подхватит липкую заразу. А затем она пристанет к его жене, опутает их тесный мирок, уничтожит все, что ему дорого.
— Откройте. — Фелперстоун придвинул конверт ближе.
Он не обязан его открывать, это его право. Он мог бы заплатить этому негодяю, встать и уйти отсюда. Да, именно так он и поступит.
— Эспрессо, сэр? — Когда официант поставил чашку на столик, Роберт схватил конверт и вскрыл его.
Внутри оказалось несколько фотографий.
Женевьева у реки в компании высокого мужчины в светлом костюме пьет вино из бокала. У нее радостное, оживленное выражение лица, обычное на всех вечеринках.
Женевьева, танцующая с тем же мужчиной, ее глаза закрыты, на губах играет смутная улыбка. Их окружает множество танцующих пар. На заднем плане виднеется старая баржа, переполненная людьми.
Вентилятор под потолком противно скрипел. Роберт нервно расстегнул воротничок рубашки.
— И зачем вы все это мне показали?
— Ну что ж, сэр. — Фелперстоун извлек записную книжку. — Этого человека зовут Гай Монтерей, он американец. Очевидно, поэт. — Он произнес слово «поэт», словно это было нечто грязное. В его глазах человек, которого считали поэтом, определенно являлся подозрительной личностью. — И денди. Он давно не был в Париже, но его репутация опережает его. У него были романы с восемью богатыми замужними дамами в США. Он неплохо подзаработал на этом. Украденные деньги, деньги за молчание, деньги за подстроенный развод. Мистер Шелби Кинг, этот мерзавец волочится за вашей женой.
У Роберта перехватило дыхание.
— Волочится? На этих фотографиях нет свидетельства того, что он волочится за моей женой.
— Сэр, если вы позволите… — Детектив открыл блокнот и просмотрел пару страниц. — Эти фотографии были сделаны на вечеринке, устроенной печально известной парой художников-атеистов. Голландцами, если вам угодно знать. Ваша жена провела в компании Монтерея большую часть вечера. Она оставалась с ним и тогда, когда вечеринка переместилась в особняк на рю де Лилль. На следующей «вечеринке» гостей видели абсолютно обнаженными, они вместе прыгали в ванну и участвовали в оргиях… Это записано, сэр, если вы желаете получить подтверждение моим словам.
— Нет, благодарю вас. Вы сейчас пытаетесь убедить меня, что моя жена тоже расхаживала обнаженной и участвовала в?..
Фелперстоун достал табакерку.
— Нет, сэр. Но разве вас не беспокоит, что миссис Шелби Кинг болтается в компании богемных типов? Слоняется по пользующимся самой дурной славой барам и кафе Монпарнаса? Посещает вечеринки, на которых люди раздеваются догола, прыгают в ванну и участвуют в?..
Роберт положил фотографии обратно в конверт и бросил на стол.
— Все, что я здесь увидел, — это то, что моя жена танцевала с мужчиной на вечеринке. Да, моя жена встречается с художниками и прочими представителями богемы. Но вы не представили исчерпывающих доказательств того, что она поступила низко, а не просто разговаривала и танцевала с этими людьми. Она делала нечто подобное и у меня на глазах.
— А как же мистер Монтерей?
— Если честно, я даже не понимаю, почему обсуждаю это с вами. — Роберт говорил громче, чем ему хотелось, официант с недоумением поглядывал на него. Заметив это, он понизил голос. — Мне кажется, мистер Фелперстоун, вы уклоняетесь от основного пути.
Фелперстоун, собиравшийся издать отвратительное фырканье, замер, зажав в пальцах понюшку табаку.
— Возможно, так, но…
— Я нанял вас, чтобы узнать, что произошло с моей женой в детстве. У вас есть успехи в этой области? Какие-нибудь новости о ее подруге, «малышке как ее там зовут». Или о ком-нибудь из ее школы? Я плачу не за то, чтобы вы следили за миссис Шелби Кинг и фотографировали ее в компании знакомых.
— Понимаю. — Фелперстоун разжал пальцы, и табак, словно пыль, рассеялся в воздухе. — Простите, сэр. Я не хотел вас обидеть. — Он взялся за шляпу. — Но, знаете, в нашей работе привыкаешь совать нос во все мелочи. Я еще никогда не ошибался в таких делах. Конечно, мне не следовало выходить за рамки, но… Мне не нравится, когда приличного человека вроде вас держат за дурака.
«Дурак», какое отвратительное слово.
— И все-таки я понимаю, что действительно переступил черту дозволенного…
Роберт почувствовал, что выражение его лица становится жестким. Что-то разрушилось у него на глазах. Англичанин дернулся и задрожал. Он заметил это крушение. И медленно положил шляпу обратно на стул.
— Исходя из моего опыта, — заметил детектив, — прекрасный пол… Ну, давайте просто скажем, леди, какими бы добродетельными они ни были, могут стать жертвой непорядочного мужчины, и в этом нет их вины. Развязный человек знает, как отыскать брешь в их броне.
— Я доверяю Женевьеве.
— И это достойно одобрения, сэр. Но вы так же доверяете мужчинам? — Он снова достал понюшку табаку. Отвратительная привычка, отвратительный человек.
Роберт коснулся лба платком.
— Леди… очень уязвимы, сэр. С вашего позволения, я все-таки хотел бы разобраться в создавшейся ситуации. — Фелперстоун три раза оглушительно чихнул и высморкался. — На всякий случай.
Прошло три дня с того происшествия в Люксембургском саду. Каждое утро чета Шелби Кинг в натянутом молчании завтракала, между супругами повисло странное отчуждение. Женевьева изо всех сил старалась изображать счастливую жену, надеялась, что, если сумеет притвориться как следует, чувства станут настоящими. Роберт смотрел на нее с отсутствующим видом, словно сквозь грязное оконное стекло. Его настроение стало переменчивым, словно ветер. Когда они садились за стол, он отпускал раздражающие язвительные замечания о знаменитой статуи лошади. В какой больнице оказался чистильщик бронзы и насколько тяжела была авария, в которую он попал? Роберт не понимал, почему Женевьева не может узнать, где находится статуя, и забрать ее. Но уже через несколько минут он сжимал ладонь жены, пристально глядел ей в глаза и заявлял, что сегодня она выглядит прекраснее, чем когда-либо, и он должен в срочном порядке заказать ее портрет в полный рост «лучшему художнику в городе, даже если придется достать его из-под земли».
Женевьева могла вздохнуть с облегчением, только когда он уезжал на работу. Сидя в кабинете за своим письменным столом, она доставала лист бумаги и ручку. Но разве могла она, как прежде, взяться за серьезное сочинение стихов после последнего разговора с Беттерсоном? Он словно украл у нее нечто ценное — возможность выплескивать чувства и находить в этом покой. Она в отчаянии принималась рисовать фигуры на полях. Длинноногий бегущий человек.
Нет!
Как только она поняла, кого нарисовала, Женевьева разорвала лист и выбросила его в корзину. Она все еще сидела неподвижно, но вдруг различила странные звуки, доносящиеся из гостиной.
Кто-то плакал.
Скорее всего, Селин. И все же было что-то в этих сдавленных девичьих рыданиях, от чего у нее по спине побежали мурашки. В детстве она тоже так плакала. Легкие всхлипы, легкое покашливание, тоненькое жалобное всхлипывание. Женевьева не в первый раз узнавала свою детскую сущность в горничной, и это ее тревожило. Она впервые почувствовала это в тот вечер, когда обнаружила, как Селин примеряет туфли от Феррагамо со спиралевидными каблучками. И хотя она пыталась внушить себе, что это всего лишь игра воображения, не могла отделаться от навязчивой идеи, ее словно преследовала собственная потерянная невинность. Это еще были цветочки.
— Селин?
Горничная сгорбилась на кушетке в форме пироги. Когда Женевьева вошла в комнату, она тут же вскочила, протерла глаза передником.
— Мадам! Мне так жаль, мадам.
Женевьева прошлась по комнате.
— Что случилось?
Селин безмолвно взмахнула рукой. Куски разбитого стекла лежали на каминной полке в луже воды, рядом были разбросаны шесть лилий.
— Я вижу.
— Я не понимаю, как это произошло, — воскликнула Селин. — Я сегодня такая неуклюжая. Как я смогу с вами расплатиться?
— Не плачь. — Женевьева неловко погладила ее по плечу. — Есть вещи поважнее, о них стоит беспокоиться больше, чем о разбитых вазах. Давай договоримся больше не вспоминать об этом.
Рыдания тут же прекратились.
— Правда? Вы так добры, мадам. Вы не сомневаетесь, что я обязательно заплачу, как только смогу? Моя мать больна, и…
— Все в порядке. — Смутившись, она махнула рукой, чтобы остановить порыв девушки, осторожно подошла к камину и принялась собирать осколки стекла.
— Нет, мадам! Вы можете порезаться! Я принесу совок и щетку.
Женевьева подняла одну из лилий. Ваза была от Лалика Рене.[6] Одна из ее любимых. У них в доме было множество ваз и хрусталя. Но тот факт, что она сумела успокоить девушку и в одно мгновение решить чью-то проблему, придавал происшествию некую исключительность. И потом, в этой девушке что-то было.
— Мадам. — Селин топталась в дверях. — Вы так добры. Вы и мистер Шелби Кинг. Вы замечательные люди.
— Мне хотелось, чтобы это оказалось правдой. — Женевьева оторвала один лепесток.
Пока Селин убирала в гостиной, она отправилась в кабинет и достала из пачки денег в сейфе двести долларов. Затем положила их в конверт и подсунула под дверь маленькой комнатки горничной.
В этот момент зазвонил телефон.
— Мадам, это человек по фамилии месье Ренар.
— Месье Ренар? Я не знаю никакого месье… — Она вдруг замолчала. Le renard — лис… Очевидно, псевдоним, это и Селин ясно. Вероятно, проделки Гая Монтерея? Кому еще придет в голову нечто подобное?
— Мадам?
Судорожно сжимая горло, она взяла трубку.
— Привет, Женевьева. Я должен был убедиться, что с тобой все в порядке.
Вздох.
— Сейчас — да.
В мастерской витал запах дорогой кожи, дерева и пыли. Женевьева заметила низенький столик, поверхность которого была завалена листами бумаги, на них красовались карандашные эскизы туфель — расшитые кружевом туфли-лодочки, украшенные драгоценными камнями бальные туфли, туфли с вырезанными на их поверхности причудливыми узорами, туфли с кружевными завязками, обхватывающими невидимую ногу до колена, туфли с постепенно сужающимися носками и другие — с квадратными мысами, поражающие своей грубоватостью. Туфли с острыми высокими каблучками, с маленькими шариками вместо каблуков, туфли восточного типа, туфли, напоминающие башмаки рабочих на толстой деревянной подошве. На некоторых набросках было всего несколько линий, другие поражали замысловатостью, пестрели мазками краски — смелые желтые и оранжевые оттенки, нежные кремовые, насыщенные голубые. На некоторых эскизах были нацарапаны надписи, сделанные неразборчивым почерком.
Толстые карандаши с обкусанными концами и опилки были разбросаны среди беспорядка, а рядом стоял старый рассохшийся поддон с акварелью, несколькими валиками и заляпанными краской тряпками. Повсюду валялись небольшие лоскутки ткани — золотого атласа, зеленого шелка, темно-красного бархата, в котором она узнала материал, который он использовал для ее туфель. Обрывки старинных кружев, кусочки чего-то, что могло бы оказаться кожей черной антилопы, что-то еще, напоминающее оперение страуса. Ножницы с золотыми ручками и длинными остроконечными лезвиями.
— Ну и что скажешь? — спросил Закари. — Ты это ожидала увидеть?
— У меня такое чувство, словно я оказалась у тебя в голове.
Закари расхохотался.
— Ну и как тебе в ней нравится?
— Полный беспорядок, хотя, надо сказать, довольно приятный.
— Ты ведь знаешь, я никого сюда не пускаю.
— Спасибо, — ответила Женевьева. — За то, что впустил меня.
На стенах висело множество полок, заполненных разнообразными мелочами. Банка с пушистыми белыми гусиными перьями, несколько длинных серых перьев, по-видимому принадлежавших чайке, картонная коробочка, набитая крошечными желтыми утиными перышками, склеенными по бокам, безжизненное перо павлина. Крошечная бутылочка, заполненная камнями, интересно, бриллианты это или простые стекляшки? Другая бутылочка забита розовыми кристаллами, рядом — коробочка с изящными золотыми листьями. Баночка с маленькими белыми камешками, такие можно найти на морском берегу. Яркие краски всех оттенков радуги. Стеклянная колба с веществом, напоминающим ртуть.
— Я сожалею о том, что произошло на днях, — произнес Закари. — Я позволил себе вольность, а не должен был. Во всяком случае, не в общественном месте.
— Ты прощен, — откликнулась Женевьева. — По крайней мере, до тех пор, пока не сделаешь для меня новые туфли.
Его инструменты свисали с крюков: шила разных размеров, пинцеты, нечто, напоминающее кочергу, тесьма для измерения, несколько зловещих ножей для резки кожи. Листы кожи лежали в аккуратных стопках — коричневых, черных, красных. Под окном располагался верстак с тисками, его грубое дерево было испещрено рубцами и пятнами. На низкой скамеечке блестело несколько крюков рядом с катушками ниток и большими иголками.
— Тебе нужны от меня только туфли? — В его голосе прозвучали знакомые дразнящие нотки.
— А где ты их хранишь? — Женевьева огляделась. — Я имею в виду, туфли. Пары, которые ждут очереди. Пары, над которыми ты работаешь.
Закари указал на буфет, запертый на замок.
— Я не разбрасываю их где попало.
— А можно посмотреть?
Он метнул на нее испепеляющий взгляд.
Она посмотрела на ряд деревянных колодок, выставленных вдоль полки. Приблизилась и наобум выбрала один ряд. Сбоку виднелась крошечная надпись карандашом, она смогла разобрать имя Коко Шанель.
— Они все уникальны, — улыбнулся Закари. — Пара колодок для каждой клиентки. Сделаны из бука.
— И мои тоже здесь?
Он указал на пару, которая находилась почти в конце ряда. Женевьева наклонилась, чтобы взглянуть на свое собственное имя, одновременно заметив еще одно имя на паре, стоящей по соседству: Вайолет де Фремон.
— Взгляни на это. — Он указал на висящую на стене старинную гравюру из дерева. На ней были изображены двое мужчин в римских одеяниях, босые, они шли обнявшись, и в руках молотки.
— Это святой Криспин и его брат-близнец, святой Криспиниан. Они покровители сапожников.
— И что у них за история?
— Ну, есть некоторые расхождения. По английской версии, братья из знатного римского рода во время правления императора Диоклетиана вынуждены были переодетыми спасаться от его армии. Криспин стал учеником сапожника и отправился по приказу хозяина в Кентербери — отвезти туфли дочери императора, Урсуле. Молодые люди полюбили друг друга и тайно обвенчались. Тем временем Криспиниан стал римским солдатом, получил множество наград и сумел убедить императора, что в этом браке нет ничего ужасного, потому что братья по крови принадлежали к аристократии. 25 октября брак был утвержден, с тех пор этот день стал традиционным праздником сапожников.
— Какая милая история.
— Но есть еще французская версия. В этой истории братья попали в какие-то неприятности и были вынуждены бежать из Рима. Военачальник императора, Максимиан, поймал их в Суасоне, попытался утопить, окунал в кипящее масло и покрывал тела расплавленным свинцом, но все же не смог убить. В конце концов он обезглавил их. Кости братьев были разделены и помещены в двух храмах в Северной Франции. Больные люди приходили, чтобы приложиться к мощам, веря в то, что они обладают чудодейственной целебной силой.
— Мне больше нравится английская версия.
— Мне тоже. А какие туфли ты хочешь?
— Я не думала, что ты станешь спрашивать. Я считала, что их образ уже сложился в твоей голове. — Не думая о том, что делает, она приблизилась и коснулась его лица. У него была гладкая кожа. Ей безумно захотелось ощутить запах его кожи.
— Что ты со мной делаешь? — Его голос стал низким и неуверенным.
— Ничего. — Она отдернула руку, понимая, что дразнит его, это ей нравилось.
— Не говори так.
— Хорошо, я не буду. — Сегодняшний день был похож на сон. И здесь, в тишине его мастерской, они могли делать все, что им вздумается. Это касалось только их двоих. — Я хочу, чтобы ты дотронулся до меня.
— Где?
— Везде.
Он обнял ее за талию и, проведя сквозь хаос комнаты, слегка приподнял, чтобы усадить на край рабочего стола. Она медленно откинулась назад среди его эскизов, бумага резко заскрипела за спиной.
Закари смотрел на нее сверху, улыбался, и она сгорала от нетерпения, желая большего, как вдруг неожиданно потолок громко заскрипел. Кто-то ходил по магазину прямо у них над головами.
— Черт возьми! — Он резко отодвинулся от нее, нервно обернувшись через плечо. — Она сказала, что не придет.
Женевьева неохотно выпрямилась.
— Разве это имеет значение? Она не видит нас. Она ведь не догадывается, что я здесь.
Теперь потолок ритмично поскрипывал, Ольга, должно быть, ходила вдоль по комнате.
— Мне очень жаль. — На его лице застыло беспокойство.
— Почему ты боишься ее?
Он отрицательно покачал головой:
— Просто она заслуживает того, чтобы к ней относились с уважением.
— Она влюблена в тебя. — Женевьева соскользнула со стола. — Это каждому ясно.
Он снова покачал головой:
— Я могу позвонить тебе завтра?
— Полагаю, что да, месье Ренар. — Она чувствовала горечь.
— Женевьева. — Закари крепко обнял ее за плечи. — Мы встретимся завтра, где-нибудь в другом месте. Там, где сможем побыть вдвоем.
— Я не знаю, Паоло.
Она чувствовала его запах. Этот потрясающий лимонный аромат.
— Скажи да, — молил он.
— Да, Паоло, мы встретимся завтра.
Наверху, в магазине, Ольга сидела за конторкой, ее спина была прямой, как кочерга.
Женевьева пробормотала небрежное приветствие, пробежала мимо, но Ольга ничего не ответила и не поднялась, чтобы открыть дверь. Выходя на улицу, Женевьева обернулась. Русская все так же бесстрастно сидела за столом. В ней чувствовалась опустошенность, ее лицо казалось лицом мертвеца, лишенным чувств.
В тот вечер чета Шелби Кинг отправилась в театр с бостонскими знакомыми Роберта, которые заехали в Париж, путешествуя по Европе. Эти Фэншоу были, конечно, просто ужасны. Увидев их в фойе, Женевьева содрогнулась. Друсцилла нелепо суетилась с допотопным тяжелым пальто, Чарльз с маниакальным видом полировал свои очки до тех пор, пока они не засверкали так же ярко, как и его лысина. Женевьева решила убедить Роберта отправиться вместе с ними в Фоли. Там гарантировано легкое и веселое представление и всегда можно раствориться в шумном веселье, подогретом парами шампанского. Обычно в Фоли проходило великолепное шоу, американские туристы вроде этой парочки обожали его. Но Роберт вознамерился продемонстрировать свою «парижскую изысканность» и выбрал билеты на спектакль, который, как он слышал, получил редкие отзывы (хотя сам он не читал ни одного из них). Пьеса, в которой выступали двое мужчин и женщина, одетые как цирковые клоуны, говорящие между собой по-французски быстро и пылко (это было столь типично для Роберта — предположить, что пьеса будет на английском!) и разъезжающие по сцене на велосипедах.
У них была ложа, Женевьеве это нравилось, потому что она преспокойно могла разглядывать людей в зале при помощи театрального бинокля, но сегодня Друсцилла открыла для себя новое преимущество ложи, которое заключалось в том, что вокруг нет посторонних людей и можно без стеснения вопить Женевьеве на ухо.
— А что они сейчас говорят? — Друсцилла наклонялась к Женевьеве, окутывая ее плотным облаком сладчайших духов.
Мысли Женевьевы были поглощены Паоло Закари. «Я хочу его, — твердо сказала она себе. — Я изголодалась по его любви. Почему я должна ждать до завтра?»
— О чем они говорят? — снова прошипела Друсцилла.
— О… — Женевьева сосредоточилась на какое-то время на том, что происходило на сцене, пытаясь уловить обрывок диалога.
— Высокий мужчина сказал женщине, что она похожа на рыбу. А она ответила, что его мать проститутка.
Друсцилла побледнела, что стало заметно даже в полумраке зрительного зала, несмотря на толстый слой румян.
— Тогда коротышка сказал, что долгие годы знал мать долговязого и может поручиться, что она действительно была хороша в постели, и он не слышал ни одного плохого слова в ее адрес.
— Мерси! — Друсцилла обмахивалась программкой. — А вы уверены, что они говорили именно это?
— Абсолютно. — Женевьева вглядывалась в партер. Сегодня вечером там было очень много бриллиантов, декольте и плохих париков. Среди всего этого народа она насчитала не так уж много знакомых.
Друсцилла тщательно исследовала программку.
— Думаю, это вот-вот должно закончиться, но после антракта все снова пойдет своим чередом.
Женевьева попыталась улыбнуться. Кто-то в ложе на другом конце зрительного зала разглядывал ее в бинокль. Женщина. Она не могла разглядеть незнакомку, но у нее возникли смутные подозрения.
В антракте Женевьева отделалась от Роберта и четы Фэншоу под предлогом того, что ей надо припудрить носик, и отправилась в бар в поисках знакомых, с явным удовольствием ловя свое отражение в высоких зеркалах. Смелое платье от Мирбор с абсолютно открытой спиной было из тех нарядов, которые скорее подчеркивают наготу, нежели скрывают ее. Она хотела, чтобы Закари увидел ее в этом платье и его бархатных туфлях. Туфли, как жадные рты, языки, облизывающие и заглатывающие ее ступни… Она все еще чувствовала запах его кожи.
Кто-то похлопал ее по плечу. Вайолет де Фремон в платье, сияющем подобно внутренности устричной раковины, с широким жемчужным ожерельем, обвивающим шею, в изысканных туфельках цвета голубиного пера с крошечными шариками вместо каблучков, инкрустированными перламутром.
— Женевьева, дорогая, как я рада тебя видеть.
— Привет, Вайолет. — Женевьева спросила себя, так ли натянуто выглядит ее улыбка, как у графини.
— Я вспоминала тебя недавно. Мы должны обязательно как-нибудь встретиться за ленчем. — Вайолет перевела взгляд на туфли Женевьевы. — Господи, какой чудесный оттенок бархата. Закари?
Едва заметный кивок.
— Я вижу, твои тоже.
Ее улыбка стала еще шире.
— Знаешь, я на днях видела клочок этого бархата в мастерской Паоло.
— Правда? — Женевьева изо всех сил боролась с собой, чтобы выдержать удар. — А ты заметила, Паоло хранит наши с тобой колодки рядом, на одной полке?
— Надо же, кто бы мог подумать!.. — Улыбка Вайолет, как кусок резины, растянулась до предела. — Господи, дорогая, я только что видела… Извини меня, но я должна подойти и поздороваться.
Мгновение холодного удовлетворения, но какое короткое мгновение! А она подумала, что единственная видела его мастерскую… Ведь он так сказал, правда? Правда? Ей бы так хотелось собрать все туфли графини в большую кучу, полить бензином и поджечь их…
За пять минут до окончания заключительного акта, в котором трое актеров продолжали перемещаться по сцене и вести беседу (только теперь на ходулях), какой-то человек вскарабкался на сцену и принялся читать, очевидно наобум, отрывки из газеты, а актеры недоуменно перешептывались, пожимали плечами и раскачивались из стороны в сторону.
— Это тоже часть пьесы? — поинтересовалась Друсцилла, когда появился менеджер театра и двое дородных привратников поднялись на сцену.
Еще один человек с верхнего яруса поднялся и принялся кричать: «Дада мертв! Дада мертв!» А кто-то еще, вероятно Тристан Тцара, завопил: «Дада возродился!» — и принялся метать капустные кочаны в привратников, которые все еще боролись с человеком, сидящим напротив сцены.
Женевьева заметила, как в другом конце зала Вайолет де Фремон целует на прощание друзей и уходит из ложи. Сегодня вечером муж не сопровождал ее.
— И где, вы сказали, мы сегодня ужинаем? — поинтересовалась Друсцилла. — Надеюсь, что французская кухня не склонна к экспериментам, подобно французскому театру.
Они ужинали у Мишо. Запрокинув голову, Женевьева с наслаждением глотала устриц, чувствуя, что Друсцилла, вытаращив глаза, разглядывает ее длинную белую шею.
— И как вы только можете глотать их целиком? — спросила она. — Разве вы не боитесь подавиться?
— Обожаю устриц, — Откликнулась Женевьева. — Это все равно что глотать огромный живой океан.
— Гадкие, скользкие создания. — Вздрогнув от отвращения, миссис Фэншоу вернулась к хорошо прожаренному стейку и принялась болтать о своих мопсах. (По всей видимости, у нее их было восемь, а двое даже выиграли призы.)
Роберт и Чарльз, едва усевшись за стол, увлеклись разговором, но вдруг Роберт прервался, чтобы спросить:
— Дорогая, это не Джойс сидит за столиком? Около стены?
— Джойс? — откликнулся Чарльз. — А кто она?
— Он говорит о Джеймсе Джойсе, — спокойно ответила Женевьева. — Это тот человек в круглых очках и с усами. Две женщины за его столиком — его жена и дочь. Они ужинают здесь практически каждый день.
— Боже мой! Знаменитый писатель! — Друсцилла развернулась, чтобы как следует рассмотреть его, не скрывая невежливого любопытства, Женевьева почувствовала досаду.
Джойс как раз пробовал вино, покачивал его в бокале и наслаждался ароматом, в то время как официант лебезил перед ним. Они с женой говорили между собой по-итальянски. Темноволосая дочь мрачно смотрела из-под копны густых волос.
«Как жаль, что я не сижу за их столиком», — про себя подумала Женевьева.
— Прекрати таращить на него глаза, Друзи, — воскликнул Чарльз. — Ну, написал человек большую, толстую книжку. Что из того? Они всего лишь семья, которая ужинает в ресторане.
— Я не смог справиться с «Улиссом». — Роберт выпятил грудь, его манеры тоже стали нарочито выпяченными. — Все вокруг говорят, что читали его, но я готов поклясться, что почти никому этого не удалось сделать. Если вы спросите меня, я отвечу, это абсолютно непостижимо.
— Ты говоришь о величайшем романе нашего века. — Женевьева жадно смотрела на Джойсов.
— Да ладно тебе, — воскликнул Роберт. — Ты сама прочитала не больше, чем я.
— Неужели? — Она не смогла прямо посмотреть ему в глаза в ответ.
— Ну, скажу я вам! — воскликнула Друсцилла. — Я бы лучше купила перевод. И не важно, читала бы я его или просто засовывала бы между страницами цветы.
— Не сомневаюсь, что этот талмуд станет прекрасным прессом для цветов. — Роберт толкнул Чарльза локтем, и они оба расхохотались.
Женевьева покачала головой и выругалась про себя.
— А что, милая? — Роберт повернулся к Чарльзу. — Знаешь, моя жена пишет стихи.
— А она не могла найти более полезного времяпрепровождения?
— О, в этом тоже есть своя польза. — Лицо Роберта раскраснелось от алкоголя и веселья.
— Какая, например?
— Ну, время от времени у нас появляется дополнительная бумага для растопки камина, — произнес Роберт, и они оба снова захохотали.
— Не обращайте внимания. — Друсцилла сочувственно коснулась руки Женевьевы. — Мужчины!
Но Женевьева уже не слушала их. Она думала о Вайолет де Фремон. Представляла, как та ходит по мастерской Закари, трогает его вещи.
— Мне что-то нехорошо, — заявила она. — Лучше мне поехать домой. Ты не станешь возражать, если я возьму машину, да, дорогой?
— О, перестань, милая. — Улыбка исчезла с лица Роберта. — Мы же только пошутили.
— Меня это абсолютно не обидело. — Женевьева поднялась из-за стола. — У меня начинается мигрень. Сейчас вы кружитесь у меня перед глазами в море разноцветных точек.
— Я поеду с тобой, — встревожился Роберт.
— Не беспокойся, со мной все будет в порядке. А ты оставайся здесь и развлекай гостей. С вашего позволения, я хотела бы добраться домой до того, как начнется головная боль. Это был… замечательный вечер.
«Бентли» свернул на Правый берег, около пон де ла Конкорд проехал по площади, носящей то же имя, а затем вдоль рю де Риволи, по рю де Кастильон — до Вандомской площади. Сегодня вечером колонна выглядела мрачной и зловещей. Наверняка никто не удивился бы, если бы обнаружил сборище ведьм, танцующих перед ней, с ножами и в овечьих шкурах.
У Женевьевы голова шла кругом от безумной ревности, но она изо всех сил старалась дышать глубоко и сохранять спокойствие.
— Я просто должна сейчас с кем-нибудь поговорить, — сказала она себе, когда они завернули на рю де ла Пэ. — Всего несколько минут.
— Где прикажете остановиться, мадам? — спросил Пьер.
— Где-нибудь здесь. — Она наклонилась вперед и пристально всматривалась в стекло. — Нет! Подожди. — Впилась ногтями в мягкую кожу сиденья водителя. — Поехали.
— Но, мадам…
— Я сказала, поехали!
Женевьева наяву увидела именно то, что с горечью себе представляла. Знакомая машина была припаркована на рю де ла Пэ рядом с переходом, который вел к магазину Закари.
Длинная черная машина. Шофер дремал в своем кресле, надвинув кепку на глаза.
«Ли-фрэнсис» с серебряной статуэткой на капоте.
Сегодня вечером Лулу нарядилась в белое кружевное платье и вуаль. Поначалу платье, очевидно, задумывалось как свадебное, но юбка несколько изменилась и была укорочена, как раз чуть выше колена. Шумная публика сходила с ума от восторга, выражая свою преданность, а она ответно была благодарна своим зрителям. Когда появилась Женевьева, Лулу как раз начинала новый танцевально-песенный номер, в котором к ней присоединилась стройная и гибкая девушка, одетая в черный облегающий комбинезон, возможно танцовщица из балета Руссе или Суэдо. Она танцевала за спиной у Лулу, с потрясающей точностью повторяя каждое ее движение. Когда Лулу высоко вскинула ноги, девушка в черном повторила ее движение всего в нескольких дюймах у нее за спиной. Когда Лулу поникла, словно тростник, то же сделала танцовщица.
Лулу пела о девушке, чья тень перестает подчиняться ей, отказываясь следовать за хозяйкой, как и положено всем теням, и вместо этого затаскивает ее на шумные вечеринки, где танцует всю ночь напролет, заставляя танцевать и свою хозяйку, полностью лишая при этом сил.
Женевьева, все еще мучаясь от ревности, решила выпить, чтобы хоть немного расслабиться, и заказала шерри. Отыскав в толпе Нормана Беттерсона, направилась к нему и взобралась на свободный стул рядом.
— Я не знала, что Лулу работает вместе с танцовщицей, — удивленно прошептала Женевьева. — Очевидно, они долго репетировали номер, но она ни разу об этом не рассказывала.
— Если вас послушать, покажется, что она водится с вашим заклятым врагом и предает вашу дружбу. — На Беттерсоне был строгий черный костюм. Он смазал маслом усы, чтобы загнуть их кончики.
— Мы с ней лучшие подруги, у нас нет секретов друг от друга.
— Так вы знаете? — Беттерсон странно взглянул на нее.
На сцене тень приобретала все большее влияние. Лулу пела о том, как в последние дни перед свадьбой девушка становилась все более слабой и изнуренной, словно тень, а тень оживала и становилась все более плотской.
— История кажется мне смутно знакомой, — заметила Женевьева. — Очевидно, она основана на народном фольклоре.
— Она исходит из самого сердца, — заметил Беттерсон. — Вот такая девушка, наша Лулу.
Женевьева пронзительно на него посмотрела. В самом деле, ничего не скажешь, наша Лулу!
В другом конце комнаты раздалось чье-то невнятное бормотание. Голос бубнил неразборчиво из-за выпитого спиртного, невозможно было понять слова. Другой человек закричал по-английски, что ему лучше заткнуться, если он не хочет, чтобы, ему выбили зубы. Женевьева не могла разглядеть обоих мужчин из-за моря голов, но узнала их голоса. Человеком, который пытался помешать Лулу, оказался Жозеф Лазарус, пингвинообразный поклонник певицы. А второй человек — Фредерик Кэмби, был ее единственной настоящей любовью.
— Все любят ее, — прошептал Беттерсон. — Все.
Женевьева, разозлившись по какой-то не совсем понятной причине, уже собиралась завести речь о журнале, но Беттерсон снова заговорил высоким голосом:
— Слышали о вашем друге, Гае Монтерее?
— Моем друге?
— Это случилось чуть раньше, сегодня вечером. Он здорово врезал владельцу «Ротонды». Сбил его с ног одним ударом. Я видел все собственными глазами. Кто-то вызвал жандармов, и они забрали его. А девушка Гая, Шепот, вопила и проклинала их на чем свет стоит, заявляла, что купит их с потрохами, но они ничего у нее не взяли. Теперь она должна ждать до утра, чтобы освободить его под залог.
Женевьева округлила глаза.
— Этот мужчина — сплошная неприятность.
— Будьте милосердны, Виви. Бедный Гай заперт в камере на целую ночь. У этого прощелыги из «Ротонды» полиция с руки ест. Разве вы не знаете, что однажды он донес о разговоре Ленина, который ему удалось подслушать в своем кафе? Он уже многие годы работает доносчиком на полицию. А мы, хорошие люди, должны держаться вместе.
— Да неужели? Нет, я сыта по горло Гаем Монтереем. Я хочу, чтобы его стихов не было в журнале.
Но Беттерсон снова стал наблюдать за представлением.
Настал день свадьбы. Девушка, отчаявшись избавиться от тени, берет в руки ножницы и угрожающе ими размахивает. Не обращая внимания на мольбы тени, дотягивается до своих ступней и разрубает их в том месте, где они соединяются с тенью.
— Вы слушаете меня, Норман?
— Что?
Но именно девушка, а не ее тень начинает погибать. Кровь струится из ее ног, заливая пол. Тень кидается, чтобы поддержать ее, поймать хозяйку, не дать ей упасть. И вот девушка лежит бездыханная, а тень ласково закрывает ее лицо вуалью, ставшей саваном, и рыдает.
— Я сказала, что не хочу присутствия Монтерея в журнале. — Женевьева почувствовала горечь и желчную мелочность в собственном голосе. Она хорошо понимала, что сердится вовсе не на Монтерея и даже не на Беттерсона. Но сейчас она со злорадным удовольствием использовала свое положение. Эту ситуацию она сможет удержать под контролем. И это невероятно приятно!
Беттерсон казался невозмутимым. Возможно, он так ничего и не услышал.
— Прости, куколка. — Он соскользнул со стула и закрутил кончики усов. — Я готов.
— Что вы… — Но прежде, чем она успела расслышать его ответ, он ринулся через зал прямо к выступающим.
На трагической сцене появился жених девушки. Прижав руки к сердцу, он с мукой взирал на свою погибшую любимую, а затем перевел взгляд на тень. Его лицо непроницаемо, тень съежилась и исчезла под его взглядом.
Жених склонился над мертвой девушкой. Он нежно убрал с ее лица вуаль, а затем встал и направился к тени, неся в руках фату. Тень в страхе отступила, но не нашла спасения, ей негде укрыться. Мужчина подошел к ней, надел ей на голову фату своей мертвой возлюбленной и закрыл ее лицо.
В баре воцарилась мертвая тишина, нарушаемая едва слышным дыханием, зрители замерли в напряженном ожидании.
И вот жених обнял тень и изо всех сил прижал ее к себе. Он откинул фату, приподнял подбородок девушки-тени и поцеловал ее в губы.
Шоу завершилось.
— Ну, шери. — Лулу вытирала искусственную кровь полотенцем из бара. — Что скажешь?
— Весьма впечатляющее представление. Но ты и сама об этом догадываешься. — Женевьева передала ей стакан пива, который Лулу тут же с жадностью выпила. — Почему ты не рассказала мне, что работаешь с той танцовщицей?
Лулу выпила еще.
— Я так счастлива, шери. Несколько месяцев назад, когда я поссорилась с Кэмби, ты сказала, что я должна попробовать воплотить свои чувства и переживания в искусстве. В моем пении. Помнишь?
Женевьева пожала плечами.
— Я тогда не послушала тебя. Но затем задумалась над твоими словами, и, знаешь, ты оказалась права. Вот теперь это то, чем я занимаюсь. Я сочиняю все больше и больше песен. Придумываю танцы, этот я тоже поставила сама. Все, что я пишу, очень четко передает мои чувства. В результате я чувствую себя просто великолепно. Виолетта замечательная танцовщица, правда?
— А как насчет него? — Женевьева указала на Нормана Беттерсона, который болтал с Виолеттой у рояля. — С каких это пор вы стали такими друзьями?
— Ах да. — Лулу захихикала. — Ну, это произошло как раз ночью на той вечеринке. С которой ты умчалась, презрительно задрав нос. А кое-кто из нас остался, чтобы повеселиться.
— Ты хочешь сказать, что спала с Беттерсоном?
Лулу сузила глаза.
— И что с того? Почему это для тебя так важно?
Действительно, почему? Но это было именно так. Беттерсон — ее человек, а не Лулу. Она первая познакомилась с ним. Он стал частью ее мира.
— Ты использовала его, — выпалила она. — Чтобы позлить меня.
— Послушай. — Лулу резко поставила пивной бокал на стойку. — Ты что, забыла, ведь я сказала, что мы хорошо повеселились, Виви?
— Тебе очень удобно таскать меня по Парижу, как какую-нибудь подпорку для сцены в твоем исполнении. Говорить мне, что делать и кем быть. Но ты тоже ревнуешь.
— Ты пьяна, шери. Иди домой и ложись спать прямо сейчас, пока не ляпнула чего-нибудь еще.
— Именно поэтому ты и настаиваешь, чтобы я спала с другими мужчинами. — Распалившись, Женевьева уже не могла остановиться. — Ты завидовала моему браку и хотела разрушить его. Я была счастлива с Робертом, пока ты не начала приставать ко мне!
— Ты думаешь, я завидую твоему браку? — Лулу уперла руки в боки. — Тому, что у тебя есть он!
Но Женевьеву уже невозможно было остановить.
— Ты продолжала и продолжала убеждать меня, чтобы я изменила Роберту. И в конце концов я до этого докатилась.
Куда меня привело твое веселье? Я не могу даже смотреть на Гая Монтерея, даже имени его не могу выносить. А что касается Паоло Закари…
— Значит, ты все-таки спала с Монтереем. Почему солгала?
— Мне было стыдно. А теперь я влипла в серьезные отношения с Паоло Закари, я в полном отчаянии, и это — твоя вина!
Лулу помрачнела.
— Моя вина? Ах, ну конечно. Ведь испорченная маленькая принцесса вроде тебя никогда ни в чем не виновата! И ты еще говоришь, что я использую людей, моя так называемая подруга. Ты использовала меня, чтобы завести свои знакомства. А теперь я стала не нужна, ты едва появляешься, чтобы поговорить со мной. Ты смотришь на меня свысока, как и все люди твоего сорта. Да так всегда было, просто я не замечала этого до сегодняшнего дня.
— Возможно, я не хочу встречаться с тобой как прежде, потому что поняла, что ты за «подруга». Злая, вероломная, фальшивая, насквозь пропитанная завистью, ты убеждена, что все остальные должны быть несчастны, как и ты. Ну что ж, мои поздравления, Лулу. Я абсолютно несчастна. И все это — благодаря тебе! — Женевьева сорвалась на крик, но никто не обернулся посмотреть, что происходит. Потому что именно в этот момент нечто более громкое и взрывоопасное происходило как раз у них за спиной.
Жозеф Лазарус приблизился сзади к Норману Беттерсону и похлопал его по плечу. Беттерсон, увлеченный разговором с Виолеттой, досадливо отмахнулся от него. Лазарус схватил Беттерсона за плечо и попытался толкнуть его, тогда Фредерик Кэмби подошел к нему и ударил кулаком в его носатую физиономию. Лазарус упал, опрокинул стол, уставленный напитками, увлек за собой Беттерсона. Виолетта завизжала. Лазарус тут же вскочил на ноги и ударил Кэмби по голове бутылкой. Завизжала Лулу. Лоран, одноглазый бармен, награжденный медалью за отвагу, защищал подступы к барной стойке, размахивая дубинкой. Беттерсон встал на четвереньки и быстро пополз прочь, направляясь в сторону туалета. Кто-то швырнул стакан, который вдребезги разбил оконное стекло. Кто-то подхватил стол, намереваясь опустить его на голову Лазарусу, но ошибся и ударил Лорана, который замертво рухнул на пол. Жанин, суровая официантка, врезала между ног тому, кто ударил ее любимого Лорана. Лазарус с вызывающим видом брел по комнате, визжал, как свинья, и направлялся прямо к Лулу и Женевьеве, но на чем-то поскользнулся, подставил подножку Жанин и потащил ее за волосы на пол. Женевьева и Лулу завизжали. Беттерсон вышел из туалета и тоже завопил, закусив губу от восторга, очевидно несказанно обрадованный происходящим. Прижав полотенце к окровавленной голове и тяжело опираясь на Виолетту, Кэмби продвигался к черному ходу. Когда жандармы вошли в бар, парочка незаметно ускользнула в ночь. Пудель Лорана лизал лужи на полу: разлитые напитки, искусственную и настоящую кровь. Тонкие желтые пальцы Марселя ласкали клавиши рояля.
Женевьева вошла в квартиру в одних чулках, держа свои кроваво-красные туфли в руке.
— Я знал, что у тебя не было мигрени. — Роберт стоял в гостиной, воротник рубашки был расстегнут.
— Роберт! Ты напугал меня. Я думала, ты уже лег спать.
— Как я мог лечь спать? Моя жена заболела и уехала домой в самый разгар ужина в ресторане, но спустя два часа я не обнаружил никаких следов ее возвращения. Где, черт возьми, ты была?
— Дорогой, давай пройдем в гостиную и присядем. — Она взяла его за руку, но он вывернулся.
— Не надо говорить со мной таким тоном. Сейчас именно ты не права. Ты обещала мне, что это больше не повторится. Прошло всего несколько дней с тех пор, как ты пообещала!
— Пожалуйста, Роберт. Мы ведь не хотим разбудить Селин, правда?
Роберт вздохнул, и она поняла, что победила. Он мог злиться, сходить с ума от беспокойства, но облегчение от мысли, что с нею все в порядке, было сильнее, чем его вспыльчивость.
Женевьева включила лампу с абажуром цвета страусиного яйца, они уселись рядышком на кушетку в форме пироги. Он обнял ее одной рукой и крепко прижал к себе, так, что ее голова склонилась ему на грудь.
— Прости меня, Роберт. — Женевьева слушала, как бьется его сердце, в медленном, успокаивающем ритме. — Я поехала в «Койот» навестить Лулу. Я должна была поговорить с ней.
Его рука напряглась.
— Ты же обещала. Почему ты нарушила слово?
— Ты обидел меня. — Ее голос стал тоненьким, она шмыгнула носом. — Очень сильно.
— Я?
— Ты насмехался над моими стихами.
— Но ведь это была всего лишь шутка. Мне казалось, ты поняла это.
— Шутка за мой счет. Ты хотел показаться значительным своим друзьям, и потому принизил меня. Ты ожидал, что я стану мило улыбаться и проглочу издевку, словно милая маленькая дурочка.
— Нет… Ты же знаешь, я не хотел…
— Я придумала мигрень, потому что не хотела закатывать сцену. Подумай, на ком ты женат, и считай, что тебе крупно повезло. От обиженных воплей такой гарпии, как Друсцилла Фэншоу, ресторан рассыпался бы в щепки.
— Любовь моя. — Роберт заключил ее в объятия и прижал к себе так сильно, что у нее перехватило дыхание. — Пожалуйста, прости меня. Это больше не повторится.
— Конечно, дорогой. — Женевьева попыталась вырваться, но кольцо его рук сжалось еще сильнее.
— Я не заслуживаю тебя, это действительно так. — Он прошептал эти слова в ее волосы, покрывая поцелуями ее голову. — Я не доверял тебе, как ты того заслуживала. Если бы только знала… Но не беда…
— Что не беда?
Стук его сердца оставался ровным, но его ритм почему-то перестал успокаивать ее. Она чувствовала себя мышью в ловушке. Ну, это уже слишком!
— Ничего, любовь моя. Давай ляжем в постель.
— О да, давай. Я так устала, мы можем все обсудить завтра за завтраком.
Он с трудом проглотил подступивший к горлу ком.
— Я имел в виду, мы должны лечь в постель вместе. Этот странный стук его сердца, один удар легкий, другой тяжелый. Бу-буум, бу-буум. Его стук в дверь звучал точно так же.
— …Я хочу почувствовать… испытать твое прощение. Бу-буум, бу-буум. Именно так он стучался к ней недавно.
Все началось со стука и криков, а закончилось его отвратительной, удушающей страстью.
— Женевьева, ты вся дрожишь.
Женевьева высвободилась из его объятий, потом резко вскочила с кушетки, не стыдясь своей неприкрытой грубости. Она застыла посреди комнаты, обхватив себя руками, глядя на красные туфли, которые аккуратно стояли рядом с кушеткой. Надевая эти туфли сегодня вечером, она думала о Паоло, представляла его, выбрала платье от Мирбор с открытой спиной. Женевьева представляла, как он медленно целует ее спину… Но вместо него рядом сидел Роберт и любовался ею. Роберт, который теперь тоже встал с кушетки и пожирал ее влюбленным взглядом.
— Милая, почему ты отворачиваешься от меня? Тебе словно не хочется, чтобы я дотрагивался до тебя.
— Со мной все хороню. Правда.
Она должна избавиться от него. Должна.
— Что-то не так. В чем дело?
— Я беременна. — Женевьева сама не понимала, откуда вдруг взялись эти слова, но, прежде чем успела остановить себя, выпалила их. В этот самый момент она поняла, что не может этого вынести. Ей захотелось схватить в охапку красные туфли, изо всех сил прижать к груди, — как испуганный ребенок обнимает своего плюшевого мишку.
Глава 6 СТЕЛЬКА
Это было самое прекрасное утро. Небо еще никогда не казалось таким ослепительно-голубым, воздух столь свежим, а круассаны такими сладкими и сдобными. Парижские женщины никогда не выглядели такими прекрасными, а их младенцы (ах, дорогие крошечные херувимы, красавчики-крепыши в чепчиках!) никогда на восседали так важно в тряских колясках, которые толкали перед собой милые няни-англичанки (можно ли отыскать в Париже няню-англичанку? Или придется ехать в Лондон, чтобы нанять ее?).
Обычно Роберт никогда не ходил на работу пешком, но сегодня он просто не мог усидеть на месте. Он насвистывал, шагая по Елисейским Полям, ему приходилось сдерживать себя, чтобы не отбивать по пути чечетку. Пьер, который медленно ехал за ним в машине, вероятно, не мог взять в толк, что такое происходит с хозяином. И на самом деле — все, что мог сделать Роберт, — это сдерживаться, чтобы не вопить из окна машины о своей радости. Неужели кому-нибудь повредит, если он поделится тайной хоть с одним человеком? И как она могла требовать, чтобы он скрывал свое счастье от других? Но" он должен сдерживаться, потому что обещал Женевьеве. Бедная малышка Женевьева! Она так боялась говорить ему об этом. Сегодня утром она тоже показалась ему напуганной. Хорошо, он сумеет успокоить и подбодрить ее. Он бережно окружит ее теплом и заботой в течение всех девяти месяцев беременности и после рождения малыша.
На углу улицы сидела старуха и продавала розы. Красные, желтые, персиковые, белые, розовые. Роберт остановился перед ней и понюхал ближайший букет. Эти розы, подумал он, источают самый божественный аромат, который ему когда-либо приходилось чувствовать. Всунув первую попавшуюся крупную банкноту довольной старухе, он выбрал по букету каждого цвета и положил на заднее сиденье «бентли».
— Отвези красные и белые розы на рю де Лота миссис Шелби Кинг, — сказал Пьеру. — Персиковый букет можно подарить горничной Селин. Розовый подойдет для моей секретарши, Мари-Клер, если ты отвезешь их в офис.
— А как насчет желтых роз? — спросил Пьер.
— Отвези их домой и подари своей любящей жене. Она замечательная женщина и, конечно, заслужила чудесный букет цветов.
— Спасибо, месье!
— На здоровье. Сегодняшнее утро, да и любое утро, на самом деле преподносит нам полезный урок, Пьер. Что бы ни происходило ночью, в темноте, когда взойдет солнце, нас ожидает начало пути. Можно полностью стереть следы мела с грифельной доски, мой друг, если именно этого мы хотим больше всего. Новая жизнь, новое начало, новый человек. И все зависит только от нас.
Когда он, наконец, сумел отделаться от благодарной раскрасневшейся секретарши и уселся за письменный стол, первым делом снял трубку и попросил оператора соединить его с офисом мистера Фелперстоуна.
— Мистер Шелби Кинг. Тот самый человек, — послышался голос Фелперстоуна, прежде чем Роберт успел вставить обычное приветствие. — Я должен сообщить вам, сэр, что мой коллега, месье Канн, был довольно активен. Думаю, скоро у нас появятся любопытные подробности.
— Забудьте об этом, мистер Фелперстоун. — Роберт закрыл глаза и застыл, не открывая их. — Что бы там ни было. Я больше ничего не желаю знать.
На другом конце линии послышался нервный смех и странный шмыгающий звук.
— Прошу прощения, сэр, вы хотите сказать…
— Я говорю… — Роберт снова открыл глаза и взглянул на фотографию жены, в свадебном платье. Безупречная кожа с легким румянцем, красивый прямой нос. Она была невероятно аристократична, его Женевьева. Да, невероятно аристократична. — Я говорю, что люблю свою жену и доверяю ей. И я не понимаю, что вообще заставило меня нанять вас.
— Мистер Шелби Кинг, умоляю вас подумать. Месье Канн человек слова. Если он говорит, что скоро произойдет нечто важное, значит, так оно и есть.
— Конечно, я оплачу ваши услуги в полном объеме, — заверил Роберт. — Пожалуйста, пришлите мне в офис счет и пометьте конверт надписью: «Лично в руки».
— Но клетка вот-вот захлопнется!
— Вы что, не слышите? Меня это не интересует. — Словно желая доказать это самому себе, Роберт принялся нетерпеливо ворошить бумаги, лежащие на подносе.
— Мы совсем скоро вытащим правду на поверхность, я в этом не сомневаюсь. Если вы только согласитесь немного подождать…
— Бросьте вашу охоту, Фелперстоун. Ваша сеть пуста, и так будет всегда. — И вдруг взгляд Роберта упал на небольшой лиловый конверт с его фамилией и адресом офиса, написанными наклонным женским почерком. Мари-Клер не распечатала его, возможно, потому, что у письма был вид личной корреспонденции. Он схватил нож для писем и вскрыл конверт.
— Клянусь вам, сэр, Канн никогда не ошибается…
Но Роберт уже не слушал его.
«Дорогой сэр,
Ваша жена обманывает Вас. Ее хобби не так безопасно, как Вам кажется.
Доброжелатель».
Аристократичная Женевьева в этот момент связывала низкий пояс своего усыпанного нежными цветами розового шифонового платья с украшенной бисером лентой. Скоро она отправится в комнату для туфель и найдет абсолютно новые лодочки от Мишеля Вейла из необычной, напоминающей гобелен материи. Узкие ремешки с застежкой-жемчужиной, розовый лайковый каблучок, розовая окантовка. Элегантно, но неброско и сдержанно. Наряд, свидетельствующий о внутреннем спокойствии и уверенности.
Женевьева сказала Роберту, что сегодня утром пойдет к врачу. Но на самом деле она собиралась навестить Нормана Беттерсона.
Дверь открыла миссис Беттерсон. Или это была секретарша? Женевьева не могла сказать с абсолютной уверенностью. Обе женщины были высокие и смуглые, с темными кругами под глазами.
— Я хотела повидать Нормана.
Женщина, которая могла оказаться миссис Беттерсон, улыбнулась.
— Как мило, что вы зашли, Женевьева. Это очень подбодрит его.
Смутившись, Женевьева прошла следом за ней в квартиру. Одна комната служила гостиной, кухней и кабинетом. Как ни странно, несмотря на крошечные размеры, жилище Беттерсонов выглядело уютным. На стенах кое-где висели яркие картины, одна, над столом, представляла собой глубокий красный надрез на белом фоне. Стены от пола до потолка занимали стройные ряды уставленных книгами полок. На каждый ряд книг были поставлены новые стопки, так что полки бессильно накренились вперед, грозя обрушиться. Простые половицы разрисованы странным крученым узором всех оттенков зеленого. В узоре чувствовалось что-то невероятно живое. Он разросся только до середины комнаты, но казалось, будто растет, расширяясь и захватывая все на своем пути, подобно тому, как побеги плюща оплетают здания и карабкаются по их стенам.
— Похоже, ей нравится пол. — Вторая женщина, которая тоже могла оказаться миссис Беттерсон, сидела за обеденным столом.
— Тем хуже для нее, — с юмором отозвалась первая миссис Беттерсон.
Вся комната казалась необыкновенно живой. Изобилие книг и картин. По столу разбросаны бумаги, некоторые напечатаны, некоторые испещрены крупными наклонными записями. Женевьева оказалась в фантастическом литературном саду.
— Я помешала вам, — извиняясь, заметила она, указывая на печатную машинку и кучу беспорядочно разбросанных бумаг.
— О, ничего страшного, — откликнулась первая миссис Беттерсон.
Женевьева напрягла зрение, чтобы прочитать обрывки слов на ближайшем листке бумаги.
— Это материал для журнала?
— Кое-что, — ответила вторая миссис Беттерсон. — Но Норман параллельно занимается другой работой. Непосильная задача, разобраться в таком хаосе.
— Понимаю. — Женевьева слегка кивнула. — Как, должно быть, замечательно работать над каким-то проектом. Над чем-то, что требует полной самоотдачи и сосредоточения. — Как только она произнесла эти слова, ее щеки заалели. Что подумают о ней эти женщины? Испорченная маленькая богатая девчонка, пришла совать нос в чужие дела и делает пустые, неискренние замечания. Но все, что она говорила, шло от чистого сердца. Женевьева вдруг неожиданно почувствовала неловкость за свое цветастое платье и гобеленовые туфли. Она подумала, что эти женщины наверняка считают ее поверхностной глупышкой, которая способна уйму времени потратить на свой туалет. Они были прекрасны в своей честности, прямоте и обезоруживающей открытости. В них чувствовалась истинная глубина. Пара интеллектуалок, женщины, к которым необходимо относиться с настоящим уважением. Их простые голубые платья и зачесанные назад волосы навевали мысль о пренебрежении, возможно, даже презрении к высокой моде и прочей показной пышности. Потребуется время, чтобы разобраться в них, по-настоящему узнать их, но это того стоит.
Женевьева чувствовала себя так, словно каждую ее мысль и чувство можно было прочесть на ее лице, ей захотелось повернуться и бежать. Но выражения лиц двух женщин не изменились. Обе казались заинтересованными и оживленными.
— Мы занимаемся всем понемногу, — говорила вторая миссис Беттерсон. — Редакторы, машинистки, эксперты по современной американской письменности. — Она протянула Женевьеве листок с какими-то особенно запутанными каракулями. — Время от времени нам даже удается кое-что писать самим.
Теперь Женевьева, наконец, кое-что поняла. «Я хочу получить то, что есть у этих женщин. Мне необходима глубина. Но как же ее заполучить?»
— Норман сейчас там. — Первая миссис Беттерсон указала в направлении единственной двери, которая была закрыта. — В постели.
— Ему… нездоровится, миссис Беттерсон? — спросила Женевьева.
— На самом деле это я миссис Беттерсон, — отозвалась женщина, сидящая за столом. — Августа.
— Прошу прощения. — Женевьева попыталась улыбнуться, но ошибка была двойной, поскольку все знали, что Беттерсон спал с обеими женщинами, и, по слухам, они спали друг с другом.
— Не беспокойтесь. — Августа весело улыбнулась и снова принялась печатать.
— А я Марианна, — представилась не миссис Беттерсон. — Хотите чаю? Я все равно буду готовить его для Нормана.
— Нет, благодарю. А Норман… Он болен? То есть я знаю, что он болен, но…
Марианна подошла к плите, на которой кипела вода в котелке.
— Прошлой ночью ему стало плохо.
— На самом деле он сам виноват, — заметила Августа. — Он просто переборщил. Ввязался в какое-то представление в «Койоте», вместе с актрисой из кабаре, Лулу с Монпарнаса. Она ваша подруга, ведь так?
Женевьева взглянула на причудливый узор на половицах:
— На самом деле мы немного поссорились.
— Я знаю, что прошлой ночью в Квартале был праздник, — улыбнулась Августа. — Один поэт, приятель Нормана, ударил владельца «Ротонды». Все вокруг, конечно, терпеть не могут этого человека, поэтому и отмечали радостное событие. Но, возможно, вы сами там были?
Женевьева проглотила ком в горле.
— С Норманом все в порядке?
— В общем да, — кивнула Августа. — Ему следует больше заботиться о своем здоровье. Но это не его стиль жизни.
— Недавно тут такое было… — Марианна задрожала.
Из-за закрытой двери до них донесся кашель. Ужасный кашель.
Беттерсон сидел в постели с «Великим Гэтсби».[7] На его скулах проступил лихорадочный румянец, глаза блестели.
— Женевьева! Как замечательно, что вы пришли. Вы войдете? — Он подвинулся в постели и откинул в сторону простыни.
— Норман, признайтесь честно. — Она присела на самый краешек. — Как вы себя чувствуете?
— Ну, или мир приобрел замечательное искрящееся убранство и блеск, или все дело в этой книге, — откликнулся Беттерсон. — Между нами, я думаю, что госпожа Смерть подобралась чуточку ближе. Я вижу новые знаки ее присутствия. Но, знаете, ничто так не разжигает воображение, как ощущение приближающейся гибели! Этим утром я писал чудесную новую поэму. Возможно, мою лучшую вещь. В голове осталась уйма идей.
— Я очень рада. Я имею в виду, из-за поэмы.
— Итак. — Его лицо немного помрачнело. — Чем я могу быть полезен? Вы ведь пришли сюда не для того, чтобы заявлять, кто останется, а кто уйдет из журнала, ведь так?
— Нет. — Она пристально разглядывала стеганое одеяло на кровати. — На самом деле я хотела извиниться за то, что сказала прошлым вечером. Я имею в виду Гая Монтерея. Вы редактор. И вам решать, что пойдет в журнал, а что нет.
— Чудесно! — Он захлопал в ладоши. — В таком случае действительно замечательно, что вы пришли.
— О, Норман. — Она потерла лоб. — Я разозлилась на вас, потому что вам не понравились мои стихи. Но вы сказали мне правду.
— Не думайте об этом, милая. — Он склонил голову набок и, казалось, оценивал ее.
— Кругом сплошные неприятности. — Ее голос звучал устало и бесцветно. — Я принимала неправильные решения, верила в неправильные идеи, дружила не с теми людьми…
— Это о Лулу? О той битве, которая произошла между, вами прошлой ночью?
Женевьева пожала плечами:
— Она не та, за кого себя выдавала. Все очень сложно.
— Может, и так. — Он откинулся на подушки. — Но я считаю, что она стоит того, чтобы терпеть из-за нее неприятности.
— Вам не понять, вы мужчина. — Женевьева вспомнила о двух женщинах за дверью и подумала о том, что им известно. — Вы влюблены в Лулу?
— Я? Нет. — Усмешка перешла в глубокий грудной смех, затем в угрожающее подобие кашля, от которого все его тело стало сотрясаться и вибрировать.
Женевьева подумала, что, возможно, стоит позвать кого-нибудь из миссис Беттерсон. Но пока она колебалась, кашель стал стихать. Он прижал платок к губам.
— Но она все-таки очень забавная женщина. — Тема была закрыта, Беттерсон принялся рассказывать о журнале. — Мы не можем назвать журнал «Фиеста». Похоже, Хемингуэй решил так назвать свой роман. Но это его право. У него уже было название, но он хочет, чтобы «Фиеста» стало одним из вариантов. Макэлмон в ярости, но он проиграл. Я знаю, они даже подрались.
Марианна принесла поднос, на котором стояли две чашки чая, и удалилась, подмигнув. Беттерсон проглотил пару пилюль, запил их чаем и осушил чашку в несколько глотков.
— Попросите Августу поискать блокнот, — сонно сказал спустя некоторое время. — Он где-то на полках. Она знает, где искать его.
— Зачем мне блокнот? — Женевьева взяла поднос с пустыми чашками. — Я больше не стану писать стихи.
— Ваши карикатуры. — Теперь он изо всех сил боролся со сном. — Я уже говорил, что они замечательны.
— Вы действительно так думаете?
Но ответом был храп, донесшийся с кровати.
В соседней комнате Августа и Марианна сидели за столом. Августа ломала голову над особенно неразборчиво написанными строчками, пытаясь расшифровать их смысл. Она протянула листок Марианне, та внимательно всмотрелась и пожала плечами. Женевьеве захотелось подойти и помочь им. Возможно, она сумела бы разобрать таинственные слова. Но что-то не давало ей это сделать.
Улица оказалась пустынна. Отвратительно пахли сточные воды. Уходя, она думала о своем бесполезном блокноте, спрятанном где-то в хаосе крошечной квартирки. Она думала об издевательской улыбке Лулу, об ужасной лжи, которую придумала для мужа, и о том, как засияло его лицо при этом известии. Тяжесть ощущалась всем телом, болели каждая косточка, каждый мускул, каждый нерв.
Женевьева вспомнила о веснушке на шее Паоло Закари. О лимонном аромате его кожи, о его горячих поцелуях. Она пыталась отогнать эти мысли, но они упорно возвращались.
Придя домой, дождалась, когда Селин уйдет в другой конец квартиры, и сняла телефонную трубку.
Сиреневая записка лежала, разорванная на мелкие клочки, в мусорной корзине. Роберт не собирался придавать ей значения. Его жена красива и остра на язык, и, следовательно, среди ее знакомых есть соперницы. Недоброжелатели. На этом письме ясно просматривалась огромная печать под названием «завистливая женщина».
Если бы он только мог забыть об этом и сосредоточиться на работе!..
— Мистер Шелби Кинг, я… — Мари-Клер просунула голову в дверь.
— Разве я не говорил, чтобы вы всегда стучались, прежде чем войти?
Секретарша выглядела расстроенной.
— Но я постучалась, сэр.
— Неужели? О!.. — Роберт нервно закрутил в пальцах ручку, притворяясь, что так увлекся работой с документами, что позабыл обо всем на свете.
— Три раза.
— Ну что ж, в будущем стучитесь посильнее.
— Хорошо, сэр. Принести вам кофе?
— Нет, спасибо. Мари-Клер?
— Да?
Он с надеждой взглянул на нее. С надеждой на что? Возможно, он совершил ошибку, подарив ей цветы.
— Простите меня за то, что набросился на вас. Я немного расстроен. Вы не откроете окно? Здесь очень душно.
— Да, сэр. — Она снова была счастлива.
Роберт с отсутствующим видом смотрел на ее округлую попку, пока она сражалась с оконной задвижкой. Как замечательно, что можно так легко сделать женщину счастливой — в одно мгновение и одним простым жестом! Букет роз, тихое извинение. Если бы только всегда все было так просто…
Зазвонил телефон.
— Не вешайте трубку, мистер Шелби Кинг, — раздался отвратительный голос. — Пока не выслушаете то, что я должен вам сказать.
Роберт заставил сыщика подождать, пока Мари-Клер не вышла из комнаты.
— Фелперстоун, мне казалось, я достаточно ясно выразился.
— Несомненно, сэр. Но я считаю своим долгом сообщить вам о ситуации, требующей вашего пристального внимания. В данный момент ваша жена находится в отеле вместе со своим любовником.
— Я знал, что вы сукин сын, но и предположить не мог, что вы к тому же занимаетесь гнусными наветами!
— Это не навет. Мне самому хотелось бы, чтобы я ошибся. Роберт достал платок и вытер пот со лба и шеи.
— Сэр, мой коллега, месье Канн, позвонил мне несколько минут назад. Он видел, как они входят в отель. Они до сих пор там.
— Мистер Фелперстоун, это, в конце концов, может быть простой ошибкой.
— Здесь не может быть никакой ошибки, сэр. Я готов поспорить на свой гонорар.
— Моя жена сейчас дома!
На линии послышался скребущий звук, словно мышь возилась за деревянной обшивкой стены. Должно быть, он добрался до самого дна своей табакерки, выцарапывая последние остатки порошка из крохотной коробочки.
— Вы в этом полностью уверены, сэр? Лучше ведь быть абсолютно уверенным, не так ли?
— Женевьева отдыхает в своей постели. — У Роберта так сильно пересохло во рту, что он едва мог говорить. — Моя жена беременна.
— Мои поздравления, сэр. А почему бы вам не позвонить ей по телефону? Сказать о том, как сильно вы ее любите, или что там еще вы, женатые люди, говорите друг другу. Докажите мне, как сильно я ошибался.
Они были единственными посетителями в роскошном, украшенном позолотой баре со стенами цвета дамасской розы. Уютно устроились в углу за круглым столиком из гипса, на котором стояла массивная золотая пепельница. Столик располагался за статуей лошади с хвостом рыбы, возвышавшейся на сером каменном постаменте.
— Я с трудом заставила себя прийти сегодня, — начала Женевьева.
— Почему? — Закари добавил сахар в кофе и размешал его изящной серебряной ложечкой.
— Мне казалось, мы понимаем друг друга.
— Мне тоже.
Закари добавил еще две ложки сахара.
— Прошлой ночью я оказалась около твоего магазина. Снаружи стояла машина Вайолет де Фремон.
— Я не просил ее приходить. — Закари размешивал кофе. — Она явилась совершенно неожиданно.
Женевьева глубоко вздохнула, чтобы успокоиться.
— Ты спал с ней прошлой ночью?
— Нет. — Он, наконец, отложил ложку в сторону. — Она пришла в магазин, мы поговорили. Вот и все. Потом она уехала.
— Я очень хочу верить тебе. Правда. Но мне начинает казаться, что все, о чем ты говоришь, не может быть правдой. Ты сказал, что никто не заходил в твою мастерскую, но…
— Нет. — Он покачал головой. — Я этого не говорил. Как правило, я не пускаю туда людей. Но, конечно, один или два человека там побывали.
— Женщины? Он нахмурился:
— У меня есть прошлое. Так же как у тебя.
Она вставила сигарету в длинный мундштук из черного дерева и поднесла его к губам. Закари протянул зажигалку, чтобы дать ей прикурить.
— Паоло, я очень рисковала, решившись прийти сюда и увидеть тебя. И возможно, мне придется рисковать еще больше.
Он добавил в чашку еще одну ложку сахара.
Женевьева нервно огляделась, затянулась сигаретой. Мужчина, сидевший в фойе, наблюдал за ними поверх газеты.
— Вот в чем дело. Ты живешь, скрываясь в подвале, за большой и бестолковой вывеской, подступы к твоим дверям охраняет безумная женщина. Ты отдалился от мира. Ты скрываешься за всеми этими нелепыми слухами, которые сам, вероятнее всего, придумываешь! Спишь со своими клиентками. Я не понимаю, что настоящее в твоей жизни, что нет. Я хочу доверять тебе, но не знаю, смогу ли.
— Поверь мне. — Его глаза стали совсем темными. Слишком темными, чтобы выдать свои секреты.
— Если я снова займусь с тобой любовью, ты получишь надо мной огромную власть. Ты понимаешь?
Он коснулся ее ладони.
— Женевьева. — Он ласково произнес ее имя и взял за руку. И ничего больше.
Минуту спустя попробовал свой кофе и поморщился.
— Сколько ложек ты обычно кладешь? — спросила она.
— Ни одной. Я терпеть не могу сладкие напитки. Давай снимем комнату.
Мужчина с газетой наблюдал, как они вставали из-за стола.
Роберт, не мигая, смотрел из окна «бентли» на магазины, газетные лотки, машины, гуляющих людей. Крошечные обрывки взглядов на миры, которые определенно были гораздо проще, чем его собственный. Например, та девушка с короткими светлыми волосами — в том, как она размахивала сумкой, быстро идя вперед, чувствовалось что-то беззаботное и детское. Она казалась воплощением невинности, ангельской чистоты. А как выглядела бы Женевьева, если бы кто-то вот так же смотрел на нее со стороны?
И вот появился Фелперстоун, скрывающийся в засаде около Бразери-Липп, как раз там, где он обещал быть. Двое официантов пристально наблюдали за ним, очевидно, подозревали, что не стоит ожидать ничего хорошего от подобного человека. Роберт узнал покатые плечи, сгорбленную спину, плохо скроенный костюм раньше, чем заметил увлеченное лицо профессионала. Ему захотелось изо всех сил заехать кулаком в эту физиономию. Разбить этот длинный, изящный нос.
— Остановись здесь, — приказал он Пьеру. — Этот джентльмен поедет с нами.
— Я родился и вырос на Сицилии. — Закари лежал на спине, разглядывая балдахин из красновато-коричневого бархата с тяжелыми кистями. Женевьева лежала рядом, вдыхала аромат его кожи. Скомканные простыни валялись на полу. — Мой отец был сапожником. Его заказчики — бедные фермеры. Они заказывали одну пару тяжелых башмаков и надевали их на работу в поле, на танцы, на деревенские праздники, когда отправлялись свататься к своим милым, когда шли в церковь. Эти ботинки были сделаны из жесткой кожи. На каблуки отец набивал подкову. Новые ботинки стирали кожу до крови. Но спустя какое-то время они становились словно вторая кожа, поэтому основной работой моего отца стала починка ботинок, сделанных много лет назад. Я часто помогал ему. Именно так я и научился своему ремеслу.
Женевьева пристально смотрела на его горло, когда он говорил. На его грудь. Она обожала звук его голоса. Какое наслаждение быть с ним рядом, от счастья у нее кружилась голова.
— Моя мать обладала настоящим талантом. Она умела замечательно рисовать, у нее рождалась масса интересных идей… Ей следовало стать дизайнером. В другом месте, в другое время она стала бы Коко Шанель. Мы любили сидеть вместе и мечтать. Отец терпеть этого не мог. Он считал, что мама забивает мне голову глупостями, заставляет мечтать о несбыточном. Но мама возлагала большие надежды на мое будущее. У ее брата были связи. Мы беседовали о том, как я поеду в Париж и начну учиться создавать театральные костюмы. Брат жил в Париже и знал владельца театра. Он готов был оплатить мне проезд и поговорить обо мне со своим знакомым. После этого все зависело бы только от моих стараний.
Женевьева взяла его ладонь. На пальцах чувствовались следы от крошечных порезов, некоторые стерлись, некоторые казались совсем свежими. Маленькие клочки омертвевшей кожи.
Жесткие мозоли. Ей хотелось помассировать его пальцы питательным дорогим кремом «Д'Орсэ», чтобы они снова стали мягкими и гладкими, хотелось перецеловать каждый палец.
— Мой отец ничего не желал об этом слышать. Думаю, он презирал маминого родственника и возможности, которыми тот обладал. Он терпеть не мог, когда приезжал дядя, не выносил его элегантные костюмы, роскошные ботинки из лакированной кожи — весь ореол богатства, который окружал родственника. Думаю, он чувствовал себя неполноценным на его фоне. Но отец был болен, мы знали это. Мы видели, что силы постепенно покидают его. Это ужасно, когда желаешь смерти собственному отцу, Женевьева.
— Я знаю.
Он ни разу не взглянул на нее, рассказывая свою историю, но теперь, наконец, пристально посмотрел ей в глаза. В этом взгляде она прочла понимание.
— Я знал, что моя жизнь по-настоящему не начнется, пока он не уйдет. А он скрипел и скрипел, как его собственные вечные ботинки. Но однажды он умер, и я уехал в Париж. Мне было двадцать четыре, я был жаден до жизни, ты и представить себе не можешь.
— Ты так считаешь?
Закари снова взглянул на нее и улыбнулся. Эта улыбка преобразила его лицо, сделала его ласковым и нежным, словно теплый лучик солнца коснулся ее щеки.
— Поначалу у меня неплохо шли дела в театре. Я работал над костюмами, строчил швы и красил ткани, вскоре мне позволили сделать несколько собственных моделей. Мои костюмы были отлично выполнены. Но все дело испортили туфли, и карьера театрального костюмера рухнула, не успев начаться.
— Ты сделал плохие туфли?
— Наоборот, мои туфли оказались слишком хороши. Они отвлекали внимание зрителей от представления. Порой туфли получали больше отзывов, чем спектакли. Меня просили сделать их менее заметными, не привлекающими внимания. А когда я отказался, меня уволили.
— И что было потом?
— Я уже знал, чего хочу, мне надо было найти место, где я смог бы создавать свои туфли. Открыть собственное дело.
Я написал дяде, и он одолжил мне немного денег. Я занял еще денег у пары богатых людей из театральной среды, которым так понравились мои туфли, что я получил от них несколько заказов. И конечно же Ольга тоже очень помогла мне.
Ольга, сидящая за конторкой в магазине с выражением восковой куклы на лице…
— Сначала я ютился в одной крохотной мастерской с еще тремя дизайнерами. Трудно было понять, как я вообще смогу заявить о себе, мое творческое развитие шло невыносимо медленно, но в конце концов люди начали говорить о моих туфлях, заказчики потекли ко мне. Наконец я смог купить собственное помещение для магазина. Именно так. Дела шли все лучше и лучше, у меня появились заказы от женщин, имеющих влияние в обществе…
Женевьева вспомнила черный автомобиль «ли-фрэнсис».
— Мои туфли стали знаменитыми, я переехал в модный квартал. — Закари повернулся и взглянул на нее. — Итак, теперь ты все знаешь. Не было никаких калабрианских волков, младенца в корзине, кровной мести.
— Паоло.
— Я никогда никому об этом не рассказывал, Женевьева. — Он придвинулся ближе и нежно коснулся губами ее лица. — Только ты и Ольга знаете мою историю. Это правда.
— Я тоже хочу кое-что рассказать тебе, то, что я никогда не рассказывала своему мужу.
— Именно поэтому ты хочешь рассказать это мне? Потому что никогда не говорила ему?
Вместо ответа она поцеловала веснушку у него на шее. А затем принялась рассказывать о дне школьных фотографий и о том, что произошло дальше.
«Бентли» стоял около отеля уже минут двадцать. Роберт сидел, спрятав лицо в ладонях, и не говорил ни слова.
— Роберт? — послышался спокойный и ровный голос Фелперстоуна. — Я могу называть вас просто Роберт?
— Нет, не можете.
— В ситуациях, подобных этой, лучше всего сразу брать быка за рога, если можно так выразиться.
— Ее там нет. Я не могу в это поверить.
— Ну и где же она тогда? И почему вы все-таки согласились приехать сюда?
— Сэр? — окликнул Пьер с водительского сиденья. — Мы должны переставить машину.
— Вы что, получаете от этого удовольствие? — Роберт изо всех сил прижал кулаки к глазам. — Должно быть, вы повидали немало несчастных олухов, которые ловили своих жен на месте преступления! Никогда не задумывались о том, чтобы продавать билеты на это шоу?
— Роберт, я действительно думаю… — начал детектив.
— Сэр, — предупредил Пьер. — Сюда идет швейцар.
— Хорошо! — Роберт открыл глаза. — Я согласен, мы войдем. Пьер, пожалуйста, поставьте машину как можно ближе и подождите нас. Я не знаю, сколько мы там пробудем.
Из окна своей спальни Женевьева Сэмюэл разглядывала снег на траве, любовалась цветущими крокусами, а затем наблюдала за их увяданием, потом появились одуванчики, а вскоре расцвели розы в саду ее матери. Она читала Генри Джеймса, Д.Х. Лоуренса, Эмиля Золя (ее родители, абсолютно не разбиравшиеся в литературе, полагали, что это поможет улучшить ее французский). И конечно же Vogue. Она неистово и честно выложила всю правду в своем дневнике, а затем однажды ночью спалила его в камине, опасаясь, что кто-нибудь прочитает ее записи. Женевьева тосковала по общению с миром за пределами домашних стен, но могла подумать лишь о том, чтобы написать Ирэн Николас. Потом она представила, что получит в ответ детальный отчет из жизни школы и сообщения о последних романах, и ее душу наполнило уныние.
Она думала о мистере Джилсе, о том, что тот, возможно, нашел более юную и наивную девушку. А затем изгнала его образ из своих воспоминаний, не в силах более выносить мыслей о его руках, ласкающих ее тело, его губах, впивающихся в ее губы. Ее мутило от понимания того, что он использовал ее.
Женевьева не видела людей. Слугам было приказано приносить еду на подносе, стучать в дверь и оставлять поднос снаружи. Ее комнату прибирали, застилали постель каждое утро, пока она была в ванной. Для всех вокруг была придумана история о том, что Женевьева «серьезно больна». Большинство слуг, друзья семьи и местные сплетники считали, что у нее туберкулез. В детстве она часто простужалась и кашляла. Другие полагали, что, возможно, это «нервное расстройство».
— Потерпи. — Доктор Петерс записал ее давление и принялся складывать инструменты в свой черный саквояж. — Осталось несколько месяцев.
— Вы правда ничего не знаете? — спросила Женевьева, откинувшись на подушки.
Доктор Петерс вздохнул.
— Тебе невероятно повезло.
— Повезло? — Она обхватила руками раздувшийся живот. — Это становится забавным. А что касается бедной малютки, которая растет вот здесь…
Доктор присел на край кровати, взял ее ладонь и сжал в своих руках.
— Мы уже говорили об этом. Кто захочет взять в жены женщину с чужим ребенком?
— Меня это не волнует. — Она отдернула руку, не в силах вытерпеть его вялое и потное прикосновение.
— Это очень милая пара, — сказал доктор Петерс. — Возможно, тебе будет легче, если ты познакомишься с ними. Я могу привести их в следующий раз, когда приду проведать тебя…
— Нет!
Доктор пожал плечами:
— Как пожелаешь.
— Я мечтаю умереть, — заявила Женевьева. — Мне кажется, это единственный способ вырваться отсюда на свободу.
— Не говори ерунды. — Он захлопнул саквояж. — Побольше отдыхай, у тебя повышенное давление.
— Он мой.
— Что? — Он встал.
— Ребенок. Я не отдам его.
Доктор надевал пальто.
— У тебя еще будут дети, Женевьева.
Мать каждый день приходила посидеть с ней пару часов, бессмысленно болтала о каких-то людях из деревни, которых Женевьева не знала. Поначалу она пыталась запомнить имена, чтобы скучные истории обрели хоть какой-то смысл, но затем бросила это занятие, позволила голосу матери омывать ее. Она смотрела на маму, чувствуя, как ей противна эта вечно сжимающая горло рука, подергивающиеся и постоянно постукивающие об пол ноги, беспокойные, выпуклые, пустые глаза.
«Я сделаю все возможное, чтобы моя жизнь не стала такой же, как у нее», — убеждала она себя. И вдруг поняла, что уже это сделала.
Отец никогда не приходил к ней.
Живот раздулся до огромных размеров. У нее болело под ребрами, ломило поясницу. Ее мучила изжога. Ребенок кувыркался, прыгал, толкал ее изнутри, затем стал давить на нервные окончания, отчего через все тело проходила острая боль, подобная ударам электрическим током, она вздрагивала и тяжело переводила дух. Но эта безумная активность внутри ее тела компенсировала недостаток общения с окружающим миром. Ей нравились каждое нежное похлопывание изнутри, каждый удар, каждый приступ боли. Она жаждала взять на руки своего малютку, кормить его, смотреть, как он спит, слышать его плач. Никогда раньше она не испытывала такой любви. Физической, страстной, всепоглощающей. Если потребуется, она все отдаст за это крошечное создание. Она без колебаний умрет за своего ребенка.
Но, несмотря на горячность и кажущуюся непокорность, Женевьева никогда не задумывалась о побеге. В мечтах о сохранении ребенка она полагалась на помощь отца. Жизнь без финансовой поддержки папы была невозможна. Она надеялась, что сумеет изменить его решение насчет ребенка.
Доктор Петерс приходил каждую неделю. Он стал главной фигурой в тайном сговоре по похищению ребенка, но иногда Женевьева чувствовала проблески сочувствия, исходящие от него. Каждый раз, когда он появлялся в ее комнате, Женевьева рыдала и кричала в приступе сильного гнева, угрожая выброситься в окно, взывала к нему, как к врачу, богобоязненному человеку и отцу. Разве справедливо и человечно, спрашивала она, запереть беременную женщину в комнате на шесть месяцев, а затем украсть ее ребенка?
— Ты сама согласилась на это, — настаивал доктор. — Я был в комнате, когда ты сказала, что хочешь этого.
— Я не понимала, на что соглашаюсь. Я испугалась.
— Ты ведешь себя неразумно.
— Вовсе нет.
Лучшее, чего она смогла добиться от доктора Петерса (которому наверняка было гарантировано крупное вознаграждение от ее отца), — это вымолить у него обещание поговорить с отцом, чтобы тот разрешил ей гулять в саду, когда поблизости не будет слуг. Разрешение было получено, и несколько коротких недель она бродила по дорожкам, вдыхая полной грудью свежий воздух, выдыхая свою печаль с легким ветерком, пока ее ноги не стали опухать и не поднялось давление. К тому времени ей был предписан постельный режим, окружающий мир снова превратился в однообразный вид из окна.
Две недели спустя у Женевьевы начали медленно отходить воды. Время от времени она ощущала легкие схватки внизу живота, отчего ей хотелось замереть на месте и глубоко дышать. Она знала, что это уже началось, но пыталась притвориться, что ничего не происходит. До тех пор пока ребенок находился в ее животе, он принадлежал только ей.
Через пару часов схватки стали выжимать ее, они длились около минуты, в это время она хватала воздух ртом, как выброшенная на берег рыба. Наступил поздний вечер. Мать, должно быть, уже отправилась спать. А отец сидел в гостиной в халате и читал. Когда-то давно она садилась с другой стороны камина, они время от времени поглядывали друг на друга и улыбались. Но теперь все изменилось.
Женевьева с трудом выползла из комнаты, прошла по коридору и стала спускаться по лестнице, хватаясь за перила, когда схватка скручивала ее внутренности, затем сбежала со ступенек как можно быстрее, пока ее не настигла новая волна боли. Она заметила полоску света, пробивающуюся из-под двери гостиной, и резко распахнула ее.
Женевьева уже дошла до середины турецкого ковра, с трудом перевела дух, ее волосы и лицо были мокры от пота, когда он взглянул на нее поверх своих полукруглых очков.
— Дженни, и о чем ты только думала, когда шла сюда? Тебя никто не видел? И Что это у тебя за вид?
— Ты не заберешь моего ребенка!
Он поднялся из кресла, но не посмел приблизиться к ней.
— У тебя жар? Ты должна лечь в постель.
— Я не отдам своего ребенка. — Она дико закричала, когда сильная схватка окатила ее, словно волна.
Лорд Тикстед схватил телефонную трубку.
— Доктора Петерса, пожалуйста. Саутминистер 223. — Он обернулся к Женевьеве: — Сядь же, ради бога. Постарайся успокоиться и не шуметь. — Затем он заговорил в трубку: — Найджел, вы должны немедленно приехать. Она… да.
— Папа.
Отец положил трубку.
— Отправляйся в постель, я приведу твою мать. Господи, зачем только ты пришла ко мне?
Она почти полностью выбилась из сил. Незнакомая женщина протирала ее голову полотенцем, распространявшим запах нашатырного спирта. Они пытались уложить ее. Но стоило прилечь, как ей становилось хуже. У нее было такое чувство, что волны захлестывают ее, и она никак не может удержаться на поверхности. Хотелось наклониться вперед и ухватиться за столбики кровати, но они продолжали укладывать ее, эта женщина с отвратительным полотенцем и доктор Петерс с жалостливыми глазами. Иногда она замечала, как открывается дверь и на пороге возникает фигура матери со скрещенными руками. Но мама не решалась войти в комнату, продолжала появляться и вновь исчезать, словно призрак.
— Выпей воды, — велел доктор. Но когда Женевьева попыталась взять стакан, еще одна схватка обрушилась на нее, и она с силой отшвырнула стакан, торопясь вцепиться в столбики кровати.
— Очаровательно, — послышалось бормотание незнакомой женщины.
— Убирайся, ведьма! Ты не нужна мне!
— Восхитительно, — произнесла женщина чуть громче.
Доктор и повитуха снова попытались отцепить ее руки от столбиков кровати, как вдруг целый сноп искр боли посыпался из нее, и она изо всех сил сжала чью-то руку.
Раздался женский визг, кто-то ударил ее по лицу, затем еще и еще раз, искры исчезли, она наконец выпустила чью-то руку и рухнула на подушки.
— Эта маленькая мадам сломала мне пальцы!
Она наблюдала, как женщина протянула руку доктору, тот внимательно осмотрел ее. Рука неестественно растянулась, словно была сделана из расплавленной ириски.
— Доктор Петерс… — Женевьева попыталась закричать, но голос более не подчинялся ей. Доктор по-прежнему занимался рукой повитухи. Его голова росла и снова сжималась, пульсировала, становилась жидкой. Стены надвигались. Что-то изверглось у нее между ног. — Помогите мне.
Женевьева открыла глаза и увидела облака за окном. Она попыталась приподнять голову, но та оказалась слишком тяжелой. Веки были словно налиты свинцом, ей приходилось бороться, чтобы держать глаза открытыми. Она услышала, как ее мать беспрерывно что-то бормотала, жужжа, словно большая муха.
— Я сказала Одри: «А почему нет?» Она ответила: «Дороти!» Она сказала: «Я не могу, просто не могу!»
Сцена уплыла из ее сознания.
Теперь в кресле рядом с ее кроватью сидел отец, читал «Тайме». Нет, этого просто не могло быть, ведь правда? Она закрыла глаза, затем снова открыла их. Но он по-прежнему сидел здесь, его губы слегка шевелились во время чтения.
— Папа?
Он отложил газету.
— Женевьева. Как ты себя чувствуешь?
Она с трудом пошевелила руками, пытаясь под простынями нащупать живот. На ощупь он напоминал наполовину сдувшийся шарик. Внутри все было спокойно.
— Где мой ребенок?
Отец поднялся, подошел к двери и крикнул:
— Дороти? Она очнулась!
Женевьева услышала, как мать торопливо поднимается по лестнице. Лорд Тикстед снова уселся в кресло, скрестил руки на груди, нахмурился.
— Итак, ты снова с нами. — Он положил ногу на ногу. На нем были бежевые тапочки, которые Женевьева терпеть не могла.
— Я хочу увидеть своего ребенка.
— У тебя сильно поднялось давление! Тебе чертовски повезло, что ты осталась жива.
— Я… не помню…
— Это из-за морфия.
— Папа…
Он издал странный свистящий звук и втянул щеки. Именно так он всегда делал в трудные моменты.
— Ребенок умер, Женевьева. Возможно, это к лучшему, все разрешилось само собой.
Теперь мать хотела обнять ее. Но уже невозможно было что-то исправить.
Ей сказали, что родилась девочка. Когда она попросила показать ребенка, ответили, что малышку уже похоронили. Уже! Могила осталась неизвестной, во избежание огласки. Она назвала девочку Жозефиной, но никому не сказала об этом. Женевьева вырезала имя на стволе дуба, росшего на кладбище.
Ее обучение было завершено дома под присмотром гувернантки. Директриса пансиона никогда не позволила бы вернуться после того, что произошло, а родители не желали, чтобы она училась в другом пансионе. Они хотели держать ее там, где можно было бы за ней присматривать.
Истории о туберкулезе и нервном расстройстве так и преследовали Женевьеву. Теперь она время от времени совершала прогулки в деревню, но старалась делать это незаметно и редко. В основном она оставалась на территории поместья. Все вокруг, в том числе и ее родители, относились к ней, как к инвалиду, не позволяли длительных пеших или велосипедных прогулок, заставляли укутывать ноги, когда она выходила посидеть в саду, тихими голосами переговаривались о ее «слабом здоровье». Похоже, теперь они сами поверили в выдуманную историю. Да она сама почти в нее поверила.
Женевьева коротала дни за чтением книг и журналов и писала стихи. Литература стала смыслом ее жизни. Все больше и больше она читала о Париже и о богемной жизни Монпарнаса. Французам нет дела до пуританской морали англичан. В Париже вы можете быть тем, кем вам заблагорассудится.
Она начала коллекционировать туфли, заказывала их по каталогам и получала из «Хэрродса». Туфли казались прекрасными, чувственными созданиями. Они незаметно притягивали внимание к изящному подъему ступни, утонченной лодыжке и заставляли взгляд скользить дальше по ноге. Туфли связывали человека с миром, вы гуляли в них, вы танцевали в них. Без туфель вы не могли выйти из дома. Следы на их подошвах были ясным свидетельством бурной жизни.
Но Женевьева никогда не надевала свои туфли.
За ужином она наблюдала, как мать откусывает маленькие кусочки и тщательно пережевывает их, как отец методично работает челюстями. Она ненавидела их движения. Ее раздражала манера отца откашливаться, прежде чем начать говорить о чем-то. Она терпеть не могла привычки матери подолгу вертеть в руках салфетку, возиться со своими волосами или вышивкой на рукавах, бормоча время от времени себе под нос, чтобы показать, что она внимательно слушает, даже если на самом деле не слушала собеседника. Женевьеву злило, когда мать, незаметно опрокидывая стаканчик, думала, что никто об этом не догадывается. Она ненавидела отца за бессмысленное хвастовство и за то, что тот был убежден: все окружающие относятся к нему с невероятным уважением. Она ненавидела их обоих за то, что они с ней сделали, и за то, что долгие годы делали со своей жизнью. Она молча ела, глядела на свои запястья и ладони, такие бледные и хрупкие.
Чем больше было ужинов, тем больше ненависти зрело в ней. Долгие годы ненависти. И вот однажды лорд Тикстед пригласил к ним в дом молодого американца, с которым познакомился в своем клубе. Женевьева поняла, что судьба дает ей шанс.
Роберт сделал фиктивный запрос о свободных номерах и ценах на них, чтобы отвлечь служащего за конторкой, а Фелперстоун незаметно заглянул в список постояльцев.
— Эта парочка определенно зарегистрировалась под вымышленными именами, — заявил Фелперстоун, когда они направились в сторону овального внутреннего дворика по отполированному паркету холла. Двадцать номеров отеля располагались вокруг овального дворика, занимая шесть этажей. С того места, где молча застыл Роберт, можно было увидеть все шесть уровней до стеклянной крыши и через нее взглянуть на синеющее выше небо.
Роберт остановился.
— Ну и как вы узнали, что это именно они?
— Очень легко. — Фелперстоун был доволен собой. — Ясно, что список был составлен заранее служащим, который дежурил вчера. Там одна запись сделана другим почерком, есть едва уловимые различия в оттенке чернил, возможно, их записал утренний служащий, когда они приехали без предварительного бронирования номера. Здесь есть еще приписка, что номер был оплачен сразу наличными. Это определенно они. — Сейчас Фелперстоун чувствовал себя как рыба в воде. Он распрямил плечи, жадный горящий взгляд делал его похожим на дикого зверя, готового прыгнуть и растерзать добычу.
У Роберта подгибались колени, его начало сильно мутить, когда они вошли в лифт. Фелперстоун попросил служащего отвезти их на третий этаж, а затем отвернулся, предоставив Роберту рыться в кармане в поисках мелочи и жалеть о том, что согласился прийти сюда.
Закари играл с прядями Женевьевы, перебирал их, натягивал так, что они превращались в одну прядь, расчесывал их пальцами.
— Я никогда не видела ее. Они сказали, что похоронили ее в безымянной могиле. Но я даже холмика не нашла. Это не дает мне покоя, я все время думаю, что же произошло на самом деле?
— Ты думаешь, она жива?
— Возможно. Они могли сказать мне, что она умерла, чтобы я не помешала им отдать ее.
— Ты могла бы попытаться найти ее. — Он все еще играл с прядью ее волос.
— Как?
— Ты могла бы спросить своего отца.
— Он никогда не скажет мне правду.
Закари поцеловал ее обнаженное плечо.
— Ну, тогда у доктора.
— Я ничего не добьюсь от него. Ему слишком хорошо заплатили.
— Но твой отец не единственный богатый человек.
— Да.
Он отпустил ее волосы.
— Это так не похоже на тебя, бояться правды.
— Но я боюсь. Боюсь убедиться в том, что она действительно умерла. Пока я не знаю этого точно, есть шанс, что она жива. — Женевьева смотрела мимо него в окно, на ясное небо. — Здесь есть еще кое-что. Возможно, она умерла не так, как они мне рассказали.
Его глаза сузились.
— Ты считаешь, что они могли так поступить?
— Я не знаю, и это мучает меня.
Глухой звук, раздавшийся снаружи, заставил обоих вскочить. Казалось, кто-то неожиданно стукнул в стекло, но, посмотрев наверх, они заметили полоску птичьего кала, упавшего на стекло.
— Теперь ты ненавидишь меня. — Она подогнула колени к груди и свернулась калачиком. — Не стоило рассказывать тебе об этом.
Но его рука коснулась ее затылка, лаская нежную кожу.
— Не думай об этом. Ты была молоденькой девушкой, ввязавшейся в приключение, которое разрушило всю твою жизнь.
Она медленно выпрямилась.
— И что мы теперь будем делать, Паоло?
— Мы? Я думаю, нам надо встречаться как можно чаще и заниматься любовью.
— А что потом? Что с нами будет?
— Я не знаю. — Он прижался губами к ее ладони. — Нам не дано этого знать, правда?
— Я поделилась с тобой своим секретом, — прошептала Женевьева. — Я хотела, чтобы ты еще глубже вошел в мой мир. Я хотела полностью открыться перед тобой. Теперь я абсолютно беззащитна.
— Ты хочешь получить от меня что-нибудь взамен?
Она подумала о длинных рядах колодок в его мастерской.
— Я хочу, чтобы ты больше не встречался с другими женщинами. Я хочу, чтобы ты был только мой.
Он расхохотался.
— А как насчет тебя? Как твой муж?
— Я уверена, что он ничего не узнает.
Закари приподнял брови.
— Значит, я должен пообещать, что не стану видеться с другими женщинами, но ты будешь продолжать спать со своим мужем?
— Вовсе нет. Я завершаю эту сторону своего брака. Я больше не собираюсь спать с ним.
В коридоре послышались какие-то звуки. До них донеслись приглушенные голоса.
И вдруг послышался другой стук, на этот раз в дверь.
Роберт стоял перед дверью комнаты 32, пытаясь не думать, что происходит сейчас за ней. Он дрожал с головы до пят.
— Вперед, — настаивал Фелперстоун.
— Я не могу.
— Господи. — Детектив потряс его за плечо. — Будьте мужчиной. Идите туда и задайте этому типу хорошую взбучку.
— Вы женаты, мистер Фелперстоун?
Фелперстоун в ответ презрительно фыркнул.
— Я слишком много повидал, мой друг. Теперь я уже никогда не смогу доверять женщине.
Рука Роберта застыла над дверной ручкой.
— Тогда вы, возможно, не в состоянии понять, что я сейчас чувствую. — Сжав кулак, он резко постучал в дверь.
— Там кто-то есть, — заметила Женевьева. — Как ты думаешь, что им надо?
— Не обращай внимания. Должно быть, ошиблись комнатой.
— Ты сделаешь это для меня, Паоло? Ты оставишь других женщин?
— Хватит разговоров. Оставим их на потом. — Взяв ее за плечи, он прижал ее к подушкам.
— И зачем вы это делаете? — Фелперстоун был просто вне себя от злости. — Вы предупредили их. Теперь они торопятся одеться.
Роберт все еще сжимал кулаки.
— Я хочу, чтобы они оделись. — Он снова постучал.
— Они все не уходят, — заметила Женевьева, когда послышался второй стук в дверь. Но он уже лежал на ней, он пронзал ее, и она не желала, чтобы он останавливался.
Дверная ручка задергалась.
— Дверь заперта? — прошептала она.
— Не помню. Мне все равно.
— Заперто. — Роберт не мог скрыть облегчения. Возможно, это всего лишь огромная ошибка, и в комнате вообще никого нет.
— Отойдите в сторону, сэр. — Фелперстоун отодвинул его от двери.
— Что вы собираетесь делать?
— Надо ударить посильнее чуть-чуть ниже дверной ручки. — Фелперстоун сделал два шага назад, делая разминку. — Люди с разбегу выбивают дверь плечом, но часто дело заканчивается синяками, а дверь по-прежнему остается закрытой.
— Не делайте этого, — тихо произнес Роберт.
Но детектив врезался в дверь одним молниеносным и точным ударом.
Дверь распахнулась.
Они лежали рядом на постели, абсолютно одетые. У маленькой женщины в левом виске зияло пулевое отверстие. У мужчины была точно такая же рана, но с правой стороны. Бельгийский револьвер двадцать пятого калибра валялся на полу, куда его, должно быть, уронили. Мужчина и женщина держались за руки, их ноги были босыми. На предплечье мужчины была ясно видна татуировка в виде черепа. У женщины была точно такая же татуировка на левой ступне. Их туфли стояли около кровати.
Гарт Крэйн позже напишет элегию памяти Гая Монтерея под названием «Облачный обманщик». Это была его последняя опубликованная работа, потом он покончил жизнь самоубийством. Эдвард Эстлин Каммингс, американский поэт, написал эпитафию:
«Спите спокойно, бостонские куклы, которых нашли с дырками в головах».
— Слава богу. — Роберт не помнил себя от радости. Несмотря на кровавую бойню, которую они обнаружили, он почувствовал облегчение. Женевьевы здесь не оказалось. Он расстегнул воротничок.
Фелперстоун вернулся к разбитой двери и как следует вытер дверную ручку большим белым носовым платком, но затем, заметив, что Роберт вот-вот усядется на стул, кинулся вперед с криком: «Ничего здесь не трогайте!»
Роберт с трудом проглотил подкативший к горлу ком.
— Лучше я спущусь в холл и попрошу кого-нибудь вызвать полицию.
— Нет! — Детектив вытер пот со лба и запихнул платок обратно в карман.
— А что вы предлагаете?
— Мы как можно быстрее уйдем отсюда.
Роберт еще раз взглянул на тела. Странно, здесь совсем не было крови. Несмотря на насильственную смерть, эта пара казалась безмятежной. Более безмятежной или же, в конце концов, более настоящей, более живой, чем его отец в гробу, когда устроители похорон привели в порядок его лицо.
— Сэр. — Фелперстоун схватил его за руку. — Вам не следует ввязываться в подобные неприятности. Это повредит человеку вашего положения.
— Бедные люди, — произнес Роберт.
— Я убью этого чертова Канна, — прорычал Фелперстоун.
Тела Гая Мотерея и Элизабет Лейшестер (известной по имени Шепот) были официально обнаружены как раз перед полуднем четырнадцатилетней горничной, которая раньше никогда не видела мертвых. Ее пронзительный крик отразился от стеклянной крыши овального дворика и разнесся по рю де Бёю-Ат. Люди останавливались и пристально разглядывали изящный Серый фасад отеля «Эльзас», переводили взгляд на каменную голову овна над главным входом, а затем пожимали плечами и шли своей дорогой.
Этот крик был достаточно громким, чтобы долететь до отеля «Лютети», расположенного рядом на бульваре Распай, где Женевьева Шелби Кинг и Паоло Закари во второй раз за утро занимались любовью за запертой дверью.
Глава 7 КАБЛУЧОК
«Дорогой сэр,
Вы не находите, что с недавних пор Ваша жена слишком много времени проводит в магазине туфель?
Доброжелатель».
— Давай уедем из города на пару недель. — Роберт поставил поднос с завтраком на тумбочку рядом с кроватью Женевьевы и придвинул стул. — Мы могли бы прокатиться до Сен-Тропе.
— Это так необходимо? — Женевьева выставила напоказ свою ночную рубашку, изо всех сил стараясь казаться изнуренной.
— В городе слишком душно, дорогая. Это вредно для малыша. Кто бы мог подумать, что в этом сыром, сером городе может быть так чертовски жарко в августе?
— Мне становится плохо при одной мысли о поездке.
— Ну а как насчет Довиля? Ты ведь сможешь вытерпеть короткую поездку, правда? Я уверен, свежий морской воздух пойдет тебе на пользу. — Он взял газету и принялся шуршать страницами, просматривая ее.
— Если бы ты только знал, как плохо я себя чувствую. — Она откинулась на подушки и закрыла глаза. — Мне необходим домашний уют. Ты можешь это понять?
— Конечно, любовь моя.
— И унеси, пожалуйста, этот поднос. Меня тошнит от запаха бекона. — На самом деле блюдо пахло бесподобно. Она с превеликим удовольствием съела бы его в один момент, но это не соответствовало ее истории об утренних головокружениях и тошноте.
— Не съешь ли ты хоть немного? — Он неохотно встал и взял поднос. — Ты должна есть.
— Я съем что-нибудь чуть позже, когда мой желудок успокоится.
Он уже подошел к двери со своим подносом.
— Может быть, пригласить врача, чтобы он осмотрел тебя?
— Нет!
Это восклицание прозвучало как-то неестественно громко. Он в недоумении посмотрел на нее.
— В этом нет необходимости, спасибо, дорогой. Тошнота — обычное явление во время беременности.
Когда Роберт вернулся с чашкой кофе, Женевьева просматривала его газету.
— Боже мой!
— Что случилось, милая?
— Он действительно сделал это!
— Кто и что сделал? — Но, усаживаясь на стул, он уже знал, что она сейчас скажет. Он уже успел прочитать заметку.
— Гай Монтерей и Шепот, здесь сказано, что они покончили жизнь самоубийством два дня назад, в отеле «Эльзас»! Господи, ведь именно там умер Оскар Уайльд. Ведь на той вечеринке он бесконечно говорил об Оскаре Уайльде.
— Так ты знала его? Этого мертвого парня?
— Ну, совсем немного. — Она все еще просматривала газету. — Он приятель Лулу и тоже финансировал журнал. Он как-то заявил, что у него соглашение со смертью, ах да, видишь, что здесь написано? У него была татуировка в виде черепа. И похоже, у нее тоже была такая.
Господи, пусть она перестанет говорить об этих татуировках… Он не в силах смотреть ей в глаза.
— У меня от него всегда по спине бежали мурашки. Было в нем что-то странное… Люди считали это забавным. Ну, ты понимаешь, эксцентричный поэт, и все, что с этим связано. Всем казалось, что он говорит эти вещи, чтобы создать вокруг себя ореол драматичности, чтобы казаться более интересным, забавным или что-то в этом роде. Но я боялась его. Над лестницей в его доме висел скелет в плаще, у которого изо рта торчал презерватив. Тебе это кажется нормальным, Роберт?.. Роберт?
— Прости. Я тороплюсь на работу. Пожалуйста, подумай еще раз над моим предложением о поездке. Я понимаю, что тебе нелегко, но…
— О боже! — Женевьева судорожно сжимала горло. — Должно быть, они прямо из полицейского участка отправились в отель и сделали это! На самом деле я удивлена тем, что для него драка с владельцем «Ротонды» имела такое значение. Из всех причин, которые могли довести человека до отчаяния, эта самая банальная. Интересно, они оба покончили с собой или один убил другого, а потом сам застрелился? Как действует соглашение со смертью?
— Только… Женевьева… В последнее время я немного переутомился и действительно чувствую…
— Переутомился? — Она отложила газету. На ее лице возникло странное выражение.
У него появилось чувство, что он не единственный, у кого есть секреты. Но он сам втянул себя в эти неприятности, правда? Всему виной беспочвенные подозрения насчет жены. Он закрыл глаза, и перед его мысленным взором снова всплыли два трупа, аккуратно лежавшие на постели с дырками в головах.
— Что случилось? — спросила она.
— Ничего особенного.
— Тогда приободрись, будь хорошим мальчиком. О, я знаю, в чем дело!
Он нервно сглотнул и слегка вздрогнул.
— Все дело в том письме, правда? — спросила она.
— Каком письме?
— Почтальон принес его полчаса назад. Я видела его в холле на столике. Письмо в сиреневом конверте. — На ее лице заиграла озорная улыбка. — Это ведь от женщины, правда, Роберт? Что за женщина пишет тебе письма?
Что можно на это ответить? Едва ли он поделится с ней своими предположениями о том, что это проделки Фелперстоуна, ожесточенно пытающегося заполучить обратно свою работу.
— У тебя появилась тайная поклонница, дорогой? Ну, давай, ты можешь поделиться со мной. Я не стану сходить с ума и ревновать тебя, я обещаю.
— Это письмо от моей сестры, — выпалил Роберт.
— От твоей сестры. — Она нахмурилась. — Но на нем была парижская марка?
— Во время перевозки конверт повредился. Один человек был так добр, что вложил его в новый конверт и переслал сюда. — Как смехотворно это звучало, даже для него. Он должен увести разговор от проклятого письма. — Женевьева, вспомни, что ты только что говорила о домашнем уюте? Я так соскучился по дому, что не могу передать словами. Мне хотелось бы, чтобы ребенок родился в Бостоне, в кругу моей семьи.
Роберт произнес эти слова, чтобы сменить тему, но едва он вымолвил их, понял, что это действительно важно для него.
— Ну что ж, — произнесла она и снова уткнулась в газету. — А ты разве не опаздываешь на работу?
— Женевьева?
— Ты только взгляни на часы, Роберт!
Паоло Закари трудился над парой туфель для Сиси де Марко Фессали, своей давней клиентки. Она была итальянкой, меценаткой и одно время слыла первой красавицей в светском обществе. Ее муж, богатый американец, купил все ее туфли у него, и делал это практически с самого начала карьеры Паоло. Последняя пара была почти готова. Держа в руках тонкую кисточку, он спокойной и твердой рукой наносил узор на шелковую поверхность туфель, их узор напоминал ему крылья бабочки. Ей нравились бабочки. Они вдвоем с мужем выходили с большими сачками и ловили их. Это было, пожалуй, единственное, что они делали вместе после тридцати лет брака. Редкие экземпляры накалывались на булавки и помещались в стеклянные футляры, на которых Сиси делала крошечные надписи на латыни. Закари перестал спать с Сиси де Марко Фессали около трех лет назад. Он продолжал делать это достаточно долго после того, как потерял к ней интерес, потому что она нравилась ему, и он не хотел обижать ее. Это была свободная дружеская связь. Когда Закари впервые познакомился с ней, она все еще была очень красива, хотя и утверждала, что давно не молода.
Ему нравилось спать с Сиси. С ней он смеялся больше, чем когда-либо в своей жизни, и занимался любовью больше, чем с кем-то еще. Она набирала в рот шампанское и вливала его по капле в его рот, скрывая его лицо в пышной копне роскошных золотистых волос. Она вдохновляла его на создание бесчисленного количества новых туфель для ее крошечных белых ножек. Именно благодаря Сиси ему удалось заполучить в качестве клиентки Марчезу Касати. И Мистингетт, и Коко Шанель. И графиню де Фремон.
Именно Сиси перевернула сексуальную страницу их отношений. Однажды в постели она слегка хлопнула его по ягодицам и по-дружески сказала: «Думаю, с нас достаточно, правда, мой сладкий? Раздевание в темноте может быть сексуальным, но это превратилось в нечто вроде необходимости».
Он начал спать с Вайолет де Фремон практически в тот же день, как расстался с Сиси. Это выглядело так, будто женщина постарше передала его более молодой. Он втайне наслаждался этой мыслью. А затем были и другие: Мадлен Дюфре, с самым высоким подъемом, который ему доводилось видеть; балерина Анна Маркова (ее ноги были ужасно неухоженны, но какое наслаждение он испытывал, наблюдая, как она двигается); принцесса Мюрье Бернар с длинными пальцами (она могла засунуть между ними карандаш и писать). Он не спал со всеми своими клиентками, вернее, спал не со всеми. Но у него лучше выходили туфли, которые он создавал для своих любовниц. Казалось, секс помогал обожествить сущность каждой женщины. Каким-то образом он научился втягивать в себя секреты физической природы и оформлять их в виде туфель.
Процесс выбора клиенток, особенно любовниц, стал чем-то вроде хобби для Закари. Он посещал самые роскошные вечеринки (Сиси или Вайолет всегда могли раздобыть для него приглашение) и тихо стоял в углу зала, наблюдая за прогуливающимися и танцующими женщинами. Чтобы стать его избранницей, недостаточно было богатства и красоты. Подобно Сиси и ее мужу, подстерегавшим в лугах ярких бабочек, притаившись в траве и держа наготове сачки, он терпеливо выискивал редкие экземпляры. Закари не боялся отвергать ничем не примечательных людей, каким бы богатством и влиянием они ни обладали. Он искал женщину с мелодией в чудесных ножках.
Его жизнь была очень проста. Они приходили и уходили, эти прекрасные леди, и улыбались ему на прощание. Он прожил пятнадцать лет в чистое удовольствие, дававшееся ему без особых усилий. Ничто не беспокоило его и не бросало ему вызова. До тех пор пока Женевьева Шелби Кинг не приняла его за лакея на приеме у Вайолет и дерзко проложила себе путь в его магазин и в его жизнь.
Резкий, неожиданный стук в дверь наверху заставил его подскочить. И все-таки, благодаря многолетней практике, он не вздрогнул и сумел справиться со своими руками. Безупречный золотой узор, нанесенный тончайшей кисточкой, был завершен без единого пятнышка и помарки. Какое облегчение, ведь любой мелочи оказалось бы достаточно для того, чтобы он выбросил туфли и вернулся к чертежной доске. Именно по этой причине его туфли были лучшими, самыми совершенными и дорогими творениями во всем мире.
Настойчивый стук повторился. Стучали дверным кольцом. Но он никого не ждал. И вообще, куда подевалась Ольга? Почему она не откроет дверь?
Он не станет обращать внимания на стук. В конце концов им надоест, и они уйдут, кто бы там ни был. Закари взглянул на лежавшую на столе книгу — многоцветная иллюстрация бабочки-адмирала, затем на туфлю, которую все еще держал в руке. В его дизайне что-то не соответствовало истине, но что именно? Он положил туфлю на пол и склонился, чтобы посмотреть на нее со стороны. Почему он не может сосредоточиться должным образом? Его внимание, обычно кристально чистое, сегодня затуманилось. Проклятая Женевьева! Это все по ее вине. Женевьева со своими требованиями и секретами. Женевьева с ее безумными глазами, страстью и удивительными мгновениями нежной ранимости.
Он должен позвонить ей прямо сейчас. Оборвать все на корню. Он должен сказать, что не позволит диктовать ему свою волю ни одной женщине. Объяснить, что он любит легкие и веселые романы, а их связь приносит слишком много проблем. Он скажет, что никогда не создаст для нее второй пары туфель. Да, он сейчас снимет трубку и скажет ей, что между ними все кончено.
Но беда в том, что она запала в его Душу. Пробралась в его черепную коробку, влезла к нему под ребра. Именно поэтому он не спал ни с одной женщиной с того первого вечера, который они провели вместе (он не скажет ей об этом, она и так получила достаточно власти над ним). Как бы ему хотелось не испытывать к ней таких чувств. Жизнь становилась запутанной и сложной. Именно поэтому он должен все оборвать, вернуться к прежней жизни.
Ее туфли, конечно, уже были готовы. Они ждали своего часа в запертом буфете. Возможно, это самая удивительная пара, какую ему довелось создать. Как жаль, что они никогда не увидят свет солнца.
Отложив кисточку, он отправился вверх по лестнице. Но когда снял трубку, стук повторился вновь. Кто-то отрывал дверное кольцо. Рассвирепев, Закари поспешил к двери, но вдруг замер на полпути, вытянув вперед руку. А что, если это Женевьева? Что, если она явилась с новыми требованиями?
Нет, это не она. Что за ерунду он выдумывает. Наверняка это Ольга, которая забыла ключ. Никто больше не осмелится стучать так настойчиво и дерзко.
— Паоло. Мое время пришло. — Вайолет де Фремон протиснулась мимо него и вошла в магазин, едва не сбив его с ног.
— Вайолет! Какой сюрприз. Я…
Она нахмурилась.
— Это не должно было быть сюрпризом для тебя. Я ведь записана в твоем журнале. — Она указала острым ногтем на открытый журнал.
Закари наклонился и просмотрел страницу.
— На самом деле вы не записаны на сегодня.
Графиня стукнула по журналу.
— Меня должны были записать. Я разговаривала с Ольгой на прошлой неделе. Господи, как здесь жарко. — Она вытащила пару шпилек из прически и провела рукой по волосам, распуская свои локоны, а затем расстегнула две верхние пуговицы белой блузки.
— А где же Ольга?
— Простите, но здесь, очевидно, произошла какая-то ошибка. Сегодня утром я занят.
— Вовсе нет, если судить по твоему журналу. — Вайолет наклонилась, чтобы расшнуровать спортивные туфли.
— Я работаю над новой парой.
— Ты можешь продолжить чуть позже. У тебя ведь сегодня не слишком много клиентов, не так ли? — Она расхаживала босыми ногами по его магазину с последним номером La Vie Parisienne и лениво просматривала его.
Закари поджал губы.
— Я уже сказал, что работаю сегодня утром.
Она округлила глаза.
— Да ладно, Паоло, не порть мне удовольствие. — И она направилась прямиком к лестнице. — В некотором смысле это очень даже удобно, что Ольги нет, ты так не думаешь?
— Мне очень жаль, но я сегодня никак не могу. Давайте запишем в журнале другую дату. — Он принялся выискивать подходящее время.
Вайолет замерла, улыбка исчезла с ее лица.
— Нет, так дело не пойдет. Ради того, чтобы встретиться с тобой, я отменила урок тенниса.
— Я уже сказал, что очень сожалею. — Он представил Вайолет с теннисной ракеткой в руках, вот она вскидывает ее вверх, а крепкий, загорелый тренер показывает, как правильно держать руку, и подходит к ней совсем близко, практически обнимает ее.
— Ты можешь сделать нечто большее, чем просто сожалеть. — Она улыбнулась своей соблазнительной улыбкой и вскинула голову.
И неожиданно для себя самого, наблюдая, как графиня де Фремон медленно поднимается по лестнице в его комнату, завлекающе поглаживая перила, Паоло Закари понял, что он не ловец бабочек и никогда им не был. Он сам стал бабочкой.
Женевьева слишком волновалась, чтобы долго оставаться в квартире после ухода Роберта. Все перепуталось, и она не представляла, как распутать этот клубок. Задержавшись напротив выставки оригами в стиле кубизма в окне галереи Лафайет, она взглянула на свое отражение. Огромная голова на крошечном теле, казалось, перед ней возник уродец из ярмарочного балагана. Несомненно, это стекло искажало изображения, но в тот момент Женевьеве показалось, что это отражение ее истинной сущности. Ее голова действительно казалась раздутой и опухшей. Возможно, она скоро лопнет.
Через витрину чайной Рампельмайера она завистливо посмотрела на пирожные под длинным стеклянным прилавком. Пирожные всех цветов радуги. Две модно одетые подруги (платья и туфли от ателье «Мартин») сплетничали и хихикали за кофе и десертом, сидя за столиком у окна. Женевьева словно увидела себя со стороны. Она выплескивала неприятности подруге, глядя, как та понимающе приподнимает брови и улыбается неуловимой улыбкой. Не беспокойся, шери. Держись, Лулу, и все будет в порядке. Они произносили специальный тост и съедали по пирожному, какой бы любовник ни бросил Лулу. Лулу добавляла бренди в кофе и рассказывала о своей последней шальной выходке, они смеялись утро напролет, и каким-то образом все налаживалось само собой.
Пройдя ниже по течению реки, Женевьева заметила рыбаков. Они сидели на берегу, растянувшись в длинную линию, но каждый был чрезвычайно одинок.
У тебя есть только два пути. Голос, прозвучавший в ее голове, снова напомнил ей Лулу. Первый: забеременеть и отправиться с Робертом в Бостон. Второй: разыграть выкидыш и убедить его остаться в Париже. Заботиться о своем браке с тем усердием, с каким твоя мать ухаживала за своим розарием, но спокойно продолжать роман с Паоло. Глядя на воду, Женевьева снова и снова прокручивала варианты будущего в голове. Первый казался абсолютно непривлекательным. Да и второй выглядел отвратительным.
На Иль-Сен-Луи приглушенные голоса что-то бормотали из-за окруженного стенами внутреннего дворика. Кошка грелась на солнышке. Привлекательный молодой человек сидел развалившись на стуле у окна первого этажа и читал. Когда она взглянула на него, он улыбнулся и помахал ей рукой, будто они были старыми приятелями. Женевьева подняла руку, чтобы помахать в ответ, не понимая, зачем делает это. И, только покинув остров, вдруг поняла, что раньше уже видела этого паренька. Это был бармен из отеля «Ритц».
Воспоминание о «Ритце» навеяло ностальгию по первым дням замужества. Неоформившиеся отношения казались замечательным материалом для будущего творения. Тогда она искренне верила, что сможет превратить их во что-то интересное. Теперь ей придется изрядно потрудиться, чтобы убедить себя в том, что это еще возможно.
Свернув на Иль-де-ла-Сите, она вошла в Нотр-Дам через южный трансепт, под высеченной картиной жизни и мученичества святого Стефана. Савл, холодная и одинокая фигура, стоял и наблюдал, как побивают камнями Стефана.
Нотр-Дам всегда пугал Женевьеву. Он казался ей мрачным, напоминал пещеру. Это место было населено призраками. Но нигде более она не чувствовала себя так спокойно и безмятежно. Здесь можно было долго и неподвижно сидеть, теряя представление о времени и не ощущая, утро сейчас или вечер. Только здесь можно было выделить один-единственный голос, которому мешала какофония других голосов, пытавшихся перекричать друг друга в ее сознании.
Но сегодня у Женевьевы не нашлось времени для раздумий. Не успела она присесть, обратила внимание на двух женщин в черном.
Они медленно брели к алтарю, держа друг друга под руку. Казалось, они опираются друг о друга. Со стороны это выглядело так, что ни одна из них не сможет обойтись без помощи другой, хотя они не были немощными или слабыми и не казались старухами. На одной была шляпа с широкими полями, которая скрывала ее глаза, голову другой женщины покрывал шарф. Что-то угнетало этих женщин, какая-то общая тоска. Они остановились рядом с Женевьевой, чтобы зажечь свечу. Женщина в шляпе бросила монету в коробку, ее компаньонка зажгла свечу и поставила ее вместе с остальными. Затем она отбросила шарф на плечи, и Женевьева неожиданно поняла, кто эти две женщины.
— Августа! — Имя эхом разнеслось вокруг, громко и пронзительно прозвучало сквозь гул богослужения и бормотание туристов.
Женщины обернулись, их лица были бледны, глаза покраснели. Где-то плакал ребенок.
— Что случилось? — Но она тут же поняла, что сказала глупость, едва слова сорвались у нее с губ. — О нет. Норман…
— Глупый человек. — Августа терла глаза. — Он уверял нас, что ему осталось пять лет жизни. Он так часто повторял это, что мы верили ему.
— Давайте присядем, — предложила Женевьева. Но женщины остались стоять неподвижно.
— Мы до конца не осознавали, насколько серьезно он болен, — продолжала Августа. — Это просто нелепо. Любой незнакомый человек мог сразу сказать, что он умирает. Стоило только посмотреть на него. Но, понимаете, мы привыкли к этому. К этому ужасному кашлю, даже к кровотечениям. Он всегда поправлялся. — Она уткнулась в плечо подруги.
— Это произошло вчера, — сообщила Марианна. — Он как раз закончил читать «Великого Гэтсби». Он был слишком возбужден из-за книги, бесконечно повторял, что Скотт — гений, что он станет величайшей звездой этого века, если сумеет совладать со своей женой и со своей страстью к алкоголю. Он был в превосходном настроении.
— Пришел Боб, — подхватила Августа. — Я имею в виду Боба Макэлмона. Они вместе посмеялись. А затем вдруг Норман скорчился, я попыталась удержать его, когда он начал падать, повсюду была кровь. Я… — Она прижала к лицу платок. — Простите, я должна уйти отсюда. — Она резко оборвала разговор и быстро пошла к выходу из собора.
— Она знала его практически всю жизнь, — вздохнула Марианна. — Они любили друг друга с детства. В его голове было столько поэзии. И вот — ничего не осталось. Ведь стихи не существуют, если не напечатаны на бумаге, правда?
Женевьева вспомнила крошечную квартирку с затейливым зеленым полом и заставленными книжными полками стенами. Это место казалось таким живым…
— Он наверняка оставил блокноты с записями и набросками?
Марианна покачала головой:
— Это неправильно. Мы вторгнемся в его личный мир.
Женевьева попыталась вспомнить о том, что Беттерсон сказал в тот день, когда схватил ее собственный блокнот. В тот день, когда они встретились в салоне Натали Барни. Что же? Если в блокноте есть стоящая вещь, он обязательно найдет ее. Что-то вроде того.
— Я не думаю, что Норман слишком педантично к этому относился, — заметила она. — Мне кажется, он хотел бы, чтобы вы собрали и спасли все, что в ваших силах.
— Я тоже любила его. — Марианна смотрела на дверь, в которую вышла Августа.
Женевьева коснулась ее руки.
— Мне так жаль. Мне будет не хватать его. Многим будет не хватать его.
— Я должна пойти за ней. — Ее голос звучал еле слышно.
— Позвоните мне, — попросила Женевьева. — Возможно, я смогу помочь, я имею в виду, с его записями. Когда вы будете готовы. И потом… еще есть журнал…
— Я не могу думать об этом.
— Я понимаю. Но ничего не выбрасывайте, обещаете? Стихи не существуют, пока не напечатаны на бумаге. Но, возможно, некоторые уже напечатаны. Это важно.
— Простите меня. — Марианна вежливо улыбнулась, но ее щека подрагивала от гнева. — Я должна догнать ее.
Оставшись одна, Женевьева снова присела на скамью и посидела какое-то время, думая о Беттерсоне и его работе, о бесполезности всего. Время, жизнь, поэзия. Неожиданно ее словно озарило, ведь она прекрасно знала, что ее собственная жизнь по капле утекает прочь, она больше не хотела сидеть в бездействии.
Посылку доставили днем, вскоре после возвращения Женевьевы, ее принес мальчик с бледным лицом и грязными коленками. Высунувшись наполовину из-за двери спальни, она увидела его, когда Селин отправилась искать мелочь для чаевых. Этот странный мальчик, который с разинутым ртом разглядывал коридор в серых с золотом тонах, сияющее черное дерево и блеск полированной мебели, каким-то непонятным образом привлек ее внимание.
Коробка была завернута в белую бумагу и перевязана розовой шелковой ленточкой. Женевьева отнесла ее в гостиную. Скорее всего, это подарок от помешанного на ребенке Роберта, но почему-то вдруг её сердце застучало быстрее, когда она закрыла дверь, присела на стул «Бибендум» и положила ее на колени. Она закрыла глаза и потянула за ленточку, розовая полоска плавно соскользнула прочь.
Коробка была выстлана жатым темно-красным бархатом. Внутри находились самые ошеломляюще прекрасные вечерние туфли, какие ей когда-либо доводилось видеть.
Верх из золотого шелка был испещрен замысловатой барельефной вышивкой золотыми нитями. Пара волшебных существ смотрела друг на друга на изящном носке каждой туфельки. Крылатые, когтистые, свирепые, они не были ни орлами, ни львами, ни единорогами, но каким-то образом объединяли в себе черты этих трех созданий. Они были практически одинаковыми, почти что отражения в зеркале, но, если присмотреться повнимательнее, можно было разглядеть едва уловимые различия между ними. Их ярость казалась такой неистовой, что невозможно было сразу понять, что это — пролог к битве или любовная прелюдия.
Монстров окружали спирали и завитки, сердечки, цветы, змеи, которые распространялись, распускались, словно молодые побеги по изящным изгибам ремешков и задников туфелек. Женевьева никогда раньше не видела такой вышивки. Узор казался настолько переполненным деталями, что издалека выглядел как сплошное сияющее полотно. И только приблизившись, вы могли разглядеть орнамент в полном его величии и безупречности совершенства.
Четырехдюймовые узкие каблучки были сделаны из материала, напоминавшего цельное золото, украшены простым тиснением — несколько перекрещивающихся колец внутри круга. Крошечные, в форме шариков, пуговицы тоже были сделаны из золота и украшены тем же золотым тиснением, что и каблуки.
Некоторое время Женевьева сидела и молча разглядывала туфли, хрупкие, словно крылья бабочки, и ужасалась при мысли, что хотела пробудиться от этого прекрасного сна. Когда она почувствовала в себе достаточно сил, чтобы подняться, на цыпочках пробежала по коридору, прижимая к груди коробку.
В комнате туфель Женевьева тут же примерила новое сокровище. Конечно, они идеально ей подходили. Восхищенно разглядывая туфли в высоком зеркале, она, наконец, разгадала смысл узора на каблучках и пуговицах. Перед ее взором возникли переплетенные и перевернутые буквы «Ж» и «П», и все встало на свои места.
И тут, наконец, Женевьева поняла, что это не просто самые прекрасные в мире туфли. Он желал ее и был готов принять все ее условия. Паоло оставит других женщин, теперь она точно знала это. Туфли стали объяснением в любви, его любовным посланием. Олицетворением ее глубочайших надежд и стремлений. Перед зеркалом в одиночестве Женевьева принялась танцевать.
Паоло Закари проснулся от тревожного чувства: кто-то наблюдал за ним. Он часто просыпался подобным образом, его давно преследовали навязчивые мысли о грабителях, врывающихся в его квартиру и набрасывающихся на него в темноте. Паоло подозревал, что этот страх напрямую связан с случаем из детства, с событием, которое он помнил довольно смутно, но подспудная память о нем не давала покоя долгие годы.
Ему тогда было шесть или семь лет. Отец куда-то уехал, что казалось очень странным, поскольку его работа не требовала отлучек из дома. Вспоминая ту ночь, Закари не представлял, куда и зачем отправился глава семейства, но в ту ночь отца определенно не было дома, потому что, когда все произошло, он спал вместе с матерью в большой родительской кровати.
Ночь была душная. Паоло лежал на самом краю кровати в пижаме, свернувшись калачиком. Мать спала рядом, обняв его одной рукой, ее тихое дыхание, теплое и ровное, шевелило волосы у него на затылке. Он лежал с открытыми глазами, смотрел сквозь открытое окно на большой месяц, повисший в центре ясного, усыпанного звездами неба: Странно, что не опустили жалюзи, вероятно из-за жары. Мать, должно быть, хотела, чтобы в окно дул прохладный ветерок.
За домом росло какое-то ползучее растение. Сейчас он уже не помнил точно, был это виноград или плющ, зеленые завитки висели за окном, и ночной ветерок слегка колыхал листья. Сколько было времени? Похоже, самая глухая ночь, возможно, часа три, когда вокруг так тихо и спокойно, что кажется, будто время остановилось. Ему представилось, что можно увидеть, как растет плющ, как вытягиваются его гибкие стебли. Широко раскрыв глаза, он вглядывался в темноту, забыв про сон.
Кто-то наблюдал за ним и его матерью. Его охватило странное ощущение, словно чья-то тень падает на него. Самая темная и страшная тень. Его прошиб пот, удары сердца с силой отдавались в висках. Он не мог пошевелиться от ужаса, просто продолжал неотрывно смотреть на окно. Возможно, этот наблюдатель притаился где-то там, прячась в лунном свете или свисая с подоконника, пытаясь пробраться в комнату.
Позади раздался приглушенный шум. Это проснулась мать. Неожиданно ее рука резко отдернулась назад, она внезапно отодвинулась от него. Кровать сильно задрожала. Он лежал неподвижно, не в силах пошевелиться от ужаса, не в силах оглянуться и посмотреть на нее. А затем кто-то с силой отпихнул его, и он скатился на холодный деревянный пол, а кровать над ним продолжала трястись. Он не осмелился посмотреть, но слышал странные звуки. Скрипела кровать, затем раздался звук пощечины. Он слышал хриплое ворчанье мужского голоса и странные звуки, издаваемые матерью, они не были ни криком, ни стоном. Сколько все это продолжалось? Он лежал на полу, разглядывая вечерние туфли матери, стоящие на коврике под окном. Туфли были сделаны из красного шелка, круглые носки украшала вышивка из маленьких белых цветов, у них были длинные красные ленты вместо завязок. Мать гордилась этими туфлями, любила их, но он никогда не видел, чтобы она их надевала. Паоло представлял ноги матери, танцующие в этих туфлях, подпрыгивающие, кружащиеся. Счастливые ножки. Он представлял белые цветы, подобные вышитым на носках туфель, которые дождем сыплются с неба и устилают землю толстым мягким ковром.
В конце концов кровать перестала скрипеть, послышался незнакомый, неприятный, скрежещущий звук, возможно, мать пыталась подавить рыдания.
Он пролежал на полу до утра. Должно быть, даже заснул. Когда настал день, мать встала и ушла из комнаты. Простыни оказались смяты, но не более, чем обычно.
Мать сказала, что ему все это приснилось.
Спустя много лет, как раз перед отъездом в Париж, он снова спросил ее, что произошло той ночью, пытаясь получить объяснения. Но она настаивала на том, что не понимает, о чем он говорит.
Теперь время от времени глухой ночью это чувство порой снова настигало его, отвратительное, медленно наползающее ощущение того, что черная тень кидается на него, он просыпался, задыхаясь, сминал простыни, весь мокрый от пота. Иногда, когда он снова засыпал, ему снились красные бальные туфельки или ливень из белых цветов.
Никто никогда не наблюдал за ним, никто никогда не лежал рядом с ним в постели. До сегодняшнего дня.
Женевьева приподнялась на локте в большой, скрипучей кровати в квартирке над магазином и разглядывала его широко раскрытыми глазами, ее волосы перепутались, кожа раскраснелась после сна.
— Что… Где?..
— Неужели так плохо просыпаться вместе со мной? — спросила она.
Его глаза стали почти черными.
— Ш-ш. — Она коснулась его лица. — Ты в безопасности.
— Правда? — Он отодвинулся в сторону. Всего лишь рефлекс. Попытался расслабиться.
— Ты помнишь, что тебе снилось?
— Нет. — Он глубоко дышал. — Я не запоминаю сны.
— Я тоже. — Она коснулась его плеча, осторожно провела пальцем по шраму на коже. — Откуда у тебя этот шрам?
— Несчастный случай в отцовской мастерской.
Ответ, похоже, удовлетворил ее. Она медленно провела пальцем по его телу и опустилась до более широкого шрама на боку.
— А этот?
— Несчастный случай в отцовской мастерской.
— Похоже, в ту пору с тобой постоянно происходили несчастные случаи.
— Который час?
— Мне все равно.
— Неужели? — Он уселся в кровати и принялся шарить в поисках выключателя, надеясь увидеть свои часы. Щелчок — комната озарилась мягким оранжевым светом. Женевьева вскрикнула и спряталась под одеяло.
— Господи, уже почти десять часов!
В ответ из-под стеганого одеяла раздался громкий вздох.
— Мы проспали несколько часов. — Разозлившись, он сдернул с нее одеяло. Обнаженная, она снова вскрикнула, но затем рассмеялась и раскрыла ему свои объятия. Ее кожа в свете лампы приобрела великолепный кремовый оттенок. Ему захотелось снова броситься к ней. Но стоило ей прикоснуться к нему, перед глазами снова возникла картина из старого сна. Вьющееся растение за окном материнской спальни, зеленые, перепутанные стебли… Он отодвинулся, затем поднялся с постели.
— Все дело в твоем сне, правда? — ласково спросила она.
— Нет. — Она словно нашла путь, как забраться к нему под кожу и добраться до самых сокровенных тайников души. Невозможно вытерпеть, когда кто-то подбирается так близко. — Это не имеет никакого отношения к сну. Тебе пора возвращаться домой.
— К Роберту? — Она перевернулась на спину. — Я не хочу возвращаться.
— Не говори ерунды. — Он принялся шарить по полу в поисках одежды. Его вещи переплелись с ее одеждой, словно одежда тоже занималась любовью. И тут он снова подумал о ползучем растении и задрожал, поднимая с пола рубашку.
— Он думает, что я беременна. Закари уронил рубашку на пол.
— Но это не так, правда?
— Конечно нет. Я придумала это, чтобы он больше не трогал меня.
— Это очень глупо.
— Я знаю. — Женевьева вдруг заплакала. — Я больше не могу выносить его прикосновений. Я не хочу этого. Именно это я и имела в виду, когда говорила тебе, что собираюсь перевернуть страницу своего брака.
И что теперь делать? Его любовницы никогда не плакали. Его встречи были изысканны и легки. Женщины приходили, занимались любовью, мило болтали, а затем снова одевались. Просто и приятно. Кто-то мог потягивать вино или есть фрукты. Но никто не забывал о времени и не просыпался от шока из-за бурной эмоциональной сцены. Это не типично для парижской жизни. Или для его жизни… Но только до сегодняшнего дня…
— Обними меня. — Ее голос стал совсем тонким. Она сгорбилась, крепко обхватила колени руками. Женевьева казалась такой крошечной и беззащитной.
Он неохотно вернулся в постель, присел рядом с ней на кровать, спустя мгновение прижал к себе, неуклюже, жестко похлопал ее по спине, ощущая собственную неловкость, расстроился из-за неспособности действовать решительно. Просто выйти из комнаты или утешить ее так, как ей того хочется.
— Расскажи мне что-нибудь, — попросила она, перестав плакать.
— Что ты хочешь узнать?
— Что-нибудь. Просто поговори со мной.
— Хорошо. — Он прижался губами к ее волосам и вдохнул их сладкий, земной аромат. — Вчера я рисовал твои ноги по памяти. Рисунок остался в моей мастерской. — Произнеся эти слова, он почувствовал, как ее тело снова начинает расслабляться. Тепло возвращалось. — Я хорошо запомнил их. Формы выпуклости косточек твоих пальцев, изгиб подъема, вены мод твоей кожей, словно реки на карте.
— Я могу посмотреть рисунок?
— Если хочешь. — Они говорили тихим шепотом. Он чувствовал приятное тепло ее тела, ему хотелось обнять ее, окутать своей нежностью, стать ее второй кожей. — Я мог нарисовать к ноги Марчезы Касати или Мистингетт. Именно в этом и кроется необычность моих туфель, все дело в том, что я в совершенстве знаю ноги моих клиенток, запоминаю их. — Он снова начинал хотеть ее.
— Но вчера ты рисовал именно мои ноги. Мои.
— Да.
Она пробралась в его жизнь так же, как когда-то в его магазин. Она проникла в его воображение, и теперь он не мог от нее избавиться.
Женевьева повернулась в его объятиях и прижалась заплаканным лицом к его шее. Но его больше не раздражали слезы, хотелось слизнуть их с ее лица.
— Расскажи мне что-нибудь еще.
— Я обожаю твою спину, — сказал он. — Твою изумительную, длинную и гибкую спину. Твоя кожа кажется полупрозрачной, словно жемчуг. — Она снова зашевелилась, сменила позу. Теперь она целовала его грудь, опускаясь все ниже. Скоро она возьмет в рот его плоть, и он окажется на верху блаженства. — Я хочу создать пару туфель, в которых соединятся твой неповторимый изгиб спины и твоя жемчужная кожа. Если бы только я мог сотворить туфли из сливок? Если бы я только мог растопить полную горсть жемчуга и отлить из него форму туфельки.
— Ты можешь, — мечтательно произнесла она. — Ты можешь все, что пожелаешь.
Игра в покер подошла к концу. Это был вечер Мориса Энье. Флеш[8] после стрита, затем снова флеш, а после фул хауз. Энье, который стал играть сравнительно недавно, сильно блефовал, это выходило у него не очень профессионально. Но парням удалось оставить его без денег еще на первых стадиях игры. Это была своего рода приятная закуска. Сегодня вечером они не смогли сдвинуться с первого раунда. Казалось непостижимым, как Энье набрал столько много удачных карт. Определенно везение скоро отвернется от него и он снова вернется к своей привычке беспорядочно блефовать. Они внимательно наблюдали за его нервным подмигиванием, за тем, как он сосредоточенно грыз ногти, что было обычным свидетельством скорого блефа, и ставили на кон свои деньги. Но он продолжал выигрывать, пока совершенно неожиданно — а было еще совсем рано (господи, и десяти еще не пробило!) — ни у кого не осталось денег, а Энье, весело насвистывая, отправился в одну из задних комнат в компании двух девиц и с изрядно раздувшимся бумажником.
— Мы можем сыграть еще, — предложил Кэббот. Но парни чувствовали себя слишком помятыми и раздраженными. Даже Кэббот говорил без энтузиазма. Раздававшиеся время от времени смех и глухие шлепки где-то у них над головами заставляли изрыгать проклятия одно другого жарче. Один за другим они допивали свои напитки и отправлялись домой, к женам.
— Что тебя тревожит, Роберт? — спросил Гарри Мортимер, едва мужчины остались вдвоем в игральной комнате.
— Полагаю, мне так же неприятно проигрывать, как и тебе, Гарри. Особенно такому типу, как Энье.
— Да, хорошего мало, приятель. — Гарри откинулся на своем скрипучем стуле и скрестил руки на груди. — Но ты никогда не переживал из-за игры, ты ведь играешь за компанию. Так что же произошло?
Роберт обхватил руками стакан.
— Ничего. Жизнь прекрасна. Благодаря Женевьеве мы скоро станем настоящей семьей.
— Так-так, молодец, старик! — Гарри от души хлопнул его по руке. — Значит, мы вместе станем отцами. Может быть, нам заказать шампанского?
— Еще слишком рано. Мне не следовало рассказывать тебе, я пообещал ей.
— Да не беспокойся об этом. Она ничего не узнает. Не мог же ты носить такой секрет в себе, правда? — В мрачноватом красном свете лицо Гарри приобрело демоническое выражение.
— Думаю, да. — Роберт смотрел в стакан.
— Ну а теперь, — улыбнулся Гарри, — позволь дать тебе один совет…
— Позволь больше не слушать твоих советов, если ты, конечно, не возражаешь.
Стул заскрипел.
— Боб? Что, черт возьми, происходит?
Роберт залпом осушил стакан и потянулся за бутылкой, чтобы плеснуть себе еще виски. Весь вечер он много пил.
— Роберт?
— Ну, дело в том, что я внял твоему… совету. Нанял твоего «приятеля» мистера Фелперстоуна. Он втянул меня в водоворот ужасных неприятностей. — Роберт заставил себя взглянуть на Гарри, его открытое лицо сморщилось от искреннего сочувствия, откуда-то сверху до них долетали взрывы визгливого смеха вперемешку с низким победным хохотом Мориса Энье. — Моя жена не сделала ничего плохого, Гарри. Ничего! Она носит моего ребенка, ей очень тяжело. Бедная девочка, ее постоянно тошнит. — Он снова отхлебнул виски. — Гарри, я заставил этого гнусного сыщика выяснять подробности ее прошлого и следовать за ней повсюду, а затем преподносить мне на блюдечке самую ужасную ложь, какую только можно вообразить. Благодаря этому человеку мое доверие к жене пошатнулось. Твой «приятель» заставил меня участвовать в такой сцене, воспоминания о которой будут преследовать меня всю оставшуюся жизнь, нет, не спрашивай, что произошло. Я не желаю воскрешать в памяти этот ужас, скажу только, что это не имело отношения к моей Женевьеве. Спасибо за совет, Гарри. Огромное спасибо.
В тишине комнаты слышалось прерывистое дыхание Роберта. Скрипнул стул Гарри, когда тот неловко повернулся. В комнату энергично вбежала официантка, но увидела их лица и удалилась, не сказав ни слова.
Гарри присвистнул.
— Роберт, мне действительно очень жаль. Я всего лишь пытался тебе помочь. Я твой друг. Давай выпьем еще. — Он наполнил стаканы. — Думаю, я ошибся, познакомив тебя с Фелперстоуном, но я точно знаю две вещи. Я встречал женщин вроде твоей жены. Из-за некоторых даже серьезно терял голову. Я никогда не рассказывал тебе о своей первой жене? — Он заметил презрительное выражение, появившееся на лице Роберта. — Но давай не будем сейчас об этом. — Гарри достал портсигар, извлек одну сигару для себя, другую предложил Роберту. Тот взял ее в каком-то оцепенении, не в силах пошевелиться. Не исключено, что во всем был виноват виски, а возможно, на него так странно действовал голос Гарри. Как бы там ни было, Роберт не двинулся с места. — Достаточно сказать, — Гарри прикурил обе сигары и выпустил клуб дыма, — что Женевьева относится к тем женщинам, которые обожают, когда мужчины теряют из-за них голову, такие женщины просто не мыслят жизни без драмы. Они прекрасно знают, как повернуть ситуацию в свою пользу, как манипулировать чувствами мужчины. Их не волнует, чем все закончится. Они галопом несутся вперед, уж прости мое выражение. Это неотразимая, но смертоносная смесь. Я за милю чую этот запах, Роберт. Нет, я не хочу сказать, что эти женщины абсолютно неисправимы, не все, по крайней мере. Но они лишены чувства ответственности. Им наплевать на собственную боль и нет дела до чужих страданий, именно так разбивают сердца порядочных мужчин, вроде нас с тобой.
Сигара в сочетании с виски оказывала странный эффект. Комната ходила ходуном, а лицо Гарри становилось все больше и больше.
— Эти женщины должны повзрослеть и научиться ответственности, пока еще не слишком поздно. Тогда я посоветовал тебе нанять Фелперстоуна, потому что подумал: чем скорее ты уяснишь себе, как обстоят дела, тем быстрее сможешь принять необходимые меры. Ты не дашь своей леди упасть на самое дно, сможешь спасти ее. Сможешь спасти вас обоих.
Стул снова противно заскрипел. Это прозвучало как насмешка. Послышался визг из комнаты наверху. Роберт закрыл глаза, перед его взором снова всплыли два мертвых тела, лежащие на кровати, словно куклы. В их головах зияли пулевые отверстия.
— Я весьма рад, что она беременна, Роберт. Весьма рад. На твоем месте я посадил бы ее на первый же пароход и увез домой.
Роберт покачал головой. Движение было сильнее, чем ему хотелось, он едва не свалился со стула.
— О чем ты говоришь, Гарри? Все это твои фантазии, неужели ты не видишь? Вся эта болтовня о «таких женщинах». Это не имеет отношения ни ко мне, ни к моей жене. Ну что ж, мне почти жаль тебя.
— Не надо жалеть меня. Лучше послушай, что я скажу.
— Мне надо домой, — пробормотал Роберт, затушив сигару. — Или я не выдержу и ударю тебя. Возможно, нам не следует больше встречаться.
Он попытался встать, но Гарри положил руку ему на плечо.
— Я не хотел рассказывать тебе об этом. Но только так я смогу достучаться до тебя.
— О чем ты не хотел мне рассказывать?
Гарри вздохнул.
— Это произошло где-то неделю назад. Мод видела Женевьеву в Люксембургском саду. Она гуляла с мужчиной.
— С каким мужчиной?
— Они целовались.
— Друзья целуют друг друга при встрече, разве это не так? Мы же в Париже.
— Мод сказала, что они, без сомнения, любовники. Прости, друг.
— О чем ты думаешь? — спросил Закари. Они только что занимались любовью, Женевьева лежала в его объятиях.
— Мне кажется, что желтое пятно на твоем потолке похоже на карту Франции.
— Это она и есть. А что еще?
— Мне кажется, что скрип твоей кровати напоминает смех старика.
— Ты абсолютно права. В ловушку моего матраца угодило пять стариков, именно они поддерживают эту кровать. А смеются они, потому что постоянно пьяны. Что еще?
— Я думаю… — Она обвела взглядом комнату. Замечательная антикварная французская мебель, не сочетающаяся между собой и в не слишком хорошем состоянии. Выцветшие шторы. Обстановка, которая требует, чтобы ее слегка обновили. — Я думаю, почему самый дорогой в мире сапожник живет в такой полуразвалившейся, старой квартире?
Он помолчал, словно решая, что ответить, затем снова спросил:
— О чем еще ты думаешь?
Она не могла разгадать выражения его глаз. Высвободившись из его объятий, села на постели.
— Я не уверена, что ты захочешь это узнать. — Она подняла рубашку, которую он сбросил на пол, и надела ее, наслаждаясь тем, что может сделать это, может вдыхать его аромат. А затем скользнула в свои золотые туфли и отправилась на кухню.
Она как раз наполняла стакан водой, когда он подошел сзади, обнял ее за талию и положил голову ей на плечо. Они немного постояли так, она откинулась назад и прижалась к его обнаженному телу.
— За что ты наказываешь себя? — спросила она.
— Наказываю? Что ты имеешь в виду? — Он поцеловал ее в шею.
— Ты отвергаешь роскошь, которую с легкостью можешь себе позволить. Эта квартира… не такая, какой ей следовало быть. Здесь определенно не хватает женской руки.
— Это стиль моей жизни. — Он все еще крепко держал ее в объятиях. — Я ценю свое время. Почему я должен тратить его на украшение квартиры?
— Но это же твой дом.
— Дом? — Он фыркнул. — Я с удовольствием согласился бы жить даже в картонной коробке, если бы мог создавать там туфли.
— Знаешь, мне кажется, что в этом есть нечто странное. — Она отодвинулась от него и присела за кухонный стол. — Я не хочу, чтобы у нас были секреты друг от друга, Паоло.
Он сел напротив нее.
— Если тебе здесь не нравится, мы можем встречаться в отеле.
Она сжала кулаки и с расстроенным видом постучала ими по голове.
— Ты от меня что-то скрываешь. Возможно, ты сам этого до конца не осознаешь. Подумай об этом. Ты самый лучший сапожник из живущих на белом свете. Тогда почему же ты не самый богатый и знаменитый из всех сапожников на свете?
Ты должен создавать туфли для новых модных коллекций Коко Шанель, они появлялись бы на страницах Vogue. Ты мог бы работать с кем пожелаешь. С Полем Пуаре, Жанн Пату, Мадлен Вионне — с кем угодно! В своем мастерстве ты превзошел Феррагамо и Перуджи. Они только мечтают создавать такие туфли, как ты. Ты должен знать, что все это в пределах твоих возможностей.
— Теперь ты хочешь рассказать мне, как вести дела? — Его лицо помрачнело.
— Я хочу знать, почему ты упорно продолжаешь прятаться в этом магазине, когда весь мир может оказаться у твоих ног! — Она пыталась успокоиться. — Послушай, прости меня. Наверное, я немного не в себе. Сегодня утром я узнала о смерти друга.
— Я сочувствую тебе.
— Он был поэтом, хорошим поэтом. Я наткнулась на его жену и подругу в Нотр-Дам. Они горевали вместе, поддерживали друг друга.
— Мило, ничего не скажешь, — пробормотал Закари.
— Это заставило меня задуматься о быстротечности жизни. Я поняла, что человек должен сделать все от него зависящее, чтобы обрести истинное счастье и ощутить значимость жизни. Мы должны сделать это сегодня, потому что, возможно, не будет других дней, не будет завтра. Ты не можешь позволить себе самодовольства.
Теперь он улыбался.
— Жаль, что я не могу объяснить тебе, что живу полной жизнью. Работа для меня — целый мир. Он завораживающий, прекрасный, яркий. И все время меняется, каждый час, каждую минуту. Он здесь. — Закари постучал себя по лбу. — И здесь. — Он раскрыл руки, показывая ей ладони.
— Ну что ж, а я не жила полной жизнью, — призналась Женевьева. — Но что-то очень важное произошло со мной сегодня. Я приняла решение. Я больше не могу оставаться женой Роберта.
— Что ты говоришь?
— Ты прекрасно понимаешь, о чем я. — Она пристально смотрела на него. Могли ли скрываться более теплые чувства за этим суровым выражением лица? Ей необходимо знать, так ли это.
— Возвращайся домой, выспись и только утром прими окончательное решение, — сказал он в конце концов.
— Зачем? Это ничего не изменит. — Она встала и отправилась в спальню, чтобы одеться.
Он шел следом.
— Но ты даже не задумывалась над этим.
— Так же как и ты, — откликнулась Женевьева.
— Думать — опасное занятие, — вздохнул он. — Именно размышления приводят нас к неприятностям.
Она скинула его рубашку и подобрала свое белье.
— Все дело в Вайолет де Фремон? Ты по-прежнему не хочешь расставаться с другими женщинами, правда?
— О господи! — Он изо всех сил ударил по медному изголовью кровати. — Нет никаких женщин. С тех пор, как появилась ты.
Она почувствовала, что невольно улыбается.
— Ты любишь меня, Паоло?
— Мне необходима свобода. — Он повернулся к ней спиной. — Я привык свободно путешествовать в своем воображении. Я работаю, когда пожелаю. Порой я работаю день и ночь напролет. Мои туфли всегда на первом месте. И я не позволю ни одной женщине становиться на их пути.
— Я люблю тебя, — сказала Женевьева. — Я люблю тебя, Паоло.
Закари молчал. Она заметила, как напряглась его спина.
— Тебе не приходило в голову, — начала она, — что я могла бы с радостью согласиться с тем, что работа для тебя превыше всего? Понимаешь, вполне вероятно, что твои модели стали бы еще совершеннее, если бы ты жил с любимой женщиной. У тебя осталось бы все, что ты имеешь сейчас, но у тебя появилась бы я. Я могла бы помочь тебе. Я не художница, Паоло, но я разбираюсь в искусстве. Я могла бы стать твоей самой сильной сторонницей, даже партнером. Кто больше меня знает о туфлях? Я бы даже подружилась с Ольгой.
Он покачал головой:
— Это невозможно.
Она принялась грызть ноготь с дорогим маникюром.
— Паоло, в моей квартире целая комната отведена под туфли. Там полки от пола до потолка. Туфли — моя страсть. Я держу их у самого сердца. В каждой коробке в этой комнате — неудовлетворенное желание, мечта, фантазия. — Она на мгновение закрыла глаза. — Я обожаю свою коллекцию, но я позволила ей заменить мне реальную жизнь. Я больше не желаю этого.
— Женевьева. — Он снова обернулся к ней, теперь в его глазах светилась грусть. — Ничего не получится. Если мы вдвоем станем жить здесь… Здесь… Твоя чертова коллекция туфель полностью заполонит мою квартиру, мне просто не останется места! Тебе лучше вернуться домой.
— Я знаю, что ты любишь меня, Паоло. Одна эта пара туфель, — она снова посмотрела на ноги, — значит для меня больше, чем вся моя коллекция.
— Мне хочется крушить стены.
Она остановилась, чтобы поднять свое платье, она путалась в застежках. Закари молча наблюдал за ней.
— Я говорю абсолютно серьезно, — продолжила Женевьева. — Я хочу уйти от Роберта. Скажи одно слово, и я больше не вернусь к нему.
— Ты даже не подумала о последствиях.
— Да, да, твоя работа, твоя свобода…
Закари грустно улыбнулся:
— Я говорю о последствиях для тебя, Женевьева.
Наутро Роберт проснулся с ужасной головной болью, отвратительным привкусом во рту и понял, что не представляет, где находится. Кровать, на которой он спал, оказалась очень короткой, очевидно детской, его ноги свисали с края. В комнате было темно. Он встал и попытался отыскать окно, открыть жалюзи, но наступил на какой-то острый предмет и споткнулся обо что-то.
В комнату хлынул яркий солнечный свет. Роберт увидел, что находится в спальне мальчика. На полу валялись игрушки, крошечная машинка, волчок, плюшевый мишка, несколько книжек. Стены были выкрашены в небесно-голубой цвет. Он заметил, что на нем голубая пижама, явно с чужого плеча.
Где он, черт возьми?..
Сидя на кровати и сжимая ладонями пульсирующую от боли голову, он пытался восстановить в памяти события прошлого вечера. Конечно, он помнил игру в покер, затем они пили вместе с Гарри. Тяжело и неохотно припомнил все, что рассказал ему Гарри. После этого ему снова захотелось улечься в постельку мальчика и оставаться там.
Откуда-то снаружи раздавался шум. Похоже, гремели посудой. Приглушенный хлопок закрываемых дверц буфета. Трели звонкого детского голоска. Французская речь.
Он ехал домой, не так ли? В такси. Он был ужасно зол. Он хотел поговорить с ней, даже если для этого потребовалось бы разбудить ее. Но ее постель оказалась пуста. В квартире не было и намека на ее присутствие.
Болтовня ребенка в соседней комнате стала более явственной. Ему отвечал глубокий и ласковый женский голос.
Он поймал еще одно такси и отправился обратно в клуб, ища Гарри. У него возникло ужасное чувство, когда он вспоминал все это, кажется, он плакал, когда приехал туда. Мадам Юбер, владелица заведения, была любезна и сообщила ему, что его друг уже уехал. Она спросила его, не хочет ли он войти. А он ответил… О господи, он согласился.
Неужели он сейчас именно там? В одной из задних комнат в клубе?
— Господи, пожалуйста, нет.
Раздался скрип стула о деревянный пол. Женщина говорила ребенку, что он должен поторопиться и закончить завтрак. Пора идти в школу.
Воспоминания стали возвращаться к нему один гадкий отрывок за другим. Латунная кровать с грязным желтым стеганым одеялом. Девушка в корсете, пахнущем дешевыми духами. Он просто хотел спать, но она тоже забралась в постель. Он так устал, но она продолжала толкать его, что-то жарко шептать ему на ухо и прижимаясь к нему всем телом. Она лезла ему прямо в лицо.
— Мистер Шелби Кинг? — снова раздался женский голос. — Вы проснулись?
— Да.
Это определенно не клуб. Но он отчетливо помнил латунную кровать и желтое постельное белье. Эта комната не похожа на комнату в клубе. И вид на узкий переулок за окном нисколько не напоминал пейзажи Монмартра.
— Мистер Шелби Кинг? Мне не хотелось бы вас беспокоить, но… Я оставлю вам халат. Вы найдете его прямо за дверью.
Знакомый голос. Он хорошо знал ту, которой голос принадлежал.
— Спасибо, Мари-Клер. Я сейчас выйду.
Она сидела за кухонным столом вместе с сыном, которому было лет семь-восемь. Они ели хлеб с джемом и пили кофе с молоком из больших чашек. Ребенок что-то лепетал, но Мари-Клер попросила его замолчать, заметив, что Роберт появился в дверях.
Кухня да и квартира в целом были довольно простыми, но уютными. Они жили здесь вдвоем, мать и сын. Муж погиб на войне. Роберт, конечно, знал об этом, но никогда не задумывался о повседневной жизни своей секретарши. Должно быть, пижама и халат принадлежали ее покойному супругу.
— Садитесь и позавтракайте. — Мари-Клер избегала смотреть ему в глаза. О господи, неужели она раздевала его прошлой ночью?
— Спасибо. — Ему некуда было сесть. За маленьким столиком помещалось только два стула.
Мари-Клер приказала мальчику уступить место. Должно быть, она сделала нечто похожее, когда он явился сюда вчера, просто приказала ребенку освободить комнату. Роберт изо всех сил пытался сгладить неловкость и свое похмелье и ласково улыбнулся, когда мальчик прошмыгнул мимо него. Но ребенок угрюмо взглянул на него в ответ.
— Я приготовлю кофе. — Она встала и направилась к плите, прежде чем он успел заговорить, загремела кастрюлями. — Хотите хлеба? Боюсь, есть только вчерашний, но, если вы готовы подождать десять минут, пока Шарль не уйдет, я схожу за свежим. — Ее слова лились быстрым потоком. Она волновалась не меньше, чем он.
— Пожалуйста, не утруждайте себя. Я вовсе не голоден. — Роберт вытер пот со лба. — А вот от кофе не откажусь. Я предпочитаю черный. — Хотя, конечно, она знала, какой кофе он обычно пьет.
Она упорно не поворачивалась к нему. Букет розовых роз свисал вверх ногами с крюка за окном, сушился на солнце. Это был один из тех букетов, которые он купил в то утро, когда Женевьева объявила, что беременна.
Кто-то насвистывал на улице, и Мари-Клер тоже стала что-то мурлыкать себе под нос, готовя кофе. В кухне пахло вкусной едой. Мальчик крикнул: «Мама, где мой ранец?» — а она ответила: — «В прихожей, вместе с ботинками». Это был обычный каждодневный монотонный обмен репликами. Своего рода ритуал. В этой сцене чувствовалось что-то уютное: женщина, готовящая кофе, мужчина, сидящий за столом в пижаме, мальчик, собирающийся в школу… На какое-то мгновение Роберт представил, что это его жизнь, его пижама.
— Очень любезно с вашей стороны позволить мне остаться.
— Ну, я едва ли могла прогнать вас, понимаете?
Возможно, она имела в виду, что с удовольствием сделала бы это, если бы могла?
— Вы очень добры. — Он смотрел на стол. — Я понимаю, что поставил вас в очень неловкое положение. Я вам благодарен и сожалею, что все так вышло.
— О, Роберт. — Глубокое чувство прозвучало в этих словах, но тут же погасло. Она поставила перед ним кофе и вышла в холл поторопить сына.
Кофе был густой и крепкий. После первого глотка закружилась голова, но уже после второго стало легче. Он закрыл глаза и снова вспомнил желтое стеганое одеяло в задней комнате клуба. Девушка предлагала ему расстегнуть ее корсет. Он попытался угодить ей (вот ужас!), но от выпитого виски его руки не слушались его, и она все сделала сама. А затем взобралась на него и начала расстегивать рубашку. Он видел, как двигались ее пальцы, ее белое лицо низко склонилось над ним. Она целовала его или пыталась сделать это. А когда она ткнула ему в лицо свою грудь, запах дешевых сладковатых духов стал невыносим. И его вырвало.
Входная дверь захлопнулась, Мари-Клер вернулась в кухню и села за стол. Мальчик ушел.
Его вырвало на желтую постель, на собственную одежду, на девушку. А затем в комнату вошла мадам Юбер с выражением полного презрения и отвращения на лице и принялась кричать на него.
— Моя одежда… — Ему было стыдно продолжать дальше.
— Я постирала ее. Но она еще не высохла. Я дам вам кое-что из одежды Гастона. Он был почти одного с вами роста.
— Спасибо. — Он отпил еще кофе. — Прошлой ночью… Я надеюсь, я не посмел… Я не пытался?..
— Нет, нет! — Но неужели она произнесла это слишком быстро? Слишком твердо? — Вы были не в лучшем виде. Гастон тоже иногда позволял себе такое. Думаю, это случается со всеми мужчинами.
— Со мной это впервые, — ответил Роберт. — И это больше не повторится.
Их взгляды встретились. У нее были спокойные карие глаза. Она была привлекательной, в какой-то особенной спокойной манере. Слегка полновата, но в нужных местах. И очень скромна и сдержанна.
— Я не знаю, зачем пришел сюда, — признался он. — Если честно, я удивлен, что запомнил ваш адрес. Ведь я никогда раньше здесь не бывал. Я не знаю, как извиниться перед вами за все неприятности, которые вам доставил.
— Я рада, что вы пришли ко мне, — ответила она. — Возможно, вы знали, что я позабочусь о вас. Я всегда готова позаботиться о вас, Роберт.
— Правда? — Он почувствовал ноющую боль в груди. Она встала из-за стола и снова подошла к раковине.
— Хорошо, что вы пришли сюда, а не упали в каком-нибудь переулке, где с вас сняли бы часы и украли бумажник.
— Я так устал. — Произнеся эти слова, он почувствовал, как его переполняют бессилие и пустота. — Я не знаю, что делать.
— Почему бы вам не прилечь и не отдохнуть еще немного? Я оставлю костюм Гастона за дверью, а вашу одежду принесу завтра на работу. Теперь мне пора в офис, но вы можете устроить себе выходной.
— Вам пора в офис? — Он сухо усмехнулся.
— Именно так. У меня куча дел. Вы можете приходить и уходить, когда пожелаете, а я нет.
— Мари-Клер… — Он снова посмотрел на розы.
— Это все к лучшему. — Она вытерла руки о передник. — Не беспокойтесь. Это останется между нами. Мы больше никогда не станем вспоминать об этом.
«Роберт, я ухожу от тебя».
Какая простая фраза, всего пять коротких слов, но их достаточно, чтобы разрушить брак. Две переплетенные между собой жизни. Ее и его мир.
Женевьева плохо спала. Ее сон напоминал глубокий океан. Бездонная пропасть без снов. Он переливался через границы ночи и разливался дальше. Пару раз она пыталась очнуться, чувствуя, что яркие лучи солнца пробиваются сквозь щели в жалюзи, проскальзывают сквозь шторы. Но в доме стояла тишина, а ее веки словно были налиты свинцом, сон снова навалился и увлек ее в свою пучину, пока, наконец, ее не выбросило на берег утра. Женевьева лежала с раскрытыми глазами, слушала, как кровь стучит в висках, повторяла про себя пять маленьких слов и обдумывала их значение.
«Роберт, я ухожу от тебя…»
Она вспомнила, что Паоло говорил о последствиях.
Когда она все расскажет, муж наверняка устроит безобразную сцену. А может быть, множество безобразных сцен. Он будет опустошен. Посмеет ли он применить силу? Она никогда не думала, что Роберт способен на насилие, но все же… Она видела другую его сторону в ту недавнюю ужасную ночь.
Но он мог сделать ей больно и другими способами. Конечно, она лишится этой квартиры. Ее выполненной по специальному заказу квартиры на рю де Лота со всеми аксессуарами: серебряной с золотом отделкой стен, кушеткой в виде пироги и абажурами цвета страусиного яйца, ее спальни с обитыми шелком стенами василькового цвета, стола из дерева акажу. Роберт не пожелает остаться здесь. Он ринется в Бостон, прижаться к груди матери. Но прежде он убедится в том, что и она здесь не останется.
Что еще. Он мог бы поехать к ее отцу. Папа конечно же примет его сторону. Как же, бедный обманутый муж. Да и когда он принимал ее сторону? Роберт может сделать это, чтобы лишить ее наследства и оставить без средств к существованию, если ему захочется мести. О да, он вполне может это устроить.
Что еще? Он может затаскать ее по судам, ее фото появятся во всех газетах. Он убедится в том, что она прошла через общественное унижение и осталась без единого франка в кармане. К тому времени ее перестанут принимать в любом респектабельном доме по обе стороны Ла-Манша.
Но кому нужна эта респектабельность, шери? Что может быть скучнее респектабельной жизни?
Что еще?
Он заберет ее коллекцию туфель! Самая очевидная и самая жестокая месть. Этого она не сможет вынести.
Женевьева выбралась из постели и бросилась в комнату туфель. Вот они, все ее пятьсот двадцать три пары, в своих коробках. Она просто не могла забыть о своей коллекции и вот так оставить ее. Все ее туфли отправятся вместе с ней в новую жизнь, все. От Закари, Феррагамо и Перуджи до туфелек Мери Джейн из ее детства. Каждую пару выходных туфель-лодочек, высоких ботинок, бальных туфель, легких балеток, белых туфель-лодочек с различными украшениями, ботинок на шнуровке и без, она заберет с собой туфли с высокими каблучками, с низкими, с каблучком в стиле Луи. Каждую пряжку и пуговичку. Каждый квадратный дюйм кожи, шелка, замши, атласа и бархата. Необходимо вывезти из квартиры коллекцию, спрятать в безопасном месте, пока Роберта нет дома. Это щекотливая ситуация, требующая тщательного планирования. Она не должна позволять себе увлекаться и действовать поспешно.
Новые золотые туфли от Закари все еще лежали на полу с прошлой ночи. Одного вида переплетенных между собой букв «Ж» и «П» на каблучках было достаточно, чтобы ее сердце растаяло.
К тому времени, когда она приняла ванну и оделась, было уже позднее утро. Просунув голову в дверь кухни, она попросила Селин приготовить поздний завтрак. Ей хотелось омлета с грибами. Немного свежевыжатого апельсинового сока и кофе.
Горничная застыла и, разинув рот, уставилась на нее.
— В чем дело? Что странного в том, что я хочу омлета?
— Ну, мадам. Вообще-то я не уверена в том, что все понимаю. — На лице Селин по-прежнему было это странное выражение, полное недоверия.
— Что, боже ты мой, происходит?
— Кто я такая, чтобы говорить вам об этом, мадам.
— Или скажи, что происходит, или веди себя подобающе.
Неясное бормотание было ей ответом.
— Селин!
— Разве вы не беспокоитесь? — Наконец она выпалила эти слова. — Неужели вам все равно?
Женевьева покачала головой:
— Я не имею ни малейшего представления, о чем ты говоришь.
— Это неестественно! Ваш муж не вернулся домой, а вы говорите об омлете с грибами! — Ее лицо пылало. — Мадам, с ним наверняка что-то произошло. Он не из тех мужчин, которые… Он настоящий джентльмен!
— Не вернулся домой… — Женевьева повторила эти слова и нахмурилась. — Не говори ерунду. Он, как всегда, окажется в офисе. Он часто уходит, не разбудив меня, когда я поздно возвращаюсь домой. И ты прекрасно это знаешь.
— Он не вернулся прошлой ночью. — Горничная стала говорить медленнее. — Разве вы не заметили?
Женевьева поджала губы.
— Сейчас же сделай мне омлет, кофе и апельсиновый сок.
Она направилась к телефону, чувствуя, как противно засосало под ложечкой.
«Вот тебе и наказание, — раздался знакомый голос в голове. — Роберт умер или лежит в больнице, и это полностью твоя вина».
Как только могла она позволить себе даже подумать о том, чтобы уйти от него? Она не сможет полноценно существовать без Роберта. Закари оказался прав — все ее мечты о будущем — всего лишь пустая фантазия испорченной девчонки. Роберт — ее реальность. Крепкий и надежный тыл. А Паоло Закари — всего лишь ускользающее призрачное видение. Что она вообще знала о нем?
Ее рука дрожала, когда она, наконец, сняла трубку.
«Пусть с ним все будет в порядке, — твердила она про себя. — Пусть он окажется в офисе за своим столом и скажет, что горничная лишилась рассудка…»
Ее голос стал совсем тонким, когда она говорила с оператором. Ей казалось, что прошла целая вечность, прежде чем ее соединили с офисом Роберта. Ожидая, когда на другом конце возьмут трубку, она чувствовала присутствие горничной, притаившейся за кухонной дверью, прислушивающейся и ожидающей вместе с ней.
Она закрыла глаза: «Если он там, то я навсегда расстанусь с Паоло».
— Доброе утро, миссис Шелби Кинг, — раздался голос секретарши.
— Будьте так добры, я хотела бы поговорить со своим мужем.
На другом конце линии повисла пауза, которая показалась ей несколько более долгой, чем обычно.
— Простите, но он сейчас не может подойти к телефону.
— Что вы имеете в виду? — Женевьева увидела свое отражение в зеркале холла. Ее лицо выглядело взволнованным. И еще виноватым, да, на ее лице отразилась вина.
Еще одна пауза.
— Его здесь нет.
— А где же он?
— Он на совещании. Когда вернется, я передам ему, чтобы он перезвонил вам.
От облегчения у нее закружилась голова. Отражение в зеркале в один момент переменилось, на ее лице не осталось и тени вины.
Сидя в столовой в ожидании завтрака, Женевьева пыталась привести в порядок свои мысли.
Она думала о том, что произошло с ней этим утром, как яростно налетели и схлынули ее чувства. Она оказалась подобна весам, которые качнулись сначала в одну, а затем в другую сторону и не желали приходить в равновесие. Она любила Паоло, но не могла положиться на него. Она могла рассчитывать на поддержку Роберта, но не любила его.
Как ей не хватало Лулу! Как ей необходимо было поговорить с подругой!
И в чем, на самом деле, был смысл ее спора с Лулу? Во всем и ни в чем. Сразу после ссоры ей казалось, что это важно. Но сейчас она склонялась к тому, что смысла не было. Всего лишь немного зависти с обеих сторон и слишком много алкоголя. Она как-то должна исправить ситуацию. Сегодня же.
— Вот. Ваш омлет. — Горничная с размаху поставила перед ней тарелку и вышла из комнаты.
Омлет оказался серым. Он лежал в лужице темного масла на голубой тарелке с отбитыми краями.
У Женевьевы снова засосало под ложечкой, она вдруг почувствовала странное волнение. Этот омлет совершенно точно нельзя было есть. Но все же она по-прежнему беспокоилась из-за того, что Селин не принесла ни ножа, ни вилки, ни салфетки.
— Селин?
Ни кофе, ни апельсинового сока. Женевьева не сводила глаз с серой массы на тарелке. Она отвратительно пахла прогорклым жиром.
— Селин?
Она услышала, как осторожно закрылась входная дверь. Эта чертова девчонка просто ушла!
Пару минут Женевьева сидела, барабаня по столу пальцами. Ей ужасно хотелось швырнуть омлет в стену, но теперь, когда горничная ушла, придется самой убирать… Она уже собиралась взять тарелку и отнести на кухню, когда в дверь позвонили. Без сомнения, это Селин, она спустилась вниз на лифте и успела успокоиться, поняла, что вела себя бессмысленно и глупо. Прекрасно. Женевьева готова была выслушать ее извинения.
Но за дверью стояла не горничная.
Ольга наклонилась, чтобы получше рассмотреть скульптуру венгерского скульптора Густава Миклоша, высеченную из горного хрусталя. В ней было что-то фаллическое, но одновременно она напоминала небоскреб с заостренными углами.
— Замечательно, — воскликнула она.
— Благодарю вас. — Запах омлета продолжал навязчиво беспокоить Женевьеву. Отвратительный запах несвежих яиц. — Не хотите чаю?
Ольга бродила по гостиной. Ласкала рукой мягкую кожаную обивку одного из стульев «Бибендум», разглядывала стены, на которых ясно выступал серебряный геометрический узор на черном фоне. Вытащила пробку из хрустального графина от Лалик для шерри и взвесила ее на ладони.
— У вас чудесные вещи. — Она была словно пропитана серебром. Ее глаза и волосы несли в себе тот же оттенок, что и сияющие стены гостиной.
— Простите, я отлучусь на минуту. Прикажу подать чай. — Женевьева вышла в холл, чтобы позвать Селин, и только тут вспомнила, что та ушла. Черт побери эту девчонку! Чувствуя неловкость оттого, что оставила Ольгу одну, вернулась в гостиную. Женщина примостилась на кушетке в форме пироги.
— От них мало света. — Она указала на одну из ламп из лакированного дерева и расписного пергамента. — Для чего они?
Женевьева попыталась представить себе квартиру Ольги. Истории Паоло и что-то в поведении самой Ольги навевало мысли об убогой, тесной и мрачной квартирке, сыром белье, покрытых плесенью стенах и детях с голодными лицами.
Сегодня Ольга определенно чувствовала себя не очень хорошо. Она похудела по сравнению с тем днем, когда Женевьева в последний раз видела ее, а это случилось всего четыре дня назад, в магазине. Ее светлое платье без пояса еще больше подчеркивало бледность. Она часто кашляла в платок и, похоже, немного задыхалась.
— Паоло знает, что вы здесь? — Женевьева села на один из стульев «Бибендум». — Он послал вас ко мне с сообщением?
— Не будьте смешной.
— Тогда зачем вы пришли? Это определенно не визит вежливости.
— Где вы храните свою коллекцию туфель? — Она произнесла эти слова с притворной беспечностью.
— Зачем вам это?
— Просто интересно. Ведь туфли — это моя жизнь, вы же знаете.
— Правда? — Женевьева достала сигарету из шкатулки слоновой кости, лежащей перед ней, и протянула Ольге. Та взяла сигарету.
— Конечно. Ведь я уже несколько лет работаю вместе с величайшим создателем обуви.
Женевьева взяла зажигалку и дала Ольге прикурить.
— А мне казалось, что вас интересуют вовсе не туфли.
— Неужели? — Женщина вскинула безупречную бровь, затянулась сигаретой, практически сразу зашлась в приступе кашля, едва вдохнув дым.
— Да. — Женевьева громко произнесла слово, и оно повисло в воздухе, какое-то мгновение они обе молчали.
— Вы ведь вчера были с Паоло, правда? — в конце концов выпалила Ольга. — Он рано отправил меня домой. Это все из-за вас.
— Это вас не касается.
— А что это за мягкий материал? — Она трогала основание кушетки. — Это ведь не дерево, правда?
— Это черепаховый панцирь. — На мгновение Женевьева с ужасом подумала, что Ольга затушит свою сигарету о кушетку. В голове этой женщины всегда существовали подводные течения, но сегодня это было особенно заметно. Но Ольга стряхнула пепел в пепельницу, и напряжение прошло.
— Так вы не покажете мне вашу коллекцию? Я слышала, у вас есть комната, забитая туфлями.
— Она не открыта для посещений, — коротко ответила Женевьева. — Мне хотелось, чтобы вы перешли, наконец, к цели своего визита.
— Хорошо, как вам угодно. Вы не подходите Паоло, и я хочу, чтобы вы оставили его в покое.
Женевьева скрестила руки на груди, словно пыталась защитить себя.
— Это не ваше дело.
— Я хочу, чтобы вы пообещали мне, что оставите его в покое. Навсегда.
— Простите, но я не могу этого сделать. Не могу.
Ненавидящий взгляд был ей ответом. Похоже, женщина к чему-то готовилась.
— Эта кушетка очень неудобная. Лампа неяркая. Ваш мир полон нелепых, бесполезных, дорогих игрушек. — Она ударила подушку кулаком. — Держитесь подальше от Паоло!
— Нет.
И тогда она сделала это. Она затушила свою сигарету о черепаховое покрытие кушетки, а потом швырнула окурок в пепельницу.
— Я слишком давно знаю его, миссис Шелби Кинг. Я видела его со многими женщинами. Он раздавит и вышвырнет вас, — она протянула руку в ее сторону и щелкнула пальцами у нее перед лицом, — словно вы ничтожное мелкое насекомое. А если он не осмелится, это сделаю я.
Женевьева оттолкнула вытянутую руку Ольги и в гневе вскочила.
— Что вы, черт возьми, о себе возомнили, явились сюда и угрожаете мне в моем собственном доме! Портите мое имущество! Я пыталась разговаривать с вами по-человечески только ради Паоло, потому что вы дороги ему. Но, честно говоря, от вас один вред, и я обязательно расскажу ему, как вы обошлись со мной.
— Делайте что хотите. — Ольга встала и смахнула невидимую пыль со своего платья.
— Послушайте. — Женевьева попыталась успокоиться. — Если вы станете продолжать в том же духе, заставите Паоло выбирать между нами, вы еще можете пожалеть, что сделали это. Я знаю, что он любит вас, Ольга, но неужели вы действительно считаете, что он предпочтет подругу любовнице?
Неприятная улыбка тронула лицо Ольги.
— Так он сказал, что я всего лишь подруга?
Что-то перевернулось у Женевьевы в животе. У нее появилось непреодолимое желание уйти прочь, но она не могла бежать из собственного дома. Ей пришлось приложить немало усилий, чтобы заговорить вновь.
— Убирайтесь из моей квартиры.
— Он не для вашей коллекции, — заявила Ольга. — Вы не знаете его, как я. Он должен оставаться свободным. Именно это я и давала ему все годы — свободу.
— Вы слышали, что я сказала?
Наконец, она медленно двинулась к двери, но затем остановилась и взглянула на Женевьеву.
— Если вы еще раз встретитесь с Паоло, я все расскажу вашему мужу.
— Рассказывайте что хотите.
Рот Ольги приоткрылся, между зубами показался кончик языка.
— Думаю, мистеру Шелби Кингу будет очень интересно узнать о малышке Жозефине, вы так не считаете?
— Что?
— Всего хорошего, миссис Шелби Кинг. — Ольга помахала рукой, и Женевьева снова увидела мелькнувший между ее зубами кончик языка. Словно змеиное жало.
— Я делал туфли, которые будут выглядеть как бабочки-адмиралы. — На линии были помехи, голос Закари звучал нечетко. — Я говорил тебе, что не мог сделать их правильно, сколько ни старался? Только сегодня утром я понял, в чем дело. Это была моя самая неудачная идея. Туфли не бабочки и не должны превращаться в них. Они не порхают в воздухе, а, наоборот, твердо привязывают нас к земле. В общем, это было утро интересных открытий. А у тебя?
— У меня тоже было весьма интересное утро, — ответила Женевьева. — Ко мне заходила Ольга. Я хочу, чтобы ты сказал мне правду, Паоло. О вас с Ольгой. На этот раз я хочу знать всю правду.
Молчание.
— По ночам меня мучили кошмары, — послышался, наконец, Голос Закари. — Ужасные кошмары, связанные с тем, что много лет назад произошло с моей матерью. Кто-то приходит к ней в комнату и… ну, это были ужасные сны. Обычно я просыпался от собственного крика. Однажды ночью Ольга услышала меня. Она пришла ко мне в комнату и легла со мной в постель. Сначала она просто гладила меня по голове, успокаивая, поглаживала мои виски. Это помогло мне заснуть. Когда я проснулся, она уже ушла.
— Как трогательно.
— На следующую ночь она снова пришла, а потом снова. Я был мальчишкой. Я был… совсем неопытным. Она многому научила меня.
Женевьева ясно видела перед собой кончик высунутого между зубами языка. Словно змеиное жало.
— Я был молод и горяч. Я не давал выхода страстям. А она тогда была моложе и нежнее.
Снова повисла тишина. Звук его дыхания или же это просто помехи на линии?
— Это продолжалось несколько лет. Но все закончилось, когда я съехал из ее квартиры. Мы никогда об этом не говорили. Действительно никогда. Никто об этом не знал, даже ее дети. Она сразу же возвращалась в свою комнату, когда все заканчивалось. Мы никогда не проводили вместе всю ночь.
Женевьева закрыла глаза. Ее рука, с силой сжимавшая трубку, расслабилась.
— Ты должна простить меня! — Его голос стал громче. — Это похоже на твою историю с фотографом. Всего лишь приключение, оно в прошлом.
— Как ты мог?
— Не суди меня, Женевьева. Я не судил тебя.
— Ты предал меня.
— Что?
— Я доверила тебе свой секрет. А ты все рассказал Ольге.
Вокруг царил ужасный беспорядок, как после кораблекрушения. Кровать была завалена грудой неряшливых ночных рубашек и пестрыми лоскутными одеялами. На единственном стуле высилась гора одежды — ворох шелковых платьев, пыльных меховых горжеток. Бесприютные черные чулки валялись на полу, словно сброшенная кожа, среди ярких шарфов, старых газет и засохших яблочных огрызков. Раковина в углу комнаты была доверху завалена грязной посудой, капли из подтекающего крана мерно барабанили по ее поверхности. На стойке громоздилась батарея пустых бутылок и бокалов, с винным осадком на дне. На трюмо в беспорядке выстроились открытые баночки с кремами и коробочки с пудрой, несколько замысловатых сережек, кольцо с крупной бирюзой, ожерелье из фальшивого жемчуга, блюдца, наполненные сигаретным пеплом. Кто-то красной помадой написал на зеркале «1е chat noir». Стены были увешаны рисунками и фотографиями: Лулу в высокой шляпе с перьями, обнаженная Лулу с коварной улыбкой на губах, Лулу, танцующая в пачке балерины, Лулу в свадебном платье, с ослом и букетиком фиалок, Лулу в саване, Лулу, парящая на крыльях над Парижем, Лулу в виде кошки, пять лиц Лулу с разными выражениями: улыбающееся, хмурое, смеющееся, плачущее и просто бесстрастное. Скрипка, которая, без сомнения, тоже изображала Лулу, серии треугольников, в которых тоже чувствовалось что-то от Лулу, мушка Лулу на простом белом листе. Лулу Ч наиболее часто рисуемая и фотографируемая в Париже женщина. Лулу от Пикассо, Шагала, Матисса, Леже, Миро, Бранкузи, Ман Рэя. И конечно, подлинная Лулу с Монпарнаса, представленная так публике Фредериком Кэмби.
Она появилась на пороге в оранжевом кимоно, с сигаретой в длинном мундштуке из черного дерева. Ее соблазнительная вычерченная мушка была сегодня больше, чем обычно, и совсем не там, где ей полагалось быть, — справа, а не слева. В ней чувствовалось нечто странное, возможно, она волновалась, но это могло быть и проявлением враждебности.
— Насчет той ночи… — начала Женевьева.
— Знаешь, — перебила ее Лулу. — Кэмби сбежал с той шлюхой, Виолеттой. Ты представляешь? На самом деле я должна быть в ярости, но я волнуюсь. Он был не в себе в тот момент, и она могла этим воспользоваться. Точно такая же история произошла пару лет назад, и все закончилось Мальмезоном. Ты знаешь, это психиатрическая больница.
— Дорогая! — Женевьева раскрыла объятия. Какое-то время они стояли посреди беспорядка, крепко обнимая друг друга. Когда, наконец, разжали объятия, Лулу вытирала глаза тыльной стороной руки, размазывая по лицу подводку и тени.
Я убеждаю себя, что он вернется, — сказала она. — Он всегда возвращается. Но все же я беспокоюсь. Когда я встречу Виолетту, выцарапаю ей глаза и спалю ее волосы.
— Есть что-нибудь выпить? — Женевьева уселась на кровать.
— Где-то было. — Лулу встала на колени и заглянула под кровать, обнаружила там полбутылки дешевого скотча. — Это пойдет?
— Давай сюда. — Женевьева открутила крышку и глотнула прямо из бутылки, наслаждаясь огнем, опалившим ее горло.
— О, шери. — Лулу печально покачала головой и села рядом с Женевьевой. — Мы такая бестолковая пара. Мы так поддаемся минутному настроению. А затем начинаем говорить, не думая, и от этого адова пропасть разверзается под ногами.
— Я больше не хочу ссориться с тобой, — воскликнула Женевьева. — Ты единственный человек, с которым я могу откровенно поговорить. Я никогда не встречала человека, который понимал бы меня, как ты.
— Я. чувствую то же самое. Я так скучала по тебе, Виви. — Лулу взяла бутылку и отпила глоток, какое-то время они сидели молча.
Наконец Женевьева заговорила:
— Ты слышала о Нормане Беттерсоне?
— Да, вчера вечером. Эдвард Хаусен ворвался в «Койот» и рассказал всем. Они за полчаса выпили три стакана в память о Беттерсоне. Когда принялись наполнять стаканы по новой, Хаусен отправился рассказать новость в клуб «Жокей». Думаю, тяжелая у него выдалась ночка.
— Помянем Нормана. — Женевьева подняла бутылку, выпила и протянула ее Лулу, та сделала то же самое.
— Сегодня похороны Гая Монтерея, — сообщила Лулу. — Ты слышала?
— Нет. А как же Шепот? Их похоронят вместе?
Лулу покачала головой:
— По всей видимости, она была замужем за американцем. Он заберет ее домой.
— Он не может так поступить!
— Очевидно, может.
— Но они любили друг друга. — Женевьева откинулась на кровать и лежала, глядя на испещренный пятнами потолок. — Странная любовь, но все равно любовь. Они умерли вместе, держась за руки. Они должны вместе лежать в земле.
— Шери. — Лулу ласково погладила ее по щеке. — Дело ведь не в Гае Монтерее, правда? Что случилось?
Женевьева снова села на кровати.
— Я собиралась уйти от Роберта и остаться с Паоло. Но я только что узнала, что он предал меня, и теперь я не понимаю, как поступить.
Лулу встала и положила мундштук на трюмо. Она наполнила стакан молочно-белой водой из-под крана и, повернувшись спиной к Женевьеве, залпом выпила его. Когда она снова заговорила, по-прежнему стояла к ней спиной, опершись о раковину:
— Что значит — он предал тебя?
— Он рассказал своей ведьме Ольге о малышке Жозефине. Ты можешь себе представить?
— Он признался?
— Конечно нет. Но как еще она могла об этом узнать?
Воздух наполнился едким запахом, что-то горело.
— Черт! — Лулу резко схватила сигарету, напрасно пытаясь оттереть свежее черное пятно на трюмо.
— Он разбил мое сердце, Лулу. — Женевьева заплакала. — Зачем он так поступил со мной?
— О, шери. — Лулу взяла ее за руку. — Все это так печально.
В «Койоте» валялись осколки разбитого стекла, виднелись лужицы разлитых напитков и пятна крови. Марсель и еще несколько человек остались, чтобы помочь Лорану и Жанин убраться, но Лулу больше не могла оставаться. Она затосковала. Ей было слишком одиноко, чтобы слоняться в баре без дела. Она поссорилась с Женевьевой, а затем увидела, как Кэмби и Виолетта уходят вместе через заднюю дверь. Хорошенького понемножку! Она должна побыть наедине с собой, немного прогуляться и чуть-чуть выпить.
Она не совсем точно помнила, как снова забрела в тот забытый богом бар. Бармен с татуировками на обеих руках дышал на стакан, затем протирал его полотенцем. Двое стариков сидели на высоких стульчиках, курили и негромко разговаривали. Три шлюхи в дальнем углу могли вполне оказаться теми же, что и в прошлый раз. Все они как две капли воды были похожи друг на друга. Лохматая собака, храпящая на полу, определенно была та же самая.
— Пожалуйста, шерри.
Бармен смотрел на Лулу безо всякого выражения на лице. Она вздохнула.
— Хорошо, пусть будет пиво.
Она прислонилась к барной стойке, пока он наливал пиво, почувствовала, что ужасно устала от такой жизни, от тех усилий, которые требовались, чтобы держать марку Лулу с Монпарнаса двадцать четыре часа в сутки. Лулу — душа всех праздников. Лулу, та маленькая замечательная красотка, которую обожали рисовать художники. Лулу, певица кабаре, с низким, прокуренным голосом, зловещим аккомпаниатором и сердцем, вышитым на рукаве. Она незаменима, когда хочется посмеяться, развлечься на вечеринке, провести вместе ночь. Она станет вашей за выпивку и сандвич.
Как легко все дается Женевьеве. Все эти деньги, одежда, туфли, привилегии. Все игры, в которые можно играть благодаря деньгам. Исключительное отношение, которое приходит с богатством. Господи, как она разозлилась на эту женщину. Все, что она наговорила там, в «Койоте»… Изменяет мужу с двумя мужчинами, а затем пытается обвинить в этом Лулу! Хорошо, возможно, в свое время Лулу и совершила несколько скверных поступков, но она никогда не падет столь низко и не выйдет за мужчину, которого не любит. Лулу заслуживает большего.
Взяв стакан с пивом, она обернулась, чтобы поискать свободное место, и… Разве такое возможно? Она была почти уверена, что не ошиблась.
Ольга в одиночестве сидела за столиком, глядя в пустой стакан.
— Знаешь, шери, — воскликнула Лулу. — Я люблю тебя больше, чем кого бы то ни было.
— Кроме Кэмби, — заметила Женевьева.
— Включая Кэмби. — Она прикурила новые сигареты и передала одну Женевьеве. Они выпили весь скотч. — Мужчины приходят и уходят. А лучшая подруга остается навсегда.
— Есть еще что-нибудь выпить?
— У тебя надо мной большая власть, — продолжала Лулу. — Ты можешь сделать меня счастливой и очень больно ранить.
— Я хочу напиться, — вздохнула Женевьева. — Сильнее, чем когда-либо. — Она Опустилась на четвереньки и принялась шарить под кроватью в поисках бутылок.
— Иногда, — голос Лулу стал мечтательным и рассеянным, — люди, которых я люблю, ранят меня так глубоко, что я схожу с ума. Тогда я напиваюсь и вытворяю всякие глупости.
Женевьева попыталась вылезти из-под кровати и ударилась головой о металлический каркас.
— Я делаю глупости из-за любви, — призналась Лулу. — А не из ненависти.
— О чем ты? — Женевьева потерла ушибленное место.
— Я стала говорить не задумываясь, — сказала Лулу. — Как мы обе порой поступаем. Потому что чувствуем боль. У нас с тобой ужасный характер. Мы взрываемся, подобно фейерверку, и говорим вещи, о которых потом жалеем. — Она протянула руку и снова погладила Женевьеву по щеке. — Виви, мне ужасно стыдно.
Кэмби ушел вместе с Виолеттой, и Женевьева непростительно бросила ее. Лулу пила, чтобы забыть свои обиды, но с каждым бокалом они причиняли ей все большую боль. В конце концов, она не должна пить в одиночестве. А Ольга, как оказалось, была благожелательно настроена и полна сочувствия, как-то странно и болезненно восторженна. Она рассказывала, как влюбилась в Паоло Закари.
— У него было столько идей, — рассказывала она. — Таких прекрасных, талантливых. В нем чувствовалась какая-то особенная энергия, своего рода магнетизм. Я в сравнении с ним казалась пустой скорлупкой. Мне пришлось использовать силу и молодость, чтобы выжить.
— Я, конечно, знаю, каково это, — пробормотала Лулу.
— Сначала я завидовала ему, — призналась Ольга. — Я хотела обладать такой же силой и энергией, как он. Если бы я могла извлечь ее каким-то образом, собрать в бутылку и выпить, не задумываясь, сделала бы это. Но затем все вдруг изменилось. Мне не нужна была его энергия. Я хотела его. Я желала обладать им. Полностью. И я стала замечать, что тоже нужна ему.
— Что? — спросила Лулу. — Чего он хотел от вас?
— Все очень просто. Он был абсолютно один в Париже. И к тому же он был напуган. Ему хотелось иметь свой дом, хотелось, чтобы его любили и заботились о нем. Я поддержала его, помогла почувствовать свою силу. Благодаря мне он стал тем, кем он сегодня является. Благодаря моей любви. — Ольга посмотрела в стакан. — Он думает, что больше не нуждается во мне. Но он не прав и очень скоро поймет это.
Затем она принялась рассказывать о своих детях. Лулу не помнила точно, сколько их у нее было. Она сильно смутилась, слушая продолжение этой истории. В конце рассказа она представляла себе огромное количество голодных маленьких лиц и Ольгу, которая совала детям в рот крошки хлеба, как большая птица птенцам. Когда бармен принес новые напитки, Ольга стала сильно кашлять в платок. Она пыталась спрятать кровь, но Лулу заметила ее.
— Закари знает, что вы серьезно больны?
— Не совсем. Он не представляет, насколько серьезно.
— А вы не думаете, что следует сказать ему?
Ольга спрятала платок.
— Зачем?
Лулу повертела в руках стакан и искоса взглянула на нее.
— Моя подруга Женевьева влюблена в него. Вы знали об этом?
Ольга расхохоталась. По крайней мере, этот звук напоминал смех, а выражение ее лица никак нельзя было назвать счастливым.
— Вокруг Паоло всегда крутятся женщины вроде нее. Но они приходят и уходят.
— Что это значит — «женщины вроде нее»?
— Богачки. — Ольга произнесла слово «богачки» так, словно это было худшее в мире оскорбление. — Женщины, которые покупают его туфли. Они думают, что могут купить и Паоло. Но в конце концов я единственная, кто остается рядом с ним. Он устает от них. Так происходит всегда.
— А что, если Женевьева — исключение из правил? — Лулу уже была сильно навеселе.
Ольга покачала головой:
— Он отвергнет ее.
— Вы говорите с такой уверенностью. Неужели думаете, что знаете его настолько хорошо?
— Я единственный человек, который действительно знает его. Он для меня все. — Неожиданно Ольга начала дрожать, ее руки едва могли удержать стакан.
— С вами все в порядке? Может быть, вам надо домой?
— Она не представляет, что значит любить. — Ольга тряслась. — Она холодна как камень.
— Уже поздно. — Только теперь Лулу почувствовала, как пьяна. — Я лучше пойду.
Но Ольга вцепилась в ее руку.
— Выпейте со мной. Я боюсь оставаться одна.
Лулу кричала вслед Женевьеве, когда та мчалась по ступенькам вниз все семь этажей, бестолково стуча высокими тонкими каблучками и рискуя сломать ноги. Ее мутило от зловония общих туалетов на площадках, она изо всех сил пыталась взять себя в руки. Голос Лулу все еще звучал у нее в ушах, когда она выскочила на улицу.
Здесь город выглядел по-другому. Крикливые бутики на рю де ла Пэ с огромными витринами и пышными фойе; яркость и витиеватость баров и кафе Монпарнаса; благородная изысканность и утонченность рю де Лота — все это существовало словно за сотни миль отсюда. Здесь даже не проезжали такси, машин вообще не было видно, поэтому обратно к цивилизации ей пришлось выбираться пешком.
Воздух казался спертым. Лето вздулось и перезрело и теперь постепенно загнивало. Женевьева проходила по узким переулкам между высотными зданиями, которые казались шаткими и непрочными, словно существовали на грани полного разрушения. Она шла под натянутыми повсюду и перепутанными бельевыми веревками. Женщины с обнаженными руками склонялись из высоких окон, курили, громко переговаривались друг с другом. Дети в вязаной одежде на несколько размеров больше их собственного торчали в грязных дверных проходах, играли с каменными шариками, камнями и костями. Собаки без ошейников плескались в сточных канавах.
Она прежде бывала здесь пару раз. Пьер ждал ее в «бентли» рядом с домом Лулу, а местные дети наблюдали за ним и шептались между собой. Но она никогда не ходила по этим улицам, не видела их жизни так близко. Она никогда не задумывалась, как жила Лулу, возможно, предполагая, что эти обстоятельства предусматривал умышленный выбор богемной жизни: лучше яркая, артистичная бедность в кимоно, чем серая и грязная нищета. Теперь ей в голову неожиданно пришла мысль, что ее высокомерие и самодовольство могли тяжело ранить подругу. Она подумала о Лулу и Ольге, которые пили вместе в маленьком баре, делясь секретами, а возможно, и чем-то большим, молчаливо, не говоря ни слова. Но неужели она виновата в том, что богата, а Лулу и Ольга бедны? У этого предательства не было оправдания.
В конце концов она выбралась из нищего квартала и приблизилась к реке. Пара молодых влюбленных целовалась на улице, их велосипеды были прислонены к фонарному столбу. У мальчика оказалось спокойное и доброе лицо. Девочка была розовощекой, сияющей и миниатюрной. Женевьева не могла смотреть на них без слез. Наконец она решила поймать такси.
Это похоже на то, как закрывается и исчезает рана, как желтеет и сходит с кожи синяк. Вы можете оправиться от всего, если захотите. У вас нарастет новая кожа и растянется над порезом, тонкая, нежная. Шрам можно спрятать от любопытных глаз. Женевьева поступила именно так, когда потеряла своего ребенка. Теперь она сможет повторить это. Вы принимаете каждый день таким, какой он есть, заставляете себя жить дальше. И с каждым прошедшим днем ваша боль понемногу уходит. Однажды вы просыпаетесь и не чувствуете ничего.
Роберт сидел в гостиной и наливал себе виски.
— Что случилось с пробкой от графина с шерри? — В его голосе звучали грубые ноты.
— Не знаю. — Его раннее появление оказалось для нее неприятным сюрпризом. Она не знала, сможет ли быть рядом с ним. Это слишком напоминало начало пожизненного заключения.
— Странно, вещь исчезла как-то сама собой, тебе не кажется?
— Да, я тоже так думаю. — Она шлепнулась на стул, глядя на него. У него была уверенная манера держаться — ровная и твердая, как у солдата: ноги слегка расставлены в стороны. А Паоло всегда к чему-нибудь прислонялся, к стенам, к дверным косякам, сам того не замечая и сутулясь. В его теле чувствовались некоторые расслабленность и естественность.
Но она должна перестать думать о Паоло.
— Возможно, это Селин. — Ее голос звучал устало. Она толкнула разрушительное ядро в единственную настоящую любовь своей жизни. Он никогда не простит ее после того, что она наговорила ему по телефону, после того, как она ужасно себя вела.
— Ты сказала, что она разбила ее?
— Или украла. Она ушла сегодня. Думаю, нам надо нанять другую горничную.
Как же она ненавидела Лулу. Этой ненависти хватит, чтобы собраться с силами.
— Почему горничная ушла? — Он потягивал виски.
— Откуда мне знать?
Она может столкнуться с Паоло в городе. На вечеринке, на улице, в магазине. И с Лулу тоже. Это будет происходить бесконечно и станет невыносимым. Они с Робертом должны уехать из Парижа. Они должны попробовать начать все сначала где-нибудь еще. Это единственный выход.
— Мне кажется, ты что-то недоговариваешь. Она не могла уйти без причины, правда? — Роберт предложил ей бокал шерри. — Что произошло?
— О, я не хочу беспокоить тебя этими мелкими домашними пустяками, дорогой. Не сомневаюсь, на самом деле тебе это абсолютно не интересно.
— Напротив.
— Не притворяйся. — Женевьева попыталась рассмеяться.
С ним определенно творилось что-то неладное. Дело не в том, как он с ней разговаривал. Он смотрел на нее и тут же отводил взгляд. У него был довольно помятый вид, волосы спутаны, на лице щетина, он даже не удосужился побриться. Даже костюм, похоже, не подходил ему. И вообще, его ли это одежда?
— Она разбила пробку от графина. И сделала это специально. Она швырнула ее о каминную полку. Разбила бы и другие вещи, если бы я не остановила ее. Помнишь ту вазу от Лалик, которая стояла на камине? Она и ее разбила некоторое время тому назад.
— Но мне показалось, ты не знаешь, что произошло с пробкой от графина.
— Я не хотела говорить об этом. Я до сих пор дрожу. Она затушила сигарету о кушетку. Посмотри. — Женевьева махнула рукой.
— Никогда не видел, чтобы она курила. — Роберт подошел к кушетке и дотронулся до черной отметины на обивке.
— Ты никогда не видел, как она ест. Это не означает, что она вообще не ест.
Он подошел к камину и уставился в него, словно желал обнаружить осколки стекла.
— Я лучше пойду в мою комнату туфель. Я хочу немного побыть одна.
— Ты лжешь. — Его голос прозвучал ровно и как-то странно покорно. — Ты лжешь мне давно.
Женевьева проглотила подкативший к горлу ком.
— Зачем мне лгать? Она всего лишь глупая девчонка, склонная к истерикам. Хорошо, что мы избавились от нее. Скоро я найду ей замену.
— Я говорю сейчас не о горничной! — Он ударил кулаком по каминной полке.
— Дорогой…
— Скажи мне правду. У тебя роман с другим?
— Нет. — Она едва смогла вымолвить это слово.
— Тебя видели с ним, черт побери! Жена Гарри видела тебя!
…Люксембургский сад… Та женщина… Он сел и обхватил голову руками.
— Да, у меня был роман, но теперь все кончено, — спокойно произнесла она. — Мы больше не видимся.
— Я так любил тебя. — Роберт потер лицо. — Но как я могу продолжать любить тебя? Я не верю ни единому твоему слову.
Женевьева в одиночестве сидела в своей комнате туфель, ее глаза покраснели и стали сухими, как наждачная бумага. Она вспоминала о той игре, в которую играл маленький мальчик с нижнего этажа, когда встречал соседей в лифте или в коридоре. Он думал, что если закроет глаза руками, то спрячется. Он не сможет увидеть вас, но и вы не увидите его. Он становился невидимкой.
Как жаль, что она не может закрыть глаза и исчезнуть.
Она босая сидела на полу, прислонившись спиной к стене. Напротив лежали две пары туфель. Красный генуэзский бархат, пряжки усыпаны крошечными бриллиантами. И два зверя, смотрящие друг на друга, приготовившиеся к войне или к любви. Золотые каблуки с буквами «Ж» и «П», переплетенными между собой в зеркальном отражении.
Дверь распахнулась. Женевьева не отрывала взгляд от туфель.
— Женевьева…
— Эти необходимо тщательно почистить. — Она взяла красную туфельку. — Бархат следует ворсить при помощи мягчайшей щеточки, полировать стекло при помощи кусочка газеты, стараясь не размазать типографскую краску по ткани. Бриллианты лучше не трогать, можно испортить огранку, или они выпадут.
— Я хочу кое-что узнать.
— Когда надеваешь эти туфли… — она сумела произнести эти слова, — все равно что кладешь ноги в теплый, шелковый рот.
— Он мой? Я имею в виду ребенка.
Она вздохнула.
— Нет никакого ребенка.
— Понятно. — Он с хрустом разминал свои пальцы и щелкал костяшками. — Я пойду пройдусь. — Отвернувшись от нее, он словно съежился и стал меньше. Как будто превратился в старика. — Подожди меня здесь. Мы поговорим, когда я вернусь.
Глава 8 ОТДЕЛКА
Женевьева Шелби Кинг сидела в одиночестве в «Клозери де Лиль» за угловым столиком. Рядом с ней стоял маленький чемоданчик, на столе — рюмка коньяку, в пальцах ее правой руки зажата сигарета. На ней был дневной костюм от Шанель из черного шерстяного джерси и шелка: с широким воротником и длинными свободными рукавами, крупным низким ремнем и плиссированной юбкой. Шею украшало жемчужное ожерелье ее матери, на йогах светились туфли с золотой вышивкой от Закари. На голове — шляпка-колокол с бриллиантовой булавкой и черным страусиным пером. Он сидела здесь уже довольно долго, и ее одежда выглядела более трезво, чем она сама.
В чемоданчике лежали красные бархатные туфли от Закари и ее детские туфельки Мери Джейн. Она в спешке упаковала также бриллиантовую диадему, в которой была на свадьбе, и кольцо с гроздью бриллиантов и сапфиров, думая, что в случае необходимости сможет выручить за них какие-то деньги. Это были фамильные драгоценности. Она не захотела брать ничего из подарков Роберта. Забрала также свою наличность — пятьсот долларов, пару тысяч франков и паспорт.
Множество похожих на Хемингуэя и Макэлмона личностей собралось сегодня в этом месте, присаживались за столики вместе со своими заумными женщинами с модно завитыми прическами, мушками, как у Лулу, в коротких платьях с глубокими вырезами и грубым смехом, который напоминал разрывы артиллерийских снарядов. Сквозь клубы густого табачного дыма до Женевьевы долетали обрывки разговоров.
— Правда? Вы говорите, писатель-романист? А я думала, это кличка скаковой лошади или маленький городок в Бретани…[9]
— Но вы не понимаете. Когда я остаюсь с ней наедине, я чувствую, что теряюсь в огромной, мрачной и сырой пещере, зову на помощь и слышу эхо своего собственного голоса, бесконечно отражающееся от стен…
— Trois Filles Nues в Буф-Паризьен. Чудесные танцы. Они одеты в костюмы креветок. Да, я действительно сказала, это костюмы креветок…
Они преследовали только одну цель, все эти притворщики. Бормотание и вечный рокот, джазовые вибрации, безумный, неумолчный шум, который освещает Париж ярче, чем все фонари, и переносится, наэлектризованный, от человека к человеку. Женевьева страстно желала стать частью этого шума, и в последнее время ей удалось приблизиться к эпицентру событий. Она ощутила невыносимое сияние, когда была с Паоло Закари. Воздух вокруг Лулу был постоянно наэлектризован. Она почувствовала это и в доме Нормана Беттерсона. Даже когда убегала от Гая Монтерея.
Но в конечном счете она проиграла. Электрические вибрации Парижа отвергли ее. Она потеряла любимого, ее жизнь разбилась вдребезги. Настало время все бросить и уйти.
Беда была в том, что она не представляла, куда идти.
Она написала записку.
«Дорогой Роберт,
Я очень сожалею о том, как поступила с тобой. Одна ложь влечет за собой другую — и так продолжается бесконечно. Я выстроила дорогу лжи и шла по ней с самого начала нашего брака. Я думала, что смогу повернуть обратно, но теперь понимаю, что это не в моих силах.
Надеюсь, ты еще будешь счастлив. Ты заслуживаешь счастья. Если тебя это хоть немного утешит, то я — нет.
Виви.
P. S. Лошадь в подвале».
Она затушила сигарету и прикурила новую. Положила левую руку на стол и опустила на нее отяжелевшую голову.
— Женевьева?
Она подняла глаза.
Перед ней стояли две женщины в черном.
— Марианна заметила вас с улицы, — сказала Августа Беттерсон.
— Норман часто приходил сюда, правда? — У Марианны было ясное и умное лицо. Ее нос напоминал лошадиный, но глаза казались огромными, чудесными, простодушными. В них лучилась доброта.
— Они все собираются здесь, — кивнула Женевьева.
— Вы когда-нибудь встречались с ним здесь, чтобы поговорить о журнале?
— Пару раз.
Женщины переглянулись.
— Вы сидели за этим столиком? Я имею в виду, с Норманом? — уточнила Августа.
— Возможно, я не помню.
— Можно мы присядем? — Августа подвинула стул и села. Марианна последовала ее примеру.
— Мы подумали, — начала Марианна. — Над тем, что вы сказали вчера.
— А что я сказала?
— Я сказала вам, что его поэзия потеряна, что она нереальна, пока не напечатана. Но вы ответили, что, возможно, кое-что уже напечатано. И только мы можем это спасти.
Женевьева пожала плечами.
— Норман так усердно трудился над журналом. — Августа была нежнее, чем Марианна. Она казалась старше, в ее лице чувствовалась некоторая мясистость. Но из-под этой кажущейся мягкости проглядывал стальной характер. — И Макэлмон, и все эти писатели. Будет ужасно стыдно, если их работа пойдет прахом.
— Ах. — Женевьева переводила взгляд с одной женщины на другую. — Вы хотите, чтобы я помогла. Мне очень жаль, но…
— Подумайте об этом. — На щеках Августы все еще виднелись следы слез. — Все поэмы и стихи собраны, есть много произведений известных писателей. Все отредактировано.
— Это всего один выпуск, — сказала Марианна. — Пока. Женевьева открыла рот, чтобы заговорить, но Августа прервала ее:
— Это ведь и ваш проект, не только Нормана. Мы прислушаемся к любым оценкам.
— Оценкам… — Она попробовала слово на вкус. Оно оказалось чужим. — Это странно. Правда, невероятно забавно.
Но никто не смеялся.
— У меня нет таланта, — ответила Женевьева. — Мои стихи никуда не годятся. Если не верите, почитайте сами. Мой блокнот все еще в вашей квартире.
— Но вчера мы не случайно встретили вас, — воскликнула Марианна. — Это знак. И сегодня мы натолкнулись на вас здесь — это тоже знак. Мы должны спасти журнал. Ради Нормана.
— Нам нужны деньги, — призналась Августа. Женевьева заказала еще три рюмки коньяку.
— Выпейте со мной, леди. Боюсь, это самое большее, что я могу для вас сделать. Понимаете, я только что ушла от мужа.
— Ушли? — Марианна нахмурилась.
Женевьева приподняла свой чемоданчик.
— Я путешествую налегке, вам не кажется?
— Значит, деньги… — начала Августа.
— Это его деньги. У меня нет ни гроша. Вы можете пойти и поговорить с Робертом, если хотите, но мне не кажется, что он будет расположен помочь журналу. Особенно после того, через что ему пришлось пройти по моей вине.
Официант принес три рюмки коньяку. Женевьева вертела в руках стакан, а Марианна выглядела мрачной и подавленной, но Августа улыбнулась и вылила ее коньяк в свою рюмку.
— Ну что ж. Мы отыщем другого спонсора. Спонсоры наверняка найдутся. Журнал выйдет в свет. Некоторые вещи предопределены, и это одна из них.
Что-то проскользнуло между двумя женщинами, что-то вроде нового прилива энергии. Еще двадцать четыре часа назад, в Нотр-Дам, они казались выдохшимися и опустошенными. Но сегодня они были полны новых планов и намерений.
— Вы правда в это верите? — уточнила Женевьева. — В то, что некоторые вещи «предопределены»?
Августа пожала плечами:
— Не знаю. Возможно, немного. Все зависит от человеческого отношения. Если что-то достойно того, чтобы за него бороться, не стоит сдаваться. Нужно сделать все, чтобы победить.
— Да, вы правы. — Что-то разгоралось в душе Женевьевы.
— Именно так Норман и прожил свою жизнь, — вздохнула Августа. — Люди, которые плохо знали его, считали, что он «всего лишь один из этих поэтов», крутится и пьет в барах Квартала. Но в Нормане было нечто большее. Он работал больше, чем все, кого я когда-либо знала. Он не тратил попусту ни единого дня. Долгое время его болезнь помогала ему быть сильнее. Имело ли это смысл? Болезнь делала его сильнее, заставляя чувствовать себя более целеустремленным и стойким.
Пламя разгоралось в сердце Женевьевы. И о чем только она думала, сидя здесь и распивая коньяк, тоскуя и глядя, как рушится жизнь вокруг нее? Словно пробудившись ото сна, она опрокинула рюмку и бросила на стол несколько франков.
— Вы уходите? — спросила Марианна.
— Да. Я еще должна кое-что сделать, по крайней мере, попытаться. Мне действительно очень жаль, что я не могу помочь вам с журналом. Хотя, думаю, у вас все получится. — Затем добавила, вспомнив что-то: — Подумайте о графине де Фремон. У нее куча денег, и она… легкий человек.
Ей казалось, что еще никогда она так долго не ждала, держа в руках телефонную трубку. Такой огромный промежуток времени, за который можно было сойти с ума от беспокойства. Бояться, испытывать трепет, молиться.
Пожалуйста, пусть он окажется там. Пожалуйста, пусть это будет он, а не она.
Время растягивалось. Оператор, должно быть, специально затягивала.
И вот, наконец… «Соединяю вас».
Раздался громкий щелчок, звук дыхания. Его дыхания. Она знала этот звук и обожала его.
— Паоло, мне так…
— Я понимаю.
— Ты сможешь меня когда-нибудь простить?
— Возможно. Ты пьяна?
— Да. Ушла от Роберта.
— Ты серьезно?
— Конечно серьезно. Я оставила Роберта, квартиру, свою коллекцию туфель… — Сердце болезненно колотилось о ребра. — Я сделала это, Паоло. Все кончено. Обратного пути нет.
Снова послышалось его дыхание.
— С тобой все в порядке?
— Сегодня вечером я уезжаю из Парижа.
— Куда ты поедешь?
— В Лондон. Поехали со мной.
Странный звук раздался на линии. Возможно, кашель, возможно, смех.
— Там мы сможем все начать заново. Лондон — великий город, возможно, более серьезный, чем Париж. Это не повредит твоей работе. У тебя появятся новые источники вдохновения. Мы будем вместе. И ни Роберт, ни… она не смогут доставить нам неприятностей. Мы можем обрести счастье.
В ответ она услышала молчание.
— Или же ты можешь остаться здесь со своими туфлями, ходить на вечеринки, спать с женщинами, которых не любишь ты и которые не любят тебя. Годы пройдут, а ты будешь становиться все более одиноким и ожесточенным. Жизнь без любви, вот что у тебя останется. Ты высохнешь, как старая слива. Неужели ты думаешь, что от этого твои туфли станут прекраснее? Я в этом сомневаюсь.
Он по-прежнему молчал. Огонь в ее желудке начинал разгораться.
— Ну же, Паоло. Скажи да. Мы еще можем успеть на восьмичасовой паром.
— Сейчас уже шесть тридцать.
— И что?
— У меня слишком мало времени, чтобы собраться.
Языки пламени снова подпрыгнули, почти добрались до ее горла.
— Так ты едешь?
— Да.
— У нас все будет хорошо. Ты ведь тоже это знаешь, правда?
— Встретимся на Гар-дю-Нор.
— На платформе.
Женевьева глубоко вдохнула и выдохнула, трубка замолчала в ее украшенной драгоценностями руке.
Голуби порхали у нее над головой, когда она протянула деньги на билет. Они схватили кусок хлеба, который кто-то уронил, и полетели обратно на сводчатую крышу из стали и стекла. Люди сновали туда-сюда. Деловые люди в элегантных пальто кое-где мелькали в толпе, придерживая шляпы, выражали свое недовольство и презрение. Пар шипел и вырывался из огромных черных машин, напоминающих Женевьеве собак ее отца, больших черных гончих, которые скребли когтями мерзлую землю, натягивая поводки, их дыхание белым паром клубилось в воздухе. Она всегда ужасно боялась этих собак.
Суровая женщина с сердитыми красными щеками в тусклой серо-коричневой шляпе широкими шагами шла к поезду, таща за руку свою крошечную дочь, так торопилась, что ребенок практически волочился по земле. Девочка, которой было не более четырех-пяти лет, прижимала к себе тряпичную куклу и хныкала, пытаясь удержаться на ногах. Выбившись из сил, девчушка стала отставать, мать дернула ее за руку, отчего кукла упала на землю. Девочка завизжала и разревелась, попыталась схватить куклу, но промахнулась и была увлечена вперед матерью. Женевьева поспешила, хотела отдать куклу, но ее неожиданно толкнула в живот локтем какая-то старуха с зонтиком. Старая леди принялась громко и хрипловато извиняться, и, когда Женевьева, наконец, отделалась от нее и огляделась, девочка и ее мать исчезли. На мгновение ей показалось, что она услышала плач, но невозможно было четко различить его во всепоглощающем вокзальном шуме. У брошенной куклы были шерстяные волосы, грязное белое лицо и бессмысленно вытаращенные голубые глаза. Женевьева посадила ее на скамейку.
В привокзальном баре выпила маленькую чашечку черного кофе, наслаждаясь каждым крошечным глотком жгучей жидкости и думая о том, что в ближайшее время ей едва ли удастся попробовать действительно хороший кофе.
Итак, она возвращается в Англию. Но не в Англию с приглушенным шепотом, дребезжанием чайных чашек, плесенью и вечным осуждением. Нет, они направлялись в Лондон. Театры, универмаги, пышность, великолепие… В Лондоне можно скрыться от осуждения, раствориться в толпе, спрятаться от любопытных глаз, потерять себя…
Конечно, они не собирались терять себя. Жизненно важно, чтобы Паоло быстро обрел известность. Они проживут в отеле пару недель (она представила себе «Коннаут»), подыщут подходящее помещение для мастерской, возможно, даже на Бонд-стрит, уютную квартирку, возможно, в одном из этих милых белых зданий в георгианском стиле в Кенсингтоне, с большими окнами, балкончиками и чудесным видом на Гайд-парк. Да, это был бы идеальный вариант. Ее улыбка слегка померкла из-за беспокойства о том, как они смогут расплатиться за это. У них ведь не было времени, чтобы обсудить этот небольшой пункт… Но у Закари наверняка куча денег. Он, конечно, не тратил деньги на мелочи вроде обустройства жилья. В любом случае им необходимы деньги только для того, чтобы начать новую жизнь. Как только он станет работать, за их совместное будущее можно не беспокоиться.
Она представила, как Роберт читает ее записку. Он будет просто вне себя от ярости. Возможно, ворвется в комнату туфель, начнет вытаскивать коробки и разбрасывать ее коллекцию. Возможно, станет кромсать их ножами и ножницами или сложит в кучу и подожжет.
Она задрожала.
Ее часы показывали почти без двадцати восемь. Как только она вошла на платформу, грянул оркестр духовых инструментов, музыканты были одеты в голубую с золотом униформу. Носильщики подносили к поезду чемоданы и дорожные сумки. Пассажиры устраивались в вагонах с газетами. Мальчик чертил пальцем по грязному стеклу, рисуя улыбающуюся рожицу, пока кто-то не прикрикнул на него, заставив прекратить это, и он сжался в своем кресле и нахмурился.
Без четверти восемь. Крики в начале соседней платформы заставили Женевьеву обернуться и посмотреть, что происходит. Какая-то знаменитость выходила из вагона. Откуда ни возьмись набежала целая толпа репортеров с бесконечными вспышками фотоаппаратов, толпа охотников за автографами, восхищенные дети и прочие безрассудные типы, слетевшиеся мотыльками на огонь.
Показалась Жозефина Бейкер, в окружении фотографов и поклонников. После ее триумфального дебюта в La Revue Negre в театре на Елисейских Полях ее знали все в городе. Даже те, кто никогда не видел спектакля, едва ли могли не заметить ее невероятно чувственное и прекрасное лицо, неприлично короткое платье с плакатов Поля Колина, которыми были обклеены киоски на каждом углу. Теперь она торопливо шла по платформе, ведя на поводке ручного леопарда Чикиту, улыбалась белозубой улыбкой, ее сопровождало несколько красавцев, которые вполне могли оказаться телохранителями, менеджерами, юристами или любовниками.
Это точно от Поля Пуаре, вынесла свой вердикт Женевьева, разглядывая роскошное розовое облегающее платье мисс Бейкер. Она привстала на цыпочки, чтобы рассмотреть сияющие, розовые с серебром туфли. Такие туфли вполне мог сделать Паоло. Она обязательно спросит его об этом, когда он придет. Он уже должен быть здесь.
Часы показали без десяти восемь, свита Бейкер скрылась из глаз. Женевьева изо всех сил пыталась справиться с охватившим ее беспокойством.
— Мадам? — Пожилой начальник поезда похлопал ее по плечу. — Может быть, вам лучше сесть в поезд?
— Нет.
Без пяти восемь двери стали захлопываться, каждый удар наполнял ее отчаянием и страхом. Перед ее мысленным взором представали катастрофы, одна ужаснее другой. Закари лежит под колесами такси на рю Денен, рядом с вокзалом, ее имя застыло на его мертвых губах. Закари в темном переулке повалился навзничь, из головы хлещет кровь, над ним с пистолетом, из которого еще идет дымок, стоит Роберт. И возможно, самая ужасная картина: Закари в своей мастерской трудится над последней парой туфель для Вайолет де Фремон, стоически игнорируя настенные часы.
— Мадам? — снова начальник поезда.
На платформе остались только они вдвоем, окутанные клубами пара. Мальчик в ближайшем вагоне нарисовал новую рожицу на оконном стекле, уголки ее рта были печально опущены книзу.
— Мадам, теперь вы должны сесть в поезд.
Она снова вспомнила печальное розовое лицо девочки, уронившей тряпичную куклу.
— Мадам?
Женевьева отвернулась, чтобы спрятать слезы, и поспешила прочь с платформы в своих прекрасных, но непрактичных туфлях, как только раздался паровозный свисток.
Скрип и скрежет ознаменовали первые движения машины. Вращение и кружение, когда она медленно начала двигаться вперед. Несколько оставшихся на платформе людей махали руками и белыми платками.
Дойдя до начала платформы, она изо всех сил закрыла глаза, уронила чемодан и так и стояла, обхватив себя руками, маленькая и неподвижная, а люди сновали вокруг нее. Когда она снова открыла глаза, прямо перед собой увидела мальчика. Чумазый мальчик двенадцати-тринадцати лет с темными, спутанными волосами, в коротких брючках, шнурки ботинок волочились за ним по земле.
— Чего ты хочешь?
Мальчик пристально смотрел на нее, не говоря ни слова.
— Ты просишь милостыню?
Запавшие, голодные глаза. Его лицо показалось ей странно знакомым.
Тогда он что-то протянул ей. Скомканный клочок бумаги. Она взяла его, и, пока разворачивала, мальчишка развернулся и кинулся бежать.
«Я не могу поехать с тобой. Мне очень жаль. Я люблю тебя. П.».
Сердце Женевьевы ухнуло вниз. Мальчик промчался мимо билетной кассы, отпихивая людей в разные стороны, затем скрылся из вида.
Она скомкала записку в руке, изо всех сил сжала в кулаке, а голуби порхали вокруг, борясь за крошки хлеба.
Роберт шел в офис, он просто не представлял, куда еще можно отправиться. Этот город стал ему чужим. Да он никогда не принимал его. Но он еще никогда не чувствовал себя словно бы подвешенным на болтающейся из стороны в сторону нити.
«Жди меня здесь, — сказал он Женевьеве. — Мы поговорим, когда я вернусь». Но что еще он мог сказать? Гарри оказался прав насчет нее. Чем скорее он узнает правду, тем лучше. Пора возвращаться домой. Он должен был давно уехать отсюда, несколько лет назад. Да и вообще ему не следовало приезжать в Европу, если уж на то пошло.
С самого начала это не предвещало ничего хорошего. Он всего лишь путешествовал, исходя из своих представлений о романтизме и героизме. Все его знакомые смеялись или удивлялись, узнав о его горячем стремлении поступить на военную службу. Они, казалось, видели в этом признак незрелости и инфантильности и подшучивали над ним. Почему бы не побаловать мальчика. Пускай повеселится. Они оказались правы. Он сыграл второстепенную роль, не познав ран и крови, пролитых на поле брани. Он прошел через войну без боевых шрамов и медалей. Он даже не смог привести с собой под руку Агнес, свою первую любовь. Его жизнь сложилась бы совершенно иначе, если бы она выбрала его, а не этого потерянного, а затем неожиданно возникшего из небытия Эдварда.
Здание опустело. Все разошлись по домам, вернулись к своим семьям, к приятной домашней жизни. Он поднялся на четвертый этаж, побрел по длинному коридору, подумал, что мог бы остаться здесь на ночь. Прилег бы на ковер в виде тигровой шкуры, который она заставила его купить. Да, почему бы не заставить ее немного поволноваться? Он не торопился возвращаться на рю де Лота.
— Мистер Шелби Кинг.
Роберт подпрыгнул и резко повернулся на звук девичьего голоса.
— Я не хотела вас пугать. Мне необходимо с вами поговорить.
Это оказалась горничная Селин!
— Как ты вошла сюда?
— Я шла следом за вами. — Ее зрачки расширились в полумраке комнаты. — Я не хотела испугать вас, клянусь.
— Ты шла за мной? От рю де Лота?
Она кивнула в ответ.
— Но это здание закрыто в нерабочие часы. А я запер дверь за собой.
— На самом деле вы этого не сделали, сэр.
Он потер затылок.
— Проходи в мой офис. Мы можем выпить вдвоем, и ты расскажешь мне, что у тебя на уме. Ничего лучше мне все равно сейчас не придумать. Да и тебе, судя по всему.
Роберт достал виски и махнул рукой, приглашая ее садиться. Она, казалось, забеспокоилась, скорее не из-за щекотливой ситуации, в которую попала, а из-за необходимости пить. Он подумал, что она никогда раньше не пробовала виски. По какой-то причине он вдруг вспомнил о Мари-Клер, что бы она сказала, если бы вошла и увидела, что он пьет виски с какой-то худенькой девочкой. Он представил себе неодобрение в ее спокойных глазах. Но странно, это только подхлестнуло его. И хотя горничная поперхнулась и закашлялась после первого же глотка, он подлил ей еще и устроился на другом кресле для посетителей.
— Итак, — начал Роберт. — Я знаю, что ты ушла от нас. Расскажи, почему?
— О, сэр. Я не хотела уходить от вас. Только не от вас. Но она, она вела себя так… Я больше не могла закрывать на это глаза.
Он не мог взять себя в руки и задать ей вопрос. Но все же он должен был сделать это.
— Закрывать глаза на что, Селин?
— Она вас не стоит. Вы слишком хороши для нее. Она…
Роберт вздохнул и залпом осушил стакан.
— Все началось с телефонных звонков. Он называл себя месье Ренар. Я вовсе не собиралась подслушивать, но она и не думала говорить тише! А затем она собиралась и уходила, разодетая и обвешанная украшениями, сэр, в то время как вы были на работе. Звонила в отели, заказывала номера, потом упархивала, а вы думали, что она сидит дома. Это правда, клянусь вам здоровьем своей матери.
Он испытывал чувство облегчения, сидя здесь и слушая эту историю. Девушка не могла сказать ничего, что потрясло бы его. Уже нет. А как она волновалась, боялась его непредсказуемой реакции, но все равно безжалостно выложила ему всю правду. Что двигало этой девушкой, когда она шла за ним по пятам, собираясь рассказать ему обо всем? Возможно, чувство чести и справедливости или ненависть к его жене? Или что-то еще?
— Она пыталась купить мое молчание. Сначала подарила мне туфли, затем подсунула мне под дверь деньги. Она вела себя так нахально. «Я ухожу на примерку туфель, Селин». Никто не проводит столько времени на примерке у сапожника, сэр! По крайней мере, на настоящей примерке. Даже она.
Роберт внимательно посмотрел на горничную. Ее слова показались ему странно знакомыми…
— Я оставалась сколько могла, сэр. Ради вас. Я… Вы такой замечательный человек. Я понимаю, что вы потрясены, но не позволяйте ей уничтожить вас. Не все женщины такие подлые и лживые, как она.
Селин взглянула на него из-под ресниц, ее лицо преобразилось, стало более уверенным и женственным. Что-то кокетливое промелькнуло в этом взгляде. Возможно, она растолковала его поведение как намек? Изменилось ли его собственное выражение лица?
— Я знаю, Селин. — Он налил еще виски, наполнил стаканы до половины и пробормотал: — Ты хорошая девочка, ведь именно поэтому ты писала мне письма, не так ли? На чудесной сиреневой бумаге. Ты делала это исключительно по доброте душевной.
— О, сэр. — На ее лице мелькнули облегчение и радость. — Я знала, что вы поверили мне.
— Конечно. — Он придвинул свой стул чуть ближе. Интересно, сколько ей лет? Шестнадцать? Семнадцать? — Мой брак разрушен, милая. Он давно прекратил свое существование, но я только сейчас это понял. — Мари-Клер снова незваной гостьей пробралась в его мысли. Мари-Клер на кухне готовит кофе. Оборачивается к сыну, чтобы подсказать, где его ранец. — Понимаешь, я встретил другую женщину.
— Другую… — Ее глаза влажно заблестели. На ее лице он прочел все, что хотел узнать.
— Да. А теперь давай выпьем. В бутылке еще есть. — Он протянул руку и похлопал ее по коленке, задержал ладонь достаточно долго для того, чтобы убедиться, что она не оттолкнет его.
В такси Женевьева еще раз перечитала жалкую записку, разорвала ее на мелкие кусочки и вышвырнула из окна, развеяв по ветру, как конфетти.
Окна в магазине Закари были закрыты ставнями. Она стучала в дверь, звала его, а затем ударила ногой. Один, два, три раза. Выплеснув гнев, остановилась и попыталась решить, что делать дальше.
Он действительно любил ее. Она не сомневалась в этом. Но тогда почему он так поступил с ней? Он не пришел сам на вокзал, а подослал какого-то мальчишку с глупой запиской. Она должна найти ответы на все свои вопросы.
Женевьеве пришло в голову, что она сумеет открыть при помощи какого-нибудь рычага одно из верхних окон. Они были старыми, рамы выглядели прогнившими, а задвижки совсем хрупкими. Если бы только она могла забраться наверх…
Она неожиданно вспомнила Гая Монтерея, карабкавшегося в квартиру над «Шекспиром и компанией», раскачиваясь на вывеске (как тогда ее неприятно поразило его поведение, но сейчас она сама мало чем отличалась от него). Она внимательно осмотрела вывеску над дверью Закари… Та висела слишком высоко, а она не была такой высокой, как Монтерей, не обладала такими же длинными и сильными руками, к тому же гвозди, которыми была прибита вывеска, выглядели ржавыми и совсем ветхими. Они могли обломиться под ее тяжестью.
Еще люди могут взбираться по водосточным трубам, правда? И здесь тоже была труба, как раз слева от двери. Но куда ставить ноги, когда поднимаешься по водосточной трубе? Трубы не похожи на лестницы, у них нет удобных ступенек.
Женевьева завернула за угол, глядя наверх. Здание выглядело таким неприступным, словно насмехалось над ее бесплодными усилиями.
Остановившись перед решеткой, находящейся на одном уровне с улицей и закрывающей подвальное окошко, вспомнила ту ночь, когда она ходила туда-сюда в туфлях из змеиной кожи от Себастьяна Йорка, надеясь, что Закари из окна заметит ее крошечные изящные ножки и округлые лодыжки.
Она не знала, как пробраться внутрь. Что теперь? Идти в гостиницу? Пить всю ночь напролет в одном из баров Монпарнаса с какими-нибудь знакомыми? Как ей сейчас нужен друг, которому она могла бы позвонить, но ее ближайшая подруга оказалась такой же неверной, как исчезнувший бесследно любовник.
Она медленно шла по рю де ла Пэ, вдруг ее словно озарило… Она уже далеко ушла, но тем не менее…
Она снова вернулась в магазину Закари и приблизилась к парадной двери. Взялась за ручку… та поддалась… Дверь распахнулась.
Примерочная выглядела уныло. Все эти печальные пурпурные кушетки, пустые зеркала. Каблучки Женевьевы громко цокали по отполированному паркету. Она не могла поверить, что он оставил магазин незапертым, громко позвала его. Ни звука в ответ. Возможно, он внизу?
Еще одна дверь оказалась не заперта. Мастерская Паоло выглядела немного иначе в полумраке. Уличный фонарь бросал призрачный отблеск на беспорядок, царивший в комнате. Пара забытых эскизов лежала на столе, на них были изображены туфли со странными пластинками по бокам и необычные остроконечные ботинки с бубенчиками на концах, напоминающие ботинки, которые носили придворные шуты. Инструменты, свисавшие с крюков на стене, казались зловещими, напоминая оружие.
Бродя в одиночестве по комнате, она чувствовала себя так, словно читала чей-то дневник или рылась в ящиках с нижним бельем. Казалось, здесь все валялось в ужасном беспорядке — бисер, драгоценные камни, перья, лоскутки кожи, кружева, эскизы, краски, неразборчивые записи, но на самом деле каждая мелочь, каждый клочок пуха были аккуратно собраны и ждали своего часа.
Женевьева просматривала записи, брала в руки банки, спотыкалась о разбросанные куски дерева, но ничто не наводило на мысль, почему Закари так с ней поступил и где он может сейчас находиться.
Сосредоточься.
На стуле стояла пара изящных бальных туфель, раскрашенных, как крылья бабочек. Он рассказывал ей о них сегодня по телефону. Он так хотел ей что-то рассказать, а она не слушала его. Ну а теперь для кого они предназначались? Возможно, для графини де Фремон? Он сейчас лежит в постели вместе с Вайолет. Они громко хохочут при одной мысли о том, что она стоит на вокзале, ждет, надеется и тоскует…
Нет. Ничего подобного не происходит. Сосредоточься, Женевьева.
Что он сказал ей в тот день, когда впервые привел сюда? Он сказал, что держит все свои туфли в запертом на замок буфете. Он никогда не оставляет их на виду.
Она взяла туфли, напоминающие крылья бабочек, и поставила их на стул, теперь уже ни капли на сомневаясь, что с Паоло что-то произошло. Именно поэтому он изменил свои планы в последний момент, поспешно написал записку и отправил мальчика, чтобы тот передал ее ей.
Кто или что имело над ним такую огромную власть?
Она снова поднялась наверх и подошла к конторке. Журнал лежал открытым, но адресной книги не было. Она открыла ящик, она оказалась в нем.
Сначала посмотрела на странице под буквой «О», но там не оказалось ни одного адреса. Тогда вспомнила, что не знает фамилии, начала просматривать все буквы алфавита, нервно водя пальцем по страницам, так неистово и нетерпеливо, что едва не порвала бумагу. Ничего.
Женевьева в отчаянии оставила бесплодные попытки. Голову, плечи и спину ломило от усталости. Только теперь она почувствовала, что ужасно хочет пить и спать. Какое-то время просто сидела за конторкой. Затем, сделав над собой усилие, поплелась к лестнице и отправилась в его квартиру, с облегчением обнаружив, что и эта дверь не заперта. Она выпила стакан воды и легла на его кровать, чтобы поспать. Ведь, в конце концов, он должен вернуться, не так ли?
Она пила уже второй стакан, вода стекала по подбородку, но жажда не оставляла ее. Вдруг, обернувшись, она заметила на кухонном столе недописанное письмо.
«Дорогая Ольга.
Я не знаю, как сказать тебе об этом после стольких лет, которые мы провели вместе. Я знаю, что это подло — убегать вот так. Но я стыжусь встречаться с тобой лицом к лицу, произносить эти слова и смотреть, как твое гордое лицо меняется, едва заметное изменение, которое позволяет мне видеть сильное душевное смятение. Я замечал это раньше, каждый раз, когда нечестно поступал с тобой, когда разочаровывал тебя, уходил с другими женщинами и лгал тебе. Я думаю, что порой специально поступал жестоко, чтобы узнать, сколько ты способна вытерпеть, довести тебя до грани. Но, когда речь идет обо мне, твои возможности безграничны, не так ли, моя дорогая? Все, что мир и я обрушили на тебя, ты вынесла со стойкостью, исключительной силой и той особенной покорностью, которую я просто не в силах вынести.
Я уезжаю с Женевьевой. Она прямая противоположность тебе, и, возможно, именно поэтому меня так влечет к ней. Она нетерпелива, взбалмошна, полна страсти и огня, в ней есть что-то опьяняющее (ты видишь, я даже сейчас проявляю излишнюю жестокость). Но все, что я знаю, — это то, что встретил в ее лице свою вторую половину. Мы словно левая и правая туфли. Сама судьба уготовила нам быть вместе.
Итак, это прощание. Ольга, я так благодарен тебе за все, что ты для меня сделала. Ты научила меня любви и пониманию жизни. Без тебя я никогда бы не стал тем Паоло Закари, которым являюсь сейчас.
Не беспокойся о деньгах.
Я…»
На этом месте письмо обрывалось. Слезы застилали ее глаза, когда Женевьева подняла письмо, чтобы прочесть еще раз, вдруг она заметила конверт, который лежал снизу.
На конверте было написано: «для Ольги Кречневой» — и полный адрес.
«Он с ней. — Это единственная ясная мысль, которая пришла ей в голову, когда она выронила письмо. Затем другие мысли лавиной обрушились на нее. — Он едва не уехал со мной. Едва. Но что-то заставило его передумать в тот момент, когда он писал письмо. Что-то заставило оборвать письмо на полуслове и мчаться прочь сломя голову, даже не заперев магазин. И вместо этого написать прощальную записку мне».
Она попросила водителя остановиться на кю де Селестин, решила пройтись пешком. Сумерки превращались в ночь. Небо над Сеной приобрело глубокий печальный оттенок голубого. Река казалась серебристой и мерцающей. Женевьева прошла на иль-Сен-Луи вдоль Пон-Мари. Улица, на которой жила Ольга, шла параллельно одному из ее любимых прогулочных маршрутов: по набережной д'Анжу на остров, один из самых престижных парижских адресов. Высокое здание с большими окнами, завитыми коваными балюстрадами и симпатичным внутренним двориком она видела много раз, оно очень нравилось ей. Женевьева и представить себе не могла, что Ольга живет именно здесь.
Он был с ней долгие годы, с тех пор как приехал в Париж. Все эти женщины ничего для него не значили, они представляли собой лишь акт неповиновения. Существовала она одна.
На улице царило безмолвие, если не считать мяуканья кошки, шуршания виноградных лоз, обвивающих стены, далекого журчания реки. В одном из высоких окон на третьем этаже горела лампа.
Консьержка, пожилая женщина с руками изрезанными голубыми венами, оказалась мрачной, неприветливой и не горела желанием отвечать на вопросы. Потом она, похоже, заметила толстую нитку жемчуга, обвивавшую шею Женевьевы, и бриллиантовую булавку у нее на шляпке и стала более любезной. Несколько долларов, которые Женевьева сунула ей в руку, а затем еще несколько прибавили любезности. Женевьева смогла подняться на лифте на третий этаж и появиться без предупреждения.
Дверь приоткрылась, в щелку выглянули глаза ребенка.
— Привет. — Женевьева наклонилась и попыталась улыбнуться. — Я ищу Паоло.
Маленькие пальчики вцепились в край двери.
— Твоя мама дома?
— Она в постели.
— А Паоло?
Пальцы разжались. Она услышала звук, шлепанье босых ног по деревянному полу, скрип открытой двери.
Маленькая девочка, которая открыла дверь, была одета в ночную рубашку, она держала под мышкой изъеденного молью плюшевого медведя. Девчушка стояла, наматывая на пальцы пряди длинных темных волос. Ей было лет восемь. Через открытую дверь в гостиную Женевьева увидела другую девочку, лет пяти, с кудрявой растрепанной головой и мрачным лицом. Она сидела скрестив ноги на турецком ковре в середине комнаты и играла чем-то тяжелым и блестящим. Чем-то вроде куска Стекла. Они оказались такими маленькими, эти дети.
Квартира была украшена изысканными полированными дубовыми панелями, толстыми коврами, стояли антикварные кресла, поблескивали высокие зеркала в тяжелых серебряных рамах. Здесь витали дух старомодного богатства и та роскошь, которой она могла ожидать от квартиры Паоло. Стены были уставлены полками с книгами, украшены картинами. Повсюду лежали игрушки, среди произведений искусства на стенах было приколото несколько ярких детских рисунков.
А она ожидала увидеть заплесневелые стены, белье, развешанное на веревках…
— Что вам угодно?
Женевьева вошла в гостиную и увидела мальчика, которого встретила на вокзале, мальчик сидел за красивым бюро из орехового дерева и что-то писал в школьной тетрадке.
— Мне надо поговорить с Паоло. Он здесь?
— Он не желает с вами говорить.
— А откуда ты знаешь? Это он тебе сказал?
— Он занят. — Мальчик вернулся к своей работе.
Окна гостиной были распахнуты, свежий ветерок покачивал массивную люстру с мягким, напоминающим звон колокольчика звуком.
Вернувшись в коридор, Женевьева наклонилась, чтобы обратиться к девочке с медведем, застывшей около входной двери:
— Здравствуй. Я ищу своего друга Паоло. Он в одной из этих комнат? — Она указала на пять закрытых дверей.
Девочка улыбнулась и уже собиралась заговорить с ней.
— Оставьте ее. — В дверях появился мальчик, воинственно выпятив грудь.
Женевьева выпрямилась:
— Хорошо, если ты не скажешь мне…
— Вы здесь не нужны. Уходите.
Они смотрели на нее, девочка по-прежнему улыбалась, мальчик все еще сердился. Самая маленькая девчушка на ковре продолжала играть со своим кусочком стекла, не обращая внимания на то, что происходит вокруг.
— Послушай, — начала Женевьева, понимая, как смешно запугивать противника в коротких штанишках, и тем не менее продолжала. А затем услышала кашель…
Глубокий, выворачивающий все внутренности наружу, бушующий, как пожар, нарастающий, все пожирающий на своем пути. Нечеловеческий звук.
Девочка в ночной рубашке заткнула уши и зажмурилась, девочка на ковре сделала то же самое.
Прежде чем мальчик успел ей помешать, Женевьева устремилась прямо к двери, из-за которой раздавался ужасный звук.
Посередине комнаты стояла огромная кровать с гобеленовым балдахином, на кровати Ольга наклонилась вперед, заходясь в приступе ужасного кашля. Ее лицо наполовину закрывала белая фарфоровая чаша, в которую она сплевывала, ее волосы, всегда такие блестящие и собранные в аккуратный шиньон, теперь превратились в рассыпавшуюся по плечам массу слипшихся от пота прядей. Чашу держал молодой человек. Это оказался бармен из «Ритца»! Он только вчера помахал Женевьеве из окна. Тот самый, который обслуживал Ольгу в день, когда они с Лулу выслеживали ее. Ничего удивительного в том, что он отказался взять у Ольги деньги. В конце концов, разве хороший сын станет брать плату с матери?
Окна были широко распахнуты, но комнату наполнял неприятный запах болезни, пота и разложения. На прикроватном столике стояла ваза с апельсинами.
Приступ кашля стал понемногу стихать и, наконец, отпустил Ольгу. Она откинулась на подушки, закрыла глаза, на ее щеках алел лихорадочный румянец, который Женевьеве уже приходилось видеть на лицах других страдальцев, а совсем недавно у Нормана Беттерсона. Молодой человек вытер ее губы фланелевой тканью, затем намочил другое полотенце в тазике с водой и приложил к ее лбу.
Успокоившись, Ольга открыла глаза, ясные и сияющие, на ее губах появилось слабое подобие улыбки. Она что-то пробормотала сыну по-русски, он тоже обернулся.
— Что вы здесь делаете? — спросил он.
— Она пришла за Паоло. Я права? — Голос напоминал шелест сухой травы на ветру.
— Не говори ерунды, мама. — Молодой человек убрал полотенце с ее лба.
— Я не понимаю, — воскликнула Женевьева. — Я и представить не могла, что вы так серьезно больны. Ведь мы виделись еще сегодня утром.
— Это миссис Шелби Кинг, я прав? — Парень выглядел озадаченно. — Это вы переехали в квартиру на пятом этаже?
— Не надо, Виктор. Она пришла за Паоло.
— Он здесь? — Женевьева уже не могла сдерживать себя. — Я просто хочу знать, что с ним все в порядке.
— А теперь послушайте… — начал Виктор, но Ольга коснулась его руки.
— Иди и посмотри, как дела у брата и сестер. — Затем добавила более мягко: — Все в порядке, мой золотой. Я просто хочу поговорить с ней наедине.
Бросив подозрительный взгляд на Женевьеву, молодой человек вышел из комнаты.
— Он здесь? — повторила Женевьева вопрос.
— Я сказала, вы должны держаться от него подальше.
— Я люблю его, — ответила Женевьева. — Я должна знать, что произошло.
В ответ раздался хрустящий, неприятно сухой звук. Нечто, отдаленно напоминающее человеческий смех.
— Мы собирались вместе уехать из Парижа.
В глазах Ольги запылал гнев, жаркий, лихорадочный, она рванулась вперед.
— Нельзя понять, что такое любовь, до тех пор пока не познаешь страдание.
Женевьева подошла ближе.
— Вы знаете о моем ребенке. Вы знаете, что я страдала.
— Бедная маленькая Женевьева.
— Прекратите. Не смейте. — Она с трудом перевела дух. — Послушайте, мне очень жаль. Я вижу, что вы больны. Возможно, я не должна была приходить сюда, но…
— Да, вам не надо было приходить.
Женевьева попыталась успокоиться, уйти из комнаты, но не смогла. Затем слова полились наружу.
— Мы любим друг друга, Ольга. Я не могу притворяться и говорить, что это не так, думаю, что и он тоже. Он любит вас, я понимаю. Но вы намного старше его…
— Глупая девчонка. Думаешь, что я единственная, кому он нужен? — Ее щеки порозовели еще сильнее, затем что-то отвлекло ее, выражение ее лица слегка изменилось.
— Скажи это!
— Сказать что? — Женевьева покачала головой.
— Ты знаешь что.
— Мама? — Молодой человек вернулся и заглянул в комнату.
— Скажи это!
Виктор обернулся к Женевьеве:
— Ей надо поспать. Дайте ей немного поспать.
— Скажи это, — прошептала Ольга, откидываясь на подушки.
— Я должна идти, — пробормотала Женевьева. А затем повернулась к Виктору: — Я могу чем-нибудь помочь? Врач уже приходил?
— Просто уходите, — взмолился молодой человек. — Пожалуйста.
— Ради бога, скажи это! — прошипела Ольга, и ее глаза снова широко открылись. — Скажи, что скоро я отпущу его. Что у меня нет выбора. Ну а я не отпущу его! Слышишь меня? Никогда!
Стоя в дверях гостиной, Женевьева заметила: младший мальчик снова вернулся к урокам. Девочка на полу все еще играла с блестящим предметом, передвигая его. Это оказалась пробка от графина для шерри, принадлежащего Роберту. Старшая девочка рисовала на клочке бумаги, держа карандаш в левой руке. Ее кудрявые волосы опускались ей на лицо.
И только теперь она услышала приглушенные голоса за другой дверью. Голос Паоло, который она безошибочно узнала, что-то быстро произносил. Почти шепотом. Слишком тихо, чтобы она могла разобрать, о чем он говорит. Затем возникла пауза, ему ответил голос пожилого мужчины, коротко и резко. Женевьева подошла поближе, приложила ухо к двери.
Голос Паоло стал громче.
— Это точно? Вы уверены?
— Она умирает. — Младший мальчик встал из-за бюро и подошел к ней сзади. У него было странное выражение лица, на нем застыла мольба, словно здоровье его матери зависело от нее.
— Но вы уверены? — снова раздался голос Паоло.
— Это очевидно, — сказал мальчик. — Правда?
— Я думаю, да, — ответила Женевьева. — Да.
Глаза мальчика широко раскрылись. И вдруг все высокомерие разом сошло с него, он сжался в комочек. Рыдание вырвалось из его груди, когда он бросился мимо нее в комнату матери, дверь с громким стуком захлопнулась за ним.
Доктор продолжал говорить с Паоло, объяснял ему что-то. И хотя Женевьева не могла разобрать слов, она узнала терпеливый, профессиональный тон. Это заставило ее вспомнить о докторе Петерсе, о том, как он обычно разговаривал с ней, снова и снова объясняя, почему она должна отказаться от малышки Жозефины.
— Но ведь должно быть средство, — послышался голос Паоло из-за двери. В этом голосе прозвучало такое отчаяние, какого Женевьева никогда раньше не слышала. Она больше не в силах была стоять здесь и прислушиваться к его голосу. Паоло казался чужим и одновременно потрясающе близким.
Когда она вернулась в гостиную, почувствовала, как в ней нарастает огромная печаль. Дело было вовсе не в том, что она потеряла Закари. Было еще кое-что. Нечто, что она только что открыла для себя в комнате больной, пока умирающая презрительно усмехалась ей в глаза.
Девочка, сидящая за столом, подняла рисунок и рассматривала его со всех сторон. Это оказалась женская туфля.
Женевьева беззвучно плакала, глядя на рисунок. Она оплакивала своего потерянного ребенка и этих осиротевших детей.
— Вернулась за своими туфлями, не так ли?
Женевьева похолодела, замерла в согнутом положении, расстегивая свои золотые туфли. Она надеялась, молилась, чтобы он уже был в кровати.
— Я плохо себя чувствую. — Это было правдой. Грусть все еще сжимала ее мертвой хваткой. Она ощущала зловоние, наполнявшее комнату больной женщины. — Мы можем поговорить утром, Роберт? Я хотела бы немного поспать.
Из гостиной послышался скрип кожи, он появился в дверях, посмотрел, как она путается с застежками на туфлях.
— Но, моя дорогая, ты здесь больше не живешь. Разве ты забыла?
Она бросила на пол первую туфельку и потянулась ко второй, опершись о стену.
— Прошу тебя, Роберт. Мне действительно надо поспать. Сбросила вторую туфлю.
— Я знаю, что должна тебе объяснить…
— Объяснить? Мне кажется, ты должна представить мне гораздо больше, чем простое объяснение! — Он рассвирепел, его буквально трясло от злости.
Женевьева устало положила шляпку с запачканным страусиным пером на столик в коридоре.
— Я не могу сейчас говорить с тобой. Прости.
— Ты больше не станешь здесь командовать. Я этого не позволю.
Она выпрямилась и, выгнув руки, стянула с себя жакет от Шанель.
— Значит, твой башмачник больше не желает видеть тебя?
Она вздрогнула.
— Как ты можешь…
— Я не дурак, Женевьева. Что бы ты там себе ни думала.
— Я знаю.
— Тогда зачем ты выставила меня полным идиотом?
— О, Роберт, умоляю тебя.
— Значит, теперь я должен сжалиться над тобой? Пожалеть тебя?
Женевьева пыталась проглотить ком, подкативший к горлу.
— Послушай, если ты хочешь, чтобы я ушла, я уйду. Переночую в отеле.
— Ты… — Он схватил ее за плечи и тряс до тех пор, пока ей не показалось, что каждая косточка в ее теле дребезжит. — Будь ты проклята! — Затем он отпустил ее и молча смотрел на собственные руки.
— Давай выпьем, — предложила она. — Пойдем сядем и спокойно выпьем вместе.
У роз на каминной полке осыпались все лепестки. Они в беспорядке рассыпались вокруг вазы. Некоторые лежали у подножия камина, на полу. Она налила ему виски, а себе коньяку. Она тянула время, разливая напитки, возилась со щипцами для льда, не торопилась снова взглянуть ему в глаза, хотя это было неизбежно. Но сейчас она могла думать только о Паоло, который остался за закрытой дверью, не зная, что она стояла с другой стороны. Возможно, он никогда об этом не узнает. Она могла думать только об этих маленьких девочках. И о своей малышке.
— Ты был прав, когда сказал, что он больше не желает меня видеть. — Она представила себе Ольгу, ее лицо было искажено болью и жаром, влажные пряди волос прилипли ко лбу. Она протянула Роберту виски, а сама устроилась на маленьком мягком стульчике у камина.
— И ты придумала заскочить сюда и спокойно провести здесь ночь, не так ли? А какие у тебя планы на завтра, на послезавтра, на дальнейшее будущее?
— У меня нет планов.
— Ты ведь никогда меня не любила, правда? Не надо, не отвечай, не стоит. Но, знаешь, Женевьева, ни один мужчина не любил тебя так, как я.
Она молча смотрела в свой бокал.
— Ты разорвала мое сердце и высосала весь сок, словно из апельсина. Теперь от меня осталась одна кожура, которая никому не нужна.
— Роберт…
— Что есть у этого парня, чего нет у меня? Неужели все дело в туфлях? Но разве я недостаточно покупал тебе туфель?
— Конечно. Дело не…
— Надеюсь, он сильно ранил тебя.
— Ты прав. — Она покачала коньяк в бокале, любуясь золотистой жидкостью.
— Замечательно.
Он достал сигару. Она наблюдала, как он зажег ее. Это была толстая сигара, ему пришлось долго раскуривать ее. Странно, но сейчас его настроение вдруг круто изменилось в лучшую сторону, несмотря на все разговоры об апельсинах, кожуре и настоящей боли. Похоже, его ярость утихла. Он словно спрятал ее в карман вместе со своей зажигалкой. Сейчас она видела перед собой человека, которого наверняка видели его коллеги по бизнесу, — уверенного, довольно вежливого. Умного и способного. Сегодня днем он успел побриться и надел свежий серый костюм.
— Ты вела себя непозволительно, — заметил этот новый, сдержанный и спокойный Роберт. — Ни один человек в здравом уме не принял бы тебя назад после того, что ты натворила.
Женевьева попыталась снова заговорить об отеле, но Роберт поднял руку, попрося ее замолчать.
— И все же теперь, когда ничего уже не вернешь, я хочу сказать, что ты родилась в чертовски странном месте. Твоя семья удивительно равнодушна. Они не воспитали тебя, как положено воспитывать молодую женщину.
Она ждала, наблюдая, как дым от его сигары клубится по комнате.
— Зачем ты сказала, что беременна?
— Не знаю.
— Это была нелепая ложь.
— Согласна. Но разве теперь это имеет значение? Наш брак в любом случае распался, мы оба это знаем.
— Между мужем и женой не должно быть секретов. — Он отхлебнул свой бурбон. — Именно здесь и начинается разлад. Ты выстроила эту «дорогу лжи» задолго до того, как познакомилась со своим башмачником.
— Уже поздно, Роберт. Утром я расскажу тебе все, что ты захочешь узнать.
— Неужели? — Он удивленно приподнял бровь. Его тон стал ледяным. — Потому что есть вещи, о которых я непременно хочу узнать.
— Пожалуйста, позволь мне лечь спать.
— Это не твоя вина. Ты не виновата ни в чем, что произошло. — Роберт не сводил глаз с увядших роз. — Я нанял детектива, чтобы он следил за тобой и рылся в твоем прошлом. В протоколах школьного делопроизводства.
— Что ты сделал?
— Я вовсе не горжусь собой. Я поступил неправильно. Но есть нечто, о чем ты не рассказала мне, ведь так? Что-то произошло с тобой в детстве. И это «что-то» сгубило наш брак.
— Роберт, перестань.
— Когда ты сильно на кого-то злишься, можешь натворить много плохих вещей. Сегодня вечером я совершил очень плохой поступок. Думаю, я хотел рассчитаться с тобой.
— Не рассказывай больше. Я ни о чем тебя не спрашиваю.
На мгновение он заколебался, рассказывать ли дальше о том, что произошло, и в конце концов решил промолчать.
— Женевьева, я человек, который всегда смотрит только вперед и думает о будущем. Я не зацикливаюсь на прошлом. Но ты должна знать, что осталось там. Есть уроки, которые необходимо усвоить, и двигаться дальше. Только так можно достичь успеха. Я все еще люблю тебя, да поможет мне Бог.
— Значит, ты хочешь, чтобы я вернулась? Неужели ты действительно думаешь, что мы сможем возвратить нашу прошлую жизнь и зажить как ни в чем не бывало?
Он сухо усмехнулся:
— О нет, милая. Мы не вернемся в прошлую жизнь, мы пойдем вперед.
— Что ты имеешь в виду?
— Я хочу предложить тебе сделку. Я хочу, чтобы ты хорошенько подумала над моим предложением. Я скажу то, что должен сказать, а ты можешь остаться сегодня здесь и хорошенько подумай об этом. Утро вечера мудренее.
И снова она ждала. Теперь он казался выше, словно действительно вырос в ее глазах.
— Ты откроешь мне свой секрет. Секрет, который подорвал наш брак и заставил тебя броситься в объятия другого мужчины. Ты расскажешь мне, я выслушаю, и мы пойдем вперед. Мы больше никогда не станем об этом вспоминать. Мы уедем из Парижа, как только я завершу все дела и закажу билеты. Мы отправимся в Бостон. Ты станешь относиться ко мне, как и положено жене, с уважением. У нас будут дети.
— О, Роберт…
— Нет, ничего сейчас не говори. Подумай как следует над моим предложением. Бостон — не такое уж плохое место, если попытаться и рискнуть. У тебя не будет ни в чем недостатка. Ты познакомишься с моими мамой и сестрой. Вы подружитесь. Мы все будем заботиться друг о друге. Забудем наши неприятности, как страшный сон, начнем все сначала. — Он выпустил облако дыма. — Больше никаких любовных приключений, лжи и тайн.
Он допил свой бурбон. Его руки больше не дрожали.
— Почему ты думаешь, что я соглашусь поехать в Бостон? Ты же знаешь, что я никогда не хотела туда.
— У тебя нет выбора. В любом случае Париж — не твой город, это не то, что тебе необходимо.
— Что же мне необходимо?
Он наклонился вперед:
— Я знаю о туфлях, милая моя. О тех крошечных туфельках с пуговичками. О твоих детских туфельках. Из сотен своих туфель в той комнате ты взяла только туфельки от Мери Джейн.
Она попыталась что-то сказать, но не смогла вымолвить ни слова.
— Тебе необходимо чувствовать себя чьей-то маленькой девочкой. Стань моей. Именно об этом я всегда мечтал. — Он снова поднялся, отряхивая свой костюм. — Вот такое предложение. Ты можешь принять его или отвергнуть. Увидимся утром.
Луна освещала ее комнату бледным зеленоватым светом. Или это был свет от фонарей? Женевьева никак не могла найти серьезную причину, чтобы подняться и опустить жалюзи. Она совсем обессилела, но сон не шел к ней. Даже закрыть глаза и то было трудно. Глаза упорно не хотели закрываться.
Она тосковала по объятиям Паоло, по лимонному запаху его кожи, по сладко-соленому вкусу его губ.
Она думала о слащавых и душных объятиях Роберта. Как они могут жить вместе в Бостоне, да и где-либо еще? И разве может она раскрыть ему свою тайну? Это невозможно.
Она должна вернуться домой, к отцу.
Там она станет выращивать розы, вязать у камина, выгуливать собак, беседовать с викарием в церкви, пить по ночам и доливать бутылки водой, чтобы прислуга ни о чем не догадалась. И тосковать по тому, что могло произойти, но не произошло. Ухаживать за отцом, здоровье которого станет ухудшаться с каждым днем. Сидеть у его постели и бесконечно рассказывать о незначительных, минутных происшествиях в деревне, потому что, в конце концов, о чем еще говорить?
И еще она будет избегать взгляда доктора Петерса.
Она уснула, думая о туфельках Мери Джейн. О пуговках. О сияющей лаковой черной коже, которая ей так нравилась. Вспомнила, как она слюнила пальчик и стирала грязные пятна. Вспомнила свои ножки в туфельках. И еще — об одном особенном дне в Фортнуме со своей матерью и мистером Слэттери, джентльменом из Нью-Йорка.
Утро ворвалось неожиданно, вытянуло Женевьеву из сна прежде, чем она приготовилась к этому. Она села в кровати, выглянула в окно, увидела серые крыши, дымовые трубы, верхушки деревьев. Улица уже проснулась. Жалюзи звякали и открывались. Внизу кто-то насвистывал. Она долгое время сидела на постели, прислушиваясь к звукам пробуждающегося от сна города.
Улицы наполнял аромат свежей утренней выпечки. На каждом углу пестрели букеты цветов, которые торговки продавали с рыночных лотков или из простых цветочных корзин. Старик вел за собой стадо коз, колокольчики на их шеях мелодично позванивали. Из жилого дома вышла женщина с кувшином, стадо коз остановилось посреди дороги, хозяин принялся доить блеющую козу. За этой сценой наблюдала безупречно одетая седовласая женщина в розовых туфлях на шпильках от Перуджи, сидевшая в открытом кафе. Двое полицейских на противоположной стороне улицы смеялись и курили. Только в Париже можно увидеть нечто подобное.
Когда Женевьева вошла в кафе Рампельмайера, первым человеком, которого она увидела, оказалась Лулу. Она расположилась на своем любимом месте, за столиком в углу, три пустые кофейные чашки выстроились перед ней в ряд. Лулу с аппетитом поглощала шоколадный эклер.
Через мгновение она подняла глаза и заметила Женевьеву.
— Хочешь присоединиться ко мне, шери? — Она указала на пустой стул рядом с ее столиком.
— Если ты не возражаешь.
Лулу наклонилась вперед:
— Ты видела нового официанта?
— Где?
— Вон там. — Она указала на молодого человека, раскладывающего ножи, ложки и вилки на соседнем столике. У него были широкие плечи и привлекательные мускулистые руки. Его талия была узкой, волосы уложены назад и слишком сильно смазаны маслом. Женевьева подумала, что они наверняка упрямо-кудрявые и отказываются подчиняться своему владельцу.
— Как ты думаешь, он?.. — Лулу указала на багет, который подавался за соседним столиком.
Женевьева сжала губы, а затем медленно покачала головой.
— Думаю, он больше… — И она ткнула пальцем в эклер Лулу.
— Как жаль. У него красивые глаза.
— Итак, за кого это пирожное? За Кэмби?
Лулу нахмурилась:
— За него? Нет. Он вернулся, как я и предсказывала. С ним все в порядке, но он ничего не помнит ни о Виолетте, ни о том, где его носило. Или притворяется. Я испытываю такое облегчение, что просто не могу сердиться.
— Ты любишь его и всегда будешь любить. Но если не за Кэмби, за кого же это пирожное?
— За нас, Виви. За тебя, моя лучшая подруга. За девушку, которая всегда видела меня насквозь. Я предала и отравила нашу дружбу, потому что завидовала тебе. Теперь я ничего не могу исправить, как бы ни жалела о том, что сделала. То, что я совершила, невозможно простить.
— Позволь мне самой судить об этом. — Женевьева сжала ее руку.
Лулу смотрела на нее во все глаза.
— Ты хочешь сказать?..
— Я тоже стала завистливой, скрытной и недоверчивой. Я сама подтолкнула тебя к этому. Нам судьбой предназначено быть подругами, Лулу. Почему мы обе оказались здесь сегодня утром?
— Чтобы съесть пирожное и выпить кофе! Ты же на самом деле не веришь в эту ерунду про судьбу, правда, шери? Только не говори, что стала религиозной и будешь склонять к этому и меня? — Она широко улыбалась.
— Что ж, ведь это именно ты сказала, что мужчины приходят и уходят, а лучшие подруги остаются навсегда. Ты сказала это, когда мы виделись в последний раз, прежде чем сделала свое признание.
Лулу разглядывала помятый эклер на тарелке.
— Я всегда исповедуюсь. Полагаю, сказывается католическое воспитание.
Женевьева кивнула официантке:
— Шоколад по-африкански, пожалуйста. И кусочек того пралине, и одно пирожное с кремом.
— Два пирожных? — Лулу нахмурилась и неодобрительно покачала головой. — Ты скоро ужасно растолстеешь, шери, и не сможешь пролезть в дверь.
— Одно — за Паоло, а другое — за Роберта, — весело откликнулась Женевьева. — Думаю, это легкое тесто, понимаешь. Это в самый раз.
— Значит, с ними обоими все кончено? Ты сделала это намеренно?
— Не совсем. Я собиралась уехать вместе с Паоло, но все сорвалось. — Она подхватила карандаш, лежавший на столе, и принялась рисовать на другой стороне счета.
— О, шери, это я во всем виновата.
Но Женевьева в ответ лишь покачала головой.
— У него дети от Ольги. Ты знала об этом?
— Дети? — Глаза и рот Лулу широко открылись от изумления, язык был в шоколаде.
— Две дочери. У нее двое сыновей от покойного мужа, но дочери от Паоло.
— И как ты узнала об этом?
— Он не явился вчера вечером на встречу, и я отправилась разыскивать его. Паоло оказался в ее квартире. На самом деле это его квартира, это понятно с первого взгляда, стоит ступить на порог. Это объясняет многое о нем из того, чего я раньше не понимала. Она в жару лежала в постели. Очевидно, умирала. Я видела детей и даже разговаривала с ними.
— А Закари? Он тоже был там?
— Он разговаривал с врачом в другой комнате.
— Надеюсь, ты врезала ему как следует, шери. — Лулу коснулась руки Женевьевы. — И это была не просто пощечина. Такие мужчины заслуживают того, чтобы наброситься на них с кулаками.
— Нет. Я стояла за дверью и слушала его разговор. А затем просто ушла. — Она все еще рисовала. Это оказался набросок Лулу — глаза, губы и мушка.
— Значит, ты даже не поговорила с ним?
— Все изменилось, когда я увидела детей.
— Правда?
— Они теряли мать. Я стояла там, смотрела в их глаза и поняла, что должна уйти. Он — это все, что у них осталось, Лулу. Я люблю его, но им он нужен гораздо больше.
Лулу похлопала ее по плечу.
— Ты хороший человек.
— Нет, вовсе нет. На самом деле мне кажется, что я сделала это ради моего ребенка. Это звучит глупо? Тем не менее он тоже сделал свой выбор. Он выбрал их, а не меня. — Она вздохнула. — Я всегда чувствовала, что он прячется от чего-то в своем подвале.
— Все это выглядит ужасно благородно, шери. Чересчур благородно, если хочешь знать мое мнение.
Женевьева покачала головой:
— Я больше не могу сердиться на Паоло, как и ты на Кэмби. Я слишком хорошо знаю, что такое жить, храня тайну. Я сделала все возможное, чтобы спрятаться от прошлого, от Жозефины. Но она по-прежнему со мной, и я по-прежнему гадаю, что с ней произошло. Я не знаю, что мне с этим делать. И я не уверена, что смогу что-то сделать. Но я должна подумать об этом.
— А как насчет Роберта? Он знает об этом?
— Кое-что. Например, о Паоло, но не о Жозефине. Бедный Роберт, я разрушила его жизнь.
— Ах. — Лулу махнула рукой. — У вас с самого начала не заладилось. Разрушив этот брак, ты оказала ему большую услугу. Теперь он может найти себе простую милую девчонку, которая станет печь ему печенье.
Но ее слова не убедили Женевьеву.
Лулу указала на маленький чемоданчик, стоящий у ее ног.
— Итак, куда ты направляешься с этим чемоданом? В Лондон?
— Господи, нет. Когда вчера ночью я легла в постель, я не представляла, куда поеду и что стану делать. Никогда еще я не чувствовала себя такой потерянной. Я даже подумывала вернуться к отцу. Но проснулась сегодня утром, выглянула в окно и увидела, что все здесь по-прежнему принадлежит мне. Париж по-прежнему город, о котором я всегда мечтала. Это мой город, мой дом. — Ее губы задрожали. — А насчет всего остального я не знаю.
— Что на тебе сегодня? — Лулу нагнулась, чтобы взглянуть на туфли. — Ах, красные бархатные туфли от Закари.
— Туфли лучшего в мире сапожника, — ответила Женевьева. — Я просто не могла их оставить, разве это возможно? — Ком подкатил к ее горлу. — А что касается остальной коллекции… — Она отпила глоток из чашки, не в силах продолжать.
Лулу покачала пальцем.
— Чтобы я больше не слышала таких пораженческих разговоров! Виви, мы заберем твою коллекцию из той квартиры, даже если для этого придется взять швейцара на мушку! Мы сейчас доедим пирожные и отправимся прямо на рю де Лота, я отвлеку Роберта, пока ты будешь грузить коробки в такси. Если понадобится, я даже пересплю с ним, на войне все средства хороши, и…
— Моя коллекция не поместится в одном такси. И потом, куда мы отвезем ее?
Лулу пожала плечами:
— Ко мне?
Женевьева представила себе квартирку Лулу и едва смогла сдержать улыбку.
— Мы справимся, шери. Я больше не подведу тебя.
— Я знаю.
Принесли шоколад по-африкански и пирожные.
— Итак, я остаюсь в Париже, но понятия не имею, чем стану заниматься. — Женевьева опустила палец в пирожное с кремом. — Я не поэтесса, я не жена. Когда-то я была неплохой меценаткой, но это невозможно без денег. Лулу пожала плечами:
— Кому нужны эти деньги? У тебя есть обаяние, красота и острый ум. Ты найдешь выход. Тебя впереди ждет совсем другая жизнь, ты просто должна стремиться к ней.
— Ты действительно так думаешь?
Женевьева обернулась и посмотрела в окно. В воздухе чувствовалось приближение осени. Дерево снаружи роняло листья, и они летели по улице. Старик в фуражке пытался подмести их, но они уворачивались от метлы и кидались под колеса проезжающих мимо автомобилей, под копыта лошади, тянущей тележку, наполненную старьем. Мимо прошла женщина, держащая под мышкой багет и ведущая за руку маленькую девочку в красном берете. Девчонка заметила, что Женевьева смотрит на нее, и показала язык, прежде чем мать успела утащить ее за собою.
— Да, я так думаю. — Лулу взяла набросок. — Послушай, это замечательная карикатура. Я не знала, что ты умеешь рисовать, шери.
— Да я и не умею.
Лулу притворно нахмурилась:
— Послушай, что я тебе скажу, это замечательно. Я ничего не понимаю в поэзии, но уж в живописи я действительно разбираюсь. Знаешь, сколько раз меня рисовали?
В этот момент на улице показались две женщины, они шли под руку. Две женщины в трауре. У той, которая помоложе, было лошадиное лицо с большими простодушными глазами. У той, которая постарше, черты лица казались мягче, но характер выдавал жесткий, стальной взгляд. Стойкий и непреклонный.
Женевьева вспомнила квартиру, заставленную книгами. Стол, заваленный бумагами и стихами, которые можно спасти или потерять. Две женщины пристально вглядываются в какой-то особенно запутанный пассаж, пытаясь расшифровать его. Вокруг было разлито ощущение покоя и глубины. И возникло желание помочь им, присоединиться к ним. А затем замысловатый перепутанный узор из трех оттенков зеленого вырос и распространился в ее воображении, как плющ расползается во все стороны, упрямо взбираясь по стенам домов.