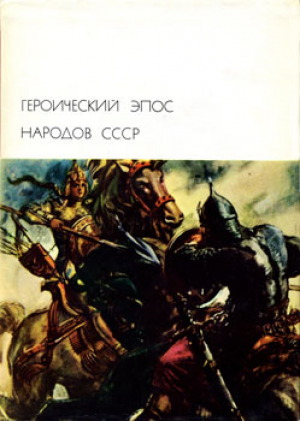
О героическом эпосе народов Советского Союза
Как известно, истоки всемирной литературы нерао связаны с нетленными богатствами устного словесного искусства. Знаменательно, что основные жанры литературы современных народов мира - лирика, эпос, драма вышли из одной колыбели - из недр устной поэзии, пройдя, до встречи с письменностью, долгий путь своего развития. Всемирная литература унаследовала выработанные устной народной поэзией в глубокой древности магистральные формы словесного образного изображения мира, бессмертные сюжеты героических, комических, трагических историй, которые переходили от поколения к поколению, из эпохи в эпоху, получая множество разных интерпретаций.
Достижения древнего словесного искусства доходили до нас чаще всего через плоть и кровь профессионального искусства (литературы, театра, музыки, живописи, скульптуры) или со страниц древних рукописей, и различных книжных вариантов. В отличие от многих стран Запада и Востока, Советский Союз богат живым бытованием устного словесного искусства, представляющего не только прошлое духовной жизни народа, но и ее настоящее.
Эпический жанр устной народной поэзии в Советском Союзе до сих пор живет своей первозданной жизнью. Знаменательно, например, что сказителей киргизского эпоса "Манас" можно встретить не только у костра табунщика или чабана, как это было сто лет назад, но также и на подмостках Государственной филармонии республики. В этом историческом явлении есть глубокий смысл, свидетельствующий об особой емкости художественного и исторического содержания народного эпоса, о его традиционной общественной миссии.
Для большинства народов, населяющих обширную территорию Советского Союза, эпос являлся первой и, длительное историческое время, единственной трибуной народной мысли. В нем сосредоточивались народные представления о прошлом и будущем, в нем отразилось и шлифовалось мироощущение, чаяния и мечты народа.
Являясь единственным общественным инструментом консолидации духовной жизни безгосударственных и бесписьменных народов, эпос как бы аккумулировал интеллектуальную энергию широких масс. Одним из характерных примеров такой всеохватности общественной миссии представляет собой "Манас", который вплоть до начала XX века заменял для киргизов и летописи истории, и кодексы общественного законодательства.
Но было бы заблуждением думать, что отсутствие письменности у народа является единственной предпосылкой зарождения эпических сказаний, хотя, конечно, это обстоятельство существенным образом влияет на типологию эпоса, обуславливая характер его идейно-художественного содержания. В этом легко убедиться, сопоставляя, например, "Манас", созданный народом, который до тридцатых годов нашего века был бесписьменным, и "Давид Сасунский", сложившийся как единое целое спустя несколько столетий после возникновения национальной письменности у армян.
О развитии народного эпоса параллельно с многожанровым профессиональным искусством, в том числе и письменной литературой, свидетельствует, например, появление в XIX веке "Калевалы" или "Калевипоэга", широкое бытование украинских дум вплоть до наших дней и рождение героической поэмы "Лачплесис", занявшей в культуре латышского народа место национального эпоса.
Следует вспомнить также и тот факт, что слагатели и сказители русских былин не только дождались Пушкина, но и здравствовали на протяжении всего XIX века. Как известно, вплоть до наших дней продолжалось активное записывание из уст сказителей текстов бессмертных былинных сюжетов.
Судьба героического эпоса прежде всего связана с исторической общественной потребностью, которая и определяет не только время его появления, но также и протяженность и масштабы его бытования. Своеобразие судьбы эпоса народов нашей страны в том и заключается, что од сохранил свою общественную роль, свое живое участие в духовной жизни широких масс вплоть до нового времени, до той эпохи, когда общественные демократические силы России начали завоевывать решающие позиции истории. Обостренное внимание русской прогрессивной интеллигенции XIX века к духовной жизни угнетенных народов крепостнической империи обусловило процесс активного собирания текстов устных сказаний. Знаменательно, что первые публикации якутского олонхо или эпоса "Манас", сказаний кавказских народов о нартах, башкирского, алтайского, казахского, калмыцкого эпосов появились именно в трудах русских историков и лингвистов.
Девятнадцатый век стал эпохой великих открытий сокровищ устной поэзии, а с победой социалистической революции в России эпос выдвинулся на передний край культурной жизни советских республик.
Итак, в силу определенных исторических условий, в Советском Союзе произошла активная "стыковка" устной поэзии с профессиональным искусством. Более того, зарождение профессионального национального искусства и письменной литературы многих народов нашей страны, которое, как известно, произошло после победы социалистической революции, многим обязано именно фольклору.
Фольклор народов Советского Союза, таким образом, вошел в актив многонациональной социалистической культуры и стал ее составной частью. Этот знаменательный факт обусловлен прежде всего демократическим характером общественного строя Страны Советов, открывшего небывалые возможности для развития самобытной культуры каждого народа, опирающейся в своем развитии на классическое наследие национального фольклора.
Всенародное почитание нетленных сокровищ древней устной поэзии определяется, разумеется, их эстетической значимостью. Неповторимое художественное обаяние самобытных повествований о ходе истории, о предметах вековой мечты человека с особой силой проявилось в героическом эпосе.
Эпический жанр устной поэзии народов Советского Союза обширен по своему объему и весьма многообразен по стилевым особенностям. Народный эпос вобрал в себя множество романических, приключенческих, фантастических, комических и трагических повествований, проливающих свет на различные стороны человеческой жизни. Этот неповторимый "синтез" различных видов и жанров народного искусства, однако, подчинен одной доминанте - героическому началу, составляя единый, самобытный художественный сплав.
В силу своей природы героический эпос отличается своеобразной всеохватностью в изображении народной жизни в ее многочисленных аспектах, но определяющая его черта - это тяготение к проблемам общенационального масштаба. Этим главным образом и отличается героический эпос от других повествовательных жанров словесного искусства нашей страны. В отличие от сказки, от исторической песни, от баллады или предания, в устном эпосе мы находим обширные картины народной жизни, подводящие к большим историческим обобщениям.
Памятники эпической поэзии народов мира представляют различные эпохи развития человечества. Если сказания о Гильгамеше и героический эпос древней Индии "Махабхарата" вышли из глубин веков до нашей эры, то - армянский эпос о сасунских храбрецах сложился в IX веке, а киргизский "Манас", калмыцкий "Джангар" и героическая поэма "Кёр-оглы" были созданы в гораздо более близкое от нас время.
Отдаленные друг от друга, эти страницы истории мировой эпической поэзии тем не менее содержат ряд художественных универсалий, ряд общих черт повествования, таких, как потрясающие поединки богатырей с драконами, дивами-змеями и другими чудовищами, или обрисовка богатырских коней, чудесное рождение героев, сказочное добывание богатырских доспехов. И вместе с тем каждый эпос своим идейно-художественным содержанием удивительно оригинален и неповторим, как самобытна историческая жизнь народа и неповторима эпоха, в которой зародился данный памятник.
Это особенно очевидно при сопоставлении эпических сказаний, содержащих идентичные сюжетные компоненты. В сказаниях о Гильгамеше и башкирском героическом эпосе "Урал-батыр" имеются, например, следующие сходные линии: герой башкирского эпоса, так же как и Гильгамеш, обладает сверхмогучей физической силой; он, так же как и Гильгамеш, уничтожает архистрашных чудовищ и, наконец, Урал-батыр, так же как и Гильгамеш, отправляется на поиски бессмертия, идя навстречу фантастическим опасностям. Эти древние сюжетные универсалии как бы выдвигают на одну эстетическую плоскость памятники словесного искусства, отдаленные друг от друга тысячелетиями. Между тем идейно-художественные концепции сказаний о Гильгамеше и об Урал-батыре не только не сходны, но и резко противоположны. Гильгамеш хлопочет о личной славе, он ищет бессмертия для себя; Урал-батыр же совершает свои подвиги, движимый желанием спасти людей от смертельных испытаний. Гильгамеш не смог открыть тайну бессмертия; Урал-батыру "открылась" эта тайна: спасенная им от гибели белая лебедь, оказавшаяся дочерью Солнца, в знак благодарности, показывает богатырю путь к живой воде - источнику бессмертия. Но древний старик, олицетворяющий, очевидно, мудрость народа, открывает герою другую "тайну" - о том, что подлинное бессмертие человека не в его долголетии.
Главный мотив эпоса "Урал-батыр" гласит: человек сильнее всех сущих; добро непобедимо... В вавилонском эпосе звучит другая мелодия: все зависит от бога. Бесстрашный исполин Гильгамеш кончил жизнь, оплакивая свое бессилие перед капризами богов. В вавилонском эпосе ни один герой не доводит до конца своего дела, - после первых успехов они или гибнут, или смиряются (См.: "Библиотека всемирной литературы", "Поэзия и проза Древнего Востока", 1973.).
Сопоставление этих поэтических памятников, разделенных многими столетиями, несомненно, показывает своеобразие этапов развития человеческой истории. Образ Гильгамеша - обобщенное выражение процесса выделения личности из коллектива, его самоутверждения. Образ Урал-батыра отображает другой виток спирали развития человеческой истории, когда, наоборот, личность, индивидуум, обретает силу в коллективе в заботах о его судьбе.
Устное повествование в ходе своего существования и развития вбирает в себя человеческую память на протяжении длительного исторического времени, образуя так называемые "наслоения" в идейно-художественном содержании эпоса. В сказаниях кавказских народов о нартах, например, мы находим приметы общественной жизни эпохи и матриархата и патриархата, отдаленных друг от друга тысячелетиями. Башкирский "Урал-батыр" содержит мотивы древних представлений о фантастических временах сотворения мира и, одновременно, в этом же поэтическом произведении нашли свое отражение идеи эпохи классового антагонизма.
Но здесь же заметим, что "Урал-батыр" "открыт", то есть письменно зафиксирован в начале XX века в процессе его живого бытования, в то время как сказание о Гильгамеше дошло до нас уже в "застывшем" виде, - через древние письмена народа, давно исчезнувшего с исторической арены.
Путь развития башкирского эпоса наложил свой отпечаток на его идейно-художественное содержание. Создавшие это устное поэтическое произведение жители Южного Урала и Поволжья, находясь в центре великих исторических перемен России минувших столетий, принимали участие как в защите российских земель от завоевателей с Востока и Запада, так и в крестьянских восстаниях против жестокого крепостнического строя. Башкирам суждено было под знаменами русской армии преследовать Наполеона до ворот Парижа. И вместе с тем башкирскому народу не суждено было перешагнуть за черту родо-племенного и феодально-патриархального общественного уклада жизни - вплоть до наступления победы социалистической революции. Однако память народа, обогащенная впечатлениями в ходе знаменательных исторических событий, обусловила степень социальной заостренности идейного содержания башкирского народного эпоса.
В эпическом жанре устной народной поэзии народов СССР найдены уникальные формы художественного воплощения исторического мироощущения, накопленного многими поколениями человечества на протяжении тысячелетий. Огромный пестрый мир народных представлений вкладывается в рамки фантастических сюжетов, которые в эпосе подчинены главному замыслу, непосредственно связанному с реальной исторической Жизнью народа, и в каждом памятнике устной эпической поэзии мы находим новый, самобытный рисунок художественного повествования. Возьмем для примера один из универсальных эпических мотивов - чудесное рождение героя. В армянском эпосе предки Давида, братья-близнецы Санасар и Багдасар, были зачаты непорочной девой Цовинар от глотка ключевой воды; в якутском олонхо, так же как в бурятском "Гэсэре", герой, "судьбой предназначенный" для добрых деяний, был спущен на землю небожителями; киргизский Манас родился у престарелой бездетной четы, и мать героя не могла разродиться, пока не съела горячее сердце пристреленной львицы.
Все эти фантастические сюжеты и их художественная структура теснейшим образом связаны с основным идейным ядром повествования. Зачатие непорочной девой от ключевой воды в армянском эпосе становится своего рода предсказательным символом судьбы младенцев Санасара и Багдасара, которые, родившись на чужбине - во дворце халифа, возвращаются на родную землю, чтобы построить город Сасун и стать родоначальниками славного племени сасунских храбрецов, освободивших отчизну от иноземных поработителей. Львиное сердце, съеденное родительницей Манаса, должно наделить богатыря львиной отвагой; герой якутского эпоса Нюргун-Боотур свою благородную миссию на земле выполняет с постоянной помощью небесных родичей.
Фантастика в народном эпосе является универсальным способом героизации истории предков. И чем архаичнее эпос по своей художественной форме, тем больше в нем фантастических сюжетов.
Однако архаичность формы повествования обусловлена не только "возрастом" самого сказания, но также и характером общественного бытия самих сказителей. Как известно, многие народы Советского Союза вошли в XX век, не успев перешагнуть рубеж родо-племенного и первобытно-патриархального уклада жизни. Заторможенность развития общественной жизни народов Сибири, Алтая, Поволжья, Средней Азии, - как бы обусловила консервацию многих архаических форм художественного мышления. Изображение враждебных человеку сил в эпосе этих народов в большинстве случаев персонифицируется в образах различных чудовищ, посылающих болезни, бураны, пожирающих всю живность, похищающих женщин, преграждающих путь герою к своей благородной цели.
И вместе с тем архаические формы повествования не мешают выразить народное отношение к событиям истории более позднего периода. Через многие эпические сказания алтайцев, например, проходит образ семиглавого чудовища Дельбегена, пожирающего людей. Одновременно это фантастическое существо наделено реальными приметами монголо-ойратских ханов-военачальников, угнетавших алтае-саянские народы в течение более пятисот лет. Но фантастические образы, в которых сначала отражалась народная интерпретация таинственных сил природы, со временем приобретают общественные атрибуты, становятся выразителями исторических сил. И, наоборот, реальные образы угнетателей и поработителей нередко наделены в эпосе фантастическими чертами.
Если образы чудовищ отражают архаический способ типизации враждебных сил, то борьба с чудовищем является важным компонентом обрисовки героя. Богатырь эпоса - это великий титан, не знающий страха и поражения. Герой алтайского эпоса "Ак-каан", храбрый Тенек-Беке, опирающийся на железный посох в семь обхватов толщиной, одним ударом убил Дельбегена, его жену и быка. Когда этот герой шагал по земле, "горы качались", "море выходило из берегов", "холмы под его ступнями раздавливались".
Фантастические картины в эпосе народов СССР тесно связаны с героическими мотивами повествования, являясь своеобразным способом изображения гигантских масштабов деяний богатыря и его коня.
Обращаясь к общей характеристике героического эпоса народов Советского Союза, следует подчеркнуть его ясно выраженный демократический характер. Прежде всего это подтверждается и тем неоспоримым историческим фактом, что слагатели и исполнители устных поэтических повествований в большинстве своем представители демократических низов - пастухи, ремесленники, пахари, рядовые воины. Данные истории показывают, что подавляющее большинство эпических сказаний создавалось не во дворцах королей и князей, а в гуще народных масс.
Знаменательно, что в героическом эпосе народов Советского Союза почти полностью отсутствуют верноподданнические и религиозные мотивы. Герои решают свои сверхсложные задачи не во имя короля и бога и не для личной славы. Главная действующая сила в эпосе - это народ, которому противостоят различные чудовища, похитители, завоеватели и угнетатели.
Однако исключительно демократический дух эпоса объясняется не только тем, что в нем отражена жизнь народов, в большинстве своем не испытавших централизованной власти королей и церкви. Известно, например, что до появления "Давида Сасунского" армяне имели множество прославленных царей, многократно воспетых в национальных летописях и в исторических романах. Кроме того, трудно отрицать заслуги христианской церкви в защите армянской нации от ассимиляции и притупления чувства патриотизма. Но ведь в "Давиде Сасунском" также нет царей и нет прославления религии и церкви. Борьбу против зла возглавляют не монархи и монахи, а богатыри из народа, простые трудовые люди.
Антигосподский, демократический характер идейно-художественного содержания героического эпоса народов Советского Союза, очевидно, обусловлен тем, что на его формирование и развитие оказывали неодолимое влияние вековые события народной борьбы против иноземных и внутренних поработителей и насильников. Основная тяжесть этой борьбы, как известно, неизменно ложилась на плечи широких масс, лелеявших и воспевавших идеалы свободы и независимости.
В отличие от других повествовательных жанров устной поэзии, в героическом эпосе центральный узел сюжета состоит из событий, связанных не с личными интересами героя, а с его общественным долгом. Движущей силой подвигов героя неизменно являются благородные цели: поиски и возвращение похищенных жен и сестер; стремление вызволить из беды брата, друга; уничтожение чудовищ, притесняющих людей; наказание злодеев, творивших преступления; защита отчизны от чужеземных поработителей.
В героическом эпосе отчетливо прослеживается взыскательное отношение народа к действиям любимого героя. Манасу сопутствовали успех и слава, пока он преследовал благородные цели объединения киргизских племен и боролся за возвращение отнятого иноземными захватчиками родного Таласа. Но когда появились у богатыря ханские повадки - спесивость, жестокость, хвастовство, - герой награждается осуждающими эпитетами. Знаменательно, что все походы Манаса кончаются победой, кроме одного, который преследовал захватнические цели.
В образе эпического героя выражен священный кодекс этических норм, выработанных на протяжении большого пути развития общественного сознания народа, который любит и славит богатыря не только за его физическую силу и ловкость, но и за ум, честь и доброту, бескорыстие и чистосердечие. Силы и мужество герою даны для сотворения добра на родной земле. Вот как, например, эта идея выражена в хакасском эпосе "Албынжи".
Сын старого Албыгана - молодой батыр Хулатай, возмужав, решил пойти в поход. Хочется, говорит он, "испробовать мне богатырской бы доли, широкую землю объехать"... Отец, на сына взглянув сурово, молвил: "Я слышу хвастливое слово", - и напоминает юноше о долге батыра - "сторожить от набегов наш край родной", "жеребенка вырастить скакуном", "сироту воспитать богатырем", "пешему лошадь лихую дать", "раздетому кров и одежду дать".
Но Хулатай выслушал наказ отца с "холодной душой" и стал готовиться в дальний путь. Ушел Хулатай - красивый, отважный батыр, "в мускулистых руках неуемная сила", на быстроногом коне он понесся, поскакал, много земель потоптал, многих храбрых богатырей осилил, покой многих народов войной нарушил. Но когда герой вернулся домой, родная земля не приняла его: вступив на край отцовской земли, Хулатай в тот же час окаменел и стал серой глыбой.
Эпический кодекс порицаний и поощрений отражает исторический опыт, накопленный народом на протяжении многих веков. Разный уровень общественного развития и разные масштабы исторического мироощущения обуславливают разное наполнение идейно-художественного содержания эпического повествования.
Идеалы хакасского эпоса не связаны с воинской доблестью, с силой оружия. Это отчетливо определяется характером исторического пути, пройденного народами Минусинской долины, пережившими несколько цивилизаций. Предки хакасов в далекой древности вели оседлую жизнь. Они обладали письменностью, занимались хлебопашеством с развитой ирригационной сетью, владели ремеслами, имели оживленную торговую и культурную связь с Тибетом, с городами Средней Азии и даже с далекой Аравией и, наконец, имели свою государственность. Все это погибло под ударами
Чингизхановой орды. Но память сохранила мироощущение минувшего исторического опыта, глубоко запечатлевшегося в памятниках устного народного творчества.
Своеобразие исторического опыта народа оказывало неотразимое влияние на идейное содержание и художественную структуру его эпоса. Именно этим объясняется удивительное многообразие эпических памятников устной поэзии народов Советского Союза. Русские былины, киргизский "Манас", армянский "Давид Сасунский", калмыцкий "Джангар", казахский "Кобланды-батыр", бурятская "Гэсэриада", азербайджанский "Кёр-оглы", украинские думы, якутское олонхо, карельские руны - эти и множество других народных повествований показывают примеры сочетания классических универсалий мирового эпического искусства с неповторимыми самобытными чертами идейно-художественного содержания.
В русском героическом эпосе, так же как и в германских, исландских, индейских и персидских эпических сказаниях, богатыри вступают в битву с фантастическими, мифическими чудовищами, преодолевая сверхчеловеческие препятствия на своем пути к заданной цели. Но, разумеется, без идеи защиты русских земель от набегов полчищ завоевателей, без идеи укрепления и защиты национального государства, выраженной языком народа, показанной в исторически самобытных картинах национальной жизни, не было бы и знаменитых произведений, вошедших в историю мировой художественной культуры под общим названием "Былины".
В героическом эпосе отразилось своеобразие духовного опыта, приобретенного народом на своем многовековом историческом пути. Но прямолинейное толкование связи эпических памятников с историей и тем более попытки прикреплять их к отдельным событиям, к конкретным историческим лицам чреваты искажением природы эпоса как явления искусства.
Разнообразие исторических аспектов и жизненного материала героического эпоса народов Советского Союза обусловило исключительную самобытность художественной структуры и оригинальность поэтического звучания каждого памятника. Академик В. В. Радлов, первый из русских ученых, писавший о героическом эпосе народов Сибири, Средней Азии и Казахстана, характеризовал киргизский "Манас" как "поэтическое отражение всей жизни и всех стремлений народа", что и определило художественную структуру этого грандиозного по объему повествования.
Тяготение к летописной последовательности, стремление охватить все аспекты истории народа, определили эпопейную композицию "Манаса" В центре повествования - образ вожака киргизских племен хана Манаса, его сына Семетея, внука Сейтека, подвиги боевой дружины Манаса, его соратников и его сказочного коня Ак-Кула.
Еще на Алтае, как гласит предание, киргизы мечтали о храбром предводителе, способном, сплотив воедино разрозненные племена, защитить родные земли от набегов неприятеля. Чудесное рождение у престарелой бездетной четы Джакыпа и Чийырды необыкновенного мальчика предвещало появление долгожданного богатыря. Уже в юношеском возрасте Манас, проявив необыкновенную храбрость, был избран ханом. Набравшись сил, он предложил киргизам "вытащить колья юрт из алтайской земли", то есть откочевать.
От похода к походу росла воинская доблесть боевой дружины Манаса и его богатырей. Героика победоносных походов на пути приближения к землям предков - от Алтая до хребтов Тянь-Шаня, - составляет главный стержень содержания эпоса.
Достигнув вершины своей боевой славы, Манас задумал большой поход (чон чабуул) на столицу могучего соседа - Бейджин. Путь к Бейджину был полон неслыханных опасностей, но киргизы преодолели их. Они вошли в столицу огромного государства, и Манас занял золотой трон царя этой страны. Однако обида и гнев покоренного народа легли черной тенью на победу киргизских богатырей. Манас вернулся с чон чабуула тяжело раненным и умер.
Смерть Манаса и гибель его славных богатырей положили начало трагическим страданиям киргизского народа от внутренних распрей. Завистливые и алчущие богатства родичи узурпировали власть вожака киргизских племен, разорили и разграбили дом Манаса и пытались убить его малолетнего сына Семетея. Жена Манаса спаслась бегством. Она растила сына вдалеке от Таласа.
Вторая часть трилогии рассказывает о возвращении на родину достигшего совершеннолетия сына Манаса - Семетея, о его походе против вражеского богатыря Конурбая, о его безуспешных попытках восстановить былую сплоченность и боевую мощь киргизских племен. Семетей погиб не в бою с иноземными врагами, как его отец, а от руки изменников-родичей.
Герой третьей части трилогии Сейтек родился после трагической гибели отца. Изменники пытались уничтожить мальчика, но Айчурек - верная жена Семетея - сумела спасти сына.
Однажды во время охоты Сейтек встретил богатыря, оказавшегося одним из дружинников Семетея. Незнакомец открыл юноше его родословную и судьбу его родичей. Сейтек поклялся жестоко наказать изменников. Ему помогают чудесным образом воскресшие Семетей и его конь Тайбурул, Айчурек и Каныкей (мать и бабушка героя), старик Бакай (первый соратник Манаса).
В сюжете "Манаса" отчетливо прослеживаются как своеобразные отголоски исторических столкновений киргизов с враждующими соседями, так и типические черты эволюции общественной жизни этого народа от общинно-родового уклада до эпохи социального неравенства и ханско-феодальной деспотии. Не случайно во второй и особенно в третьей части трилогии меняется отношение масс к ханскому титулу. В первой части трилогии этот титул присваивается герою, избранному народом вожаку, за его превосходство в мужестве и храбрости. В последующих частях повествования ханский титул носят уже узурпаторы и насильники. Меняется и облик героев. Вместе с уходом со сцены Манаса и его сподвижников в эпосе стираются гиперболизированные черты героев. Потомки Манаса утрачивают былую грозную силу могучих богатырей.
Грандиозный объем "Манаса" и его многоплановая структура обусловлены стремлением сказителей выразить все, что волновало народ, вызывая его восторг или сострадание на протяжении многовековой истории. В эпосе сконцентрированы картины, изображающие все стороны национальной жизни, как: охота, свадьбы, поминки, многодневные и многолюдные праздники, состязания, боевые походы, победы и поражения.
Обстоятельность рассказа со всеми бытовыми подробностями чудесным образом сплетена с необыкновенной патетикой, с романтической торжественностью, с цветистыми речами и ратными призывами. Эпос "Манас" является энциклопедией древнего киргизского красноречия, пословиц, поговорок, афоризмов.
Основная форма повествования в "Манасе" - это своеобразные монологи. В них раскрываются характерные черты героя, его душевного склада, его возвышенные или низменные помыслы. Следует отметить традиционность разнообразных форм монологов: это - речи-призывы, обращенные к воинам, речи-угрозы в адрес врага, речи-наставления, речи-воспоминания, речи-повествования, речи-душеизлияния т. д. Монологи демонстрируют самобытную речевую культуру древних киргизов, отличающуюся оригинальной выразительностью и меткостью характеристик, многообразием словесно-поэтических приемов.
С помощью канонизированных в киргизской народной поэзии звуковых повторов в виде внешней и внутренней аллитерации, с применением тирадных объединений строф в форме "джельдирме" или "джоргосёз", певцы достигали большой впечатляемости стихотворного сказа.
Вся жизнь героев "Манаса" проходит под открытым небом. Горы, степи, пастбища, звери, птицы, кони живут с героями эпоса единой жизнью, вместе с людьми они одинаково "чувствуют" горе и радость, приносимые нескончаемым потоком трудной походной жизни. Все события происходят на фоне соответствующего состояния природы. Дождь, буран, мороз или сияние весеннего солнца как бы аккомпанируют людским радостям или огорчениям. Характерно, что в трагические или радостные моменты жизни, произнося клятву или заклинание, герой обращается не к богу, а к природе, например:
Того, кто не выполняет обещание,
Пусть покарает бездонное небо,
Пусть покарает того лохматая грудь земли...
Обширное место в киргизском героическом эпосе занимают описания игр, в которых принимают участие все богатыри - в том числе сам Манас.
Жизнерадостный юмор - неотъемлемый компонент повествования. Страстная патетика в "Манасе" сочетается с мягким лиризмом, картины трагических событий проходят параллельно с комическими приключениями. Кровавые жестокости героев сочетаются с их сентиментальной жалостью.
Жизненный материал, лежащий в основе сюжетов повествования эпоса народов Сибири, Казахстана, Средней Азии - "Албынжи", "Манаса", "Кобланды-батыра", "Гёроглы", "Джангара" и других, имеет много сходных черт, характеризующих своеобразие исторического пути кочевников-скотоводов. И тем не менее художественная природа этих памятников отличается огромной оригинальностью.
В истории предков киргизов, слагавших трилогию "Манас", и калмыков, создавших "Джангариаду", имеется ряд одинаковых ситуаций. Например, предкам калмыков также пришлось преодолевать огромные расстояния, пережить длительные и трудные передвижения, прежде чем они обосновались в степных просторах южной России.
Слагатели калмыцкого героического эпоса, так же как и киргизы, казахи и другие кочевники, пережили множество вооруженных столкновений, завоевывая новые или отстаивая старые пастбища для своего скота.
Сравнивая "Джангариаду" с эпосом "Манас", мы, однако, видим огромную разность их художественной фактуры.
В отличие от эпопейной композиции "Манаса", "Джангариада" имеет форму свода отдельных песен-поэм. Стиль повествования в "Манасе" определен общей установкой на достоверность, тяготением к своеобразным реалистическим деталям жизнеописания. "Джангариада" же посвящена истории сказочной страны "Бумба". В отличие от летописной последовательности и детализированной обстоятельности в киргизском эпосе "Манас", в "Джангариаде" события и явления представляют обобщенную суть пережитого, как бы выражают определенное состояние народного сознания как итог длительных размышлений и наблюдений.
Каждая из двенадцати песен-поэм "Джангариады" представляет историю отдельных богатырских деяний, повествуя об удивительных приключениях героев, путешествовавших по неведомым странам на земле и в преисподней, вышедших на поиски попавшего в беду друга или ушедшего от возмездия врага. Героические походы богатырей переплетаются с романическими приключениями, в ожиданиях долгожданной встречи с девушкой, достойной невестой богатыря, и т. д.
В увлекательных и во многом фантастичных повествованиях "Джангариады" постоянно звучит мелодия древних народных идеалов о райской жизни и о "девяноста девяти человеческих достоинствах".
В отличие от киргизского эпоса, во многом поэтизирующего походную жизнь кочевника, в "Джангариаде", наоборот, отчетливо улавливаются мотивы тоски по оседлому и мирному существованию.
В калмыцком эпосе выражено своеобразное мироощущение народа, кочевавшего по землям многих государств, накопившего разнообразные впечатления и познания, лелеявшего мечту о стране, где нет "лютых морозов, чтоб холодать, - летнего зноя, чтоб увядать", где есть покой и благоденствие.
В песнях "Джангариады", как и в эпосе других народов, проживших долгую кочевую жизнь, можно встретить поэтическое изображение неотразимой красоты благоуханных просторов бескрайних степей, с небосводом, усеянным ночью яркими звездами, а днем залитым ласковыми лучами весеннего солнца. Одновременно здесь отразилось также и противоположное мироощущение, связанное с ужасами зимних буранов, пронизывающих своим ледяным дыханием ветхие кибитки простых табунщиков.
Горе и страдания, причиненные непрерывными столкновениями племен и набегами угонщиков скота, породили мечту простого кочевника о мирной жизни без войн и насилия. Эта мечта в калмыцкой "Джангариаде" воплотилась в образе сказочной страны "Бумбы", "где неизвестна старость, где молоды все", где люди живут в довольстве, ничего не деля на "мое" и "твое" и славят в дивных напевах "сладостное бытие".
Фантазия и мечта о желаемом, однако, сплелись в этом эпосе с впечатляющими картинами реальной действительности. Тяготение к реалистическому изображению жизненных событий в "Джангариаде" особенно отчетливо прослеживается в эпизодах, рассказывающих о действиях врагов Бумбы, об их несправедливых и жестоких делах.
В эпосе отчетливо прослеживается водораздел между моралью героев и их противников. На вопрос врага "кто ты такой", Хонгор отвечает: "Бумба - моя отчизна, где каждый богат, все родовиты, нет бедняков и сирот, смерти не знают в нетленной отчизне там, и мертвецы возвращаются к жизни там. Этой страною враг никогда не владел: стал я бронею мирских и духовных дел!"
И вот ответ завоевателя: "Я грозою народов слыву, хана злобного Киняса я исполин. Еду я, чтобы разрушить твою бумбулву, еду я, чтобы детей превратить в сирот, еду я, чтобы в раба превратить народ, еду я, чтобы нетленных жизни лишить, еду я, чтобы людей отчизны лишить...»
Нравственная несовместимость жизненных установок представителя народа и насильников здесь обозначена ясно и недвусмысленно.
В "Джангариаде" каждый богатырь чем-то знаменит и подчеркнуто отличается от своих соратников, являясь, однако, частицей единой когорты храбрых защитников бессмертной Бумбы. Один из старейшин, например, богатырь Алтан Цеджи, - мудрый ясновидец, он помнит то, что произошло девяносто девять лет назад, и знает то, что произойдет спустя девяносто девять лет. Другой батыр - славный Хонгор, прозванный за отвагу Алым Львом, "ста государств силой своей нападение способен повергнуть в прах". Савар Тяжелорукий величав, как гора. "Тщетно пытались тысячи биться с ним - падали богатыри без счету пред ним". Мингийан - "прекрасный воин вселенной, свет и краса державы нетленной".
Индивидуальные черты героев последовательно раскрываются в ходе развития единого сюжета.
Мир героев "Джангариады" весьма обширен и не ограничен пределами калмыцкой степи. Память о том, что видели далекие предки слагателей этого эпоса во время великих передвижений и странствований кочевых племен, причудливым эхом отозвалась в песнях "Джангариады", где то и дело мелькают слова: "берег океана", "двенадцать синих морей", река Ганг. Девятиярусный и пятибашенный дворец с железными воротами и "стеклами, красными, как огонь", "стеклами, белыми, как облака", "северная сторона которого покрыта была шкурою пегого быка, а полуденная сторона покрыта была шкурою сизого быка, чтобы зимовка была легка". Соединение идеала надежно сколоченной юрты (покрытой шкурою пегого или сизого быка) с фантастическим великолепием царского дворца - весьма характерная деталь для этого эпоса. Память о былом могуществе ойратского государства, в состав которого входили когда-то и первые сказители-джангарчи, несомненно, отразилась в этом народном и в своей основе демократическом эпосе. Очевидно, не случайно, что высшим эталоном силы и величия богатыря здесь все же остается ханский титул. Главный герой нередко именуется "владыкой семидесяти стран", хотя он и не является таковым, а чаще всего ничем и не отличается от других защитников сказочной Бумбы. Тем не менее идеал силы и могущества в "Джангариаде" все же обозначен великолепием ханского престола. И вместе с тем великий нойон в "Джангариаде" в конечном счете - это народный избранник, и роскошный дворец для него построен самими простолюдинами в знак почитания и любви. Образ идеального хана, сотворенный народной фантазией в "Джангариаде", таким образом, остается незыблемым, в то время как в киргизском эпосе этот идеал постепенно развенчивается.
Но в "Джангариаде", так же как и в "Манасе", в "Кобланды-батыре" и в эпосе других народов, прошедших большой путь кочевой жизни, имеются и общие мотивы, как, например, культ коня (его боевые качества, быстрота бега, отвага и сообразительность), что является постоянным предметом поэтического восторга и горячей патетики. Мчится конь, говорится, например, в "Джангариаде", - ветер опередив; скачет он между небом и мягкой травой, "будто ветру завидовал он, будто пугался комков земли, что по дороге раскидывал он". "На расстояние бега целого дня ставил свои передние ноги скакун... " "Если сбоку взглянуть на него - сизо-белым зайцем летит, выскочившим из муравы... " "И полетел жеребец, как брошенный ком... " "Ветра быстрей поскакал отчаянный конь... и тогда показаться могло, будто в один ослепительный белый цвет с лохматогрудой землей слились небеса...»
В минуты опасности кони богатырей обретают дар человеческой речи, обращаясь к герою с советами и наставлениями. Ослабевшему в бою Хонгору конь говорит: "Ты ли из племени Шикширги, ты потомок ханши Мога! Не тебя ли страшились враги, не тобой ли пугали врага? Не ты ли победителем стал, не ты ли покорителем стал ханов семидесяти держав, не ты ли воинов гордостью был?.. Разве стыда в твоем сердце нет?.. "
Богатырские кони имеют свою "биографию", свое прозвище и устойчивый рисунок своего внешнего облика. Но в эпосе разных народов по-разному выражено обожествление коня и возвышенное отношение к нему. В башкирском эпосе, например, богатырский конь - крылатый Акбузат - тысячелетиями находился среди небесных светил. Обернувшись звездой, он ждал достойного седока. Много раз различные всесильные дивы, змеи и другие чудовища пытались завладеть им, но он достался Урал-батыру, совершившему подвиг для счастья людей.
В эпосе скотоводов-кочевников табуны являются незаменимой опорой жизни: источником пропитания и главным средством передвижения. Недаром война между кочевниками - это прежде всего взаимный угон табунов. Поимка коня, седлание коня, ловкость и мастерство табунщика - все это важные показатели достоинств героя. Возмужание богатыря измеряется его отважным участием в угоне табунов неприятеля.
Ошеломляющие события, головокружительная фантастика являются неизменным компонентом многих эпических повествований. Огромный пестрый мир народных представлений о вселенной, о возникновении человечества, о борьбе его героев, о нормах человеческого поведения вкладывается в фантастические сюжеты. Это особенно ярко обнаруживается в эпосах, сохранивших наиболее архаические сюжеты, - например, в якутском олонхо, карельских рунах, в бурятских улигерах или в алтайских и тувинских сказаниях.
Истории, составляющие основу сюжета якутского олонхо, происходят на фоне фантастического мира, который делится на три яруса: верхний (небо), средний (земля) и нижний (преисподняя).
Средний ярус в олонхо рисуется в виде плоского круга, края которого изогнуты, как носы охотничьей лыжи. Посредине среднего яруса (земли) растет вечнозеленое восьмиствольное священное дерево Аал Кудук Маас, в котором обитает дух Хозяйки Земли - Аан Алахчын-хотун. Средний ярус принадлежит племени айыы-аймага. Нижний ярус находится за горами, на севере, где лежит ледовитое море и где вечно пасмурное небо. Там живут исконные враги людей среднего яруса. Богатыри нижнего яруса хитры, коварны и неуловимы.
Верхний ярус имеет две половины - в одной обитают добрые племена главного божества Одун Дьылга - белого батюшки. В разных частях этого яруса находятся и другие добрые боги, как покровитель конского скота Дьесегей, богиня деторождения Айыысыт, хранительница людей, скота и собак Иэйхсыт и другие божества.
На западной стороне верхнего яруса живет племя злого божества Улуутуйар Уллу Тойона.
Каждое сказание олонхо начинается вступлением, которое содержит восторженное описание чудесной природы страны героя, историю его судьбы и причин, побудивших встать на путь борьбы.
Действие, как правило, начинается с нападения абаасы на улусы айыы-аймага и похищения жены или сестры героя. Иногда герой вступает в бой по просьбе родичей, терпящих бедствия от притеснителей абаасыларов.
Борьба между богатырями происходит во всех трех ярусах. В боях принимают участие духи - хозяева природы и небожители.
Волшебники-кузнецы нижнего и среднего ярусов изготовляют для богатырей своего племени всевозможное вооружение. Небесные шаманки излечивают раненых; кони, птицы, звери также являются участниками жестоких сражений и разыгравшихся трагедий.
Богатыри с той и с другой стороны обладают способностью перевоплощения, что усложняет ход действия. Трудная и затяжная борьба, полная смертельных опасностей, неизменно заканчивается победой богатырей айыы-аймага над абаасыларами и возвращением героя домой, к мирной счастливой жизни.
За фантастическим сюжетом олонхо легко угадываются черты межплеменных столкновений, происходивших в далекие исторические времена. Но военные стычки в олонхо не связаны с умножением материальных благ, как угон табунов, или оттеснением неприятеля с лучших пастбищ.
Главные мотивы вражды между героями носят морально-этический характер (нарушение прав и свободы племени айыы-аймага, нанесение оскорбления, похищение женщин). Победа богатыря не связана с приобретением добычи или возвращением награбленного. Цель победы героя - возвращение домой похищенных сестер, невест и соплеменников.
Заканчивается каждое сказание олонхо описанием свадебного пира победителя.
Якутские мифологические сюжеты отражают характерные черты истории человеческого общества далеких времен, оставивших определенные следы в памяти создателей фантастических повествований - олонхо. В образе главного божества якутов Одуна Дьылги отчетливо угадываются черты идеализированного патриарха, мудрого старейшины племени.
Сюжеты олонхо отличаются большой подвижностью. Образы и характеры свободно кочуют из одного сказания в другое, приобретая новые имена и получая новые задачи. Вместе с этим характерная устойчивая композиция сохраняется во всех вариантах эпоса. Разница проявляется лишь в объеме сказания, в количестве эпических картин, включенных в повествование. Сказители-олонхосуты, таким образом, обладали широкими возможностями для проявления своих импровизационных способностей, силы своей памяти и т. п.
В отличие от эпоса многих народов, якутское олонхо в значительной своей части не сказывается, а поется. Мелодии выполняют важную функцию в обрисовке образов. Каждый персонаж наделен соответствующей его характеру и деяниям традиционной мелодией. Чтобы овладеть искусством олонхосута, требуется не только хорошая память и не только богатый разнообразными регистрами голос певца, но и выразительная мимика, способность перевоплощения, овладение традиционной манерой пения.
В каждом героическом сказании можно найти особый, самобытный рисунок фантастического повествования. Эпические произведения древней народной поэзии Карелии, известные под названием руны - это повествовательные песни о далеких временах сотворения мира и первых героях-созидателях.
Слагатели рун жили в дремучих лесах под суровым холодным небом, среди множества северных рек и озер, занимались охотой, рыболовством, выкорчевывали лес, чтобы пахать землю, изобретая свои нехитрые орудия труда и охоты.
Вот почему в рунах удивительно отчетливо выражена идеология человека-созидателя, противостоящего суровым силам природы.
Главный герой поэтического повествования - старый песнопевец Вяйнямёйнен - он и пахарь и охотник, умелец-мастеровой и храбрый богатырь.
Предмет восторга и прославления в карельской народной поэзии - не воинская доблесть и не богатая добыча, а труд, песня и познание. Все победы Вяйнямёйнена прежде всего основаны на его умении приобретать знания.
В рунах запечатлено восторженное удивление перед силой человеческой мысли, выраженной в слове. Ради такого единого слова, разрешающего трудную задачу постройки нового корабля, Вяйнямёйнен бесстрашно спускается в преисподнюю, к усопшему исполину Антеро Випунену и, преодолевая смертельные препятствия и опасности, возвращается с победой. Самое высокое восхваление в адрес Вяйнямёйнена - это эпитеты: мудрый, прорицатель.
В сказаниях нет религиозного культа или почитания магических церемоний. Традиционный антропоморфизм - очеловечивание природы - здесь тесно связан с таинственными и необъяснимыми для патриархального человека явлениями природы. Но образы языческих божеств - духа хозяина лесов (Тапио), хозяйки воды (Велламо), владыки волн (Ахто) и владыки облаков (Укко) не отличаются активностью и силой. Не случайно герои повествования стараются повлиять на поведение духов заклинаниями, призывами, а нередко и угрозами.
Противоборствующие силы в рунах представлены: с одной стороны - в образе солнечной страны Калевалы, где чтут труд и песнопение, а с другой - мрачной, холодной Похьолы - обиталища лютых извергов и колдунов.
Хозяйка Похьолы, злая ведьма Лоухи, хитростью и коварством завладела чудесной мельницей Сампо - творением калевальского кузнеца Илмаринена. Вспыхнула война. В ходе страшной битвы Сампо разбилась и упала в море. Но калевальцы не пали духом, собранные на берегу моря осколки чудесной машины продолжали служить людям и приносили им жизненные блага.
Труд является источником непобедимости героев рун. Но есть еще одно неотразимое оружие у калевальцев - это песня. Люди Калевалы преклоняются перед знаниями мастерового и перед искусством певца. Культ песен в карельских рунах не имеет себе равного. Песня Вяйнямёйнена обладает неодолимой магической силой. Именно силой песни он погружает противника в болото, останавливает войска злобной ведьмы Лоухи и т. д.
Читая тексты сказаний о сасунских храбрецах, составивших знаменитый армянский эпос "Давид Сасунский", мы попадаем в совершенно иной мир. И дело не только в том, что армянское нагорье под лазурным небом своим солнечным колоритом является как бы антиподом хмурого края Калевалы или темной, тревожно-таинственной тайги героев олонхо. Нас поражает прежде всего глубокая разность художественного стиля повествования в этих памятниках. В армянском эпосе нет ничего похожего на буйные потоки манасовских монологов, страстных тирад в речах героев, с каскадом удивительных гипербол. Здесь нет также ничего похожего на причудливые словесные узоры якутского олонхо. Армянскому эпосу, может быть, ближе всего эмоциональная сдержанность и мягкий лиризм карельских рун. Но повествовательный стиль "Давида Сасунского" далек от поэтической архаики карельского эпоса. Подчеркнутая, как бы нарочитая простота и лаконичность повествования "Давида Сасунского" более всего роднит его с художественной фактурой традиционной восточной сказки. Но в нем сосредоточены специфические особенности древней армянской народной поэзии, в которой постоянно ощущается социальная заостренность идейного содержания, выраженная, однако, в своеобразной иносказательной форме. Идея братства и мира, которая красной нитью проходит через всю эпопею о сасунских храбрецах, заключена, например, в таких компонентах сюжета: враждующие богатыри - армянин Давид и араб Мсра-Мелик вскормлены грудью одной женщины - Исмир-ханум; исход кровопролитной битвы Давида против арабских полчищ решается обращением старика араба к Давиду не убивать простых воинов; сын Давида - Мгер-младший освобождает от чужеземного насилия не только армянские земли, но спасает от стихийного бедствия также земли и города далеких и близких соседних стран.
Совершая множество невероятных подвигов, Мгер спешит на помощь разным народам. Силой и отвагой он не уступает своим славным предкам, но для окончательной победы над злом еще не пришло время. Однако вера в торжество добра вечна. Это выражено в судьбе самого Мгера, в его бессмертии.
Многогранное идейное содержание "Давида Сасунского", обусловленное опытом многовековой борьбы армянского народа против не только внешних, но и внутренних насильников, выражено бесхитростной речью народных низов, нарочито простым разговорным языком, без патетических слов и сложных поэтических узоров. Главная художественная функция эпоса решается своеобразием его композиции, которая позволяет вывести повествование за рамки одной страны, показывая героев во взаимодействиях с людьми других стран, соучастниками забот других народов.
Продолжая разговор о разнообразии художественной типологии героического эпоса народов Советского Союза, нельзя не обратить внимание на оригинальную структуру украинского эпоса, имеющего форму цикла песен, получившего общее название "думы", которые отличаются более непосредственной связью с исторической действительностью. Трагические картины опустошительных набегов разбойничьих отрядов турецкого султана и крымских ханов на украинские земли, угон мирных жителей на рынки работорговцев, предательство изменников-гетманов, ужасы неволи и другие невзгоды, обрушившиеся на Украину в XV-XVII веках, получили свое прямое отображение в этих оригинальных народных поэмах.
Гипербола, мифические сюжеты и фантастика - являющиеся атрибутами эпоса многих народов - почти совершенно отсутствуют в украинских думах. Здесь уже нет говорящих и летающих коней или птиц с железным клювом, фантастических небожителей и подземных чудовищ, с которыми богатыри вступают в сложные, подчас трагические взаимоотношения.
Более того, герои украинского эпоса зачастую имеют своих исторических прототипов, имена которых упоминаются в летописях и хрониках. Реальные события и реальные исторические лица оживают в думах в свете народного миропонимания, народной оценки и интерпретации. Это обстоятельство неизбежно наложило свой отпечаток на художественную структуру украинских народных поэм. Если эпос народов Кавказа "Нарты", также состоящий из отдельных сказаний, имеет ряд циклов, изображающих деяния главных героев, если армянский "Давид Сасунский" или киргизский "Манас" отличаются единым сюжетом о подвигах трех поколений богатырей, неразрывно связанных между собой не только узами родства, но и одной исторической задачей, то украинские думы состоят из множества сюжетов и что, истоки всемирной литературы нерасторжимо связаны С нетленными богатствами устного словесного искусства. опытки не увенчались успехом, ибо историческая природа украинского эпоса выражена главным образом в многотемности повествования. Думы посвящены не только героическим событиям истории; они повествуют также и о других явлениях жизни народа, имеющей бытовые, религиозно-обрядовые, свадебно-праздничные, юмористические и сатирические аспекты. В отличие, например, от "Манаса", эти многочисленные аспекты народной жизни не группируются вокруг какой-либо общей, доминирующей идеи, образуя единство эпического повествования. Каждый сюжет украинских сказаний существует отдельно, сам по себе.
В отличие от эпоса почти всех наших народов (за исключением, может быть, татарских баитов), думы как жанр устной эпической поэзии выходят за рамки древности; народные сказания повествуют не только о том, "что происходило в старину", - они откликаются на все, что волновало народ с древнейших времен до наших дней. И не случайно, что среди персонажей дум мы встречаем не только Богдана Хмельницкого, но и полководцев Красной Армии. Возникнув сотни лет назад, думы как повествовательный жанр вживались, таким образом, в процессе развития художественной культуры различных периодов духовной жизни украинского народа.
Надо сказать, что поэмная структура, с тяготением к реалистическому способу изображения жизни, встречается также в эпосе тюркоязычных народов. Казахский "Кобланды-батыр" более всего представляет именно этот художественный стиль народной эпической поэзии.
Здесь все происходит на фоне реальной действительности, без фантастики и символики. Герои эпоса отличаются от общей массы окружающих людей только храбростью и силой. Но и эти качества имеют свои пределы. Кобланды победил могучего богатыря кызылбашей - хана Казана, но и сам не раз испытывал страх перед превосходящей силой врага.
Герои казахского эпоса не владеют волшебством, это реальные, земные люди, мироощущение которых не выходит за рамки представлений, обусловленных кочевой жизнью скотовода-степняка.
Обращает на себя внимание тяготение к точности деталей, красок изображения природы и народного быта. Постоянный предмет восторга в казахском эпосе - это восход солнца, богатые сочной травой луга, хорошо поставленная юрта, чистые водоемы с прозрачной студеной водой.
Художественные мотивы и образные картины в эпосе "Кобланды-батыр" заимствованы из реального окружения скотовода-кочевника: богатырь выскочил из ворот "быстрей, чем течение в устье реки", он набрал силы и "стал словно бурлящий поток", "Кобланды скачет и истребляет врагов, словно волк, напавший на отару овец". Самая лестная хвала джигиту - уподобление его "кошкару с изогнутыми, как месяц, рогами". Когда герой приходит в ярость, "с его век осыпается снег, его ресницы покрываются льдом, он завывает, как снежная вьюга". Снег, лед, вьюга - что может быть более мрачным и устрашающим для кочевника, проводившего свой век в степи под открытым небом.
Выносливость является важным признаком богатырской силы. Хан Казан только "раз в двенадцать дней ложился спать". Неутомимость в пути, способность быстро преодолевать пространство, является неотъемлемым качеством богатыря. Кобланды на коне Бурыл "перескочил через множество, множество, множество гор"; "миновав пустыни, озера, неприступные горные хребты, обрывы, песчаники, мчится, мчится дальше"...
Через весь эпос "Кобланды-батыр" проходит самобытный образ богатырши Карлыги. Любимая и единственная дочь сказочно богатого и сказочно храброго Казан-хана - красавица Карлыга, предмет мечтаний не одного витязя, гордо отказавшая в любви многим достойным батырам, впервые увидела Кобланды в темнице своего отца. При попытке угнать богатый хорошими скакунами табун Казан-хана Кобланды был настигнут храбрым хозяином и попал к нему в плен. Казан-хан привел связанного батыра к себе домой, крикнув Карлыге с порога: "Ты дома или нет, дочь моя, выходи, хорошего раба тебе раздобыл".
Карлыга воспылала любовью к пленнику отца. Однажды ночью ей удалось бежать вместе с возлюбленным, захватив табуны отца, которые Кобланды хотел угнать, но не смог. Казан-хан догоняет беглецов. Разгорается жестокий бой. Только с помощью Карлыги Кобланды удается убить Казан-хана. Однако поспевает брат Карлыги, который, превосходя силой Кобланды, одолел бы его в единоборстве, но, получив предательский удар сестры в спину, погибает. Эти трагические поступки Карлыга совершает, одержимая любовью к Кобланды. Она хочет стать супругой батыра, а Кобланды отдает девушку своему другу вместе с частью угнанного у Казан-хана табуна - как дружескую долю военной добычи. Вскоре Карлыга убегает от непрошенного хозяина и находит Кобланды в момент его тяжелой борьбы с врагами, напавшими в его отсутствие на родное стойбище и захватившими в плен его родню. С помощью храброй богатырши Кобланды одолевает жестоких врагов. Но снова Карлыга тщетно ждет любви Кобланды. Она поселяется в одинокой юрте на вершине горы вблизи стойбища Кобланды и с тоской, со слезами на глазах смотрит, как мимо проезжает Кобланды вместе с женой Корткой на пиры и празднества.
Почему была отвергнута Карлыга? Образ Кортки - первой жены Кобланды - является прямым ответом на этот вопрос.
Кортка - воплощение добровольного подчинения мужу как своему непререкаемому господину. Она обладает качествами идеальной жены кочевника-скотовода. Кортка не богатырша, но превосходная хозяйка дома, искусно шьет и ткет, умело помогает кобылице ожеребиться, заботливо выхаживает жеребенка, вырастив из него богатырского коня. Кортка умеет унять гнев мужа, прощая его несправедливые нападки и грубость, она способна и лечить боевые раны батыра, какими бы опасными они ни были, бережет его сон, знает, как вернуть ему душевное равновесие, и т. д. Наконец, Кортка, как истинная мусульманка, не только не восстает против любовных домогании Карлыги, но даже активно помогает ей стать второй женой своего мужа, требует от своего сына почитать Карлыгу и добавляет, что не простит сыну, если он даже нечаянно причинит Карлыге боль.
Образ Карлыги - лебединая песня степной амазонки, сохранившейся в эпосе со времен глубокой древности как воспоминание о далеком поколении прославленных богатырш, равных среди предводителей племени.
Карлыга побеждена, но она не отвергнута, она остается в ореоле древних идеалов кочевника-степняка. Она храбра, бесстрашна, неотразима в богатырском поединке, недосягаема в быстрой езде. В заключительной части эпоса побежденная Карлыга входит в юрту Кобланды покорной женой, но не лишенная обаяния степной амазонки.
Обычная для древних сказаний противоречивость в поэме "Кобланды-батыр" проявляется и в других деталях. Например, каждый рассказ о том или ином факте преуспеваний героини предваряется словами: "Хотя она и женщина". Казалось бы, что это явная дань исламу, не допускающему превосходства женщины над мужчиной. Однако нетрудно заметить, что этот рефрен одновременно как бы полемизирует с пренебрежительным отношением к женщине. Напластования в эпосе ранних и поздних элементов морального кодекса казахских племен обусловлены не только древнейшими корнями этого памятника, но и его живым бытованием на протяжении многих столетий вплоть до эпохи XIX-XX веков.
Рассказ об удивительном многообразии художественной и исторической типологии героического эпоса народов СССР не может быть полным без хотя бы краткой характеристики латышского "Лачплесиса", который, в отличие от "Манаса", "Давида Сасунского", "Джангариады", появился не на устах безымянных певцов, а из-под пера выдающегося латышского национального поэта и вошел в сокровищницу культуры вместе с точной датой своего рождения (1888 г.) и с именем своего создателя Андрея Пумпура.
Появление латышского национального эпоса, как и карело-финской "Калевалы", а также и эстонского "Калевипоэга", было продиктовано самим ходом жизни - историческим процессом общественного пробуждения народов древней Балтии.
В течение столетий после захвата в XII-XIII веках крестоносцами балтийских земель латыши, как и другие народы Балтии, были крепостными рабами немецких помещиков. Все ключи духовной жизни народа - церковь, образование, судопроизводство, цензура, печать - находились в руках чужеземцев. Доступ латышей к образованию был весьма ограничен и служил лишь задаче подготовки грамотных прислужников иноземцам. Книги на родном языке являлись средством воспитания у латышей рабского смирения. Национальное словесное искусство на языке народа в то время существовало лишь в устной форме. И когда возникла историческая необходимость в героическом повествовании о судьбе народа, эта задача была решена в жанре народного эпоса. Не случайно, что до появления "Лачплесиса" были и другие попытки латышских прогрессивных писателей создать национальный эпос. Существовало мнение (А. Пумпура, Г. Меркеля) о том, что до прихода крестоносцев у латышей был народный эпос, но он исчез в эпоху рабства, потому что немецкие пасторы преследовали героические народные песни. Воспевание времен доблестных предков считалось прямым выпадом против господ.
Во второй половине XIX века, в атмосфере небывалого подъема национально-освободительного движения на Западе и на Востоке, произошли значительные сдвиги в общественном сознании латышского народа, появилась неодолимая потребность в героическом слове, обращенном к широким массам. Оно было произнесено на языке народа, через образы, созданные его художественной фантазией.
Легенды о затонувшем замке, в котором хранились свитки, оставленные первопредками латышей, с записями великих законов человеческого счастья и справедливости, о доброй фее Стабурадзе - дочери Латвии, о сотворении родных гор, долин, великой реки Даугавы, о зловещих шабашах ведьм, замышлявших зло против людей, о фантастическом крае Сампурни (Сампурни (песиголовый) - распространенный в латышских сказках образ.), черте Вэлне и другие повествования, составляющие сюжетную канву "Лачплесиса", тесно связаны со стихией народной художественной фантазии.
Латышская сказка о юноше, получившем прозвище "Лачплесис" (Лачплесис - "разорвавший медведя".), оплодотворила творческий замысел А. Пумпура, создавшего образ бесстрашного и самоотверженного героя. Героический эпос латышей, таким образом, родился из органического сплава древних фольклорных образов с идеями современной борьбы народа за свое раскрепощение. Мотивы древних преданий сплелись с исторической достоверностью. Сказания о благородном витязе, о его борьбе против фантастических врагов человечества перекликаются с народной памятью о жестоких чужеземных завоевателях и об их прислужниках, предавших интересы народа. Популярные мотивы латышских волшебных сказок, в которых герой одерживает победу над различными чудовищами, обрели в "Лачплесисе" эпическое звучание.
Древние латышские мифы, народные поверия, обычаи, Яновы песни, а также своеобразная топонимика родного края составляют фольклорную основу национального эпоса.
Одним из примечательных явлений в истории эпоса народов СССР является многонациональное происхождение многих художественных памятников. Когда-то шли споры о том, кому принадлежит, например, эпос о нартах: осетинам или адыгам? Но дружной исследовательской работой советских ученых было доказано, что эпос о нартах, являясь неотторжимой частью устной эпической поэзии осетин, абхазов, кабардинцев, адыгейцев, балкарцев, карачаевцев и черкесов, неопровержимо свидетельствует о древней культурной общности народов Кавказа. О давних духовных связях между народами свидетельствует также эпос о легендарном певце и бесстрашном борце против тиранов, которого зовут в азербайджанском варианте Кёр-оглы, в туркменском - Гёроглы, в таджикском - Гуругли и т. д.
Всемирно-известная "Гэсэриада" представляет черты духовной жизни одновременно ряда народов Сибири и Дальнего Востока. Еще недавно шли споры о том, какой вариант "Гэсэриады" считать первозданным: монгольский, тибетский или бурятский. Одинаковые сюжетные линии, общие черты поэтики "Гэсэриады" у халха-монголов, ойратов, народов Тибета, а также и Бурятии, давали повод думать, что этот эпос сложился у одного из народов Востока, а затем он был заимствован соседями.
По мере накопления записей текстов и по мере углубления в материалы истории стало очевидным, что споры о приоритете того или иного варианта этого уникального памятника художественной культуры лишены объективного научного интереса.
Каждый национальный вариант "Гэсэриады" самобытен и отражает существенные черты исторической жизни своего народа. На территории Советского Союза бытует одна из ярких в художественном отношении и весьма монументальных по сюжетному составу версия "Гэсэриады". Это бурятский героический эпос "Абай-Гэсэр", записанный в многочисленных вариантах непосредственно от народных певцов в разных уголках Бурятии.
В исследовательской литературе встречается определение исторической природы эпических сказаний как художественного воспоминания народа о прошлом. Однако в эпосе взгляд народа устремлен не только в прошлое, но и в желаемое будущее. Описание в вавилонском эпосе "золотого века", когда все люди говорили на одном языке, живя в полном согласии, не было ядовитых насекомых, а быки и овцы паслись на зеленых лугах, не опасаясь нападения хищных зверей, - этот идиллический мир, так же как и священное дерево в эпосе якутов и алтае-саянских народов или страна Бумба в калмыцком эпосе, являются не воспоминаниями, а мечтой. Желаемое в эпосе зачастую изображается в форме былого.
Героический эпос хранит, как в гигантской копилке духовных сокровищ человечества, алмазные россыпи народной мудрости. Эпос рождается, формируется и развивается в течение веков, впитывая в свою плоть и кровь типические черты опыта общественного развития народа, накопленного на протяжении длительного исторического времени. В течение ряда веков многочисленные поколения безыменных поэтов и певцов шлифовали идеи и сюжеты сказаний, сохраняя для потомства жар души наших предков, их наставления, их мечты и ожидания. Именно в этом и заключена нетленность памятников устной поэзии, вечно живая жизнь эпоса, его способность оплодотворять идеями и художественными образами искусство социалистического общества. Именно этим объясняется тот факт, что многие спектакли театров оперы и балета всех республик Советского Союза, многие произведения живописи и скульптуры выдающихся мастеров и многие талантливые книги современных поэтов и писателей, выпускаемые советскими издательствами ежегодно и большим тиражом, созданы и создаются по мотивам народного эпоса.
Устные эпические сказания, дошедшие до нас из глубин минувших веков, как и героический эпос народов СССР, принадлежат сокровищнице духовных достижений человечества.
Арфо Петросян
Былины
Святогор и тяга земная
Едет богатырь выше леса стоячего, головой упирается под облако ходячее... Поехал Святогор путем-дорогою широкою, и по пути встретился ему прохожий. Припустил богатырь своего добра коня к тому прохожему, никак не может догнать его: поедет во всю рысь - прохожий идет впереди; ступою едет - прохожий идет впереди. Проговорит богатырь таковы слова: "Ай же ты, прохожий человек, приостановись немножечко, не могу тебя догнать на добром коне!" Приостановился прохожий, снимал с плеч сумочку и клал сумочку на сыру землю. Говорит Святогор-богатырь: "Что у тебя в сумочке?" - "А вот подыми с земли, так увидишь". Сошел Святогор с добра коня, захватил сумочку рукою - не мог и пошевелить; стал вздымать обеими руками - только дух под сумочку мог пропустить, а сам по колена в землю угряз. Говорит богатырь таковы слова: "Что это у тебя в сумочку накладено? Силы мне не занимать стать, а я и здынуть сумочку не могу!" - "В сумочке у меня тяга земная". - "Да кто ж ты есть и как тебя именем зовут, величают как по изотчине?" - "Я есть Микулушка Селянинович!.. "
Вольга и Микула Селянинович
Исцеление Ильи Муромца
Илья Муромец и Соловей-разбойник
Василий Буслаевич и новгородцы
Садко
Урал-батыр
Башкирский народный эпос
Были у них лев, кречет и щука. На льве они ездили, кречет им птицу в небе сбивал, а щука рыбу ловила. И часто думал Урал - что такое Смерть, что это за сила? И спросил однажды у отца:
Урал
Янбирде
Однажды Янбирде и Янбикэ уехали на охоту, наказав сыновьям не пить крови из ракушек. Шульген нарушил их наказ - отпил по глоточку. Янбирде, вернувшись, начал бить его палкой. И тогда Урал, схватив его за руку, сказал:
Урал
Янбирде, смутясь, задумался, собрал всех зверей и птиц, чтобы порасспросить - в каком обличье ходит Смерть. Молодой Урал горячо призывал не губить друг друга, не давать волю Смерти, поймать ее и задушить. Но хищные звери и Шульген с ним не согласились.
Старик Янбирде и старуха Янбикэ теперь не решались одни ходить на охоту и стали брать с собой сыновей. Однажды много дичи они добыли и среди птиц - белую лебедушку. И когда Янбирде приставил к ее горлу нож, заплакала лебедушка кровавыми слезами и так сказала, говорят:
Лебедушка
Шульген хотел убить птицу, но Урал за нее заступился.
Хумай из здорового крыла выбросила три перышка, обрызгала их кровью из раны, и они упали на землю - появились три лебедя и, подхватив Хумай, ставшую красивой девушкой, унесли в небо.
Янбирде велел сыновьям идти вслед за лебедями и найти то место, где течет живой родник. А если в дороге встретится Смерть, срубить ей голову и принести ему.
Долго ехали на своих львах Шульген и Урал.
Однажды под огромным деревом увидели седобородого старца.
И сказал он им: "Налево пойдете - страну счастья падишаха Самрау увидите, направо пойдете - страну горя падишаха Катилы увидите".
Братья бросили жребий. Идти направо выпало Шульгену, но он, уговор нарушив, пошел налево. Урал не стал спорить со старшим братом и пошел направо - в страну горя. Много гор он перевалил, много рек переплыл и однажды в лесу увидел сгорбленную старуху. Она рассказала, плача, о страшных делах Катилы и умоляла Урала не ездить в эту страну. Но Урал так сказал:
Урал
Урал
Урал
Урал
По совету старых людей Урал женился на дочери Катилы. После свадьбы через несколько дней он снова тронулся в путь и увидел в лесу, как огромный змей пытается проглотить оленя: проглотил бы оленя - рога не проходят, отпустил бы оленя - выплюнуть не может. Змей назвался Заркумом, сыном дива Кахкахи, и молил спасти его - сломать рога оленю, за что обещал дать много жемчуга и отвести во дворец отца. И тут же выдал отцовскую тайну: у Кахкахи, оказывается, есть волшебная палка - "с ней в воде не утонешь, в огне не сгоришь, а коль надо скрыться от страшных врагов, невидимым станешь, и сколько б враги тебя ни искали, найти невидимого не смогут"... Урал поверил Заркуму, сломал рога, Заркум проглотил оленя, превратился в красивого егета и повел Урала к отцу Кахкахи.
А старший брат Урала Шульген шел по стране счастья и видел: в реках, в озерах рыбы - плотва, пескари да щуки плавают вместе, на ветках прыгают птицы - ястреб с жаворонком рядом, кукушка с соколом тоже рядом, а соловей им трели выводит, а на склонах гор ходят овцы рядом с волками, петухи да куры с лисою рыжей привольно пасутся на одной поляне. И подумал Шульген: "Сначала пойду к падишаху, тайну дворца его разузнаю, а когда стану домой возвращаться, много дичи себе добуду - зверей доверчивых, рыб не пугливых". Но вскоре ему повстречался Заркум, бежавший от Урала, и, назвавшись сыном Азраки-дива, уговорил его идти с собою, обещая много дать подарков и живой воды - сколько захочет. Подошли к дворцу, и тут - крылатые кони-тулпары навстречу вышли, а за ними огромные дивы, и повели Шульгена с почтеньем, как важного гостя...
Азрака
Заркум
Хумай
Хумай
Урал
Хумай
Урал
Хумай
Долго странствовал Урал и наконец озеро увидал: берега его не из камня, дно его не из гальки, - берега и дно серебром покрыты. Цветы, росшие на берегу, даже на самом сильном ветру не колыхались, а гладь водяная застыла, будто бы ледяная. Тут он и увидел чудесную птицу, палкой волшебного помахал, и птицу околдовал, и привез ее к Хумай. Птица эта ее сестрой Айхылу оказалась, она, потеряв мужа, от дивов в далеких краях скрывалась.
И тут Хумай таиться не стала, свое имя Уралу сказала, о том, как он спас ее, рассказала и повела к отцу Самрау. И отец сказал: "Айхылу, уставшую от скитаний, испытавшую столько страданий, надо к матери Луне отправить в гости". Так и сделали - на своем коне Сарысае Айхылу улетела на Луну. А Хумай, после того как ей Урал в любви открылся, выпустила Шульгена из темницы.
Урал
Шульген
Хумай
Акбузат
Айхылу
И начал Урал страшную, многолетнюю битву с падишахом Азракой, дивами, драконами и змеями, которых возглавляли Кахкахи, Заркум и предатель Шульген. Азрака, чтобы в небе птицы не летали и по земле люди не ходили, велел водою залить землю, а небо поджечь. И залилась земля водою, небо пламенем озарилось. Но Урал ни огня, ни воды не боялся, месяц бился, год бился, защищая небо и землю, людей тонущих защищая.
Это Урала разыскали его три сына - Идель, Яик и Нугуш. Четвертым был сын Шульгена, рожденный от Айхылу, егет по имени Хакмар. И с ними четыре друга-батыра. Нугуш, рожденный от матери по имени Гулистан, рассказал, как убил змея Заркума. Урал по-отцовски обнял сыновей, радуясь, что они выросли богатырями, вскочил на Акбузата и повел своих сыновей-батыров в бой.
Урал
Урал
Урал
Старик
Урал
Хумай
Хумай
Гэсэр. Ветвь девятая. Поражение трех шарагольских ханов
Бурятский народный эпос
Полет железной птицы
Возвращение и гибель птицы-разведчицы
Три шарагольских хана, в отсутствие Гэсэра, идут войной на его страну
Предательство криводушного Нойона Хара-Зутана
Ворон сообщает богатырям Гэсэра о тяжелом ранении Эрхэ-Манзана
Воительница Алма-Мэргэн принимает облик Гэсэра
Голова Саргала возносится на небо
Гэсэр возвращает жизнь богатырям, превращенным в каменные изваяния
Гэсэр решает освободить из плена Урмай-Гохон
Подвиг Найденыша
Желанное время
Сказания о нартах
Осетинские сказания о нартах
Слово о нартах
Созырко в стране мертвых
Решение бога
Борьба с небожителями
Последний бой
Адыгские сказания о нартах
Как Сосруко добыл огонь
Песнь о Бадыноко
Балкаро-карачаевские сказания о нартах
Как нарт Ёрюзмек убил красноликого рыжебородого Фука
Дочь Солнца и Луны Сатанай
Сатанай спасает Ёрюзмека от гибели
Нартский кузнец Дебет
Клятва коня и юноши
Карашауай отправляется в поход
Абхазские сказания о нартах
Имя ее Сатаней-Гуаша
Сатаней-Гуаша была матерью ста нартов-богатырей, а их отца звали Хныш. Слава ее была выше мужней. К ее мудрым советам прислушивались не только нарты, но и весь народ. За ум и красоту Сатаней-Гуашу величали Золотой Владычицей.
Сыновья ни в чем не перечили ей. Мать одна, а их-то сто! Если бы возвысили они свой голос против матери, что она могла бы поделать с ними? Женщина у апсуа пользуется особым уважением и по сей день. Разве удивительно, что Сатаней-Гуаша в те далекие времена благодаря своему уму и красоте была окружена великим почетом?
Хотя Сатаней-Гуаша и родила сто детей - тело ее, подобно свежему сыру, было тугим и белым. И любой человек, сдержанный в чувствах и с большим самообладанием, приходил в замешательство, если в глаза ему вдруг бросалась хотя бы частичка ее оголенного тела. Белая кожа Сатаней-Гуаши была такой ослепительно яркой, что отражение блеска ее, падавшее на море и от моря на горы, часто сбивало корабли с верного направления. И немало мореходов погибло именно по этой причине. Обломки кораблей находят и до сего дня на берегу нашего моря.
Для своих прогулок Сатаней-Гуаша выбирала долины рек Бзыби и Кубины, особенно Кубины. Она стирала на берегах этих рек, когда это приходилось делать.
Сатаней-Гуаша выходила обычно в долину Бзыби, и шла вверх до самого истока, и через перевал направлялась к истоку Кубины. Затем ее видели у самого устья Кубины, и тем же путем возвращалась она к ее истокам, а оттуда - к верховьям Бзыби и мимо озера Рица - к Черному морю.
В Апсны уже знали, когда Сатаней-Гуаша купалась в Рице. Подымаясь в горы или спускаясь в долину, она любила окунуться в холодную воду этого озера. И тогда от нагой купальщицы исходил свет, похожий на свет восходящего солнца. По временам чудесные зарницы освещали берег нашего моря. И жители уже знали, что Сатаней-Гуаша - в воде хрустально-чистой Рицы и что скоро прибудет на побережье.
Случалось и так, что Сатаней-Гуаша, прогуливаясь по долинам Бзыби и Кубины, пряла пряжу. Отдыхая, она купалась в реках. И от нее постоянно исходил все тот же чудесный свет, она сверкала без солнца и без луны.
Как уже говорилось, одежду своих сыновей стирала она где-нибудь на берегах Бзыби или Кубины. И не раз Зартыжв и другие пастухи зачарованно глядели на Сатаней-Гуашу. А стада тем временем разбегались, и пастухам подолгу приходилось их собирать.
Так проводила время Сатаней-Гуаша в своих путешествиях.
Однако чаще всего находилась она дома, где с превеликим умением и старанием вела немалое хозяйство. Ни утром, ни в полдень, ни вечером не знали ее руки покоя от домашних дел.
О том, как появился на свет герой Сасрыква
Нарт Сасрыква был самым младшим сыном Сатаней-Гуаши. Он был сотым и самым любимым.
Вот как он родился.
Приближался заветный день, когда должен был появиться на свет Сасрыква, и Сатаней-Гуаша принялась ткать полотно из белоснежной шерстяной пряжи. Ткала она так усердно, что содрогался каменный нартский дом. Из полотна она сшила белоснежную черкеску для новорожденного. Да, для новорожденного! И недаром удивленно спрашивали друг друга люди, увидя черкеску, повешенную на солнце: "Что это значит?"
Она сшила и черкеску и башлык, сшила архалук из шелка, а затем начала кроить и шить рубашки из тонкой нежной ткани.
Она обшивала в течение одного дня девяносто девять своих сыновей. И, разумеется, ей не доставляло большого труда сшить одежду для одного младенца. И все-таки она выглядела усталой и грустной.
Да, она ждала ребенка, и сердце подсказывало ей, что будет он необыкновенным. Но каким именно?
Колыбель, в которой Сатаней-Гуаша поочередно баюкала девяносто девять своих сыновей, была в полной сохранности, но матери казалось, что новорожденный будет достоин иной, лучшей колыбели.
Вот почему Сатаней-Гуаша отправилась к Айнару-кузнецу и сказала ему:
- Случилось со мною, Айнар, нечто такое, что только ты один должен знать, и никто другой. Окажи мне помощь - я нуждаюсь в ней.
- Гуаша, золотоногая, можешь рассчитывать на Айнара: мой молот всегда готов к работе, и наковальня тоже, да и огонь горит в горне, подобно солнцу. В чем же ты нуждаешься, Сатаней-Гуаша?
- Мне нужна колыбель, - сказала мать девяноста девяти нартов, - но не простая. Мне нужна колыбель из железа, но шум ее, когда она будет качаться, не должен тревожить ребенка. Вот что мне нужно!
- Хорошо, - сказал Айнар-кузнец, - но дай мне срок. Надо расплавить железо не простым, а особым огнем, и нужно выковать колыбель не из простого, а из особого железа.
- Приступай же к делу, - сказала Сатаней-Гуаша. - Приступай, и я посмотрю, на что твои руки способны. - И еще добавила Сатаней-Гуаша: - Спасибо, просьбу мою уважил, но я опасаюсь...
Чего же ты опасаешься, золотоногая Сатаней-Гуаша?
- Я боюсь, что высота, ширина и длина колыбели будут обычными...
- Золотоногая Сатаней-Гуаша! - воскликнул Айнар-кузнец. - Брат нартов, которому суждено родиться, не будет похож на остальных нартов. Его рост не будет равен росту его братьев, а геройством он превзойдет всех. Вот почему его колыбель должна быть необычной. Но зачем же говорить о размерах колыбели до появления младенца? Узнают люди, и злые языки скажут: нарты собираются приручить жеребенка, который еще в утробе матери. Если доверяешь - предоставь это дело мне.
- Я верю в твои золотые руки, - сказала Сатаней-Гуаша. - Даже враги нартов признают твое искусное мастерство. Но я бы хотела сказать еще кое-что.
- Говори же, Сатаней-Гуаша. Когда это бывало, чтобы слова твои не доходили до ушей моих?
- Вот ты примешься за колыбель. Огонь в твоем горне будет гореть и днем и ночью, и молот твой будет греметь, как гром. Мои сыновья могут неожиданно появиться и спросить, чем ты занят. Что ответишь ты им? Неужели скажешь, что куешь колыбель для нарта, который должен появиться на свет. Тогда они спросят меня: "О мать, откуда это дитя?" Что отвечу я им? Пусть уж лучше узнают о нем, когда на свет появится, а потом думают что угодно!
- Не беспокойся, Сатаней-Гуаша, - сказал Айнар-кузнец, - я умею не только ковать, но и тайны хранить. Не будет никакого шума, ведь железо в моих руках - что воск.
Ночью дул сильный ветер. Громыхал гром. По кровлям бил град. Но люди спали спокойно. Спали все, кроме Сатаней-Гуаши и Айнара-кузнеца.
Мог ли уснуть Айнар, если всю ночь ковал железо?
Могла ли уснуть Сатаней-Гуаша, если всю ночь ждала ребенка?
Она родила девяносто девять нартов, но такой тяжелой ночи, как эта, у нее не было. Всех девяносто девять сыновей она воспитала, по обычаю, на стороне. Но этого, который должен был появиться на свет, она решила ни за что не отдавать на воспитание чужим.
Всю ночь ходила она взад и вперед: ей казалось, что непременно родится мальчик, и она придумывала имя для него. Наконец выбрала самое звонкое: Сасрыква!..
Начало светать. Прошло ненастье. Лучи солнца коснулись снежных вершин. И вот раздались возгласы женщин:
- Мальчик родился! Мальчик!
Верно, родился воистину необыкновенный мальчик. Огненно-красный, он пылал, точно огонь в очаге. Попробуй дотронься!
Одна из женщин поднесла ему грудь и тут же вскрикнула:
- Ой, обожглась!
То же случилось и со второй и с третьей. Нет, невозможно было притронуться к младенцу: не знали, как с ним и поступить! А ребенок, словно взрослый, смотрел вокруг ищущим взглядом, словно кого-то высматривал.
...Да, ребенок был горячий, как огонь. Поэтому немедля вызвали кузнеца Айнара. Тот не замедлил явиться - словно на крыльях прилетел.
Он долго разглядывал мальчика.
- Пусть разрастается, не кончаясь, род великих нартов! - произнес Айнар и своими огромными щипцами, которыми вытаскивал из горна раскаленное железо, приподнял мальчика за ногу и перенес в свою кузню.
А в кузне у него закипало расплавленное железо. В эту страшную солнцеподобную жидкость он и опустил мальчика.
Это случилось утром, а купался маленький нарт в расплавленном железе, словно в теплой воде, до полудня. И только в полдень Айнар-кузнец решил, что мальчик достаточно закалился в солнцеподобном железе, и вытащил его оттуда. Лишь правая нога ребенка, за которую ухватился Айнар-кузнец щипцами, навсегда осталась незакаленной.
Мальчик закричал:
- Я голоден, мама! Накорми меня!
И Айнар-кузнец напоил его солнцеподобным железом. А потом подал ребенку целую лопату солнцеподобных угольев. И ребенок съел их все до последнего.
- Хочу спать, мама, хочу спать! - закричал мальчик. Сатаней-Гуаша беспокойно ходила вокруг кузницы. Услыхав голос своего сына, заторопилась к нему и на руках понесла к себе. Несла и поражалась: совсем недавно он был горячее огня, а теперь стал теплым, как обыкновенный человек.
- Куда ты меня уложишь, мама? - вдруг спросил мальчик.
- Вот сейчас принесут твою колыбель, дитя мое, - сказала Сатаней-Гуаша и велела послать за колыбелью.
Но посланный вернулся ни с чем, едва переводя дух.
- О, золотоногая Сатаней-Гуаша! - воскликнул он. - Я не мог донести колыбель. Она слишком тяжела.
- Ах ты немощный! - сказала в гневе Сатаней-Гуаша. - Как ты смеешь меня обманывать! Неужели детская колыбель не под силу тебе?
И попросила сходить за колыбелью другого. Но и тот вернулся с пустыми руками.
- Неужели ты без костей, словно улитка? - поразилась Сатаней-Гуаша. - Неужели и ты детскую колыбель не смог донести?
- Оставь их, мама. Мне самому хочется поразмяться.
Это говорил маленький Сасрыква. Он был одет в черкеску, на ногах - шерстяные ноговицы, голова повязана башлыком.
- Как? Ты сам притащишь колыбель? - сказала в отчаянии Сатаней-Гуаша. - Что же скажут люди? Скажут они вот что: родился сын у нартов, а колыбели не оказалось для него. Твое ли дело таскать колыбель? Найдем человека для этого.
Однако Сасрыква был уже у ворот. Мать бросилась за ним.
Маленький - не выше травы - Сасрыква шел себе вперед. А мать, едва поспевая, бежала за ним.
Сасрыква нашел свою колыбель в кузне и вскарабкался на нее. Не успел он в ней растянуться, как колыбель сама стала качаться, усыпляя удивительного ребенка.
Так, рассказывают старики, родился нарт Сасрыква. О том, как он родился, сложили еще и песню.
Огнеподобный конь Бзоу
Только родился Сасрыква, как вернулись из похода его девяносто девять братьев. Они добывали славу и добыли ее. А по дороге домой убили много туров, серн и оленей.
Приближаясь к дому, братья затянули боевую походную песню, давая знать матери, что сыновья ее целы и невредимы.
- Какая радость! - воскликнула Сатаней-Гуаша. - Все целы, все здоровы! Пусть умру я за них!
И вот стала она у колыбели в раздумье: "Что скажут сыновья, когда увидят новорожденного? Что отвечу им, если спросят об отце ребенка? Но младенца невозможно скрыть! А раз так - пусть узнают о нем сегодня же".
И Сатаней-Гуаша вынесла колыбель и поставила ее в тени ветвистого ореха.
Въехали сыновья во двор, увидели свою мать, сверкающую без солнца и без луны.
Разом спешились нарты.
Разом ударили кнутами по земле. И удары эти отозвались громом в горах.
Нарты по старшинству вошли в дом. Расселись за столом по старшинству. Выпили за свою мать, превознося ее превыше гор. А тем временем им прислуживали младшие братья. Таков уж был застольный обычай у нартов. А разве иной у нас, у апсуа?
Вот трое молодых нартов вышли во двор. И что же они увидели? Под ореховым деревом, верхушка которого достигала неба, стояла диковинная колыбель; мало того, что была она выкована из железа, она к тому же сама качалась. В колыбели спал ребенок - богатырь с виду.
Один из нартов попробовал остановить колыбель, но отпрянул в сторону, точно его лягнул горячий жеребец. То же самое в точности повторилось и со вторым и с третьим нартом.
- Что же это такое?! - сказали молодые нарты. - Мы побеждали великанов, а тут не можем остановить качающуюся колыбель?
И втроем взялись за дело. Бились они, бились, но остановить колыбель так и не смогли. Утомленные, они тут же повалились от усталости.
А ребенок спал и рос. Он спал и рос. От него веяло богатырским здоровьем. Его ноги уже достигли края колыбели - и он проснулся. Потянулся, ухватился за перекладину колыбели и крикнул:
- Мама!
- Я здесь! - ответила Сатаней-Гуаша, не покидавшая стола, за которым пировали ее сыновья.
- Где мой конь, мама? Где мой конь? - кричал Сасрыква. Братья удивленно переглядывались. Наконец они поняли, в чем дело. Но никто не высказал ни единого слова вслух.
- В день твоего рождения появился на свет огнеподобный жеребенок - араш, - сказала Сатаней-Гуаша. - Сейчас ты увидишь его.
Она попросила тех, кто помогал ей по хозяйству, привести коня. Один из них побежал на задворки в конюшню и вскоре вернулся, держась за голову.
- Меня лягнул жеребенок, - простонал он.
- Ну и мужчина! - сказала Сатаней-Гуаша и попросила сбегать за конем другого.
Но и этого постигла неудача: его чуть не ошпарило паром, который шел из ноздрей жеребенка, словно дым из трубы.
- И ты не лучше твоего друга, - упрекнула его Сатаней-Гуаша. - Точно из воска!
Но тут вмешался Сасрыква, разгуливавший по двору. Он сказал так:
За что почитали нартов
Как появились у нартов песни и свирель
Гунда Прекрасная
У ста братьев нартов была одна-единственная сестра. Звали ее Гунда, а за красоту несравненную прозвали Прекрасной. Говорили, что она похожа на богиню. Во всяком случае, в крови Гунды, несомненно, таилась божественная сила.
Нарты горячо любили сестру свою, воспитывали с большим тщанием, берегли и холили. Жила она в хрустальной башне. Ноги ее никогда не касались земли. Все, что бы ни пожелала Гунда, подавалось ей прямо в руки - и без промедления.
Братья кормили сестру только костным мозгом дичи. Тело девушки было подобно свежему сыру - белым и нежным. Кожа отсвечивала, точно зеркало. Не может описать Гунду язык человеческий. Молодые люди севера и юга, прослышав о красоте сестры нартов, домогались руки Гунды, бились друг с другом и погибали.
- Излишняя красота очень вредна, - решила Гунда Прекрасная и перестала следить за собой, чтобы меньше отличаться от остальных женщин. Переоделась она в простое, залатанное платье, разлохматила свои золотые волосы.
- Что с тобою? - удивились братья. - Ты хочешь опозорить нас? Приведи же себя в порядок.
Гунда отвечала так:
- Пожалуй, лучше будет, если покажусь я людям неряхой. Боюсь, что красота моя доставит вам много неприятностей. Не хочу навлекать беду.
- Кто посмеет тронуть тебя? - вскричали братья и стали просить ее снова стать прежней, Прекрасной Гундой.
Братья отправились на охоту, а пока они охотились на туров и оленей, Гунда нарядилась в лучшие одежды, причесалась и умылась молоком. И встретила братьев сияющая.
- Я исполнила вашу просьбу, - сказала Гунда братьям, - но смотрите, как бы вам не пришлось пожалеть об этом.
Не обратили нарты внимания на эти слова. А Гунда намекала на невесток, ненавидевших ее за красоту и всеобщее почитание. И когда однажды братья уехали на охоту, жены их наготовили разных кушаний. Зажарили молоденьких курочек и индюшек, цесарок и уток, мясо серны и медвежье мясо, отварили телячьи лопатки, а из свежего сыра и муки сварили айладж - тягучую мамалыгу, неописуемо вкусную. И тогда средняя из жен поднялась в хрустальную башню и обратилась к Гунде с такими словами:
- Гунда Прекрасная, мы знаем - братья запрещают тебе ступать на землю. Но мы очень хотели бы пообедать с тобой. Если бы явилась ты к нам, то нам показалось бы, что мы владеем целым светом.
Гунда колебалась. Она боялась оставить хрустальную башню и тем самым нарушить запрет братьев. Но ей очень хотелось походить по земле. И она согласилась. Сошла Гунда с башни. Заняла место среди невесток.
Разбежались у Гунды глаза: что есть? С чего начинать? Она ведь ничего, кроме костного мозга дичи, не ела!
А самая старшая из невесток подносит Гунде кусочек айладжа и говорит медовым голоском:
- Золотая ты наша Гунда! Съешь этот кусочек из моих рук. Ну, доставь мне удовольствие и радость.
А сама подмигивает заговорщицам. И те подмигивают ей. И ждут, что будет, ибо в кусок айладжа старая ведьма положила свое кольцо.
Не подозревая худого, Гунда Прекрасная проглотила кусок айладжа, а вместе с ним и кольцо. И вдруг поперхнулась. Закашлялась. Посинела... Не успела даже крикнуть.
Бездыханную Гунду унесли невестки в лес и бросили в глубокую волчью яму. Казалось, погибла Гунда Прекрасная.
Но нет!
Скажите мне, остается ли в мире какое-либо преступление безнаказанным? Рано или поздно любая подлость раскрывается и правда торжествует. Так случилось и здесь.
Некий охотник по имени Алхуз бродил по лесу вместе со своими друзьями. Они-то и нашли Гунду и доставили в свое село.
Гунда не приходила в себя, и никакими стараниями Алхуз и его друзья не могли вернуть ей жизнь. Алхуз приподнял девушку за плечи и посмотрел в ее тусклые глаза. Он горестно вздохнул и уронил Гунду на подушки. И - о, чудо! - Гунда Прекрасная закашлялась, изо рта ее выпало золотое кольцо и покатилось по полу...
Что рассказывать дальше?
Гунда снова встретилась с братьями.
Ты спросишь, что сделали нарты со своими жестокими женами? Как ни пыталась Гунда скрыть от братьев происшедшее, они все-таки узнали всю правду.
Нельзя подымать на женщину руку, но выгнать негодную следует.
Так нарты и поступили.
А Гунда Прекрасная не пожелала больше оставаться в хрустальной башне, и от этого не стала она менее прекрасной.
Сасрыква сбивает звезду
Однажды девяносто девять братьев собрались в поход. Все было готово: оружие проверено, обувь цела, лепешки медовые - в переметных сумках. Коней своих нарты выкупали в Кубине, оседлали их. Братья попили, поели. И Сатаней-Гуаша сказала им:
- Счастливого пути, дети мои!
Разом поднялись братья со своих мест. Каждый из них держал в руке кнут. Садились на коней по старшинству.
Ударил кнутом нарт Сит, и показалось всем, будто гром ударил. Стрелою вылетел из ворот нарт Сит. А за ним понеслись его братья.
Опустел двор. Только нарт Сасрыква остался со своей матерью.
Он печален.
Легонько держит повод своего огнеподобного коня Бзоу. Печален нарт Сасрыква, ибо никто не пригласил его в поход.
Проснулись нарты поутру, шум, хохот во дворе.
Со всеми братьями и он проснулся на заре.
Коня почистил, оседлал, стоял, исполнен сил,
Но брата младшего к столу никто не пригласил.
Вот каждый в руки плеть берет, он тоже плеть берет -
Никто ему не предложил отправиться в поход.
Помчались нарты с удальством и песней боевой,
Для них Сасрыква, младший брат, - как будто не живой!
Как буря, братья понеслись - победа впереди,
А он как вкопанный стоит, и руки на груди.
Зачем оставили его? Чтоб он стерег телят?
Чтоб на дворе пугал ворон Сасрыква, младший брат?
Заплакал нарт Сасрыква. Поплелся к матери.
- О мать, - проговорил он.
- Здесь я, сын мой, что тебе?
- О мать, братья мои отправились в поход, и никто не пригласил меня. В чем причина?
- О свет моих очей! Разве старшие должны приглашать младшего? Следуй за ними.
Сасрыква не долго раздумывал - вскочил на верного Бзоу и в мгновение ока исчез за воротами.
Быстро нагнал он своих братьев и, не смея опережать старших, поехал сзади.
- Кто ты? Куда путь держишь? - спросили его.
- Как кто? Я брат ваш! - воскликнул Сасрыква.
- Не знали, - с усмешкой произнес Гутсакья.
- Ты не от нашего отца рожден, - сказал Сит.
- И еще лезешь к нам в братья? - сказал нарт Гутсакья. Что делать? Сасрыква вернулся домой точно побитый.
- Что случилось? - с тревогой обратилась к нему Сатаней-Гуаша.
- Ничего, - ответил Сасрыква, - я позабыл лепешки. Накорми-ка меня. И если это возможно - приготовь мой любимый айладж.
Сатаней-Гуаша живо просеяла муку, взяла свежего сыру и приготовила айладж. Она подала сыну кушанье, исходившее паром.
- Садись и поешь вместе со мной, - попросил Сасрыква. Сатаней-Гуаша положила перед собой горячий айладж. Она коснулась горячего айладжа пальцем. Но тут Сасрыква схватил ее руку и воткнул палец глубоко в горячий-прегорячий айладж. Мать вскрикнула.
- Пока ты не объяснишь, кто я, - сказал Сасрыква, - не выпущу твоей руки.
- Ты - мой сын, - сказала Сатаней-Гуаша, с трудом преодолевая боль. - И ты лучше всех.
- Я не спрашиваю, лучше я или хуже, - сказал пылающий гневом Сасрыква. - Кто мой отец? И почему братья мои смеются надо мной?
Сатаней-Гуаша не растерялась. Она сказала твердым голосом:
- Пусть твои братья, которые пренебрегают тобой, вечно нуждаются в твоей помощи... А ты, мой сын, - часть скалы. В тебе чудодейственная сила. Пусть лучше расскажет об этом кузнец Айнар.
Сасрыква выбежал во двор, сел на коня и помчался вслед за своими братьями.
Сатаней-Гуаша подняла к небу глаза и молитвенно проговорила:
- Пусть вас, братья Сасрыквы, обидевшие сына моего, настигнет невиданный дождь - страшнее любого града, и ветер пусть дует в глаза - страшнее любого ветра, и пусть жизнь ваша зависит от сына моего Сасрыквы.
Между тем огнеподобный Бзоу летит вперед, и все ему нипочем - ни дождь, ни град, ни ветер, ни встречные реки. Он несется по долинам и горам, точно быстроногая серна.
Двое суток ехал Сасрыква, ехал в горы, все в горы. И вот усилился дождь. И повалил снег. И ветер подул, да такой, что казалось, горы обратятся в прах. А когда прояснилось - Сасрыква увидел своих братьев. Они жались друг к другу так тесно, что можно было набросить на них одну шапку. Бороды их обросли сосульками, и сосульки касались земли. Они погибали от холода.
- Что с вами? - спросил Сасрыква братьев.
Они очнулись словно ото сна и заговорили все разом:
- Сасрыква, брат наш! Мы умираем! Мы замерзаем! Спаси нас!
- Я с вами! - сказал Сасрыква. - Не бойтесь: я здесь!
И подумал: "Что же делать? Где раздобыть огонь на этой голой земле?"
Над ним раскинулось широкое небо, и было оно усыпано звездами. Они горели так ярко! "Их спасет только звезда!" - сказал про себя Сасрыква. Он натянул тетиву лука, прицелился в самую яркую из звезд и выпустил стрелу. И сбил Сасрыква яркую, самую яркую звезду! Она упала на землю, излучая тепло и свет. Насквозь промерзшие нарты собрались в кружок и стали греться. Но как ни была ярка и тепла эта звезда, согреть нартов она не могла. Их мог обогреть только земной огонь!
Сасрыква сел на коня и въехал на гребень горы. Видит - вьется дым. И он поехал на этот дым, решив, что там, где есть дым, есть и огонь. Но не так-то просто оказалось до огня добраться. Пришлось Сасрыкве переплывать бурные реки и проходить глубокие овраги, прежде чем ощутил он тепло огромного костра, в котором сгорали даже камни.
Однако путь к костру преграждал великан, свернувшийся так, что колени его касались подбородка. Великан спал, и Сасрыква не смог разбудить его.
Тогда обратился нарт к своему коню с такими словами:
- Будь шустрым, как белка, а я стану легким, как пух!
И нарт разогнал коня своего Бзоу и влетел в правое ухо великана, а через левое вылетел. Набрал Сасрыква угольев и уже хотел было прежним путем возвратиться назад.
Но, по несчастью, обронил пылающий уголек, и лохматое великанье ухо загорелось. Чудовище проснулось, и Сасрыква вместе со своим конем очутился у него на ладони.
- Эй, ничтожный апсуа! - вскричал великан. - Как попал ты ко мне? И как тебя звать?
Сасрыква ответил:
- Я всего-навсего слуга нарта Сасрыквы.
- Ах, вот оно что! Скажи, ничтожный апсуа, а правда ли, что живет на свете Сасрыква, совершающий удивительные подвиги?
- Да, живет, - ответил Сасрыква, а сам с беспокойством думал о своих братьях. "Как бы отделаться от этого великана?" - размышлял он.
- Расскажи-ка мне о его подвигах, - сказал великан, тараща огромные глаза на нарта.
- Долго рассказывать, - сказал Сасрыква.
- Ничего, что долго, рассказывай...
- Ну что ж, - начал Сасрыква, - расскажу, только не вздумай следовать его примеру.
- Это почему же?
- Потому что не всякий это сможет... Вот, скажем, поднял однажды Сасрыква валун величиной с дом, поставил его на скалу, а сам стал под скалой. Он приказал мне сдвинуть с места валун, который едва держался на самом краю утеса. И что бы ты думал? Валун разбился о голову Сасрыквы! Только не вздумай повторить его подвиг!
Однако великан только рукой махнул и через мгновение уже тащил на гору преогромный валун. Рядом с валуном поставил ничтожного апсуа - слугу Сасрыквы и попросил помочь совершить подвиг. Сасрыква столкнул валун, и полетел валун с превеликим грохотом. Ударился о голову великана и тут же рассыпался, точно был слеплен из сухого песка.
Огорчился Сасрыква, но что поделаешь - силен великан!
- На что же еще способен твой Сасрыква? - взревел великан.
Нарт сказал:
- Этот Сасрыква собрал однажды куски железа, сварил их в котле и выпил, точно молоко. Ему понравилось расплавленное железо.
Великан приступил к делу: живо расплавил в котле куски железа и выпил.
- Да, - проговорил он, - знает твой Сасрыква толк в еде - очень приятно пить железо.
Огорчился Сасрыква, но что делать - силен великан!
- Ну, расскажи еще что-нибудь о Сасрыкве, - просит великан.
- Сасрыква, - говорит нарт, - очень любит в морозный день окунуться в реку и стоять в ней неделю, а порой и больше. Войдет в воду и ждет, пока она не замерзнет, а потом ломает лед и выходит на берег цел-невредим.
- Так вот оно что! - говорит великан. - Сумел Сасрыква - сумею и я!
В это самое время Сатаней-Буаша чудом узнает о тяжелом положении, в которое попал ее любимый сын. И произносит такое заклинание:
- Ударьте, морозы, посильнее, чтобы накрепко замерз великан в воде!
И в самом деле ударили морозы. Замерзли горные реки. Вот тут и пришлось великану испытать свою силу.
Залез он в воду, и она замерзла вокруг него. Но великан легко изломал лед. Тогда Сасрыква раздобыл стог сена, разбросал сено по льду, и сделался лед во много раз прочнее.
Стоит великан во льду - одна голова торчит над гладкой ледяной поверхностью. А когда захотел он выбраться, то уже не смог. Пытался было изломать лед, но все напрасно. Пытался было уговорить Сасрыкву, чтобы тот помог ему, но все напрасно. Видит великан - грозит ему погибель.
- Эх, проклятый, - говорит великан нарту, - наверное, ты и есть Сасрыква, ибо обхитрил меня, вокруг пальца обвел.
- Ты угадал, - ответил Сасрыква и обнажил шашку, чтобы отрубить голову ловко пойманному чудовищу.
- Эй, Сасрыква! - кричит великан. - Нет, ты не сумеешь отрубить мне голову. Но раз ты такой молодец, одарю я тебя перед смертью. Слушай меня: шашка твоя погнется, точно соломинка. Возьми лучше мою, если только сумеешь вытащить ее из ножен. Вытащи ее и толкни по гладкой поверхности льда так, чтобы она ударилась о мою шею и перерезала толстую жилу. Жила эта чудодейственная. Сделай из нее пояс для прекраснейшей и умнейшей из женщин - Сатаней-Буаши и для себя - непревзойденного героя. И вы станете бессмертными.
Что долго раздумывать! "Попытка не пытка", - сказал себе Сасрыква и послушался великана. В самом деле, отрубив голову, нарт обнаружил на шее толстую жилу. Вырезал он эту жилу. Но не был бы Сасрыква нартом, если бы полностью доверился чудовищу.
Сасрыква набросил жилу на высокую липу, стоявшую неподалеку, и она свалилась, точно подрубленная. Коварный замысел великана раскрылся!
Расправившись с великаном, нарт поднял горящую головешку и на верном коне Бзоу прискакал к братьям.
Звезда, согревавшая нартов, понемногу гасла, теряла свое тепло.
- Не падайте духом, братья мои! - крикнул Сасрыква. - Вот я привез вам огонь земной взамен огня небесного.
- Огонь-то есть, - уныло сказали братья, - а где же хворосту взять, вокруг все голо.
Сасрыква сказал:
- Выньте газыри свои, расщепите их - и разгорится костер! Братья послушались Сасрыкву. И запылал костер, а вскоре в котлах уже варилось мясо серны и оленей, убитых Сасрыквой.
Напились нарты мясного отвара и досыта наелись мяса. Ну можно ли было после всего этого не уважать Сасрыкву, если даже у него и другой отец?
Несравненная невестка нартов
Неприступна была вершина, на которой жили братья из племени аиргь. Еще неприступней был их дворец, воздвигнутый из птичьих костей на этой вершине.
Один лишь ветер долетал до стен дворца, ветер да солнечные лучи и тучи небесные. В ненастные дни дворец казался серой тучей среди серых туч. А в безоблачный день он голубел на голубом небе, и трудно было глазу различить его голубизну.
В этом-то дворце и жила красавица, сестра семи братьев аиргь. Невозможно описать лицо ее, сверкавшее, точно месяц, ее походку, напоминавшую бег лани, и стан ее - стан молодой серны. Первородная красота ее казалась вечной.
Добрая слава о сестре братьев аиргь разнеслась во все стороны света. И не удивительно, что в один прекрасный день, оседлав своих коней, направились ко дворцу братьев аиргь нарт Сасрыква и герой Нарджхоу.
Ехали витязи разными путями. Но мысли их были сходными. И не мудрено, что сошлись их дороги.
Разве надо было объяснять им, куда и зачем едет каждый из них? Куда же могут стремиться молодые и сильные, как не к сестре братьев аиргь?
Встретившись, они обнажили шашки. Они обнажили их ради предосторожности. Узнав друг друга, они протянули руки в знак дружбы и отправились дальше, к цели своего путешествия.
Доподлинно неизвестно, сколько дней и ночей ехали витязи. Известно одно: прибыли они к подножию высокой и желтой скалы. Отсюда приметили они яркий луч на вершине горы, которая высилась совсем рядом. И они догадались, что находятся неподалеку от дворца семи братьев аиргь и что это она, сестра их, излучает свет своего мизинца, приветствуя братьев, возвращающихся с добычей, приветствуя их и освещая им путь.
В то время как витязи стояли у подножия скалы и любовались ярким лучом, исходящим из дворца, братья аиргь въезжали во двор с победной песней и богатой добычей.
- Прекрасное время! - воскликнул нарт Сасрыква. - Братья дома, и мы можем потолковать с ними.
- Что верно, то верно, - согласился Нарджхоу, - однако добраться до них не так просто...
Оба витязя разглядывали следы копыт на желтой скале. Все следы вели вверх, и ни один из них не показывал дорогу вниз. Стало быть, никто из тех, кто поднимался на скалу, никогда не возвращался обратно. У иных душа могла бы уйти в пятки от черных мыслей, но не у героя Нарджхоу и не у нарта Сасрыквы!
- Поднимайся первым ты, - сказал Сасрыква, - ты старше меня.
- Прошу тебя, - сказал учтивый Нарджхоу, - ведь ты - герой, слава о котором идет по всей земле.
Сасрыква сказал:
- Ты больше совершил славных дел, чем я. Тебе и подниматься первому.
Не говоря более ни слова, Нарджхоу огрел плетью коня и взмыл вверх по скале. Из-под огнеподобного коня вылетали желтые камни, и поднимались они до самых небес и со свистом, подобно ярким звездам, падали на землю.
Вот достиг Нарджхоу выступа скалы, а впереди еще полдороги. И вдруг оступился огнеподобный конь! Вот он пятится задом...
- Погиб, Нарджхоу, погиб! - восклицает Сасрыква, и сердце его тревожно сжимается.
Но не таков был Нарджхоу, чтобы погибнуть! Он сумел удержать коня и повести его вперед. И вот вцепился конь копытами, словно орел когтями, в желтую скалу, пошли в ход даже зубы. И вот кажется, что недалеко уже до вершины. Но нет! Снова срывается конь...
Еще одна попытка не удалась. И Нарджхоу повернул назад.
- Что ж, Сасрыква, - сказал он, - как видно, не суждено мне взобраться на скалу, и не суждено мне жениться на сестре братьев аиргь. Желаю тебе счастья!
Сасрыква подоткнул полы своей черкески, чтобы не развева-
лись и не мешали быстрому взлету, повязал за спиной концы башлыка и взбодрил зычным криком своего чудесного Бзоу...
Вот уже искры сыплются со скалы, подобно звездопаду. Словно куница в ствол дерева, впивается несравненный Бзоу в желтую скалу. И, словно куница - быстро-быстро, - возносится на вершину смелый Бзоу. И зубы идут в ход: он хватает ими малейший выступ скалы. Даже хвост приходит ему на помощь: он рассекает воздух, помогая взбираться.
И вот на вершине скалы нарт Сасрыква!
Здесь ровная, зеленая полянка. На ней растут горные цветы - яркие и пахучие. Но костей человечьих больше, чем цветов! Откуда они?
И вдруг к усталому нарту подходит незнакомый старик.
- Привет тебе, бесстрашный нарт! - говорит старик. - Я знаю, по какому важному делу ты приехал. Не падай духом, глядя на эти кости. Это останки неудачливых молодцов. Но выслушай меня, и будет тебе благо.
Сасрыква поблагодарил старика за добрые слова и выслушал его внимательно. И вот что сказал старик:
- У девушки, к которой ты стремишься, семеро братьев, и все они злые и могучие. Они берегут ее пуще глаз своих. Погляди, сколько отважных пало в поединках! Здесь слабым спуску не дают! Но ведь и сильный, одержавший верх над братьями, не может сказать, что завладел девушкой. Ибо и сильный должен ей понравиться. Вот почему мой сын, прошедший через все испытания, сидит во дворце уже много лет, ибо не понравился он ей. А он, мой сын, поклялся своими глазами увидеть жениха, полюбившегося сестре братьев аиргь. Сидит мой сын, и играет он песни на апхярце. Если играет он грустные песни, - стало быть, она спит. Вот тогда-то и надо идти к ней в комнату и пальцем тронуть ее косу. Она проснется и скажет: "Почему ты разбудил меня? Я только что видела во сне того, кто нравится мне!" Если скажет она именно так, то ты, наверное, догадаешься, что ответить. И она будет твоей, и ты увезешь ее отсюда, а сын мой вернется ко мне, и я буду счастлив. Но имей в виду: если погонится мой сын за тобой - не убивай его. А убей коня его. Запомни это - и будет тебе благо.
Сасрыква поклонился старику, сказал ему: "Большое спасибо", - и поехал ко дворцу.
Главные ворота были открыты настежь. Во дворе - ни души. Привязал Сасрыква коня к коновязи и поднялся по ступенькам на седьмой ярус дома.
На костяном балконе седьмого яруса сидел юноша и играл на апхярце. Он едва касался струн своим смычком и тихо напевал печальную песню:
Послушал Сасрыква песню и пошел дальше. Отворил дверь в спальню - и застыл, ослепленный красотою спящей девушки. Девушка излучала чудесный свет - свет красоты несравненной, его излучали белая кожа и черные волосы ее.
Нарт осторожно, очень осторожно подошел к спящей и тронул ее за длинную косу.
Девушка проснулась.
- Зачем помешал ты мне! - сказала она с укором. - Я только что видела во сне героя Сасрыкву.
Нарт ответил:
- А теперь он здесь, перед тобой. И все это наяву! Девушка не смутилась.
- Ну что ж, - сказала она, - я - твоя. Однако сын старика, играющий на апхярце, скорее умрет, нежели выпустит меня отсюда.
- Это уж моя забота, - сказал нарт.
- Если мы и вырвемся из его плена, нас где-нибудь подстерегут мои братья.
- И тогда найдется выход!
- Если ты решил, - сказала красавица, - садись на своего коня, подскочи к окну моему и - забирай меня!
Сасрыква послушался ее. А сын старика все сидел и все напевал свое:
Эти колкие слова были нестерпимы для нарта, но взял он себя в руки и незаметно прошел мимо поющего.
Нарт спустился во двор, сел на коня своего Бзоу, пришпорил его и в мгновение ока подскочил кверху, к самому окну, у которого ждала его красавица.
Девушка вылетела, словно птица, на лету подхватил ее лихой нарт - и был таков!
Сын старика отбросил в сторону смычок и апхярцу и завопил не своим голосом:
- Сестру похитили вашу, братья аиргь! Сестру похитили! Слышите ли вы?
Как из-под земли выросли двое юношей на конях. Под одним - гнедой конь, а под другим - вороной. И сломя голову бросились догонять нарта-похитителя.
Как только огнеподобный Бзоу вырвался на простор, несравненная сестра братьев аиргь посоветовала нарту, чтобы он возвращался назад не той дорогой, по которой приехал во дворец.
- По другой? - удивился нарт. - Я появился здесь не как вор и удалюсь отсюда на виду у всех! Земля широка, и для настоящего мужчины везде отыщется дорога.
Бзоу не скачет, а почти летит над землей, летит по равнине, простирающейся за дворцом. А два молодца пуще ветра гонятся за ним.
Сасрыква торопит своего Бзоу, но как ни торопит, а проскочить через равнину не может. Не так уж велика, казалось бы, равнина, однако не кончается, словно без конца она, без края. Вдруг Сасрыква замечает, что скачет конь его мимо знакомых мест. Что за чудо! Хочется задержаться немного, обдумать положение, все взвесить. Но куда там! За ним, наступая на задние копыта Бзоу, мчатся с шашками наголо два брата аиргь. И нарт погоняет коня своего...
Братья заметно отстают, а вскоре от неимоверной усталости издыхают их кони...
Все это видел с высоты дворцового балкона сын старика, безнадежно влюбленный в сестру братьев аиргь. Не мешкая, оседлал он коня своего из породы нартских коней и помчался вослед нар-ту-похитителю. Сасрыква уже знал, кто за ним гонится и какой под ним конь.
- Мой верный Бзоу! - воскликнул он. - Опасность близка!
И только сейчас, только сейчас понял великий нарт, что мчится Бзоу не по прямой, а по кругу, на равнине. Поэтому-то нет конца-края этой равнине!
"Не к добру это", - подумал нарт.
Вот уже начал уставать огнеподобный Бзоу. Не так уж низко стелется он над землей. Вот нагоняет нарта беспощадный влюбленный!
И тут Сасрыква поступил так, как советовал ему старик: пустил стрелу в самое сердце коня, настигавшего их. Дрогнул конь, вздыбился и грохнулся наземь, подминая седока.
- Теперь ты можешь ехать по любой дороге, - сказала сестра братьев аиргь, облегченно вздыхая.
Сасрыква без особого труда отыскал следы копыт своего Бзоу и по желтой скале спустился вниз, где ждал его герой Нарджхоу. Он встретил нарта и его невесту с большим радушием, накормил их и напоил ключевой водой.
И отправились они втроем в обратный путь. Доехали до перекрестка, где герои повстречались впервые, и нарт Сасрыква сказал:
- Герой из героев Нарджхоу! Я знаю, как жаждал ты видеть хозяйкой своего дома эту красавицу. Верно, добыл ее я, по никто об этом не узнает. Бери ее!
На что только способны высокая честь и уважение к другу! А иначе разве мог бы высказать такие слова великий нарт?! Возможно ли отдать другому чудо-красавицу, добытую с таким трудом?!
Нет, - возразил герой Нарджхоу, - не смог я преодолеть желтую скалу. Девушка по праву и по справедливости твоя. Настоящий мужчина должен радоваться вашему счастью!
На что только способна высокая честь и уважение мужчины к мужчине! А иначе разве мог бы высказать такие слова герой Нарджхоу? А иначе мог бы отказаться он от такой красавицы?
Сестра братьев аиргь - несравненная красавица - могла по достоинству оценить благородство одного и другого.
Сасрыква упросил своего друга Нарджхоу сопроводить их до нартского села и погулять на свадьбе. С удовольствием принял это приглашение герой Нарджхоу.
Ехали все трое, встречные узнавали Сасрыкву и приветствовали его и невесту.
Вперед, к нартам, был послан гонец, и нарты ждали своего брата с невестой. Они держали совет, как быть, ибо не положено справлять свадьбу незаконнорожденному брату. После долгих споров, ссылаясь на то, что неудобно, дескать, перед людьми, решили нарты встретить брата с почетом и сыграть свадьбу.
Семь дней и семь ночей продолжался пир. Семь дней и семь ночей пелись песни и танцевались танцы. На самом почетном месте восседал герой Нарджхоу.
Вместе с другими прислуживала за столом красавица Гунда, сестра нартов. Она то появлялась среди гостей, то уходила к кипящим в стороне котлам. Нарджхоу приметил ее, а приметив, влюбился, да еще как - без памяти.
Именно здесь, на пиру, увидел впервые красавицу Гунду герой из героев Нарджхоу.
Джангар
Калмыцкий народный эпос
Песнь одиннадцатая
О поражении свирепого хана шулмусов Шара Гюрго
Карельские руны
Состязание в песнопении
Мудрый, старый Вяйнямёйнен
жил да поживал тихонько
на полянах Калевалы,
в вяйнёльских борах песчаных.
Песни пел он на полянах,
заклинания слагал он.
Пел он песни дни за днями,
ночь за ночью вел рассказы,
древнее припоминая,
первородные начала,
неизвестные ни детям
и не всем героям даже
в этом возрасте преклонном,
в уходящие годины.
Далеко молва катилась,
разнеслись повсюду вести
об искусном песнопенье
Вяйнямёйнена седого.
Долетела весть до юга
и до Похьолы холодной.
Жил-был молодой лапландец,
тощий парень Ёукахайнен.
Он сидел в гостях однажды,
странные слова услышал,
будто в Вяйнёле песчаной,
на полянах Калевалы
кто-то песни распевает
и слова слагает лучше,
чем умеет Ёукахайнен
петь отцовские напевы.
Сильно рассердился парень,
затаил он в сердце зависть
к Вяйнямёйнену седому,
лучшему из песнопевцев.
Вот он к матери приходит,
К старой матушке родимой,
говорит, что хочет ехать,
в путь отправиться желает
в земли Вяйнёлы далекой
перепеть седого Вяйнё.
Но отец не отпускает,
мать не позволяет ехать
в земли Вяйнёлы далекой
перепеть седого Вяйнё.
Говорит им Ёукахайнен:
"Хороши отца познанья,
знает мать намного больше,
я ж умнее вас обоих".
Не послушался, поехал.
Впряг он в сани золотые
жеребца кровей горячих
и, усевшись на сиденье,
примостившись поудобней,
резвого ударил плетью,
вытянул кнутом жемчужным.
Едет не спеша, не гонит.
Едет он два дня, две ночи,
третий день в пути проводит
и на третий день подъехал
близко к землям Калевалы,
к вяйнёльским борам песчаным.
Мудрый, старый Вяйнямёйнен,
вековечный прорицатель,
едет, знай себе, рысцою
по отмеренной дорожке
на полянах Калевалы,
в вяйнёльских борах песчаных.
Вяйнямёйнену навстречу
едет юный Ёукахайнен, -
тут оглобли зацепились,
все гужи перемешались,
хомуты сплелись друг с другом
и дуга в дугу уткнулась.
Спрашивает Вяйнямёйнен:
"Ты какого будешь рода,
вставший на моей дороге,
глупо ехавший навстречу?
Ты разбил хомут мой новый
и дугу березовую".
Отвечает Ёукахайнен,
говорит слова такие:
Я - лапландец Ёукахайнен.
А вот ты откуда взялся,
роду-племени какого,
из каких людей, несчастный?"
Мудрый, старый Вяйнямёйнен
именем своим назвался
и затем ему ответил:
"Коль ты - юный Ёукахайнен,
то посторонись немного!
Ты из нас двоих моложе".
Снова юный Ёукахайнен
говорит слова такие:
"Что за важность, кто моложе,
кто моложе и кто старше!
У кого побольше знаний,
память у кого покрепче,
тот проедет по дороге,
а другой посторонится.
Коль ты - старый Вяйнямёйнен,
вековечный песнопевец,
то давай споем друг другу,
заклинания расскажем,
пусть один другого учит,
победит один другого!"
Мудрый, старый Вяйнямёйнен
говорит слова такие:
"Не такой уж я известный
и мудрец и песнопевец!
Прожил жизнь свою я тихо
на полянах этих самых,
на меже родного поля
мне моя кукушка пела.
Все-таки начнем, пожалуй,
Расскажи-ка мне погромче,
что всего ты лучше знаешь,
в чем ты всех других умнее?"
Начал юный Ёукахайнен:
"Я не так уж мало знаю!
Вот я в чем не сомневаюсь:
дымник сделан близко к крыше,
пламя бьется в устье печки.
Щука со слюнявой пастью
нерестится на морозе,
а горбатый робкий окунь
осень в омуте проводит,
летом в заводь заплывает
и икру на отмель мечет.
Если мало этих знаний,
есть в запасе и другие.
Знаю лес вершины Пиза,
знаю сосны в скалах Хорны:
высоки деревья Пизы,
сосны на утесах Хорны.
Три больших порога знаю,
три есть озера красивых,
три высокие вершины
под небесной этой крышей:
в Хяме это Хялляпюеря,
у карел есть Каатракоски,
никому не сладить с Вуоксой,
Иматры - не переехать".
Вставил слово Вяйнямёйнен:
"Детские все это сказки,
женского ума приметы!
Ты открой вещей причину,
первородные начала!"
И на это Ёукахайнен
говорит слова такие:
"Все я знаю о синице,
знаю, что синица - птица,
что гадюки - это змеи,
ну а ерш, конечно, рыба.
Первым снадобьем болящим
пена водопадов стала,
бог - наш первый заклинатель,
первый лекарь - сам создатель.
С гор вода взяла начало,
на небе огонь родился,
ржа железо породила,
медь из гор на свет явилась.
Старше всех земель - болота,
из деревьев - ива старше,
из жилищ - шалаш сосновый,
камни всех котлов древнее".
Мудрый, старый Вяйнямёйнен
говорит слова такие:
"Что-нибудь еще ты помнишь
или кончил пустословье?"
Ёукахайнен отвечает:
"Кое-что еще я знаю!
Помню я такое время:
был я пахарем на море,
рыл тогда я рыбам ямы,
поднимал на суше горы,
из камней я делал скалы.
Был шестым я человеком,
был седьмым среди героев
в пору сотворенья мира,
поднимал я небо кверху,
ставил я ему подпоры,
звезды рассыпал по небу".
Говорит тут Вяйнямёйнен:
"Ты уже заврался, парень!
Не видать тебя там было,
где мы вспахивали море,
ямы рыбам вырывали.
И тогда ты не был в деле,
в пору сотворенья мира,
где подпоры поднимали,
рассыпали в небе звезды".
И тогда-то Ёукахайнен
высказал слова такие:
"Если мой не блещет разум -
у меча ума займу я.
Ой ты, старый Вяйнямёйнен,
большеротый песнопевец!
Мы померимся мечами,
полюбуемся на копья!"
Вяйнямёйнен отвечает:
Ты меня не испугаешь
ни мечом, ни разуменьем,
ни копьем и ни коварством.
И, однако, все же, парень,
мериться мечом не стану
никогда с тобой, коварный,
ни за что, трусишка жалкий!"
Ёукахайнен, слыша это,
закусил губу упрямо,
голову нагнул сердито
и сказал слова такие:
"Кто мечи не станет мерить,
остроты их побоится,
тех я несенною силой
превращу в свиные рыла.
Тех героев разбросаю,
в разные места упрячу,
утоплю в навозной куче,
в угол хлева затолкаю".
Вяйнямёйнен рассердился,
рассердившись, устыдился.
Начал песню петь он гневно,
древние повел сказанья.
Пел не детские он песни
и не женские посмешки -
пел напевы он мужские.
Только начал Вяйнямёйнен -
вспенилась вода в озерах,
затряслась земля повсюду,
горы медные качнулись,
скалы надвое распались,
порастрескались утесы.
Песней мудрый Вяйнямёйнен
разветвил дугу лапландца,
на хомут наплел куст ивы,
вербу на гужи поставил.
Сани с золотым сиденьем
стали топляком озерным,
кнут с жемчужной рукояткой
стал прибрежного тростинкой,
а жеребчик белолобый -
валуном у водопада.
Шапка с головы лапландца
стала тучей остроносой,
стали рукавицы парня
лилиями водяными,
а кафтан его суконный
в небо облаком поднялся.
Вяйнё пел - и Ёукахайнен
погружался постепенно
до бедра, затем по пояс
и до самых плеч в болото.
Тут уж Ёукахайнен понял:
зря загородил дорогу,
состязался в песнопенье
с Вяйнямёйненом напрасно.
Хочет шевельнуть ногою -
и не может ею двинуть,
хочет он поднять другую -
а на ней башмак из камня.
Ёукахайнен испугался,
боль почувствовал всем телом,
муку ощутил и ужас.
Говорит слова такие:
"Ой ты, мудрый Вяйнямёйнен,
вековечный прорицатель!
Вороти слова святые
и сними свои заклятья!
Шапку золота получишь,
меру серебра, не меньше".
Вяйнямёйнен отвечает:
"Серебром не соблазнишь ты,
золотом, несчастный, тоже!"
Вновь запел он, погружая
Ёукахайнена все глубже.
Снова молвит Ёукахайнен:
"Ой ты, старый Вяйнямёйнен!
Высвободи от заклятий,
от беды избавь грозящей!
Скирды все мои получишь,
все поля твоими станут,
только жизнь мою спаси ты
от погибели проклятой".
Вяйнямёйнен отвечает:
"Не давай мне скирд, негодный,
не сули полей, поганый!
У меня поля просторней,
скирды мне свои дороже".
И поет он, погружая
Ёукахайнена все глубже.
Тощий парень Ёукахайнен
сам не свой уже от страха.
Он в грязи до подбородка
и до бороды в болоте,
мох в открытый рот набился,
на зубах труха навязла.
Снова стонет Ёукахайнен:
"Ой ты, мудрый Вяйнямёйнен,
вековечный прорицатель!
Поверни свои заклятья,
выбился совсем из сил я,
вытащи из вязкой грязи!
Топь затягивает ноги,
режут мне глаза песчинки.
Если снимешь ты заклятья,
повернешь слова святые,
то свою сестрицу Айно
я отдам тебе навечно,
чтоб мела она и мыла
половицы в доме мужа,
ткала б золотом одежды,
сладкие пекла бы хлебы".
Как услышал Вяйнямёйнен,
опустился он на камень,
песни петь с конца он начал:
спел одну, другую, третью -
повернул слова святые,
снял последние заклятья.
Ёукахайнен шевельнулся,
высвободил подбородок
и бородку из болота.
Камень стал конем лапландца,
мокрое бревно - санями,
а тростник прибрежный - плетью.
Чуть поправил парень сани,
сел опять он на сиденье
и отправился, понурый,
с темной тяжестью на сердце,
к матери своей родимой
к старой матушке любимой.
Лоухи охотится за Сампо
Мрачной Похьолы служанка,
белокурая малютка
с солнышком уговорилась
просыпаться утром вместе,
а сама вставала раньше,
просыпалась до рассвета,
поднималась до восхода.
Убрала столы сначала,
подмела полы большие
веником из голых плетьев,
густолиственной метлою.
Собрала весь мусор с пола,
в ступу медную сложила,
вынесла во двор из дома,
со двора уносит в поле.
Встав на мусорную кучу,
вдруг прислушалась, притихнув,
слышит плач, летящий с моря,
из-за речки стон донесся.
Вот она спешит обратно,
в дом, не мешкая, вбегает,
дверь открыла и с порога
обращается к хозяйке:
"Чей-то плач донесся с моря,
стон послышался за речкой".
Лоухи, Похьолы хозяйка,
редкозубая старуха,
тотчас выскочив из дома,
очутилась у калитки.
Напрягает слух колдунья
и слова такие молвит:
"Слышу я не плач ребенка
и не женское стенанье,
этот голос - голос мужа,
бородатого пришельца".
Лодку сталкивает в воду,
ставит, легкую, на волны,
направляет прямо к Вяйнё,
к мужу, плачущему горько.
Мрачной Похьолы хозяйка
тут над ним запричитала:
"Ой ты, старец злополучный!
Угодил ты на чужбину?"
Мудрый, старый Вяйнямёйнен
голову слегка приподнял
и сказал слова такие:
"Я и сам про это знаю -
угодил я на чужбину,
в незнакомую сторонку:
я на родине был знатен,
у себя я был известен".
Лоухи, Похьолы хозяйка,
снова с ним заговорила:
"Ты дозволь мне слово молвить,
дай мне выведать, пришелец,
из какого края будешь,
рода, звания какого?"
Мудрый, старый Вяйнямёйнен
говорит слова такие:
"Обо мне молва ходила,
был по общему согласью
я душой вечерних игрищ
и певцом любого дола
на моей родной сторонке,
в милом крае Калевалы.
А теперь я, горемыка,
сам себя узнать не мог бы".
Лоухи, Похьолы хозяйка,
подняла его, страдальца,
и до лодки проводила,
на корме его устроив,
а сама взялась за весла,
на скамью гребца уселась.
К мрачной Похьоле причалив,
проводила в избу гостя.
Накормила до отвала
и одежду просушила:
Растирала его долго,
как умела, ублажала.
Вскоре выходила старца,
силы хворому вернула
и вступила с ним в беседу:
"Что ты плакал, Вяйнямёйнен,
там, на берегу угрюмом,
возле пасмурного моря?"
Мудрый, старый Вяйнямёйнен
так старухе отвечает:
"Оттого всю жизнь до смерти
мне печалиться и плакать,
что я бросил край родимый
и пошел в другие земли,
к воротам чужого дома,
к незнакомому порогу.
Здесь деревья больно жалят,
колются все иглы хвои,
все березы отгоняют,
ольхи здесь наотмашь хлещут.
Лишь одна отрада - ветер
да знакомое светило,
здесь, среди немилых пашен,
у дверей чужого дома".
Лоухи, Похьолы хозяйка,
говорит слова такие:
"Не горюй ты, Вяйнямёйнен,
не тоскуй, Увантолайнен!
Заживешь ты здесь на славу
и в довольстве и в веселье:
хочешь - лосося отведай,
хочешь - лакомься свининой".
Но на это Вяйнямёйнен
отвечает так старухе:
"Дома выпьешь из следа,
вкусной кажется вода,
горек мед земли чужой
даже в чаше золотой".
Лоухи, Похьолы хозяйка,
тут у гостя и спросила:
"Ты скажи, что дашь мне, Вяйнё,
коль домой тебя отправлю -
на межу родимой пашни,
на порог знакомой бани?"
Молвил старый Вяйнямёйнен:
"Что потребуешь в награду,
коль меня и впрямь доставишь
на межу родимой пашни,
где я слышал зов кукушки?"
Лоухи, Похьолы хозяйка,
разговор такой заводит:
"Коль сковать сумеешь Сампо
от конца пера лебедки,
молока нетельной телки,
ячменя зерно прибавив
и ягнячьей шерсти летней,
дочь тебе отдам я в жены,
отплачу тебе девицей
и домой тебя отправлю,
на межу родимой пашни,
где поют родные птицы".
Мудрый, старый Вяйнямёйнен
так на это отвечает:
"Я сковать не в силах Сампо,
крышку пеструю украсить,
но в моем далеком крае
есть кователь Илмаринен -
вот кто выковал бы Сампо,
крышку пеструю построил,
он бы с дочерью поладил,
деву юную утешил.
Он кузнец, каких немного,
он кователь преискусный,
выковал он крышку неба,
там воздушный полог сделал, -
не найти следов кувалды,
вмятин от клещей железных".
Лоухи, Похьолы хозяйка,
напоследок порешила:
"За того красу-девицу,
за того я дочку выдам,
кто сковать сумеет Сампо,
крышку пеструю украсит".
Вот она впрягает в сани
огненного жеребенка,
в них усаживает гостя,
Вяйнямёйнена седого,
и слова такие молвит:
"Головы поднять не вздумай
ты до той поры, покуда
твой скакун не притомится
или вечер не наступит:
если на небо посмотришь,
то тебя беда настигнет
и плохие дни наступят".
Мудрый, старый Вяйнямёйнен
волоки взял, и конь рванулся
и затряс льняною гривой.
Едет путник, поспешает
он из Похьолы угрюмой,
из туманной Сариолы.
Илмаринен кует Сампо
Лоухи, Похьолы хозяйка,
редкозубая колдунья,
на широкий двор выходит,
говорит слова такие:
"Кто такой ты, муж нездешний,
из каких героев будешь?
Ты путем ветров примчался,
по дороге санной вихря,
не облаянный собакой,
псом не тронутый косматым?"
Ей ответил Илмаринен:
"Не за этим прилетел я,
чтобы лаяли собаки,
псы свирепые кусали".
Лоухи, хитрая старуха,
хочет выведать у гостя:
"Не знавал ли ты случайно,
не видал ли, не слыхал ли;
где же нынче Илмаринен,
тот искуснейший кователь?
Ждем его уже давно мы,
поджидаем и желаем,
чтоб он в Похьолу приехал
Сампо новое сковал нам".
И кователь Илмаринен
ей сказал слова такие:
"Кузнеца, пожалуй, знаю,
мне он хорошо известен,
ибо сам я Илмаринен,
сам кователь тот искусный".
Лоухи, Похьолы хозяйка,
редкозубая колдунья,
быстро в избу поспешила
и с порога закричала:
"Дочка младшая, родная,
умное дитя природы!
Новые надень наряды,
белые возьми одежды,
тонкие найди подолы,
жемчугом своим отборным
грудь и шею разукрасишь,
золото к вискам подвесишь,
брови пусть чернеют ярче,
щеки жарче пламенеют.
К нам приехал Илмаринен,
тот кователь вековечный,
чтобы выковать нам Сампо,
крышку пеструю сработать".
Похьолы краса-девица,
диво и воды и суши,
лучшие взяла наряды,
платья новые достала:
приоделась, нарядилась;
заплела потуже косу,
все застежки застегнула,
золотой надела пояс.
Входит в избу из амбара,
со двора, походкой легкой,
Чистый взор ее лучится:
высока, стройна, красива,
и лицом она прекрасна:
на щеках горит румянец,
грудь вся золотом сверкает,
в косах серебро искрится.
А меж тем старуха Лоухи
Илмаринена проводит
в избы Похьолы суровой,
в то жилища Сариолы.
Вдосталь, досыта кормила
и поила пивом вдоволь,
а потом ему сказала:
"Ой, кузнец мой, Илмаринен,
ты кователь вековечный!
Коль сковать сумеешь Сампо,
крышку пеструю сработать
из конца пера лебедки,
молока нетельной телки,
ячменя зерно прибавив
и ягнячьей шерсти летней,
дочь в награду ты получишь,
за свои труды девицу".
И кователь Илмаринен
Сампо выковать решился,
крышку пеструю сработать.
Стал искать для горна место,
площадь для огня большую
на земле страны обширной,
на полях просторных Похьи.
Пестрый камень увидал он,
на пути валун попался,
и, облюбовав тот камень,
запалил огонь кователь:
на мехи он день потратил,
а второй - на горн огромный.
Все наладив, Илмаринен,
тот кователь вековечный,
бросил в пламя все припасы,
кинул их в свое горнило,
У огня рабов поставил,
силачей - мехами двигать.
И рабы огонь раздули,
силачи мехи качали:
так три летних дня трудились
и еще три летних ночи:
камни наросли на пятках,
вздулись волдыри на пальцах.
В первый день работы жаркой
наш кователь Илмаринен
наклонился, чтоб увидеть
дно пылающего горна, -
что из пламени там выйдет,
чем его огонь одарит.
Лук из пламени выходит
с золотой дугой из жара.
С виду был тот лук красивым,
но имел негодный норов:
в будни он просил по жертве,
а по праздникам и по две.
И кователь Илмаринен
сам не рад такому луку.
Пополам дугу сломал он
и обломки в пламя бросил.
Вновь рабов к огню поставил,
силачей - мехами двигать.
День прошел, и через сутки
челн из пламени явился,
лодка с парусом румяным.
С виду челн хоть был красивым,
но имел негодный норов:
в бой поплыл бы без причины,
без нужды на битву злую.
И кователь Илмаринен
был не рад челну такому:
тот негодный челн разбил он,
щепки снова в пламя бросил.
Вновь рабов к огню поставил,
силачей - качать мехами.
Время шло: на третьи сутки
телка из огня выходит,
с золотым рожком из жара.
С виду хороша коровка,
только с норовом негодным:
по ночам лежит в чащобах,
молоко свое теряя.
И кователь Илмаринен
был не рад такой корове:
на куски ее разрезал
и в огонь горнила бросил.
Вновь рабов к огню поставил,
силачей - мехами двигать.
Время шло, и в день четвертый
плуг из пламени явился,
золотой сошник из жара.
С виду был тот плуг добротным,
но по свойствам не годился:
плуг пахал плохие пашни,
бороздил поля чужие.
И кователь Илмаринен
был не рад такому плугу:
поломал его на части,
в пламя все обломки бросил.
Ветры дуть заставил в пламя,
злые бури - в горн огромный.
Ветры пламя раздували,
дули с запада, с востока,
южный дул со страшной силой,
северный - со всем свирепством.
День, другой все дули ветры,
не утихли и на третий:
пламя рвалось из окошек,
из дверей летели искры,
гарь столбом взметнулась к небу,
поплыла там черной тучей.
Вот кователь Илмаринен
на четвертый день нагнулся -
сквозь бушующее пламя
посмотреть на дно горнила;
видит: Сампо возникает,
купол крышки многоцветной.
Расторопный Илмаринен,
тот кователь вековечный,
молотком стал бить почаще,
тяжким молотом - ловчее, -
и сковал искусно Сампо:
в край он вделал мукомольню,
а в другой край - солемолку,
в третий - мельницу для денег.
Заработало тут Сампо,
крышка быстро завертелась, -
по ларю всего мололо:
ларь мололо на потребу,
ларь в придачу - для продажи,
третий ларь для угощенья.
Так обрадовалась Лоухи,
что сама большое Сампо
в гору отнесла поспешно,
в недра медного утеса -
в камень с девятью замками:
корни Сампо закопала
в глубину на девять сажен.
Илмаринен, потрудившись,
начал свататься к девице,
молвил ей слова такие:
"За меня теперь пойдешь ли,
коль сковать сумел я Сампо,
крышку пеструю поставить?"
Похьолы краса-девица
так ответила на это:
"Кто же будущей весною,
кто же будет в третье лето
слушать в роще кукованье,
птичек вызывать на пенье,
коль уйду я на чужбину,
укачусь, как земляничка!
Если я, голубка, сгину,
птица малая, исчезну,
краспой пропаду брусничкой,
в край далекий укатившись,
то исчезнут все кукушки,
улетят певуньи-птички
из лесов на горных склонах,
из родной страны скалистой.
Да и некогда, нельзя мне
позабыть о днях девичьих,
о своих работах жарких
страдного порою летней:
ягод много недобрала,
песен недопела много,
мало по лесам бродила,
в рощах я недоплясала".
Все услышав, Илмаринен,
тот кователь вековечный,
голову склонил печально
и надвинул шлем на брови.
Думает он, размышляет, -
у него одна забота:
как теперь домой доехать,
в край родной ему вернуться,
как бы Похьолу покинуть,
край туманов - Сариолу.
Молвит Похьолы хозяйка:
"Ой, кузнец мой, Илмаринен,
Отчего так загрустил ты
и надвинул шлем на брови?
Или хочешь ты уехать
в свой далекий край родимый?"
Ей ответил Илмаринен:
"Да, туда хочу добраться,
чтобы мне скончаться дома,
лечь в свою родную землю".
Кузнеца старуха Лоухи
накормила, напоила,
в лодку с парусом сажает,
медное дает правило:
дуть приказывает ветру,
вихрю северному мчаться,
И отважный Илмаринен,
тот кователь вековечный,
ехал к стороне родимой,
в море синем лодкой правил.
Подвиги Илмаринена
Вот кователь Илмаринен,
вековечный тот умелец,
в дом вошел к старухе Лоухи,
поспешил пройти под крышу.
Мед ему приносят в кружке,
патоку дают в кувшине,
в руки кузнецу, с почетом.
Говорит им Илмаринен:
"Никогда, пока живу я
под серебряной луною,
не попробую напитков,
если здесь я не увижу ту,
что в жены мне готовят,
по которой я тоскую".
Хмурой Похьолы хозяйка
говорит слова такие:
"Нелегко твоей желанной,
тяжко той, по ком тоскуешь:
ногу дообуть ей надо,
а потом обуть другую.
Ты желанную получишь,
коль пройдешь змеиным полем,
всю гадючью землю вспашешь.
Хийси здесь пахал когда-то,
взбороздил ту пустошь Лемпо:
бедный мой сынок оставил
недопаханное поле".
Тут кователь Илмаринен
в горницу заходит к деве,
говорит слова такие:
"Дева сумерек, дочь ночи!
Вспоминаешь ли ты время,
дни, когда ковал я Сампо,
крышку пеструю чеканил?
Вечную дала ты клятву,
обещание святое - мне,
усердному в работе,
стать навечною подругой,
задушевною голубкой:
а теперь грозят отказом,
если поле не вспашу я,
не взрыхлю гадючью пашню".
Девушка пришла на помощь,
так советует невеста:
"Ой, кузнец мой, Илмаринен,
вековечный ты искусник!
Плуг из золота ты выкуй,
плуг серебряный отстукай!
С ним пройдешь змеиным полем,
вспашешь всю гадючью землю".
И кователь Илмаринен
золото кладет в горнило,
серебро в очаг горящий,
плуг выковывает быстро,
сделал из железа кеньги,
наголенники - из стали,
на ноги себе надел их,
а потом обул он кеньги,
а железную рубашку
сталью тонкой подпоясал.
Варежки надел из камня,
рукавицы из железа:
из огня коня сковал он
и запряг ту лошадь в упряжь,
выехал пахать поляну,
поле бороздить гадючье.
Змеи вертят головами,
пасти их шипят зловеще.
Говорит тогда кователь:
"Ты, змея, созданье божье,
пасть твою кто так осклабил,
кто велел, кто подзадорил
голову держать так прямо,
шею жесткую расправить?
Прочь с дороги, убирайся,
уползай в сухие травы,
скатывайся вниз, под хворост,
в сене спрячься, да скорее!
Если голову поднимешь,
то ее разрубит Укко,
стрелами пронзит стальными,
градом размозжит железным".
И прошел змеиным полем,
землю взбороздил гадючью.
Воротясь оттуда, молвил:
"Я прошел змеиным полем,
я вспахал гадючью землю.
Отдаешь ли ты девицу
мне, единственную, в жены?"
Хмурой Похьолы хозяйка
говорит слова такие:
"Лишь тогда отдам девицу,
отпущу ее из дома,
как возьмешь медведя Туони,
волка Маналы взнуздаешь.
Сто мужей поймать пытались -
ни один не возвратился".
Тут кователь Илмаринен
в горницу девичью входит,
говорит слова такие:
"Мне еще работу дали:
волка Маналы настигнуть,
привести медведя Туони
из лесного царства мертвых,
Маналы владений мрачных".
Девушка спешит на помощь,
так советует невеста:
"Ой, кузнец ты, Илмаринен,
наш кователь вековечный!
Скуй скорей узду стальную,
недоуздок из железа:
куй на камне средь стремнины,
в пене трех порогов бурных!
Приведешь медведя Туони,
волка Маналы взнуздаешь".
И кователь Илмаринен,
тот умелец вековечный,
выковал узду стальную,
недоуздок из железа,
на одном стремнинном камне,
в пене трех порогов бурных!
И ловить зверей он вышел,
говоря слова такие:
"Терхенетяр, дочь тумана!
Решетом всю хмарь просей ты,
поразвесь клочками дымку
над звериными тропами,
чтобы мне пройти неслышно,
никого не вспугивая!"
Волчью пасть взнуздал уздою,
цепью обвязал медведя
в буреломном царстве Туони,
посреди таежной сини.
Он сказал, придя оттуда:
"Дочь свою отдай, старуха!
Я привел медведя Туони,
волка Маналы взнуздал я".
Хмурой Похьолы хозяйка
так в ответ ему сказала:
"Лишь тогда получишь птицу,
утку синюю в подруги,
если щуку ты поймаешь,
рыбу жирную, большую
в черной речке царства Туони,
в Манале, в ее глубинах.
Сто мужей поймать пытались -
ни один не возвратился".
Тут кователь Илмаринен
ощутил тоску на сердце
и глубокое унынье.
В горницу вошел девичью
и сказал слова такие:
"Дали мне еще работу,
прежнего куда труднее:
выловить большую щуку
в черной речке царства Туони,
в Манале, в ее глубинах".
Девушка спешит на помощь,
так советует невеста:
"Ой, кузнец мой, Илмаринен,
унывать и тут не надо!
Из огня орла ты сделай,
белую большую птицу!
Он тебе поймает щуку
в черной речке царства Туони".
И кузнец наш, Илмаринен,
вековечный тот искусник,
из огня орла сработал,
белую большую птицу:
лапы сделал из железа,
выковал стальные когти,
крылья смастерил из лодки,
сам взбежал на крылья птицы,
на спине ее уселся,
на крутом хребте орлином.
Он орлу дает советы,
учит огненную птицу:
"Ты орел мой быстролетный!
Мчи туда, куда скажу я -
к черной речке царства Туони,
к Манале, к ее потокам!
Там убей большую щуку,
рыбу жирную в стремнине!"
Мчит орел, красавец неба,
не спеша крылами машет -
он летит на ловлю щуки,
на поимку острозубой,
к черной речке царства Туони,
к Маналы потокам нижним.
Бороздил крылом он волны,
а другим касался неба,
лапами вздымая воду,
скалы клювом задевая.
Илмаринен в воду входит,
шарит он шестом в потоке,
в черных водах речки Туони:
рядом с ним орел-хранитель.
Вот плывет и щука Туони,
та собака водяная:
щука Туони не из мелких
и не то чтоб из огромных:
был язык - с два топорища,
словно зубья грабель - зубы,
в пасти три порога встанут,
серая спина - в семь лодок.
Кузнеца поймать пыталась,
Илмаринена прикончить.
Ринулся орел на помощь,
нанести удар готовясь.
Был орел тот не из малых
и не то чтоб из огромных:
клюв орлиный - в сто саженей,
пасть его - в шесть водопадов,
а язык орла - в шесть копий,
и в пять кос был каждый коготь.
Щуку злобную увидел,
рыбу грозную, большую,
и по рыбе той ударил,
впился в чешую когтями...
И тогда большая щука
увлекла орла в пучину,
в глубину воды студеной.
Вырвался орел могучий,
в воздух поднялся высоко:
тину черную он поднял
на поверхность вод прозрачных.
Вновь летает он и кружит,
снова делает попытку.
Лапой он одной ударил
по хребтине страшной щуки,
по спине речной собаки:
лапою другою грохнул
по стальной скале высокой,
по железному утесу.
Чиркнули по камню когти,
по скале они скользнули.
Щука в глубину нырнула,
выскользнула рыба-глыба
из когтей могучей птицы,
из орлиных лап огромных:
бок искромсан весь когтями,
на спине зияет рана.
Вновь железными когтями,
налетев, орел ударил:
пламенем пылают крылья,
и глаза огнем сверкают:
лапами поймал он щуку,
водяного пса, когтями.
Поднял, чешую срывая,
рыбу-глыбу водяную
из речных глубин студеных
на поверхность вод прозрачных.
Щуку страшную отнес он
на дубовый сук огромный,
на сосновую вершину.
А потом орел могучий
в воздух высоко взлетает
и на облако садится.
Тучи гнутся, стонет ветер,
накренился купол неба,
поломался лук у Укко,
лунные рога сломались.
Тут кователь Илмаринен
щучью голову приносит
теще будущей в подарок,
говоря слова такие:
"Вот вам вечный стул надежный
в доме Похьолы огромном.
Я вспахал гадючье поле,
Маналы волков взнуздал я,
выловил большую щуку
в черной речке царства Туони.
А желанная готова ль,
та, по ком я так тоскую?"
Хмурой Похьолы хозяйка
так в ответ ему сказала:
"Да, желанная готова,
по которой ты тоскуешь!
Уточку мою отдам я,
выдам птицу дорогую
за тебя, кователь, в жены
и в навечные подруги,
чтоб была твоей супругой,
задушевною голубкой".
Мёге Баян-Тоолай
Тувинский народный эпос
Давным-давно, когда вокруг царил мир, в стойбище Ак-Хем жил богатырь Мёге Баян-Тоолай, имеющий коня Туман-Кыскыла.
Жил он со своей старой женой, без детей. Добра у него да скота много было.
Однажды Мёге Баян-Тоолай поднялся на вершину горы Ак-Тайги, что в верховье реки Ак-Хема, посмотреть скот. Глянул в северную сторону и видит: в конце длинной степи клубы черной пыли до неба поднимаются.
"В этом краю никакой войны нет, должно быть, несколько моих быков отбились от стада и бодаются, надо их разогнать, иначе беда с ними", - подумал старик, сел на коня и помчался. А огромные клубы черной пыли - все ближе и ближе.
Вскоре повстречался он с добрым молодцем, который ехал на коне Кок-Шокар. Лицо у него было красно-бурое, усы черные.
- Ты кто такой, никудышный ты человек? - спросил незнакомец.
- Я человек по имени Мёге Баян-Тоолай, живу в южной стороне, стойбище мое на Ак-Хеме. Детей нет, вот сам и езжу, пасу свой тучный скот. Приехал на гору проверить стада, вижу - столб черной пыли до самого неба, а это вы. Как же ваше имя будет? - спросил в ответ старик.
Тот человек задумался о себе: у него тоже детей не было, поехал проверить скот и увидел в конце длинной степи столб красной пыли - этот вот человек ехал.
Спешились оба с коней, закурили вместе и разговорились.
- Скота мы достаточно вырастили, а детей у нас у обоих нет. Чем придираться к слову и проливать кровь, лучше пасти скот и быть с мясом и салом. Будем друзьями навеки. Сейчас у нас нет детей, а вернемся домой, как знать, - может, наши жены и подарят нам по младенцу.
Двое богатырей поклялись друг перед другом в вечной дружбе. И еще поклялись: если будет у одного из них дочь, а у другого сын, - поженить их. В знак клятвы обменялись они огнивом и трутом.
Один из них помчался в южную сторону, подняв огромный столб красной пыли до самого неба, другой - в северную сторону, подняв до самого неба огромный столб черной пыли.
Мёге Баян-Тоолай вернулся домой поздно ночью. Вошел в юрту - темно, ни огня, ни красного уголька в очаге. Старик раздул огонь, а жена даже не шевельнулась.
Рассердился старик на жену:
- Я же в тайгу ездил, за скотом смотрел, а ты ни огня не развела, ни чаю не вскипятила!
- Сегодня я забеременела, встать не могла, - ответила жена.
- Ты что же, над моей старостью смеешься, издеваешься надо мной?! - еще больше рассердился Мёге Баян-Тоолай, сам приготовил еду, один поел, лег позади очага и накрылся шубой.
Только он крепко уснул, жена разбудила:
- Никак тебя не добудишься. Вставай скорей - ребенок родился.
"Обманывает!" - не поверил старик и снова уснул. Вдруг ребенок заплакал.
"Что это?" - Старик быстро вскочил на ноги, развел огонь в юрте и увидел: на самом деле жена родила.
Обрадовался старик, подбежал к жене, взял ребенка на руки - сын! Нашептывая: "Будь, мой сын, добрым молодцем, сильным и крепким!" - старик отрезал его пуповину булатным напильником.
Наутро старик сел на Туман-Кыскыла и из табуна, который ходил за светло-рыжим жеребцом, выбрал семилетнюю, ни разу не жеребившуюся, кобылицу. Привел ее домой, заколол и освежевал в честь рождения сына. Добрый той устроили старик со старухой.
Прошло пять или шесть дней. Сын уже ползал внутри юрты, а иногда и через порог перебирался. Через десять дней он уже бегал.
Старик никак не мог налюбоваться на своего малыша и, забыв обо всем на свете, не отходил от него ни на шаг.
Как-то вышел Мёге Баян-Тоолай из юрты и увидел: конь его Туман-Кыскыл, давно привязанный к коновязи, совсем отощал, вот-вот от голода умрет. Отпустил его на волю старик:
- Пасись, мой славный конь, набирайся сил. Пусть бока твои будут крутыми, круп жирным!
Однажды утром Мёге Баян-Тоолай поднялся на высокий холм посмотреть скот. Видит: прикочевал какой-то аал; людей в нем было много. Аал этот остановился напротив стойбища старика.
"В мое стойбище на Ак-Хеме никогда еще не прикочевывали другие люди, даже одинокий человек никогда здесь не появлялся. Зачем же этот аал прикочевал, что он здесь ищет?" - задумался старик.
Это Караты-хаи прикочевал. Осмотрелся кругом и увидел, что прикочевал он близко к аалу, в котором жили старик со старухой, богатые скотом.
"Как это двое, старик со старухой, так много скота вырастили?" - удивился Караты-хан. И задумал он уничтожить старика со старухой. Приготовил араки, насыпал в нее яда и отправил чиновника:
- Иди к старику и скажи ему:; "Хан приглашает вас к себе чай пить".
Тот чиновник приехал в аал старика, привязал коня к его коновязи, вошел в юрту и низко-низко, до боли в плечах, поклонился:
- Караты-хан велел передать: "Мы с вами живем близко, из одной реки воду пьем, заходите, пожалуйста, попить горячего чаю, поесть жирного мяса".
- Зачем мне пить горячий чай Караты-хана - своего много, не могу выпить; зачем мне есть жирное мясо Караты-хана - своего много, не могу съесть, - отказался Мёге Баян-Тоолай.
Караты-хан еще одного, а потом и другого чиновника отправил к старику, но тот все отказывался, Тогда жена ему сказала:
- Хан зовет тебя, простого человека. Разве можешь ты не пойти, дед?
- Ну что же, жена моя, надо седлать коня... Нельзя же пойти к хану пешком, - молвил старик и пошел ловить своего Туман-Кыскыла.
За это время конь успел поправиться, круп его округлился от жира. Добрый был конь у Мёге Баян-Тоолая!
Старик подъехал к коновязи Караты-хана, спешился, привязал коня и крикнул громко:
- Собака есть?
Подданные Караты-хана открыли дверь, и сам он вышел за порог, чтобы пригласить гостя. Мёге Баян-Тоолай вошел в юрту.
Жена Караты-хана живо вскочила на ноги, расстелила коврик, предназначенный для приема знатных гостей, поставила перед Мёге Баян-Тоолаем низенький столик и принесла араки.
- Из одной реки мы пьем воду, пусть мои люди пасут теперь твой скот, старик, - предложил хан, подавая соседу араку.
Гость отказался:
Нет, я такой неприятной воды не только не пивал, но и не видал.
Тогда встала ханша, взяла чашу с аракой и принялась уговаривать Мёге Баян-Тоолая. Она запела, славя красоту и богатство Ак-Хема, превознося достоинства коня Туман-Кыскыла. Наш старик вспомнил свою молодость, разволновался, в груди его потеплело от нахлынувших воспоминаний, и он залпом выпил араку.
- Хоть и горькая она, а правильно говорят: "Сверх выпитого еще выпей, сверх съеденного еще поешь!" - разошелся Мёге Баян-Тоолай и залпом выпил еще одну чашу.
Арака была отравлена, и бедный старик умер.
Караты-хан сразу же отправился в аал Мёге Баян-Тоолая, убил старую жену его, а маленького сына их захватил с собой. Своих слуг заставил пригнать весь скот старика.
Тяжелое время пришло для мальчика. Хан сделал его овечьим пастухом. Днем сирота ходил следом за овцами, ночью ночевал вместе с ними.
А Караты-хан все грозил ему:
- Если ты позволишь волку съесть хоть одну овцу, если потеряешь хоть одного маленького ягненка, я тебя разрублю на шесть частей, как твоего отца, снесу тебе голову, как твоей матери!
С каждым днем мальчик все больше и больше горевал, постоянно ходил опечаленный.
"Хан все равно когда-нибудь убьет меня", - задумался он однажды, сидя на камне позади отары овец, и горько заплакал.
С северной стороны прилетел черный ворон и прокаркал:
- Что ты сидишь и плачешь, когда у тебя так много овец? Мальчик рассказал об угрозе хана.
- Верно! Злой у тебя хан, может убить, - каркнул ворон и улетел.
- Даже дикий черный ворон сказал: "Правильно". Сегодня же зарежет меня Караты-хан, - пуще прежнего заплакал мальчик.
Снизу из долины кто-то медленно, покачиваясь, тащился в гору. Долго вглядывался мальчик и рассмотрел, что это был маленький жеребенок-стригунок, шерсть у него вся в клочьях.
Жеребенок тихонько подошел, прислонился к камню, на котором сидел мальчик, и спросил его:
- Скота у тебя много, сам ты молодой, так что же ты сидишь и плачешь?
Мальчик и жеребенку рассказал об угрозе Караты-хана.
- Верно, - сказал жеребенок.
- Прошлый раз дикий черный ворон сказал: "Правильно", теперь ты, покрытый клочками шерсти, пришел и тоже сказал:
"Верно". Ох, сегодня умру я! - залился мальчик горючими слезами.
А овцы уходили все дальше и дальше.
- Ну, не плачь, я помогу тебе завернуть обратно твоих овец, садись на меня.
- Я еще никогда не ездил верхом на коне, - ответил мальчик. Жеребенок сам никогда не был под всадником, но заставил
мальчика сесть верхом на себя и трижды обежал вокруг овец, собрал их всех вместе. Он бежал то тихой иноходью, то скорой иноходью, так, что ни одной травинки не помял своими копытами.
Мальчик успокоился, ему понравилось ездить верхом и совсем не захотелось сходить с коня.
- Если Караты-хан услышит о нас, и тебя и меня, безусловно, изрубит. Убежим куда-нибудь, - предложил жеребенок.
- Куда же можно скрыться? Я знаю только это место, где овец пасу, - ответил мальчик.
- Найдем такое место, которое человек никогда не найдет. Только ты выбери среди овец самого жирного барана, - сказал жеребенок и, трижды проскакав вокруг овец, снова сбил их в кучу.
Мальчик соскочил с коня, схватил серого священного барана, но тот был сильнее мальчика и потащил его по земле за собой.
- Не могу этого барана притащить, - прибежал мальчик к жеребенку.
- Тогда поймай, какого можешь.
Мальчик побежал обратно и из тысячи овец поймал самого худенького ягненка. Принес его с собой, сел верхом, но не мог поднять ноши. Спешился и навьючил ягненка, - сам не мог сесть. Тогда жеребенок лег на землю, и мальчик затащил на него своего ягненка и сам сел.
Мягкой иноходью поехали прямо в северную сторону.
Переправились через несколько рек, перевалили через несколько гор и, когда на небе взошла первая звезда, заехали в темный лог.
- Пусть наестся зеленой травы, напьется чистой воды, - отпустил мальчик своего жеребенка, а сам зарезал ягненка, развел большой огонь, зажарил всю тушу, потроха съел, а хорошее мясо повесил; шкуркой накрылся, как одеялом, и уснул.
Утром, на заре, прибежал жеребенок:
- Мужчина должен рано вставать. Ты уже поел, готов? Мальчик вскочил на ноги, наскоро поел оставшегося с вечера мяса и сел верхом. Снова поехал. Жеребенок привез его к высокой крутой скале на берегу большой реки и остановился:
- Если ты найдешь место, где открывается эта скала, - будешь жить, не найдешь - не быть тебе живым.
Мальчик долго-долго искал, пот градом с пего лился. Наконец нашел вход в скалу. Насилу открыл его, вошел и увидел запасы всего, что нужно человеку. Он надел черные юфтевые идыки, черного шелка тон, черного соболя шапку, повесил через плечо тугой черный лук и вышел из скалы.
- Оседлай меня добрым седлом, одень уздечку, - сказал жеребенок.
Мальчик надел на одногодка узду, украшенную золотом и серебром, и тот стал жеребенком-двугодком; накинул на спину шелковый, с каймою, потник, большой, как степь, и тот стал трехгодовалым жеребенком; надел седло, огромное, как перевал, и жеребенок стал статным, взрослым, светло-рыжим конем. Потом славный молодец натянул тридцать подпруг, тридцать подхвостных и тридцать нагрудных ремней. Только собрался вскочить на коня, как тот остановил его:
- Ты можешь встретиться с добрым молодцем, вступить в борьбу. У тебя спросят: "Как твое имя-прозвище, какое имя твоего коня, где твое стойбище?" А ты что ответишь?
Парень ничего не знал.
- Ты скажешь, - продолжал его умный конь, - вот что: "Зовут меня Мёге Сагаан-Тоолаем, имеющим коня Туман-Кыскыла, отец мой Мёге Баян-Тоолай от рождения своего владел стойбищем на реке Ак-Хеме, в той стороне, где всходит солнце". У тебя спросят: "Куда ты путь держишь?" Ты ответишь: "Еду я за невестой - дочерью Кок Хевек-хана, имеющего коня Кок-Шокара и живущего в северной стороне, на реке Кок-Хеме. Хан давно получил от моего отца подарок. Они договорились, что дочь хана будет моей женой".
Мёге Сагаан-Тоолай вставил ногу в стремя, собираясь сесть на коня, но тот снова остановил его:
- В мой рот еще не вдевали удила - они будут тереть мне губы, под моим животом не затягивали подпруги - они будут щекотать, - не усидишь ты на мне. Мужчина должен бережно относиться к своему оружию: не пострадают ли твои лук и стрелы, когда ты поедешь на мне?
Добрый молодец прислонил лук и стрелы к скале и сел на коня.
- Крепко ли сидишь? - спросил конь и, выгнув шею, туго натянув поводья, поскакал галопом. Прискакал в дремучий лес - превратил его в щепки своими копытами, поднялся на скалистые горы - раздробил их в мелкие камни. Пыль с земли поднял до самого неба, звезды с неба на землю низверг. Горы стали от его копыт ровной степью, гладкую степь прорезало глубокое ущелье между двумя огромными холмами.
Натягивая поводья, Мёге Сагаан-Тоолай хочет остановить коня, но поводья сдирают мясо со всех десяти пальцев; ногами пытается сжать коню бока - на обеих ногах мясо скручивается.
Рассердился наш добрый молодец: "Скотина ведь подо мной", - подумал он. С правой стороны так дернул поводья, что углы рта у своего коня разодрал, с левой стороны так хлестнул его плетью по крупу, что кожа лоскутом отлетела. Вот так и остановил коня.
- Ты видишь теперь, - сказал запыхавшийся конь, - добрым конем я тебе буду! И ты сумеешь на мне ездить! Где твои лук и стрелы? Бери их.
Мёге Сагаан-Тоолай перед отвесной скалой Чалым-Хая надел на себя лук и стрелы и, не дергая за поводья, отправился в путь-дорогу на своем Туман-Кыскыле.
Конь бежал то медленной, то скорой иноходью. Над зеленой степью он проносился, не приминая ни одной травинки; по высоким горам он скакал, дробя их в камешки величиной с коленную чашечку.
- Человек з пути должен наблюдать - не покажется ли кто вдалеке или вблизи. Не видишь ли ты чего-нибудь перед собой?' - спросил конь.
Что-то странное впереди: прямо в северной стороне огромный, высотой до неба, столб черной пыли.
- Следи за ним.
Вскоре столб пыли приблизился. Сидя вразвалку на коне, подъехал необычайно могучий, с виду отважный воин, лицо у него было красно-бурое, усы черные.
- Как твое имя-прозвище, где твой аал-стойбище, куда ты едешь? - спросил тот богатырь.
- Зовут меня Мёге Сагаан-Тоолаем, конь мой Туман-Кыс-кыл, отец Мёге Баян-Тоолай, от рождения своего он владел Ак-Хемом, в стороне, где восходит солнце. Еду я в стойбище Кок-Хем к Кок Хевек-хану за невестой. Много лет прошло, как мой отец высватал ее за меня. А ты куда путь держишь?
Человек тот, не сказав ни слова в ответ, трижды огрел своего коня плетью, натянул туго поводья и помчался прямо в северную сторону. Мёге Сагаан-Тоолай так и остался там стоять.
- Что с тобой? - спросил его конь.
- Страшный человек, испугался я:
- Что ты говоришь? Это же твой тесть, не отставай от него, держись рядом с ним.
Добрый молодец догнал хана и поехал рядом с ним. Хан помчится галопом, и наш молодец - рядом с ним, хан перейдет на шаг, и Мёге Сагаан-Тоолай своего коня придержит. Так и ехал, не отставая и не вырываясь вперед хана ни на шаг.
Перевалили через огромный хребет, за которым текла река. На берегу этой реки и раскинулся аал ханского государства. В нем было много народа.
Нигде не останавливаясь, они подъехали к дворцу - огромной белой юрте. Мёге Сагаан-Тоолай привязал коня к ханской коновязи рядом с конем хана и вместе с ним вошел в его дворец. Хан уселся на высокий квадратный трон-ширээ, а парень - на земле около очага.
Хан ни чаем не угостил его, никакой еды не дал и ничего не спрашивал. Сколько же можно сидеть так? Мёге Сагаан-Тоолай вышел и стал ходить среди юрт подданных хана.
В одном месте, в стороне от юрт, он увидел дом с высоченным, до самого неба, железным шпилем. Парень стал присматриваться: в этот дом входили и выходили из него только те люди, которые приносили дрова и воду. Кроме них, никто не ходил.
Мёге Сагаан-Тоолай также взял дров и вместе с одним дрово-носом вошел в дом. Там он увидел красивую девушку, излучающую сияние луны и солнца, и остался в доме. Ему дали поесть и попить.
"Хорошее местечко нашел я", - подумал парень, спрятал свое оружие, седло и потник на скале, а сам вместе с другими людьми стал носить дрова и воду.
Однажды, когда в доме не осталось дров, Мёге Сагаан-Тоолай с одним дровоносом пошел в лес. Срубили они сухую лиственницу, напилили дров. Вдруг он увидел около себя Туман -Кыскыла.
- Что ты делаешь тут? - спросил конь.
- Я работаю в доме, на котором шпиль до самого неба. В нем живет изумительно красивая девушка.
- Не то ты делаешь. Станом своим ты - добрый молодец, а ума-то у тебя недостает. Эта девушка - твоя невеста, за ней ты и приехал. Остановись и послушай меня. Я вместе со здешним скотом приду на стойбище, ты поймай" меня и крепко стреножь на скале позади аала, чтобы я выстоялся.
Когда вечером Туман-Кыскыл пришел вместе со скотом на стойбище, Мёге Сагаан-Тоолай поймал его, надел узду, оседлал и на скале крепко-крепко стреножил железными путами.
Вечером наш добрый молодец пришел в ханский дворец. Жена хана уже спала. Сам хан также готов был заснуть.
Мёге Сагаан-Тоолай громко сказал:
- Ты почему не отдаешь дочь за человека, за которого давно поклялся отдать? Разве мало прошло времени с тех пор, как я приехал в твой аал? Отдашь ли ты дочь подобру-согласию?
- О чем ты говоришь? - негодующе призпес хан. - Сын неба Темир-мёге уже с гору мяса мне скормил, с море араки выпоил, он и возьмет мою дочь. А ты мне что выпоил? Вон отсюда! Мне не о чем с тобой разговаривать.
Выйдя из ханского дворца, парень лег рядом со своим конем и рассказал ему об ответе хана. Ночью слышит: земля гудит от топота копыт, голоса людей раздаются.
Утром прибежал мальчик, разбудил его:
- Вставай, хан тебя зовет! Парень встал и пошел к хану.
- Хоть ты и на коне приехал требовать свою невесту, за которую твой отец уплатил калым, но будущее покажет, возьмешь ли ты ее. Сейчас мы устроим состязания, пустим коней. Если мой конь вперед придет, - ни тебе, ни силачу Темир-мёге не отдам свою дочь, - она поедет в то стойбище, которое я сам выберу. Если конь Темир-мёге вперед придет - девушка будет его, если твой конь вперед придет - ты возьмешь ее, - сказал хан.
Жена хана добавила:
- Своего коня Калчан-Сарыга я тоже поставлю. Если он вперед всех придет, дочь свою я никому не отдам.
Парень вышел от хана и увидел: три коня, на которых сидели три женщины, были уже готовы. Он прибежал к своему коню, но не нашелся человек, который поехал бы на нем. Бегал, искал, но все боялись садиться на его коня. Тогда парень пошел к хану.
- Не мог найти человека, чтобы послать на моем коне. Что, если я вместо человека навьючу на него два мешка с песком и пущу его без седока?
- Делай как хочешь.
Мёге Сагаан-Тоолай привьючил к задней луке седла два мешка с песком и пустил своего коня вместе с другими.
Кони побежали в южную сторону. До самого края земли и неба ни один конь не вырвался вперед, ни один не отстал, - все кучей бежали. Повернули обратно и помчались в северную сторону.
Добежали до половины обратного пути, и Туман-Кыскыл вырвался вперед.
- Этот конь без хозяина, все равно не узнают, - перекинулись словами три колдуньи, тридцатисаженными саблями перерезали коню сухожилия под коленками, и он свалился, а сами колдуньи, напевая и наигрывая на свирелях, поехали дальше.
Туман-Кыскыл выпорскнул брызги изо рта, и на горных перевалах пошел густой снег, поднялась свирепая буря, а на берегу реки, где он лежал, выпал теплый дождь, засияло солнце, поросла зеленая трава, закуковали кукушки.
Конь немного повернулся на живот и стал есть выросшую под покрышкой седла целебную траву.
"Теперь каков я?" - подумал через некоторое время конь и попробовал двигать ногами, - все зажило. Конь вскочил, - ноги были тверды, совсем здоровые, - и побежал вначале потихоньку, как бегает жеребенок-стригунок. Потом понесся как ветер прямо в северную сторону, перевалил два перевала и переправился через две реки.
Три коня - хана, ханши и силача Темир-мёге - как ни бились, не могли перевалить через последнюю гору. Славный Туман-Кыскыл, не приближаясь к ним, порезвился у них на виду, закинув хвост к себе на спину, и перенесся через горный перевал.
В аале, на высоком холме, собрался народ. Кто простым глазом, кто в подзорную трубу - все смотрели на дорогу, ждали появления коней. Но в южной стороне показалось только одно облако пыли.
- Мой конь бежит! Нет, мой конь! - заспорили между собой хан, его жена и Темир-мёге.
Облако пыли все ближе и ближе. Мёге Сагаан-Тоолай пристально всмотрелся и узнал своего коня:
- Кто же может быть впереди, если не мой Туман-Кыскыл?! - сказал он, довольный своим конем. К веревке длиною в шестьдесят сажен привязал железный крюк и приготовился, продавив ногами черную землю до самого пояса.
Когда Туман-Кыскыл мчался мимо, наш молодец набросил железный крюк на кольцо его удил. Веревка туго натянулась, и конь, закусив удила и продолжая бежать вокруг своего хозяина, перешел на тихую иноходь, потом побежал, как маленький жеребенок и, наконец, совсем остановился.
Приближенные хана, недовольные этим, разошлись по своим юртам.
А те три коня прибежали только на другой да на третий день.
- Моя победа-то, хан! - сказал парень.
- Из-за того, что твой конишка прибежал первым, не следует тебе радоваться, - ответил невесело хан. - Не дети. Впереди еще будут состязания, достойные богатырей. Будете пускать друг в друга стрелы с железными наконечниками, скованными кузнецами, или испытаете силу своих кулаков, созданных самой природой!
- Чтобы все решилось поскорее, схватимся врукопашную, - предложил Темир-мёге.
Наступил вечер. Двое богатырей пошли в конец длинной желтой степи, на вершины двух серых холмов. Мёге Сагаан-Тоолай на одном из этих холмов туго связал ноги Туман-Кыскылу, чтобы тот выстоялся, навырывал из земли с корнями и натаскал на вершину холма сухих лесин, развел огромный костер и лег спать. Подогреваемый со всех сторон, он вскоре уснул. Спит он и сквозь сон слышит: крик не крик, а какой-то страшный рев.
Проснулся богатырь, вскочил на ноги и увидел: Темир-мёге посредине огромной степи исполняет танец борцов и приговаривает:
- Мёге Сагаан-Тоолай, живой ты или мертвый от страха? Парень бросился одеваться - нечего было надеть. Прибежал к коню.
- Что с тобой, чем ты взволнован? - спросил конь.
- Надеть мне нечего. Что я буду делать?
- Для такого доброго молодца найдется добрая одежда. Под покрышкой седла есть сшитый из кож шестидесяти маралов костюм для борьбы. Его раньше надевал твой отец, а теперь ты надень.
Парень нашел под покрышкой седла помятый костюм для борьбы, разгладил и натянул на себя. Прошелся, исполняя танец борцов, по длинной желтой степи.
Два богатыря в середине степи встретились, словно две скалы столкнулись. Долго они боролись, зимой под ними иней скрипел, летом - роса шелестела.
Из-под мышек силача Темир-мёге повалила пена каплями, похожими на белую овцу.
- Что это у тебя? - спросил Мёге Сагаан-Тоолай.
- Раньше говорили: когда тело разгорячится, такое бывает. Кровь во мне кипит.
Там, где ступит Темир-мёге, ноги, как колья, уходят в землю, где схватится руками за тело Сагаан-Тоолая, там вырывает клок кожи величиной с потник.
Тут и у Мёге Сагаан-Тоолая полился пот хлопьями пены, похожими на белую овцу, руки стали как железные клещи, тело налилось силой.
- Что это у тебя? - спросил Темир-мёге.
- Предки наши говорили, что бывает так, когда кровь у человека разгорячится, - ответил Мёге Сагаан-Тоолай, схватил силача Темир-мёге в охапку и бросил его с такой силой, что черная земля вздрогнула. - Пусть будет пир сорокам и воронам!
Уселся добрый молодец отдохнуть на его огромную, как сундук, белую грудь и спросил:
- У убитой коровы кровь берут, у богатыря перед смертью слово берут, говори, какое твое последнее желание будет?
- Отец мой - небо, мать моя - земля, войско мое - трава! - закричал вдруг тот, зовя на помощь.
Когда сверху падала молния, Туман-Кыскыл разорвал путы, прибежал к своему хозяину и булатными копытами отбросил молнию, растоптал и раскидал надвигавшиеся травы и чащи лесные.
Мёге Сагаан-Тоолай убил силача Темир-мёге и, чтобы жила в народе память о его победе, поставил каменное изваяние.
Добрый молодец сел на коня, приехал на стойбище хана, откинул плетью войлок у входа в его юрту и грозно спросил:
- Готово ли, хан, то, что ты должен отдать? Крепко ли, хан, то, что ты не хочешь отдать?
Дочь хана успокоила его, преподнеся белый дарственный платок. Она помогла ему сойти с коня, ввела в свой дворец и стала его угощать.
Хан выделил Мёге Сагаан-Тоолаю часть своего скота, имущества, поставил белую юрту.
Ни на одни сутки не остался Мёге Сагаан-Тоолай в аале хана. Он взял с собой Алдын-дангыну, погнал впереди себя скот, навьючил на коня вместе с добром новую юрту и откочевал.
Перевалили они через крутой высокий горный хребет. Скот устал. В одной ложбине заночевали. И вечером и утром увидели много-много разных зверей в том месте.
- Пусть скот отдохнет здесь, - сказал добрый молодец жене, а сам поехал на охоту.
Добыл Мёге Сагаан-Тоолай много всяких зверей и с добычей прямо через скалу вернулся на место стоянки. Но там все было разграблено, только одна коновязь осталась в пустой долине. Привязал богатырь коня к этой коновязи и горько заплакал.
Но сколько же можно плакать? Как-то взглянул он вверх и увидел: на самой верхушке коновязи чернел когержик.
"Зачем он там"? - подумал Мёге Сагаан-Тоолай, достал когержик и, вместо пробки, увидел записку. Развернул - это была записка Алдын-дангыны. Вот что было в ней написано:
"Ты и не думай искать меня. Живи один. Питайся зайцами да рыбой. На некоторое время я тебе приготовила еды и сшила одежду. Они под землей позади того места, где стояла юрта. Стойбище твое разграбил и меня увез чудовище Амырга Кара-Моос. Он намного сильнее тебя, и ты не пытайся искать с ним встречи".
Парень разрыл землю и нашел там еду и одежду.
- Для одного человека, даже едущего в дальнюю дорогу, и то много тут еды. На что мне все это? - ворчал он про себя.
Мёге Сагаан-Тоолай сел верхом на Туман-Кыскыла, чтобы разыскать жену и отомстить Амырга Кара-Моосу. С коня он увидел круглую вмятину на том месте, где сидел Амырга Кара-Моос. Она была больше того места, на котором стояла юрта. След от лежавшей на земле плети великана напоминал глубокий лог, по которому струился большой ручей.
А есть ли у него, Мёге Сагаан-Тоолая, сила? Ударил он плетью по земле - пролегла бурная речка; посмотрел туда, где недавно сам сидел, - след на земле остался не меньше, чем от Амырга Кара-Мооса.
"Не сильнее он меня", - подумал наш молодец и поехал вдогонку за врагом.
Мёге Сагаан-Тоолай перевалил через три горы, переправился через три реки. В одном месте он долго, пристально всматривался в даль. Вдруг увидел: в самой середине густого леса пасется его скот, стоит его юрта ослепительной белизны.
Мёге Сагаан-Тоолай вскочил на коня и вмиг примчался на то стойбище. Он трижды объехал вокруг юрты, ударяя по ней плетью:
- Если ты хороший человек - принимай гостя: попьем вместе чаю, поедим мяса; если ты плохой человек - выходи: померяемся силами!
Алдын-дангына узнала по голосу своего мужа и выбежала из юрты:
- Самого-то нет, уехал охотиться, скоро вернется. Ты отсюда сейчас же уезжай подальше, чтобы голос мой лишь чуть-чуть было слышно. Спрячься там и прислушивайся ко всему. Услышишь мой голос - сразу же приезжай сюда.
Мёге Сагаан-Тоолай повернул коня, отъехал в сторону и привязал его за горой. Сам лег на землю. Всю ночь пролежал - ничего не услышал.
Амырга Кара-Моос с богатой охотничьей добычей, притороченной к седлу, приехал в аал в самый полдень. Черный конь его подошел к коновязи, потом вдруг захрапел и шарахнулся в сторону. Кара-Моос насилу повернул его:
- Мой конь чего-то испугался. Не приехал ли твой старый муж? - спросил он у Алдын-дангыны.
- Давно еще, когда я жила в юрте своих родителей, сшила шубу из непросохших, невыделанных шкурок ягнят. Эту шубу теперь я вытащила и надела. Ее-то и испугался твой конь, - ответила женщина.
- Ладно, - успокоился Амырга Кара-Моос и оставил коня, закинув поводья за переднюю луку седла.
Когда Амырга Кара-Моос сел поесть, Алдын-дангына предложила ему:
- Всегда ты пьешь одно молоко, сегодня я приготовила для тебя араки, не отведаешь ли ее?
- Что это такое "арака"?
Алдын-дангына принесла араки. Кара-Моос попробовал и не стал пить: горькая.
Алдын-дангына взяла обеими руками чашу с аракой и запела. Своей песней она прославляла стойбище Кара-Сюме, которым владел Кара-Моос, воспевала достоинства его черного коня.
Возгордился Амырга Кара-Моос, схватил чашу с аракой и выпил. Алдын-дангына налила ему самой крепкой араки - он и ту выпил до капли.
Алдын-дангына вышла из юрты. Опустились сумерки. Она запела протяжную песню.
Мёге Сагаан-Тоолай услышал ее песню и мигом прискакал.
- Кара-Мооса я свалила, теперь ты справишься с ним, - сказала мужу Алдын-дангына.
"Что же с ним делать? Стрелой вырву у него сердце и легкие", - подумал Мёге Сагаан-Тоолай, натянул до отказа тугой лук и выстрелил. Стрела попала в чудовище, но со скрежетом отлетела от него в сторону, словно от скалы.
Тогда Мёге Сагаан-Тоолай порылся в его сундуке и нашел в нем стальной белый топор с острием в четверть. Но и топор даже маленькой царапины не оставил, а распался от ударов.
Испугался Мёге Сагаан-Тоолай, пошел к своему коню:
- Не могу его убить.
Конь дал совет:
- Достань аркан в шестьдесят сажен длиной, один конец крепко-накрепко привяжи за шею этого чудовища, другой - за мою шею, да так, чтобы я мог достать его и передними и задними ногами.
Мёге Сагаан-Тоолай так и сделал. Туман-Кыскыл вытащил Амырга Кара-Мооса из юрты и помчался, волоча его по густому лесу, по каменистым горам. Лишь на утренней заре конь притащил его обратно, все еще живого.
- Не мучьте меня. В подметке моих идыков есть черный нож с лезвием в четверть - только им убьете меня, - взмолилось чудовище.
Мёге Сагаан-Тоолай убил врага-захватчика тем ножом, забрал весь свой скот, юрту и откочевал вместе с Алдын-дангыной в свое стойбище на реке Ак-Хеме.
Приехали они к берегам родного Ак-Хема. Вспомнил Мёге Сагаан-Тоолай, как грозился Караты-хан расправиться с ним, тогда еще маленьким мальчиком, вспомнил о своих отце и матери, загубленных ханом, и не выдержало его сердце, - оставил он аал и помчался вперед.
Караты-хан жил на прежнем месте. Мёге Сагаан-Тоолай один раз подъехал на своем Туман-Кыскыле и с ходу сорвал дверь его дворца. Другой раз прискакал и крикнул:
- Что ты возьмешь: семь яловых кобылиц или семь скребков для выделки кож?
- Если дашь семь кобылиц, прибавится у меня скота, если дашь семь скребков, прибавится у меня добра, - ответил жадный хан, высовываясь из дворца.
Тут его Мёге Сагаан-Тоолай так ударил плетью, что голова слетела с плеч.
- Эх, поторопился я расправиться с ним! Надо было спросить последнее его желание, - сказал богатырь.
Так Мёге Сагаан-Тоолай расправился с убийцами и захватчиками.
Вскоре он вернулся в аал на Ак-Хеме и стал жить со своей женой мирно и спокойно.
Олонхо
Якутский народный эпос
Нюргун Боотур Стремительный
Вступление
Боги решили заселить Средний Мир
Заселение Среднего Мира первыми людьми
Вооружение богатыря
Поход Нюргун Боотура в страну Уота Усутаакы
Первый бой Нюргун Боотура с владыкой подземного мира
Пока чудовище Уот Усутаакы - богатырь подземного, злого царства - спал, Нюргун пошел искать плененных адьярай богатырей айыы. В железном доме абаасы Нюргун услышал жалобную песню женщины.
Нюргун узнал голос похищенной красавицы Туйаарымы-куо. Тут же он услышал и голос пропавшего без вести богатыря племени айыы Кюна Диирибинэ. Пленник успокаивает плачущую женщину, внушая ей надежду на избавление. Нюргун отыскал пленников. Кюн Диирибинэ ему рассказывает о преступлениях абаасы.
Пленник рассказывает Нюргуну о трудностях боя с Уот Усутаакы и о его необыкновенных доспехах.
Поверженный Уот Усутаакы просит Нюргуна повторить свой удар:
Герой одолел и это препятствие. Он расколол каменный столб, на котором держался свод крепостей абаасы.
Алтай-Бучай
Алтайский народный эпос
Албынжи
Хакасский народный эпос
Хулатай превращается в камень
Сестра оживляет Хулатая
Хан-Мерген
Встреча Хан-Мергена с Юзут-Арх
Встреча Хулатая с Юзут-Арх
Первая битва с Юзут-Арх
Хитрость Хан-Мергена
Битва с Кир-Палых
Месть
Смерть Килин-Арх
Вторая битва с Юзут-Арх
Победа
Примечания
Былины
Слово "былина" как термин, обозначающий народные песни с определенным содержанием, повествующие о том, что когда-то было, в реальность которого верили, и специфической художественной формой, вошло в научный оборот благодаря трудам И. П. Сахарова в 40-е годы XIX века.
В предисловии к двухтомной антологии "Былины" ("Былины". М., Государственное издательство художественной литературы, 1958.) В. Я. Пропп и Б. Н. Путилов обстоятельно осветили главные вехи публикаций текстов былин, начавшихся с выходом в свет в 1804 году знаменитого сборника под названием "Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым". Первые крупнейшие собиратели былин - П. В. Киреевский (1808- 1856) и П. Н. Рыбников (1831-1885), положившие основу громадной и сложной работы по записыванию текстов многочисленных сюжетов замечательного самобытного народного повествования, распространенного во всех уголках России.
Появление в 1861-1867 годах четырехтомной публикации народных текстов под названием "Песни, собранные П. Н. Рыбниковым" явилось большим событием в общественной и литературной жизни. С тех пор собирание и публикация текстов народных повествований, получивших название "Былины", пользовались горячим вниманием научной и литературной общественности России. Через десять лет после появления сборника П. Н. Рыбникова была предпринята экспедиция известного ученого-слависта А. Ф. Гильфердинга, собравшего за два месяца более трехсот текстов, изданных затем под названием "Онежские былины, записанные летом 1871 года". В 1901 году А. В. Марков, собравший былины в районах восточного берега Белого моря, выпустил новый сборник - "Беломорские былины". Но самая крупная экспедиция по сбору текстов былин была предпринята летом 1899 года А. Д. Григорьевым по совершенно бездорожным таежным районам Севера. За три года работы в чрезвычайно трудных условиях А. Д. Григорьев собрал четыреста двадцать четыре текста былин, которые были опубликованы в трех томах под названием "Архангельские былины и исторические песни, собранные в 1899-1901 гг. ".
Собирание текстов былин проводилось не только на Севере, но и в Сибири, на Урале, в Поволжье, на Дону, на Тереке, у астраханских, уральских и оренбургских казаков.
Среди активных собирателей и исследователей русских былин известны имена А. А. Шахматова, В. Ф. Миллера, Н. С. Тихонравова, А. М. Листопадова, Ф. С. Панкратова и др.
Таким образом, трудами русских ученых было спасено от забвения одно из величайших достояний русской национальной культуры.
В советское время собирание и публикация текстов былин становится предметом заботы государственных и общественных организаций. Наиболее важным шагом в этом направлении явилась экспедиция братьев Б. М. и Ю. М. Соколовых, снаряженная в 1926-1928 годах Государственной Академией художественных наук под лозунгом "По следам Рыбникова и Гильфердинга". В 1931-1933 годах работа по собиранию текстов велась под руководством А. М. Астаховой сотрудниками фольклорной комиссии Института этнографии Академии наук в Ленинграде совместно с Карельским научно-исследовательским институтом в Петрозаводске. Материалы этой экспедиции опубликованы под заглавием "Былины Севера". В 1938-1939 годах Карело-финский научно-исследовательский институт культуры направил экспедицию по сбору текстов былин в Ладожский район. Материалы этой экспедиции были опубликованы Г. Н. Париловой и А. Д. Соймоновым в сборнике "Былины Пудожского края".
В последние годы был также организован ряд других экспедиций ученых для изучения былинного жанра, как, например, экспедиция на Печору (Институт русской литературы Академии наук СССР), в Прионежье (Московский государственный университет), на побережье Белого моря (Карельский филиал Академии наук СССР) и др.
В советское время было опубликовано большое количество монографических исследований крупных фольклористов - В. И. Чичерова, А. М. Астаховой, В. Я. Проппа, Б. Н. Путилова, Н. И. Кравцова, П. Д. Ухова и др.
Текст былины "Святогор и тяга земная" печатается по публикации В. И. Чичерова - "Героические былины", М. -Л., Детгиз, 1954, тексты остальных былин печатаются по изданию: "Былины", Л., "Советский писатель", 1954.
Урал-батыр
Эпос "Урал-батыр" был записан в 1910 году известным башкирским собирателем фольклора М. Бурангуловым (1888-1966) от народного сказителя-сэсэна Габита из аула Индрис и в ауле Малый Иткул от сэсэна Хамита.
На русском языке в переводе И. Кычакова, А. Мирбадалевой, А. Хакимова "Урал-батыр" публикуется впервые.
Айхылу - букв.: "лунная красавица". Имя девушки, которая, по преданию, считалась дочерью Луны.
Батман - старинная мера веса, колебавшаяся в различных странах Востока от пяти до ста тридцати одного килограмма.
Джинн - фантастическое существо огромных размеров, способное принимать вид человека и разных зверей.
Див (дэв) - враждебное людям существо; может летать, обладает большой физической, а иногда и колдовской силой.
Егет (игид) - джигит, молодец.
Етиген - созвездие Большой Медведицы.
Иремель - горный массив Южного Урала в северо-восточной части Башкирии.
Катила - букв.: "палач"; здесь - имя падишаха.
Каф-тау - мифическая гора, за которой живут чудовища.
Кушул - крыса.
Кыркты. - Так в эпосе называется ущелье; в действительности - гора, расположенная на территории Башкирии.
Сынчи - человек, отгадывающий чужие мысли; прорицатель.
Тенгри - небожитель.
Туй (той) - пир, свадьба, празднество.
Туре (тюря) - господин, человек высокого происхождения.
Фарман (фирман) - указ.
Хаба - кожаный мешок для хранения кумыса.
Хумай - сказочная птица; у башкир - птица счастья.
Шульген - озеро в Бурзянском районе Башкирии; в сказании - имя старшего брата Урала.
Яман-тау - букв.: "плохая гора", горный массив Южного Урала.
Гэсэр
О существовании "Гэсэриады" - сказания о герое по имени Гэсэр, стало известно еще в 1722 году. С тех пор были найдены и записаны многие версии этой эпопеи в Монголии, Тибете и Бурятии. Однако долгое время считалось, что у бурят не было своего эпоса, а бурятские улигеры (повествовательные песни) о Гэсэре - плод заимствования. Между тем лишь имена героев и некоторые мифологические сюжеты в бурятском эпосе имеют внешнее сходство с монгольской или тибетской версией. Бурятские сказания бытуют в стихотворной форме и этим отличаются от прозаических монгольских. Это стало очевидным еще в 1893 году, когда Г. Н. Потаниным (См.: Г.Н. Потанин. Тангутско-Тибетская окраина Китая и центральная Монголия, т. II. СПб., 1893.) был опубликован "Абай Гэсэр богдо хан" в пересказе бурятского этнографа-фольклориста М. Н. Хангалова, записавшего со слов своего отца и сказителя Н. Тушемилова стихотворный вариант этого эпоса.
Затем в 1930 году Академией наук СССР, в серии "Произведения народной словесности бурят", были опубликованы записи известного собирателя фольклора И. Ж. Жамцарано под заглавиями: "Абай Гэсэр хубуун", "Ха Ошир хубуун" и "Хурин Алтай".
В последующие годы продолжалась интенсивная работа по собиранию бурятских улигеров о Гэсэре. В настоящее время в рукописном фонде Бурятского научно-исследовательского института хранится около двухсот записей национального эпоса, собранных в различных уголках Бурятии.
Несмотря на монголо-тибетско-бурятскую общность мифологической основы "Гэсэриады", общность сюжетов сказаний о высоком синем тэнгрии (небе), о матушке-земле Ульген, о небожителях Хормусте, Атай-Улане, о владыке подземного мира Эрлык-хане, о черном мангусе Лобсоголдое, Асури мангадхае и т. д. - бурятский эпос замечателен оригинальным идейно-художественным содержанием, в котором мотивы благородных деяний героя во имя людей занимают доминирующее положение.
В бурятской версии "Гэсэриады" сохранились древнейшие пласты национальной народной повествовательной поэзии о борьбе героев с мифическими чудовищами.
Весьма примечателен демократический характер сказаний. Решив извлечь людей земли из тысячи бед, добрый небожитель Хормуст поручает эту миссию своему сыну Гэсэру. Но для этого небожитель должен родиться на земле. Заступник рода человеческого, спустившийся по заданию доброго небожителя (а по монгольской "Гэсэриаде" герой спускается по велению буддийского божества), родится вторично у труженика-бедняка, и сам должен проложить себе дорогу к благородным подвигам.
В бурятской "Гэсэриаде" герой - охотник, зверолов, скотовод - выделяется среди своих родичей исполинской силой, самоотверженной храбростью. Первая часть эпоса посвящена рассказам о рождении героя, его детстве, юношеских подвигах, женитьбе. Затем следует серия повествований о его героических деяниях и драматических приключениях в сражениях с темными силами. Последовательность улигеров и их количество меняется в интерпретациях различных народных певцов, но неизменной остается идейная направленность содержания и художественный стиль повествования.
После победы Октябрьской революции началось объединение разрозненных бурятских племен в единый народ, приведшее к образованию Бурятской советской социалистической республики. В связи с этим возникла необходимость создания единого варианта эпоса. Эту задачу выполнил бурятский писатель, исследователь национального фольклора Намжил Балдано. Он составил сводный вариант эпического сказания, полностью сохранив содержание, поэтическую форму, стиль народных улигеров. Этот вариант получил одобрение знатоков эпоса и быстро завоевал широкую популярность на всей обширной территории Бурятии.
Девятая ветвь эпоса по сводному варианту Н. Балдано в переводе С. Липкина, печатается по изданию: "Гэсэр", М., "Художественная литература", 1973.
Надо нам через лук посмотреть... - Здесь и дальше речь идет о старинных способах определения численности войска.
Айран - кислое молоко (типа кефира).
Алма-Мэрген - морская царевна, воительница, одна из жен Гэсэра.
Арза (хорза) - водка, перегнанная из кумыса или коровьего молока.
Нойон - князь.
Сэнгэлен - отец Гэсэра.
Урмай-Гохон - одна из жен Гэсэра.
Шарайдай - другое наименование трех шарагольских ханов, властителей Желтой реки.
Нарты
У народов Кавказа с древнейших времен сохранились широко популярные устные сказания о легендарном обществе далеких предков, именуемых в этих сказаниях нартами.
Первые упоминания о нартах как о героях народных сказаний мы находим в этнографических изданиях Российской Академии наук 40-х годов прошлого столетия. В середине XIX века появились фрагментарные публикации отдельных вариантов эпоса. А в 80-х годах в трудах академика В. Ф. Миллера были сделаны первые попытки научного осмысления исторического факта существования нартских сказаний. И вот уже более столетия длится записывание и собирание текстов эпоса.
Раньше всех работа по изучению нартского эпоса развернулась в Осетии, и уже в 20-е годы XX века осетинский вариант эпоса был опубликован с наибольшей полнотой, в то время как другие национальные версии эпоса были известны в меньшей степени.
Разумеется, исследовательская работа по изучению этого памятника сначала опиралась главным образом на осетинский материал. И, может быть, этим объясняется тот факт, что вплоть до 50-х годов генезис нартского эпоса связывался по преимуществу с историей осетин. Считалось, что он "проник" на Кавказ вместе с приходом туда аланских предков осетин. Появление доказательств о широком бытовании нартского эпоса также и у других народов Кавказа (многочисленные записи на адыгских и абхазском языках, на языке карачаевцев и балкарцев, чеченцев и ингушей) воспринималось как факт культурного заимствования, и не более.
Но уже в середине 50-х годов в советской науке был провозглашен тезис о нартских сказаниях как о едином общекавказском памятнике древней эпической поэзии. Стало очевидным, что исторические корни, объединяющие нартские сказания всех национальных версий, надо искать в основных факторах кавказской общности, таких, как: генетическое родство народов Кавказа; роль единого кавказского субстрата; сходные условия материального общественного существования и тесное духовное общение между этими народами в течение длительного исторического времени.
Нартский эпос состоит из отдельных рассказов о различных событиях из жизни тех или иных героев. Многочисленные сказы группируются вокруг имен основных персонажей эпоса, образуя, таким образом, своеобразные циклы. В каждой национальной версии эпоса те или иные циклы занимают сравнительно большее или меньшее место. Так, например, в адыгской версии цикл сказов о младшем нарте Сосруко занимает более обширное место, в абхазском - значительным является цикл о Сатаней. Также по-разному звучат и имена героев, как, например, Сосруко - Сослан - Созруко - Сосрыква, или: Ашамез - Ацамаз, Батрадз - Батрез и т. д. Но есть и разная трактовка образа одних и тех же героев. К примеру, Сатаней в абхазской версии овеяна романтикой, она - полубогиня, всеми почитаемая мать нартов, женщина, олицетворяющая неотразимый ум, красоту и неувядаемую молодость.
В осетинском варианте Сатаней во многом уже лишена божественных и романтических черт, она - жена родоначальника нартского племени Урызмага с подчеркнуто земными атрибутами.
Основные герои эпоса являются сквозными, они присутствуют в той или иной форме во всех национальных версиях. Но имеются герои, присущие только одной версии, например, Бадыноко в адыгской версии, в балкаро-карачаевской - Шауай, у осетин Уархаг и т. д.
Однако своеобразие национальных вариаций не нарушает черт общности идейно-художественного содержания нартских циклов сказаний как эпоса народов Кавказа. Сущность нартских сказаний как древнего памятника духовной культуры народов Кавказа, берущего свое начало с далеких времен до нашей эры, - в одинаковой степени выявляется во всех версиях. Они объединены не только жизненным материалом (воспоминания о предках), составляющим основу сюжетики сказаний, но также и своеобразием их художественного стиля.
Осетинские сказания о нартах
Осетинские сказания о нартах в переводе Р. А. Ивнева печатаются по изданию: "Нарты, эпос осетинского народа". - "Литературные памятники". М., Изд-во АН СССР, 1957.
Аминон - привратник царства мертвых.
Арчи - горская обувь из сыромятной кожи, которую носили бедняки.
Афсати - покровитель диких зверей.
Барастыр - владыка загробного мира.
Бардуаг - ангел, святой.
Гумиры - Так называются в эпосе великаны, которые будто бы населяли землю до нартов.
Далимоны - по древним верованиям осетин, злые существа, живущие под землей.
Дауаги - небожители, покровители животного и растительного мира, гор, морей, рек.
Донбетры - обитатели водного царства.
По преданию, нарты произошли от дочери владыки донбетров - Дзерассы.
Зэды - небожители, ангелы.
Кувд (или куывд) - пир, пиршество, сопровождаемое песнями и танцами.
Курдалагон - небесный кузнец, который помогает нартам в их борьбе с врагами.
Ныхас - место народных собраний, букв.: "беседа".
Ронг - любимый напиток нартов, приготовляемый из меда.
Сайнаг-алдар - убийца нартского героя Батрадза.
Сатана - главная героиня эпоса, мать нартов.
Сырдон - один из главных героев эпоса.
Таск - корзина, плетенная из прутьев.
Терк-турк - название неизвестного, вероятно, несуществовавшего народа.
Тутыр - покровитель волков.
Уазай - местность в Дигорском ущелье в Северной Осетии.
Уастырджи - покровитель мужчин, воинов, а также всех путников.
Урызмаг - один из главных героев осетинского нартского эпоса.
Фандыр - старейший осетинский смычковый музыкальный инструмент.
Адыгские (кабардинские, адыгейские, черкесские) сказания о нартах
Адыгские сказания о нартах в переводе С. Липкина печатаются по изданию: "Нарты. Кабардинский эпос". М., Гослитиздат, 1951,
Абра-камень - большой (главный) камень.
Альп - богатырский конь.
Псыж - кабардинское (адыгское) название Кубани.
Сано - напиток нартов; название источника "нарзан"
происходит от словосочетания "нарт-сано".
Тхамада - отец богов, глава охоты, пиров.
Чинты - сказочное иноземное племя, враждовавшее с нартами.
Балкаро-карачаевские сказания о нартах
Балкаро-карачаевские сказания о нартах в русском переводе С. Липкина печатаются по изданию: "Дебет Златоликий и его друзья". Нальчик, 1973.
Алмосту (алмасту) - мифическое существо, чудовище в образе уродливой женщины.
Гарджын - кукурузная или ячменная лепешка.
Джелмауз - дракон; существует легенда о том,
что это чудовище проглатывает луну, потому происходит затмение.
Кош - пастушья хижина, стоянка. Уздень - свободный крестьянин.
Эмегены - одноглазые человекоподобные чудовища, циклопы.
Абхазские сказания о нартах
Абхазские сказания о нартах в переводе С. Липкина и Г. Гулиа печатаются по книге: "Приключения нарта Сасрыквы и его девяноста девяти братьев". М., ГИХЛ, 1962.
Апсны - Абхазия.
Апсуа - самоназвание абхазов.
Апхярца - абхазский национальный инструмент.
Ахахаира-гушадза - непереводимый припев.
Газыри - деревянные гильзы с порохом, пулей и пыжом;
помещались на черкеске, по девять штук на каждой стороне груди.
В данное время служат только украшением.
Елхвызы - название эпического нартского рода.
Кубика - абхазское название реки Кубани.
Хайт - возглас, выражающий как восторг, так и негодование.
Чоу. - Так абхазы понукают коней.
Джангар
Калмыцкий народный эпос "Джангар" занимает особое место среди древних памятников устной поэзии народов Советского Союза. Оригинальные черты этого произведения связаны с историческим своеобразием формирования и развития общественной жизни создавшего его народа.
Предки калмыков происходят от монгольских племен, кочевавших в северной и северо-западной частях Китая, именовавшихся тогда Джунгарией (Джунгария - от монгольского слова «Зюн-гар», что значит «Левая сторона».). В середине XIV века, когда распалась некогда могущественная Монгольская империя, три монгольских племени - чорос, хошут и торгут образовали союз, известный под названием Ойратский (Ойрат - монгольское слово, означает «союз», «союзник», «ближний».). Позже к ойратам присоединилось еще одно монгольское племя - дербетов, а союз этих племен стал называться "Дербен-Ойрат", то есть четырехсоюзный.
В 40-х годах XV столетия на исторической карте появилось мощное ойратское кочевое государство. В конце XVI века, в период расцвета сил ойратов, началось их движение в поисках новых пастбищ и новых мест поселения. Одна часть ойратов двинулась на юг - в сторону Тянь-Шаня, вплоть до Тибетского нагорья, другая часть шла в направлении Алтая, а третья часть - торгуты и дербеты - направилась на северо-запад, к просторам Сибири и Зауралья. Достигнув берегов Волги, торгуты и дербеты в 1607 году попросили подданство у русского царя. Ойраты, пришедшие в Россию, стали называться калмыками (Слово "калмык, по мнению некоторых исследователей, происходит от тюркского "халимак", что означает "отпавший", "отделившийся".). Огромное степное пространство между Доном, Волгой и Каспием стало родиной калмыцкого народа. Вместе с ойратскими племенами в российские степи пришли народные песни, сложившиеся у походных костров воинствующих и свободолюбивых кочевников.
В этих песнях, составляющих единый цикл под названием "Джангариада", воспеты сказочная страна Бумба и ее защитники - славные богатыри Джангар, Хонгор, Савар, Санал, Алтан Цеджи и другие герои.
Первые сведения о распространении "Джангариады" за пределами Калмыкии появились в начале XIX века. В 1804 и 1805 годах в Риге было опубликовано на немецком языке изложение содержания двух песен о Джангре. Затем в 1854 году известным русским монголистом А. А. Бобровниковым был опубликован перевод еще одной (торгутской) песни в виде отдельной сказки. В 1864 году профессор К. Голстунский издал текст двух песен на языке оригинала. В 1910 году в Петербурге при содействии профессора В. Л. Котвича Н. Очировым было подготовлено издание десяти песен "Джангра", записанных Со слов знаменитого джангарчи Ээляна Овла.
Песни "Джангариады" служили ценнейшим материалом для научных изысканий в области монголистики, лингвистики, этнографии.
Текст одиннадцатой песни "О поражении свирепого хана шулмусов Шара Гюргю", в переводе С. Липкина, публикуется по изданию: "Джангар". М., Гослитиздат, 1958.
Редкою гривой, чтоб удержаться вверху... - То есть не имел никакой поддержки (калмыцкая поговорка).
Все остальные желтые богатыри. - В эпосе богатыри именуются желтыми, так как они являются последователями
религиозного реформатора Зунквы - основателя секты "желтошапочникрв" (ламаистов).
Слово "желтый" нередко употребляется в смысле "священный".
И звался Нармой. - Отец ханши Шавдал - Ном Тенгис - прозывается и Зандан-ханом ("Сандаловым ханом")
и Гюши-Замба - "Учителем мира".
Трех избежим чудовищ, трех страшных бед. - Имеются в виду: вихрь, степной пожар, наводнение.
Арака - водка, приготовленная из коровьего или кобыльего заквашенного молока.
Аранзал - легендарный богатырский конь; конь Джангра.
Араши (от санскр. "риши")- отшельник. В переносном смысле - келья.
Бадма - лотос.
Балабан - особая порода сокола, используемая для травли зайцев.
Богдо - священный хан; титул.
Бумба - наименование страны, океана, горы. Бумбой называется также вершина купола.
Очевидно, и страна называется Бумбой, так как она является вершиной человеческих желаний.
Бумбулва - ханская ставка, дворец.
Бурхан - букв.: "праведник". Человек, достигший совершенства и ставший богом.
Бэря - калмыцкая мера длины, равная семя верстам.
Гандиг-Алтай - Волшебный Алтай.
Дарга - управляющий хозяйством, дворецкий.
Джангар. - Профессор Б. Я. Владимирцов считал, что слово "джангар" произошло
от персидского "джехангир" - "властитель мира".
Дунгчи - глашатай, от слова "дунг" - "раковина". Дунг употребляется как духовой инструмент при богослужении.
Зу - калмыцкое наименование Лхассы, столицы Тибета. Этим же именем обозначаются и лхасские храмы и реки Тибета.
Страна Желтой Зу - Тибет.
Зункава (Зонкава, Дзонква) - основатель ламаизма, известный реформатор тибетского буддизма (1365-1417).
Йах! - Восклицание, соответствующее русскому "ой!".
Йорел - благопожелание, высказываемое по различному поводу. Особая форма калмыцкого фольклора.
Катаур - верхняя подпруга.
Кулан - дикий осел.
Лаври - род шелковой материи.
Лама - настоятель монастыря.
Майдер - по-санскритски Майтрейя - одно из перевоплощений Будды.
Майдер должен прийти в мир и проповедовать буддизм, когда угаснет учение Будды-Сакьямуни.
Мангас (мангус) - антропоморфное существо, пожирающее людей. Принадлежит к добуддийскому, шаманскому пантеону.
В отдельных песнях "Джангариады", возникших в древности, богатыри боролись с мангасами,
но впоследствии, когда "Джангариада" оформилась как единая эпопея (середина XV века),
под мангасами стали подразумеваться многочисленные враги калмыков (ойратов).
Очир - скипетр.
Очир-Вани - имя одного из ламаистских божеств.
Рагни (арагни) - ангел; девушка.
Сай - миллион (китайское слово, вошедшее в калмыцкий язык).
Сумеру - мифическая гора, находящаяся, согласно буддийской космогонии, в центре мира.
Тамга - клеймо.
Тебеньки - кожаные лопасти по бокам седла.
Терлек - женское платье, капот, халат.
Тюмен - десять тысяч.
Улус - в древности удел князя.
Хангай - горный хребет в северо-западной Монголии.
Хурул - буддийский монастырь.
Цаган-Сара ("белый месяц") - праздник наступления весны.
Цагараки - деревянные прутья, поддерживающие войлок кибитки.
Чакан - сочное болотное растение.
Чиндамани - талисманы, исполняющие все человеческие желания.
По ламаистским представлениям, в мире имеются три чиндамани.
Чумбур - повод уздечки.
Шаргули - три хана Шаргули - владетели Желтой реки (Шар-Гол), Очевидно, имеется в виду Хуанхе.
Шастры - песни исторического содержания.
Шебенеры - крепостные монастырей.
Шивырлыки - чехлы, надеваемые замужними калмычками на косы.
Шовшур - трехлетний боров. Это животное у калмыков считалось символом силы.
Шулмусы - нечистая сила, дьяволы.
Карельские руны
Эпические произведения древней народной поэзии Карелии известны под названием "руны". Это повествовательные песни о далеких временах мира и первых героях-созидателях.
Слагатели рун жили в дремучих лесах, под суровым, холодным небом, среди множества северных рек и озер, занимались охотой, рыболовством, выкорчевывали лес, чтобы пахать землю, изобретая свои нехитрые орудия труда и охоты.
В то время, когда в мире бушевали кровавые распри между племенами и государствами, в этих далеких лесах люди еще не знали классового разделения общества. В карельских рунах мы не встретим королей и ханов или иных властителей, не встретим также национальной или религиозной розни. Руны возникли в иной исторической атмосфере. Люди, создавшие эти песни, жили в патриархально-родовых общинах, имели первобытно-архаические представления о мироздании.
Создатели карельских рун - это простые труженики, вступавшие в ежедневный бой с тайгой, с холодными волнами северных горных рек и озер, с буранами, и т. д. Вот почему в этих эпических произведениях удивительно отчетливо выражена идеология человека-созидателя, человека - единоборца с суровыми силами природы.
Главный герой поэтического повествования в карельских рунах - старый песнопевец Вяйнямёйнен - он и пахарь, и охотник, и умелец-мастеровой, и храбрый богатырь. Предмет восторга и прославления в рунах не воинская доблесть и не богатая добыча, а труд и сила человеческой мысли, выраженная в слове. Ради такого единого слова, разрешающего трудную задачу постройки нового корабля, в поисках новых знаний, Вяйнямёйнен бесстрашно спускается в преисподнюю, к усопшему исполину Антеро Випунену и, преодолевая смертельные препятствия и опасности, возвращается с победой.
В карельских рунах нет религиозного культа или почитания магических церемоний. Традиционный в архаических народных сказаниях антропоморфизм - очеловечивание природы - в карельских рунах связан с таинственностью и необъяснимостью для первобытного патриархального человека явлений природы. Но образы языческих верований - духа хозяина лесов (Тапио), хозяйки воды (Велламо), владыки волн (Ахто) и владыки облаков (Укко) не занимают место активно действующих божеств. И не случайно герои повествования стараются повлиять на поведение духов заклинаниями, призывами, а нередко и угрозами.
Противоборствующие силы в карельских рунах представлены в образе солнечной Калевалы, где чтут труд и песнопение, и мрачной, холодной Похьолы - обиталища лютых извергов и колдунов.
Хозяйка Похьолы, злая ведьма Лоухи, хитростью и коварством завладела чудесной мельницей Сампо - творением калевальского кузнеца Илмаринена. Вспыхнула война. В ходе страшной битвы Сампо разбилась и упала в море. Но калевальцы не пали духом, собранные на берегу моря осколки чудесной машины продолжали служить людям труда и приносили им жизненные блага.
Труд является неиссякаемым источником непобедимости героев карельских рун. Но есть еще одно неотразимое оружие у калевальцев - это песня. Люди Калевалы Самозабвенно преклоняются не только перед знаниями мастерового, но и перед искусством певца. Культ песни в карельских рунах не имеет себе равного. Песня Вяйнямёйнена обладает неодолимой магической силой. Силой песни он погружает противника в болото, останавливает войска злобной ведьмы Лоухи и т. д.
Исключительное поэтическое обаяние карельских рун обеспечило им не только неугасимую популярность в народе, но и вековое долголетие. Академик О. Куусинен пишет (См. кн. "Калевала". Петрозаводск, 1970.), что в XIX веке только в северной части России было собрано почти пять тысяч вариантов рун, записанных от семисот народных певцов.
Заслуга открытия карельских рун принадлежит Элиасу Ленроту, издавшему в 40-х годах композицию этих эпических песен, ставшую всемирно известной под названием карело-финского эпоса "Калевала".
Опираясь на результаты сбора и изучения карельских рун, после выхода в свет композиции Э. Ленрота, академик О. Куусинен спустя более ста лет создал новый вариант композиции "Калевалы", который устраняет неизбежные упущения предыдущего варианта.
Четыре руны, вошедшие в композицию и Э. Ленрота и О. Куусинена, в переводах А. Хурмеваара, И. Лайне и А. Титова, печатаются по изданию: "Калевала". Петрозаводск, 1970.
Мёге Баян-Тоолай
Тувинцы - жители предгорий Саян, Танну-Ола и окруженных этими горными хребтами степных просторов, в течение многих веков были подданными сначала монгольских, затем маньчжуро-китайских феодалов.
Завоевательные набеги, междоусобные разорительные войны, ханско-феодальная эксплуатация, территориальная изолированность - все это долгое время сковывало и на столетия задерживало развитие духовных и материальных сил тувинского народа.
Для бесписьменного тувинского народа устная поэзия являлась единственным средством выражения своего духовного опыта и мироощущения. Особенно большой популярностью пользовались в народе многочисленные устные эпические сказания о благородных подвигах древних богатырей.
Заслуга первооткрывателя сокровищ тувинской народной поэзии принадлежит известному сибирскому ученому-писателю Л. В. Гребневу, переводившему на русский язык тувинские сказания и прокомментировавшему их публикации для всесоюзного читателя.
Текст сказания о Мёге Баян-Тоолае в переводе Л. Гребнева печатается по изданию: "Сказания о богатырях. Тувинский героический эпос". Кызыл, 1960.
Ак-Тайга - Белая гора. Слово "тайга" в данном случае - высокие горы, склоны которых покрыты лесом.
Ак-Хем - Белая река.
Калчан-Сарыг - "Белолобый рыжий" (имя коня).
Караты-хан. - Возможно два толкования слова "караты": "кара-ат-тыг" - имеющий черного коня;
хан, имеющий черного коня; или (монг.) "хараты" - завистливый; завистливый хан.
Обычно в эпосе Караты-хан отрицательный персонаж.
Когержик - небольшой кожаный, с тисненым орнаментом, сосуд для араки и кумыса.
Кок Хевек-хан - "Хан - синие отруби".
Кок-Шокар - "Сивый в яблочко" (имя коня).
Мёге Баян-Тоолай. - Термин "мёге" в значении "герой", "мудрый" встречается в древнеуйгурских памятниках XI в.
Позднее, в XII-XIII вв., у монгольских племен этот термин, как отметил академик Б. Я. Владимирцов,
обозначал, наряду с некоторыми другими терминами, предводителей аристократических родов
не в качестве родовых кровных старейшин, а как наиболее сильных, смышленых, ловких, богатых.
(Б. Я. Владимирцов. Общественный строй монголов. М.-Л., 1934). В современном тувинском языке термин "мёге" - "силач".
Слово "баян" - по-тувински не переводится, в монгольском и бурятском означает "богатый", "обильный"; "тоолай" - "заяц".
Темир-мёге - "Железный силач".
Тон - общее название верхней одежды. В героических сказаниях герой надевает всегда черный шелковый халат.
Туман-Кыскыл - "Соловый" (имя коня).
Чалым-Хая - неприступная отвесная скала.
Олонхо
Нюргун Боотур Стремительный
Многочисленные древние якутские сказания о борьбе богатырей человеческого рода - айыы аймага против злых чудовищ - абаасы аймага дошли до нас под общим названием "Олонхо".
Герой олонхо, преодолевая бесчисленные препятствия и пренебрегая смертельными опасностями, разыскивает похитителей, вступая с ними в жестокий бой и одерживая трудную победу, возвращает домой жен и сестер, освобождает из плена братьев-богатырей, стоит на страже безопасности племен айыы аймага.
Олонхо "Нюргун Боотур Стремительный" было открыто русским ученым Э. К. Пекарским, опубликовавшим это сказание в своей знаменитой серии "Образцы народной литературы якутов" (ч. I, вып. I, СПб., 1907, с. 1-80). Текст этого эпоса, записанный от олонхосута К. Г. Оросина, был положен в основу научного издания сказания о "Нюргуне Боотуре", подготовленного известным якутским фольклористом Г. У. Эргисом и опубликованного в 1947 году.
В настоящее время в фонде фольклорных текстов Якутского научно-исследовательского института литературы и истории хранятся записи двенадцати вариантов этого сказания.
Повествование олонхо о Нюргуне начинается с описания дивной красоты средней страны (земли), где девяносто речек, "с гулом соединившись", "важно и шумно слившись", "прозвеневшей, как медь, изначальной матерью родиной стали", где "словно девять разъяренных жеребцов, готовых броситься в драку, девять высоких мысов гордо, приосанившись, стоят... и крупные деревья с чешуйчатой корой растут".
Но дошли до небес жалобы людей среднего мира на притеснения злых племен - абаасы. Услышав голос племени айыы - людей улусов солнца (Якуты обоготворяют солнце, его они считают родоначальником всего доброго на земле, в том числе и племени айыы аймага, которое иначе называется улус солнечный - то есть племя солнечное, происходящее от солнца.), старец Одун Дьылга Тойон сказал: "О да, это правда! Жителей земли сильно обижают верхние и средние абаасы". "Все люди и весь скот, поселенные нами в среднем серопятнистом (Эпитет «серопятнистый» употребляется в эпосе, когда речь идет о среднем мире. Земля на фоне неба и океана, вероятно, представляется якуту серопятнистой. Употребляется это слово в ласковом смысле.) мире, обречены на шаткую судьбу, наделены бедной будущностью, предопределены на неустойчивую участь...»
И велел Одун Дьылга отправить на землю родившегося у батюшки Юруиг Лаар Тойона и матушки Аарлы-хотун младшего сына - Нюргуна Боотура, судьбой предназначенного быть главой вольных богатырей могущественной страны, чтобы "защитить племена айыы и оградить улусы солнца"...
Престарелые родители с великой грустью встретили высочайшее веление, но стали готовить сына в дорогу. Они раздобыли богатырю коня, доспехи и отправили его на землю вместе с сестрой, красавицей Айталы-куо.
Спустившись на землю, брат и сестра поселились в середине цветущей долины, вели свое нехитрое хозяйство. Однажды, вернувшись с охоты, Нюргун не застал сестры дома. Сильно встревожившись, он обратился к небу с жалобой. "Дье бо (Восклицание «дье бо», часто встречающееся в эпосе, означает «ну вот». Так начинаются многие рассказы героев о случившемся.), - воскликнул он, - живущие выше девяти небес - отец наш Юрунг Лаар Тойон и матушка наша Аарлы-хотун! Я попал в бездонное несчастье, похитили у меня сестру Айталы-куо... По какому горному перевалу, с каким именем богатырь похитил мою сестрицу...»
И тут же на верхней части высшего неба раздался большой шум, и прилетел на гребне облака богатырь Кюн Диирибинэ, "выглянул из облака вниз, лицо его сияло, как солнечный диск, чело его блистало, словно полная луна, с головы до ног был одет в серебряные доспехи; глаза и брови заиграли"...
Богатырь Кюн Диирибинэ запел так: "Дье бо... Ну вот! парень, богатырь Нюргун, внимательно выслушай мои слова!"
Небесный богатырь указал Нюргуну, где и как найти похитителя девушки, - богатыря нижнего мира Тимар Ыйыста Хара. Так начинается серия боевых действий и фантастических приключений героя.
После длительной и тяжелой борьбы Нюргун победил неприятеля, утопив его в Огненном море. Отбив сестру у похитителя, Нюргун хотел было вернуться домой, но пришлось вступить в новое единоборство, защищая красавицу Кюн Туйаарыма от притязаний абаасы Тимир Дьэсиэнтэйя.
Затем он должен был вызволить из подземной темницы тридцать девять пленных богатырей среднего мира, уничтожив титана нижнего мира Уот Усутаакы. Нюргуи освободил также богатыря айыы Дюрагастая, попавшего в сети волшебника Алып-Хара. Потом герой совершил множество других подвигов, сражаясь за жизнь добрых людей среднего и солнечного мира.
Представленные здесь фрагменты из варианта Платона Ойунского содержат эпизоды столкновения Нюргуна с Уот Усутаакы.
В русском переводе В. Державина фрагменты из олонхо печатаются впервые.
Аарт-татай (ыарт-татай) - междометие, выражающее удивление, восхищение.
Абаасы - название жителей нижнего мира, извечных врагов обитателей среднего мира (то есть земли).
Часто абаасы представляются в облике уродливых чудовищ - однооких, одноруких, клыкастых и т. д.
Адьярай - то же, что и абаасы (см.).
Айыы - общее название добрых небожителей, дарующих людям блага (айыы Дьесегой - дарует людям коней,
Айыысыт - покровительница рожениц. Главный, верховный айыы - создатель вселенной Юрунг Айыы Тойон,
или Белый Создатель Батюшка, или Юрунг Аар Тойон). Эти небожители-айылары принимают участие во всех важных делах людей.
Айыы Умсур - небесная шаманка, старшая сестра богатырей Нюргуна Боотура Стремительного,
Юрунг Уолага и девицы Айталы-куо.
Алаас - поляна среди лесов.
Ала Буурай - старуха с деревянной колодкой на ногах, жена владыки нижнего мира.
Дьэс Эмэгэт - колдунья в преисподней.
Илбисы - боги войны и кровопролития, появляются чаще всего в облике злых хищных птиц.
Истукан - божество абаасы.
Муус Кудулу - похититель красавиц из среднего мира; победив в бою богатырей, запирает их в подземную темницу.
Муус Суорун - хозяин преисподней.
Нюргун Боотур Стремительный - главный герой олонхо, защитник людей от чудовищ, образец храбрости и бесстрашия.
Одежда ровдужная - одежда из оленьей или лисьей шкуры, выделанная как замша.
Пешеходно-слоистые светлые небеса - нижний край неба.
Сабыйа Баай-хотун - жена Саха Саарына, мать богатыря Кюн Дьири-бинэ и красавицы Туйаарыма-куо.
Саха Саарын-Тойон - легендарный предок якутского племени.
Тойон (тойоон) - эпитет возвышающий, возвеличивающий, применяется к старейшинам, к родителям богатырей.
В отличие от позднего применения, слово "тойон" в якутском олонхо не означает "господин" или "князь",
а скорее имеет значение слова "батюшка".
Улуу Тойон - владыка многолюдного племени, обитающего на нижних ярусах западного неба,
враждебный жителям среднего мира - племени айыы. В олонхо тойон имеет ряд различных функций:
родоначальник небесных абаасы, покровитель шаманов, покровитель ворона и лошадей черной масти и т. д.
Уот Усутаакы - титан нижнего мира, считается духом-хозяином Бездонного (или Огненного) моря.
Уранхай-Саха - эпическое племя героя олонхо, а также самоназвание древних якутов.
Это племя в олонхо также называется и "айыы аймага".
Чэчир - молодые березки, воткнутые в землю вокруг тюсюлгэ, то есть того места,
вокруг которого происходит кумысный праздник - ысыах.
Алтай-Бучай
Многочисленные эпические сказания алтайцев с давних пор привлекали внимание русских ученых и путешественников, записавших через переводчиков сюжеты ряда повествований (См.: "Живая старина", вып. III, 1896, с. 492-498; "Труды Томского общества изучения Сибири", т. III, вып. I, Томск, 1915, с. 62-81; "Записки Западно-Сибирского отдела русского географического общества", т. XXXVII, "Аносский сборник", Омск, 1915; "Живая старина", вып. II-III, 1916.). В оригинале алтайский эпос увидел свет впервые в знаменитом труде академика В. В. Радлова - "Образцы литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи", ч. I, СПб. 1866.
Однако ни одно алтайское сказание до революции в полном виде не было опубликовано. Лишь в 1935 году в издательстве "Academia" ("Алтайский эпос. Когутэй". М. -Л., 1935.) вышла в свет публикация эпоса "Когутэй". Затем алтайский народный поэт Павел Кучияк записал и опубликовал сказания "Алтай-Бучай", "Малчи-Мерген", "Алтай-Черчектер". Известный советский лингвист Н. А. Баскаков опубликовал в своем труде о языке алтайских племен тексты сказаний "Текшил-Мерген", "Бойдон-Кекшин", "Хан-Кюлер", "Эрзамыр" и "Барчин-Беке".
В 40-е и 50-е годы алтайский ученый и поэт С. С. Суразаков, возглавивший Горно-Алтайский научно-исследовательский институт истории, литературы и языка, организовал интенсивное собирание у старейших сказителей Горного Алтая текстов и мелодий многих произведений устной эпической поэзии. В настоящее время в национальном фольклорном фонде хранятся сотни записей текстов народных сказаний.
В академической серии "Эпос народов СССР" в Москве вышел в свет на двух языках (на языке оригинала и в переводе на русский язык) один из многочисленных эпических памятников алтайской народной поэзии - "Маадай-Кара".
Сюжеты алтайских эпических сказаний состоят из истории столкновений героя с различного рода чудовищами, посылаемыми царем подземного мира Эрликом на помощь врагам мирных жителей Алтая, а также с ордами иноземных захватчиков, со злыми ханами-угнетателями.
Алтай-Кижи (алтайского человека) окружает три мира: верхний мир, где обитают боги, средний мир (земля), где живут люди, нижний мир (подземное мертвое царство), где живет враг человечества, царь чудовищ, злой Эрлик. Явления природы - весна, зима, леса, луга, реки, животные и птицы - составляют вместе с героем одно целое, активно участвуя во всех его делах. Особое место в эпосе занимает богатырский конь, отличающийся не только силой и быстротой, но также и большой сообразительностью, обладающий даром предвидения, предсказания, владеющий человеческой речью, и т. д.
Сквозь сказочно-мифологическую оболочку вырисовываются рельефные картины народной жизни, с исторической достоверностью раскрывающие самобытные особенности мироощущения древнего человека на алтайской земле.
Красота и блага окружающей природы - суровой тайги, солнечных долин, рек, озер и снежных гор - являются постоянным предметом радости и восторга эпического героя.
Из всех пороков, наиболее сурово осуждаемых в алтайском эпосе, это - жадность, лживость, несдержанность и слабоволие.
Постоянный мотив сказаний - воспевание бессмертия жизни на земле. После опустошительных набегов врага земля снова оживает, из пепла возрождаются стойбища, снова появляются стада и звучат людские голоса. Символ неугасимости народной жизни представляет в алтайском эпосе священный тополь (ни одному неприятелю не удается вырвать его из земли) и серебряная коновязь (Коновязь - символ скотоводческого хозяйства. Описания ее вида (длина, которая иногда доходит до края неба) и состояния (крепость - железная, богатство - золотая пли серебряная) свидетельствуют о силе и благополучии.), которую не удается унести ни одному завоевателю.
Алтайские героические сказания пелись (и поются поныне) на диалектах различных племен (теленгитов, алтайцев, телеутов, тубаларов и кумандинцев), которые в советское время составили единый алтайский народ.
Сказание "Алтай-Бучай" занимает постоянное место в репертуаре народных сказителей всех племен Горного Алтая. Первая полная запись этого сказания была осуществлена в долине реки Сары-Кокши, в местности Сыган-Туу от старейшего сказителя Н. У. Улагашева (1861-1946). Но затем С. С. Суразаков записал исполнение эпоса на магнитофон в различных уголках края от сказителей Калкина, Бутуева, Таштамышевой и опубликовал эти тексты в единой книге (См.: С. С. Суразаков. Героическое сказание о богатыре Алтай-Буучае. Горно-Алтайск, 1961.).
Алтайцы, как и хакасы, исполняют героический эпос особым гортанным пением (Это своеобразное исполнение повествования у алтайцев имеет название - "кай", у хакасов - "хай". Исполнителей эпоса называют кайчи (хайджи).), под аккомпанемент двухструнного щипкового инструмента - топшуа.
Стих алтайских сказаний состоит из семи - девяти слогов и не имеет четкой строфической композиции. Однако в традиционных паузах кайчи отчетливо чувствуется наличие определенных речевых отрезков.
В настоящем издании впервые публикуется в сокращенном виде вариант А. Г. Калкина в русском переводе Л. Пеньковского.
Алтай-Бучай - имя героя, состоит из двух слов: "алтай" - "меткий", "бучай" - "стрелок".
Алтын-Дьюстик - имя небесной девы.
Албынжи
Сказание "Албынжи" - один из многочисленных памятников эпического жанра устной народной поэзии хакасов - записано от знаменитого хайджи (хакасского народного сказителя) - С. П. Кадышева (род. в 1885 г.) из аала Трошкин Ширинского района Хакасской автономной области Красноярского края.
С. П. Кадышев - представитель древнего рода сказителей и охотников - унаследовал от отца и сохранил в памяти более сорока героических сказаний, множество сказок и тахпахов (народных песен). Он исполняет героические сказания речитативом под аккомпанемент струн чатхана, древнего народного струнного инструмента.
Эпос "Албынжи" оригинален как по своей форме, так и по содержанию. В отличие от древних художественных памятников других тюркоязычных народов Сибири и Средней Азии, В этом эпосе нет героизации воинских походов. Наоборот, "Албынжи", как это можно видеть и в других хакасских народных сказаниях, подчеркнуто утверждает, что жажда походов свидетельствует о дурном стремлении батыра похвастаться бесполезным удальством.
В древней народной поэзии хакасов господствует идея оседлой, созидательной жизни. Если в эпосах тюркоязычных народов Средней Азии и Поволжья героя встречают словами: "Какого ты рода, кто твой отец?" - в хакасском эпосе приветственные слова гласят: "На какой земле тебя мать родила, на какой земле вы стада пасете, из какой реки воду пьете?"
Первая полная запись текста эпоса "Албынжи" была осуществлена в 1948 году сотрудниками Хакасского научно-исследовательского института Д. И. Чанковым и В. И. Доможаковым.
Текст сказания "Албынжи" в сокращенном варианте, в переводе И. С. Кычакова, печатается по изданию: "Албынжи. Хакасское героическое сказание", Новосибирск, 1951.
Шестьдесят косичек. - По обычаю хакасов, вдова носит одну косу, замужняя женщина две косы,
девушка плетет множество косичек.
Черною силой страшна луна. - У хакасов существовало предание о том, что на луне обитает семиглавый злой дьявол,
который похищает женщин и детей.
Ай-Арх - собственное имя. Букв.: "чистая луна".
Ай-Мерген - собственное имя. Букв.: "ай" - "луна", "мерген" - "меткий", "ловкий".
Алтын-Кеёк - собственное имя. Букв.: "алтын" - "золото", "кеёк - "кукушка".
Алып-Хан-Хыс - собственное имя. Букв.: "девушка-богатырь".
Ах-Молат - собственное имя. Букв.: "белая сталь".
Ах-Пуур - букв.: "белый волк" - традиционный помощник героя, нередко заменяет ему коня.
Ах-Хан - собственное имя. Букв.: "белый царь".
Кир-Палых - чудовище в образе громадной рыбы.
Мясистая пятка (по-хакасски - ит-табан) - бранное выражение.
Пёрик - шапка, шлем.
Тасхыл - высокая скалистая гора (голец).
Хан-Харасуг - название незамерзающей реки. В толковании сказителя река не замерзает потому,
что она теплая, как кровь.
Хара-Моос - собственное мужское имя, часто встречающееся как имя отрицательного героя.
Хара-Хулат - черно-саврасый конь.
Хулатай - собственное имя. Букв.: "трехгодовалый конь".
Чарых-Кеёк - собственное имя. Букв.: "чарых" - "светлая", "кеёк" - "кукушка".
Чибек-Арх - собственное имя. Букв.: "чибек" - "шелковая нитка", "арх" (арыг) - "чистая".
Юзут-Хан - собственное имя отрицательного персонажа сказания.
Букв.: "юзут" - "злой дух", "черт"; "хан" - "царь".
А. Петросян