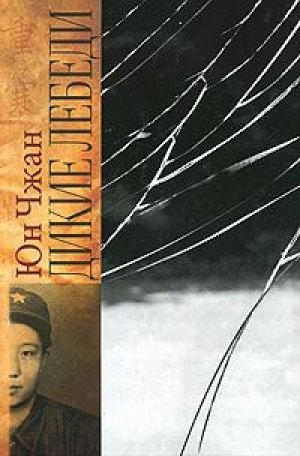
От переводчика
Перед вами одна из самых известных книг о Китае XX века. Автор с ее эпической неторопливостью рассказывает историю бабушки, матери и свою собственную: до отъезда в Великобританию в возрасте двадцати шести лет Юн Чжан (Имя автора (Jung Chang) в предшествующих российских публикациях писалось в традиционной русской транскрипции — Чжан Жун. В данном издании по просьбе автора закреплено иное написание.) успела побывать «барышней из благородной семьи», «красным охранником» — хунвэйбином, крестьянкой, «босоногим врачом», рабочей, студенткой, преподавателем английского языка и, наконец, выиграть стипендию на обучение в Англии — каждый раз она не сомневалась, что судьба ее определена на всю жизнь.
Родилась Юн Чжан в 1952 году в провинции Сычуань, самой большой, густонаселенной и до недавнего времени изолированной от остального Китая трудноодолимыми горными перевалами, — загадочной первозданной земле и «житнице Поднебесной». Но писательница знакомит нас не только со своей родиной, она ведет читателя через весь Китай — от суровых заснеженных маньчжурских степей до полудикой субтропической Юньнани.
Автору поразительным образом удалось сочетать взгляд изнутри с европейским мировосприятием. Пожалуй, именно умение, «не ведая ни жалости, ни гнева», рассказать о трагическом и прекрасном в судьбе своего древнего народа и принесло Юн Чжан огромную популярность на Западе, восторженные отзывы критиков и несколько крупнейших литературных премий, включая «Британскую книгу года».
Беспристрастность и честность, видимо, действуют всего сильнее — недаром книга до сих пор запрещена к публикации в Китае, где вышли в свет гораздо более политизированные произведения, обличающие темные стороны послереволюционной китайской истории.
Многое изменилось в его истории за пять тысяч лет (столько насчитывают сами китайцы), но и сегодня здесь на каждом шагу можно наблюдать сцены, описанные не только Юн Чжан, но и за столетия до нее. Читая эту книгу, вспоминаешь и внешнюю невозмутимость «Исторических записок» Сыма Цяня, и не утратившую своей справедливости сентенцию из великого романа «Троецарствие» («Судьба Поднебесной такова: когда она долго разъединена, то объединяется, а когда объединена — разъединяется»), и древний образ дикого лебедя — символ вести с далекой родины.
Роман Шапиро
Благодарности
Писать «Диких лебедей» мне помогал Джон Холлидей. Прежде всего, он помог мне написать их по–английски. Он каждый день обсуждал со мной будущую книгу, ее сюжет, призывал яснее излагать те или иные мысли, подсказывал более точные английские выражения. Я полагалась на его эрудицию, дотошность и логику историка.
Тоби Иди — идеальный литературный агент. Он — один из тех, благодаря кому я решилась взяться за перо.
Я горжусь, что работала с такими профессионалами, как Элис Мэйхью, Чарльз Хэйворд, Джек МакКьюн и Виктория Мейер из нью–йоркского издательства «Саймон энд Шустер» и Саймон Кинг, Кэрол О'Брайен и Хелен Эллис из лондонского «ХарперКоллинз». Особенно я признательна Элис Мэйхью, моему редактору в «Саймон энд Шустер», за вдумчивые замечания и удивительную энергию. Я многим обязана Роберту Лейси из «ХарперКоллинз», он прекрасно поработал над рукописью. Ари Хугенбум очень помог мне своими звонками из–за океана. Спасибо всем, кто работал над этой книгой.
Меня всегда поддерживали интерес и увлеченность друзей. Я чрезвычайно благодарна им всем, и прежде всего Питеру Уайтэйкеру, И Фу Энь, Эмме Теннант, Гэвану МакКормаку, Герберту Биксу, Р. Дж. Тидеманну, Хью Бейкеру, Янь Цзяци, Су Лицюнь, Й. X. Чжао, Майклу Фу, Джону Чоу, Клер Пеплоу, Андре Дейчу, Питеру Симпкину, Рону Саркару и Ванессе Грин. Клайв Линдли с самого начала работы давал мне ценнейшие советы.
Братья и сестра, родственники и друзья, живущие в Китае, разрешили мне поведать миру их истории, без их согласия книга не вышла бы в свет. Я безмерно им благодарна.
Во многом «Дикие лебеди» — это история моей матери. Надеюсь, я рассказала ее правдиво.
Юн Чжан
Предисловие автора к изданию 2003 года
«Дикие лебеди» вышли в свет в 1991 году. Это событие изменило мою жизнь: я стала писателем.
Об этом я мечтала всегда. Но когда жила в Китае, я и помыслить не могла о том, чтобы писать и публиковаться. В те годы страной управлял Мао, и во время его бесчисленных политических кампаний почти все писатели подверглись гонениям. Одних ошельмовали, других сослали в лагеря, третьих довели до самоубийства. В 1966–м и 1967–м, во времена устроенной Мао Великой чистки (ошибочно названной «культурной революцией»), большинство книг, которые хранились у людей в домашних библиотеках, предали огню. Моего отца, партийного работника, репрессированного как контрреволюционера, заставили сжечь личную библиотеку, что, среди прочего, стало причиной его безумия. Даже «в стол» писать было чрезвычайно опасно. Мне пришлось разорвать и спустить в унитаз свое первое стихотворение, сочиненное в день шестнадцатилетия, 25 марта 1968 года, — в доме шел обыск.
Но потребность писать продолжала жить во мне, и я делала это воображаемым пером. Несколько лет я занималась крестьянским трудом, потом работала электриком. Разбрасывая навоз на рисовых полях или взбираясь на электрические столбы, я мысленно шлифовала длинные фразы текста или старалась запомнить стихотворные строки.
В сентябре 1978 года я приехала в Великобританию. Мао умер двумя годами раньше, и Китай начал выходить из навязанной ему удушливой изоляции. Впервые со дня основания коммунистического Китая стипендии для обучения за границей распределялись по академическим, а не по политическим соображениям. Сдав экзамены, я смогла выехать из страны и после 1949 года стала, возможно, первой поехавшей учиться на Запад жительницей запертой горами и реками провинции Сычуань, население которой составляло тогда около девяноста миллионов человек. Это была невероятная удача, и я обрела свободу писать все, что душе угодно.
Однако именно тогда желание браться за перо исчезло. Писать мне хотелось меньше всего. Ведь для этого требовалось заглянуть в себя и вернуться мысленно в то время, воспоминание о котором приводило меня в содрогание. Я старалась забыть Китай. Я словно попала на другую планету и была так очарована увиденным, что стремилась ежеминутно отдаваться новым ощущениям.
Все в Лондоне восхищало меня. Мое первое письмо к маме было полно сентиментальных восторгов по поводу палисадников и ящиков с цветами на Мэйда–вейл, 42, где нас поселили — в одном из домов, принадлежавших китайскому посольству. Тогда в жилища моих соотечественников еще не вернулись цветы. В 1964 году Мао заклеймил любовь к цветам и газонам как «феодальную и буржуазную привычку» и отдал распоряжение «избавиться от садовников». В детстве мне вместе с другими учениками не раз приходилось выпалывать траву на школьных лужайках и с грустью замечать, что с подоконников исчезают цветочные горшки. В ту пору я не только старалась как можно лучше скрывать свои чувства, но и корила себя за то, что испытываю их — в результате промывания мозгов дети в Китае вечно мучились угрызениями совести. Хотя ко времени моего отъезда из страны разводить цветы уже не возбранялось, Китай по–прежнему являл собой безрадостное зрелище: зелень в домах практически вывелась, исчезли и торговцы цветами; почти все парки превратились в уродливые пустыри.
В свой первый день в Лондоне — как только меня отпустили на волю — я отправилась гулять под величественными каштанами Гайд–парка и радовалась как безумная каждой травинке, каждому цветку. Однажды, рискуя схлопотать строгий выговор, а может, что и похуже, я предложила политическому руководителю нашей группы перенести субботние занятия — так называемую «политинформацию» — на лужайки знаменитого ботанического сада Кью–гарденз.
Посещение еженедельных политсобраний, навевавших на меня смертельную скуку, все еще считалось обязательным, да и вообще мы, жители континентального Китая, находились в Лондоне, можно сказать, под тюремным надзором: покидать здание по одному и без особого разрешения строго запрещалось. Неповиновение могло стоить позорной высылки на родину и привести к полному жизненному краху. Но манящая лондонская свобода была столь отлична от душного застенка, в котором мы жили! И я только и делала, что придумывала, как добиться послабления правил. Иногда мне это удавалось: так, мы и в самом деле отправились в Кью–гарденз, ибо нашему руководителю тоже пришлась по душе эта идея, хотя он страшно боялся, что в посольстве на нашу вылазку посмотрят косо. В результате кучка нелепых, но счастливых молодых людей и девушек в мешковатых синих «костюмах Мао» оказалась в пылающем красками розовом саду.
Мне повезло — неприятностей не последовало. То было время бурных перемен в Китае. В конце 1978 года наступил поворотный момент: страна отказалась от основных принципов маоизма. 1979–м, продолжая рисковать, я потихоньку расширяла границы дозволенного — и все обошлось! Меня очень интриговали английские пабы, куда нам категорически возбранялось ходить. (В те дни китайский эквивалент слова «паб» — цзю–ба — рождал в воображении образ какого–то непристойного заведения с извивающимися голыми женщинами.) Я буквально умирала от любопытства и однажды не выдержала. Улизнув потихоньку из дому, стрелой понеслась в паб напротив нашего колледжа. Толкнула дверь и увидела... нескольких стариков, пьющих пиво. Как же я была разочарована!
Думаю, я была первой китайской студенткой, которая расхаживала по улицам иностранного государства безнадзорно. Сотрудник колледжа, где я обучалась, — ныне это Университет долины Темзы, — однажды пригласил меня съездить в Гринвич. Как предписывалось нашими правилами, я спросила, можно ли мне «взять с собой друга». Он не так понял и стал меня заверять: «Со мной тебе ничего не грозит». Я смутилась, но объяснить ничего не могла — говорить, что мы не имеем права ходить без сопровождающего, было запрещено, причем обязанность придумывать отговорки возлагалась на нас же. Лгать я не желала, но поехать очень хотелось, и уж конечно без опекуна. Поэтому я умоляла посольского атташе дать мне соответствующее разрешение; в противном случае, изощрялась я, англичанин подумает, что китайцы ему не доверяют, а то и в чем–то его подозревают, а это может повредить англо–китайской дружбе и репутации нашей социалистической родины. Выслушав весь этот бред, атташе в конце концов позволил поездку, но велел соблюдать осторожность. Казалось, ему и самому были не по душе подобные порядки. И как–то вечером, когда мы остались в здании одни, он разоткровенничался. Оказывается, двадцать лет назад он любил одну девушку, и они уже собирались пожениться, как вдруг во время очередной политической кампании ее заклеймили как «правую уклонистку». Женитьба положила бы конец его многообещающей карьере. Невеста настаивала на разрыве. После мучительных колебаний он так и поступил и со временем стал преуспевающим дипломатом. Но не забыл ее и не простил себя. Рассказывая, он не мог сдержать слез.
В том, что посольский работник обнажал душу перед едва знакомым человеком, не было ничего странного. В те годы люди были настолько измучены случившимися с ними трагедиями, что порой доверялись первому встречному, если ощущали в нем родственную натуру. Шлюзы человеческой памяти, благодаря начавшейся в стране либерализации, приоткрылись. Вот и атташе на свой страх и риск разрешил мне нечто беспрецедентное: выйти без сопровождения за пределы посольской территории.
Я по сей день помню ту поездку в Гринвич. Вообще говоря, в ней не было ничего особенного: добрались на машине, гуляли, фотографировались на меридиане, поставив ноги на разные полушария. Но меня трясло от волнения. Я все время искала глазами китайцев, а завидев их, старалась угадать по одежде, из КНР они или нет; если из КНР, что мне неправдоподобно часто чудилось (тогда на Запад попадало очень мало китайцев с континента), я поскорее отворачивалась, в то же время пытаясь держаться со своим спутником как можно естественнее. Я боялась, что меня заметят и донесут в посольство, тогда и мне, и доброму атташе не поздоровится. Самым тяжелым испытанием оказался пикник: мы сидели на большой тихой лужайке и ели сэндвичи с сыром — все вроде бы хорошо, но спрятаться было негде.
Страх не удержал меня от дальнейших эскапад, и дело не в любви к опасности, а просто в неспособности устоять перед искушением. По мере того как правила смягчались, я все чаще оказывалась в новом для себя обществе одна и завязывала знакомства с самыми разными людьми. Большинству из них говорила, что приехала из Южной Кореи, а не из Китая. И не только из–за полуподпольного характера моих вылазок, но и потому, что не хотела упоминать свою родину, которая в то время, вследствие полной ее изоляции, казалась загадочной, как космос. Хотелось слиться с лондонской толпой и ничем из нее не выделяться.
Первым и самым сильным моим впечатлением была удивительная социальная однородность британского общества. Я родилась в элитарной коммунистической семье и знала, сколь иерархичным и классово структурированным был Китай при Мао. Никто не мог выйти за жесткие рамки той или иной сословной категории: в анкете рядом с датой рождения и полом неизменно стояла графа «социальное происхождение». Этим определялись карьера, отношения с людьми, вся жизнь. Представители привилегированных слоев часто держались надменно, а рожденные в «дурных» семьях были обречены на жалкое существование. В результате все мы зациклились на том, кто из какой семьи родом и нередко задавали этот вопрос при первом же знакомстве. Совсем иначе обстояло дело в Лондоне — казалось, здесь все абсолютно равны и никто даже не задумывается о происхождении.
Со временем я увидела вещи в несколько другом свете. Однако мне и сегодня не кажется, что тогда я смотрела на мир через розовые очки. Несмотря на традиционные классовые различия, в Великобритании люди сохраняют чувство собственного достоинства, обделенных привилегиями здесь не топчут и не унижают, как в маоистском Китае. Справедливое общественное устройство и самоуважение как составляющие национальной идеи — ничего подобного в Китае не знают и сегодня.
Я полюбила Англию всей душой. Свой первый год я провела буквально в состоянии головокружения от счастья. Побывала во всех музеях и галереях, какие только обозначены на туристической карте, часто посещала театральные спектакли — для студентов почти бесплатные. С удовольствием экономила на транспорте, ходила по Лондону пешком — каждый дом, каждая улица представляли для меня интерес. Забредала в сомнительные ночные клубы и глазела на товары в секс–шопах Сохо. На своей первой дискотеке я танцевала как в бреду. Даже самый захудалый кинотеатр с тусклыми лампами, вытертым красным плюшем и облезшей позолотой казался мне пещерой Аладдина, полной тайн и сокровищ. Как мне стало ясно потом, я задавала собеседникам странные вопросы, стараясь понять людей разных культур. Последним нарушенным мной табу были романы с иностранцами, которые я скрывала, по–прежнему опасаясь наказания. В Китае меня когда–то предупредили, что всякого, кто попытается крутить любовь с иностранцем, накачают снотворным и отправят обратно в джутовом мешке, — я верила в это безоговорочно. Когда я оказывалась хотя бы в относительной близости от Портлендплейс, где находится посольство, у меня буквально подкашивались ноги от страха, а проезжая мимо в машине, я старалась забиться поглубже и пониже пригнуть голову. В те дни я впервые в жизни стала краситься — думала, так мне легче будет обмануть бдительность сотрудников посольства (которые, вопреки моим опасениям, не занимались подобной слежкой). От алой или пурпурной помады и густо наложенных зеленовато–золотистых теней мое лицо так менялось, что я сама с трудом узнавала себя в зеркале.
Но это были игрушки, главное — я с головой ушла в написание диссертации по лингвистике. Мне предложил аспирантскую стипендию университет Йорка — города, притягивавшего меня к себе задолго до того, как я его увидела, своим легендарным кафедральным собором, городскими стенами (как считается, это ближайший в мире аналог Великой Китайской стены) и войнами Алой и Белой роз. В те времена решения о распределении иностранных стипендий принимались на правительственном уровне. Но мне в очередной раз сделали в посольстве послабление: заступился добрый атташе, да и ситуация в Китае все больше смягчалась, так что стипендию мне дали. Защитив в 1982 году диссертацию, я стала первой гражданкой коммунистического Китая, получившей британскую докторскую степень.
Я не просто изучала лингвистику (которую, к стыду своему, с тех пор основательно подзабыла), но поняла нечто более важное. Помню, как обсуждала план диссертации со своим руководителем, профессором Ли Пейджем, благодаря чуткости и такту которого я ощутила, что больше не испытываю вечно снедавшего меня беспокойства. Его мягкая ирония, ненавязчивые советы — все свидетельствовало о том, что никто в Англии меня не обидит, не надо ничего бояться. И, увлекшись, я пустилась рассуждать о лингвистических теориях, обзор которых мне предстояло сделать. Он внимательно выслушал и попросил показать диссертацию. Я с удивлением воскликнула: «Но ведь я к ней еще не приступала!» «Однако у вас уже готовы все выводы», — заметил он. Это короткое замечание навсегда освободило мой ум от удавки тоталитарного псевдообразования. В Китае нас приучили делать выводы не на основании фактов, а на основании марксистских теорий, или мыслей Мао, или исходя из «линии партии» — все, что этому противоречило, даже сами факты, отрицалось и поносилось. Возвращаясь через кампус в свою комнату, выходившую на берег прекрасного озера, где жило много пернатых, я размышляла о новом подходе к жизни. Теперь я была свободной, как эти птицы. Открытое мышление — это так просто, но дорога к нему оказалась такой долгой!
В Йорке однажды ночью мне и пришла в голову мысль написать книгу о моем прошлом. Как–то меня пригласили на лекцию профессора, только что вернувшегося из Китая. Он показывал слайды, сделанные в школе, где в холодный зимний день ученики сидели в неотапливаемых классах с выбитыми стеклами. «Им не холодно?» — спросил сердобольный профессор. «Нисколько», — последовал ответ.
После демонстрации слайдов состоялся прием, и одна женщина, скорее всего, просто из вежливости, обратилась ко мне со словами: «Вам, наверно, тут у нас очень жарко». Этот невинное замечание так меня ранило, что я выбежала из комнаты и впервые с тех пор, как приехала в Англию, расплакалась. И не столько от обиды, сколько от невыносимой боли за моих соотечественников. Наше собственное правительство не считало нас полноценными человеческими существами, и, соответственно, людям из внешнего мира мы тоже казались другими, не такими, как они сами. Я вспомнила старое изречение: «Жизнь китайца ничего не стоит», вспомнила и анекдот о том, как поразился англичанин, узнав, что его слуга–китаец мучается зубной болью. У меня в памяти всплывали восхищенные отзывы иностранцев, побывавших в маоистском Китае и удивлявшихся странному народу, которому, похоже, нравится, когда его критикуют, обличают, «перевоспитывают» в трудовых лагерях, — нравится все, что западному человеку показалось бы сущим адом. Все эти мысли бурлили в голове; перед глазами проносились разные картины: жизнь в Китае, моя семья, люди, которых я знала. Я ощутила жгучее желание поведать миру наши истории, рассказать о наших подлинных чувствах. Ко мне вернулась потребность писать.
Но до выхода в свет «Диких лебедей» оставались годы. Подсознательно я старалась не думать о книге. Слишком тяжело было ворошить прошлое. Между 1966–м и 1976–м годами моя семья перенесла неимоверные страдания. Отец и бабушка умерли мучительной смертью. Мне было не по силам оживлять в памяти годы бабушкиной болезни, которую не лечили, заключение отца, мамино стояние на битом стекле. Немногие строчки, написанные мною, были безжизненны и мертвы. Они меня не удовлетворяли.
В 1988 году ко мне в Лондон приехала мама. Она впервые оказалась за границей, и мне хотелось повозить ее повсюду, показать как можно больше, но почему–то, ощутила я, ей это не в радость. Что–то было у нее на уме, что–то ее беспокоило. Однажды, отказавшись от поездки по магазинам, она села за мой черный обеденный стол, на котором сияли золотые нарциссы, и, сжимая кружку с жасминовым чаем, призналась, что больше всего на свете хочет со мной поговорить.
Мама говорила каждый день в течение нескольких месяцев. Впервые она рассказала мне о себе и о бабушке. Бабушка, как я узнала, была наложницей военного диктатора, а мама в пятнадцать лет вошла в коммунистическое подполье. Обе они пережили множество событий в Китае, раздираемом войнами, иностранными вторжениями, революциями, а потом — тоталитарной тиранией. В этом вселенском водовороте к обеим пришла горькая любовь. Я узнала о маминых испытаниях, о том, как она несколько раз чуть не умерла, о ее чувстве к отцу и эмоциональных конфликтах с ним. Узнала в ужасных подробностях и о том, как бабушке бинтовали ноги: раздавили ступни большим камнем, когда ей было два года, чтобы они соответствовали тогдашним представлениям о красоте.
Разговоры велись и во время туристических поездок, например, на остров Скай в Шотландии или озеро Лугано в Швейцарии. Я слушала ее в самолетах, в автомобилях, на теплоходах, во время пеших прогулок и дома на диване — мы нередко засиживались за полночь. Когда я была на работе, она наговаривала свою историю на магнитофон. До отъезда из Англии она сделала шестьдесят часов записей. Так ей удалось исполнить мечту всей жизни, неисполнимую на родине, — высказать свои мысли и чувства.
Слушая маму, я ощущала, как она жаждет, чтобы я ее поняла, более того — чтобы взялась за перо. Казалось, она знает о моей склонности к писательскому труду и поощряет ее, хотя никогда не говорит на эту тему. Рассказывая одну историю за другой, она учила меня смотреть прошлому в лицо. В ее воспоминаниях, как ни полна была страданий и мучений ее жизнь, не было мрачности и уныния, они поражали стойкостью и силой духа.
Именно мама в конце концов и вдохновила меня на написание «Диких лебедей», книги о моей бабушке, о ней, обо мне самой и о бушевавших вокруг нас бурях, выпавших на долю Китая в XX веке. За два года я пролила немало слез и проворочалась немало бессонных ночей. Я бы не выдержала, если бы к тому времени не обрела любви, наполняющей мою жизнь и ограждающей меня своим глубоким спокойствием. Джон Холлидей, мой рыцарь без доспехов, ибо его внутренняя сила под мягчайшей оболочкой обезоруживает и сама по себе, — бесценное сокровище, доставшееся мне от новой родины, Великобритании. Он у меня был, и я верила, что все получится, — все, включая «Диких лебедей».
Работая над книгой, я во многом полагалась на Джона. Английский язык я начала учить всерьез только в двадцать один год, в полной изоляции от внешнего мира. Единственными иностранцами, с которыми я разговаривала до приезда в Англию, были моряки в южно китайском порту Чжаньцзян, бывшей французской колонии, где мы с однокашниками в течение двух недель практиковались в языке. Оказавшись в Лондоне, я стала много читать; одной из первых книг был «1984» — я не уставала восхищаться тем, как точно описания Оруэлла соответствуют Китаю времен Мао. Но говорить правильно по–английски я еще не умела. Китайские учебники, по которым я училась, были написаны людьми, никогда не общавшимися с иностранцами; тексты по большей части представляли собой буквальные переводы. Например, в разделе «Приветствия» приводились прямые соответствия китайских выражений: «Куда ты идешь?» и: «Ты ел?» — именно так здороваются в Китае. Первое время и я так здоровалась с англичанами. Без помощи Джона я не смогла бы написать книгу по–английски, — тем более, что надеялась написать ее хорошо. Писатель и историк, Джон сыграл огромную роль в том, что «Дикие лебеди» получились. Я всецело полагалась на его оценку и безошибочный глаз. Его участие трудно переоценить.
В общем, «Дикие лебеди» создавались при благословенной поддержке двух самых важных людей в моей жизни — матери и мужа. Перед выходом книги мама написала мне: «Будь готова к тому, что она будет плохо продаваться и люди не обратят на нее особого внимания, но не огорчайся, потому что книга нас сблизила и тем самым сделала меня счастливой. Уже одного этого достаточно». Мама была права. Я стала еще больше любить и уважать ее. Но понимала, что она призывает меня не думать об успехе, стараясь, как всегда, уберечь от ран. Письмо глубоко тронуло меня.
Благодаря отсутствию давления и полному пониманию с маминой стороны я не беспокоилась о том, как примут «Диких лебедей». Я надеялась, что они понравятся читателям, но не слишком предавалась мечтам. Джон уверенно ободрял меня. Он говорил: «Это великая книга», и я доверяла ему, как доверяла во всех решениях относительно книги, да и во всех других жизненных делах.
«Диких лебедей» ожидал успех. За двенадцать лет я получила множество благоприятных отзывов, встречалась с разными людьми, получала письма — в общем, была на верху блаженства. Маму, которая по сей день живет в Китае, в городе Чэнду, и сейчас часто навещают люди из самых разных стран: дипломаты и путешественники с рюкзаками, бизнесмены и туристы. Она побывала в Голландии, Таиланде, Венгрии, Бразилии, не говоря уж о Великобритании.
В Японии женщины останавливали ее и тепло беседовали с нею среди небоскребов и сакуры в цвету, а однажды на серебряном подносе к нам с другого конца ресторана приплыл роскошный платок — чтобы она расписалась на нем. Не в одном аэропорту люди помогали ей с багажом и выражали свое восхищение. Она нашла понимание не только у своей дочери, но и у миллионов читателей по всему миру.
Казалось бы, у всей этой истории счастливый конец, но есть в ней и грустная нота: «Дикие лебеди» до сих пор запрещены к публикации в Китае. Похоже, режим видит в книге угрозу для Коммунистической партии. Хотя «Дикие лебеди» — повесть об отдельных людях, в ней рассказана история Китая XX столетия, в которой партия играет незавидную роль. В свое оправдание власти создали официальную версию истории, но «Дикие лебеди» в ее рамки не вписываются. В частности, в книге показано, что Мао преступно плохо управлял китайским народом и вовсе не был великим лидером с отдельными недостатками, каким его рисуют в нынешнем Пекине. И сегодня на площади Тяньаньмэнь, в сердце столицы, висит его портрет, а на огромной цементной плите лежит его тело — объект поклонения. Нынешнее руководство до сих пор поддерживает миф о Мао, потому что заявляет себя его преемником, обосновывая таким образом свою легитимность.
Вот почему в Китае запрещено издавать «Диких лебедей». Запрещено также упоминать книгу, как и имя ее автора, в средствах массовой информации. Хотя за прошедшие годы китайские журналисты не раз брали у меня интервью и писали статьи о «Диких лебедях», ни один материал не вышел: редакторы боятся нарушить запрет. По этому поводу существует даже особая сверхсекретная директива Министерства иностранных дел — ситуация для печатного издания необычная, если неисключительная. Это отпугивает и в то же время привлекает читателей. В результате множество людей, даже государственных цензоров, отыскали книгу и прочли ее.
Жизнь в сегодняшнем Китае неизмеримо лучше той, что была у моих соотечественников в прошлом веке, чему я неустанно радуюсь. Однако, хотя нация получила толику личной свободы, до настоящей свободы еще далеко. За печатным словом следят гораздо пристальнее, чем до прихода коммунистов к власти. Еще до того, как в 1994 году на «Диких лебедей» был наложен запрет, один китайский издатель сделал купюры — изъял прежде всего фрагменты о Мао — и отнес книгу в цензуру. Поскольку таких купюр оказалось немного, я согласилась издать ее при условии, что на соответствующей странице будет указано: «Ниже опущено столько–то иероглифов». Так делалось до прихода коммунистов. Однако нынешние власти не дали на это согласия. И все же пиратский текст с купюрами в конце концов вышел. Даже пираты не осмелились опубликовать полную версию!
Как говорят, есть еще одно контрафактное издание — полное. Видимо, это фотокопия книги на китайском языке, вышедшей в свет на Тайване или в Гонконге, вопреки его вхождению в состав КНР в 1997 году. Немало экземпляров попало в Китай (таможня редко обыскивает багаж пассажиров). Я и сама беспрепятственно ввозила экземпляры, но из отправленных по почте не дошел ни один. Замечательный китайский кинорежиссер, которым я восхищаюсь, хотел снять по книге фильм, но не получил разрешения, к тому же его предупредили, что, если он попробует снять картину за границей, другим его фильмам и всей съемочной группе грозят в Китае большие неприятности. Из–за удавки, накинутой на книгу режимом, лишь сравнительно немногие в Китае слышали о ней.
Однако «Дикие лебеди» достаточно известны в стране, поскольку пути сообщения с внешним миром открыты. Некоторые ловкие мошенники даже эксплуатируют эту известность. Один такой мелкий самозванец работает в моем родном городе Чэнду. Как сообщалось в местной газете 6 мая 2000 года, он крутился возле центральных гостиниц и основных достопримечательностей и, хорошо говоря по–английски, а также немного на французском, немецком и японском, знакомился с иностранными туристами и рассказывал им, что он якобы мой хороший друг. Затем проходимец отводил их в рестораны, где им выставляли немалые счета, а он получал от заведения свой процент.
Были и трогательные жесты. Однажды, после того как мы с Джоном поужинали в пекинском ресторане, муж попросил счет и вдруг услышал, что он уже оплачен молодым человеком, заявившим: «Я узнал о своей собственной стране из книги вашей жены».
Хотя «Дикие лебеди» запрещены, людей не преследуют за чтение или обсуждение книги в частном кругу. Я разъезжаю по Китаю свободно и не замечаю за собой слежки. Очевидно, во мне, в отличие от моего творения, угрозы не видят: я не устраиваю митингов, не выступаю с речами и не веду подпольной работы. Поскольку путь в СМИ для меня закрыт, я лицо частное, а не публичное. Ныне режим точнее, чем раньше, выбирает объекты для преследований. Метят в то, что считают по–настоящему опасным, в то, что может получить общественный резонанс и стать знаменем организованной оппозиции. Это много лучше, чем во времена Мао, когда пострадали миллионы безвинных людей. Но это также означает, что монополия на власть по–прежнему существует и что один миллиард триста миллионов китайцев продолжают зависеть от горстки тайно избираемых правителей. Мир также может лишь надеяться, что ему повезет и лидеры ведущей ядерной державы не окажутся злодеями.
«Дикие лебеди» обострили мою любовь к Китаю. Я расколдовала свое прошлое и больше не хочу «все забыть». Если я долго там не бываю, мной овладевает тревога. Эта земля, древняя, но кипящая энергией юности, пережившая столько трагедий, но смотрящая вперед с упрямым оптимизмом, — у меня в крови. Я приезжаю туда один–два раза в год и всегда возвращаюсь в Лондон выжатая как лимон. Радость и восторг утомляют, так же как гнев и возмущение, а я их испытываю здесь на каждом шагу. Цель этих путешествий — собрать материалы для биографии Мао, которую мы с Джоном пишем вместе последние десять лет и надеемся опубликовать в 2004 году. (Книга вышла в свет в 2005 году в Великобритании, а два года спустя – в России. Здесь и далее примеч. пер.)
Я решила писать о Мао, потому что этот человек всегда завораживал меня. Он довлел над моей жизнью в Китае и разрушил судьбы моих соотечественников, четверти населения Земли. Он был таким же тираном, как Гитлер и Сталин, и принес человечеству столько же вреда, сколько они. И тем не менее свет знает о нем на удивление мало. Обоих европейских деспотов обличили во всем мире, а Мао удалось совершить небывалый подвиг: имя его оказалось лишь слегка задето — едва заметно по сравнению с тяжестью его преступлений, хотя он уже почти тридцать лет как умер. Мы с Джоном с наслаждением распутывали клубок мифов о нем.
Китайский режим, как и ожидалось, поставил на моем пути множество препятствий, но лишь немногие из них не получилось преодолеть, а большинство только добавили нам удовольствия, превратив нас в пару детективов. Некоторым важным для нас людям в Пекине поступило предупреждение, что со мной не следует разговаривать. Однако, кажется, не столь категорическое, как запрет писать обо мне или печатать «Диких лебедей». Скорее, его сформулировали в духе «думай, что говоришь». Поэтому, в то время как некоторые решили не встречаться со мной, большинство согласились на беседу. Людям теснят грудь воспоминания, а в китайцах глубоко укоренено чувство долга перед историей. Само предупреждение сослужило добрую службу: оно стало чем–то вроде рекламы, придающей биографии престиж и гарантирующей, что она не будет следовать партийной линии. Для некоторых это послужило убедительным доводом, чтобы отворить уста. Наконец, дорогу мне проложили «Дикие лебеди». Большинство людей, с которыми я встречаюсь, читали книгу или слышали о ней и, судя по всему, считают ее честной. Надеюсь, они верят, что и биография Мао окажется правдивой.
«Дикие лебеди» также открыли доступ к государственным деятелям и нетронутым источникам информации по всему земному шару. В ходе этих разысканий я вновь и вновь понимаю, какое счастье иметь соавтором Джона, ибо он не только говорит на многих языках, но и представляет собой ходячую энциклопедию по международной политике, частью которой был Мао. Прошедшие десять лет стали для нас сказочным временем: в поисках сведений о Мао мы с Джоном путешествовали по всему свету и работали, день за днем, год за годом, полные решимости потратить столько времени, сколько нужно, чтобы, не срезая углов, написать книгу, которой сможем гордиться.
Каждый день у себя дома в Лондоне, в Ноттинг–хилле, я сажусь писать. Джон внизу, в кабинете; слышен скрип двери — это он идет за чашкой чая. Мне становится радостно: я предвкушаю наш разговор за обедом, обмен мнениями, обсуждение исторических находок. За окном справа растет огромный платан, закрывающий небо своими могучими ветвями. Он удивительно прекрасен в дни, когда накрапывает дождик, а солнце лишь изредка улыбается сквозь облака. Под деревом черный фонарный столб — как в любом фильме о Лондоне. По улице проплывают двухэтажные красные автобусы. Спешат под зонтиками прохожие. Обычная лондонская картина. И все же мне никогда не надоедает смотреть на нее, как никогда не наскучивает писать. Конечно, бывают минуты, когда я в отчаянии говорю себе и друзьям: «С меня довольно!» Но я на седьмом небе от счастья.
Лондон, май 2003
Посвящается бабушке и отцу, которые не дожили до выхода этой книги
1. «Золотые лотосы длиной в три цуня»: Наложница генерала (1909–1933)
В пятнадцать лет моя бабушка стала наложницей генерала — в ту пору министра полиции в шатком правительстве Китая. На дворе стоял 1924 год, в стране царил хаос. Почти на всей территории страны, включая Маньчжурию, где жила бабушка, установилась власть генералов. Сватовство состоялось благодаря хлопотам ее отца — чиновника полиции из провинциального городка Исянь, находившегося на юго–западе Маньчжурии, примерно в полутораста километрах на север от Великой Китайской стены и в четырехстах километрах на северо–восток от Пекина.
Подобно большинству китайских городов, Исянь был построен как крепость. Его окружали возведенные в эпоху Тан (618–907 гг.) зубчатые стены толщиной в шесть и высотой в девять метров, с шестнадцатью караульными башнями, поставленными на равном расстоянии друг от друга, и такие широкие, что по ним можно было без труда проскакать верхом. В город вело четверо ворот (по четырем сторонам света), защищенных снаружи еще одними внешними воротами, а опоясывал все эти укрепления глубокий ров.
Главной городской достопримечательностью считалась высокая, богато украшенная башня из темно–коричневого камня, построенная в VI веке, когда в эти края пришел буддизм. По ночам с башни раздавался колокольный звон — так отмечали время, а порой и предупреждали о пожарах и наводнениях. Исянь был процветающим торговым городком. На близлежащих равнинах выращивали хлопок, кукурузу, гаолян, сою, кунжут, груши, яблоки и виноград. На пастбищах и холмах к западу от города крестьяне выпасали овец и крупный рогатый скот.
Мой прадед, Ян Жушань, родился в 1894 году, когда император еще правил Китаем и жил в Пекине. У власти стояли маньчжуры, потомки тех, что завоевали Китай в 1644 году. Яны были ханьцами, то есть этническими китайцами; они переселились на север от Китайской стены в поисках лучшей жизни.
Ян Жушань был единственным сыном в семье. Родители окружили его особой заботой, так как лишь сын мог сохранить фамилию, передав ее детям. В противном случае род прерывался, и, согласно китайским верованиям, совершалось величайшее преступление по отношению к предкам. Моего прадеда отдали в хорошую школу. Впоследствии ему предстояло сдать экзамены на чиновничью должность — в те времена главный предмет мечтаний большинства китайских мужчин. Должность давала власть, а власть — деньги. Без власти и денег невозможно было оградить себя от чиновничьих поборов и произвола. В стране царило беззаконие: суд был пристрастен, жестокость возведена в обычай и ничем не ограничена. Чиновник, обладавший властью, воплощал собой закон. Только став мандарином, человек незнатного происхождения мог вырваться из этого круга несправедливости и страха. Отец Яна решил, что не допустит, чтобы сын стал валяльщиком войлока, как он сам, и посвятил жизнь и свою, и всей семьи воспитанию наследника. Женщины брали надомную работу у местных портных и засиживались над шитьем до глубокой ночи. Из экономии они до предела прикручивали фитилек в масляных лампах и нещадно портили себе зрение; костяшки пальцев распухали от изнурительной работы.
По существовавшему обычаю, прадеда моего женили рано — в четырнадцать лет — на женщине старше его шестью годами. Считалось, что в обязанности супруги входит также и воспитание мужа.
Судьба его жены, моей прабабки, была типичной — в то время так жили миллионы китаянок. Происходила она из рода кожевников по фамилии У. Так как семья ее не отличалась ни образованностью, ни высоким социальным положением, а ее угораздило родиться девочкой, ей даже не дали имени. Как вторую дочь в семье, ее просто называли «девочкой номер два» (эр–ятоу). Отца она потеряла во младенчестве и росла у дяди. Когда ей было шесть лет, дядя как–то обедал с приятелем, чья жена была беременна. За обедом мужчины договорились, что, если родится мальчик, детей поженят. До свадьбы молодые ни разу не виделись. Любовь считалась делом чуть ли не постыдным, позором для семьи. И не потому, что находилась под запретом — в конце концов, в Китае существовала освященная веками традиция романтической любви; у девушек и юношей просто не могло быть случая полюбить друг друга: встречи до брака считались безнравственными, а кроме того, на супружество смотрели прежде всего как на долг, как на союз двух семей. Влюбиться можно было, если повезет, после свадьбы.
В четырнадцать лет мой выросший в четырех стенах прадедушка был еще ребенком. В первую брачную ночь он не пожелал взойти на супружеское ложе, лег в спальне у матери, и пришлось перенести его к невесте уже спящим. Но хотя он был избалованным мальчишкой, который даже одеться не мог сам, по словам жены, он уже знал, как «сеют детей». Моя бабушка родилась через год после свадьбы — в пятый день пятой луны, в начале лета 1909 года. Ей повезло больше, чем матери, потому что ей дали имя — Юйфан. Юй, то есть «яшма», — родовое имя всех потомков семьи в бабушкином поколении, а фан означает «душистые цветы».
Мир, в который она пришла, был совершенно непредсказуем. Маньчжурская династия, правившая Китаем больше двухсот шестидесяти лет, быстро теряла свое влияние. В 1894–1895–м годах Япония нанесла Китаю сокрушительное поражение и захватила часть Маньчжурии. В 1900 году восемь иностранных держав, подавив националистическое боксерское восстание (Боксерское восстание произошло в Северном Китае в 1899–1901 гг. Начато тайным обществом Ихэтуань («Общество справедливости и согласия»). Подавлено войсками Японии, Германии, Великобритании, Франции, США, Италии, Австро–Венгрии и России.), частично оставили свои войска в Маньчжурии, частично — у Китайской стены. В 1904–1905–м годах в маньчжурских степях шла жестокая война между Японией и Россией. Победа превратила Японию в главную боевую силу региона. В 1911 году пятилетний император Пу И был свергнут, и Китай стал республикой, которую на короткое время возглавил харизматический лидер Сунь Ятсен.
Новое республиканское правительство вскоре пало, и страна раздробилась на уделы. В Маньчжурии, на родине последней династии, усилились антиреспубликанские настроения. Иностранные державы, особенно Япония, стали открыто посягать на маньчжурские земли. В результате все общественные институты пришли в упадок, наступило безвластие, люди утратили моральные ориентиры. Многие пытались пробиться наверх, подкупая местных владык дорогими подарками: золотом, серебром, драгоценностями. Мой прадедушка был не так богат, чтобы купить себе теплое местечко в каком–нибудь большом городе, и к тридцати годам добился лишь чиновничьей должности в полицейском участке родного захолустного Исяня. Но у него были большие планы на будущее. И настоящее сокровище — дочь.
Моя бабушка была красавицей с овальным лицом, румяными щеками и светлой кожей. Длинные блестящие волосы она заплетала в косу, достававшую до пояса. Бабушка умела держаться скромницей (когда того требовали обстоятельства, то есть почти всегда), но под внешним спокойствием скрывался порывистый нрав. Она была небольшого роста — примерно метр шестьдесят — стройная, с покатыми плечами, что считалось верхом изящества.
Главным же ее достоинством были крошечные ножки, называемые по–китайски «золотыми лотосами длиной в три цуня» (сань–цунь–цзинь–лянь, цунь — китайская мера длины, примерно 3,3 см.). Это значило, что при ходьбе она напоминает «нежный ивовый побег, овеваемый весенним ветерком», как говорили китайские ценители женской красоты. Вид женщины, покачивающейся на крохотных ножках, должен был пробуждать в мужчине желание — отчасти потому, что ее хрупкость вызывала у него стремление защитить ее. Ноги бабушке забинтовали в двухлетнем возрасте. Ее мать, ходившая на таких же ножках, сначала спеленала ей ступни шестиметровым куском белой ткани, подогнув все пальцы, кроме большого, под подошву, потом придавила ногу в подъеме камнем, чтобы сломать кости. Бабушка кричала от страшной боли, умоляла мать перестать, и той пришлось заткнуть ей рот матерчатым кляпом. Не выдерживая мук, бабушка несколько раз падала в обморок.
Этот процесс продолжался несколько лет. Даже сломанные ступни следовало держать забинтованными день и ночь, потому что без повязки они сразу начали бы срастаться. Годами бабушка жила в состоянии непрестанной, изнуряющей боли. Когда она умоляла мать разбинтовать ноги, та плакала и говорила, что небинтованные ноги сделают ее несчастной и что это делается для ее же блага.
В те времена, когда женщина выходила замуж, семья жениха прежде всего проверяла, какие у нее ноги. Большие, то есть нормальные, ноги были губительны для репутации всего дома. Свекровь приподнимала край длинной юбки невесты и, если ступни оказывались длиннее четырех цуней, с презрением срывала юбку и отходила в сторону, оставив невесту под критическими взглядами гостей, глазевших на ее ноги и отпускавших оскорбительные замечания. Порой мать, сжалившись над дочерью, разбинтовывала ей ступни; но когда девочка вырастала и сталкивалась с презрением в семье мужа и осуждением общества, то винила за слабость мать.
По преданию, обычай бинтовать ноги был введен тысячу лет тому назад одной из императорских наложниц. Дело было не только в том, что вид женщины, хромающей на крошечных ножках, казался мужчинам привлекательным, — им также необычайно нравилось играть с забинтованными ножками, неизменно обутыми в шелковые вышитые туфельки. Ведь даже повзрослев, женщины не могли снять повязки, потому что тогда ступни сразу начинали расти. Дозволялось только, ослабив бинты на ночь, надеть туфли на мягкой подошве. Мужчинам редко доводилось видеть ножки босыми — они обычно бывали покрыты струпьями и без бинтов источали дурной запах. Я с детства помню, как бабушку вечно мучили боли. Когда мы возвращались домой с покупками, она сразу же опускала ноги в таз с горячей водой, вздыхая с облегчением. Затем она принималась обрезать кусочки омертвелой кожи. Болели не только сломанные кости, но и подушечки пальцев с вросшими в них ногтями.
По иронии судьбы, моей бабушке забинтовали ноги как раз тогда, когда этот обычай стал уходить в прошлое. Ее сестра, родившаяся в 1917 году, уже не знала подобных мучений — с бинтованием ног было покончено.
Тем не менее, когда бабушка была девочкой, в таком маленьком городке, как Исянь, по–прежнему считалось, что без маленьких ножек хорошей партии не сделать. Но это было только начало — отец хотел воспитать из дочери благородную даму или высококлассную куртизанку. Вопреки общепринятому в ту пору мнению, что добродетельная женщина из низов должна быть неграмотной, он отдал ее в городскую школу для девочек, учрежденную в 1905 году. Бабушка также обучалась игре в китайские шахматы, маджонг(Маджонг — правильнее: мацзян, китайская азартная игра вроде домино) и шашки, брала уроки рисования и вышивки. Более всего ей нравилось изображать уток–мандаринок (символ любви, потому что они всегда плавают парами), — она расшивала ими крошечные туфельки, которые сама для себя мастерила. Чтобы сделать список ее достоинств совершенно блестящим, к ней пригласили учителя музыки, наставлявшего ее в игре на цине — инструменте наподобие цитры.
Бабушка считалась первой красавицей в городе. Местные жители говорили, что она словно «журавль среди кур». В 1924 году ей было пятнадцать лет, и отец ее волновался, как бы единственное его сокровище не перезрело, обманув его надежды на безбедную жизнь. Как раз тогда в городок приехал генерал Сюэ Чжихэн, главный инспектор столичной полиции в пекинском военном правительстве.
Сюэ Чжихэн родился в 1876 году в уезде Лулун, что в полутораста километрах к востоку от Пекина — чуть южнее Великой стены, там, где обширная северокитайская равнина встречается с горами. Он был старшим из четырех сыновей сельского учителя.
Сюэ Чжихэн обладал красивой, внушительной внешностью, производившей впечатление на всех, кто с ним встречался. Несколько слепых прорицателей предсказали, ощупав его лицо, что он взлетит высоко. Он был одаренным каллиграфом, а это чрезвычайно ценилось. В 1908 году Лулун посетил военный диктатор Ван Хуайцин. Он обратил внимание на изящную надпись на табличке у входа в главный храм и пожелал встретиться с ее автором. Тридцатидвухлетний Сюэ понравился Вану, и генерал взял его к себе в адъютанты.
Тот проявил незаурядные способности и вскоре был назначен интендантом. Непрерывно разъезжая по делам службы, он попутно открывал собственные продовольственные магазины вокруг Лулуна и по другую сторону Великой стены — в Маньчжурии. Его звезда разгорелась еще ярче после того, как он помог генералу Вану подавить восстание во Внутренней Монголии. Стремительно нажив состояние, он построил по собственному плану особняк в Лулуне — там была восемьдесят одна комната.
За десятилетие, прошедшее после краха империи, ни одно правительство не сумело распространить свое влияние на всю территорию страны. Военные диктаторы вступили в борьбу за контроль над центральным пекинским правительством. В начале 1920–х годов главную роль в этом номинальном правительстве играла группировка генерала У Пэйфу, в которую входил Сюэ. В 1922 году он стал главным инспектором столичной полиции и одним из начальников находившегося в Пекине департамента общественных работ. Ему подчинялись двадцать областей по обе стороны Китайской стены и более десяти тысяч полицейских, конных и пеших. Должность в полиции обеспечивала Сюэ власть, а в департаменте общественных работ — высокое покровительство.
Однако о вассальной верности в те времена говорить не приходилось. В мае 1923 года группировка генерала Сюэ решила избавиться от президента Ли Юаньхуна, которого сама же привела к власти годом ранее. Объединившись с генералом–христианином по имени Фэн Юйсян, прославившимся тем, что он окрестил все свои войска разом, полив их водой из пожарной кишки, Сюэ мобилизовал десятитысячную армию и окружил главные правительственные здания, требуя, чтобы обанкротившиеся власти выплатили жалование, которое задолжали его солдатам. Главная же цель состояла в том, чтобы унизить президента Ли и заставить его подать в отставку. Президент ответил отказом, и тогда Сюэ приказал своим людям отключить воду и электричество в президентском дворце. Через несколько дней дальнейшее пребывание там стало невозможно, и в ночь на 13 июня президент Ли бежал из своей зловонной резиденции в портовый город Тяньцзинь, расположенный в 115 километрах к юго–востоку.
В Китае полномочия должностного лица всегда были неотделимы от права пользования печатями. Любой документ, даже подписанный президентом, считался недействительным, если не был скреплен соответствующей печатью.
Понимая, что никто не может стать президентом без печатей, президент Ли спрятал их у одной из своих наложниц, которая в ту пору находилась в пекинской больнице, основанной французскими миссионерами.
Когда президент Ли уже приближался к Тяньцзиню, его поезд остановили вооруженные полицейские и приказали ему отдать печати. Поначалу он не признавался, где они спрятаны, но несколько часов спустя подчинился. В три часа ночи генерал Сюэ отправился в больницу. Когда он появился у кровати наложницы, та сперва не удостоила его даже взглядом: «Как я могу отдать президентские печати простому полицейскому?» — надменно спросила она. Но генерал Сюэ в своем ослепительный парадном мундире выглядел так внушительно, что вскоре она послушно отдала ему требуемое.
В течение последующих четырех месяцев Сюэ и его полицейские сделали все возможное, чтобы в результате так называемых «первых китайских выборов», которые были узаконенным надувательством, победил Цао Кунь, креатура его партии. Следовало подкупить 804 депутатов парламента. Сюэ и генерал Фэн выставили в здании парламента свою охрану и обещали щедрое вознаграждение всем, кто проголосует «правильно», вследствие чего многие депутаты поспешили вернуться из своих провинций. К моменту, когда для выборов все было готово, в Пекин уже прибыло 555 членов парламента. За четыре дня до голосования, после долгого торга, они получили по пять тысяч серебряных юаней, что составляло весьма существенную сумму. 5 октября 1923 года Цао Кунь 480–ю голосами был избран президентом Китая. В награду Сюэ был произведен в полные генералы. Наград удостоились и семнадцать «особых советников» — любовницы и наложницы различных диктаторов и генералов. Этот эпизод печально известен в китайской истории как пример инсценированных выборов. О нем до сих пор вспоминают те, кто считает, что Китаю противопоказана демократия.
На следующий год в начале лета генерал Сюэ посетил Исянь. Город, хотя и небольшой, занимал стратегически важное положение. Именно здесь кончалась власть пекинского правительства и начиналась область влияния могущественного северо–восточного диктатора Чжан Цзолиня, известного под именем Старый Маршал. Официально генерал Сюэ совершал инспекционную поездку, но у него были в этих местах и личные интересы. В Исяне ему принадлежали главные зерновые склады и крупнейшие лавки, а также ссудная касса, которая одновременно выпускала и собственные деньги, имевшие хождение в городе и округе.
Для моего прапрадеда то был единственный в своем роде шанс — из тех, что выпадают раз в жизни: никогда еще он не оказывался так близко к столь важной персоне. Благодаря интригам обеспечив себе возможность сопровождать генерала Сюэ, он объявил жене, что попытается выдать за него дочь. Не то, чтобы он советовался с женой, — просто ставил ее в известность. Таковы были тогдашние обычаи, но дело было не только в обычаях: прапрадед презирал жену. В ответ она заплакала, но смолчала. Он приказал ей ни слова не говорить дочери. О том, чтобы спросить у той, согласна ли она, не могло быть и речи: брак был сделкой, не имевшей отношения к чувствам. Дочери узнавали обо всем уже после того, как семьи договаривались о свадьбе.
Прапрадед понимал, что действовать нужно исподволь. Прямое предложение руки дочери понизило бы цену товара, можно было нарваться на отказ. Генералу Сюэ следовало продемонстрировать, какое сокровище ему достанется. В те дни приличная женщина не имела случая встретиться с чужим мужчиной, поэтому Яну предстояло придумать, как продемонстрировать генералу дочь. Встреча должна была выглядеть случайной.
В Исяне имелся величественный девятисотлетний буддийский храм, построенный из драгоценных пород дерева и подымавшийся почти на тридцать метров в высоту. Он стоял в чудесной местности, в кипарисовой роще, занимавшей более двух квадратных километров. Внутри восседал девятиметровый ярко расписанный деревянный Будда, а стены украшали фрески, повествующие о его жизни. Ян, конечно, не мог не привести сюда высокого гостя. А храмы были одними из немногих мест, куда приличные женщины могли ходить сами.
В определенный день бабушке велели туда отправиться. Желая продемонстрировать свое благоговение перед Буддой, она сначала приняла ароматические ванны и несколько часов медитировала перед курильницей в маленькой кумирне: перед молитвой в храме следовало привести себя в состояние полного спокойствия и отрешености от всех тревог. В путь она отправилась в наемном экипаже в сопровождении служанки. На бабушке была юбка в складку с мелким цветочным узором, вышитым по розовому полю, и нежно–голубая — цвета утиного яйца — кофта с золотым кантом, подчеркивавшим простоту и изящество линий, с застежками–бабочками по правому борту. Свои длинные черные волосы она заплела в косу и приколола к ним шелковый темно–зеленый пион редчайшего сорта. Она не накрасилась, но обильно надушилась, как надлежало паломнице. Зайдя в храм, она преклонила колени перед огромным Буддой. Отбив перед деревянным изваянием несколько земных поклонов, она осталась на коленях, сложив руки в молитвенном жесте.
В таком положении ее и застали отец с генералом Сюэ. Они смотрели на нее из темного прохода. План прадеда удался. Поза бабушки позволяла видеть не только ее шелковые шаровары, обшитые золотой нитью, как и кофта, но и крошечные ножки в вышитых атласных туфельках.
Помолившись, бабушка трижды поклонилась Будде до земли. Вставая, слегка пошатнулась, что выглядело естественно — трудно устоять на бинтованных ножках, — и оперлась на руку служанки. В это время к ней направились генерал Сюэ и ее отец. Бабушка зарделась, опустила голову, повернулась и устремилась прочь — в полном соответствии с этикетом. Ее отец сделал шаг вперед и представил ее генералу. Она поклонилась, не поднимая головы.
Как и пристало человеку его положения, генерал не стал обсуждать эту встречу с Яном, довольно мелкой сошкой, но тот видел, что он очарован. Далее предстояло развить успех. Пару дней спустя Ян, пойдя на огромные траты, снял лучший в городе театр, заказал местную оперу и пригласил почетного гостя, генерала Сюэ. Театр, по распространенному в Китае обычаю, имел форму прямоугольника: с трех сторон под открытым небом располагались деревянные сидения, четвертой стороной служила сцена, лишенная занавеса и каких–либо декораций. Зал скорее напоминал кафе, чем европейский театр. Мужчины сидели за столами на открытой площадке, ели, пили и громко разговаривали во время представления. В стороне на возвышении находился своеобразный бельэтаж, где за столиками поменьше скромно сидели дамы, а позади стояли их служанки. Прадед посадил свою дочь так, чтобы ее хорошо было видно с места генерала Сюэ.
Она была одета гораздо более пышно, чем в храме. Ее стан облекало богато украшенное вышивкой атласное платье, а в прическе сверкали драгоценности. На этот раз она не скрывала природной живости и веселости, смеялась и болтала с подругами. Генерал Сюэ почти не смотрел на сцену.
После представления началась традиционная китайская игра — разгадывание загадок на фонарях. В одном зале играли мужчины, в другом — женщины. В каждой комнате висели десятки искусно сделанных бумажных фонарей с наклеенными на них стихотворными загадками, и тот, кто давал больше правильных ответов, выигрывал приз. Среди мужчин победителем оказался, конечно, генерал Сюэ. Среди женщин — бабушка.
Ян уже предоставил генералу возможность оценить красоту и ум своей дочери. Теперь ей следовало блеснуть талантами. Через два дня он пригласил генерала к себе на ужин.
Вечер был ясный, теплый, светила полная луна — классическая обстановка для того, чтобы слушать цинь. Отужинав, мужчины уселись на веранде, а бабушке было велено играть в саду. Со шпалеры над головой свешивались цветы, кругом благоухал жасмин — генерал был в восторге. Позднее он признался бабушке, что ее игра в лунный вечер пленила его сердце. Когда родилась моя мать, он назвал ее Баоцинь, что значит «Драгоценная цитра».
В тот же вечер он сделал предложение — не самой бабушке, разумеется, а ее отцу. Он говорил не о женитьбе — всего лишь о том, чтобы взять бабушку в наложницы, но Ян ничего другого и не ожидал. Он не сомневался, что семья Сюэ давным–давно подыскала генералу подходящую партию, да и в любом случае семья Ян была слишком скромной. Надеяться можно было разве только на то, что такому человеку, как генерал, полагалось иметь наложниц. Жены были не для удовольствия — этой цели служили наложницы. Наложница могла обрести немалую власть, но ее общественный статус в корне отличался от положения жены. Наложница была своего рода узаконенной любовницей, которую заводили и бросали по первой прихоти.
О предстоящем событии бабушка впервые узнала от своей матери всего за несколько дней до него. Бабушка склонила голову и заплакала. Сама мысль о том, что она станет наложницей, была ей ненавистна, но отец уже принял решение, а о том, чтобы противоречить родителям, нечего было и думать. Подвергать сомнению родительское решение считалось «непочтительным», а непочтительность приравнивалась к измене. Да и если бы она отказалась подчиниться воле отца, никто бы не принял этого всерьез: люди сочли бы, что она просто показывает, как ей хочется остаться с родителями. Единственным способом сказать «нет» было самоубийство. Бабушка закусила губу и не издала ни звука. В сущности, она и не могла ничего сказать, даже «да» выглядело бы грубостью, означающей, что ей не терпится покинуть родителей.
Видя, как она горюет, мать стала внушать ей, что эта партия — в их положении самая лучшая. Муж объяснил ей, как могуществен генерал: «В Пекине говорят: «Когда генерал Сюэ топает ногой, весь город трясется»». На самом деле на бабушку произвела впечатление его безупречная военная выправка. Ей льстили и комплименты в ее адрес, сказанные генералом Яну, — цветистые и очаровательные. Ни один мужчина в городе не мог сравниться с Сюэ. В пятнадцать лет она не имела ни малейшего представления о том, что значит быть наложницей, и думала, что сумеет завоевать его любовь и обрести счастье.
Генерал изрек, что она сможет остаться в Исяне, в доме, который он купит специально для нее. Это означало, что она будет жить поблизости от своей семьи, и, что еще важнее, ей не придется переселяться в его особняк, а значит — зависеть от его жены и других наложниц: все они были бы выше по статусу. В доме такого вельможи, как генерал Сюэ, женщины были пленницами, жившими в постоянных ссорах, вызванных главным образом чувством неуверенности — защитой им могла служить только благосклонность мужа. Поэтому отдельный дом, а также полная свадебная церемония, обещанные генералом, были очень важны для бабушки. Это означало, что она и вся ее семья обретут немалый престиж. Наконец, она надеялась, что теперь отец успокоится и будет лучше относиться к матери.
Госпожа Ян страдала эпилепсией и потому чувствовала себя недостойной мужа. Она всегда была ему покорна, а он относился к ней как к пустому месту, ни капли не заботясь о ее здоровье. Многие годы он попрекал ее тем, что она не родила ему сына. После рождения моей бабушки у прабабушки было несколько выкидышей, и только в 1917 году родился второй ребенок — но тоже девочка.
Прадед мечтал накопить денег на наложницу. «Свадьба» приближала исполнение этого желания, потому что генерал осыпал семью, и прежде всего прадеда, подарками. Причем роскошными, достойными такого дарителя, как генерал.
В день бракосочетания у дома семьи Ян остановился паланкин, украшенный тяжелой алой парчой и атласом. Впереди шла процессия со знаменами, табличками и шелковыми фонарями, расписанными золотыми фениксами — самым почитаемым символом женщины. В соответствии с традицией, церемония состоялась вечером, и красные фонари светились в полутьме. Оркестр из барабанов, тарелок и оглушительных духовых играл бравурные мелодии. Хорошая свадьба не могла не сопровождаться грохотом, потому что тишина воспринималась как знак чего–то постыдного. Бабушку облачили в яркие вышитые одежды, а голову и лицо спрятали под красным шелковым покрывалом. В новый дом ее везли на паланкине восемь носильщиков. В паланкине было душно и очень жарко, и она осторожно приоткрыла занавес. Выглянув из–под покрывала, она с удовольствием увидела, как люди на улицах провожают процессию глазами. Простая наложница могла рассчитывать лишь на маленький паланкин, покрытый невзрачным хлопком цвета индиго, несли бы его двое, от силы четверо, и не было бы ни процессии, ни музыки. Паланкин обнесли вокруг всего города, мимо всех четырех ворот, как того требовал торжественный ритуал, следом на тележках катили дорогие свадебные подарки, выставленные на всеобщее обозрение в больших плетеных корзинах. Показавшись всему городу, она направилась в свой новый дом — просторный роскошный особняк. Бабушка была довольна: она чувствовала, что помпезность церемонии принесла ей уважение и престиж. Исяньские старожилы отродясь не видели ничего подобного.
У дома ее ждал окруженный местными чиновниками Сюэ в полном генеральском облачении. Гостиная — центральное место в доме — сияла от блеска красных свечей и ослепительных газовых ламп. Здесь он и она поклонились табличкам Неба и Земли, потом — друг другу, а затем, в соответствии с обычаем, бабушка удалилась в брачные покои одна, а генерал Сюэ с мужчинами отправился на роскошный банкет.
Генерал три дня не выходил из дома. Бабушка была счастлива. Она думала, что любит его, а он относился к ней с грубоватой нежностью. И не говорил с ней ни о чем серьезном, следуя традиционному изречению: «Волос долог, да ум короток». Китайский мужчина должен был оставаться сдержанным и величественным даже в кругу семьи. Поэтому бабушка вела себя смиренно, по утрам массировала ему пальцы ног, а вечером играла на цине. Через неделю он внезапно заявил, что уезжает. Куда, он не сказал, и она знала, что спрашивать не стоит. Ей надлежало ждать, пока он вернется. Ждать пришлось шесть лет.
В сентябре 1924 года началась схватка между двумя основными военными группировками Северного Китая. Генерал Сюэ стал заместителем главнокомандующего пекинским гарнизоном, но несколько недель спустя его прежний союзник генерал Фэн, диктатор–христианин, перешел на сторону противника. 3 ноября Цао Кунь, которого генералы Сюэ и Фэн годом ранее посадили в президентское кресло, был вынужден подать в отставку. В тот же день пекинский гарнизон распустили, а через два дня расформировали и пекинскую полицию. Генералу Сюэ пришлось спешно покинуть столицу. Он укрылся в собственном доме в Тяньцзине — на территории французской концессии, где обладал статусом неприкосновенности. Именно сюда год назад бежал президент Ли, когда генерал Сюэ изгнал его из президентского дворца.
Жившая в Исяне бабушка оказалась в самой гуще вновь вспыхнувшей войны. Армии соперничавших диктаторов боролись за контроль над северо–востоком, причем особое значение имели города, стоявшие вдоль железных дорог, тем более транспортные узлы, такие как Исянь. Вскоре после отъезда генерала Сюэ бои докатились до самых его стен, сражения шли прямо у городских ворот. Повсеместно распространилось мародерство. Одна итальянская оружейная фирма заявила севшим на мель генералам, что в счет долга готова принять «трофейные деревни». Изнасилования были в порядке вещей. Как и многим другим женщинам, бабушке пришлось вымазать лицо сажей, чтобы выглядеть грязной и уродливой. К счастью, на этот раз Исянь отделался легко. Сражения постепенно сместились к югу, и город вернулся к нормальной жизни.
Для бабушки жить «нормальной» жизнью значило придумывать, как бы получше убить время в своем огромном доме. То была типичная постройка в северокитайском стиле: жилые здания располагались по трем сторонам четырехугольника. С четвертой, южной стороны ее замыкала двухметровая стена с круглыми «лунными» воротами, выходившими во внешний двор, который, в свою очередь, запирался двойными воротами с круглым латунным молотком.
Такие дома строились в расчете на суровый климат с ледяной зимой и знойным летом, почти без осени и весны. Летом температура поднималась выше 35° по Цельсию, зимой же опускалась до–30°, а из Сибири через степи дул пронизывающий ветер. Большую часть года пыль разъедала глаза, впивалась в кожу, и людям часто приходилось прятать лицо под маской, а то и обматывать всю голову. В закрытых двориках окна основных комнат выходили на юг, чтобы впустить как можно больше света; северные стены встречали натиск пыли и ветра. В этой части дома помещались гостиная и бабушкина спальня. В боковых флигелях — службы, там жила челядь. Полы были выложены плиткой, деревянные окна затянуты бумагой, островерхая крыша покрыта гладкой черной черепицей.
По местным понятиям, дом был роскошным — он значительно превосходил жилище ее родителей, — но бабушка чувствовала себя несчастной и одинокой. У нее была прислуга: привратник, повар и две горничные, в чьи обязанности входила не только работа по дому, но и слежка за хозяйкой. Привратнику было приказано ни под каким видом не выпускать бабушку одну. Перед отъездом генерал Сюэ рассказал ей, в качестве предостережения, историю одной из своих наложниц. Узнав, что у той была интрижка со слугой, он велел привязать ее к кровати и заткнуть рот кляпом. Затем на кляп стали капать неразбавленный спирт, и женщина постепенно задохнулась. «Конечно, я не мог порадовать ее быстрой смертью. Для женщины нет низости большей, чем предать своего мужа», — сказал он. К женской неверности генерал относился гораздо строже, чем к мужской: «Любовника я просто застрелил», — добавил он непринужденно. Бабушка так и не узнала, произошло ли все это на самом деле, но в пятнадцать лет такой рассказ, как и ожидалось, напугал ее до смерти.
С того времени бабушка жила в постоянном страхе. Не имея возможности выходить на улицу, она принуждена была создать свой мир в четырех стенах. Но даже здесь она не была полноправной хозяйкой, и ей приходилось постоянно угождать слугам, чтобы те не возвели на нее напраслину, а это настолько вошло у них в обыкновение, что она почти не надеялась остановить их. Она осыпала их подарками и устраивала игру в маджонг, потому что выигравший обязан был давать слугам щедрые чаевые.
Она не испытывала нехватки в деньгах. Генерал регулярно посылал ей содержание, которое каждый месяц доставлял управляющий его ссудной кассы. Он же оплачивал ее проигрыши.
Игра в маджонг была обычным времяпрепровождением наложниц по всему Китаю. Как и в курении опиума, который был легко доступен, в нем видели средство держать таких, как она, в состоянии одурения и покорности. Многие наложницы, борясь с одиночеством, становились наркоманками. Генерал убеждал бабушку приобрести эту привычку, но она его не послушала.
Пожалуй, единственным предлогом, позволявшим ей покидать дом, служила опера. А вообще ей приходилось по целым дням сидеть дома. Она много читала, в основном пьесы и романы, и ухаживала за любимыми цветами: бальзамином, гибискусом, ялапой и китайской розой, которые, как и карликовые деревья, выращивала у себя во дворе в горшках. Другим утешением пленницы, сидевшей в золотой клетке, была кошка. Правда, бабушке дозволялось навещать родителей, но смотрели на это неодобрительно, и оставаться там на ночь не разрешалось. Хотя только с родителями и можно было поговорить, посещала она их с тяжелым чувством. Отец благодаря родству с генералом Сюэ получил пост заместителя начальника полиции, приобрел землю и другую собственность. Каждый раз, когда она открывала рот, чтобы посетовать на свои несчастья, отец начинал ее отчитывать — твердил, что добродетельная женщина должна держать свои чувства в узде и не иметь иных желаний, кроме как выполнять свой долг перед мужем. Скучать по мужу было правильно и добродетельно — женщине не пристало жаловаться. На самом–то деле, добродетельной женщине вообще не полагалось иметь свою точку зрения, и уж во всяком случае она никак не могла бесстыдно позволить себе ее высказывать. Частенько он поминал китайскую поговорку: «Если ты замужем за петухом, слушайся петуха; если замужем за псом, слушайся пса».
Миновало шесть лет. Вначале пришло несколько писем, потом наступило полное молчание. У бабушки не было ни малейшей возможности разрядить свою нервную и сексуальную энергию, она не могла даже мерить шагами комнаты — лишь осторожно семенила на маленьких ножках. Сперва, надеясь получить от генерала хоть какую–нибудь весточку, она то и дело воскрешала в памяти свою короткую жизнь с ним и ностальгически вспоминала даже свое полное физическое и психологическое ему подчинение. Бабушка очень скучала по генералу, хотя и знала, что она лишь одна из множества его наложниц, рассеянных, должно быть, по городам и весям всего Китая, и никогда не мечтала провести с ним рядом жизнь; и все же тосковала, ведь он был ее единственной надеждой на сносное существование.
Но недели превращались в месяцы, а месяцы — в годы, и тоска ее притупилась. Постепенно бабушка поняла, что она — игрушка, к которой он вернется, когда ему заблагорассудится. Теперь ей не на чем было сосредоточить бушевавшие в душе чувства. Загнанные в смирительную рубашку, они иногда вырывались на свободу, и тогда бабушка не знала, что с собой делать. Порой она теряла сознание и падала на пол. Такие обмороки повторялись потом до конца ее жизни.
Однажды — шесть лет спустя после того, как он «ненадолго» отлучился из дому — генерал вернулся. Встреча весьма отличалась от того, о чем она мечтала в начале их разлуки. Тогда она думала, что отдастся ему безоглядно, но теперь находила в себе лишь сдержанную почтительность. Ее также мучило беспокойство, что она, быть может, обидела кого–нибудь из слуг и они оговорят ее, чтобы снискать расположение хозяина и погубить ее. Но все прошло гладко. Генерал, которому было уже за пятьдесят, казалось, смягчился и выглядел далеко не так величественно. Как она и ожидала, он ни слова не сказал о том, где был, почему столь неожиданно ее покинул и зачем приехал, а она и не спрашивала. И не только потому, что не хотела получить выговор за любопытство, — ей было все равно.
В действительности все это время генерал находился совсем неподалеку. Он вел спокойную жизнь богатого, удалившегося на покой чиновника, деля свой досуг между домом в Тяньцзине и загородным особняком в Лулуне. Мир, где он некогда блистал, уходил в прошлое. Генералы, как и система вассальной зависимости, уже ничего не значили: большая часть Китая управлялась единой силой — Гоминьданом, то есть националистами, возглавляемыми Чан Кайши. В ознаменование разрыва с прошлым хаосом и начала новой, стабильной жизни Гоминьдан перенес столицу из Пекина («Северной столицы») в Нанкин («Южную столицу»). В 1928 году японцы, проявлявшие в регионе все большую активность, убили правителя Маньчжурии Чжан Цзолиня — Старого Маршала. Его сын, Чжан Сюэлян (известный как Молодой Маршал), примкнул к Гоминьдану и формально объединил Маньчжурию и остальной Китай, хотя Гоминьдан так и не смог реально взять власть в Маньчжурии в свои руки.
Генерал Сюэ пробыл в доме бабушки недолго. Точно так же, как и в первый раз, через несколько дней он внезапно объявил, что уезжает. В ночь накануне отъезда он попросил бабушку отправиться в Лулун вместе с ним. У нее замерло сердце. Если бы он приказал ей ехать, это означало бы пожизненное заключение в одном доме с его женой и наложницами. Бабушка была в смятении. Массируя ему ноги, она смиренно умоляла генерала позволить ей остаться в Исяне. Она поблагодарила его за необычайную доброту, с какой он разрешил ей в свое время не расставаться с родителями, и мягко напомнила, что мать ее нездорова: у той только что родился третий ребенок, желанный сын. Она сказала, что хотела бы исполнить свой дочерний долг, не переставая, конечно же, служить ему, мужу и повелителю, всякий раз, когда он удостоит Исянь своим посещением. На следующий день она уложила его вещи, и он отбыл в одиночестве. Уезжая, он, как и при своем появлении, осыпал ее драгоценностями: золотом, серебром, нефритом, жемчугом и изумрудами. Подобно многим мужчинам его сорта, он верил, что таков путь к женскому сердцу. Ведь для женщин вроде моей бабушки драгоценности были единственным надежным обеспечением в жизни.
Вскоре бабушка поняла, что беременна. В семнадцатый день третьей луны, весной 1931 года, она родила девочку — мою маму. Она написала об этом генералу Сюэ и получила ответ с указанием назвать дочку Баоцинь и привезти ее в Лулун, как только обе они будут в силах совершить долгое путешествие.
Бабушка была на седьмом небе от счастья, ведь теперь у нее был ребенок. Она обрела цель в жизни и отдавала всю свою любовь и энергию дочери. Год она прожила счастливо. Генерал Сюэ не раз просил ее приехать в Лулун, но ей неизменно удавалось найти какую–нибудь отговорку. Затем, в середине лета 1932 года, пришла телеграмма: генерал Сюэ тяжко болен и бабушка должна незамедлительно явиться вместе с дочерью. Тон телеграммы давал понять, что на этот раз отказаться невозможно.
До Лулуна было более трехсот километров, и для бабушки, которая никогда никуда не ездила, это означало дальнюю дорогу. Дополнительное затруднение представляли собой забинтованные ножки: бабушка не могла нести багаж, тем более с маленьким ребенком на руках. Она решила взять с собой младшую сестру — четырнадцатилетнюю Юйлань, которую звала просто Лань.
Поездка была опасной. Китай опять сотрясала война. В сентябре 1931 года Япония, непрерывно расширявшая свое влияние в регионе, предприняла крупномасштабное наступление на Маньчжурию, и 6 января 1932 года японские войска заняли Исянь. Два месяца спустя японцы объявили о создании нового государства, названного ими Маньчжоу–го («Страна маньчжур»), которое занимало большую часть северо–восточного Китая, то есть территорию размером с Францию и Германию, вместе взятые. Японцы утверждали, что Маньчжоу–го — независимая страна, но на самом деле ею управляли из Токио. Во главе государства поставили Пу И, последнего императора Китая, лишенного престола еще ребенком. Вначале он назывался «руководителем правительства»; позднее, в 1934 году, его провозгласили императором. Все это мало что значило для бабушки, почти лишенной связей с внешним миром. Большая часть населения фаталистически относилась к происходившему вокруг, поскольку что–либо изменить была не в силах. В глазах многих Пу И был законным правителем, маньчжурским императором и Сыном Неба. За двадцать лет, прошедшие после республиканской революции, в стране так и не сформировалось общество, способное выработать новую, немонархическую систему правления. Кроме того, у жителей Маньчжурии отсутствовало сколько–нибудь ясное представление о том, что они жители страны под названием Китай.
Жарким летним днем 1932 года бабушка, ее сестра и моя мама сели в Исяне в поезд и отправились на юг. Они покинули пределы Маньчжурии, проехав городок Шаньхайгуань, где Великая стена спускается с гор к морю. Когда паровоз с пыхтением мчался по прибрежной равнине, они могли видеть, как меняется пейзаж: в отличие от голой, коричнево–желтой почвы маньчжурских степей, земля здесь была темной, а растительность — густой, почти пышной по сравнению с северо–востоком. Миновав Великую стену, поезд повернул в сторону от моря и примерно час спустя прибыл в город Чанли, где они увидели перед собой здание с зеленой крышей, похожее на вокзал в каком–нибудь сибирском городе.
Бабушка наняла телегу и поехала по ухабистой пыльной дороге на север, по направлению к особняку генерала Сюэ, который находился километрах в тридцати, у стены городка Яньхэин, бывшего крупного военного лагеря, где часто появлялись маньчжурские императоры в окружении свиты. По этой причине дорога носила величественное название Императорского пути. Ее обрамляли тополя, сверкавшие на солнце светло–зеленой листвой. За ними расстилались персиковые сады, прекрасно плодоносившие на песчаных почвах. Однако бабушка, утомленная пылью и тряской, не могла наслаждаться чудесными видами. Все ее мысли были сосредоточены на том, что их ждет в конце пути.
Особняк с первого взгляда поразил ее своей величественностью. Огромные главные ворота охраняла вооруженная стража, застывшая по стойке «смирно» рядом с гигантскими статуями лежащих львов. В ряд выстроились восемь каменных столбиков для привязи лошадей: половина из них имела форму слонов, другая половина — обезьян. Эти животные были выбраны неслучайно: по–китайски одинаково звучат слова «слон» и «высокий пост» (сян), «обезьяна» и «аристократия» (хоу).
Когда телега через главные ворота въехала во внутренний двор, бабушка увидела перед собой лишь высокую пустую стену. В стороне она заметила вторые ворота. То был классический китайский прием: маскировочная стена, не дававшая посторонним заглядывать в чужой двор, а врагам — прицеливаться и стрелять через переднюю дверь. Как только они въехали во внутренние ворота, рядом с бабушкой откуда ни возьмись появилась служанка и бесцеремонно унесла ребенка. Другая служанка повела бабушку вверх по лестнице в гостиную жены генерала Сюэ. Войдя в комнату, бабушка встала на колени и коснулась головой земли со словами: «Здравствуйте, госпожа» — как того требовал этикет. Бабушкину сестру в комнату не допустили, а велели стоять снаружи — как служанке. В этом не было ничего особенного: родственники наложницы членами семьи не считались. После того, как бабушка отбила достаточное число поклонов, жена генерала позволила ей встать, формой обращения дав понять, что в домашней иерархии она занимает место младшей наложницы, что было ближе к статусу привилегированной служанки, чем жены.
Жена генерала велела ей сесть. Бабушке нужно было молниеносно принять решение. В традиционном китайском доме место, где человек сидит, соответствует его положению. Жена генерала Сюэ сидела в северной части комнаты, как ей и подобало. Рядом, отделенный от нее столиком, стоял другой стул, тоже обращенный к югу: то было место генерала. Вдоль стен стояли в ряд стулья для людей разного статуса. Бабушка засеменила назад и села на один из стульев, располагавшихся у самой двери, чтобы показать свое смирение. Тогда жена попросила ее сесть поближе — совсем чуть–чуть. Она должна была проявить некоторое великодушие.
Когда бабушка села, жена сказала ей, что теперь дочь будет воспитываться как ее (законной жены) собственный ребенок и называть мамой ее, а не родную мать. Бабушке же следовало держаться с ребенком так, как полагалось младшей наложнице.
Позвали служанку, чтобы она увела бабушку. У бабушки разрывалось сердце, но она дала себе волю и разрыдалась только в своей комнате. У нее еще были красные глаза, когда ее отвели ко второй наложнице генерала Сюэ, его любимице, управлявшей хозяйством. Она была красивая, с тонким лицом и, к бабушкиному удивлению, отнеслась к ней вполне сочувственно. Однако бабушка не позволила себе поплакать с ней вместе. В этой новой, непривычной обстановке, интуитивно чувствовала она, лучшей тактикой была осторожность.
В тот же день ее повели навещать «мужа», позволив взять с собой ребенка. Генерал лежал на кане — распространенной в северном Китае прямоугольной лежанке высотой чуть меньше метра, нагреваемой снизу кирпичной печью. Вокруг распростертого на ложе генерала стояли на коленях две не то наложницы, не то служанки, массировавшие ему ноги и живот. Глаза генерала Сюэ были закрыты, кожа имела землистый оттенок. Бабушка наклонилась над кроватью и нежно позвала его. Он открыл глаза и с трудом улыбнулся. Бабушка положила девочку на кровать рядом с ним и сказала: «Это Баоцинь». Сделав, казалось, невероятное усилие, генерал Сюэ слабо погладил ребенка по головке и проговорил: «Баоцинь похожа на тебя. Она очень хорошенькая». Потом закрыл глаза.
Бабушка окликнула его, но он не открыл глаз. Она видела, что он тяжело болен, возможно, умирает. Она взяла малышку на руки и крепко прижала к себе. Но лишь на мгновение: жена генерала, маячившая неподалеку, тотчас нетерпеливо потянула ее за рукав. За дверью она предупредила бабушку, что та не должна беспокоить хозяина слишком часто, а лучше и вовсе этого не делать. Ей надлежало оставаться в своей комнате, пока ее не позовут.
Бабушкино сердце трепетало от страха. Она была наложницей, и их с дочерью жизнь подвергалась большой, быть может, смертельной опасности. У нее не было никаких прав. Если генерал умрет, ее судьба всецело будет зависеть от воли жены, которая вправе решать, жить ей или умереть. Та могла сделать все, что ей вздумается: продать бабушку богатому мужчине, а то и в бордель, что было весьма распространено. Тогда моя бабушка уже никогда не увидала бы свою дочь. Она понимала, что нужно забрать ребенка и бежать при первой же возможности.
Вернувшись в свою комнату, бабушка постаралась успокоиться — нужно было продумать план побега. Но стоило ей хоть на миг сосредоточиться, как в голову ударяла кровь. У нее подкашивались ноги, и передвигаться она могла, лишь опираясь на мебель. Не выдержав, она вновь разрыдалась — отчасти от злости на судьбу, потому что не находила выхода из положения. Хуже всего было то, что генерал мог умереть в любую минуту и навсегда оставить ее в ловушке.
Постепенно она сумела взять себя в руки и вернуть мыслям ясность. Она стала шаг за шагом осматривать особняк. Он был разделен на множество двориков, располагавшихся на большой территории, огороженной высокими стенами. Даже сад разбивали, исходя скорее из соображений безопасности, чем эстетики. Там росло несколько кипарисов, берез и слив мэйхуа, но все — вдали от стен. Чтобы потенциальному убийце негде было спрятаться, не посадили даже крупных кустов. Двое ворот, которые вели из сада, запирались на висячий замок, а у внешних ворот круглосуточно стояли вооруженные стражники.
Бабушка не имела права покидать огороженную территорию. Ей дозволялось ежедневно навещать генерала, но только в составе своеобразной «туристической группы» — вместе с другими женщинами: в порядке очереди она приближалась к его кровати и чуть слышно говорила: «Здравствуйте, господин».
Постепенно она стала лучше представлять себе ситуацию в доме. Из женщин наибольшим влиянием, помимо жены генерала, пользовалась вторая наложница. Бабушка поняла: та велела челяди обращаться с ней хорошо, что очень облегчило ей жизнь. В таких домах отношение слуг определялось статусом тех, к кому они были приставлены: они заискивали перед теми, кто был в фаворе, и третировали впавших в опалу. К тому же у второй наложницы была дочь чуть старше моей матери, что стало еще одним связующим звеном между двумя женщинами. Этим же объяснялась благосклонность к наложнице генерала Сюэ, у которого, не считая моей матери, не было других детей.
Через месяц, когда они со второй наложницей уже стали подругами, бабушка пошла к жене генерала и сказала, что ей нужно домой: привезти кое–что из нарядов. Жена дала свое согласие, но когда бабушка спросила, нельзя ли ей взять с собой дочку попрощаться с дедушкой и бабушкой, та отказала. Девочке, в чьих жилах текла кровь рода Сюэ, нельзя было покидать пределы дома.
Итак, бабушка отправилась одна по пыльной дороге, ведущей в Чанли. Кучер высадил ее у станции, и она, порасспросив околачивавшийся там люд, нашла двух парней с лошадьми, изъявивших готовность ей помочь. Дождавшись ночи, они устремились коротким путем обратно в Лулун. Один из верховых посадил ее в седло, а сам бежал впереди, держа лошадь под уздцы.
Добравшись до особняка, бабушка пробралась к задним воротам и подала условный знак. Через несколько минут, которые показались ей часами, калитка в воротах распахнулась, и оттуда выбежала бабушкина сестра с моей мамой на руках. Калитку оставила открытой сговорившаяся с бабушкой вторая наложница, она же ударила по воротам топором — будто их взламывали.
У бабушки не было времени приласкать мою маму, к тому же она не хотела ее будить, чтобы девочка не подняла шум и не привлекла внимание охраны. Бабушка с сестрой сели на лошадей, маму привязали к спине одного из верховых, и заговорщики исчезли в ночи. Верховым хорошо заплатили, и они мчались во весь дух. К рассвету беглецы добрались до Чанли, и прежде чем поднялась тревога, они уже ехали в поезде на север. Когда, наконец, на закате поезд прибыл в Исянь, бабушка упала на землю и долго лежала не в силах пошевелиться.
В трехстах километрах от Лулуна она была в относительной безопасности. Она не могла взять дочь к себе в дом из–за слуг, поэтому попросила школьную подругу спрятать девочку у себя. Подруга жила у свекра, маньчжурского врача по фамилии Ся. Он пользовался славой доброго человека, не способного предать друга или отказать в помощи.
Было ясно, что семья Сюэ не станет преследовать простую наложницу. Для них важна была только моя мать, отпрыск рода Сюэ. Бабушка послала в Лулун телеграмму, в которой говорилось, что в поезде ребенок заболел и умер. Последовало томительное молчание, во время которого бабушкино настроение менялось поминутно, она бросалась из одной крайности в другую: то у нее возникало чувство, что семья ей поверила, то она мучилась мыслями, что все не так и враги уже послали головорезов за ней или ее дочерью. В конце концов она успокоила себя тем, что семья Сюэ слишком занята надвигающейся смертью патриарха, чтобы тратить силы на наложницу, и что, возможно, другим женщинам выгодно отсутствие девочки.
Поверив наконец, что семья генерала оставила ее в покое, бабушка поселилась в своем исяньском доме вместе с дочкой. Даже на слуг она больше не обращала внимания, потому что знала: «муж» не приедет. Вестей из Лулуна не поступало более года. В один из осенних дней 1933 года бабушка получила телеграмму: генерал Сюэ скончался и ей предписывается немедленно явиться в Лулун на похороны.
Генерал умер в Тяньцзине в сентябре. Его тело доставили в Лулун в лакированном гробу, затянутом красной парчой, вместе с двумя другими гробами: один был покрыт лаком и украшен красным шелком, как и его собственный, а другой — простой, из обычного дерева. В первом гробу покоилось тело одной из генеральских наложниц, проглотившей опиум, чтобы сопроводить его в мир иной, — это почиталось вершиной супружеской верности. Позднее в особняке генерала Сюэ в ее честь установили табличку с каллиграфией знаменитого военного правителя У Пэйфу. Во втором гробу лежали останки другой наложницы, скончавшейся от тифа двумя годами ранее. По обычаю, ее тело извлекли из земли, чтобы похоронить рядом с генералом Сюэ. Наложницу положили в обычный деревянный гроб потому, что смерть от ужасной болезни считалась знаком дурной судьбы. В каждый гроб поместили ртуть и древесный уголь, чтобы предохранить трупы от тления, а во рту у покойных были жемчужины.
Генерала Сюэ и наложниц похоронили в одной могиле. Жена и остальные наложницы со временем должны были найти там же последний приют. На похоронах полагалось, чтобы обряд призывания души покойного исполнял его сын, держа в руках особое знамя. Поскольку у генерала не было сына, жена усыновила для этой цели его десятилетнего племянника. На мальчика была возложена и другая задача: стоя у гроба, он должен был выкрикивать: «Берегись!» Согласно традиции, в противном случае покойник пострадал бы от гвоздей.
Место захоронения выбрал сам генерал Сюэ в соответствии с принципами геомантии (геомантия, или фэншуй — традиционное китайское учение о местах, благоприятных или неблагоприятных для постройки домов, захоронений и т. п.): могилу должен окружать красивый безмятежный пейзаж. За ней, на севере, возвышались далекие горы, а с южной стороны между эвкалиптами бежал ручей. Тем самым генерал выразил желание иметь позади твердую опору — горы, а перед собой — отражение сияющего солнца, символ процветания.
Однако бабушка никогда так и не посетила этого места: она сделала вид, что не получала никакого письма и на похороны не поехала. Очень скоро к ней перестал являться управляющий ссудной кассы с содержанием. Через неделю после похорон бабушкины родители получили письмо от жены генерала Сюэ. Последними его словами было повеление вернуть бабушке независимость. Для того времени он поступил на редкость просвещенно, и бабушка не могла поверить своей удаче.
В двадцать четыре года она обрела свободу.
2. «Сладкая ключевая вода»: Замужем за маньчжурским врачом (1933–1938)
В письме жены генерала Сюэ содержалась просьба к бабушкиным родителям забрать дочь к себе. Хотя она была выражена в традиционно–уклончивой манере, бабушка понимала, что это приказ освободить дом.
Отец встретил дочь с явной неохотой. Он давно перестал притворяться добрым семьянином. Породнившись с генералом Сюэ, он резко пошел наверх. Заняв должность заместителя начальника полиции и войдя в круг людей со связями, он приобрел довольно значительное состояние, купил землю и пристрастился к опиуму.
Едва получив новое назначение, он тут же завел наложницу–монголку, которую ему подарил его непосредственный начальник. То был обычный подарок коллеге, восходящему по служебной лестнице, и начальник местной полиции был только рад сделать приятное протеже генерала Сюэ. Однако прадед вскоре стал подумывать о новой наложнице, ибо такому человеку, как он, подобало иметь их как можно больше — то было свидетельство высокого статуса. Долго искать не пришлось: у наложницы была сестра.
Когда бабушка вернулась к родителям, обстановка в доме сильно отличалась от той, что была десять лет назад. У одной из наложниц родилась дочь — ровесница моей матери. Бабушкина сестра Лань еще не вышла замуж, несмотря на «солидный» возраст (шестнадцать лет), что выводило Яна из себя.
Из одного змеиного гнезда бабушка угодила в другое. И сама она, и ее мать вызывали у отца раздражение. Жена раздражала его самим своим присутствием, а после того, как он завел привлекательных наложниц, он стал еще нетерпимее. За стол он садился с наложницами, а жену отсылал есть отдельно. Дочь же раздражала его потому, что, вернувшись, нарушила порядок в выстроенном им домашнем мирке.
Кроме того, отец боялся, что она наведет на него порчу (кэ), потому что у нее умер муж. В те дни вдова внушала суеверный страх: ее считали ответственной за смерть мужа. Прадед опасался, что дочь сглазит его, спугнет удачу, и хотел, чтобы она поскорее убралась подальше.
Да и наложницы его подзуживали. Ведь они заправляли в доме по–своему. Прабабушка была человеком мягким, даже слабым. Хотя теоретически у нее был более высокий статус, чем у наложниц, на деле она всецело зависела от их капризов. В 1930 году у нее родился сын Юйлинь. Это лишило наложниц уверенности в завтрашнем дне: после смерти главы семьи все имущество автоматически наследовал сын. Они выходили из себя, если Ян выказывал хоть какую–то приязнь к собственному ребенку. С тех пор, как родился Юйлинь, они усилили психологическую войну против прабабушки и выживали ее из собственного дома. С ней разговаривали подчеркнуто холодно, с каменным выражением лица, да и поводом для общения служили лишь придирки и жалобы. От мужа, который не стал презирать ее меньше после рождения сына, она не получала никакой поддержки. Он нашел новые поводы для недовольства.
Характером бабушка была сильнее своей матери, а пережитые за десять лет несчастья лишь закалили его. Ее побаивался даже собственный отец. Она сказала себе, что больше никогда не покорится ему и будет бороться за себя и за мать. В ее присутствии наложницам приходилось вести себя осторожнее и даже порой услужливо улыбаться.
В такой атмосфере жила моя мама с двух до четырех лет — в годы, когда формируется человеческая личность. Даже материнская любовь не могла полностью оградить ее от напряжения, царившего в доме.
Бабушка была теперь красивой молодой женщиной чуть старше двадцати. Она обладала многими достоинствами, и несколько человек сватались к ней. Но так как она побывала в наложницах, жениться по–настоящему готовы были только бедняки, которые никак не устраивали господина Яна.
Бабушка вдоволь насмотрелась на мир наложниц, полный злобы и мелочной мстительности, где существовал только выбор между тем, чтобы стать жертвой или сделать своими жертвами других. Единственное, чего она желала, — спокойно растить дочь.
Отец надоедал ей требованиями выйти замуж, иногда намекая, иногда прямо заявляя, что она должна слезть с его шеи. Но идти ей было некуда. Негде было жить, негде работать. Через какое–то время от постоянного перенапряжения у бабушки случился нервный срыв. Позвали врача. Пришел доктор Ся, в чьем доме три года назад после побега из особняка генерала Сюэ прятали мою мать. В соответствии с господствовавшим тогда строгим разделением полов, доктор Ся никогда не видел мою бабушку, хотя она была подругой его невестки. Войдя в комнату, он был так потрясен бабушкиной красотой, что в смущении вышел обратно и пробормотал служанке, что плохо себя чувствует. Постепенно к нему вернулось самообладание, он вернулся и обстоятельно поговорил с ней. Это был первый мужчина, с которым бабушка смогла поделиться мыслями и чувствами, и она поведала ему все свои горести и надежды •— правда, сдержанно, как и подобает женщине, говорящей с посторонним. Доктор отнесся к ней сердечно и тепло: бабушка впервые ощутила, что ее понимают. Вскоре они полюбили друг друга, и доктор Ся сделал ей предложение. Вдобавок он сказал бабушке, что хотел бы жениться на ней по–настоящему, а мою мать вырастить как собственную дочь. Бабушка дала согласие, плача от радости. Ее отец тоже был доволен, хотя не преминул сообщить доктору Ся, что не может дать за ней приданого. Доктор Ся ответил, что это не имеет значения.
У доктора Ся — традиционного китайского медика — была в Исяне обширная практика и прекрасная профессиональная репутация. По национальности он был не ханьцем, как семья Ян и большинство жителей Китая, а маньчжуром, представителем народа, исконно населявшего эти места. Его предки служили лекарями при дворах маньчжурских императоров и не раз удостаивались почестей за свои услуги.
Доктор Ся пользовался славой не только замечательного врача, но и очень доброго человека, часто лечившего бедняков бесплатно. Это был крупный человек, больше метра восьмидесяти ростом, но, несмотря на внушительные размеры, изящный в движениях. Он всегда носил традиционные длинные одежды. У него были добрые карие глаза, бородка и длинные свисающие усы. И лицо, и вся его фигура излучали спокойствие.
Доктор сделал бабушке предложение будучи человеком преклонного возраста. Ему исполнилось шестьдесят пять лет, он был вдовцом с тремя взрослыми женатыми сыновьями и замужней дочерью. Сыновья жили вместе с ним. Старший управлял домом и семейной фермой, средний — врач — работал с отцом, а третий, муж бабушкиной одноклассницы, учительствовал. У сыновей было восемь человек детей, один из которых уже женился и сам имел сына.
Доктор Ся позвал сыновей к себе в кабинет и сообщил о своих планах. Они слушали с недоверием, обмениваясь украдкой недобрыми взглядами. Повисло тяжелое молчание. Затем старший сказал: «Полагаю, отец, ты хочешь взять ее в наложницы». Доктор возразил, что собирается жениться. Это имело огромное значение, потому что бабушка стала бы мачехой его сыновьям, представительницей старшего поколения, окруженной не меньшим почетом, чем ее супруг. В китайской семье младшее поколение обязано было смотреть на старших снизу вверх и подчеркивать разницу в положении соответствующим поведением; доктор же придерживался еще более строгого этикета — маньчжурского. Младшим надлежало выражать старшим свое почтение утром и вечером: мужчины становились на колени, а женщины делали нечто вроде реверанса. По праздникам мужчины били полные поклоны. То, что бабушка некогда была наложницей, а также разница в возрасте, означало, что им придется повиноваться женщине намного моложе и ниже их по статусу, и сыновья не могли с этим смириться.
Они собрались всей семьей и довели себя до состояния крайнего негодования. Даже невестка, бабушкина школьная подруга, расстроилась, потому что женитьба свекра кардинально изменила бы ее отношения с бывшей одноклассницей. Она уже не смогла бы есть с ней за одним столом или даже сидеть вместе с ней; ей пришлось бы выполнять малейшие бабушкины желания и даже отбивать перед ней поклоны.
Все члены семьи — сыновья, невестки, внуки, даже правнук — по очереди ходили к доктору Ся, чтобы умолить его «пощадить чувства близких». Они падали на колени, простирались в земном поклоне, плакали и рыдали.
Они умоляли доктора Ся вспомнить, что он маньчжур и, согласно древнему маньчжурскому обычаю, человек его положения не должен жениться на китаянке. Доктор Ся заметил, что правило давно отменили. Дети отвечали: если он настоящий маньчжур, то все равно должен ему следовать. Они не переставали напоминать ему о разнице в возрасте. Один из членов семьи привел древнее изречение: «Молодая жена старого мужа принадлежит другому мужчине».
Еще тяжелее доктор Ся переживал эмоциональный шантаж — особенно слова о том, что, если он возьмет в жены бывшую наложницу, это отразится на положении его детей. Он понимал — дети действительно «потеряют лицо» («Потеря лица» — одно из основополагающих понятий китайской этики, означающее крайнюю степень позора), и чувствовал себя виноватым. Но доктор Ся считал, что на первое место он должен ставить счастье бабушки. Если бы он взял ее в наложницы, она не только потеряла бы лицо, но превратилась бы в рабыню всей семьи. Чтобы его любовь служила ей защитой, она должна была стать его полноправной женой.
Доктор Ся просил семью уважить желание старика. Но и семья и общество считали, что безответственным желаниям потакать нельзя. Некоторые намекали, что он впал в старческое слабоумие. Другие говорили: «У вас уже есть сыновья, внуки и даже правнук — большая, благополучная семья. Чего вам не хватает? Зачем на ней жениться?»
Доводов становилось все больше. На сцене появлялись все новые и новые родственники и друзья, приглашаемые сыновьями. Они единогласно утверждали: женитьба — безумная затея. Затем набрасывались на бабушку: «Вновь собираться замуж, когда еще не остыл труп покойного мужа!» «Эта женщина все рассчитала: не хочет быть наложницей — ей нужно быть полноправной женой! Если она в самом деле любит вас, почему ее не устраивает положение наложницы?» Бабушке приписывали коварные замыслы: она интригами хочет заставить доктора Ся взять ее в жены, а потом захватит власть в семье и будет дурно обращаться с его детьми и внуками. Распускали слухи, будто бабушка покушается на деньги доктора Ся. За всеми этими разговорами о пристойности, нравственности и подлинном благе для доктора скрывалось одно — тревога о том, кому достанется его имущество. Родственники боялись, что бабушка завладеет его богатством, потому что, будучи женой, станет хозяйкой дома.
Доктор Ся был состоятельным человеком. Ему принадлежало восемьсот гектаров земли в уезде Исянь, а также несколько участков к югу от Великой стены. Он построил в городе просторный дом из серого кирпича с изящной белой каемкой. Беленые потолки и обои на стенах, закрывавшие балки и стыки, служили немаловажным признаком благосостояния. Кроме того, он владел аптечной лавкой, имел обширную медицинскую практику.
Увидев, что уговоры безрезультатны, семья решила оказать давление на бабушку. Однажды ей нанесла визит невестка, ее школьная подруга. После чая и легкой болтовни подруга заговорила наконец о том, ради чего пришла. Бабушка залилась слезами и, как было между ними принято, взяла ее за руку. «Что бы ты сделала на моем месте?» — спросила она. Не получив ответа, она поспешно продолжала: «Ты знаешь, что такое наложница. Ты ведь не хотела бы для себя такой судьбы? Знаешь, есть изречение Конфуция: «Цзян синь би синь — представь, что мое сердце — твое?!»» Иногда лучше воззвать к высоким чувствам собеседника и напомнить заповедь Учителя, чем ответить прямым отказом.
Подруга вернулась домой с чувством вины и сообщила о своей неудаче. Она намекнула, что ей не хватило духа сильнее надавить на бабушку. Она обрела единомышленника в лице Дэгуя, среднего сына доктора Ся. Дэгуй работал врачом вместе с отцом и был к нему ближе, чем братья. Он сказал, что они не должны мешать этому браку. Младший сын тоже пошел было на попятный, когда жена описала ему бабушкино отчаяние. Более всех негодовали старший сын с женой. Увидев, что остальные дрогнули, жена сказала мужу: «Конечно, им все равно. У них есть ремесло. Эта женщина его не отнимет. Но что есть у тебя? Ты всего лишь управляешь состоянием старика — а оно отойдет ей и ее дочери. Что станется со мной, бедной, что станется с нашими бедными детьми? Нам негде будет голову преклонить. Может быть, нам всем умереть? Может быть, твой отец этого и хочет? Может быть, мне нужно покончить с собой, чтобы они успокоились?!» Все это сопровождалось горестными воплями и потоками слез. Муж взволнованно ответил: «Дай мне сроку до завтра».
Проснувшись на следующее утро, доктор Ся обнаружил у дверей спальни пятнадцать человек — всю свою семью, кроме Дэгуя. Как только старик появился, старший сын выкрикнул: «Поклоны!» — и все разом пали ниц; затем дрожащим от волнения голосом он провозгласил: «Отец, ваши дети и вся ваша семья останутся здесь и будут кланяться, пока не умрут, если вы не задумаетесь о нас, ваших родственниках, и более всего — о себе самом».
Доктор Ся затрясся от ярости. Он велел им встать, но прежде чем кто–либо успел пошевельнуться, старший сын воскликнул: «Нет, отец, мы не встанем, если вы не отмените свадьбу!» Доктор Ся попробовал вразумить его, но тот продолжал возражать дрожащим голосом, выводя старика из себя. Наконец доктор сказал: «Я знаю, о чем вы думаете. Мне недолго осталось. Вы боитесь вашей будущей мачехи, но у меня нет ни малейшего сомнения, что она будет обходиться с вами очень хорошо. Я знаю — у нее доброе сердце. Вы понимаете, что я не могу предложить вам никакого другого доказательства, кроме ее достоинств...»
При слове «достоинства» старший сын громко фыркнул: «Какие «достоинства» могут быть у наложницы? Начнем с того, что хорошая женщина в наложницы бы не пошла!» Затем он стал оскорблять бабушку. Тут доктор Ся не выдержал. Он поднял палку и принялся колотить ею сына.
Всю свою жизнь доктор Ся был воплощением спокойствия и самообладания. Семья, продолжавшая стоять на коленях, была потрясена. Правнук истерически заголосил. Старший сын на мгновение потерял дар речи, но тут же вновь закричал, уже не только от физической боли, но и от раненной гордости, уязвленный побоями в присутствии своей семьи. Доктор Ся остановился, запыхавшись от гнева и изнеможения. Сын тут же продолжил выкрикивать оскорбления в бабушкин адрес. Отец, вне себя, приказал ему замолчать и так его ударил, что сломал палку.
Сын на мгновение замер от унижения и боли. Потом выхватил пистолет и посмотрел доктору Ся прямо в глаза.
«Верный подданный увещевает императора своей смертью. Почтительный сын так же ведет себя с отцом. Я могу убедить вас, лишь распрощавшись с жизнью!» Прогремел выстрел. Сын покачнулся и рухнул на пол — он пустил себе пулю в живот.
Его тут же отправили на повозке в ближайшую больницу, где он на следующий день умер. Возможно, он не собирался накладывать на себя руки, а просто хотел сделать театральный жест, чтобы поколебать сопротивление отца.
Смерть сына сломила доктора Ся. Хотя внешне он держался спокойно, как и прежде, люди, его знавшие, видели, что это спокойствие омрачено глубокой печалью. С тех пор он стал подвержен приступам меланхолии, нисколько не похожей на его былую невозмутимость.
Исянь бурлил негодованием, слухами, обвинениями. Доктору Ся и особенно бабушке давали понять, что вина за происшедшее лежит на них. Но доктор решил показать, что его ничто не остановит. Вскоре после похорон он назначил день свадьбы. Он предупредил детей, что им предстоит воздавать надлежащие почести своей новой матери, и послал приглашения первым людям в городе. Обычай предписывал им явиться и преподнести подарки. Он также велел бабушке приготовиться к пышной церемонии. Ее пугали обвинения и их непредсказуемое влияние на доктора Ся, и она отчаянно пыталась убедить себя, что не виновата. Однако главным из владевших ею чувств была дерзкая неустрашимость. Она дала согласие на торжественный ритуал. В день свадьбы она покинула отцовский дом в роскошном паланкине, сопровождаемом процессией музыкантов. По маньчжурскому обычаю ее семья наняла паланкин, который вез невесту первую половину дороги к новому дому, а жених послал другой паланкин, в котором ее несли вторую половину пути. В месте пересадки Юйлинь, ее пятилетний брат, встал у дверцы паланкина, согнув спину, чтобы показать таким образом, что вносит сестру на себе в паланкин доктора Ся. Он снова принял эту позу, когда они прибыли к жилищу доктора. Женщина не могла просто войти в дом мужчины — это означало бы «потерю лица». Нужно было, чтобы люди видели: ее туда вносят, а следовательно, она, как и полагается, выходит замуж неохотно.
Две подружки невесты ввели ее в комнату, где должна была состояться церемония. Доктор Ся стоял перед покрытым тяжелой красной парчой столом, на котором лежали таблички Неба, Земли, Императора, Предков и Учителя. На женихе была богато украшенная шапка, похожая на корону, с плюмажем сзади, напоминавшим хвост, и длинный широкий вышитый халат с рукавами в форме колоколов — традиционное одеяние маньчжур, предназначавшееся для верховой езды и стрельбы из лука и существовавшее еще со времен кочевой жизни. Он опустился на колени, пять раз поклонился табличкам и прошел в брачные покои.
Затем бабушка, все еще сопровождаемая двумя служанками, сделала пять реверансов, каждый раз касаясь волос правой рукой, словно отдавая салют. Она не могла отбивать поклоны из–за высокого тяжелого головного убора. Потом она последовала за доктором Ся в брачные покои, где он снял с нее красное покрывало. Подруги невесты вручили им по вазе в форме тыквы–горлянки, они обменялись сосудами, и подруги удалились. Доктор Ся и бабушка побыли вместе в полном молчании, и доктор вышел к родственникам и гостям. Бабушке пришлось неподвижно просидеть на кане несколько часов в полном одиночестве, не отрывая глаз от окна с наклеенным на него большим красным бумажным иероглифом «двойного счастья». Это называлось «высиживать счастье» и символизировало спокойствие, которое считалось важнейшим достоинством женщины. Когда гости разошлись, вошел молодой родственник доктора Ся и трижды потянул ее за рукав. Только теперь она могла встать с кана. С помощью двух прислужниц она сменила свой богато расшитый наряд на простое красное платье и красные штаны. Она сняла огромный головной убор, звеневший драгоценными камнями, и уложила волосы над ушами двумя корзинками. Итак, в 1935 году моя четырехлетняя мама и бабушка, которой исполнилось двадцать шесть, переехали в удобный дом доктора Ся. То был целый архитектурный комплекс: собственно жилые помещения занимали внутреннюю его часть, а на улицу смотрели амбулатория и аптечная лавка. У преуспевающих врачей обычно были свои аптеки. Здесь доктор Ся продавал традиционные китайские лекарства, травы и вытяжки из тканей животных — все это приготовлялось в мастерской тремя учениками.
Фасад дома был украшен множеством красных и золотистых карнизов. В центре висела прямоугольная табличка с золочеными иероглифами «Семья Ся». Позади лавки располагался дворик с выходившими туда комнатами для слуг и поваров. Затем следовало несколько двориков поменьше с помещениями, где обитали члены семьи. Далее шел большой сад с кипарисами и зимними сливами мэйхуа. Во двориках — из–за сурового климата — не росла трава, всюду простиралась лишь голая твердая коричневая земля, которая летом превращалась в песок, а короткой весной, когда таял снег, — в грязь. Доктор Ся любил птиц, у него был птичий сад, и каждое утро в любую погоду он под птичье пение и щебет делал цигун — одну из разновидностей медленной, грациозной китайской гимнастики, часто называемой тайцзи.
После смерти сына доктор Ся постоянно читал молчаливый упрек в глазах родных. Он никогда не говорил с бабушкой о своей боли: китайский мужчина не должен был жаловаться. Конечно, бабушка знала, что он переживает, и молча страдала вместе с ним. Она относилась к нему очень нежно и всей душой стремилась выполнять любые его желания.
Она всегда улыбалась, встречаясь с членами семьи, которые в ответ демонстрировали ей свое презрение, едва прикрытое вежливостью. Даже невестка, бывшая школьная подруга, избегала ее. Бабушка мучилась сознанием того, что ее считают виновной в смерти старшего сына.
Весь ее образ жизни стал маньчжурским. Она спала в одной комнате с моей мамой, а доктор Ся — отдельно. Каждое утро, проснувшись очень рано и еще не встав с постели, она прислушивалась, не раздаются ли шаги домочадцев, и ощущала, как у нее до предела напрягаются нервы. Она спешила умыться и приветствовать каждого согласно строго расписанному ритуалу. К тому же нужно было успеть соорудить очень сложную прическу, способную выдержать огромный головной убор, под который надевался еще и парик. От домашних же она слышала только ледяное «доброе утро», и это были, в сущности, единственные слова, с которыми они к ней обращались. Наблюдая, как расшаркиваются перед ней родственники, она понимала, что в душе они ее ненавидят. Церемония, и без того тяжелая, раздражала ее еще больше своей фальшью.
По праздникам и в других торжественных случаях вся семья обязана была отбивать ей поклоны и делать реверансы, ей же — в ответ на эти знаки почтения — следовало вскочить со стула и встать рядом, показывая тем самым, что она освобождает место их покойной матери. Маньчжурские обычаи словно нарочно были созданы для того, чтобы держать их с доктором Ся подальше друг от друга. Им нельзя было даже еду вкушать вместе, а во время трапезы за бабушкиной спиной всегда стояла какая–нибудь из прислуживавших ей невесток. Но у всех были такие каменные лица, что бабушка редко когда доедала до конца то, что лежало на тарелке, и уж тем более не испытывала от еды удовольствия.
Однажды — это случилось вскоре после того, как она переехала в дом доктора — мама устроилась было в уютном, теплом местечке на кане, как вдруг доктор Ся изменился в лице и грубо столкнул ее оттуда: она села на его особое место. Это был первый и последний раз, когда он поднял на нее руку. По маньчжурским обычаям, место его было священно.
Жизнь в докторском доме впервые подарила бабушке толику свободы, но в то же время наложила новые путы. Для моей матери эти перемены тоже оказались двойственными. Доктор Ся был к ней очень добр и растил как собственную дочь. Она называла его «отец», и он дал ей свою фамилию — Ся, которую она носит по сей день, а также имя Дэхун, составленное из двух знаков: хун, то есть «дикий лебедь», и дэ, имя ее поколения, означающее «добродетель».
Семья доктора Ся не решалась открыто оскорблять бабушку — это было бы предательством собственной «матери». Другое дело — ее дочь. Среди первых детских воспоминаний моей мамы — не только бабушкина ласка, но и обиды, которые ей наносили дети в семье Ся. Она старалась не плакать, прятала от бабушки ссадины и синяки, но та понимала, что происходит. Бабушка ничего не говорила доктору, не желая расстраивать его и быть причиной новых раздоров между ним и его детьми. Но мама страдала и часто просила, чтобы ее отправили обратно к дедушке с бабушкой или в дом, купленный когда–то генералом Сюэ, где все обращались с ней как с принцессой. Однако вскоре она поняла, что проситься «домой» бесполезно — ее мать лишь плакала в ответ.
Лучшими мамиными друзьями были домашние животные и птицы: сова, скворец, умевший говорить несколько простых фраз, сокол, кошка, белые мыши, а еще кузнечики и сверчки, которых мама держала в бутылках. Из людей, кроме собственной матери, близким ей человеком был только кучер доктора Ся — Большой Ли. Крепкий, с дубленой от ветра кожей, он был родом с Хинганских гор, с самого севера, где сходятся границы Китая, Монголии и Советского Союза. Смуглое лицо, жесткие волосы, толстые губы, вздернутый нос — необычная для китайца внешность. Он был высок, худ и жилист. Отец вырастил его охотником и следопытом. В горах они вдвоем копали корни женьшеня, охотились на медведей, лис и оленей. Какое–то время они успешно торговали шкурами животных, но потом их выжили бандиты, худшие из которых работали на Старого Маршала — Чжан Цзолиня. Большой Ли называл его «разбойничьим отродьем». Позднее, когда маме говорили, что Старый Маршал — пламенный патриот, боровшийся против японцев, она вспоминала, как Большой Ли смеялся над «героем Северо–Востока».
Большой Ли ухаживал за мамиными зверями и брал ее с собой на природу. Зимой он научил ее кататься на коньках. Весной, когда сходил снег, они вместе наблюдали, как люди совершают важный ежегодный ритуал «подметания гробниц» и сажают цветы на могилах предков. Летом они ходили на рыбалку и за грибами, осенью выезжали на окраину города стрелять зайцев.
Долгими маньчжурскими вечерами, когда в степи выл ветер и окна покрывались изморозью, Большой Ли устраивался на теплом кане, сажал маму на одно колено и рассказывал ей чудесные истории о горах Севера. Она засыпала, мечтая о загадочных высоких деревьях, небывалых цветах, сладкоголосых ярких птицах и корешках женьшеня, которые на самом деле были маленькими девочками: выкопав, их следовало обвязать красной веревочкой, чтобы не убежали.
Большой Ли рассказывал маме и о повадках зверей. Тигры, бродившие тогда по горам северной Маньчжурии, добродушны и не трогают человека, если не ощущают опасности. Тигров он любил. Медведи — совсем другое дело: они свирепые, от них следует держаться подальше. Если все–таки встретишь медведя, нужно замереть, пока он не опустит голову: на лбу у медведя челка, которая, когда он опускает голову, закрывает ему глаза и мешает смотреть. При виде волка нельзя поворачиваться и бежать, потому что убежать невозможно. Нужно остановиться и глядеть ему прямо в глаза, будто тебе не страшно, а потом начать медленно–медленно отходить назад. Годы спустя уроки Большого Ли спасли маме жизнь.
Однажды, когда маме было пять лет и она играла в саду со своими животными, ее окружили внуки доктора Ся, стали толкать, обзывать, а потом бить и швырять из стороны в сторону. Они загнали ее в угол сада, где был засохший колодец, и спихнули туда. Колодец был глубокий, и она больно ударилась о камни на дне. В конце концов кто–то услышал ее крики и позвал Большого Ли, который прибежал с лестницей. Он полез вниз. Повар держал лестницу. Одновременно с ними, сама не своя, прибежала бабушка. Через несколько минут Большой Ли вытащил маму в полубессознательном состоянии, всю в ссадинах и ушибах, наверх и передал бабушке. Маму отнесли в дом, где доктор Ся осмотрел ее и обнаружил перелом одной из тазовых костей. Годы спустя эта кость иногда смещалась — на всю жизнь осталась легкая хромота.
Когда доктор Ся спросил маму, что случилось, она сказала, что ее толкнул Шестой (внук). Бабушка, всегда чуткая к настроению доктора Ся, поскорее оборвала дочь, потому что Шестой был его любимцем. Когда доктор Ся вышел из комнаты, бабушка велела маме не жаловаться на Шестого, чтобы не огорчать доктора. Потом некоторое время мама не могла выходить на улицу из–за перелома. Дети окончательно отвернулись от нее.
Сразу после этого происшествия доктор Ся стал отлучаться из дому — его не бывало по нескольку дней. Он ездил в местный центр, город Цзиньчжоу, находившийся в сорока километрах к югу, в поисках работы. Обстановка в доме была невыносимой, и случай с мамой, который легко мог оказаться смертельным, убедил его в необходимости переезда.
Это было серьезное решение. В Китае великой честью считалось иметь семью, где несколько поколений живет вместе, из уважения к таким семьям даже улицам давали названия вроде «Пять поколений под одной крышей». Распад большой семьи воспринимался как трагедия, которой следует избегать любой ценой, но доктор Ся с веселым лицом сказал бабушке, что только рад хотя бы частично снять с себя груз ответственности.
У бабушки словно камень с души свалился, хотя она и старалась этого не показывать. В сущности, она уже давно мягко подталкивала доктора Ся к этой мысли, особенно после того, что случилось с мамой. Довольно она натерпелась от большой семьи, от ее постоянного леденящего присутствия, от ее тихой ненависти и молчаливого злопыхательства — от семьи, где у нее не было друзей, и от дома, где она ни на минуту не могла уединиться.
Доктор Ся разделил свое имущество между родственниками. Себе он оставил лишь вещи, пожалованные его предкам маньчжурскими императорами. Вдове старшего сына он отдал все земли. Средний сын унаследовал аптечную лавку, а младшему достался дом.
Доктор позаботился, чтобы с Большим Ли и другими слугами обращались хорошо. На вопрос, не боится ли она бедности, бабушка ответила, что для счастья ей нужны лишь ее дочь и сам доктор Ся: «С любовью даже простая ключевая вода станет сладкой».
Морозным декабрьским днем 1936 года семья собралась у главных ворот проводить их. У всех, кроме Дэгуя, единственного сына, который не возражал против женитьбы отца, были сухие глаза. Большой Ли отвез их на станцию, и мама, плача, попрощалась с ним. Но поезд привел ее в восхищение. Единственный раз она ехала на поезде в годовалом возрасте, и сейчас прыгала от радости и не могла оторваться от окна.
Цзиньчжоу, большой город с почти десятью тысячами жителей, был столицей одной из девяти провинций Маньчжоу–го. Расположен он примерно в пятнадцати километрах от моря, там, где Маньчжурия подходит к Великой стене. Подобно Исяню окруженный крепостной стеной, он быстро рос и далеко вышел за ее пределы. Город мог похвастать несколькими текстильными фабриками и двумя нефтеперегонными заводами; он находился на пересечении больших железнодорожных магистралей и даже располагал собственным аэропортом.
Японцы заняли его в начале января 1932 года после тяжелых боев. Захват этого стратегически важного населенного пункта сыграл решающую роль в поражении Маньчжурии и, породив серьезный дипломатический конфликт между Японией и Соединенными Штатами, вызвал к жизни цепь событий, которые десять лет спустя привели к Пёрл–Харбору.
Когда в сентябре 1931 года японцы начали наступление на Маньчжурию, Молодой Маршал, Чжан Сюэлян принужден был сдать им свою столицу Мукден (Ныне Шэньян.). Вместе с двухсоттысячным войском он вошел в Цзиньчжоу, где и учредил свою штаб–квартиру. Разбомбив город с воздуха — то была одна из первых бомбовых атак в истории, — японцы заняли его и стали там зверствовать.
Именно в Цзиньчжоу доктору Ся, которому уже исполнилось шестьдесят шесть лет, пришлось начинать все сначала. Средства позволили ему снять лишь глиняную хижину размером три на два с половиной метра в одном из беднейших кварталов — в речной низине, под дамбой. Большинству владельцев здешних лачуг не хватало денег, чтобы справить настоящую крышу — они клали на четыре стены куски искореженного железа, а сверху прижимали их тяжелыми булыжниками, чтобы кровлю не сорвало частыми сильными ветрами. То была самая окраина — по другую сторону реки расстилались гаоляновые поля. В декабре, когда супруги Ся только приехали сюда, бурая земля заледенела так же, как и река, которая доходила здесь почти до тридцати метров в ширину. Весной, когда таял лед, земля вокруг хижины превращалась в трясину, и в ноздри шибала вонь от нечистот, не чувствовавшаяся зимой, когда они замерзали. Летом эту местность осаждали комары. Жизнь постоянно осложнялась наводнениями: река затапливала дома, а за состоянием набережной никто не следил.
Главное мамино впечатление тех лет — ощущение почти невыносимого холода. И спать, и что–либо делать можно было только на кане, занимавшем большую часть хижины; в углу помещалась еще маленькая печка. Спали втроем тоже на кане. Не было ни электричества, ни водопровода. Уборной служила глиняная лачуга с общей выгребной ямой.
Прямо напротив дома стоял ярко расписанный храм, посвященный богу Огня. Желавшие помолиться привязывали лошадей перед самой хижиной семьи Ся. Когда становилось теплей, доктор Ся по вечерам брал маму на прогулки вдоль берега реки и читал ей классические стихи на фоне величественных закатов. Бабушка к ним не присоединялась: не принято было, чтобы супруги прогуливались вместе, к тому же бинтованные ножки навеки лишили ее возможности испытывать удовольствие от ходьбы.
Они почти умирали с голоду. В Исяне семье давала пропитание земля доктора Ся, и в доме всегда был рис, даже после того, как японцы забирали свою долю. Теперь доход резко упал, а японцы присваивали себе гораздо больше прежнего. Многое из того, что производилось в этих местах, насильственно вывозилось в Японию, огромная японская армия в Маньчжурии забирала рис и пшеницу почти подчистую. Местному населению иногда доставались кукуруза или гаолян, но их не хватало. Основной пищей служила желудевая мука, омерзительная на вкус и ужасно пахнувшая.
Бабушка никогда не знала такой бедности, но все же это было самое счастливое время в ее жизни. Доктор Ся любил ее, и дочь всегда была при ней. Больше не нужно было выполнять изнурительные маньчжурские ритуалы, и в крошечной глинобитной хижине часто звучал смех. Иногда они с доктором Ся коротали вечера за картами. Если проигрывал доктор, бабушка давала ему три щелчка, а если проигрывала она, то доктор Ся награждал жену тремя поцелуями.
У бабушки завелись подруги среди соседок, что также было внове. Ее уважали как жену врача, пусть и бедного. После многолетних унижений и помыканий бабушка впервые чувствовала себя свободной.
Они с подругами часто устраивали выступления: пели старинные маньчжурские песни, танцевали, били в бубны. Мотивы и ритмы были просты и однообразны, а слова женщины сочиняли на ходу. Замужние пели о своем супружеском опыте, девушки задавали им вопросы. Для женщин, в основном неграмотных, это было способом узнать что–то новое о человеческих отношениях. В песнях также говорилось об их житье–бытье, о мужьях, а то и передавались последние сплетни.
Бабушка любила эти вечера и часто готовилась к ним заранее. Сидя на кане, она ударяла в бубен, который держала в левой руке, и пела, на ходу придумывая слова. Порой слова подсказывал доктор Ся. Мама была слишком мала, чтобы сопровождать родителей, но могла наблюдать за бабушкиными репетициями. Ей было страшно интересно и особенно хотелось узнать, какие строчки принадлежали доктору Ся. Она знала, что они наверняка очень смешные, потому что ее мать и доктор Ся хохотали над ними. Но когда ей повторяли эти слова, она «плавала в облаках и тумане» — не могла понять, что они означают.
Однако жизнь вокруг была суровой. Каждый день превращался в борьбу за выживание. Рис и пшеницу можно было раздобыть только на черном рынке, и бабушка начала продавать кое–что из подаренных ей генералом Сюэ драгоценностей. Она почти ничего не брала в рот — говорила, что уже поела или что сейчас не голодна и поест позже. Когда доктор Ся обнаружил, что она продает драгоценности, он запретил ей это делать. «Я старик, — сказал он. — Когда меня не станет, драгоценности не дадут тебе умереть с голоду».
Доктор служил в аптечной лавке у другого врача и не имел особых возможностей проявить свои таланты. Но он трудился не покладая рук и постепенно завоевывал себе репутацию. Вскоре его пригласили к первому пациенту. В тот вечер он вернулся домой с чем–то, завернутым в материю. Он подмигнул маме и бабушке и попросил их отгадать, что у него в узелке. Мама не могла оторвать глаз от гостинца, и, не успев выкрикнуть: «Пампушки!», принялась разрывать ткань. Уплетая их за обе щеки, она подняла голову и встретилась с сияющим взором доктора Ся. С тех пор прошло более пятидесяти лет, но она и сейчас помнит этот счастливый взгляд и даже сегодня говорит, что в жизни не едала ничего вкуснее тех простых пшеничных пампушек.
Приглашения на дом много значили для докторов, потому что пациенты обычно платили навестившему их врачу, а не его хозяину. Если пациент был доволен или просто богат, врач получал солидный гонорар. Благодарные пациенты также подносили врачам подарки на Новый год и по другим особенным случаям. После нескольких визитов на дом дела доктора Ся пошли веселее.
Известность его росла. Однажды жена губернатора провинции впала в кому, и тот пригласил доктора Ся, которому удалось привести ее в сознание. Это сочли чуть ли не воскрешением из мертвых. Губернатор заказал табличку и собственноручно написал на ней: «Доктор Ся, дарующий людям жизнь». Он повелел пронести табличку через весь город в сопровождении процессии.
Вскоре губернатор обратился к доктору Ся за иного рода помощью. У него была жена и двенадцать наложниц, но никто из них не родил ему наследника. Губернатор слышал, что доктор Ся особенно сведущ в лечении бесплодия. Доктор Ся предписал губернатору и его тринадцати дамам принимать настойки, и несколько женщин забеременели. В сущности, дело было в самом губернаторе, но дипломатичный доктор Ся одновременно лечил и жену с наложницами. Губернатор ошалел от радости и написал еще больших размеров табличку о докторе Ся: «Воплощение Гуаньинь» (Гуаньинь — буддийское божество милосердия, дарующее детей.). Эту новую табличку к дому доктора Ся перенесла процессия еще более пышная, чем прежде. После этого люди шли к нему из самого Харбина, лежавшего в шестистах сорока километpax к северу. Доктор прославился как одно из четырех «медицинских светил» Маньчжоу–го.
К концу 1937 года, через год после переезда в Цзиньчжоу, доктор Ся смог перебраться в более просторное жилье, находившееся непосредственно за старыми северными городскими воротами. Дом был намного лучше лачуги у реки: не из глины, а из красного кирпича, и вместо одной комнаты там было целых три спальни. У доктора Ся вновь появилась возможность завести собственную практику. Пациентов он принимал в гостиной.
Дом стоял на южной стороне большого двора, где жили еще две семьи, но лишь у доктора Ся имелась собственная дверь, которая выходила прямо во двор. Два других дома смотрели окнами на улицу и во двор были обращены глухой стеной без единого окна. Чтобы попасть во двор, нужно было идти в обход — с улицы через калитку. С севера двор также замыкала глухая стена. Во дворе росли кипарисы, падубы, к которым жильцы привязывали бельевые веревки, да еще китайские розы, достаточно стойкие, чтобы вынести суровую зиму. На лето бабушка выставляла во двор свои любимые однолетники: белые ипомеи, хризантемы, георгины и садовый бальзамин.
У бабушки и доктора Ся не было общих детей. Он придерживался теории, что мужчина старше шестидесяти пяти лет не должен извергать семя, в котором, как считалось, заключена его жизненная сила. Годы спустя бабушка с таинственным видом поведала маме, что с помощью цигуна доктор Ся научился достигать оргазма без семяизвержения. Он был на редкость здоровым человеком для своих лет, никогда не болел и каждый день принимал холодный душ, даже когда температура опускалась ниже двадцати градусов мороза. Он не прикасался ни к табаку, ни к спиртному, соблюдая запреты своей квазирелигиозной секты — Общества разума.
Несмотря на профессию, доктор Ся прохладно относился к лекарствам, утверждая, что путь к здоровью лежит через крепкий организм. Он категорически возражал против методов лечения, которые исцеляют одно, нанося вред другому, и не прибегал к сильнодействующим средствам из–за возможных побочных эффектов. Маме и бабушке часто приходилось принимать лекарства тайком от него. Но если они все–таки заболевали, доктор Ся приглашал другого врача — не только знатока традиционной китайской медицины, но еще и шамана, — он верил, что некоторые недуги происходят от злых духов, которых следует умиротворить или изгнать с помощью особых религиозных обрядов.
Мама была счастлива. Впервые в жизни ее окружали радость и спокойствие. В прошлом остались и напряженная атмосфера, в которой прошли два года в доме дедушки и бабушки, и обиды, которые она целый год терпела от внуков доктора Ся.
Особенно ей нравились праздники, а они случались чуть не каждый месяц. У простых китайцев отсутствовало понятие рабочей недели. Только правительственные учреждения, школы и японские фабрики закрывались по воскресеньям. Все остальные отдыхали от повседневного труда лишь по праздникам.
В двадцать третий день двенадцатой луны, за семь дней до китайского Нового года, начиналась череда зимних праздников. Согласно легенде, в этот день бог Кухни, живший вместе со своей женой над очагом (где висели их изображения), отправлялся на небо, чтобы рассказать Небесному Императору, как семья вела себя весь год. Хвалебное донесение означало, что в будущем году кухня будет ломиться от еды, и в этот день в каждом доме отбивали поклоны перед портретами божественной четы, после чего предавали их огню, что символизировало вознесение на небо. Бабушка всегда просила маму смазать им рот медом. Она также сжигала миниатюрные фигурки лошадей и слуг, которых делала из гаоляна, чтобы царственные супруги ни в чем не нуждались, были всем довольны и рассказали Небесному Императору как можно больше хорошего о семье Ся.
Следующие несколько дней посвящались приготовлению всевозможной еды. Особым образом нарезалось мясо; рис и соевые бобы перемалывались в муку, из которой делали пампушки, хлебцы и пельмени. До Нового года пищу оставляли в погребе — при тридцатиградусном морозе он служил естественным холодильником.
В полночь накануне Нового года раздавался гром фейерверков, доставлявший маме несказанное удовольствие. Она вместе с бабушкой и доктором Ся выходила из дома и кланялась в ту сторону, откуда должен был появиться бог Богатства. Все люди на улице делали то же самое. Затем поздравляли друг друга со словами: «Желаю вам разбогатеть».
На Новый год принято было дарить подарки. Едва белая бумага на восточных окнах озарялась лучами, мама вскакивала с кровати и спешила надеть новый наряд: новую куртку, новые штаны, новые носки и новые ботинки. Потом они вместе с бабушкой отправлялись к соседям и знакомым, и она отбивала поклоны перед старшими. За каждый удар головой о землю она получала «красный сверток» с деньгами. Это были ее карманные деньги на целый год.
В течение следующих пятнадцати дней взрослые ходили друг к другу с поздравлениями и пожеланиями удачи. Удача, то есть деньги, была заветной мечтой большинства простых китайцев. Люди жили бедно, и в доме Ся, как и во многих других, мяса можно было наесться вдоволь только по праздникам.
Кульминация празднества — карнавальное шествие и вечерняя выставка фонарей — наступала на пятнадцатый день. Поводом для шествия служила «инспекционная поездка» бога Огня по всей его вотчине. Бога носили по округе, чтобы предохранить ее от пожаров. Поскольку большинство домов частично строилось из дерева, в здешнем сухом и ветреном климате страшный пожар мог начаться в любую минуту, и статуя получала пожертвования круглый год. Шествие начиналось у храма бога Огня, перед глиняной хижиной, где семья Ся жила первое время после переезда в Цзиньчжоу. Копию статуи, великана с красными волосами, бородой и бровями, облаченного в красный плащ, несли в открытом паланкине восемь мужчин. За ними следовали львы и извивающиеся драконы — каждый из нескольких человек, — украшенные повозки, акробаты на ходулях и танцоры янгэ, игравшие длинными кусками яркого шелка, обвязанными вокруг пояса. Оглушительно гремели фейерверки, барабаны и тарелки. Мама вприпрыжку бежала за процессией. Почти каждый дом выставлял богу соблазнительную снедь, но мама заметила, что божество ни к чему не притрагивается. «Рвение для богов, еда для людей!» — объясняла ей бабушка. В те дни лишений мама с нетерпением ждала только тех праздников, когда могла порадовать свой желудок. Ее оставляли равнодушной события, имевшие скорее поэтическую, чем гастрономическую окраску; она изнывала от нетерпения, пока бабушка отгадывала загадки, прикрепленные к изящным фонарям у дверей домов во время Праздника фонарей, или любовалась хризантемами в садах соседей на девятый день девятой луны.
Однажды во время ярмарки в храме бога города бабушка показала ей ряд глиняных скульптур, подновленных и покрашенных к празднику. То были сцены ада, где людей наказывали за грехи. Бабушка указала на глиняную фигуру, у которой изо рта вытягивали язык длиной сантиметров в тридцать и одновременно резали его два демона со стоявшими торчком, словно ежовые колючки, волосами и с глазами, выпученными, как у лягушек. Бабушка пояснила, что они пытают лжеца и то же случится с мамой, если она будет врать.
Среди жужжащей толпы и лотков с едой, от одного взгляда на которую слюнки текли, стояло не меньше дюжины аллегорических скульптурных композиций, имевших целью нравственное наставление. Бабушка бодро показывала маме одну страшную сцену за другой, но мимо некоей скульптурной группы она протащила ее молча. Только несколько лет спустя мама узнала, что то было изображение женщины–вдовы, которая снова вышла замуж, Ее распиливали пополам двое мужчин — первый и второй муж, — потому что она принадлежала им обоим. В те дни многие вдовы боялись такой судьбы и оставались верны покойным мужьям, чего бы это ни стоило. Некоторые даже кончали с собой, если семья заставляла их вновь выйти замуж. Мама поняла, что решение стать женой доктора Ся далось бабушке нелегко.
3. «Все говорят, как хорошо жить в Маньчжоу–го»: Жизнь под японцами (1938–1945)
Наступил 1938 год, маме было почти семь лет. Она была очень умной девочкой и очень хотела учиться. Родители считали, что она должна пойти в школу, как только начнется новый учебный год, сразу после китайского Нового года.
Японцы жестко контролировали образование, особенно школьные курсы истории и этики. Государственным языком был японский, а не китайский. После четвертого класса начальной школы все предметы преподавались по–японски, и большинство учителей были японцы.
Одиннадцатого сентября 1939 года в Цзиньчжоу с официальным визитом прибыл император Маньчжоу–го Пу И с супругой. Маме, ученице второго класса начальной школы, доверили преподнести цветы императрице. На ярко украшенном помосте собралась большая толпа с желтыми флажками Маньчжоу–го. Маме дали большой букет, и она, преисполненная чувства собственной значимости, стояла рядом с духовым оркестром и группой высокопоставленных лиц в визитках. Подле нее с надменным видом застыл мальчик примерно ее лет с букетом для Пу И. Как только показалась императорская чета, оркестр грянул гимн Маньчжоу–го. Все встали по стойке «смирно». Мама вышла вперед и сделала реверанс, сумев сохранить равновесие несмотря на тяжелый букет. На императрице было белое платье и изящные белые перчатки до локтей. Мама подумала, что она прекрасна. Ей удалось украдкой взглянуть на Ну И, одетого в военную форму. За толстыми стеклами очков она заметила «поросячьи глазки».
Мама училась на «отлично», но именно она удостоилась чести преподнести букет императрице еще и потому, что была маньчжуркой — так она всегда писала в анкетах как дочка доктора Ся. Предполагалось, что Маньчжоу–го — независимое государство маньчжур. Пу И был особенно удобен для японцев, потому что большинство людей полагали (если вообще задумывались над этим), что ими продолжает править маньчжурский император. Доктор Ся считал себя его верным подданным, и бабушка разделяла эти взгляды. По традиции одной из важных форм выражения женской любви почиталось полное согласие с мужем, и для бабушки не было ничего естественней, чем следовать этому обычаю. Ей так хорошо жилось с доктором Ся, что она избегала малейших разногласий.
В школе маму учили, что она живет в стране Маньчжоу–го и что соседние государства — это две китайские республики: одна — враждебная, во главе с Чан Кайши, другая — дружественная, во главе с Ван Цзинвэем, японским марионеточным правителем восточных провинций Китая. Ей и в голову не приходило, что Китай — единое государство, а Маньчжурия — его часть.
Школьников воспитывали как законопослушных подданных государства Маньчжоу–го. Одной из первых песен, которые выучила моя мама, была такая:
Учителя твердили, что Маньчжоу–го — это рай на земле. Но даже в столь юном возрасте мама понимала, что если это и был рай, то исключительно для японцев. Японские дети ходили в особые, теплые и хорошо оборудованные школы, где блестели полы и чисто вымытые окна. Школы для местных размещались в ветхих храмах и полуразрушенных домах, пожертвованных частными лицами. Отопление отсутствовало. Зимой весь класс бегал вокруг здания или топал ногами, чтобы согреться.
Помимо того, что большинство учителей были японцами, они также пользовались японскими методами воспитания и не задумываясь рукоприкладствовали. Малейшая ошибка, нарушение этикета или существующих правил (например, волосы на сантиметр ниже мочки) наказывались ударами. И девочек, и мальчиков били со всей силы по лицу, а мальчиков часто еще и по голове деревянной дубинкой. Другим видом наказания было многочасовое стояние на коленях в снегу.
При виде японца местным детям следовало кланяться и уступать ему дорогу, даже если тот был младше. Часто японские дети останавливали китайских и били без всякого повода. Ученикам надлежало приветствовать учителей сложным поклоном. Мама в шутку говорила своим друзьям, что японский учитель — это вихрь, проносящийся по полю: только и видно, как трава клонится к земле.
Многие взрослые тоже кланялись японцам — на всякий случай. Но на жизни семьи Ся их присутствие поначалу отражалось мало. Низшие и средние должности занимали местные жители, маньчжуры и китайцы, в частности, мой прадед, остававшийся заместителем начальника исяньской полиции. К 1940 году в Цзиньчжоу было около пятнадцати тысяч японцев. Японцы жили в доме по соседству, и бабушка относилась к ним дружелюбно. Глава семьи служил чиновником. Каждое утро, когда он на рикше отправлялся в свою контору, жена и трое детей провожали его с поклонами. Затем жена принималась за работу — скатывала угольную пыль в шарики для топки. По причинам, непонятным бабушке и маме, она всегда при этом надевала белые перчатки, которые мгновенно пачкались.
Японка почти не видела своего мужа и чувствовала себя одинокой. Она часто заходила к бабушке и приносила с собой саке, а бабушка готовила какую–нибудь закуску, вроде соленых овощей в соевом соусе. Бабушка немного говорила по–японски, а японка — по–китайски. Они напевали песни и, расчувствовавшись, вместе плакали. Нередко они помогали друг другу в саду. У японки был красивый садовый инструмент, приводивший бабушку в восхищение, а маму часто приглашали в сад поиграть.
Но семья не могла не слышать о том, что творили японцы. На бескрайних просторах северной Маньчжурии они жгли деревни и сгоняли тех, кто выжил, в «стратегические поселения». Более пяти миллионов человек, около одной шестой населения, остались без крова, десятки тысяч погибли. Рабочие умирали в шахтах, где они под надзором японцев добывали руду для отправки в Японию — Маньчжурия была очень богата полезными ископаемыми. Многие страдали солевым голоданием, и им не хватало сил совершить побег.
Долгое время доктор Ся утверждал, что император не знает о жестокости японцев, потому что фактически и сам их узник. Но когда Пу И стал называть Японию не «дружественной соседней державой», как раньше, а «державой–старшим братом», а потом «державой–родительницей», доктор Ся удар/ил кулаком по столу и обозвал его «слабоумным трусом». Но даже тогда он говорил, что не знает, насколько император отвечает за зверства, пока в жизни семьи Ся не произошли два горестных события.
В конце 1941 года в кабинет доктора Ся вошел незнакомец. Он был одет в лохмотья, истощен и не мог разогнуться. Человек объяснил, что он железнодорожный кули и его мучают страшные боли в животе. На работе ему приходилось триста шестьдесят пять дней в году от рассвета до заката таскать тяжелые грузы. Он не знал, как ему быть, потому что без работы не мог прокормить жену и новорожденного ребенка.
Доктор Ся сказал, что желудок этого человека не способен усваивать грубую пищу. 1 июня 1939 года правительство объявило, что отныне все запасы риса предназначаются для японцев и кое–кого из коллаборационистов. Большинство местного населения питалось желудевой мукой и гаоляном, которые почти невозможно было переварить. Доктор Ся бесплатно дал человеку лекарство и попросил у бабушки мешочек риса, купленный ею на черном рынке.
Вскоре доктору Ся сообщили, что этот человек умер в концлагере. Вернувшись из лечебницы, он поел риса и вышел на работу, где его вырвало. Японский надсмотрщик заметил в блевотине рис, кули арестовали как «экономического преступника» и отправили в лагерь, где он прожил всего несколько дней. Когда жена узнала, что с ним случилось, она утопилась вместе с ребенком.
Этот случай поверг доктора Ся и бабушку в глубокое горе. Они винили себя в его смерти. Не раз доктор Ся говорил: «Рис не только спасает, но и убивает! Маленький мешочек — три жизни!» Он начал называть Пу И «этот тиран».
Вскоре беда подошла ближе. Младший сын доктора Ся работал в Исяне учителем. Как и во всех школах Маньчжоу–го, в кабинете директора–японца висел большой портрет Пу И, которому все должны были кланяться всякий раз, как заходили туда. Однажды сын доктора Ся забыл поклониться портрету. Директор крикнул, чтобы он немедленно поклонился, и так сильно ударил его по лицу, что тот едва устоял на ногах. Сын доктора Ся гневно ответил: «Почему я должен целый день сгибаться пополам? Почему я не могу распрямить спину даже на мгновение? Я только что кланялся на утреннем собрании...» Директор ударил его опять и рявкнул: «Это ваш император! Вас, маньчжур, нужно учить элементарным приличиям!» Сын доктора Ся крикнул в ответ: «Подумаешь! Это всего лишь бумага!» Два других учителя из местных сумели удержать его от дальнейших неосторожных замечаний. Он взял себя в руки и изобразил нечто вроде поклона.
Вечером к нему домой пришел друг и сказал, что его объявили «идеологическим преступником» — и значит, ему грозит тюрьма, а может быть, и смерть. Он бежал, и с тех пор семья ничего о нем не слышала. Возможно, его поймали и посадили в тюрьму или отправили в лагерь, где он погиб. Доктор Ся тяжело пережил этот удар и с тех пор стал заклятым врагом Маньчжоу–го и Пу И.
История на этом не кончилась. Местные гангстеры начали преследовать Дэгуя, единственного оставшегося в живых сына доктора Ся, требуя с него платы за «защиту» и утверждая, что он пренебрег своим долгом старшего брата. Он платил, но вымогатели требовали еще и еще. В конце концов он вынужден был продать лавку и уехать из Исяня в Мукден, где открыл новый магазин.
Дела у доктора Ся шли все лучше. Он лечил японцев наравне с местными жителями. Иногда после того как от него уходил высокопоставленный японский офицер или коллаборационист, он говорил: «Я желаю ему смерти», однако его личные взгляды никогда не влияли на лечение. «Пациент — это человек, — говорил он. — Вот все, о чем должен думать врач. Ему должно быть безразлично, хороший он или плохой».
Тогда же бабушка перевезла свою мать, мою прабабушку, в Цзиньчжоу. Когда она покинула дом, выйдя за доктора Ся, мать осталась с презиравшим ее мужем и двумя монголками–наложницами, которые ее ненавидели. У прабабушки возникло подозрение, что наложницы хотят отравить ее и маленького Юйлиня. Она всегда пользовалась серебряными палочками, потому что китайцы верят, что серебро чернеет от яда, и никогда не притрагивалась к еде и не позволяла это делать сыну, не дав попробовать сначала собаке. Однажды, через несколько месяцев после бабушкиного отъезда, собака упала замертво. Впервые в жизни бабушкина мать устроила скандал мужу и, заручившись поддержкой свекрови, старой госпожи Ян, переселилась вместе с Юйлинем в наемное жилье. Старая госпожа Ян так разгневалась на сына, что уехала вместе с невесткой и увиделась с ним уже только на смертном одре.
Первые три года Ян хоть неохотно, но посылал им месячное содержание, а в начале 1939–го прекратил, и доктор Ся с бабушкой должны были помогать всем троим. В то время не существовало законов об алиментах, как и вообще надлежащей юридической системы, и жена полностью зависела от мужа. Когда в 1942 году старая госпожа Ян умерла, прабабушка вместе с Юйлинем переехала в Цзиньчжоу, в дом доктора Ся. Она считала себя с сыном иждивенцами, людьми второго сорта. Она обстирывала всю семью, вылизывала дом и всегда разговаривала с дочерью и доктором Ся подобострастным и униженным тоном. Прабабушка была истовой буддисткой и каждый день молила Будду в следующем рождении не делать ее женщиной. «Кошкой, собакой, только не женщиной», — бормотала она, семеня по дому и извиняясь на каждом шагу.
Бабушка также перевезла в Цзиньчжоу горячо любимую сестру Лань. В Исяне Лань вышла замуж за человека, который оказался гомосексуалистом. Он предложил жену своему богатому дяде, на чьем маслоочистительном заводе работал. Дядя изнасиловал нескольких женщин в доме, включая и юную внучку. Но он был главой семьи и обладал неограниченной властью, Лань не посмела сопротивляться. Но когда муж предложил ее деловому партнеру своего дяди, она взбунтовалась. Бабушке пришлось заплатить мужу сестры выкуп, чтобы он отпустил ее (это действие называлось «сю»), потому что женщина не имела права просить о разводе. Бабушка привезла Лань в Цзиньчжоу, где ее вновь выдали замуж за человека по имени Пэй–о.
Пэй–о служил тюремным надзирателем. Супруги часто навещали бабушку, и от историй Пэй–о волосы у моей мамы становились дыбом. Тюрьма была до отказа набита политическими заключенными. Пэй–о часто рассказывал об их храбрости, о том, как они проклинали японцев, даже когда их пытали. Пытки применялись регулярно, и узников никто не лечил. На гноящиеся раны никто не обращал внимания.
Доктор Ся вызвался лечить заключенных. Во время одного из первых посещений Пэй–о представил его своему другу по имени Дун, палачу, работавшему на «удавке»: казнимого привязывали к стулу, а шею обвязывали веревкой, которую медленно затягивали. Смерть была долгой и мучительной.
Доктор Ся знал от свояка, что Дуна терзает совесть и перед тем, как задушить человека, он напивается. Доктор Ся пригласил палача к себе, кое–что ему подарил и предположил, что веревку, быть может, не обязательно затягивать до конца. Дун сказал, что подумает. Обычно при казни присутствовал японский конвоир или пользующийся доверием коллаборационист, но иногда, если жертва не была важной персоной, японцы не появлялись. Иногда они уходили прежде, чем человек умирал. Тогда–то, намекнул Дун, он и может остановить удавку.
После казни тела заключенных клали в дощатые ящики, вывозили на телеге на далекий пустырь под названием Южный холм и сваливали в мелкий ров. Место кишело дикими собаками, поедавшими трупы. Часто в ров бросали и новорожденных девочек, убитых, по обычаю того времени, собственными родственниками.
Доктор Ся завязал дружбу со старым возницей и давал ему деньги. Порой возница заходил в кабинет и заводил с доктором бессвязные, на первый взгляд, разговоры, но в конце концов заговаривал о кладбище: «Я сказал душам мертвых, что не по моей вине они нашли там свой приют. Сказал, что я–то хотел им только добра: «В будущем году прилетайте, души, на свою годовщину. Но пока, если вы хотите подобрать себе тело получше, летите туда, куда повернуты ваши головы. Это правильный путь»». Дун и возница никогда не говорили между собой о том, что они делают, и доктор Ся так и не узнал, скольких людей они спасли. После войны спасенные «трупы» сложились и собрали Дуну денег на дом с земельным участком. Возница к тому времени умер.
Среди тех, кому они спасли жизнь, был и бабушкин дальний родственник по имени Ханьчэнь, игравший важную роль в Сопротивлении. Поскольку Цзиньчжоу был главным железнодорожным узлом к северу от Великой стены, японцы сосредотачивали здесь свои войска для нападения собственно на Китай, начатого в июле 1937 года. Меры безопасности были очень жесткими, в организацию Ханьчэня внедрили провокатора, и всю группу арестовали. Всех их пытали. Сначала им в нос заливали воду с перцем; потом били по лицу сапогом, подошва которого была утыкана гвоздями. Большинство казнили. Долгое время Ся думали, что Ханьчэня нет в живых, но однажды мой дядя Пэй–о сказал, что он жив и скоро его казнят. Доктор Ся немедленно связался с Дуном.
В ночь казни доктор Ся и бабушка отправились на повозке к Южному холму. Они остановились за деревьями и стали ждать. Они слышали, как дикие собаки рыщут вокруг рва, из которого поднимается тошнотворный запах разлагающейся плоти. Наконец показалась телега. Они разглядели сквозь тьму, как возница слез и стал вываливать тела из деревянных ящиков. Подождали, пока он отъедет, и подошли ко рву. Поискав среди трупов, они обнаружили Ханьчэня, но не знали, жив он или мертв. В конце концов они поняли, что несчастный еще дышит, но не может идти: его страшно пытали. С большим трудом они погрузили его на повозку и отвезли домой.
Его спрятали в каморке в самом дальнем углу дома. Единственная дверь вела в комнату мамы, куда попасть можно было только через спальню ее родителей — туда не мог зайти посторонний. Так как ход во двор имелся только в доме Ся, Ханьчэнь мог спокойно гулять там, если кто–то стоял на страже.
Но существовала опасность налета полиции или местных комитетов. С самого начала оккупации японцы организовали разветвленную систему таких комитетов. Во главе поставили местных воротил и вменили им в обязанность сбор налогов и круглосуточную слежку за «неблагонадежными». Это своего рода узаконенное вымогательство позволяло за счет обещаний «защитить» и доносов добиться немалой власти. За выдачу людей японцы предлагали солидное вознаграждение. Полиция Маньчжоу–го представляла меньшую угрозу, чем обычные граждане. На самом деле среди полицейских многие не любили японцев. К их основным обязанностям относилась проверка прописки, и они часто обходили дома. Однако они всегда предупреждали о своем появлении громкими криками: «Проверка прописки! Проверка прописки!», так что все желающие могли вовремя спрятаться. Заслышав эти крики, бабушка прятала Ханьчэня в куче сушеного гаоляна, приготовленного в дальней комнате для топки. Полицейские неторопливо заходили в дом, садились, выпивали чашку чая и говорили бабушке извиняющимся тоном: «Понимаете, это просто формальность...»
В то время маме было одиннадцать лет. Хотя родители не предупреждали ее, она знала: никому нельзя рассказывать, что Ханьчэнь живет у них в доме. Осторожности она научилась с детства.
Постепенно бабушка выходила Ханьчэня, и через три месяца он достаточно окреп, чтобы отправиться в путь. Прощание было волнующим. «Старшая сестра, старший брат, — сказал он, — я никогда не забуду, что вы спасли мне жизнь. При первой же возможности я верну вам долг». Три года спустя он сдержал свое слово.
Мама и ее подруги должны были в обязательном порядке следить за донесениями о военных успехах Японии — это входило в школьную программу. Японцы не только не стеснялись своей жестокости, но наоборот — похвалялись ею, чтобы вселить в людей страх. В фильмах показывали, как японские солдаты разрубают людей пополам, как собаки разрывают на куски заключенных, привязанных к кольям. Долго, крупным планом показывали расширенные от ужаса глаза жертв, ожидающих смерти. Японцы не разрешали девочкам одиннадцати — двенадцати лет закрывать глаза и затыкать рот платком, чтобы сдерживать крик. Долгие годы маме снились кошмары.
В 1942 году японцы, растянувшие свои фронты в Китае, Юго–Восточной Азии и вдоль берегов Тихого океана, начали испытывать нехватку рабочих рук. Весь мамин класс, вместе с японскими детьми, отправили работать на текстильной фабрике. Девочки из местных должны были дважды в день проходить пешком около шести с половиной километров — японских детей возили на грузовиках. Местные дети ели жидкую кашу с червями — японские получали пакеты с завтраками, куда входили мясо, овощи и фрукты.
Японским девочкам поручали легкую работу, например, мытье окон; местным — работу на сложных прядильных станках, требовавших большой сноровки и осторожности даже от взрослых. Основная задача состояла в том, чтобы соединять порванные нити, не останавливая станков, которые вращались на большой скорости. Если девочки не замечали разрыва или соединяли нить недостаточно быстро, японские надзирательницы жестоко их избивали.
Девочки были запуганы. Нервное напряжение, холод, голод и усталость — все это часто приводило к несчастным случаям. Больше половины маминых одноклассниц получили травмы. Однажды мама увидела, как из станка выскочил челнок и выбил глаз девочке, стоявшей рядом с ней. Всю дорогу в больницу японская надзирательница отчитывала ее за неосторожность.
Отработав свой срок на фабрике, мама перешла в старшую школу первой ступени. Времена изменились, и девушки уже не должны были, как в годы бабушкиной молодости, сидеть в четырех стенах. Общество допускало их обучение в старшей школе. Тем не менее мальчики и девочки получали разное образование. Из девочек воспитывали «изящных жен и добрых матерей», как гласил девиз школы. Они учились тому, что японцы называли «путем женщины»: ведению хозяйства, стряпне, шитью, чайной церемонии, икебане, вышиванию, рисованию и искусству наслаждаться прекрасным. Главное умение, которое прививалось, — это умение нравиться собственному мужу: одеваться, причесываться, кланяться, а прежде всего беспрекословно повиноваться. Но у мамы, как говаривала бабушка, были «непокорные кости», и она почти ничему не научилась, даже готовить. Некоторые экзамены представляли собой практические задания, например, приготовить какое–нибудь блюдо или расставить в вазе цветы. Экзаменационная комиссия состояла из местных чиновников, китайцев и японцев, и они оценивали не только результаты экзаменов, но и самих девушек. Их фотографии в нарядных фартучках, сшитых собственными руками, висели на доске рядом с их характеристиками. Японские чиновники часто присматривали там себе невест, потому что браки между японскими мужчинами и местными женщинами поощрялись. Некоторых девушек выбирали для отправки в Японию, где выдавали замуж за мужчин, которых они никогда не видели. Нередко девушки, точнее, их семьи, бывали этому рады. В конце оккупации одну из маминых подруг должны были отправить в Японию, но она опоздала на корабль и осталась в Цзиньчжоу, а в это время японцы капитулировали. Мама смотрела на эту девушку искоса.
В отличие от своих предшественников, китайских мандаринов, избегавших каких–либо физических нагрузок, японцы увлекались спортом, который мама очень любила. От перелома таза неприятных последствий почти не осталось, и она хорошо бегала. Однажды ей поручили участвовать в ответственных соревнованиях. Она тренировалась неделями, чтобы подготовиться к выступлению, но за несколько дней до срока тренер–китаец отвел ее в сторону и попросил не стремиться к победе. Он сказал, что не может объяснить почему. Но мама поняла без слов. Она знала, что японцы не любят, когда китайцы в чем–нибудь их превосходят. В соревнованиях участвовала еще одна местная девушка, и тренер попросил маму передать ей тот же совет, но не говорить, от кого он исходит. На соревнованиях мама не попала даже в первую шестерку. Подруги видели, что она и не старалась. Но другая спортсменка не смогла себя сдержать и пришла первой.
Вскоре японцы отомстили ей за это. Каждый день начинался с собрания, на котором председательствовал директор школы по кличке Осел: его имя, Мори, произнесенное по–китайски (маоли), напоминало слово «осел» (маолюй). Он резким, горловым голосом выкрикивал приказы четырежды поклониться на четыре стороны. Сначала: «Дальний поклон столице империи!» — в сторону Токио. Потом: «Дальний поклон столице страны!» — в сторону Синьцзина (Синьцзин — буквально: «новая столица», ныне Чанчунь.), столицы Маньчжоу–го. Затем: «Верноподданный поклон Небесному Императору!» — то есть императору Японии. И, наконец, «Верноподданный поклон императорскому портрету!» — на этот раз портрету Пу И. Следом шел более легкий поклон учителям. Однажды утром, когда поклоны закончились, Осел внезапно вытащил из рядов ученицу, победившую в соревновании, и обвинил в том, что ее поклон Пу И составил меньше девяноста градусов. Он бил и пинал девушку, потом, наконец, остановился и объявил, что исключает ее из школы. Для всей ее семьи это была катастрофа.
Родители спешно выдали несчастную дочь за мелкого чиновника. После поражения Японии его причислили к коллаборационистам, из–за чего жена смогла получить работу только на химическом заводе, где не контролировалось содержание в воздухе вредных веществ. И когда в 1984 году мама вернулась в Цзиньчжоу и разыскала старую подругу, та уже почти ослепла от химикатов. Горько усмехаясь, она поведала о злой шутке, которую сыграла с ней судьба: ее, победившую японцев в соревновании, назвали их пособницей. И все же, сказала она, ей ничуть не жаль, что тогда она выиграла.
Жители Маньчжоу–го плохо себе представляли, что происходит за пределами их страны и каково положение Японии в войне. Сражения шли далеко, новости подвергались жесткой цензуре, а из радиоприемников доносилась лишь грубая пропаганда. Но по ряду признаков, в первую очередь, по ухудшению ситуации с продовольствием, они чувствовали, что Японии приходится нелегко.
Первая не фальсифицированная новость дошла до населения летом 1943 года, когда газеты сообщили, что Италия, союзница Японии, капитулировала. К середине 1944 года некоторых японцев, работавших в гражданских учреждениях Маньчжоу–го, призвали в армию. 29 июля 1944 года в небе над Цзиньчжоу впервые появились американские самолеты Б–29, но город они не бомбили. Японцы мобилизовали всех на рытье бомбоубежищ, и каждый день в школе проходили обязательные занятия по противовоздушной обороне. Однажды мамина одноклассница схватила огнетушитель и обдала струей японского учителя, которого особенно ненавидела. Раньше возмездие было бы ужасным, но теперь выходка сошла ей с рук. Ветер подул в другую сторону.
Власти долго проводили кампанию по ловле мух и крыс. Ученики должны были отрезать крысам хвосты, класть в конверты и сдавать полиции. Мух следовало сдавать в стеклянных бутылках. Полиция считала каждый хвост и каждую муху. Как–то в 1944 году, когда мама вручила полицейскому бутылку, полную мух до самых краев, тот сказал: «Недостаточно для обеда». Увидев ее удивленный взгляд, он продолжал: «Разве ты не знаешь? Япошки любят дохлых мух. Они их жарят и едят!» По его дерзкому взгляду мама поняла, что он больше не боится японцев.
Мама ожидала перемен к лучшему, но осенью 1944 года жизненный горизонт семьи затянули тучи; обстановка в доме больше не была такой радостной, как раньше. Она чувствовала, что между родителями наступил разлад.
В пятнадцатый день восьмой луны по китайскому календарю отмечался Праздник середины осени — праздник семейного единения. В тот день бабушка, в соответствии с обычаем, ставила на улице под луной стол с дынями, круглыми лепешками и булочками. Праздник приходился именно на этот день потому, что по–китайски одно и то же слово «юань» обозначает «единение» и «круглый, целый»; считалось, что в этот осенний день полная луна особенно прекрасна и кругла. Все, что подавалось в этот день из еды, тоже было круглым.
В струящемся как шелк лунном свете бабушка рассказывала маме истории о Луне: самая большая тень на ее лике была огромной кассией, которую всю жизнь пытался срубить владыка У Ган. Но дерево защищали волшебные чары, и попытки его были обречены на неудачу. Мама слушала, завороженно глядя на небо. Полная луна притягивала ее своей красотой, но в ту ночь нельзя было восхвалять светило: мать запретила ей произносить слово «круглый», потому что семья доктора Ся была разделена. В день праздника, а также несколько дней до и после него доктор Ся ходил печальный, и бабушка утрачивала вкус к рассказам.
В праздничную ночь 1944 года мама и бабушка сидели под шпалерой, увитой зимней дыней и фасолью, и смотрели сквозь тенистую листву на бескрайнее чистое небо. Мама начала было: «Сегодня луна такая круглая», но бабушка оборвала ее и разрыдалась. Она вбежала в дом, и мама слышала, как она всхлипывала и кричала: «Уходи к сыну и внукам! Оставь меня с дочерью и уходи!» В перерывах между всхлипываниями она продолжала: «Разве я виновата, разве ты виноват, что твой сын застрелился? Почему мы должны нести это бремя всю жизнь? Я не мешаю тебе видеться с детьми. Это они отказываются бывать у тебя...». С тех пор, как они покинули Исянь, их навещал только Дэгуй. Доктор Ся не произнес в ответ ни слова.
Именно тогда мама почувствовала неладное. Доктор делался все молчаливей, и она стала инстинктивно избегать его. Бабушка то и дело заливалась слезами и бормотала, что они с доктором Ся никогда не будут счастливы, потому что заплатили слишком большую цену за свою любовь. Обнимая дочь, она говорила, что та — ее единственное сокровище.
С наступлением зимы мама погрузилась в не свойственную ей обычно меланхолию. Настроение не улучшилось, даже когда она снова, во второй раз, увидела, как в ясном, холодном декабрьском небе над Цзиньчжоу летают американские самолеты.
С каждым днем японцы нервничали все больше. Однажды мамина подруга раздобыла книгу запрещенного китайского писателя. В поисках укромного уголка она забрела куда–то в поле, приметила что–то вроде пещеры, показавшейся ей пустым бомбоубежищем, и, пошарив по стене, нащупала в темноте какой–то выключатель. Раздалось пронзительное завывание: она включила сирену. То был оружейный склад. У нее подкосились ноги. Она пыталась убежать, но через несколько сотен метров ее схватили японские солдаты.
Два дня спустя всю школу привели на голое заснеженное поле за западными воротами в излучине реки Сяолин. Туда же начальство согнало местных жителей. Детям сказали, что они увидят, как накажут «злодейку, поднявшую руку на Великую Японию». Вдруг прямо перед мамой японские тюремщики протащили ее подругу. Она была в цепях и еле шла. После пыток лицо у нее опухло до неузнаваемости. Японские солдаты вскинули винтовки и прицелились в девочку, которая, казалось, силилась что–то сказать, но не могла издать ни звука. Раздался сухой треск выстрелов, и она рухнула в обагрившийся кровью снег. Осел, директор–японец, впился взглядом в ряды учеников. Нечеловеческим усилием подавив чувства, мама заставила себя посмотреть на тело подруги, вокруг которого на белом снегу расползалось ярко–красное пятно.
Она услышала чьи–то приглушенные рыдания. Плакал; госпожа Танака, молодая японская учительница, которую мама любила. В мгновение ока Осел набросился на госпожу Танака. Он обрушил на нее град ударов, и она упала. Она пыталась увернуться от его сапог, но он в бешенстве пинал ее и орал, что она предает японскую нацию. В конце концов он устал и остановился. Потом посмотрел на учеников и рявкнул, чтобы они расходились.
Мама в последний раз взглянула на скорчившуюся на земле учительницу и на мертвую подругу и ощутила, что ее переполняет ненависть.
4.«Рабы, у которых нет родины»: Под властью разных хозяев (1945–1947)
В мае 1945 года по Цзиньчжоу распространилась новость, что Германия сдалась и война в Европе окончена. Американские самолеты летали гораздо чаще: Б–29 бомбили другие маньчжурские города, хотя атаки на Цзиньчжоу не предпринимались. Город наполняло предчувствие, что Японию ждет скорое поражение.
8 августа мамину школу отправили молиться в кумирне за победу Японии. На следующий день в Маньчжоу–го вступили советские и монгольские войска. Стало известно, что американцы сбросили на Японию две атомные бомбы — местные этому радовались. В последующие дни учебу отменили из боязни воздушных налетов. Мама оставалась дома, помогала копать бомбоубежище.
13 августа семья Ся услышала, что японцы просят мира. Через два дня к ним ворвался сосед–китаец, работавший в администрации, и сказал, что сейчас по радио будут передавать важное сообщение. Доктор Ся прекратил работу и сел вместе с бабушкой во дворе. Диктор сказал, что японский император сдался. Далее сообщалось, что Пу И отрекся от престола Маньчжоу–го. На улицах собирался возбужденный народ. Мама пошла посмотреть, что происходит в школе. Там было совершенно тихо, только из канцелярии раздавался слабый шум. Мама подкралась и увидела в окно, как плачут, сгрудившись, японские учителя.
В ту ночь она не сомкнула глаз и встала с первыми петухами. Утром перед входной дверью она увидела небольшую толпу. На дороге лежали трупы японки и двух детей. Японский офицер совершил харакири. Его семью растерзала толпа.
Однажды утром, через несколько дней после капитуляции, маминых соседей–японцев нашли мертвыми. Говорили, что они отравились. По всему Цзиньчжоу одни японцы кончали с собой, других убивали. Грабили японские дома, и мама заметила, что у одного бедного соседа внезапно появилось много ценных вещей на продажу. Школьники мстили учителям–японцам, избивая их до полусмерти. Некоторые японцы оставляли младенцев — в надежде их спасти — на порогах местных жителей. Некоторых японок изнасиловали; многие побрились наголо, чтобы сойти за мужчин.
Мама тревожилась из–за госпожи Танака, единственной учительницы, которая никогда не била детей, и единственной японки, которая плакала, когда казнили мамину подругу. Мама попросила разрешения спрятать госпожу Танака у них дома. Бабушка выглядела испуганной, но ничего не сказала. Доктор Ся только кивнул.
Мама позаимствовала у своей тети Лань одежду и отправилась в забаррикадированную квартиру учительницы. Одежда пришлась впору. Госпожа Танака была выше обычной японки и легко могла сойти за китаянку. В случае чего они договорились сказать, что это мамина двоюродная сестра. У китайцев столько родственников, что проверить их слова было бы невозможно. Беглянку поселили в дальнюю комнату, где когда–то прятался Ханьчэнь.
Безвластие, установившееся после японской капитуляции и падения режима Маньчжоу–го, приводило к жертвам не только среди японцев. Город пришел в состояние хаоса. Ночью раздавались выстрелы и крики о помощи. Мужчины, включая пятнадцатилетнего бабушкиного брата Юйлиня и учеников доктора Ся, по очереди дежурили каждую ночь на крыше, вооруженные булыжниками, топорами и тесаками. В отличие от бабушки, мама совершенно не боялась. Бабушка удивлялась: «У тебя в жилах кровь твоего отца».
Мародерство, изнасилования и убийства продолжались уже восемь дней. И тут населению сообщили о приходе новых войск — советской Красной армии. 23 августа председатели уличных комитетов велели людям идти на следующий день на вокзал встречать русских. Доктор Ся и бабушка остались дома, но мама присоединилась к большой толпе радостной молодежи с яркими треугольными флажками. При виде поезда они замахали флажками и закричали: «Ула!» (китайский вариант русского «ура!»). Мама представляла советских воинов победоносными бородатыми героями на могучих конях. Увидела же она бледных пареньков в потрепанной форме. Не считая смутных силуэтов в проносящихся автомобилях, это были первые белые люди, которых мама видела в своей жизни.
В Цзиньчжоу расквартировали около тысячи советских солдат. Поначалу люди были им благодарны за избавление от японцев. Но русские принесли с собой новые проблемы. После капитуляции Японии школы закрылись, и мама брала частные уроки. Однажды на пути домой от учителя она увидела на обочине грузовик. Рядом стояли русские солдаты и раздавали рулоны материи. При японцах продажа ткани строго контролировалась. Мама подошла поближе. Оказалось, что это рулоны с фабрики, где она работала, учась в младшей школе. Русские меняли материю на часы и безделушки. Мама вспомнила, что дома на дне сундука лежат старые часы. Она помчалась домой и разыскала их. Часы, к ее разочарованию, были сломаны, но русские чрезвычайно обрадовались и дали ей рулон чудесной белой материи в розовый цветочек. За ужином семья, качая головами, обсуждала этих странных иностранцев, обожающих старые сломанные часы и побрякушки.
Русские не только раздавали фабричные товары. Они разбирали целые предприятия, включая два нефтеперегонных завода в Цзиньчжоу, и вывозили оборудование в Советский Союз. Они называли это «репарациями», но для населения это значило выведенную из строя промышленность.
Русские солдаты входили в дома и просто брали все, что хотели — первым делом часы и одежду. По Цзиньчжоу стремительно распространялись рассказы о том, как русские насилуют местных женщин. Многие женщины спрятались от «освободителей». Вскоре город переполняли гнев и страх.
Дом Ся находился за пределами городских укреплений, практически без защиты. Мамина подруга предложила им временно переселиться в дом внутри городских ворот, окруженный высокими каменными стенами. Семья немедленно снялась с места, взяв с собой учительницу–японку. После переезда маме приходилось тратить на дорогу до дома учителя на полчаса больше. Доктор Ся настоял, что будет провожать ее и встречать после занятий. Мама не хотела, чтобы он ходил так далеко, поэтому они встречались на полпути. Однажды неподалеку от нее остановился джип со смеющимися русскими солдатами. Они выскочили и побежали к ней. Мама помчалась от них. Через несколько сотен метров она увидела вдали отчима, который размахивал палкой. Русские гнались по пятам, и мама кинулась в знакомый ей заброшенный детский сад, напоминающий лабиринт. Она просидела там больше часа, выскользнула через черный ход и благополучно добралась до дома. Доктор Ся видел, как русские вбежали вслед за мамой в детский сад. К его огромному облегчению вскоре они вышли оттуда, видимо, запутавшись в расположении комнат.
Примерно через неделю после прихода русских глава уличного комитета велел маме следующим вечером явиться на собрание. Там она увидела оборванных китайцев и нескольких китаянок, рассказывавших, как они восемь лет бились с японцами, чтобы хозяином жизни в новом Китае стал простой народ. То были коммунисты. Они вошли в город накануне — тихо и неожиданно. Женщины носили такие же бесформенные робы, как и мужчины. Мама подумала: как вы можете говорить, что победили японцев? У вас даже нет приличных ружей и формы. Коммунисты показались ей беднее и грязнее нищих.
Она была разочарована, потому что представляла их себе большими, красивыми — богатырями. По словам тюремного надзирателя дяди Пэй–о и палача Дуна, коммунисты были самыми храбрыми. «У них самые крепкие кости», — говаривал дядя. «Они пели, выкрикивали лозунги и проклинали японцев до той самой минуты, когда задыхались от удавки», — рассказывал Дун.
Коммунисты развесили объявления, призывающие население к порядку, и приступили к арестам коллаборационистов и сотрудников японских тайных служб. Среди арестованных был Ян, бабушкин отец, по–прежнему служивший заместителем начальника полиции в Исяне. Его посадили в его же собственную тюрьму, а самого начальника полиции казнили. За короткое время коммунисты восстановили порядок и наладили хозяйство. Заметно улучшилось ужасающее положение с продовольствием. Доктор Ся смог снова ходить по больным, открылась мамина школа.
Коммунистов расквартировали по домам местных жителей. Они казались честными, скромными. Одному из маминых друзей они сказали: «Нам не хватает образованных людей. Ты можешь стать начальником уезда».
Им нужны были новобранцы. После капитуляции Японии и коммунисты, и гоминьдановцы стремились занять как можно большую территорию, но у Гоминьдана армия имела значительное превосходство в численности и экипировке. Обе партии маневрировали в преддверии очередного этапа гражданской войны (в течение восьми лет сопротивления японцам она была приостановлена). На самом деле борьба между соперниками уже началась. Маньчжурия играла ключевую роль по экономическим причинам. Коммунисты вступили туда первыми, так как находились ближе к ней, почти без помощи русских. Однако американцы помогали Чан Кайши обосноваться в регионе, транспортируя в северный Китай десятки тысяч гоминьдановских солдат. В какой–то момент американцы попытались высадить часть из них в Хулудао, порту примерно в сорока пяти километрах от Цзиньчжоу, но под огнем коммунистов вынуждены были отступить. Гоминьдановцам пришлось высаживать свои войска к югу от Великой Китайской стены и перевозить их на север по железной дороге. США обеспечили авиационное прикрытие. В общей сложности в северном Китае высадилось более 50 000 американских десантников; они оккупировали Пекин и Тяньцзинь.
Русские формально признавали чанкайшистское, гоминьдановское правительство Китая. К 11 ноября советская Красная армия отошла из района Цзиньчжоу в северную Маньчжурию, выполняя обещание Сталина вывести войска в течение трех месяцев после войны. Таким образом, единственной властью в городе стали китайские коммунисты. Однажды вечером, в конце ноября, мама по дороге из школы увидела множество солдат, спешно хватающих оружие и устремляющихся к южным городским воротам. Она знала о тяжелых боях поблизости и догадалась, что коммунисты отступают.
Отступление было предпринято в соответствии с принципом лидера коммунистов, Мао Цзэдуна: не пытаться удерживать города, где у Гоминьдана было военное преимущество, и отступать в сельскую местность. «Окружать города, занимая деревни, чтобы в конце концов взять города» — так звучало руководящее указание Мао.
В день, когда китайские коммунисты отступили из Цзиньчжоу, в город вошла очередная армия — четвертая за последние несколько месяцев, в чистой форме, с блестящим американским оружием. Это был Гоминьдан. Люди выбегали из домов, запруживали немощеные улочки, хлопали в ладоши и приветственно кричали. Вдруг мама обнаружила, что тоже размахивает руками и выкрикивает приветствия. Вот эти похожи на солдат, бьющих японцев, подумалось ей. Вне себя от радости она побежала домой, чтобы рассказать родителям о новых чистеньких солдатах.
В Цзиньчжоу воцарилась атмосфера праздника. Люди наперегонки приглашали солдат остановиться у них в домах. Один офицер поселился у семьи Ся. Он вел себя очень уважительно и заслужил хорошее отношение домочадцев. Бабушка и доктор Ся считали, что Гоминьдан принес с собой долгожданные законность, порядок и мир.
Но народная симпатия к Гоминьдану вскоре сменилась горьким разочарованием. Большинство солдат происходили из других частей Китая и презрительно называли местных «ван го ну» («рабы, потерявшие отечество»). Они поучали население, как оно должно быть им благодарно за освобождение от японцев. Однажды в маминой школе устроили вечеринку для учениц и гоминьдановских офицеров. Трехлетняя дочь одного чиновника произнесла речь, которая начиналась словами: «Мы, Гоминьдан, боролись с японцами восемь лет и наконец спасли вас, рабов Японии...» Мама с подругами вышли из зала.
Маму возмущало, что гоминьдановцы начали охоту за наложницами. В начале 1946 года Цзиньчжоу стал заполняться войсками. Мама училась в единственной городской школе для девочек, и офицеры с чиновниками являлись туда косяками в поисках наложниц, а иногда и жен. Некоторые девушки выходили замуж охотно, другие уступали требованиям семей, считавших, что брак с офицером поможет им в жизни.
В пятнадцать лет мама была девушкой на выданье. Она обладала привлекательной внешностью, пользовалась большим успехом и считалась одной из лучших учениц в школе. Ее руки уже просили несколько офицеров, но она заявила родителям, что никто из них ей не подходит. Один из сватавшихся, начальник штаба, пригрозил послать за ней носилки как за наложницей — коль скоро от его золотой клетки отказались. Когда он высказывал эту угрозу родителям, мама подслушивала под дверью. Она ворвалась в комнату и крикнула ему в лицо, что там, в носилках, и покончит с собой. К счастью, вскоре он получил приказ покинуть город.
Мама решила сама выбрать себе мужа. Она не питала никаких иллюзий на счет отношения мужчин к женщинам и ненавидела институт наложничества. Родители разделяли ее взгляды, но, опасаясь офицеров, принуждены были вести сложную, изматывающую дипломатическую игру, стараясь сказать «нет», не обозлив женихов.
Маму искренне любила ее учительница по фамилии Лю. В Китае люди, которым вы нравитесь, зачастую стремятся с вами породниться. В те дни, хотя юношей и девушек уже не разделяла такая глухая стена, как в годы бабушкиной молодости, возможности для общения выпадали редко. Поэтому молодежь, не желавшая, чтобы ее сватали родители, сама старалась познакомиться с братом или сестрой подруги или друга — то был способ найти себе пару. Учительница Лю представила маму своему брату. Предварительно их знакомство одобрили господин и госпожа Лю.
В 1946 году маму пригласили на встречу китайского Нового года в роскошный дом семьи Лю. Господин Лю был одним из крупнейших в Цзиньчжоу владельцев магазинов. Его девятнадцатилетний сын производил впечатление человека светского; он носил темно–зеленый костюм с платочком, выглядывавшим из нагрудного кармашка, что в провинциальном городе, каким был Цзиньчжоу, казалось верхом утонченности и щегольства. Молодой Лю изучал русский язык и литературу в одном из пекинских университетов. На маму он произвел большое впечатление, а она пришлась по душе его домашним. Вскоре они послали к доктору Ся сваху, не говоря, конечно, ни слова ей самой.
Доктор Ся, человек куда более либеральный, чем большинство мужчин его времени, спросил маминого мнения. Она согласилась стать «подругой» молодого господина Лю. В те годы, если юноша и девушка разговаривали друг с другом на людях, им следовало быть по меньшей мере помолвленными. А мама жаждала веселья и свободы, ей хотелось общаться с мужчинами, не беря на себя брачных обязательств. Зная маму, доктор Ся и бабушка были осторожны с Лю и отказывались от положенных подарков. В соответствии с китайской традицией семья невесты часто не соглашалась на брачное предложение с первого раза, чтобы не показаться слишком в нем заинтересованной. Принять подарок означало неявно выразить согласие. Доктор Ся и бабушка опасались возможных недоразумений.
Мама некоторое время встречалась с молодым Лю. Ей нравились его хорошие манеры, и все родственники, знакомые и соседи говорили, что он ей подходит. Доктор Ся и бабушка думали, что они прекрасная пара и про себя уже считали его своим зятем. Но мама чувствовала его поверхностную натуру. Она заметила, что он никогда не ездит в Пекин, а слоняется по дому, наслаждаясь праздностью как человек без определенных занятий. Однажды она обнаружила, что он не читал даже «Сон в красном тереме», знаменитый классический роман XVIII века, известный всякому грамотному китайцу. Она не стала скрывать, что разочарована, но молодой Лю не смущаясь ответил, что китайская классика — не его конек и что ему больше нравится иностранная литература. Пытаясь утвердить свое превосходство, он добавил: «Читала ли ты «Госпожу Бовари»? Это моя любимая книга. По моему мнению, лучшее из написанного Мопассаном».
Мама читала «Госпожу Бовари» и знала, что ее автор Флобер, а не Мопассан. Самонадеянное заявление Лю рассердило ее, но она удержалась и смолчала, не желая показаться «вздорной».
Лю нравились азартные игры, особенно маджонг, наводивший на маму смертельную скуку. Однажды вечером, вскоре после вышеописанного разговора, во время игры вошла служанка и спросила: «Какая девушка будет прислуживать господину в кровати?» Он совершенно спокойно сказал: такая–то. Мама задрожала от возмущения, но Лю, словно удивившись, лишь поднял бровь. Потом он высокомерно произнес: «Это широко распространенный японский обычай. Все так делают. Это называется «сы–цинь» (кровать с обслуживанием)». Он пытался заставить маму почувствовать себя ревнивой провинциалкой, а ревность традиционно считалась в Китае одним из худших женских пороков и причиной, по которой муж мог отказаться от жены. Мама опять ничего не сказала, хотя в душе у нее все кипело от гнева.
Она поняла, что не будет счастлива с супругом, для которого интрижки и внебрачный секс — естественная часть жизни «настоящего мужчины». Она мечтала встретить человека, который будет ее любить и не станет так ранить. В тот же вечер она решила порвать с женихом.
Несколько дней спустя внезапно умер господин Лю–старший. В те дни большое значение придавалось пышным похоронам, особенно если покойный был главой семьи. Похороны, не отвечавшие ожиданиям родственников и общества, бросали тень на близких. Лю желали провести сложную церемонию, а не просто ограничиться процессией, идущей из дома на кладбище. Для чтения в присутствии всей семьи сутры об «опускании головы» были приглашены буддийские монахи. После чего родственники немедленно принялись рыдать. С этого мгновения до похорон, которые устраивались на сорок девятый день после смерти, с раннего утра до полуночи должны были раздаваться плач и причитания. Одновременно жглись «загробные деньги», чтобы почивший мог тратить их в ином мире. Многие семьи не выдерживали подобного марафона и нанимали профессионалов. Из уважения к усопшему Лю рыдали «собственными силами» при участии многочисленных родственников.
На сорок второй день украшенный тонкой резьбой сандаловый гроб с телом поместили в шатер во дворе. Считалось, что в каждую из семи ночей перед преданием земле покойник поднимается в загробном мире на высокую гору и смотрит на свою семью; он радуется, если все его близкие на месте и никто не брошен на произвол судьбы. В противном случае ему никогда не обрести покоя. Семья хотела, чтобы мама как будущая невестка присутствовала на похоронах.
Но она отказалась. Как ни жалко ей было старого господина Лю, который всегда был добр к ней, она не могла участвовать в церемонии — тогда пришлось бы выйти замуж за его сына.
А в дом Ся один за другим являлись посланцы семьи Лю. Доктор Ся заявил маме, что разорвать помолвку в такую минуту значит предать господина Лю–старшего и что это безнравственно. Хотя при нормальных обстоятельствах он не стал бы возражать против разрыва с молодым Лю, в данном случае, полагал он, следует пожертвовать собой. Бабушка также считала, что мама должна присутствовать на похоронах. И добавила: «Слыханное ли дело, чтобы девушка отказывала мужчине из–за того, что он перепутал имя какого–то писателя и имел связи на стороне? Все богатые молодые люди любят развлечься и должны перебеситься. Кроме того, тебе нечего бояться служанок и наложниц. Ты с характером и сможешь держать мужа в узде».
Мама представляла себе жизнь по–другому, о чем и заявила бабушке. В душе та была согласна с дочерью, но боялась держать ее дома из–за постоянно сватавшихся гоминдановских офицеров. «Мы можем отказать одному, другому, но не всем, — сказала она. — Не за Ли, так за Чжана тебе выйти придется. Подумай, разве Лю не многим лучше остальных? Если ты станешь его женой, ни один офицер больше тебя не потревожит. Я день и ночь думаю о том, что может с тобой статься. И не успокоюсь, пока ты не покинешь дом». Но мама ответила, что скорей умрет, чем выйдет замуж за того, кто не даст ей ни счастья, ни любви.
Лю были в ярости, так же как и мамины родители. Дни напролет они убеждали, умоляли, уговаривали, кричали и плакали — без малейшего результата. В конце концов доктор Ся — впервые с тех пор, как ударил ее в детстве за то, что она села на его место на кане, — разгневался на маму: «Ты позоришь имя Ся. Мне не нужна такая дочь!» Мама встала и бросила ему в лицо: «Прекрасно, тогда у тебя не будет такой дочери. Я ухожу!» Она выбежала из комнаты, сложила вещи и покинула дом.
В бабушкины времена и речи не могло быть о том, чтобы подобным образом уйти от родителей. Женщина могла устроиться на работу разве что служанкой, да и то лишь имея рекомендательное письмо. Но жизнь изменилась. В 1946 году женщины уже могли содержать себя и служить, например, учительницами или медсестрами, хотя в большинстве семей на это по–прежнему смотрели как на последнее средство. При маминой школе действовало педагогическое отделение, предлагавшее бесплатное проживание и обучение для девушек, окончивших в ней не менее трех классов. Кроме сдачи вступительного экзамена, выдвигалось лишь одно условие: выпускницы должны были стать учительницами. Большинство учениц происходили из бедных семей и не могли платить за обучение или же считали, что, так как у них нет шансов попасть в университет, нет смысла оставаться в школе. Женщин стали принимать в высшие учебные заведения только с 1945 года — при японцах их образование завершалось старшими классами, где школьниц обучали в основном ведению домашнего хозяйства.
Прежде маме и в голову не приходило поступать на это отделение — оно считалось второсортным. А она полагала, что достойна университета. Начальство слегка удивилось, увидев ее заявление, но мама объяснила, что всегда считала педагогику своим призванием. Правда, она еще не отучилась в этой школе полных три года, но ее знали как отличницу и с радостью приняли — экзамен она сдала без труда и переселилась в школу. Вскоре туда примчалась бабушка, умоляя ее вернуться. Мама была рада примирению, обещала часто приходить домой и оставаться на ночь. Но так и не отказалась от койки в общежитии: она решительно не желала зависеть даже от тех, кто ее любит. Педагогическое отделение идеально ей подходило. После обучения оно гарантировало работу, тогда как выпускники университетов часто не могли найти места. Важно было и то, что за учебу не требовалось платить, ведь и доктор Ся уже начал ощущать на себе последствия неумелого государственного управления экономикой.
Гоминьдановские чиновники, ответственные за фабрики — те, что не увезли русские, — явно не могли наладить их работу. Отдельные предприятия работали вполсилы, но большая часть прибыли оседала в карманах руководителей.
Гоминьдановские «саквояжники» (название дано по аналогии с американскими «саквояжниками» — северянами, добившимися богатства и влияния на Юге после войны 1861–1865 гг.) въезжали в хорошие дома, освобожденные японцами. По соседству со старым домом Ся поселился чиновник с одной из новых наложниц. Мэр Цзиньчжоу, господин Хань, не был до этого никому известен. В один миг он разбогател на собственности, конфискованной у японцев и их пособников. Он завел наложниц, и городское правительство, кишащее его родственниками и друзьями, стали называть «семейством Хань».
Когда гоминьдановцы взяли Исянь, они освободили из тюрьмы моего прадеда Яна — а может, он купил себе свободу. Местные не без основания считали, что гоминдановские чиновники делают состояния на бывших коллаборационистах. Ян попытался обезопасить себя, выдав младшую дочь от одной из своих наложниц за гоминьдановского офицера, но тот был всего лишь капитаном и не обладал достаточной властью, чтобы избавить тестя от преследований. Собственность Яна конфисковали, и он был низведен до положения нищего, «сидящего на корточках у придорожной канавы», как выражались в тех местах. Узнав об этом, прабабушка велела своим детям не давать ему денег и ничем не помогать.
В 1947 году, через год с небольшим после освобождения из тюрьмы, у него на шее выросла раковая опухоль. Он понял, что умирает, и сообщил об этом в Цзиньчжоу, умоляя детей навестить его. Прабабушка отказала ему, но он продолжал слать письма, заклиная дочерей и сына приехать.
В конце концов она смягчилась, и бабушка, Лань и Юйлинь отправились в Исянь на поезде. Дочь десять лет не видела отца, выглядевшего теперь жалкой тенью себя прежнего. При появлении детей по щекам у него потекли слезы. Но они не могли простить ему того, как он обошелся с их матерью и с ними самими, и обращались к нему как к чужому. Он умолял Юйлиня назвать его отцом, но тот не соглашался. На лице Яна отразилось такое беспредельное отчаяние, что бабушка попросила брата уступить. В конце концов он сдался. Отец взял его за руку и проговорил: «Будь ученым или открой небольшое дело. Никогда не пытайся стать чиновником. Это разрушит твою жизнь, как разрушило мою». То были его последние слова.
Когда он умер, рядом находилась лишь одна из его наложниц. По бедности он не смог обеспечить себе даже покупку гроба. Тело положили в старый рваный чемодан и похоронили без всякой церемонии. Никого из членов семьи при этом не было.
Для борьбы с вездесущей коррупцией Чан Кайши учредил особую организацию. Называлась она «истребители тигров», потому что народ сравнивал чиновников–взяточников со свирепыми тиграми. Население призывали обращаться с жалобами. Однако вскоре стало ясно, что таким образом сильные вымогали деньги у богатых. «Истребление тигров» оказалось доходным ремеслом.
Но еще хуже было неприкрытое мародерство. К доктору Ся один за другим являлись солдаты, салютовали по всем правилам и говорили с деланным подобострастием: «Ваша честь доктор Ся, некоторым из наших соратников очень нужны деньги. Не могли бы вы нам одолжить?» Отказывать было неразумно. Ссора с Гоминьданом легко приводила к обвинению в коммунизме, аресту, а часто и пыткам. Нередко в кабинет развязной походкой заходил солдат и требовал лечения и медикаментов, не платя за это ни копейки. Доктор Ся, в общем, был готов лечить их бесплатно — он считал это врачебным долгом, — но солдаты обычно просто брали лекарства и сбывали их на черном рынке. Лекарств отчаянно не хватало.
Гражданская война разгоралась, число солдат в Цзиньчжоу росло. Войска центрального командования, подчинявшиеся напрямую Чан Кайши, еще соблюдали какую–то дисциплину, но другим правительство не платило, они должны были «кормиться» сами.
Во время учебы на педагогическом отделении мама близко подружилась с красивой живой семнадцатилетней девушкой по фамилии Бай. Мама ее любила и уважала. Когда она рассказала Бай, как разочарована в Гоминьдане, та ответила, что это значит «за деревьями не видеть леса»: у любой власти есть недостатки. Бай так увлеклась Гоминьданом, что вступила в одну из тайных служб. В ходе обучения ей прозрачно намекнули, что она должна доносить на одноклассниц. Бай отказалась. Как–то вечером в ее комнате раздался выстрел. Открыв дверь, ученицы увидели ее на кровати смертельно бледную, при последним издыхании. С подушки капала кровь. Она не смогла сказать ни слова. В газетах эту историю подали как «персиковое убийство», то есть преступление страсти. Утверждалось, что девушку из ревности застрелил любовник. Но никто не поверил. Бай вела себя с мужчинами очень сдержанно. Мама слышала, что ее убили за попытку уйти из разведки.
Но это не стало финалом трагедии. Мать Бай работала домашней прислугой в богатой семье, владевшей небольшой ювелирной мастерской. Смерть единственной дочери сломила ее. Дело довершили непристойные предположения журналистов, что ее дочь крутила любовь с несколькими мужчинами одновременно, в связи с чем и получила пулю. Главным сокровищем женщины, которое следовало защищать даже ценой жизни, была ее честь. Через несколько дней после смерти Бай ее мать повесилась. К ее хозяину явились бандиты и обвинили его в ее смерти — хороший предлог для вымогательства, и вскоре семья потеряла мастерскую.
Как–то в дверь Ся постучали и вошел человек тридцати с небольшим лет в гоминьдановской форме. Он поклонился бабушке и назвал ее «старшей сестрой», а доктора Ся — «старшим шурином». Не сразу они поняли, что этот нарядный, здоровый, сытый человек — Ханьчэнь, которого они спасли от удавки, а потом три месяца прятали и выхаживали. С ним вместе пришел юноша, тоже в форме, высокий, стройный, больше похожий на студента, чем на военного. Ханьчэнь представил: его друг, Чжугэ. Маме он сразу пришелся по сердцу.
Со времени последней их встречи Ханьчэнь стал старшим чином гоминьдановской разведки и руководил одним из ее отделений на уровне всего Цзиньчжоу. Уходя, он сказал: «Старшая сестра, ваша семья вернула мне жизнь. Если вам что–нибудь понадобится, — что угодно, — скажите только слово, и это будет сделано».
Ханьчэнь и Чжугэ часто приходили в гости. Короткое время спустя Ханьчэнь подыскал работу в разведке для Дуна, бывшего палача, который спас ему жизнь, и бабушкиного шурина Пэй–о, бывшего тюремщика.
Семья полюбила Чжугэ. Раньше он изучал естественные науки в Тяньцзиньском университете, но убежал в армию Гоминьдана, когда город попал в руки японцев. Однажды мама познакомила его с госпожой Танака, которая все еще у них жила. Они сошлись, поженились и поселились в меблированных комнатах. Как–то Чжугэ чистил револьвер и задел курок. Раздался выстрел. Пуля прошла сквозь пол и убила младшего сына домохозяина, прямо в кроватке. Семейство не осмелилось обратиться в полицию, из страха перед разведкой, которая любого могла обвинить в связях с коммунистами. Слово людей из разведки было законом, они решали, жить человеку или умереть. Мать Чжугэ дала семье в качестве компенсации много денег. Чжугэ обезумел от горя, но семья мальчика не решалась даже упрекнуть его. Наоборот, они выражали преувеличенную благодарность, боясь, что он может им навредить. Не в силах это вынести, он переехал.
Муж Лань, дядя Пэй–о, преуспел в разведке и был так доволен своими новыми работодателями, что изменил имя на Сяоши («Верный Чан Кайши»). Он входил в тройку под началом Чжугэ. Поначалу их задача состояла в выслеживании сторонников японцев, но вскоре это переросло в надзор за студентами, сочувствующими коммунистам. Какое–то время «Верный» Пэй–о делал, что ему говорили, но вскоре почувствовал угрызения совести; он не хотел ни отправлять людей за решетку, ни высматривать жертвы для вымогательств. Пэй–о попросил о переводе на другую должность и стал охранником на одном из контрольно–пропускных пунктов. Коммунисты ушли из Цзиньчжоу, но не особенно далеко. Вокруг города постоянно происходили стычки между ними и Гоминьданом. Цзиньчжоуские власти стремились строго контролировать торговлю важнейшими товарами, чтобы они не попали к коммунистам.
Работа в разведке давала «Верному» власть, а власть означала деньги. Понемногу он начал меняться: пристрастился к опиуму, вину, стал играть, посещать бордели и заразился дурной болезнью. Бабушка даже предложила заплатить ему, если он исправится, но он продолжал в том же духе. Тем не менее он видел, что семье Ся все труднее доставать продукты, и часто приглашал их к себе домой, где можно было хорошо поесть. Доктор Ся не пускал бабушку: «Это грязные деньги, они нам не нужны». Но порой мысль о вкусной кормежке оказывалась для бабушки слишком сильным искушением, и она тайком шла в дом Пэй–о с Юйлинем и моей мамой.
Когда в Цзиньчжоу вступил Гоминьдан, Юйлиню было пятнадцать лет. Он учился медицине у доктора Ся и обещал стать хорошим врачом. К тому времени бабушка стала хозяйкой дома, так как ее мать, сестра и брат зависели от ее мужа. Бабушка решила женить Юйлиня. Она подыскала невесту тремя годами старше его, из бедных, что обещало трудолюбие и смекалку. Мама ходила с бабушкой на смотрины. Их с поклонами приветствовала девушка в зеленом бархатном платье, позаимствованном специально для этого случая. Бракосочетание состоялось в 1946 году, в бюро записей актов гражданского состояния. Невеста была во взятой напрокат белой шелковой фате в европейском стиле. Юйлиню исполнилось шестнадцать, его супруге — девятнадцать.
Мама попросила Ханьчэня найти Юйлиню работу. К важнейшим товарам относилась соль, которую запрещалось продавать в деревню. Конечно, власти занимались солевым рэкетом. Ханьчэнь подыскал Юйлиню должность по охране соли. Последний несколько раз попадал в стычки с другими гоминьдановскими группировками и с коммунистами; все они охотились за солью. Многие погибали. Юйлиня мучили страх и угрызения совести и через несколько месяцев он оставил эту работу.
Гоминьдан постепенно терял свою власть в деревне; труднее становилось и вербовать новобранцев. Молодые люди не хотели становиться «пушечным пеплом» (паоху–эй). Гражданская война заливала страну кровью и требовала все новых жертв. Росла опасность, что Юйлиня призовут или просто насильно запишут в армию. Единственным спасением была работа в разведке. К бабушкиному удивлению, Ханьчэнь отказался поспособствовать, заявив, что это не место для приличного молодого человека.
Бабушка не понимала, что Ханьчэнь пребывал в глубочайшем отчаянии от своей профессии. Как и «Верный» Пэй–о, он подсел на опиум и алкоголь, ходил по проституткам. Он явно пытался сократить себе жизнь. Ханьчэнь всегда отличался умеренностью, чтил нравственность, а теперь словно преобразился. Бабушка подумала, что ему поможет старое лекарство — женитьба, но он ответил, что не хочет жениться, потому что не хочет жить. Потрясенная бабушка спросила почему, но он только горько заплакал и сказал, что не имеет права говорить об этом, да и в любом случае она не сможет ему помочь.
Ханьчэнь вступил в Гоминьдан, потому что ненавидел японцев. Но все закончилось совсем не так, как он ожидал. Работа в разведке означала, что его руки почти наверняка обагрит кровь невинных соотечественников. Но пути назад не было. Все, кто пытался уйти из разведки, кончали, как мамина подруга Бай. Очевидно, Ханьчэнь понял, что единственный выход — убить себя. Однако самоубийство издревле символизировало протест и могло погубить его семью. Должно быть, он решил умереть «естественной» смертью, вот почему он так глумился над собственным телом и уклонялся от лечения.
В 1947 году, накануне Праздника весны, он вернулся на родину, в Исянь, чтобы отметить его с братом и пожилым отцом. Словно чувствуя, что это их последняя встреча, он остался погостить, тяжело заболел и летом умер. По его собственному признанию бабушке, Ханьчэнь жалел лишь о том, что не сможет выполнить свой сыновний долг и устроить отцу пышные похороны.
Однако он выполнил свой долг перед бабушкиной семьей. Хотя он отказался взять Юйлиня на службу в разведку, но достал ему соответствующее удостоверение. Юйлинь никогда не работал на разведку, но удостоверение избавляло его от призыва, и он продолжал помогать в аптеке доктору Ся.
В маминой школе работал молодой учитель Кан, преподававший китайскую литературу. Он отличался большим умом и обширными знаниями, и мама очень его уважала. Он рассказал ей и двум другим девушкам, что участвовал в антигоминьдановском движении в Куньмине, городе на юго–западе Китая, и его подругу убило гранатой во время демонстрации. Его лекции, имевшие явную прокоммунистическую направленность, производили на маму сильное впечатление.
Однажды утром в начале 1947 года маму остановил у школьных ворот старый смотритель. Он вручил ей записку и сказал, что Кан уехал. Мама не знала, что Кана предупредили об опасности — некоторые агенты гоминьдановской разведки тайно работали на коммунистов. Тогда мама имела слабое представление о коммунистах и уж тем более не подозревала, что Кан — один из них. Она поняла только, что ее любимый учитель скрылся, чтобы избежать ареста. Записка была от него и состояла из одного слова: «Молчание». Понять это можно было двояко. Либо то был намек на строчку из стихотворения, написанного Каном в память о своей подруге: «Молчание, в котором зреет наша сила», — в этом случае записку следовало понимать как призыв сохранять мужество; либо это было предостережение от опрометчивых поступков. К тому времени мама заслужила репутацию бесстрашной личности и приобрела авторитет среди учеников. Почти тотчас ей стало известно, что в школу прислали новую директрису, делегатку Национального съезда Гоминьдана, по слухам, связанную с тайными службами. Она привезла с собой группу сотрудников разведки, в число которых входил Яохань, ставший политическим руководителем школы и следивший за учащимися.
Ближайшим маминым другом в то время был ее дальний родственник, которого она называла Брат Ху. Его отец владел сетью универмагов в Цзиньчжоу, Мукдене и Харбине, имел жену и двух наложниц. Жена родила ему сына, тогда как у наложниц детей не было, и поэтому они ее возненавидели. Однажды в отсутствие мужа наложницы подмешали какого–то зелья в еду хозяйке и молодому слуге, а затем положили их в одну кровать. Когда господин Ху вернулся и нашел свою жену, по видимости пьяную до беспамятства, в постели со слугой, он пришел в неистовство, запер ее в каморке в дальнем углу дома и запретил сыну видеться с матерью. У него было смутное подозрение, что все это подстроили наложницы, поэтому он не отказался от жены и не выбросил ее на улицу, что считалось наивысшим позором (не только для нее, но и для него самого). Он боялся, что наложницы причинят вред сыну, и отослал его в пансион в Цзиньчжоу. Там моя мама познакомилась с ним, когда ей было семь, а ему двенадцать лет. Его мать в своем одиночном заключении вскоре сошла с ума.
Брат Ху вырос и стал скрытным, чувствительным юношей. Он не мог оправиться от случившегося и иногда говорил о прошлом с моей мамой. Эта история напоминала маме о загубленных женских судьбах в ее собственной семье и об известных ей бесчисленных трагедиях матерей, дочерей, жен и наложниц. Бесправие женщин, варварство вековых обычаев, задрапированных под «традицию» и даже «нравственность», выводили ее из себя. Незначительные перемены к лучшему тонули в море всесильных предрассудков. Мама жаждала более решительных перемен.
В школе она узнала, что лишь одна политическая сила — коммунисты — обещает в корне преобразовать жизнь. Так ей сказала близкая подруга, восемнадцатилетняя Шу, которая порвала с семьей и жила в школе, потому что отец заставлял ее выйти замуж за двенадцатилетнего мальчика. Однажды Шу попрощалась с мамой: вместе со своим тайным возлюбленным она бежала к коммунистам. Ее прощальные слова были: «Они наша надежда».
Примерно тогда мама очень сблизилась с Братом Ху. Он понял, что любит ее, ощутив жгучую ревность к молодому Лю, которого считал фатом, страшно обрадовался, когда мама порвала с женихом, и стал навещать ее почти ежедневно.
Однажды вечером в марте 1947 года они вместе пошли в кино. Существовало два вида билетов: сидячие и гораздо более дешевые стоячие. Брат Ху купил маме сидячий билет, а себе — стоячий, объяснив, что не хватило денег. Маме это показалось странным, и время от времени она украдкой поглядывала в его сторону. Посреди фильма она увидела, как к нему приближается нарядная молодая женщина, скользит мимо него и руки их на долю секунды соприкасаются. Мама тут же встала и сказала, что они уходят, а на улице потребовала объяснений. Вначале Брат Ху пытался все отрицать. Когда же мама заявила, что отговорки звучат неубедительно, он пообещал ей рассказать обо всем позже: она слишком молода, чтобы понять некоторые вещи. Они подошли к маминому дому, но она не впустила его. Несколько дней подряд он являлся с визитами — мама отказывалась от встреч.
Через некоторое время она уже была готова принять извинения и забыть о случившемся и то и дело посматривала, не появится ли он в воротах. Однажды, в сильный снегопад, она увидела, как он вошел во двор вместе с каким–то человеком, но направился не к ней, а к двери их жильца по имени Юй–у. Вскоре Брат Ху вышел наружу и быстро зашагал к ее комнате. Он торопливо рассказал ей, что должен немедленно покинуть Цзиньчжоу, так как по его следам идет полиция. Когда она спросила почему, он ответил только: «Я коммунист» — и исчез в ночной метели.
Мама вдруг поняла, что в кино Брат Ху, должно быть, выполнял секретное задание. Сердце у нее разрывалось на части, потому что мириться было поздно. Она догадалась, что их жилец Юй–у тоже коммунист–подпольщик. Брата Ху привели в дом Юй–у, чтобы спрятать. До этого вечера они не встречались. Оба поняли, что Брату Ху никак нельзя тут оставаться: его отношения с мамой слишком известны, и если гоминьдановцы станут искать его в доме, то заодно обнаружат и Юй–у. Той же ночью Брат Ху попытался перебраться в район, который контролировался коммунистами и находился в тридцати километрах от города. Но через какое–то время, когда на деревьях распускались первые весенние почки, Юй–у сообщили, что Ху схватили, а его провожатого застрелили. Позднее пришло сообщение, что казнили и Брата Ху.
Мама испытывала все большую ненависть к Гоминьдану. Единственной известной ей альтернативой были коммунисты, и особенно ее привлекали их обещания положить конец несправедливому обращению с женщинами. До сих пор (ей исполнилось пятнадцать лет) она не чувствовала в себе готовности отдаться делу целиком. Известие о смерти Брата Ху прекратило всякие сомнения. Она решилась стать коммунисткой.
5. «Продаю дочь за десять кило риса»: Битва за новый Китай (1947–1948)
Юй–у появился в доме несколькими месяцами ранее, с рекомендацией от общего знакомого. Ся только что переехали из временного жилища в большой дом в пределах городских стен, близ северных ворот, и искали состоятельного квартиранта, чтобы он платил часть арендной платы. Юй–у пришел в форме гоминьдановского офицера, с женщиной, которую он представил как свою жену, и младенцем. В действительности это была не жена, а помощница. Ребенка она родила от своего истинного мужа, воевавшего в регулярных частях коммунистической армии. Но со временем эта «семья» стала настоящей. У них появилось двое своих детей, их бывшие супруги также нашли себе пары.
Юй–у вступил в компартию в 1938 году. Его послали в Цзиньчжоу из Яньани, военного центра коммунистов, вскоре после поражения Японии, с целью сбора информации в сельской местности. Компартия купила ему должность начальника гоминьдановского военного управления в одном из районов Цзиньчжоу. Посты в Гоминьдане, даже в разведке, тогда продавались тому, кто больше заплатит. Кто–то покупал место, чтобы защитить свою семью от призыва в армию и вымогательств бандитов, кто–то — чтобы вымогать деньги. Из–за большой стратегической важности Цзиньчжоу офицеров там было огромное количество, что облегчало коммунистам задачу проникновения в их ряды.
Юй–у играл роль безупречно. Он устраивал банкеты, азартные игры — заводил связи, чтобы себя обезопасить.
Среди постоянных гостей из гоминьдановских армии и разведки крутилось множество «родственников» и «друзей», как правило, новых. Но никто не задавал вопросов.
У Юй–у существовало и другое прикрытие для этих людей. Лечебница доктора Ся всегда была открыта, поэтому они могли зайти с улицы, не привлекая внимания, а затем пройти через лечебницу во внутренний дворик. Хотя секта доктора Ся, Общество разума, запрещала спиртное и азартные игры, он кротко сносил буйные вечеринки Юй–у. Мама удивлялась, но объясняла это терпимостью отчима. Только через несколько лет ей пришло в голову, что доктор Ся, видимо, знал или догадывался, кто такой Юй–у на самом деле.
Услышав, что ее Брат Ху погиб от рук Гоминьдана, она сообщила Юй–у о своем желании работать на коммунистов. Он отказал, так как она была слишком молода.
Мама стала известной фигурой в своей школе и надеялась, что коммунисты сами к ней обратятся. Так они и сделали, но перед этим некоторое время ее проверяли. Еще Шу, до бегства в коммунистический район, представила ее своему товарищу по партии как подругу. Однажды этот человек явился к ней и неожиданно предложил в такой–то день прийти в железнодорожный туннель между южным и северным вокзалами Цзиньчжоу. Там, сказал он, к ней обратится молодой человек приятной наружности с шанхайским акцентом. Лян — фамилию она узнала позднее — стал ее партийным наставником.
Первым ее заданием было распространение литературы вроде работы Мао Цзэдуна «О коалиционном правительстве» и брошюр о земельной реформе и других программах коммунистов. Литературу доставляли в город тайком, обычно в снопах гаоляновой соломы, которая шла на топливо. Затем брошюры, скатанные в трубочку, перепрятывали в большие зеленые перцы.
Жена Юйлиня иногда покупала перцы и сторожила на улице, пока мамины сообщники забирали литературу. Еще она помогала прятать брошюры в печках, кучах лекарственных трав и штабелях топлива. Студенты читали литературу тайно, хотя левые романы циркулировали более или менее открыто; среди наиболее популярных книг была «Мать» Максима Горького.
Однажды экземпляр статьи Мао «О новой демократии» попал в руки довольно рассеянной маминой подруги. Та положила брошюру в сумку и забыла о ней. На рынке она открыла сумку, чтобы достать деньги, и брошюра выпала. Проходившие мимо люди из разведки узнали нелегальную литературу по тонкой желтой бумаге. Девушку схватили и допросили. Она умерла под пыткой.
Многие погибли от рук гоминьдановской разведки, и мама знала, что в случае ареста ей тоже грозит пытка. Этот случай не запугал ее, но придал еще больше смелости. Вдохновляло ее и чувство, что теперь она причастна к коммунистическому движению.
Маньчжурия была важнейшим полем битвы гражданской войны, события в Цзиньчжоу все более определяли исход борьбы за Китай. Не существовало единой линии фронта. Коммунисты господствовали в северной Маньчжурии и во многих сельских районах; Гоминьдан держал под контролем основные города, кроме Харбина на севере, а также морские порты и большинство железнодорожных путей. К концу 1947 года коммунисты впервые численно превысили в регионе войска своих противников; за тот год они вывели из строя более 300 000 гоминьдановских солдат. К коммунистам присоединялись или их поддерживали многие крестьяне — надеясь, что те, в соответствии с провозглашаемой ими политикой «земля — крестьянам», оставят за ними наделы.
В тот период коммунисты контролировали значительные территории вокруг Цзиньчжоу. Крестьяне не хотели ездить торговать в город, так как на контрольно–пропускных пунктах Гоминьдана их притесняли: вымогали непомерные «пошлины», а то и конфисковывали весь товар. Цена на зерно в городе стремительно росла день ото дня, к тому же ее искусственно завышали жадные торговцы и коррумпированные чиновники.
Появившись в регионе, гоминьдановцы ввели так называемые «законные деньги». Однако Гоминьдану не удалось обуздать инфляцию. Доктор Ся всегда беспокоился, что станет с бабушкой и мамой после его смерти — ведь ему было под восемьдесят. Поверив правительству, он вложил свои сбережения в новые деньги. Некоторое время спустя «законные деньги» были заменены «золотым юанем», который вскоре так обесценился, что мама нанимала рикшу, чтобы отвезти в школу плату за обучение — огромную груду банкнот (желая «сохранить лицо», Чан Кайши запретил печатать купюры крупнее десяти тысяч). Доктор Ся потерял все свои сбережения.
Зимой 1947–1948 годов экономическая ситуация ухудшалась с каждым днем. Множились протесты против перебоев с продовольствием и завышения цен. Цзиньчжоу был ключевой базой снабжения для крупных соединений Гоминьдана на севере, и в середине декабря 1947 года двадцатитысячная толпа напала на два полных зернохранилища.
Процветала торговля девушками: их продавали в бордели и богатым мужчинам в качестве служанок–рабынь. Город заполонили нищие, предлагавшие своих детей за продукты. Много дней у маминой школы лежала на ледяной земле истощенная женщина в лохмотьях с безысходностью во взгляде. Рядом стояла девочка лет десяти с немой мукой на лице. Из–за шиворота у нее торчала палка с криво накарябанной надписью: «Продаю дочь за 10 кило риса».
Бедствовали учителя. Они требовали повысить жалованье, и правительство повысило плату за обучение. Это мало что изменило, так как родители не могли платить больше. Учитель в маминой школе умер, отравившись куском мяса, подобранным на улице. Он знал, что мясо гнилое, но так мучился от голода, что решил рискнуть.
Мама стала председателем ученического союза. Ее партийный наставник Лян велел ей привлечь на сторону коммунистов учителей и учеников, и она развернула кампанию пожертвований в пользу педагогического состава. Вместе с другими девушками она ходила по кино и театрам и перед началом представлений предлагала публике сделать пожертвования. Ученицы устраивали также музыкальные выступления и благотворительные базары, но они приносили смехотворные прибыли — люди были или слишком бедны, или слишком скупы.
Однажды она встретила на улице подругу, внучку командующего бригадой и жену гоминьдановского офицера. Та рассказала, что вечером в роскошном ресторане состоится банкет для пятидесяти офицеров с супругами. В те дни Гоминьдан кутил напропалую. Мама помчалась в школу и разыскала кого только могла. Она велела всем собраться в пять часов у главной городской достопримечательности — восемнадцатиметровой барабанной башни XI века. Прибыв туда во главе внушительного отряда, она увидела более сотни девушек, ожидающих ее приказов. Мама поделилась с ними своим планом. Около шести часов они увидели, как один за другим прибывают в колясках и на рикшах офицеры. Женщины были разодеты в пух и прах — в шелк, атлас, увешаны звенящими драгоценностями.
Когда гости целиком отдались еде и питью, мама с несколькими подругами вошла в ресторан. Гоминьдан разложился настолько, что уже не охранял самого себя. Мама забралась на стол. В своем синем платье из хлопка она являла образец суровой простоты среди расшитого шелка и бриллиантов. Она произнесла краткую речь о бедственном положении учителей и завершила ее словами: «Все мы знаем, что вы щедрые люди. Наверняка вы будете рады доказать свою щедрость».
Офицеры попались. Никто не хотел выглядеть жадным. Это был повод порисоваться перед сослуживцами. И, конечно, им хотелось избавиться от непрошеных посетителей. Девушки обошли ломящиеся от угощений столы и записали, сколько готов дать каждый офицер. Следующим утром они обошли их дома и собрали пожертвования. Учителя были невероятно благодарны девушкам, доставившим деньги немедленно, пока, в течение нескольких часов, они еще имели какую–то ценность.
Маму не наказали: возможно, пирующие устыдились, что их так легко провели, и не захотели распространения слухов. Хотя, разумеется, вскоре о происшествии знал весь город. Мама успешно повернула правила игры против них самих. Ее возмущало, что гоминьдановская элита шикует, в то время как на улицах люди умирают от голода. Тем сильнее она сочувствовала коммунистам.
Если в городе не хватало пищи, то в деревне — одежды, так как Гоминьдан запретил продавать текстиль в сельскую местность. Служа привратником, «Верный» Пэй–о должен был пресекать контрабандную продажу тканей коммунистам. Среди контрабандистов были люди с черного рынка, агенты гоминьдановских чиновников и подпольные коммунисты.
Обычно «Верный» с коллегами останавливали телеги, конфисковывали материю и отпускали контрабандиста в надежде, что тот вернется с другим грузом, который они также смогут конфисковать. Иногда они заключали с торговцами сделки под определенный процент. В любом случае они продавали ткани в районы, подвластные коммунистам. «Верный» со товарищи как сыр в масле катались.
Как–то вечером к воротам, у которых дежурил Пэй–о, подъехала грязная невразумительная повозка. Он разыграл обычную процедуру обыска, тыкал в тюк ткани в задней части телеги, ходил вокруг с грозным видом, надеясь запугать возницу и склонить его к выгодной сделке. Он оценил на глаз стоимость груза, возможное сопротивление возницы и попытался выведать у него, кто его хозяин. Пэй–о не спешил, так как груз был солидный, больше, чем он мог вывезти из города до рассвета.
Он сел рядом с возницей и велел ему разворачиваться и ехать обратно в город. Возница, привыкший делать, что говорят, повиновался.
В час ночи бабушку разбудил стук в дверь. За дверью она обнаружила Пэй–о. Он сказал, что хочет оставить на ночь груз. Бабушка не могла не согласиться, потому что по китайской традиции отказать родне практически невозможно. Долг перед семьей и родными считался важнее, чем нравственные убеждения. Она скрыла эту историю от доктора Ся, который спал.
Еще до рассвета Пэй–о появился с двумя телегами. Он погрузил на них товар и уехал, когда начинало светать. Меньше чем через полчаса дом оцепили вооруженные полицейские. Возница, работавший на другой отдел разведки, пожаловался своим хозяевам. Естественно, они хотели вернуть себе имущество.
Доктор Ся и бабушка попали в неприятную ситуацию, но, по крайней мере, товар у них найти не могли. Для мамы же налет полиции был катастрофой. Она схватила коммунистические брошюры и побежала в туалет, где спрятала их в свои теплые штаны с начесом. Надев тяжелую шубу, она прошествовала мимо полицейских с непринужденным видом, изображая, будто идет в школу. Те сказали, что обыщут ее. Она закричала, что пожалуется на них «дяде» Чжугэ.
Полиция понятия не имела о том, что у этой семьи связи в разведке. К тому же непонятно было, кто конфисковал материю. В администрации Цзиньчжоу царил хаос, ибо в городе было расквартировано огромное количество гоминьдановских подразделений и вдобавок любой человек с пистолетом и связями наверху обладал немалой властью. Когда Пэй–о с друзьями изъял у возницы груз, тот не спросил, на кого они работают.
Едва мама произнесла имя Чжугэ, поведение офицера резко изменилось. Чжугэ был приятелем его босса. По его знаку солдаты опустили ружья и перестали вести себя нагло. Офицер отдал честь и принес извинения, что побеспокоил такую знатную семью. Рядовые полицейские выглядели даже разочарованнее, чем начальство: нет добычи — нет денег, а нет денег — нет еды. Они обиженно зашаркали прочь.
Тогда в Цзиньчжоу открылся новый Северо–восточный университет в изгнании, созданный из студентов и преподавателей, бежавших из коммунистической северной Маньчжурии. Там коммунисты проводили свой курс жесткими методами: многие собственники земли были убиты. В городах даже владельцы маленьких фабрик и магазинов были лишены имущества как эксплуататоры. Большинство интеллигентов происходили из зажиточных семей, поэтому сами они или их родственники пострадали от рук коммунистов.
В университете был медицинский факультет, куда мама хотела поступить. Она всегда мечтала стать врачом. Отчасти это объяснялось влиянием доктора Ся, отчасти — тем, что медицинская профессия более всего подходила независимой женщине. Лян горячо поддержал этот план. Партия возлагала на нее надежды. В феврале 1948 года мама поступила на медицинский факультет вольнослушательницей.
Университет в изгнании стал полем битвы, где коммунисты и Гоминьдан сражались за души студентов. Гоминьдан сознавал, что в Маньчжурии дела его обстоят не лучшим образом, и всячески призывал студентов и интеллигентов переезжать на юг. Коммунисты не хотели терять этих образованных людей. Они внесли поправки в свою земельную реформу и издали директиву, предписывающую хорошо обращаться с городскими капиталистами и интеллигентами из состоятельных семей. Вооруженное этим более умеренным курсом, цзиньчжоуское подполье начало кампанию с целью убедить преподавателей и студентов не уезжать. Это стало главной маминой задачей.
Несмотря на изменения в политике коммунистов, некоторые преподаватели и студенты решили, что безопасней уехать. Один корабль со студентами уплыл в Тяньцзинь, примерно в четырехстах километрах к юго–западу, в конце июня. Прибыв туда, они обнаружили, что там для них не приготовили ни еды, ни жилья. Местные гоминьдановские власти посоветовали им вступить в армию. «Отвоюйте свою родину!» — сказали им. Не для этого они бежали из Маньчжурии. Подпольщики–коммунисты, которые приплыли вместе с ними, призвали их заявить свой протест, и 5 июля студенты устроили демонстрацию в центре Тяньцзиня. Войска открыли огонь, десятки студентов были ранены, порой серьезно, а несколько человек погибло.
Когда об этом стало известно в Цзиньчжоу, мама немедленно решила организовать публичную поддержку тяньцзиньских студентов. Она созвала заседание глав ученических союзов школ и техникумов, которые проголосовали за создание Цзиньчжоуской федерации ученических союзов. Маму избрали председателем. Они решили послать в Тяньцзинь телеграмму солидарности, устроить марш к резиденции генерала Цю, главного коменданта, и вручить ему петицию.
Мамины друзья беспокойно ожидали в школе ее указаний. Был серый, дождливый день, земля превратилась в липкую грязь. Стемнело, а мама с еще шестью студенческими вожаками так и не появились. Затем пришло известие, что во время заседания нагрянула полиция и забрала их. Полицию проинформировал Яохань, школьный политический руководитель.
Их отвели в резиденцию коменданта. Через некоторое время в комнату вошел генерал Цю. Он занял свое место за столом и заговорил спокойным, отеческим голосом, демонстрируя скорее печаль, чем гнев. Молодежи свойственно совершать глупости, сказал он. Но что они понимают в политике? Отдают ли себе отчет в том, что их использовали коммунисты? Им нужно сидеть и учиться. Генерал обещал освободить их, если они подпишут бумагу с признанием своих ошибок и назовут имена стоящих за ними коммунистов. Он помолчал, чтобы посмотреть, какой эффект произвели его слова.
Маму его нотации вывели из себя. Она вышла вперед и громко спросила: «Скажите, комендант, какие ошибки мы совершили?» Генерал раздраженно ответил: «Вас использовали коммунистические бандиты для создания беспорядков. Этого мало?» Мама крикнула: «Какие коммунистические бандиты? Наши друзья погибли в Тяньцзине, потому что они сбежали от коммунистов по вашему совету. Вы поэтому их расстреляли? В чем мы провинились?» После бурного обмена репликами генерал ударил кулаком по столу и рявкнул охране: «Покажите ей здание!» Он повернулся к маме: «Ты должна понять, где находишься!» Прежде чем солдаты схватили ее, мама рванулась вперед и тоже ударила кулаком по столу: «Где бы я ни была, я ничего дурного не сделала!»
Маму тут же крепко схватили под руки и оттащили от стола. Ее поволокли по коридору, вниз по лестнице и втолкнули в темную камеру. На другом ее конце она увидела человека в лохмотьях. Он сидел на скамье, словно опершись о столб. Голова свисала на сторону. Мама поняла, что его привязали туловищем к столбу, а бедрами к скамье. Двое мужчин заталкивали ему под пятки кирпичи. С каждым кирпичом раздавался глубокий сдавленный стон. У мамы поплыло перед глазами, ей послышался хруст костей. Затем ее отвели в другую комнату, где офицер–экскурсовод показал ей нос к носу человека, раздетого по пояс и подвешенного на балке за запястья. Лохматые волосы скрывали лицо. Перед ним у жаровни сидел тюремщик и курил. Вдруг он снял с жаровни железный прут с раскаленным наконечником размером с мужской кулак. С ухмылкой он прижал его к груди узника. Раздались дикий крик и ужасное шипение, из раны повалил дым, запахло жареным мясом. Но мама не вскрикнула, не упала в обморок. Ужас вызвал у нее ярость, что придало ей невероятной силы, изгнавшей из сердца всякий страх.
Офицер спросил, не хочет ли она теперь написать признание. Она отказалась, повторив, что не знает за собой никаких коммунистов. Ее запихнули в каморку, где стояла койка с несколькими простынями. Там она просидела несколько нескончаемых дней, слушая через стенку звуки пыток и раз за разом отвергая требования назвать имена.
Однажды ее вывели в усыпанный щебенкой, заросший сорняками двор позади здания. Ей велели встать у высокой стены. Рядом прислонили заключенного, который от пыток не мог стоять сам. Несколько солдат лениво заняли свои позиции. Ей завязали глаза. Она ничего не видела, но все равно их закрыла и приготовилась умереть, гордая, что отдаст жизнь за великое дело.
Она услышала выстрелы, но ничего не почувствовала. Примерно через минуту повязку с глаз сняли, и она оглянулась, щурясь на свет. Человек лежал на земле. С ухмылкой подошел офицер, водивший ее по темнице. Он изумленно поднял бровь, увидев, что эта семнадцатилетняя девочка не рыдает, не умоляет о пощаде. Мама спокойно сказала, что ей не в чем сознаваться.
Ее отвели обратно в камеру. Никто ее не беспокоил, ее не пытали. Несколько дней спустя ее освободили. Всю предшествующую неделю коммунисты–подпольщики хлопотали о ней. Бабушка ходила к главному коменданту каждый день, плакала, умоляла, грозила покончить с собой. Доктор Ся обратился к самым влиятельным своим пациентам, преподнес им дорогие подарки. Максимально использовали и связи семьи в разведке. Многие люди письменно поручились за маму, заявив, что она не коммунистка, а просто молодая пылкая особа.
Случившееся нисколько не умерило ее энтузиазм. Едва выйдя из тюрьмы, она приступила к организации гражданской панихиды по погибшим в Тяньцзине студентам. Власти дали разрешение. В Цзиньчжоу многие были разгневаны расстрелом студентов, покинувших город по совету правительства. Одновременно в школах спешно объявили конец семестра и отменили экзамены в надежде, что студенты разъедутся по домам.
В тот момент подпольщикам рекомендовали эвакуироваться в районы с коммунистической властью. Тем, кто не хотел или не мог этого сделать, предписали приостановить нелегальную работу. Гоминьдан закручивал гайки, уже арестовали и задержали очень многих тайных коммунистов. Лян уходил, и позвал с собой маму, но бабушка ее не отпустила. Маму не подозревают в связях с коммунистами, — сказала она, — но заподозрят, если она уедет. И как же быть со всеми людьми, выступившими в ее защиту? В случае ее бегства всех их ожидают неприятности.
И мама осталась. Но ей хотелось действовать. Она обратилась к Юй–у, единственному известному ей в городе коммунисту. Юй–у не знал Ляна и других ее связных. Они принадлежали к разным нелегальным сетям, работавшим совершенно независимо друг от друга, так что попав в тюрьму и не вынеся пыток они могли назвать лишь ограниченное число имен.
Цзиньчжоу был важнейшим центром снабжения и распределения для всех армий Гоминьдана на северо–востоке. В нем насчитывалось более полумиллиона солдат, растянутых вдоль уязвимых железнодорожных путей и сконцентрированных в нескольких становящихся все меньше районах вокруг основных городов. К лету 1948 года в Цзиньчжоу размещались двухсоттысячные гоминьдановские войска под руководством нескольких командующих. Чан Кайши не ладил со многими в генеральской верхушке и тасовал посты, что деморализовало солдат. Работа разных подразделений была плохо скоординирована, между ними царило недоверие. Многие стратеги, включая высокопоставленных американских советников, считали, что Чан Кайши следует уйти из Маньчжурии. Ключевым пунктом для любого отступления, «добровольного» или под давлением необходимости, морем или железной дорогой, был Цзиньчжоу. Город находился всего в полутораста километрах от Великой стены, совсем рядом с собственно китайской территорией, где Гоминьдан, казалось, более или менее держал ситуацию под контролем. Город был хорошо укреплен с моря — порт Хулудао располагался всего в пятидесяти километрах к югу и соединялся с городом довольно надежной железной дорогой.
Весной 1948 года Гоминьдан приступил к строительству новой системы оборонительных сооружений, из цементных блоков со стальной арматурой вокруг Цзиньчжоу. Коммунисты, думали они, не могут выдвинуть против них ни танки, ни сколько–нибудь значительную артиллерию, нет у них и опыта штурма массивных укреплений. Идея состояла в том, чтобы окружить город самодостаточными крепостями, каждая из которых могла функционировать независимо даже в случае блокады. Крепости должны были соединяться окопами в два метра шириной и глубиной, полностью обтянутыми колючей проволокой. Главнокомандующий Маньчжурии, генерал Вэй Лихуан, прибыл с инспекцией и объявил систему неуязвимой.
Но проект так и не был завершен, отчасти из–за нехватки материалов и дурного планирования, но прежде всего из–за коррупции. Руководитель работ воровал стройматериалы и сбывал их на черном рынке. Рабочим платили так мало, что не хватало на еду. К сентябрю, когда коммунисты стали стягивать войска вокруг города, укрепления были закончены лишь на треть, да и та представляла собой небольшие, разрозненные цементные форты. Остальное в спешке соорудили из глиняных обломков старой городской стены.
Коммунистам, собиравшим гигантские силы численностью более четверти миллиона человек для решающего сражения, было жизненно важно знать устройство этой системы и расположение гоминьдановских войск. Главнокомандующий всеми коммунистическими армиями Чжу Дэ телеграфировал местному командующему: «Нужно взять Цзиньчжоу... и весь Китай в наших руках». Группе Юй–у было дано поручение предоставить последнюю информацию перед окончательным наступлением. Он отчаянно нуждался в людях, и когда мама предложила свои услуги, и он, и его начальство очень обрадовались.
Коммунисты прислали в город несколько переодетых офицеров–разведчиков, но мужчина, в одиночестве бродивший по окраинам, немедленно пробудил бы подозрения.
Влюбленная парочка смотрелась гораздо естественнее. При Гоминьдане юноши и девушки уже могли появляться вместе на людях. Мама была идеальной «подругой» для мужчин–разведчиков.
Юй–у велел ей в определенное время прийти в определенное место. Она должна была надеть бледно–голубое платье и приколоть к волосам красный шелковый цветок. Коммунист должен был держать гоминьдановскую «Центральную ежедневную газету», свернутую треугольником, и вытереть пот сначала с левой, потом с правой стороны лица.
В назначенный день мама вошла в маленькую кумирню, стоявшую за пределами северной городской стены, но внутри укреплений. К ней подошел мужчина с газетой треугольником и произвел условленные движения. Мама три раза потрепала его правой рукой по правой щеке, он три раза потрепал ее левой рукой по левой щеке. Мама взяла его под руку, и они пошли.
Мама по–настоящему не понимала, что он делает, но ни о чем не спрашивала. Большую часть времени они шли молча, заговаривая только, когда кто–нибудь попадался навстречу. Операция прошла гладко.
Были и другие прогулки — по окраинам города и на железную дорогу, жизненно важную транспортную артерию.
Одно дело было собрать информацию, другое — передать ее за пределы города. К концу июля на контрольно–пропускных пунктах всех выходящих из города тщательно обыскивали. Юй–у посоветовался с мамой, чьим способностям и мужеству привык доверять. Машины старших офицеров освобождались от обыска, и мама вспомнила о знакомстве, которое можно было использовать. Она училась вместе с внучкой генерала Цзи, брат которой был полковником в дедушкиной бригаде.
Цзи происходили из Цзиньчжоу и обладали значительным влиянием. Несколько домов их клана, с ухоженным садом, занимали целую улицу, которую так и прозвали — «улица Цзи». Мама часто гуляла в саду с подругой и подружилась с ее братом, Хуэйгэ.
Хуэйгэ, красивый молодой человек лет двадцати пяти, закончил инженерный факультет. В отличие от многих отпрысков богатых влиятельных семей, он не был пустым щеголем. Маме он нравился, нравилась и она ему. Он начал являться к Ся с визитами и приглашать маму на чаепития. Бабушка души в нем не чаяла; она считала этого вежливого юношу прекрасной партией.
Вскоре Хуэйгэ стал приглашать маму для встреч наедине. Они приходили вместе с сестрой, которая притворялась, что следит за благопристойностью, но быстро исчезала под каким–нибудь надуманным предлогом. Она хвалила маме своего брата и утверждала, что он дедушкин любимец. Должно быть, она также рассказывала и брату о моей матери, потому что, как оказалось, он много о ней знает, в частности, что ее арестовывали за радикальную деятельность. У них нашлось много общего. Хуэйгэ не скрывал своего отношения к Гоминьдану. Несколько раз он, теребя свой мундир полковника, со вздохом говорил, что ждет конца войны, чтобы вернуться к профессии инженера, и что дни Гоминьдана сочтены. У мамы было чувство, что он с ней совершенно искренен.
Она не сомневалась, что нравится ему, но не знала, не крылись ли за его действиями политические соображения. Она решила, что он пытается внушить ей, а через нее и коммунистам: «Мне не нравится Гоминьдан, я готов вам помогать».
Они стали молчаливыми сообщниками. Однажды мама спросила, не хочет ли он сдаться коммунистам вместе со своими подчиненными. Он сказал, что как штабной офицер не командует ни одним солдатом. Мама предложила ему убедить дедушку сдаться (что случалось сплошь и рядом), но он грустно сказал, что старик скорее всего застрелит его после первого же слова на эту тему.
Мама рассказала об этом Юй–у, и тот велел ей обрабатывать Хуэйгэ. Вскоре Юй–у велел ей попросить Хуэйгэ покатать ее за городом на своем джипе. Они совершили три–четыре такие поездки, и каждый раз, когда они проезжали мимо деревенского нужника, мама заходила туда и прятала в стенном отверстии записку; Хуэйгэ ждал в автомобиле. Он никогда не задавал вопросов. Он все чаще говорил, что беспокоится о своей семье и о себе самом. Он намекал, что коммунисты могут расстрелять его: «Боюсь, скоро я стану бесплотной душой, живущей за западными воротами!» (По поверью, мертвые живут на западном небе, в царстве вечного покоя. Казни в Цзиньчжоу, как и в большинстве других китайских городов, происходили за западными воротами.) Говоря это, он смотрел маме в глаза, явно ожидая возражений.
Мама была убеждена, что коммунисты пощадят его за то, что он для них сделал. Хотя открыто ничего не говорилось, она уверенно отвечала: «Гони от себя эти мрачные мысли!» или: «Уверена, с тобой этого не случится!»
В конце лета положение Гоминьдана продолжало ухудшаться — и не только в связи с военными действиями. Коррупция порождала хаос. К концу 1947 года инфляция достигла невероятных 100 000 процентов — а к концу 1948 года в районах под властью Гоминьдана она поднялась до 2 870 000 процентов. За ночь цена гаоляна, главного зернового продукта, выростала в Цзиньчжоу в семьдесят раз. Для гражданского населения жизнь с каждым днем становилась тяжелее, потому что все больше продуктов забирала армия, и значительную их часть местные офицеры перепродавали на черном рынке.
Мнения руководства Гоминьдана по вопросам стратегии разошлись. Чан Кайши предлагал отступить из Мукдена, крупнейшего города Маньчжурии, и сосредоточить все усилия на обороне Цзиньчжоу, но он не в состоянии был убедить в этом своих генералов. Казалось, он возлагает все надежды на расширение американской интервенции. В генеральном штабе расцветали пораженческие настроения.
К сентябрю во власти Гоминьдана оставались лишь три маньчжурских твердыни: Мукден, Чанчунь (старая столица Маньчжоу–го, Синьцзин) и Цзиньчжоу — а также триста километров связывающего их железнодорожного полотна. Коммунисты окружали все три города одновременно, и Гоминьдан не знал, откуда начнется основное наступление. В итоге это оказался Цзиньчжоу, самый южный и стратегически важный, так как с его падением другие два были бы отрезаны от снабжения. Коммунисты могли дислоцировать свои войска незаметно, а Гоминьдан зависел от железной дороги, на которую постоянно совершались нападения, и, в меньшей степени, от воздушного транспорта.
Атака на Цзиньчжоу началась 12 сентября 1948 года. Американский дипломат Джон Ф. Мелби 23 сентября записал в своем дневнике во время полета в Мукден: «На севере, вдоль маньчжурского коридора, артиллерия коммунистов разносила цзиньчжоуское летное поле вдребезги». На следующий день, 24 сентября, коммунисты подошли ближе. Через двадцать четыре часа Чан Кайши приказал генералу Вэй Лихуану прорваться из Мукдена с пятнадцатью дивизиями и снять осаду с Цзиньчжоу. Однако генерал Вэй колебался, и к 26 сентября коммунисты фактически изолировали Цзиньчжоу.
1 октября кольцо вокруг города сомкнулось. В тот же день пал соседний Исянь, бабушкин родной город. Чан Кайши прилетел в Мукден, чтобы принять командование на себя. Он приказал отправить на помощь Цзиньчжоу семь дополнительных дивизий, но ему удалось заставить генерала Вэя выдвинуться из Мукдена только 9 октября — через две недели после того, как был отдан приказ — к тому же лишь с одиннадцатью дивизиями вместо пятнадцати. 6 октября Чан Кайши полетел в Хулудао и приказал тамошним войскам освободить Цзиньчжоу. Отдельные подразделения повиновались, но из–за своей разрозненности оказались изолированы и уничтожены.
Коммунисты готовились превратить наступление на Цзиньчжоу в блокаду. Юй–у дал маме чрезвычайно важное задание: пронести в оружейный склад дивизии Хуэйгэ детонаторы. Боеприпасы хранились на территории, огороженной стенами с колючей проволокой, по слухам, находившейся под током. Входящих и выходящих обыскивали. Военные, служившие на складе, в основном проводили время за азартными играми и попойками. Иногда привозили проституток, и офицеры устраивали танцы в импровизированном клубе. Мама сказала Хуэйгэ, что хочет посмотреть на танцы, и он без лишних вопросов согласился.
На следующий день незнакомец вручил маме детонаторы. Она положила их в сумку и поехала с Хуэйгэ на склад. Их не обыскивали. Мама попросила Хуэйгэ показать ей территорию, а сумку, по инструкции, оставила в машине. В их отсутствие подпольщики должны были забрать детонаторы. Мама нарочно шла медленно, чтобы дать сообщникам больше времени. Хуэйгэ был рад возможности сделать ей приятное.
В ту ночь город сотряс оглушительный взрыв. Началась цепная реакция, рвущиеся динамит и снаряды озаряли небо величественным фейерверком. Улица, где располагался склад, пылала. В радиусе пятидесяти метров окна разлетелись вдребезги. На следующий день Хуэйгэ пригласил маму в особняк Цзи. Он был небритый, с пустым взглядом. Очевидно, он не сомкнул глаз. Он поприветствовал ее несколько сдержаннее, чем обычно.
После тяжкого молчания Хуэйгэ спросил, слышала ли она новость. Ее выражение лица подтвердило худшие его опасения — он помог совершить диверсию против своей собственной дивизии. Он сказал, что будет расследование. «Не знаю, снесет ли мне этот взрыв голову с плеч или, напротив, я получу награду». Мама его утешила: «Я уверена, ты вне подозрений. Уверена, тебя наградят». Тут Хуэйгэ встал и по–военному отдал ей честь. «Спасибо тебе за обещание!» — воскликнул он.
Снаряды коммунистов начали залетать в город. Впервые услышав их свист, мама слегка испугалась. Позже, когда обстрел усилился, она привыкла. Казалось, непрерывно гремит гром. У большинства жителей страх заглушало фаталистическое безразличие. Осада положила конец строгому маньчжурскому ритуалу в доме доктора Ся; впервые все домочадцы — мужчины и женщины, господа и слуги — садились за один стол. До этого они разделялись не меньше чем на восемь групп и все ели разное. Однажды, когда они собирались обедать, в окно влетел снаряд; он пронесся над каном, где играл годовалый сын Юйлиня, и упал под стол. К счастью, как многие снаряды, он был без взрывчатки.
С началом осады исчезло продовольствие, даже с черного рынка. За сто миллионов гоминьдановских долларов едва можно было купить полкило гаоляна. Все, кто мог себе это позволить, в том числе и бабушка, до осады запасались гаоляном и соевыми бобами. Муж бабушкиной сестры, «Верный» Пэй–о, благодаря связям добывал дополнительное продовольствие. Во время осады их осла убило шрапнелью, и его съели.
8 октября коммунисты бросили в атаку почти четверть миллиона бойцов. Бомбардировки заметно усилились. К тому же обстрел велся прицельно. Гоминьдановский главнокомандующий Фань Ханьцзе говорил, что снаряды будто преследуют его. Артиллерию выбили со многих позиций; крепости незавершенной оборонительной системы, а также шоссе и железные дороги попали под сплошной огонь. Были разорваны провода телефонной связи электропередач.
13 октября пали внешние оборонные рубежи. Более чем стотысячные гоминьдановские войска беспорядочно отступили в центр города. В ту ночь в дом Ся вломилась дюжина опустившихся солдат. Они требовали еды. Они не ели два дня. Доктор Ся любезно встретил их, а жена Юйлиня тут же поставила на огонь огромную кастрюлю с гаоляновой лапшой. Когда лапша сварилась, она подала ее на стол и пошла в соседнюю комнату за солдатами. Едва она повернулась, чтобы идти назад, в кастрюлю влетел снаряд и разнес лапшу по всей кухне. Она нырнула под столик перед каном.
Перед ней оказался солдат, но она схватила его за ногу и не дала войти в кухню. Бабушка перепугалась. «А если бы он повернулся и нажал на курок?» — сдавленно прошептала она как только он отошел.
До самой последней стадии осады обстрел велся удивительно точно. Обычных домов было разрушено немного, но население страдало от ужасных пожаров, которые нечем было тушить. Небо затянуло густым черным дымом, ничего не видно было дальше чем на несколько метров, даже днем. Гром артиллерии оглушал. Мама слышала, как люди стонут, но не могла определить ни где они, ни что случилось.
14 октября началось завершающее наступление. По городу непрерывно стреляло девятьсот орудий. Большинство членов семьи спряталось в наскоро выкопанном бомбоубежище, но доктор Ся отказался покинуть дом. Он спокойно сидел на кане в углу своей комнаты и тихо молился Будде. Вдруг в комнату вбежали четырнадцать котят. Он обрадовался: «Кошка всегда прячется в счастливом месте». К нему не залетело ни единой пули — и все котята выжили. Кроме него не пожелала идти в убежище только моя прабабушка, которая притаилась под дубовым столом рядом с каном в своей комнате. Когда битва стихла, толстые одеяла, покрывавшие стол, напоминали решето.
Посреди бомбардировки маленький сын Юйлиня захотел пописать. Мать вынесла его наружу, и через несколько секунд обрушилась стена бомбоубежища, рядом с которой они сидели. Маме и бабушке пришлось прятаться в доме. Мама схоронилась за каном на кухне, но вскоре в кирпичи кана стала попадать шрапнель, и дом задрожал. Она выбежала во внутренний садик. Небо было черно от дыма. Шальные пули рикошетом отскакивали от стен. Это напоминало смешанный со стонами и воплями шум ливня.
На следующий день с рассветом в дом вломились гоминьдановские солдаты, таща за собой двадцать насмерть перепуганных жителей трех соседних домов. Солдаты были почти в истерике. Они прибежали с артиллерийской позиции, размещенной в храме через дорогу, который только что с поразительной точностью разбомбили, и орали, что кто–то из гражданских их выдал. Они продолжали вопить, что желают знать, кто дал сигнал. Когда никто не откликнулся, они схватили маму и поставили ее к стенке, обвиняя ее. Бабушка едва не лишилась чувств от ужаса. Она спешно разыскала золотые украшения и стала пихать их солдатам. Они с доктором Ся встали на колени и заклинали солдат отпустить маму. Жена Юйлиня рассказывала, что это был единственный раз, когда она видела доктора Ся по–настоящему испуганным. Он умолял солдат: «Это моя девочка. Пожалуйста, поверьте, она ни в чем не виновата...»
Солдаты взяли золото и отпустили маму, но затолкали всех штыками в две комнаты и заперли их на замок — чтобы помешать им «подавать сигналы». В комнатах было совершенно темно и очень страшно. Но вскоре мама заметила, что обстрел ослабевает. Шум на улице изменился. К свисту пуль прибавились взрывы гранат и звон штыков. Слышались крики: «Сложите оружие, и мы вас пощадим!», доносились душераздирающий визг, вопли, полные злобы и страдания. Выстрелы и крики все приближались, она слышала топот сапог гоминьдановцев, убегавших по мостовой.
Постепенно гул несколько стих, и семья Ся услышала стук в боковую калитку дома. Доктор Ся осторожно приблизился к двери комнаты и приотворил ее: гоминьдановцы исчезли. Он пробрался к калитке и спросил, кто стучит. Голос ответил: «Мы — народная армия. Мы пришли освободить вас». Доктор Ся открыл калитку, быстро вошли несколько бойцов в мешковатой форме. В темноте мама увидела, что на левом рукаве у них повязаны белые полотенца. Солдаты держали ружья со штыками наготове. «Не бойтесь, — сказали они. — Мы вас не тронем. Мы ваша армия, армия народа». Они добавили, что хотят посмотреть, нет ли в доме гоминьдановцев. Это не было просьбой, хотя свое желание они выразили вежливо. Солдаты не перевернули дом вверх дном, не попросили еды, ничего не украли. После обыска они ушли, любезно попрощавшись с семьей.
Только когда солдаты вошли в дом, стало понятно, что коммунисты действительно взяли город. Мама радовалась как сумасшедшая. На этот раз их пыльное, рваное обмундирование ее не смутило.
Люди, прятавшиеся у Ся, поспешили по домам, чтобы посмотреть, в каком они состоянии: не разрушены ли, не разграблены. Один дом сровняло с землей, беременная женщина, оставшаяся там, погибла.
Вскоре после ухода соседей в боковую калитку опять постучали. Мама отворила: там стояло с полдюжины напуганных гоминьдановских солдат, жалких, с глазами, полными страха. Они отбили бабушке и доктору Ся земные поклоны и попросили гражданскую одежду. Из сострадания им дали старые вещи, которые они тут же нацепили поверх формы и убежали.
С рассветом жена Юйлиня открыла переднюю калитку. Прямо перед ней лежало несколько трупов. Она вскрикнула от ужаса и тут же вернулась в дом. Мама услышала ее крик и вышла посмотреть. Вся улица была завалена трупами, многие были с оторванными головами или конечностями, с вывалившимися внутренностями. Некоторые люди превратились в кровавое месиво. С телеграфных столбов свисали руки, ноги, куски мяса. Сточные канавы переполняла кровь, в которой плавали куски тел и обломки зданий.
Битва за Цзиньчжоу была грандиозной. Последнее наступление продолжалось тридцать один час и во многих отношениях стало поворотным моментом гражданской войны. Было убито двадцать тысяч гоминьдановских солдат, более восьмидесяти тысяч взяты в плен. В плен попали не менее восемнадцати генералов, среди них — верховный главнокомандующий силами Гоминьдана в Цзиньчжоу генерал Фань Ханьцзе, который попытался скрыться в гражданской одежде. Среди толп военнопленных, направляющихся во временные лагеря, мама увидела подругу с мужем — офицером Гоминьдана; Оба они замотались в одеяла, чтобы не замерзнуть холодным утром.
Коммунисты следовали приказу: не убивать сложивших оружие и хорошо обращаться с пленными. Это привлекало простых солдат, большинство которых происходили из бедных крестьянских семей. Коммунисты не устраивали лагерей военнопленных. Они оставили только офицеров среднего и высшего звена и почти сразу же распустили всех остальных. Для солдат проводили собрания «вспоминаем горечь», где их призывали рассказывать о своей тяжелой жизни. Главный смысл революции, говорили коммунисты, — дать им землю. Солдатам предоставили выбор: вернуться домой — тогда им давали денег на дорогу — или присоединиться к коммунистам и окончательно победить Гоминьдан, чтобы никто больше не мог отнять у них землю. Большинство по доброй воле остались и присоединились к коммунистам. Некоторые, конечно, не могли вернуться домой во время войны. Мао усвоил урок древнекитайского искусства войны: лучший способ завоевать людей — это завоевать их умы и сердца. Политика по отношению к пленным оказалась чрезвычайно эффективной. После Цзиньчжоу все больше и больше гоминьдановских солдат просто сдавались в плен. За время гражданской войны более полутора миллионов капитулировали и перешли на сторону коммунистов. В последний год гражданской войны меньше двадцати процентов потерь Гоминьдана приходилось на погибших в бою.
У одного из высших военачальников, попавших в плен, дочь скоро должна была родить. Он спросил офицера–коммуниста, можно ли ему остаться в Цзиньчжоу с дочерью. Офицер сказал, что отцу неудобно помогать дочери при родах и что он пришлет «товарища–женщину». Гоминьдановец подумал, что это говорится только для того, чтобы он ушел. Позднее он узнал, что с его дочерью очень хорошо обращались, а «товарищем–женщиной» оказалась жена того коммуниста. Политика по отношению к пленным была сложной смесью политического расчета и гуманитарных соображений, она стала одним из важнейших факторов победы коммунистов. Их целью было не только разгромить армию противника, но и, по возможности, разложить ее. Гоминьдан потерпел поражение из–за деморализации не меньше, чем от огня на поле боя.
Первоочередным делом после окончания битвы стала очистка города, чем и занялись в основном солдаты–коммунисты. Местные жители охотно помогали, желая побыстрее избавиться от трупов и мусора вокруг своих домов. Дни напролет можно было видеть длинные ряды телег с трупами и шеренги людей с корзинами на плечах, выносящих свой груз из города. Когда вновь стало возможно передвигаться по улицам, мама узнала, что многие ее знакомые убиты; одни — прямым попаданием, другие — под завалами в собственных домах.
Наутро после окончания осады коммунисты развесили по городу объявления, призывающие население незамедлительно вернуться к мирной жизни. Доктор Ся водрузил на прежнее место нарядную вывеску в знак того, что его медицинская лавка снова открылась. Позже коммунистические власти сообщили ему, что он был первым в городе врачом, возобновившим работу. Большинство магазинов начали торговать 20 октября, хотя с улиц еще не убрали трупы. Через два дня открылись школы, а учреждения стали работать по обычному расписанию.
Самой насущной была проблема продовольствия. Новое правительство призвало крестьян продавать свою продукцию в городе и установило цены на нее в два раза выше, чем в деревне. Гаолян быстро подешевел со 100 000 000 до 2 200 гоминьдановских долларов за полкило. Скоро простой рабочий мог купить на свой дневной заработок два килограмма гаоляна. Страх голода отступил. Коммунисты бесплатно выдавали нищим зерно, соль и уголь. Гоминьдан никогда не делал ничего подобного, и люди были под сильным впечатлением.
Привлекала местных жителей и дисциплина солдат–коммунистов. Они не только никого не насиловали и не грабили, но и всеми возможными способами демонстрировали образцовое поведение. Это выгодно отличало их от гоминьдановских войск.
Город по–прежнему находился в состоянии боевой готовности. Угрожающе летали американские самолеты. 23 октября значительные силы Гоминьдана безуспешно попытались отвоевать Цзиньчжоу, взяв его в клещи со стороны Хулудао и с северо–востока. С потерей Цзиньчжоу огромные армии вокруг Мукдена и Чанчуня быстро разложились или сдались, и ко 2 ноября вся Маньчжурия была в руках коммунистов.
Они исключительно умело восстановили порядок и наладили хозяйство. Банки в Цзиньчжоу открылись 3 декабря, электричество включили на следующий день. 29 декабря развесили объявления о замене прежних квартальных комитетов на комитеты жителей. Им предстояло стать ключевым институтом коммунистической администрации и контроля. На следующий день починили водопровод, а 31 декабря пустили железную дорогу.
Коммунистам удалось даже остановить инфляцию: они установили выгодный курс обмена обесцененных гоминьдановских долларов на коммунистические деньги «Великая стена».
С той минуты, когда в город вошли коммунисты, маме не терпелось всеми силами отдаться деятельности во имя революции. Она чувствовала себя частью общего дела. После нескольких дней нетерпеливого ожидания к ней обратился представитель партии. Он поручил ей встретиться с отвечающим в Цзиньчжоу за работу с молодежью товарищем Ван Юем.
6. «Разговор о любви»: Революционный брак (1948–1949)
Мама отправилась на встречу с товарищем Ваном теплым осенним днем, в лучшее время года в Цзиньчжоу. Летняя жара спала, воздух становился прохладнее, но все еще можно было одеваться по–летнему. Не было ветра и пыли, досаждавших горожанам большую часть года.
Мама надела традиционное просторное бледно–голубое платье и белый шелковый шарф. Она недавно коротко постриглась в соответствии с революционной модой. Войдя во двор новой провинциальной администрации, она увидела, как стоящий к ней спиной мужчина чистит зубы над клумбой. Мама подождала, пока он закончит, а когда он поднял голову, разглядела, что ему под тридцать, у него очень темное лицо и большие мечтательные глаза. Под мешковатой формой угадывалась худоба, и маме показалось, что он пониже ее ростом. Он выглядел мечтательным, как поэт. «Товарищ Ван, я Ся Дэхун из студенческой ассоциации, — сказала она. — Я пришла доложить о нашей работе».
«Ван» был военный псевдоним моего будущего отца. Он прибыл в Цзиньчжоу с коммунистическими войсками несколько дней назад. С конца 1945 года он командовал местным партизанским отрядом, а теперь стал главой секретариата и членом цзиньчжоуского комитета партии. Его собирались назначить на важную должность заведующего городским отделом пропаганды, ведавшим образованием, ликвидацией неграмотности, здравоохранением, печатью, досугом, спортом, делами молодежи и выяснением общественного мнения.
Он родился в 1921 году в городе Ибинь, в юго–западной провинции Сычуань, почти в двух тысячах километров от Цзиньчжоу. Ибинь, население которого тогда составляло примерно 30 000 человек, находится у слияния рек Миньцзян и Цзиньшацзян (река Золотого песка), там, где они образуют Янцзы, самую длинную китайскую реку. Земли вокруг Цзиньчжоу — одни из самых плодородных в Сычуани, известной как «житница Поднебесной», а теплый туманный климат идеален для чая. И сейчас там производится большая часть чая, который пьют в Великобритании.
Отец был седьмым из девяти детей. Его отец с двенадцати лет работал учеником хозяина ткацкой фабрики. Повзрослев, они с братом, работавшим на той же фабрике, решили начать собственное дело. Через несколько лет они разбогатели и купили большой дом.
Но старый хозяин взревновал к их успеху и подал в суд, заявив, что деньги для открытия дела они у него украли. Тяжба продолжалась семь лет, и братьям пришлось все средства потратить на свою защиту. Каждый, кто имел отношение к суду, вымогал у них взятки, алчность чиновников не знала пределов. Дедушку бросили в тюрьму. Брат смог вызволить его на свободу только добившись, чтобы старый хозяин забрал свою жалобу. Для этого ему пришлось раздобыть тысячу слитков серебра. Это разорило их, и вскоре мой двоюродный дедушка умер в возрасте тридцати четырех лет от горя и изнеможения.
У дедушки на руках оказалось две семьи с пятнадцатью иждивенцами. Он возобновил дело и в конце 1920–х годов начал преуспевать. Но в то время разгорелось соперничество между генералами, и все они установили высокие налоги. Вкупе с последствиями Великой депрессии это крайне затрудняло ведение текстильного бизнеса. В 1933 году дедушка умер от напряжения и непосильного труда в возрасте сорока пяти лет. Дело продали за долги, семью разметало. Кто–то пошел в солдаты, что считалось крайним выходом: во время войны солдата легко могли убить. Другие родные и двоюродные братья перебивались случайными заработками, дочери вышли замуж за кого получилось. Одну из родственниц отца, к которой он был очень привязан, в пятнадцать лет выдали за опиомана старше ее на несколько десятков лет. Отец бежал за ее свадебным паланкином, не зная, удастся ли им свидеться.
Отец любил книги и очень рано — в три года — начал учиться конфуцианскому канону. После смерти дедушки ему, тринадцатилетнему, пришлось с сожалением оставить школу. В следующем, 1935 году он нашел работу помощника бакалейщика в Чунцине — гораздо более крупном городе ниже по течению Янцзы. Он трудился по двенадцать часов в день. Его обязанностью было ходить с огромным кальяном за бамбуковым стулом, в котором хозяин ездил по городу на плечах двух носильщиков. Это делалось исключительно чтобы продемонстрировать, что хозяин может позволить себе слугу для ношения кальяна, который легко можно было положить в кресло. Отец работал не за деньги, а за кровать и скудные завтрак и обед. Ужином его не кормили, и каждый вечер у него сводило живот от голода. Отец постоянно думал о еде.
Его старшая сестра тоже жила в Чунцине. Она вышла замуж за учителя; их мать, овдовев, поселилась с ними. Однажды отец, измученный голодом, зашел к ним в кухню и съел холодную сладкую картофелину. Узнав об этом, сестра закричала: «Я и так с трудом кормлю мать! Я не могу кормить еще и брата!» Отец так обиделся, что выбежал из дома и больше не возвращался.
Он попросил, чтобы хозяин давал ему ужин. Тот не только отказался, но и начал оскорблять его. Разозлившись, отец ушел от него и вернулся в Ибинь, где пробавлялся случайной работой то в одном, то в другом магазине. Он страдал сам и видел страдание вокруг себя. Каждый день по дороге в лавку он проходил мимо старика, торговавшего пампушками. Слепой сгорбленный старик еле ковылял и, чтобы привлечь внимание прохожих, пел песню, от которой на глаза наворачивались слезы. Каждый раз, слыша эту песню, отец говорил себе, что общество должно измениться.
Он принялся искать выход. Он часто вспоминал, когда впервые услышал слово «коммунизм»: в семь лет, в 1928 году. Он играл рядом с домом и вдруг увидел, как на перекрестке по соседству собирается толпа. Он протиснулся вперед: на земле по–турецки сидел молодой человек. Руки его были связаны за спиной. Рядом стоял дородный палач с огромным мечом. Как ни странно, молодому человеку дали некоторое время поговорить о своих идеалах и каком–то «коммунизме». Затем палач опустил меч ему на шею. Отец закричал и зажмурил глаза. Его глубоко потрясла и эта сцена, и спокойствие, с которым молодой человек смотрел в лицо смерти.
Ко второй половине 1930–х годов даже в таком захолустье, как Ибинь, возникло довольно серьезное коммунистическое подполье. Основным пунктом их программы было изгнание японцев. Чан Кайши придерживался политики непротивления, когда японцы заняли Маньчжурию и стали покушаться на территорию собственно Китая. Для него первоочередной задачей было уничтожить коммунистов. Коммунисты провозгласили лозунг: «Китайцы не должны воевать с китайцами» — и пытались заставить Чан Кайши сосредоточить усилия на борьбе с японцами. В декабре 1936 года Чан Кайши похитили двое его же собственных генералов — один из них был Молодой Маршал из Маньчжурии Чжан Сюэлян. Коммунисты содействовали его освобождению в обмен на обещание выступить против японцев единым фронтом. Чан Кайши скрепя сердце согласился: он понимал, что это позволит коммунистам сохраниться и окрепнуть. «Японцы — болезнь кожи, коммунисты — болезнь сердца», — говаривал он. Хотя Гоминьдан и коммунисты считались союзниками, последним в большинстве районов по–прежнему приходилось работать подпольно.
В 1937 году японцы начали полномасштабное наступление на территории собственно Китая. Отца, как и многих других, ужасало и приводило в отчаяние происходившее с его родиной. Примерно в этот же период он начал работать в книжном магазине, торговавшем «левой» литературой: сторожил магазин по ночам и глотал эти книги одну за другой.
По вечерам он подрабатывал «толкователем» в кино. Тогда показывалось много немых американских картин. В его задачу входило стоять рядом с экраном и объяснять, что происходит, так как фильмы не дублировались и не снабжались субтитрами. Еще он играл в антияпонском театре; будучи стройным молодым человеком с тонкими чертами лица, он специализировался на женских ролях.
Отец любил свою труппу. Именно театральные знакомые связали его с коммунистическим подпольем. Программа коммунистов — победить японцев и построить справедливое общество — воспламенила его воображение. В 1938 году, в семнадцатилетнем возрасте, он вступил в партию. В то время Гоминьдан особенно зорко следил за коммунистической «заразой» в Сычуани. Нанкин, столица, попал в руки японцев в декабре 1937 года, и Чан Кайши перенес свою столицу в Чунцин. Чунцинская полиция развила в связи с этим судорожную активность, в результате чего театральную труппу распустили, а некоторых из его друзей арестовали. Другим пришлось бежать. Отца мучило сознание, что он ничего не может сделать для своей страны.
Несколькими годами ранее коммунисты прошли сквозь отдаленные районы Сычуани во время своего Великого похода длиной в десять тысяч километров, который в конце концов привел их в городок Яньань на северо–западе. Люди в театре часто говорили о Яньани как о месте, где царит дух товарищества, целесообразности и нет коррупции — а именно об этом мечтал отец. В начале 1940 года он отправился в свой собственный «великий поход» в Яньань. Сначала он добрался до Чунцина, где муж одной из его сестер, служивший офицером в армии Чан Кайши, написал ему письмо, с помощью которого отцу удалось пройти сквозь районы, подвластные Гоминьдану, и через окружение в Яньань. Он странствовал почти четыре месяца и прибыл на место в апреле.
Яньань лежит в долине Желтой земли, в северо–западных бесплодных горах, вдали от центров цивилизации. Большую часть города, посреди которого высилась девятиярусная пагода, составляли ряды пещер, вырубленных в желтых скалах. Они стали папиным домом на пять с лишним лет. Мао Цзэдун и его сильно поредевшие войска прибыли сюда в 1935–1936–м годах, после Великого похода, и сделали город столицей своей республики. Яньань была окружена территорией неприятеля; главным ее достоинством была удаленность, затруднявшая наступление.
Проучившись короткое время в партийной школе, папа подал заявление в одно из наиболее престижных партийных заведений — Академию марксизма–ленинизма. Благодаря ночному чтению на чердаке книжной лавки в Ибине, он показал лучшие результаты на суровом вступительном экзамене. Другие кандидаты были потрясены. Большинство из них происходили из крупных городов вроде Шанхая и смотрели на него свысока, как на деревенщину. Отец стал самым молодым слушателем академии.
Отец полюбил Яньань. Люди там казались ему исполненными энтузиазма, оптимизма и целеустремленности. Руководители партии жили скромно, как все, отнюдь не так, как гоминьдановские чиновники. Демократии в городе не было, но по сравнению с местами, откуда пришел отец, здесь царила просто райская честность.
В 1942 году Мао начал кампанию «по исправлению стиля» и призывал выступать с критикой яньанских порядков. Группа молодых слушателей из академии во главе с Ван Шивэем, включающая моего отца, расклеила стенгазеты–дацзыбао («газеты с большими иероглифами») с критикой партийного руководства и требованиями большей свободы и права на самовыражение. Этот поступок вызвал бурю, почитать стенгазеты пришел сам Мао.
Мао не понравилось то, что он увидел, и он превратил свою кампанию в охоту на ведьм. Ван Шивэя обвинили в том, что он троцкист и шпион. Ай Сыци, главный идеолог марксизма в Китае и один из руководителей академии, сказал про отца, своего самого молодого сотрудника, что он «совершил очень наивную ошибку». Раньше Ай Сыци часто хвалил отца за «блестящий, острый ум». Отец и его друзья подверглись жесткой критике и должны были из месяца в месяц критиковать сами себя на собраниях. Им говорили, что они нарушили порядок в Яньани и ослабили единство и дисциплину в партии, а это могло повредить великой задаче спасения Китая от японцев — а также от нищеты и несправедливости. Раз за разом партийные лидеры внушали им абсолютную необходимость беспрекословного повиновения партии ради общего дела.
Академию закрыли, а отца послали преподавать древнекитайскую историю полуграмотным крестьянам–чиновникам в Центральной партийной школе. Но испытание обратило его в веру. Как множество молодых людей, он решил посвятить свою жизнь Яньани. Он не дал себе разочароваться. Он считал жесткое обращение с собой не только оправданным, но и облагораживающим опытом: очищением души ради спасения Китая. Отец верил, что единственный путь к этой цели — суровые, даже крайние меры, полное самопожертвование и самоотречение.
Существовали и менее героические занятия. Он ходил по округе, собирая фольклор и научился изящно танцевать бальные танцы, которые пользовались огромной популярностью в Яньани — их любили многие лидеры, включая будущего премьер–министра Чжоу Эньлая. У подножия сухих, пыльных холмов вилась темно–желтая илистая река Янь, один из множества притоков великой Хуанхэ (Желтой реки). Отец часто в ней купался. Ему нравилось плавать на спине и любоваться на строгую величественную пагоду.
Жизнь в Яньани была тяжелой, но веселой. В 1942 году Чан Кайши стянул кольцо осады. Запасов еды, одежды и других товаров первой необходимости стало катастрофически не хватать. Мао призвал всех взять в руки мотыги и прялки и обеспечить себя самим. Отец стал замечательным прядильщиком.
Он провел в Яньани всю войну. Несмотря на блокаду, коммунисты усилили свое влияние на обширных территориях, особенно в северном Китае, в японском тылу. Мао рассчитал верно: коммунисты получили жизненно важную передышку. К концу войны они в той или иной мере контролировали более девяноста пяти миллионов человек, около двадцати процентов населения, в восемнадцати «базовых районах». Кроме того, они приобрели опыт политического и экономического управления в суровых условиях. Это сослужило им хорошую службу: они создали феноменальную систему организации и контроля.
9 августа 1945 года в северо–восточный Китай вошли советские войска. Через два дня китайские коммунисты предложили военный союз против японцев, но им отказали: Сталин поддерживал Чан Кайши. В тот же день коммунисты стали направлять вооруженные соединения и политических советников в Маньчжурию, судьба которой, как все понимали, будет иметь решающее значение.
Через месяц после поражения японцев отцу приказали отправиться из Яньани в Чаоян, место на юго–западе Маньчжурии, примерно в 1100 километрах от границ Внутренней Монголии.
В ноябре, после двухмесячного похода, отец с небольшим отрядом пришел в Чаоян. Большую часть территории покрывали бесплодные горы и холмы, почти такие же бедные, как в Яньани. Еще три месяца назад Чаоян входил в Маньчжоу–го. Кучка местных коммунистов провозгласила здесь собственное «правительство». Гоминьдановское подполье сделало то же самое. Тогда из Цзиньчжоу, до которого было около восьмидесяти километров, примчались коммунисты и казнили гоминьдановского губернатора за «заговор против коммунистического правительства».
Группа моего отца, наделенная полномочиями из Яньани, пришла к власти и в течение месяца сформировала в Чаояне, население которого тогда составляло 10 000 человек, надлежащую администрацию. Отец стал заместителем ее главы. Одним из первых шагов новой власти стала расклейка листовок, разъясняющих новую политику: освобождение всех заключенных; закрытие всех ссудных лавок — заложенные товары можно было получить бесплатно; закрытие борделей — проститутки получали от своих хозяев пособие на шесть месяцев; раздача бедноте зерна со складов; конфискация всей собственности, принадлежавшей японцам и их пособникам; защита китайской промышленности и торговли.
Эти меры пользовались широкой популярностью. Они были выгодны бедным, то есть подавляющей части населения. В Чаояне никогда не было сколько–нибудь приличного правительства. Во времена правления генералов его грабили всевозможные армии, затем больше десяти лет обескровливали японцы.
Через несколько недель после того, как отец вступил в должность, Мао приказал всем своим силам отступить из уязвимых городов и с основных трасс в сельскую местность — «освободить шоссе и захватить земли по обе стороны от него» и «окружить города из сельской местности». Соединение отца отступило из Чаояна в горы. Здесь почти ничего не росло, только дикие травы, редкие кусты лещины и кустарники с горькими плодами. Температура ночью падала до–35°, нередки были жестокие метели. Человек, оказавшийся ночью на улице, замерзал насмерть. Почти не было пищи. Ликование, вызванное капитуляцией Японии и занятием коммунистами обширных территорий на северо–востоке, всего через несколько недель сменилось чувством полного поражения. Сидя сгорбившись в пещерах и бедных крестьянских хижинах, отец со своими людьми пребывал в мрачном настроении.
Коммунисты и Гоминьдан маневрировали, готовясь к полномасштабной гражданской войне. Чан Кайши перенес столицу обратно в Нанкин и с помощью американцев перебросил крупные военные силы в северный Китай с тайным приказом как можно скорее занять все стратегические позиции. Американцы послали в Китай влиятельного генерала Джорджа Маршалла с целью убедить Чан Кайши создать коалиционное правительство с коммунистическим меньшинством. 10 января 1946 года было подписано перемирие, которое должно было вступить в силу 13 января. 14 января войска Гоминьдана заняли Чаоян, руководство сразу же приступило к созданию крупного полицейского соединения и разведывательной сети, а также к вооружению отрядов местных помещиков (Китайское слово, которое традиционно переводится на русский язык как «помещик», буквально означает «хозяин земли». Так, в сущности, называли любого владельца земельного участка, сдающего его в аренду или нанимающего работников.). Таким образом они сформировали четырехтысячное войско для уничтожения коммунистов. В феврале отряд отца все глубже и глубже отступал в негостеприимные горы. В основном они прятались у сельской бедноты. В апреле бежать стало некуда, и им пришлось разделиться на небольшие группы. Единственным способом выжить была партизанская война. В конце концов отец сделал своей базой деревню Шести дворов у истока реки Сяолин в ста километрах от Цзиньчжоу.
Партизанам не хватало оружия. Они доставали его у местных полицейских или «одалживали» у помещичьих отрядов. Другим важным источником были бывшие солдаты и полицейские Маньчжоу–го, которых коммунисты особенно пытались привлечь на свою сторону как обладателей оружия и боевого опыта. В районе, где воевал отец, политика коммунистов заключалась прежде всего в уменьшении арендной платы и процентов по займам, которые крестьяне платили помещикам. У помещиков конфисковывали зерно и одежду и раздавали их беднякам. Поначалу дело двигалось медленно, но в июле, когда гаолян вырос в полную высоту и в нем стало можно прятаться, несколько партизанских отрядов смогли встретиться в деревне Шести дворов, под большим деревом, росшим у храма. Отец открыл собрание словами из романа о благородных разбойниках «Речные заводи»: «Это наш Зал Справедливости. Мы обсудим, как «избавить народ от зла и именем Неба установить справедливость»».
В ту пору партизаны под командой отца продвигались в основном на запад и завоевали немало монгольских деревень. В ноябре 1946 года, с приближением зимы, Гоминьдан усилил наступление. Однажды отец чуть не попал в засаду. После ожесточенной перестрелки ему едва удалось спастись. Одежда его изорвалась в клочья, так что виднелись гениталии, и это очень развеселило его соратников.
Они редко спали в одном месте две ночи подряд, им часто приходилось переходить с одного места на другое несколько раз за ночь. Они никогда не раздевались перед сном, вся их жизнь состояла из непрерывной череды засад, окружений и прорывов. В отряде были женщины, и отец решил переместить их, а также раненых и слабых в более безопасный район на юге, вблизи Великой стены. Это потребовало долгого тяжелого перехода через районы, занятые Гоминьданом. Любой шум мог все погубить, поэтому отец приказал оставить всех младенцев у местных крестьян. Одна женщина не могла заставить себя бросить ребенка, и отец сказал, что ей придется либо расстаться с сыном, либо предстать перед военно–полевым судом. Она оставила ребенка.
В течение следующих месяцев отряд отца двигался на восток к Цзиньчжоу и стратегической железной дороге из Маньчжурии в Китай. Они сражались среди холмов к западу от Цзиньчжоу до прибытия регулярных войск коммунистов. Гоминьдан предпринял ряд безуспешных «истребительных операций». Партизаны приобрели в регионе определенное влияние. Отец, которому исполнилось двадцать пять лет, так прославился, что за его голову назначили награду; по всей цзиньчжоуской округе висели объявления о розыске. Мама видела эти объявления и много слышала о нем и его бойцах от родственников в гоминьдановской разведке.
Когда отряд отца отступил, гоминьдановцы вернулись и отняли у крестьян пищу и одежду, конфискованные партизанами у помещиков. Крестьян нередко пытали, некоторых убили, особенно тех, кто от голода съел зерно и не мог его вернуть.
В деревне Шести дворов главный землевладелец, Цзинь Тинцюань, по совместительству начальник полиции, жестоко изнасиловал многих женщин. Он убежал вместе с Гоминьданом, и отец председательствовал на собрании при вскрытии его дома и амбара. Когда Цзинь вернулся с Гоминьданом, крестьян заставили пасть перед ним ниц и вернуть все имущество, которое им отдали коммунисты. Тех, кто съел зерно, пытали, их дома снесли. Человека, отказавшегося бить поклоны или вернуть продукты, сожгли заживо на медленном огне.
Весной 1947 года ситуация изменилась, и в марте группа отца вновь заняла Чаоян. Вскоре в их руках оказалась вся округа. В честь победы устроили пир и праздник. Отец прекрасно придумывал загадки с именами (Китайские имена почти всегда имеют значение, поэтому на их основе можно придумывать каламбуры.), восхищая товарищей своей изобретательностью.
Коммунисты провели земельную реформу, конфисковав наделы у небольшого числа помещиков и распределив их поровну между крестьянами. В деревне Шести дворов крестьяне сперва отказывались взять землю Цзинь Тинцюаня, хотя теперь его арестовали. Даже видя его под охраной, они ему низко кланялись. Отец обошел множество крестьянских семей и постепенно узнал ужасную правду. Чаоянское правительство приговорило Цзиня к расстрелу, но родственники человека, сожженного заживо, вместе с другими пострадавшими решили убить его тем же способом. Цзинь стиснул зубы и не издал ни стона, пока пламя не охватило его сердца. Коммунистические чиновники, посланные для приведения казни в исполнение, не мешали крестьянам. Хотя коммунисты теоретически выступали против пыток, партработникам запретили вмешиваться в акты народного возмездия.
Люди вроде Цзиня были не просто богатыми собственниками земли, но сосредоточили в своих руках ничем не ограниченную, тираническую власть над жизнью местного населения. Их называли э–ба («злобные деспоты»).
В некоторых случаях убийства распространялись и на обычных помещиков, называемых «камнями» — препятствиями на пути революции. В их отношении следовали курсу: «Если сомневаешься, убей». Отец с этим не соглашался и говорил подчиненным и слушателям на собраниях, что приговаривать к смерти можно лишь тех, кто безусловно запятнал себя кровью. В докладах наверх он раз за разом повторял, что партия должна бережно относиться к человеческой жизни, что неумеренные казни лишь вредят революции. Отчасти из–за выступлений таких людей, как мой отец, в феврале 1948 года коммунистическое руководство издало директиву немедленно прекратить «излишние жестокости».
Все это время к району стягивались основные силы коммунистов. В начале 1948 года партизаны соединились с регулярными частями. Отца поставили во главе системы сбора разведывательной информации в районе Цзиньчжоу–Хулудао. В его обязанности входило следить за тем, как разворачиваются гоминьдановские войска и как они снабжаются продовольствием. Значительная часть такой информации поступала от агентов внутри Гоминьдана, в том числе от Юй–у. Из этих докладов он впервые услышал о маме.
Худой мечтательный человек, которого мама в то октябрьское утро застала за чисткой зубов, считался среди партизан чистюлей. Он чистил зубы ежедневно, удивляя этим и своих товарищей и крестьян в деревнях, где воевал. В отличие от других, сморкавшихся на землю, он пользовался носовым платком, который стирал при каждом удобном случае. Он никогда не окунал личное полотенце в общий таз (Чтобы сэкономить воду, китайцы умываются, протирая лицо мокрым полотенцем.), так как глазные инфекции встречались повсеместно. К тому же он славился ученостью и всегда имел при себе несколько томиков классической поэзии, не расставался с ними даже в бою.
Когда мама впервые прочла объявление о розыске и услышала об этом опасном «бандите» от родственников, она сразу поняла, что те и восхищаются им, и боятся его. И сейчас, обнаружив, что легендарный партизан выглядит отнюдь не воинственно, нисколько не была разочарована.
Он тоже был наслышан о маминой смелости и о том, что она, девушка семнадцати лет, как это ни невероятно, командовала мужчинами. Он представлял ее себе эмансипированной женщиной, достойной восхищения, но в то же время и стервой. К его радости, она оказалась хорошенькой и женственной, даже кокетливой. Она говорила спокойно, убедительно и — что для китайцев редкость — точно. Это качество отец, ненавидевший традиционные цветистые, туманные и ни к чему не обязывающие речи, особенно высоко ценил.
Она заметила, что он много смеется и что зубы у него блестящие и белые, а не коричневые и гнилые, как у большинства партизан. Привлекала и его манера изъясняться. Он производил впечатление человека образованного — не из тех, что путают Флобера с Мопассаном.
Когда мама сказала, что явилась с докладом о работе студенческого союза, он поинтересовался, какие книги читают студенты. Мама привела целый список и спросила, не прочитает ли он несколько лекций по марксистской философии и истории. Он согласился и задал вопрос, сколько человек учится у нее в школе. Она тут же назвала точную цифру. Затем он спросил, какая доля учащихся поддерживает коммунистов; и опять она дала обоснованную оценку.
Через несколько дней состоялась первая лекция. Кратко рассказав о работах Мао, он разъяснил аудитории основополагающие тезисы его учения. Отец был замечательным оратором и сразил девушек, включая маму, наповал.
Однажды он сообщил слушательницам, что партия организует поездку в Харбин, временную столицу коммунистов на севере Маньчжурии. Харбин в основном строился русскими, и за широкие бульвары, нарядные дома, роскошные магазины и кафе в европейском вкусе его называли «восточным Парижем». Считалось, что люди едут осматривать достопримечательности, но на самом деле партия опасалась, что Гоминьдан может отбить Цзиньчжоу, и хотела на всякий случай, не поднимая паники, вывезти из города сочувствующих коммунистам преподавателей и учащуюся молодежь, а также профессиональную элиту, например, врачей. Среди ста семидесяти человек, отобранных для путешествия, были мама и несколько ее знакомых.
В конце ноября мама села в поезд и отправилась на север, полная самых радужных ожиданий. Мои родители полюбили друг друга в Харбине, в окружении его прекрасных зданий, овеянных дымкой русской поэтической мечтательности. Отец писал маме чудесные стихи. Он владел изящным классическим стилем, что являлось незаурядным достоинством, а кроме того, как обнаружила мама, был искусным каллиграфом, отчего еще более вырос в ее глазах.
Он пригласил маму и ее подругу к себе встречать Новый год. Жил он в старинной русской гостинице, словно сошедшей со страниц сказки, —с расписной крышей, нарядными фронтонами и тонкой лепниной вокруг окон и на веранде. Войдя, мама увидела на столике в стиле рококо бутылку с иностранной надписью «Шампанское». Вообще–то отец никогда раньше шампанского не пил, только читал о нем у иностранных авторов.
К этому времени мамины однокашники уже прознали о ее романе. Мама, возглавлявшая студенческую организацию, часто ходила к папе с долгими докладами и возвращалась, как было замечено, далеко за полночь. У папы было и несколько других обожательниц, в частности, мамина подруга, приходившая в тот новогодний вечер, но по папиным взглядам, нежным насмешкам над мамой и тому, как они стараются использовать всякую возможность, чтобы оказаться рядом, подруга поняла, что они любят друг друга. Когда ближе к ночи девушка засобиралась, стало ясно, что мама остается. Под бутылкой из–под шампанского папа потом нашел записку: «Увы! Мне незачем больше пить шампанское! Пусть бутылка всегда будет полна для вас!»
В ту ночь отец спросил маму, была ли у нее связь с кем–нибудь до него. Она рассказала ему о прежних своих отношениях с мужчинами и сказала, что по–настоящему любила только Брата Ху, но он погиб от рук гоминьдановцев. Затем, в соответствии с новым коммунистическим моральным кодексом, который, отменяя обычаи прошлого, декларировал равенство мужчин и женщин, отец рассказал маме о себе. У него была возлюбленная в Ибине, но они расстались, когда он отправился в Яньань. И пока он был в Яньани, и потом, в дни партизанской войны, он встречался с несколькими девушками, но тогда нечего было и думать о женитьбе. Одна из его девушек впоследствии вышла замуж за Чэнь Бода, который прежде возглавлял отдел Яньаньской академии, где работал и отец, но затем приобрел огромную власть, став секретарем Мао.
Когда «чистосердечные признания» подошли к концу, отец сказал, что подаст в горком партии Цзиньчжоу заявление с просьбой разрешить ему «говорить о любви» (тань лянь ай) с мамой, чтобы впоследствии они могли пожениться. Так предписывали правила. Мама подумала, что это немного напоминает разрешение на брак, даваемое главой семьи, и, в сущности, была совершенно права: компартия стала новой патриархальной силой. В ту ночь, после их разговора, мама получила от папы первый подарок — романтическую русскую повесть «Просто любовь».
На следующий день мама написала домой, что встретила человека, который ей очень нравится. Поначалу бабушка и доктор Ся отнеслись к этому известию настороженно, потому что отец был чиновником, а чиновники всегда пользовались у простых китайцев дурной славой. Не говоря уж о прочих пороках, одной привычки к неограниченной власти было достаточно, чтобы усомниться в их уважительном отношении к женщинам. Бабушка сразу же заподозрила, что у отца уже есть жена, а маму он хочет взять в наложницы. Ведь обычно в Маньчжурии мужчины его возраста давно были женаты.
Примерно через месяц руководство сочло, что харбинская группа может без всяких опасений вернуться в Цзиньчжоу. Партия сообщила папе, что он вправе «говорить о любви» с мамой. Заявления подали еще двое, но опоздали. Одним из них был Лян, мамин подпольный связной. Он очень огорчился и попросил перевести его из Цзиньчжоу в какое–нибудь другое место. Ни он, ни другой поклонник, подавая заявление, и словом не обмолвились о своих намерениях маме.
Вернувшись, отец узнал, что назначен главой цзиньчжоуского отдела пропаганды. Через несколько дней мама привела его домой — представить семье. Как только он вошел, бабушка повернулась к нему спиной, отказываясь ответить на приветствие. Папа был смугл, очень худ (он отощал, когда был в партизанском отряде), казалось, ему хорошо за сорок и бабушка ни капли не сомневалась, что он давно женат. Доктор Ся держался вежливо, но суховато.
Вскоре отец ушел. Тут бабушка залилась слезами. «От чиновника нельзя ждать добра», — восклицала она. Однако доктор Ся уже успел понять по папиному поведению и маминым словам, что коммунисты очень жестко контролируют своих людей и человек на таком посту просто не может пойти на обман. Бабушку это не слишком убедило: «Он же из Сычуани. Откуда коммунистам знать, ведь он из таких дальних мест!»
Бабушка никак не могла успокоиться и продолжала высказывать подозрения, но другие члены семьи прониклись к папе симпатией. Доктор Ся прекрасно с ним ладил, они, бывало, разговаривали часами. Юйлинь с женой также полюбили его. Жена Юйлиня происходила из очень бедной и несчастной семьи. Ее мать принудили к замужеству после того, как дед проиграл дочь в карты. Брат попал в японскую облаву и три года провел на исправительных работах, подорвавших его здоровье. Выйдя за Юйлиня, она должна была каждый день подниматься в три часа утра, чтобы успеть приготовить множество блюд, соответствовавших изощренному маньчжурскому ритуалу. Бабушка заправляла домом, и, хотя теоретически они принадлежали к одному поколению, жена Юйлиня чувствовала, что стоит ниже ее, потому что они с мужем зависят от семьи Ся. Отец был первым человеком, взявшим себе за правило обращаться с ней как с равной, что в корне расходилось с китайской традицией. Несколько раз он дарил супругам билеты в кино, а это было редким в их жизни удовольствием. Впервые на своем веку они встретили чиновника, который не важничал перед ними, и жена Юйлиня считала, что коммунисты несравненно лучше всех своих предшественников.
Не прошло и двух месяцев после возвращения из Харбина, как родители подали заявление. С точки зрения традиции, брак представлял собой договор между двумя семьями — ни гражданской регистрации, ни свидетельства о браке не существовало. Но отныне для тех, кто «участвовал в революции», партия играла роль главы семьи. Установленное ею правило выглядело так: «28–7–полк. — 1». Это значило, что мужчина должен быть не моложе двадцати восьми лет, состоять в партии не меньше семи лет и иметь звание не ниже полковника; единица обозначала единственное требование к женщине — работу на благо партии не меньше года. Папе было двадцать восемь (китайцы считают, что новорожденный уже год живет на свете), он состоял в партии больше десяти лет, а должность его соответствовала заместителю командира дивизии. Хотя мама не была членом партии, ей зачли подпольную деятельность, а вернувшись из Харбина, она поступила на полную ставку в так называемую Женскую федерацию, где занималась тем, что освобождала наложниц и закрывала бордели, призывала женщин шить тапки для армии, устраивала на учебу и на работу, рассказывала им о правах и следила, чтобы их не выдавали замуж против воли.
Теперь Женская федерация была маминой «рабочей единицей» (дань–вэй), учреждением, через которое партия осуществляла полный контроль за населением. Горожан приписывали к таким учреждениям, которые, как в армии, определяли практически всё и вся в жизни каждого служащего. Маме нельзя было покидать подведомственную Федерации территорию, и только там можно было получить разрешение на брак. Федерация оставила вопрос на усмотрение папиного учреждения, так как отец занимал более высокий пост. Горком Цзиньчжоу сразу же дал письменное разрешение, но из–за отцовской должности необходимо было получить подтверждение от партийного комитета провинции Западная Ляонин. Считая, что препятствий больше не будет, родители назначили свадьбу на 4 мая, день маминого восемнадцатилетия.
В тот день, собираясь переселиться к отцу, мама скатала тюк из постельного белья и одежды, надела свое любимое бледно–голубое платье и белый шелковый шарф. Бабушка пришла в ужас. Неслыханно, чтобы женщина являлась в дом жениха своими ногами. Мужчине следовало послать за ней паланкин. Если она идет пешком, это означает, что мужчина ее не ценит и на самом деле в ней не нуждается. «Кто сейчас думает обо всей этой чепухе?» — сказала мама, увязывая тюк. Но бабушка не могла смириться с мыслью, что у ее дочери не будет традиционной торжественной свадьбы.
С самого рождения девочки каждая мать начинала собирать для нее приданое. Как предписывал обычай, в приданое мамы входила дюжина шелковых стеганых одеял и подушек с утками–мандаринками и нарядный полог для алькова. Однако традиционный обряд казался ей старомодным и излишне пышным. И она и отец хотели избежать церемоний, которые, как они считали, не имели ничего общего с их чувствами. Для двух революционеров значение имела только любовь.
Мама взвалила тюк на плечи и отправилась в дом к папе. Как и все партийные служащие, он жил там же, где работал, то есть на территории горкома партии. Одноэтажные дома с раздвижными дверьми, где селились чиновники, окружали двор несколькими рядами. Когда уже стемнело и молодые готовились ложиться в постель, мама встала на колени, чтобы снять с папы туфли. Тут в дверь постучали. У порога стоял человек с письмом из провинциального партийного комитета, где говорилось, что им пока нельзя вступать в брак. Только по сжатым маминым губам можно было понять, до чего она несчастна. Она кивнула, собрала вещи, сказала: «До свиданья» — и ушла. Не было ни слез, ни сцен, ни возмущения. Эта картина навеки врезалась в папину память. В детстве я часто слышала от него: «Как изменились времена! Ты не похожа на свою мать! Ты бы так не поступила — не встала бы на колени, чтобы снять с мужчины обувь!»
Задержка возникла из–за того, что у провинциального комитета возникли подозрения относительно мамы из–за связей ее семьи. Ее подробно допрашивали о том, чем объясняются отношения их семьи с гоминьдановской разведкой. Ей велели быть абсолютно честной, как если бы она давала показания в суде.
Ей также следовало рассказать, почему несколько гоминьдановских офицеров искали ее руки и почему она дружила со столькими членами гоминьдановского Союза молодежи. Она подчеркивала, что ее друзья занимали крайние антияпонские позиции и отличались общественной сознательностью; и что когда Гоминьдан в 1945 году пришел в Цзиньчжоу, они видели в нем правительство Китая. Она и сама могла бы вступить в эту организацию, но тогда ей было всего четырнадцать. Вскоре большинство ее друзей повернулись к коммунистам.
Мнение партии разделилось: горком считал, что мамиными друзьями руководили патриотические чувства. Но кое–кто в провинциальном комитете относился к ним недоверчиво. Маме посоветовали «провести границу» между собой и друзьями. «Проведение границы» стало ключевым механизмом, с помощью которого коммунисты увеличивали разрыв между «своими» и «чужими». Ничто, даже личные связи, не могло быть случайным или пускаться на самотек. Чтобы выйти замуж, ей надлежало порвать отношения с друзьями.
Но больше всего маму тревожило происходившее с молодым гоминьдановским полковником Хуэйгэ. Едва кончилась осада, первым ее порывом после начального ликования от победы коммунистов было узнать, все ли с ним в порядке. Она бежала всю дорогу по залитым кровью улицам до особняка Цзи. Она ничего там не нашла: ни улицы, ни домов, только огромную кучу мусора. Хуэйгэ пропал.
Весной, незадолго до замужества, она узнала, что он жив и находится в заключении в Цзиньчжоу. Во время осады он бежал в Тяньцзинь. Когда в январе 1949 года коммунисты взяли Тяньцзинь, его схватили и привезли обратно.
Хуэйгэ считался не обычным военнопленным, а «змеей в своей норе» — из–за влиятельности его семьи в Цзиньчжоу. Они представляли особую опасность для коммунистов, так как им доверяло местное население и их антикоммунистические настроения угрожали существованию нового режима.
Мама не сомневалась, что с Хуэйгэ будут обращаться хорошо, когда узнают, что он сделал, и немедленно выступила в его поддержку. По существующему порядку, сначала ей следовало поговорить со своей непосредственной начальницей в Женской федерации, а та должна была отправить апелляцию в высшие инстанции. Мама не знала, за кем будет последнее слово. Она обратилась с просьбой похлопотать за полковника к Юй–у, который знал о ее общении с Хуэйгэ и даже велел ей развивать с ним отношения. Юй–у написал отчет о том, что сделал Хуэйгэ, но прибавил: возможно, тот действовал из любви к моей маме и даже не подозревал, ослепленный чувством, что помогает коммунистам.
Мама обратилась к другому подпольщику, знавшему о действиях Хуэйгэ. Тот также отказался заявить, что Хуэйгэ помогал коммунистам. На самом деле он вообще не хотел упоминать о роли полковника в предоставлении информации коммунистам, чтобы приписать заслугу одному себе. Мама утверждала, что у нее не было романа с полковником, но никак не могла это доказать. Она цитировала завуалированные просьбы и обещания, которыми они обменивались, но в этом видели лишь свидетельства того, что Хуэйгэ пытался «подстраховаться», к чему партия относилась с особым подозрением.
Все это происходило одновременно с подготовкой к женитьбе и омрачило отношения моих будущих родителей. Тем не менее отец сочувствовал затруднительному положению, в котором оказалась мама, и считал, что по отношению к Хуэйгэ должна восторжествовать справедливость. Он не изменил своего мнения несмотря на то, что бабушка желала видеть Хуэйгэ своим зятем.
В последние дни мая, наконец, пришло разрешение на брак. Мама в тот день сидела на собрании в Женской федерации. Вдруг кто–то сунул ей в руку записку от председателя горкома Линь Сяося, приходившегося племянником верховному главнокомандующему Линь Бяо, чьи войска взяли Маньчжурию. Там стихотворным размером было написано: «Провинциальное начальство дало добро. Вряд ли вам хочется торчать на собрании. Скорее идите жениться!»
Мама, стараясь сохранять спокойствие, подошла к председательнице собрания и показала записку. Та кивком головы отпустила ее. Всю дорогу до папиной квартиры она бежала бегом. Она так и осталась в голубом «ленинском костюме», униформе для госслужащих: в присборенном на поясе двубортном пиджаке и мешковатых брюках. Открыв дверь, мама увидела Линь Сяося и других партийных начальников, приехавших в сопровождении телохранителей. Отец сказал, что послал пролетку за доктором Ся. Линь спросил: «А как же теща?» Отец ничего не ответил. «Так нельзя», — сказал Линь и велел отправить пролетку и за бабушкой. Мама очень обиделась на папу, но объяснила себе его поступок тем, что он ненавидит гоминьдановскую разведку, а у бабушки там знакомства. Но, подумала она, разве ее мать в этом виновата? А что папино поведение может быть ответом на то, как обращалась с ним бабушка, ей в голову не пришло.
Не было никакой свадебной церемонии, просто собралось несколько человек. Потом явился доктор Ся. Поели свежих крабов — угощение от горкома. Коммунисты пытались сделать свадьбы дешевыми, так как традиционно на них тратились огромные деньги, намного превосходившие возможности семьи. Совсем не редкостью были случаи, когда люди разорялись из–за богатого свадебного угощения. Мои родители ели финики и арахис, которые подавали на брачных пирах в Яньане, и сушеный фрукт лонган (Лонган («око дракона») — мелкий желтовато–коричневый плод с ароматной сладкой мякотью.), символизировавший пожелание счастливого союза и сыновей. Вскоре доктор Ся и большинство гостей уехали. Через некоторое время, уже по окончании вечеринки, явилась группа из Женской федерации.
Ни бабушка, ни доктор Ся не подозревали, что их зовут на свадьбу, и извозчик первой пролетки тоже ничего не сказал. Бабушка узнала, что ее дочь выходит замуж, только после приезда второй коляски. Когда из окна стало видно, как бабушка торопливо идет по дорожке, женщины из Федерации, пошептавшись, спешно скрылись через черный ход. Отец тоже ушел. Мама чуть не расплакалась. Она знала, что сотрудницы ее отдела презирают бабушку не только из–за связей с Гоминьданом, но и потому, что она была наложницей. Многие коммунистки, происходившие из необразованных крестьянских семей, сохраняли глубоко традиционную точку зрения на подобные вопросы. Они были убеждены, что хорошая девушка не стала бы наложницей, — хотя коммунисты и заявляли, будто наложница имеет тот же статус, что и жена, и может расторгнуть «брак» в одностороннем порядке. Чиновницам с такими косными взглядами и было поручено осуществлять политику партии в деле раскрепощения женщины.
Мама скрыла от бабушки правду, сказав, что жених ушел на работу: «У коммунистов не принято освобождать новобрачных от дел. Я, вообще говоря, тоже скоро пойду в Федерацию». Бабушку поразила небрежность, с которой коммунисты относятся к такой важной вещи, как свадьба, но они уже нарушили так много традиций — видно, теперь настала очередь и этой.
В то время в мамины обязанности входило обучение чтению и письму работниц текстильной фабрики, где она работала при японцах, и пропаганда равенства полов. Фабрика все еще оставалась частной, и один из мастеров поколачивал женщин всякий раз, когда ему заблагорассудится. Мама весьма оперативно добилась его увольнения и помогла работницам выбрать себе мастера–женщину. Но удостоиться за это похвалы ей помешало недовольство Федерации по другому вопросу.
Важнейшей задачей Женской федерации было шитье тапок для армии. Мама шить их не умела, поэтому перепоручила это своей матери и теткам, которых с детства приучали делать изящные, богато украшенные туфли. Мама с гордостью принесла их в Федерацию, причем в количестве, намного превосходящем норму. Она очень удивилась, когда ее не только не похвалили за находчивость, но еще и отчитали как маленькую девочку. Крестьянки из Федерации не могли себе представить, что на свете бывают женщины, которые не умеют шить тапки. Это было все равно что сказать: «Я не умею есть». На собраниях ее критиковали за «буржуазную упадочность».
У мамы не сложились отношения с некоторыми из начальниц. Эти крестьянки были старше и консервативнее, многие годы воевали в партизанских отрядах и терпеть не могли хорошеньких образованных городских девушек, мгновенно привлекавших к себе мужчин–коммунистов. Мама подала заявление о вступлении в партию, но ей сказали, что она недостойна.
Каждый раз, когда она уходила домой, ее критиковали. Ее обвиняли в том, что она «слишком привязана к своей семье», а это «буржуазная привычка», и она все реже и реже видела мать.
В то время существовало неписаное правило, согласно которому революционер не мог покидать рабочее помещение даже ночью, увольнительную он получал только в субботу. Мамина кровать находилась в здании Женской федерации, отделенном от папиного жилья низкой глинобитной стеной. Ночью она через нее перелезала, пробиралась через маленький садик и оказывалась в папиной комнате, а перед рассветом возвращалась обратно. Скоро ее разоблачили и вместе с папой подвергли критике на партсобрании. Коммунисты старались кардинальным образом изменить не только общественный уклад, но и частную жизнь людей, особенно «участвующих в революции». Считалось, что «личное — это политическое», а на самом деле личное просто отменялось. Мелочность объявили «политической сознательностью», и собрания стали для коммунистов местом сведения счетов.
Отцу пришлось выступить с устной, а маме с письменной самокритикой. Ее обвинили в том, что она «поставила на первое место любовь», тогда как приоритет следовало отдавать революции. Мама чувствовала себя несправедливо обиженной. Какой урон терпела революция от того, что она проводила ночи с собственным мужем? Она могла допустить, что в подобном требовании было нечто рациональное, когда вокруг бушевала партизанская война, но зачем это нужно было теперь? Она не желала писать самокритику и сказала об этом мужу. Но увы, — он лишь отчитал ее. «Революция еще не одержала победу, — сказал он. — Война продолжается. Мы нарушили правила и должны признать свою ошибку. Революция требует железной дисциплины. Ты обязана повиноваться партии, даже если не понимаешь ее решений или не согласна с ними».
Вскоре случилось несчастье. Поэт по фамилии Бянь, ездивший в Харбин и близко подружившийся с мамой, попытался покончить с собой. Он был последователем поэтической школы «Новолуние», которую возглавлял Ху Ши, ставший при Гоминьдане послом в США. В этом литературном направлении особое внимание уделялось эстетике формы и ощущалось влияние Китса. Во время войны Бянь вступил в компартию, но обнаружил, что его поэзию считают неуместной: революция требовала пропаганды, а не самовыражения. Он частично соглашался с обвинением, но в то же время был подавлен, мучился сомнениями; чувствовал, что не сможет больше писать и в то же время — что не сможет жить без поэтического творчества.
Эта попытка самоубийства потрясла партию. Если человек способен настолько разочароваться в Освобождении (Так в КНР называют революцию 1949 года.), что предпочитает расстаться с жизнью, это плохо говорит о партии. Бянь работал учителем в цзиньчжоуской школе для партийных работников, многие из которых не умели ни читать, ни писать. Школьная парторганизация провела расследование и пришла к неожиданному выводу, что Бянь попытался покончить с собой от несчастной любви... к моей маме. На обличительных собраниях женщины из Федерации обвиняли маму в том, что она обнадежила Бяня, а потом бросила его ради более ценной добычи — моего отца. Мама гневно требовала доказательств. Конечно, они так и не были представлены.
В этом случае отец встал на мамину сторону. Он знал, что во время поездки в Харбин, когда она якобы бегала на свидания к Бяню, она встречалась с ним, а не с поэтом. Он видел, как Бянь читал маме свои стихи, знал, что мама им восхищалась, и не находил во всем этом ничего предосудительного. Но ни он, ни мама не могли остановить поток сплетен. Особенно злобствовали женщины из Федерации.
Посреди всей этой клеветнической кампании мама узнала, что ее апелляцию относительно Хуэйгэ отклонили. Она была вне себя от горя. Она дала Хуэйгэ обещание, а теперь чувствовала, что ввела его в заблуждение. Она часто ходила к нему в тюрьму, рассказывала, что делает для пересмотра его дела и не представляла себе, что коммунисты не пощадят его. Она искренне надеялась на лучшее и ободряла его. Но теперь, увидев ее напряженное лицо, заплаканные глаза и тщетные попытки скрыть отчаяние, он понял, что надежды нет. Они вместе плакали, прямо перед охраной, сидя по разные стороны стола, на который требовалось положить руки. Хуэйгэ взял мамины руки в свои. Она не отстранилась.
Отцу доложили о маминых посещениях тюрьмы. Сначала он молчал. Он сочувствовал ее трудностям. Но постепенно он рассердился. Скандал по поводу попытки Бяня совершить самоубийство был в самом разгаре, а теперь утверждали, что у его жены роман с гоминьдановским полковником — но ведь у них еще не кончился медовый месяц! Он был в ярости, но главную роль в том, что он принял решение партии относительно полковника, играли не его личные чувства. Он сказал маме, что, если Гоминьдан вернется, люди вроде Хуэйгэ первыми помогут ему восстановить власть. Коммунисты, сказал он, не могут так рисковать: «Наша революция — дело жизни и смерти». Когда мама попыталась объяснить ему, как Хуэйгэ помог коммунистам, отец ответил, что ее посещения тюрьмы, а особенно то, что они держались за руки, только повредили Хуэйгэ. Со времен Конфуция только муж с женой или, в крайнем случае, возлюбленные могли дотрагиваться друг до друга на людях. Даже при таких обстоятельствах это случалось крайне редко. Когда Хуэйгэ и маму увидели держащими друг друга за руки, это сочли доказательством их романа — соответственно, помогая коммунистам, Хуэйгэ руководствовался «неправильными» чувствами. Маме трудно было возразить, но от этого она не чувствовала себя менее несчастной.
Ощущение безысходности усугублялось тем, что происходило с несколькими ее родственниками и многими близкими людьми. Заняв город, коммунисты тут же объявили, что всякий, кто работал на гоминьдановскую разведку, должен прийти и заявить об этом. Ее дядя Юйлинь никогда не работал на разведку, но у него было удостоверение разведки, и он считал, что должен заявить об этом новым властям. Жена и моя бабушка пытались отговорить его, но он предпочел сказать правду. Он оказался в трудном положении. Если бы он не признался, а коммунисты узнали бы о нем, что было весьма вероятно, учитывая их необычайные организационные таланты, его ожидали бы большие неприятности. Но явившись добровольно, он сам дал им повод для подозрений.
Вердикт партии звучал так: «Политически запятнал себя в прошлом. Не наказывать, но работать может только под наблюдением». Этот приговор, как почти все, выносился не судом, а соответствующим партийным органом. Непонятно было, что именно он означает, но в результате тридцать лет жизнь Юйлиня зависела от политического климата и партийных начальников. В те годы горком в Цзиньчжоу не свирепствовал, и ему разрешили и дальше помогать доктору Ся в лавке.
Бабушкиного родственника, «Верного» Пэй–о, приговорили к физическому труду в деревне. Так как руки его не были запятнаны кровью, его всего лишь сделали «поднадзорным». Это значило, что вместо тюремного заключения его ожидала общественная слежка (не менее действенная). Семья решила поехать в деревню вместе с ним, но сперва «Верному» пришлось лечь в больницу. У него была дурная болезнь. Коммунисты развернули крупную кампанию по борьбе с венерическими заболеваниями, и все такие пациенты в обязательном порядке лечились.
Его «поднадзорная работа» продолжалась три года. Фактически это было условное заключение с принудительным трудом. «Поднадзорные» сохраняли некоторую свободу, но им надлежало периодически отмечаться в полиции, давая подробный отчет, чем они занимались и о чем думали со времени последнего посещения. Полиция открыто наблюдала за ними.
Когда срок официального надзора истекал, они переходили в категорию Юйлиня — то есть под «неофициальное наблюдение». Распространенной формой последнего был так называемый «сэндвич» — когда за человеком следили двое соседей, которым специально давали соответствующее поручение; часто это называли «двое красных опекают черного». Разумеется, прочие соседи через уличные комитеты также имели право — и даже обязанность — доносить на ненадежного «черного». «Народный суд» все видел насквозь, он стал главным орудием власти, потому что делал множество людей сообщниками государства.
Чжугэ, офицера разведки с внешностью интеллигента, женившегося на госпоже Танака, маминой японской учительнице, приговорили к пожизненным принудительным работам в глуши, на границе (как и многих гоминдановских чиновников, его помиловали по амнистии в 1959 году). Жену его выслали в Японию. Как и в Советском Союзе, почти все приговоренные к заключению отправлялись не в тюрьмы, а в трудовые лагеря, на опасные работы или в экологически неблагополучные районы.
Некоторые важные гоминьдановцы, включая людей из разведки, избежали наказания. Завуч маминой школы служил также секретарем районного отдела Гоминьдана, но имелись свидетельства, что он спас жизнь многим коммунистам и их попутчикам, в том числе маме, поэтому его пощадили.
Директриса и двое учителей, сотрудничавших с разведкой, сумели скрыться и со временем бежать на Тайвань. Так же поступил и Яохань, политический руководитель, способствовавший маминому аресту.
Коммунисты также пощадили больших шишек вроде «последнего императора» Пу И и генералов высшего звена — из–за их полезности. Мао заявил: «Мы убиваем маленьких Чан Кайши. Мы не убиваем больших Чан Кайши». Сохранение жизни таким персонажам, как Пу И, рассуждал он, «хорошо примут за границей». Никто не мог жаловаться открыто, но в частной жизни многие были этим недовольны.
То было время больших тревог для маминой семьи. Ее дядя Юйлинь и тетя Лань, чья жизнь неразрывно была связана с судьбой ее мужа, «Верного», мучились неопределенностью своего будущего и страдали от изоляции. Но Женская федерация требовала от мамы бесконечных письменных «самокритик», поскольку ее печаль выдавала «слабость по отношению к Гоминьдану».
Кроме того, ее непрерывно отчитывали за посещения заключенного Хуэйгэ без разрешения Федерации. Никто не говорил ей, что подобное разрешение требуется. В Федерации сказали, что не мешали ей, потому что делали скидку «новичку в революции»; они хотели посмотреть, сколько времени ей понадобится, чтобы самостоятельно воспитать в себе дисциплину и обратиться к партии за указаниями. «Но по каким поводам я должна обращаться за указаниями?» — спросила она. «По любым», — ответили ей. Необходимость получать разрешение по совершенно непредсказуемому «любому поводу» стала основополагающим элементом китайского коммунистического режима. Это значило, что люди приучались ничего не предпринимать по собственной инициативе.
В Федерации, которая стала для мамы практически единственной средой обитания, ее подвергли остракизму. Ходили слухи, что Хуэйгэ использовал ее, чтобы подготовить возвращение Гоминьдана. «В какую же она вляпалась грязь, — восклицали женщины, — а все потому, что не соблюдает себя! Посмотрите только на все ее шуры–муры с мужчинами! И какими мужчинами!» Мама чувствовала вокруг себя указующие персты людей, которые, вместо того чтобы стать ей товарищами по славному движению обновления и освобождения, выражали сомнение в ее моральном облике и преданности, а ведь она рисковала своей жизнью. Ее критиковали даже за то, что она ушла с заседания Женской федерации на собственную свадьбу — этот грех назывался «ставить личное впереди общественного». Мама объяснила, что ее попросил пойти председатель горкома. На это председательница парировала: «Но вы могли показать свое правильное отношение к делу, поставив на первое место собрание».
Маме едва исполнилось восемнадцать, она только что вышла замуж и дышала надеждой на новую жизнь, но в то же время чувствовала себя растерянной и одинокой. Она всегда доверяла своему чувству справедливости, а теперь оно вступало в конфликт с ее «делом», а часто и со взглядами любимого мужа. Мама впервые начала сомневаться в себе самой.
Она не винила партию и революцию. Не могла она винить и женщин из Федерации, своих товарищей, которые, казалось, верно проводили партийную линию. Мамино негодование обратилось на мужа. Она чувствовала, что о ней он думает в последнюю очередь и в спорах всегда берет сторону своих соратников. Мама понимала, что ему нелегко показывать свою поддержку на людях, но он мог бы ободрить ее, хотя бы когда они оставались наедине. С самого начала между моими родителями существовало глубокое различие. Папина преданность коммунизму была всепоглощающей: он считал, что должен разговаривать дома, даже с собственной женой, тем же языком, что и на людях. Мама вела себя гораздо более гибко; ее приверженность коммунизму умерялась и разумом, и чувством. Она оставляла место для личной жизни, а папа — нет.
Воздух Цзиньчжоу стал для мамы невыносимым. Она сказала мужу, что им надо поскорее отсюда уехать. Он согласился, хотя ожидал повышения, и обратился в горком с просьбой о переводе, мотивируя ее желанием вернуться в родной город, Ибинь. В горкоме были удивлены, потому что совсем недавно слышали от него, что именно там он работать не хочет. На протяжении всей китайской истории чиновников отправляли служить подальше от родных мест — чтобы не было соблазна покровительствовать родным и близким.
Летом 1949 года коммунисты развернули стремительное наступление на юг. Они взяли столицу Чан Кайши, Нанкин, и казалось, вот–вот войдут в Сычуань. Опыт работы в Маньчжурии доказал, что они отчаянно нуждаются в верных управленцах из числа местных жителей.
Партия утвердила папин перевод. Через два месяца после свадьбы — и меньше чем через год после Освобождения — они покинули мамину родину, спасаясь от злобных наветов. Радость, с которой мама встретила Освобождение, сменилась тревогой и меланхолией. При Гоминьдане она разряжала напряжение действием и не сомневалась в своей правоте, что придавало ей мужества. Теперь же ее не покидало чувство вины. Когда она заговаривала об этом с отцом, тот отвечал, что нельзя стать коммунистом, не пройдя через горнило испытаний. Так и должно быть.
7. «Через пять горных ущелий»: Мамин «великий поход» (1949–1950)
Перед самым отъездом из Цзиньчжоу маму временно — на испытательный срок — приняли в партию благодаря заместительнице председателя горсовета, ведавшей Женской федерацией. Она заявила, что маме это понадобится на новом месте. Полноправным членом партии она могла стать только через год, если ее сочтут достойной.
Родители отправлялись в путь вместе с другими коммунистами — всего набралось больше сотни человек, — и двигались они в Сычуань. Ядро группы составляли мужчины, коммунисты–руководители, уроженцы юго–западных областей, женщин было совсем мало — в основном жительницы Маньчжурии, вышедшие замуж за сычуаньцев. На время путешествия их разбили на отряды и выдали зеленую армейскую форму. Им предстояло пересечь территории, где все еще бушевала гражданская война.
27 июля 1949 года бабушка, доктор Ся и ближайшие мамины друзья, большая часть которых находилась под подозрением у коммунистов, пришли на вокзал, чтобы проводить моих родителей. Во время прощания маму раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, она казалась себе птицей, вырвавшейся на свободу из клетки; с другой — не знала, доведется ли ей — и когда — вновь увидеть любимых и дорогих людей, особенно мать. Путешествие предстояло опасное, Сычуань по–прежнему находилась в руках Гоминьдана. Ее отделяло невообразимое расстояние в полторы тысячи километров, и мама не слишком надеялась когда–нибудь вернуться в Цзиньчжоу. Ей очень хотелось плакать, но она сдерживала слезы, чтобы еще больше не расстраивать мать. Когда перрон начал уплывать вдаль, папа попробовал ободрить ее. Он сказал, что надо проявить стойкость и что как молодая студентка, «пришедшая в революцию», она должна «пройти через пять горных ущелий» — то есть полностью изменить свое отношение к семье, профессии, любви, прежнему образу жизни и физической работе, а новые взгляды можно обрести, только испытав трудности и лишения. Партия учила, что образованным людям, вроде мамы, нужно избавиться от «буржуазности» и стать ближе к крестьянам, которые составляли более восьмидесяти процентов населения страны. Мама слышала эти теории сотни раз. Она соглашалась с тем, что должна перевоспитать себя, чтобы принять участие в построении нового Китая; она даже написала стихотворение о том, как встретит «песчаную бурю». Но она жаждала нежности и понимания и не могла смириться с тем, что не находила их у мужа.
В Тяньцзине, примерно в четырехстах километрах к юго–западу, поезд остановился — здесь кончалась железнодорожная ветка. Отец захотел показать маме город. Тяньцзинь был большим портом, где США, Япония и некоторые европейские страны еще недавно владели «концессиями», экстерриториальными анклавами (генерал Сюэ умер во французской концессии Тяньцзиня, хотя мама этого не знала). В городе были целые кварталы в западном стиле, с величественными зданиями: элегантными французскими дворцами рубежа веков; легкими итальянскими палаццо; чрезмерно пышными австро–венгерскими особняками в духе позднего рококо. Эта была необычная выставка собранных воедино достижений восьми наций, желающих впечатлить друг друга и китайцев. Не считая приземистых, серых, тяжелых японских банков, знакомых по Маньчжурии, и русских банков с зелеными крышами и стенами нежных желто–розовых оттенков, мама впервые видела подобные здания. Отец читал много иностранных книг, и его всегда захватывали описания европейской архитектуры. Теперь он впервые видел ее собственными глазами. Мама заметила, что он изо всех сил пытается заразить ее своим энтузиазмом, но, гуляя вместе с ним по улицам, обрамленным душистыми софорами (Софора — крупное дерево семейства бобовых высотой до 20 м с округлой широкой кроной и бело–желтыми цветками, собранными в метелки.), она по–прежнему пребывала в мрачном настроении. Она уже скучала по матери и не могла простить моему отцу, что он не утешает ее, что он такой деревянный, хотя понимала, что он по–своему, неловко, пытается ее ободрить.
Разрушенная железная дорога была только началом. Путь пришлось продолжать пешком, и дорога кишела отрядами местных помещиков, бандитами и гоминьдановскими соединениями, отставшими от своих во время наступления коммунистов. В группе было всего три винтовки, одна из них у отца, на каждой стоянке местные власти давали им взвод сопровождения, обычно с парой пулеметов.
Каждый день они преодолевали большие расстояния, часто по труднопроходимым тропам, со скаткой и другим грузом на спине. Бывшие партизаны к этому привыкли, но уже на второй день мамины ступни покрылись волдырями. Она не могла остановиться, чтобы передохнуть. Коллеги посоветовали в конце дня опустить ноги в горячую воду и выпустить жидкость иголкой с волоском. Это принесло мгновенное облегчение, но на следующий день идти стало еще мучительнее. Каждое утро она сжимала зубы и заставляла себя продолжать путь.
Большую часть пути дорог не было. Поход становился особенно тяжким, когда шел дождь: земля превращалась в скользкое месиво, и мама без конца падала. К концу дня грязь покрывала ее с ног до головы. Добравшись до ночлега, она бросалась на землю и лежала не в силах пошевельнуться.
Однажды они прошагали около пятидесяти километров под ливнем. Воздух раскалился (было выше +30°), и мама, промокшая до нитки под дождем, еще и обливалась потом. Им нужно было перебраться через гору — не очень высокую, около тысячи метров, но мама была в полном изнеможении. Скатка тянула ее вниз как камень. Глаза заливал пот. Она задыхалась. Перед глазами плыли мушки. Она еле передвигала ноги. Добравшись до вершины, она подумала, что мука позади, но спускаться было почти так же тяжело. У нее онемели икры. Они шли по диким местам, по крутой узкой тропе вдоль пропасти глубиной в сотни метров. Ноги дрожали, она не сомневалась, что упадет в бездну. Несколько раз она едва успевала спастись, схватившись за дерево.
Одолев горный перевал, группа очутилась перед несколькими глубокими бурными потоками. Вода доходила маме до пояса, она с трудом удерживалась на ногах. Посреди одной из рек она споткнулась, и ее унесло бы стремниной, если бы шедший рядом мужчина не успел поймать ее. Она чуть не разрыдалась, особенно когда увидела, что в этот самый момент другую женщину переносит через реку муж. Хотя он занимал высокую должность и имел право ехать в машине, он отказался от привилегии, чтобы идти вместе с женой.
Мой отец не предложил маме перенести ее. Его везли в джипе вместе с телохранителем. Ранг позволял ему пользоваться джипом или лошадью, в зависимости от ситуации. Мама долго надеялась, что он подвезет ее или хотя бы возьмет к себе в машину ее пожитки, но он не предложил ей и этого. Вечером того дня, когда она чуть не утонула в реке, мама рискнула выяснить с мужем отношения. Это был ужасный день. Кроме всего прочего, ее постоянно рвало. Неужели он не может хоть иногда брать жену в свой джип? Он ответил резко: такой поступок сочтут кумовством, ведь ей машина не полагается. Папа твердо решил бороться с вековой китайской традицией опекания родственников. К тому же маме надлежало пройти через трудности. Когда она возразила, что ее подругу нес муж, папа ответил: это совсем другое дело, ведь подруга — старая коммунистка. В 1930–е годы она командовала партизанским отрядом вместе с Ким Ир Сеном, возглавившим впоследствии Северную Корею, и сражалась с японцами на северо–востоке. В длинном списке утрат, пережитых ею на революционном пути, значилась и гибель первого мужа, казненного по приказу Сталина. Мама, молоденькая студентка, не вправе сравнивать себя с этой женщиной, сказал мой отец. Если окружающие увидят, что ей оказываются поблажки, она не избежит неприятностей. «Это в твоих же интересах, — добавил он, напомнив, что решение о постоянном членстве в партии еще не принято. — У тебя есть выбор: попасть либо в машину, либо в партию, одно исключает другое».
Он был по–своему прав. Китайская революция была в основе своей крестьянской, а крестьяне жили крайне тяжело. Они чрезвычайно болезненно воспринимали стремление к комфорту. Революционеру следовало закалить себя до такой степени, что он просто не замечал трудностей. Мой отец прошел через это в Яньани и в свои партизанские дни.
Мама знала эту теорию, но не переставала думать, что отец нисколько не жалеет ее, хотя ее тошнит, она чувствует себя совершенно больной и разбитой и еле плетется по жаре со скаткой, на свинцовых ногах.
Как–то вечером она не выдержала и разрыдалась. Обычно отряд останавливался в пустых складах или школьных классах. В ту ночь они спали в храме, вплотную друг к другу на полу. Отец лежал рядом с ней. Заплакав, она отвернулась от него и уткнулась в рукав, чтобы заглушить рыдания. Папа тут же проснулся и поспешно прикрыл ей рот рукой. Сквозь слезы она слышала, как он шепчет ей: «Не плачь громко! Если услышат, тебя будут критиковать!» Критика была серьезным делом. Это значило: товарищи скажут, что она недостойна звания революционерки и вообще трусиха. Она почувствовала, как он сует ей в руку носовой платок, чтобы она плакала тише.
На следующий день начальник маминого отделения, спасший ее от падения в реку, отвел ее в сторонку — пожаловались, что она плачет. Люди говорили, что она ведет себя как «барышня из эксплуататорских классов». Начальник ей сочувствовал, но не мог не прореагировать на настроение масс. Стыдно плакать, пройдя несколько шагов. Она ведет себя не как революционерка. С тех пор мама ни разу не плакала, как бы ей ни хотелось.
Она брела дальше. Самым опасным участком пути была провинция Шаньдун, занятая коммунистами только пару месяцев тому назад. Как–то они шли через низину, и вдруг сверху в них полетели пули. Мама спряталась за камнем. Стрельба продолжалась минут десять. Одного из их товарищей убили, когда он попробовал зайти в тыл нападавшим — это оказались бандиты. Нескольких людей ранило. Убитого похоронили у дороги. Отец и другие чиновники отдали своих лошадей раненым.
Через сорок дней похода, полного таких стычек и других перипетий, они достигли бывшей столицы Гоминьдана — Нанкина, города в тысяче ста километрах от Цзиньчжоу. В Китае его называют «печкой», в середине сентября он по–прежнему оправдывал свое название. Отряд поселили в казарме. На мамином бамбуковом матрасе отпечаталась человеческая фигура — это были следы пота тех, кто спал на нем до нее. В невыносимый зной отряд занимался строевой подготовкой, учился быстро делать скатку, наматывать портянки, надевать ранец и маршировать в полном снаряжении. Как часть армии, они должны были соблюдать жесткую дисциплину. Под защитной формой у них было грубое хлопковое белье. Форма застегивалась до последней пуговицы, расстегивать воротник не разрешалось. Мама еле дышала, как и у всех, на спине у нее расплылось огромное пятно пота. Голову плотно сжимало двуслойное хлопковое кепи; волосы убирались под головной убор. Мама обливалась потом, края кепи намокали от испарины.
Иногда им давали увольнительную, и первым делом она покупала сразу несколько палочек с фруктовым льдом. Многим из их отряда большой город был в новинку, если не считать краткой остановки в Тяньцзине. Фруктовый лед произвел на них огромное впечатление, они купили его своим товарищам, оставшимся в казарме, бережно завернули в чистое полотенце и положили в ранцы. Крестьяне были потрясены, увидев, что от лакомства осталась только вода.
В Нанкине они ходили на политзанятия; некоторые вел Дэн Сяопин, будущий лидер Китая, некоторые — генерал Чэнь И, будущий министр иностранных дел. Мама с товарищами сидели в тени на лужайке в кампусе Центрального университета, а лекторы стояли под палящим солнцем два–три часа кряду. Несмотря на жару, лекции завораживали слушателей.
Однажды мамин отряд должен был пробежать в полном снаряжении несколько километров до могилы основателя республики Сунь Ятсена. Вернувшись, мама почувствовала боль внизу живота. В тот вечер в противоположной части города представляли пекинскую оперу с одной из прославленных китайских звезд, исполнявшей главную партию. Мама унаследовала от бабушки страсть к опере и с нетерпением ожидала спектакля.
Вечером она вместе с товарищами прошла восемь километров до места, где давали оперу. Отец ехал в автомобиле. По дороге боли у мамы усилились, она даже хотела повернуть назад, но все же решила продолжить путь. В середине спектакля ей стало совсем плохо. Она попросила отца отвезти ее домой, правда, о своем состоянии ничего не сказала. Он посмотрел туда, где сидел его шофер, застывший с открытым ртом, и ответил: «Неужели я должен помешать ему наслаждаться спектаклем только потому, что моя жена хочет уехать?» Мама не стала вдаваться в объяснения — просто повернулась и ушла.
Она с большим трудом добрела до казарм: у нее кружилась голова, она продиралась сквозь мрак, наполненный яркими, режущими глаза звездами, словно сквозь вату. Дороги она не видела и не знала, сколько еще осталось впереди. Казалось, она идет всю жизнь. В казармах никого не было. Все, кроме часовых, отправились слушать оперу. Кое–как взобравшись на кровать, она при свете лампы увидела, что штаны мокрые от крови. Сознание покинуло ее. Так она потеряла своего первого ребенка.
Чуть позже появился муж. На машине он вернулся в казарму одним из первых. Он нашел жену распростертой на кровати и сначала подумал, что она просто переутомилась, но потом увидел кровь и понял, что мама без сознания. Он помчался за доктором, который предположил выкидыш. Это был военный врач, не знавший, какие меры принимают в таких случаях, поэтому он позвонил в городскую больницу и попросил прислать карету «скорой помощи». В больнице согласились, но при условии, что им заплатят серебряными долларами и за машину, и за срочную операцию. Хотя у отца не было своих денег, он согласился без малейших колебаний. Человек «революции» автоматически получал медицинскую страховку.
Мама чуть не умерла. Ей сделали переливание крови и вычистили матку. Открыв глаза после операции, она увидела рядом с собой мужа. Первое, что она сказала: «Я хочу развода». Отец долго извинялся. Он и не подозревал, что она беременна, как, впрочем, и она сама. У нее задерживались месячные, но она посчитала это результатом изнурительного похода. Отец же, по его признанию, и вообще понятия не имел, что такое выкидыш. Он обещал изменить свое отношение к жене, быть более внимательным и неустанно твердил о своей любви.
Пока мама не могла вставать, он стирал ее испачканную кровью одежду — дело весьма необычное для китайского мужчины. Со временем мама согласилась не просить развода, но сказала, что хочет вернуться в Маньчжурию и возобновить занятия медициной. И еще она сказала, что, как бы ни старалась, никогда не сможет соответствовать требованиям революции, ведь не случайно до сих пор любой ее шаг подвергался критике. «Лучше уж мне отойти в сторону», — сказала она. «Ни в коем случае! — ответил отец. — Это будет истолковано как страх перед трудностями. Тебя назовут дезертиркой, и ты лишишься будущего. Даже если тебя примут в университет, ты никогда не получишь хорошей работы. Всю жизнь тебя будут считать человеком второго сорта».
Мама еще не знала, что из системы выйти нельзя, хотя это железное правило, как и большинство других, было неписаным. Но она уловила напряжение в голосе мужа. «Придя в революцию», из нее уже нельзя было уйти.
Мама лежала в больнице, когда 1 октября всех предупредили: вскоре по радио прозвучит сообщение особой важности, и его будут транслировать через громкоговорители, спешно установленные вокруг здания. Они услышали, как Мао с Ворот Небесного Спокойствия (Тяньаньмэнь) провозгласил основание Китайской Народной Республики. Мама плакала как ребенок. Наконец–то на свет рождался Китай, о котором она мечтала, за который боролась, на который надеялась, — этой стране она готова была посвятить всю свою жизнь. Внимая голосу Мао, говорившему, что «китайский народ поднялся на ноги», она корила себя за сомнения. Ее страдания — пустяк по сравнению с великим делом спасения Китая. Она испытывала невероятную гордость, была преисполнена патриотических чувств и поклялась себе, что всегда будет вместе с революцией. Когда Мао закончил краткую речь, слушатели разразились радостными криками и стали бросать в воздух кепки — жест, который китайские коммунисты переняли у русских. Потом, осушив слезы, они устроили маленький пир.
За несколько дней до выкидыша родители впервые сфотографировались вместе. На карточке они оба в военной форме и глядят в объектив задумчиво и целеустремленно. Снимок был сделан на память о вступлении в бывшую гоминьдановскую столицу. Мама сразу же послала его бабушке.
3–го октября отряд покинул город. Силы коммунистов стягивались к Сычуани. Маме пришлось остаться в больнице еще на месяц, а затем на время поправки ее поместили в роскошный особняк, ранее принадлежавший главному финансисту Гоминьдана X. X. Куну (Кун Сянси), свояку Чан Кайши. Однажды ее отряду сказали, что они будут массовкой в документальном фильме об освобождении Нанкина. Им выдали гражданскую одежду и нарядили простыми горожанами, приветствующими коммунистов. Эту реконструкцию, впрочем, вполне точную, показали по всему Китаю как «документальный фильм» — что было широко распространенной практикой.
Мама оставалась в Нанкине почти два месяца. Она часто получала от отца телеграммы и целые пачки писем. Он писал каждый день и отсылал письма из всех работавших почтовых отделений, что попадались на его пути. В каждом письме он говорил, как ее любит, обещал исправиться и стоял на том, что она не может вернуться в Цзиньчжоу и «уйти из революции».
В конце декабря маме сообщили, что для нее, так же как и для других людей, оставшихся в городе из–за болезни, есть место на пароходе. Они должны были собраться на пристани, когда стемнеет — днем угрожали гоминьдановские бомбежки. Набережную окутывал холодный туман. Фонари, и без того малочисленные, не горели, чтобы не привлекать внимания бомбардировщиков. Резкий северный ветер нес через реку хлопья снега. Мама часами ждала на пристани, притопывая изо всех сил онемевшими ногами, одетыми в стандартные хлопковые «тапки освобождения», на подошвах которых часто писали: «Бей Чан Кайши!» и: «Защищай Родину!».
Пароход вез их по Янцзы на запад. Первые триста с лишним километров, до города Аньцина, плыли только ночью, а днем прятались от гоминьдановских самолетов в тростниках на северном берегу. На судне плыл взвод солдат, которые расставили по палубе пулеметы, в трюме лежало много оружия и боеприпасов. Иногда случались стычки с гоминьдановскими войсками и помещичьими бандами. Однажды, когда они бросили на день якорь в камышах, раздалась пальба и их попытался взять на абордаж гоминьдановский отряд. Мама и другие женщины спрятались в трюме, а охрана отстреливалась. Судну удалось отплыть и причалить в другом месте.
Добравшись до Трех ущелий Янцзы, где река резко сужается и начинается Сычуань, нужно было пересесть на два небольших судна, пришедших из Чунцина. В одно поместили военный груз и часть охраны, в другое — всех остальных.
Ущелья Янцзы называли «Воротами ада». Однажды в полдень яркое зимнее солнце вдруг исчезло. Мама выскочила на палубу, чтобы узнать, что случилось. По обе стороны реки высились гигантские отвесные скалы, склонившиеся к судну и будто готовые раздавить его. Скалы, покрытые буйной растительностью, были так высоки, что почти закрывали небо. Каждый следующий утес казался круче предыдущего, и выглядели они так, словно некогда могучий меч обрушился с неба и прорубил себе между ними дорогу.
Суденышко дни напролет боролось со стремнинами, водоворотами, порогами и подводными скалами. Порой его отбрасывало течением назад, и казалось, что оно вот–вот перевернется. Часто мама думала, что они врежутся в утес, но каждый раз рулевой в последнюю секунду успевал увернуться.
Не прошло и месяца с тех пор, как коммунисты покорили большую часть Сычуани. Повсюду кишели гоминьдановские отряды, брошенные на произвол судьбы Чан Кайши, прекратившим сопротивление на материке и бежавшим на Тайвань. Самая страшная минута плавания наступила, когда одна такая банда обстреляла первую лодку с боеприпасами. Одна очередь попала прямо в нее. Мама стояла на палубе, когда в ста метрах перед ней взметнулся взрыв. Вся река вокруг запылала. Горящие доски понеслись к маминой лодке, казалось, столкновения с пылающим остовом не миновать. Но в то же мгновение он промчался, не задев их, всего в нескольких сантиметрах. Никто не обнаружил ни страха, ни радости. Люди онемели от потрясения. Охрана передней лодки полегла почти вся.
Перед мамой открывался совершенно новый природный мир. В обрывах вдоль ущелий росли гигантские ползучие ротанги (Ротанг — лиана рода каламус (семейство пальмовых).), добавлявшие фантастической картине еще больше экзотики. В пышной листве с ветки на ветку прыгали обезьяны. После плоской равнины вокруг Цзиньчжоу величественные отвесные скалы завораживали.
Иногда судно причаливало у подножия узких черных каменных ступеней, ведших к вершине горы, скрытой за облаками. Обычно неподалеку располагался какой–нибудь городок. Из–за постоянного густого тумана жители зажигали лампы с рапсовым маслом даже днем. Было холодно, и с реки, и с гор дул сырой ветер. Местные крестьяне казались маме ужасно черными, тощими и маленькими, с большими круглыми глазами и острыми чертами лица. На голове они носили нечто вроде тюрбана из белой ткани. В Китае белый — цвет траура, и мама так сначала и подумала: они в трауре.
В середине января приплыли в Чунцин, гоминьдановскую столицу во время антияпонской войны. Мама пересела на маленькую лодку, чтобы добраться до города Лучжоу, в ста пятидесяти километрах выше по реке. Там ей передали известие от отца: навстречу ей прислали сампан (Сампан — разновидность китайской лодки.), и она может отправиться в Ибинь немедленно. Так она впервые узнала, что он благополучно достиг места назначения. К тому времени вся злость на него испарилась. Мама не видела его четыре месяца и скучала. Она думала о том, в какой восторг его приводили речные виды, воспетые древними поэтами, и ей было приятно от уверенности, что он сочинял для нее стихи.
Она тронулась в путь тем же вечером. На следующее утро, пробудившись, она почувствовала, как сквозь мягкий туман пробивается теплое солнце. Вдоль реки тянулись нежные зеленые холмы. Мама снова легла, расслабилась и стала слушать, как плещется вода, ударяясь о нос судна. В тот день, накануне китайского Нового года, она приплыла в Ибинь. Город явился перед ней словно видение, парящее в облаках. Когда они приближались к пристани, мама начала искать глазами отца. Наконец она различила сквозь туман его фигуру: он стоял в расстегнутом армейском пальто, за ним — телохранитель. Широкий берег реки покрывали песок и булыжники. Город будто карабкался вверх по холму. Некоторые дома держались на тонких деревянных сваях, казалось, они покачиваются и вот–вот рухнут.
Судно причалило на окраине города. Матрос перекинул мостик, папин телохранитель подошел и взял мамины пожитки. Мама запрыгала по трапу, и отец протянул руки, чтобы ее поддержать. Обниматься на людях не позволялось, но мама видела, что он радуется встрече не меньше, чем она, и чувствовала себя очень счастливой.
8. «Возвращение домой в парчовых одеждах»: Семья и бандиты (1949–1951)
Всю дорогу мама гадала, каков из себя Ибинь. Есть ли там электричество? Такие же высокие горы, как по берегам Янцзы? Есть ли театры? Уже взбираясь с отцом по холму, она видела, что очутилась в захватывающе прекрасном месте. Ибинь стоит на холме, над мысом у слияния двух рек, прозрачной и мутной. В окнах невысоких домов из глины и бамбука сияли электрические огни, а легкие изогнутые крыши показались ей кружевными, почти невесомыми по сравнению с тяжелой черепицей обдуваемой ветрами заснеженной Маньчжурии. Вдали, среди окутанных туманом темно–зеленых гор, поросших камфорными деревьями, метасеквойями и чайными кустами, виднелись бамбуковые хижины. Она чувствовала себя легкой и свободной, чему немало способствовало то, что отец разрешил телохранителю нести ее вещи. Пройдя на своем пути десятки разрушенных войной городов и деревень, она счастлива была видеть, что эти места совсем не пострадали. Семитысячный гоминьдановский гарнизон сдался без боя.
Отец жил в изящном особняке, который новая власть заняла под учреждения и жилье для служащих, и мама поселилась с ним. В саду здесь росли удивительные растения: наньму, папайи, бананы, землю устилал зеленый мох. В пруду плавали золотые рыбки и даже черепаха. В комнате у отца стояла двойная софа. Мама, знавшая до сих пор лишь кирпичные каны, никогда не спала так мягко. Даже зимой в Ибине хватало покрывала. Не было маньчжурского пронизывающего ветра и всепроникающей пыли. Не нужно было надевать на лицо повязку, чтобы дышать. Колодец не закрывался крышкой. Из него торчал бамбуковый шест, на другом конце которого висело ведро. Люди стирали на гладких блестящих камнях, установленных под небольшим утлом, и чистили одежду щетками из пальмового волокна. Ни то ни другое не имело смысла в Маньчжурии, где одежда немедленно покрылась бы пылью или заледенела. Впервые мама каждый день ела рис и свежие овощи.
Последовавшие недели стали для родителей настоящим медовым месяцем. Наконец–то мама могла жить с отцом, не боясь обвинений в том, что «ставит любовь на первое место». Общее настроение было спокойным; коммунисты ликовали по поводу своего победоносного шествия по стране, и коллеги отца не требовали, чтобы муж с женой оставались вместе только с субботы на воскресенье.
Ибинь пал меньше двух месяцев назад, 11 декабря 1949 года. Отец прибыл через шесть дней, и его назначили главой уезда, где жило больше миллиона человек, 100 000 из них — в самом Ибине. Он приплыл на судне с сотней студентов, «присоединившихся к революции» в Нанкине. Сначала они остановились у электростанции на противоположном берегу, бывшем оплоте подполья. Несколько сотен рабочих приветствовали на набережной отца и его товарищей, размахивая маленькими красными флажками с пятью звездами — флагами нового Китая — и выкрикивая приветственные лозунги. Звезды нарисовали не на том месте — местные коммунисты еще не знали, как правильно. Отец сошел на берег с еще одним офицером и обратился к рабочим с речью — они обрадовались, когда услышали, что он говорит на ибиньском диалекте. Вместо обычной армейской кепки на нем был восьмиугольный головной убор, какой солдаты–коммунисты носили в 1920–х и начале 1930–х годов, показавшийся местным жителям необычным и модным.
Затем судно перевезло их в город. Отец вернулся после десятилетней разлуки. Он любил свою семью, особенно
младшую сестру, которой с энтузиазмом писал из Яньани, что ведет там новую жизнь и хочет видеть ее рядом с собой. Письма прекратились, когда Гоминьдан ужесточил блокаду, и первое за многие годы известие от моего отца семья получила с нанкинской фотографией моих родителей. Предшествующие семь лет они даже не знали, жив ли он. Они скучали по нему, плакали по нем и молили Будду о его счастливом возвращении. К фотографии он приложил записку, в которой писал, что скоро приедет в Ибинь и что у него новое имя. В Яньани отец, как и многие другие, взял себе военный псевдоним — Ван Юй. Юй значит «бескорыстный до глупости». Приехав в родной город, он стал пользоваться настоящей фамилией, Чжан, но включил в свое имя псевдоним и стал называться Чжан Шоуюй — «сохраняющий Юй».
Десять лет назад он покинул дом бедным голодным подмастерьем, которым все помыкали; теперь, не достигнув еще и тридцати, возвращался могущественным человеком. Именно об этом традиционно мечтали китайцы, называя такие случаи «и–цзинь–хуань–сян» — «возвращением домой в парчовых одеждах». Его семья необычайно гордилась им, всем не терпелось узнать, как он выглядит после долгого отсутствия, потому что они слышали о коммунистах самые странные вещи. И конечно, его матери особенно хотелось увидеть новую невестку...
Отец громко смеялся и шутил — веселился как мальчишка. Он почти не изменился, подумала его мать со вздохом счастливого облегчения. Семья вела себя традиционно сдержанно, но радость сияла в их глазах, блестящих от слез. Только младшая сестра держалась непосредственно. Оживленно разговаривая, она играла своими длинными косами, то и дело отбрасывала их за спину и наклоняла голову, чтобы добавить словам убедительности. Папа улыбался, узнавая традиционное сычуаньское девичье кокетство. За десять суровых северных лет оно почти стерлось из его памяти.
Им было о чем рассказать друг другу. В середине долгого повествования о том, что случилось с семьей за время
его отсутствия, папина мать сказала, что ее тревожит одна вещь: что будет со старшей дочерью, которая заботилась о ней, когда они жили в Чунцине. Ее муж умер, оставив надел земли, и для его обработки она наняла нескольких крестьян. О коммунистической земельной реформе ходило множество слухов, и родственники беспокоились, как бы вдову не посчитали помещицей и не отняли у нее землю. Женщины разволновались, их сетования незаметно приняли форму обвинений: «Что–то с ней станется? Как могут коммунисты так себя вести?» Папа обиделся и рассердился. Он воскликнул: «Я так ждал этого дня, чтобы поделиться с вами нашей победой. Все несправедливости позади. Сейчас время радоваться и смотреть в будущее. Но вы ни во что не верите, во всем сомневаетесь. Только ищете везде недостатки...» После чего он заплакал, как маленький мальчик. Женщины тоже разрыдались. Его слезы были вызваны разочарованием. Их чувства были сложнее — смесь сомнений и неуверенности в завтрашнем дне.
Папина мать жила на краю города в старом доме, доставшемся ей от покойного мужа. Это был довольно дорогой дом на низком фундаменте, из дерева и кирпича, отгороженный от дороги стеной. Перед ним был разбит большой сад, позади простирались посадки благоухающих зимних вишен и густые заросли бамбука, создававшие атмосферу заколдованного царства. Дом сверкал чистотой. Окна блестели, нигде не было ни пылинки. Всюду стояла мебель из красивого сандалового дерева, темно–красного, иногда почти черного. Мама влюбилась в дом с первого взгляда, как только на следующий день после приезда перешагнула его порог.
Это было важное событие. Согласно китайской традиции, полной властью над замужней женщиной пользовалась свекровь, которой надлежало беспрекословно подчиняться. Когда женщина в свою очередь становилась свекровью, она начинала точно так же тиранить собственную невестку. «Освобождение» невесток было важным направлением политики коммунистов, и ходили слухи, что коммунистические невестки — это злые фурии, помыкающие свекровями. Семейство отца с нетерпением ожидало, как поведет себя его молодая жена.
В тот день в доме собралась вся огромная семья. Едва мама подошла к калитке, послышался шепот: «Идет, идет!» Взрослые утихомиривали детей, которые прыгали вокруг и старались хоть одним глазком посмотреть на странную коммунистическую невестку с далекого севера.
Когда мама с папой вошли в гостиную, свекровь сидела в дальнем конце комнаты в парадном резном кресле из сандалового дерева. По обеим сторонам комнаты, усиливая атмосферу официальности, тянулись два симметричных ряда сандаловых стульев с тонкой резьбой. Между каждой парой стульев стояло по столику с вазой или каким–нибудь другим украшением. Дойдя до середины комнаты, мама увидела, что у свекрови очень спокойное лицо с высокими скулами (их унаследовал мой отец), маленькие глаза, острый подбородок и тонкий рот со слегка опущенными уголками. Она сидела, чуть опустив веки, словно медитировала. Мама медленно подошла вместе с папой к ее креслу и остановилась. Затем встала на колени и трижды ударила головой о землю. Именно это полагалось сделать в соответствии с традиционным обрядом, и все напряженно ожидали, подчинится ли ему молодая коммунистка. По комнате пронесся вздох облегчения. Родственники зашептали явно обрадованной хозяйке дома: «Какая замечательная невестка! Такая благородная, красивая, почтительная! Матушка, вам невероятно повезло!»
Мама гордилась своей маленькой победой. Они с папой долго обсуждали, как поступить. Коммунисты призывали покончить с земными поклонами, в которых видели унижение человеческого достоинства, но маме хотелось на этот раз сделать исключение. Отец согласился. Он не желал ни ранить свою мать, ни обижать жену — особенно после болезни, к тому же в данном случае он отводил ритуалу и вовсе необычную роль: его выполнение успокоит родню и пробудит в них симпатию к коммунистам. Но сам он, вопреки ожиданиям, не поклонился.
Все женщины в папиной семье были буддистками, и одна из его сестер, незамужняя Цзюньин, верила особенно истово. Она велела маме кланяться статуе Будды, алтарям предков, которые ставились на китайский Новый год, и даже зарослям зимних вишен и бамбука позади дома. Тетя Цзюньин верила, что у каждого цветка и каждого дерева есть душа. Она просила маму отбить двенадцать поклонов бамбуку, чтобы он не зацвел, — это, по китайскому поверью, предвещает несчастье. Маме все это казалось весьма забавным. Она вспомнила свое детство и увлеклась игрой. Папа ее не одобрял, но она смягчала его гнев, объясняя, что принимает участие в обрядах нарочно — чтобы привлечь людей на сторону коммунистов. Гоминьдан утверждал, что коммунисты сметут все традиции и обычаи, и, — говорила мама, — важно, чтобы народ видел: ничего подобного не происходит.
Папина семья была очень добра к маме. Несмотря на официальную встречу, бабушка была легким человеком. Она редко высказывала свое мнение и никого не осуждала. Круглое рябое лицо и мягкий взгляд тети Цзюньин говорили о ее доброте и готовности помочь. Мама не могла не сравнить новых родственников с собственной матерью. Они не отличались такой живостью и энергией, но благодаря их спокойствию и доброжелательности мама чувствовала себя совершенно как дома. Тетя Цзюньин готовила вкусную пряную сычуаньскую еду, сильно отличающуюся от пресной северной пищи. Маме нравились экзотические названия кушаний: «битва дракона с тигром», «цыпленок императорской наложницы», «утка в остром соусе», «золотой петушок кричит на заре». Мама часто ела в их доме, любуясь на вишни, миндаль и персики, которые ранней весной одевались облаком белых и розовых цветов. Она чувствовала, что женщины семьи Чжан по–настоящему ей рады, что они полюбили ее.
Вскоре маме дали работу в отделе пропаганды администрации правительства Ибиньского уезда. Она мало времени проводила на рабочем месте. Главной задачей было накормить население, и выполнить ее становилось все сложнее.
Дольше всего Гоминьдан продержался на юго–западе, и когда Чан Кайши в декабре 1949 года бежал из провинции на Тайвань, он оставил в Сычуани четверть миллиона солдат. К тому же в Сычуани, в отличие от большей части Китая, коммунисты не занимали сельской местности перед взятием городов. Гоминьдановские отряды, дезорганизованные, но часто хорошо вооруженные, все еще контролировали деревни на юге, а продукты находились в основном в руках прогоминьдановски настроенных помещиков. Коммунистам срочно требовалось обеспечить запасы продовольствия для городов, своих войск, а также многочисленных капитулировавших гоминьдановцев.
Сначала они попробовали посылать людей на закупки. Многие помещики по традиции держали свои собственные войска, которые теперь соединились с гоминьдановскими бандами. Через несколько дней после маминого приезда в Ибинь они подняли крупное восстание в южной Сычуани. Ибинь стоял на грани голода.
Коммунисты начали посылать в деревни вооруженные продовольственные отряды, организованные из служащих и военных. Мобилизовали почти всех. Из администрации остались только две женщины: одна сидела в приемной, а у другой только что родился ребенок.
Мама несколько раз ходила в такие многодневные экспедиции. В ее команде было тринадцать человек, семеро штатских и шестеро военных. Мама тащила на спине скатку, мешок риса и тяжелый зонт из промасленной холстины. Они целыми днями пробирались через дикие места по коварным горным тропкам, вьющимся вдоль пропастей и оврагов, называемым по–китайски «овечьи внутренности». Придя в деревню, они направлялись в самую жалкую лачугу, где пытались установить контакт с беднейшими крестьянами, рассказывая, что коммунисты дадут им свою землю и счастливую жизнь, а потом спрашивали, кто из помещиков прячет зерно. Большинство крестьян унаследовали вековой страх перед чиновниками. Многие почти ничего не слышали о коммунистах, а если и слышали, то только плохое; но мама, быстро изменившая свой северный диалект на местный лад, как оказалось, очень умело разъясняла новую политику. Если отряду удавалось получить сведения о помещиках, они шли к ним и убеждали продавать зерно на установленных заготовочных пунктах, где им платили на месте. Одни боялись и отдавали зерно без особого сопротивления, другие сообщали о местонахождении группы какой–нибудь банде. В маму и ее товарищей часто стреляли, ночью они спали чутко, иногда приходилось перебираться с места на место, чтобы избежать нападения.
Поначалу они ночевали у бедных крестьян. Но если бандиты узнавали, кто их приютил, то вырезали всю семью. После ряда таких убийств отряд решил, что не может подвергать опасности жизнь невинных людей. Теперь они спали на улице или в заброшенных храмах.
Во время третьей экспедиции мама почувствовала тошноту и головокружение. Она опять забеременела и в Ибинь вернулась совершенно обессиленная, но возможности отдохнуть не представилось — отряду надлежало немедленно отправляться в новый поход. Было непонятно, имеют ли беременные женщины право на какие–нибудь поблажки, и мама мучилась сомнениями. Ей хотелось идти вместе со всеми; дух самопожертвования, распространенный в то время, не допускал никаких жалоб. Но ее пугали воспоминания о выкидыше, случившемся всего пять месяцев назад. Что будет, если история повторится в дикой глуши, где нет ни врачей, ни транспорта? Кроме того, экспедиции сопровождались почти ежедневными стычками с бандитами, нужно было уметь бегать — и бегать быстро. А у мамы голова кружилась даже при ходьбе.
И все же она решилась идти. Вместе с ней в экспедицию отправилась еще одна беременная женщина. Однажды днем отряд готовился пообедать на заброшенном дворе. Хозяин, видимо, сбежал при их приближении. Ветхая глинобитная стена высотой по плечо опоясывала заросший сорняками двор. Распахнутая деревянная калитка скрипела на весеннем ветру. В покинутой кухне повар варил отряду рис. Но тут на пороге появился мужчина средних лет. Выглядел он как крестьянин: плетеные из соломы сандалии, мешковатые штаны, большой кусок ткани, заткнутый за пояс с одной стороны, и грязный белый тюрбан на голове. Он сказал, что в их сторону движется большая банда, известная как «Отряд широкого меча», и особенно им хочется захватить маму и еще одну женщину, так как, по их сведениям, это жены больших коммунистических начальников.
Пришедший не был обычным крестьянином. При Гоминьдане он служил старостой волости, объединявшей несколько деревень, включая ту, где находился в то время отряд. Банда попыталась заручиться поддержкой бывшего старосты, такой тактики она придерживалась со всеми, кто раньше служил Гоминьдану и помещикам. Он присоединился к «Широкому мечу», но решил подстраховаться и поэтому предупредил коммунистов о скором набеге и рассказал, как лучше скрыться.
Члены отряда немедленно вскочили и побежали. Но мама и другая беременная женщина не могли бежать, поэтому староста вывел их через дыру в ограде и помог спрятаться в ближайшем стогу. Повар задержался в кухне — упаковать сваренный рис и охладить водой котел. И рис, и котел были слишком дороги, чтобы их бросать; железные котлы считались большой редкостью, особенно в дни войны. Двое солдат остались в кухне помогать повару. В конце концов тот схватил рис и котел, и они втроем рванули к заднему ходу. Но через переднюю дверь уже вломились бандиты: беглецы были заколоты ножами на месте. Банда отлично видела, как убегают коммунисты, но достать их не
могла — не хватало ружей и патронов. Спрятанные в стогу женщины остались незамеченными.
Вскоре банду поймали, и старосту тоже. Как оказалось, он был одним из предводителей банды, а также «змеей в старой норе». По законам того времени он заслуживал смертной казни. Но ведь именно он предупредил продотряд и спас двум женщинам жизнь. В ту пору смертные приговоры утверждались тройкой. Так случилось, что главой этой тройки был мой отец, еще одним ее членом — муж спасшейся вместе с мамой женщины, а третьим — начальник местной полиции.
Трибунал раскололся: двое против одного. Муж маминой знакомой проголосовал за то, чтобы сохранить старосте жизнь. Отец и начальник полиции — за смертный приговор. Мама умоляла их пощадить старосту, но отец держался твердо как кремень. Ведь именно на это староста и надеялся, сказал он маме: он предупредил ваш отряд о налете банды исключительно потому, что знал — в него входят жены двух крупных начальников. «У него все руки в крови», — добавил отец. Муж другой женщины бурно протестовал. «Нет, — возразил отец, стукнув кулаком по столу, — мы не можем быть снисходительными именно потому, что дело касается наших жен. Если на наше решение повлияют личные чувства, в чем будет разница между старым и новым Китаем?»
Старосту казнили. Мама не могла простить этого мужу. Как можно казнить человека, спасшего столько жизней? А отец был перед ним еще и в личном долгу. На такой поступок она смотрела так, как посмотрело бы большинство китайцев: поведение отца означало, что он не ценит и не бережет ее, в отличие от мужа другой женщины.
Не успел закончиться суд, как мамин отряд вновь послали по деревням. Она по–прежнему тяжело переносила беременность: ее тошнило, одолевала слабость. У нее начались боли в области живота сразу после того, как пришлось нестись к стогу. Муж другой беременной женщины решил, что больше не отпустит жену на продразверстку: «Я буду
защищать ее. И всех женщин, ожидающих ребенка. Беременные женщины не должны подвергаться такой опасности». Но он столкнулся с яростным сопротивлением товарища Ми, бывшей партизанки из крестьян. Беременная крестьянка и подумать не могла об отдыхе. Она работала до самых родов; на эту тему рассказывались бесчисленные истории например, о том, как женщина перерезала пуповину серпом и продолжала жать. Сама товарищ Ми родила прямо на поле боя и там же бросила младенца — его плач мог погубить весь отряд. Потеряв своего ребенка, она, очевидно, желала такой же судьбы другим. Она настаивала: нужно послать маму в очередную экспедицию, и выдвинула сильный аргумент. Жениться тогда могли лишь достаточно высокопоставленные коммунисты (удовлетворявшие условию 28–7–ПОЛК. — 1). Поэтому беременная женщина почти наверняка принадлежала к элите. И если такие женщины оставались дома, как могла партия убедить отправиться в деревню остальных? Отец согласился с ней и велел маме собираться.
Мама послушалась, несмотря на страх второго выкидыша. Она готова была умереть, но надеялась, что отец будет против ее поездки — и заявит об этом, показав, что придает первостепенное значение ее безопасности. Но он в очередной раз продемонстрировал ей, что для него нет ничего дороже революции.
Несколько недель она, превозмогая боль и усталость, таскалась по горам. Засады учащались. Едва ли не каждый день приходили известия об убитых и замученных бандитами агитаторах. Особый садизм они проявляли к женщинам. Однажды труп отцовской племянницы подбросили прямо под городские ворота; ее изнасиловали и закололи ножом — вместо влагалища было кровавое месиво. Другая женщина во время стычки попалась отряду «Широкого меча». Их окружили вооруженные коммунисты, поэтому бандиты связали женщину и приказали кричать, чтобы ее товарищи их отпустили. Она же закричала: «Стреляйте, не
бойтесь за меня!» Каждый раз, когда она это выкрикивала, бандит отрезал кусок от ее тела. Ее мертвое тело было страшно изуродовано. После нескольких таких случаев женщин решили не посылать на продразверстку.
Тем временем бабушка в Цзиньчжоу тревожилась за свою дочь. Едва получив от нее письмо о том, что она добралась до Ибиня, бабушка решила отправиться туда и удостовериться, все ли в порядке. В марте 1950 года она отправилась в свой собственный «великий поход», совершенно одна.
Она ничего не знала о дальних землях огромной страны и воображала, будто Сычуань не только отрезана от остального Китая горами, но что там нет самого нужного для жизни. Поначалу она собралась было прихватить с собой побольше предметов первой необходимости. Но страна еще не отошла от потрясений, повсюду продолжались сражения. Бабушка понимала: придется тащить вещи самой и много идти пешком, а это представляло огромную сложность для женщины с бинтованными ножками. В конце концов она остановилась на одном маленьком узелке, который могла нести сама.
С тех пор как она вышла замуж за доктора Ся, ее ножки подросли. По традиции маньчжурки не бинтовали ножки, поэтому бабушка сняла бинты. Но ходить было почти так же больно. Сломанные кости, конечно, не могли срастись как следует, а ноги — приобрести правильную форму, они остались искалеченными. Бабушка хотела, чтобы ее ножки выглядели нормально, и набивала туфли ватой.
Прежде чем она отправилась в дорогу, Линь Сяося, человек, который привел ее на свадьбу моих родителей, дал ей бумагу, где говорилось, что она — мать революционерки; благодаря этому партийные организации на всем пути следования обязаны были обеспечивать ее едой, жильем и деньгами. Она почти повторила маршрут моих родителей; часть пути проехала на поезде, часть — на грузовиках, а когда ехать было не на чем, шла пешком. Однажды она ехала на открытом грузовике вместе с другими женщинами и детьми из семей коммунистов. Едва грузовик остановился, чтобы дети могли пописать, в деревянную обшивку кузова вонзились пули. Бабушка забралась поглубже и присела на корточки, пули свистели в нескольких сантиметрах над ее головой. Охрана ответила пулеметным огнем, и атака захлебнулась. Это были остатки гоминьдановских войск. Бабушка не получила ни единой царапины, но несколько детей и охранников погибли.
Когда она, одолев две трети пути, добралась до Уханя, большого города в Центральном Китае, ей сказали, что и последний отрезок — вверх по Янцзы — не менее опасен. Пришлось ждать месяц, пока обстановка не станет спокойнее, и тем не менее их судно несколько раз обстреливали с берега бандиты. Судно, довольно старое, имело плоскую, открытую палубу, и охрана соорудила по бортам заграждения из мешков с песком чуть выше метра высотой, со щелями для ружей. Судно напоминало плавающую крепость. Когда начинался обстрел, капитан гнал его вперед на всех парах, пытаясь вырваться из–под пуль, а охрана отстреливалась, лежа за мешками с песком. Бабушка спускалась в трюм и ждала конца боя.
В Ичане она пересела на судно поменьше, миновала Три ущелья и к маю подплывала к Ибиню в лодке, покрытой пальмовыми листьями, любуясь рябью на хрустальной воде и вдыхая разносимое ветерком благоухание цветущих апельсинов.
Вверх по течению лодку вели двенадцать гребцов. Они распевали арии из традиционной сычуаньской оперы и на ходу сочиняли песни о деревнях, мимо которых проплывали, о холмах и духах бамбуковых рощ. Они пели и о своих чувствах. Бабушку особенно позабавили адресованные одной из девушек игривые песни, сопровождаемые лукавыми взглядами. Бабушка не понимала большинства выражений, потому что они были на сычуаньском диалекте, но легко
улавливала смысл нескромных намеков, на которые пассажиры отвечали тихими смущенными смешками. Она слышала о характере сычуаньцев, столь же склонных к острым словечкам, как их кухня к острым приправам. Бабушка радовалась. Она не знала ни о том, что мама несколько раз оказывалась на краю гибели, ни о выкидыше.
До места добрались к середине мая. Путешествие заняло более двух месяцев. Мама, чувствовавшая себя больной и несчастной, была вне себя от радости. Папа радовался меньше. В Ибине он впервые жил с женой вдвоем и в относительно спокойной обстановке. Не успел он расстаться с тещей, как она снова была тут как тут, хотя ей, с его точки зрения, полагалось находиться за тридевять земель. Он прекрасно понимал, что связь между ним и женой далеко не так крепка, как узы между матерью и дочерью.
Мама кипела обидой на отца. Бандиты бушевали все сильней, были восстановлены полувоенные порядки. Оба много разъезжали и редко проводили ночь вместе. Папа большую часть времени мотался по деревням: изучал местные условия, выслушивал жалобы крестьян и занимался разными проблемами, прежде всего продовольственным снабжением. Даже в Ибине отец до поздней ночи засиживался на работе. Родители виделись все меньше и вновь начали отдаляться друг от друга.
Бабушкин приезд вскрыл старые раны. Ей дали комнату во дворе дома, где жили папа с мамой. Тогда все служащие находились на полном обеспечении, называвшемся «гун–цзи–чжи». Они не получали зарплаты, но государство предоставляло им жилье, пищу, одежду, предметы первой необходимости да крошечную сумму карманных денег — как в армии. Все ели в столовых, где кормили плохо и невкусно. Дома готовить запрещалось, даже если имелся какой–то дополнительный источник дохода.
Сразу после приезда бабушка начала распродавать часть своих драгоценностей, чтобы покупать еду на рынке; ей особенно хотелось подкормить маму, потому что, согласно традиции, беременной женщине следует хорошо питаться. Но вскоре к маминой начальнице, товарищу Ми, стали поступать жалобы на то, что мама ведет себя «буржуазно»: пользуется особым вниманием и тратит дефицитное топливо, которое так же, как и еду, везли из деревни. Ее обвиняли в «изнеженности»: присутствие матери мешало ее перевоспитанию. Папа обратился в свою парторганизацию с самокритикой и приказал бабушке прекратить готовить дома. Маму это возмутило так же, как и бабушку. «Неужели ты не можешь защитить меня хотя бы сейчас? — с горечью спросила мама. — Ребенок, которого я ношу, не только мой, но и твой, и он хочет есть!»
Со временем папа пошел на небольшую уступку: бабушка могла готовить дома дважды в неделю, но не чаще. Даже это — вопреки правилам, подчеркнул отец.
Оказалось, бабушка совершила и более важное нарушение. Только высокопоставленные служащие имели право жить вместе с родителями, а мама такого права не имела. Ведь зарплат они не получали, и членов их семей тоже обеспечивало государство, а оно хотело уменьшить свои расходы. Хотя отец занимал достаточно важную должность, он оставил собственную мать на попечении тети. Моя мама пыталась спорить: ее мать не будет бременем для государства, потому что живет на средства от продажи украшений, и ее пригласила к себе тетя Цзюньин. Товарищ Ми вынесла приговор: в любом случае бабушка не должна находиться здесь, ей надлежит вернуться в Маньчжурию. Отец согласился. Мама яростно с ним спорила, но он заявил: правило есть правило, и он не собирается его нарушать. Одним из главных пороков старого Китая было то, что для человека, облеченного властью, законов не существовало, поэтому коммунисты придавали особое значение соблюдению служащими законов наравне с остальными. Мама рыдала. Она боялась, что у нее снова случится выкидыш. Может быть, муж подумает о ее здоровье и позволит бабушке остаться до родов? И на это он ответил отказом. «Разложение всегда начинается с подобных мелочей. Именно такие вещи разъедают нашу революцию». Маме не удалось его переубедить. Он бесчувственный, решила она. Он не думает обо мне. Он меня не любит.
Бабушка уехала, и мама никогда не простила этого отцу. Бабушка провела с мамой только месяц с небольшим. А ведь она тащилась через весь Китай больше двух месяцев, рискуя жизнью. Кроме того, бабушка не верила в ибиньскую медицину. Перед отъездом она пошла к тете Цзюньин и торжественно отбив поклоны, сказала, что оставляет свою дочь на нее. Тетя тоже опечалилась. Она беспокоилась за мою маму, хотела, чтобы бабушка присутствовала при родах, и попробовала смягчить брата, но тот упрямо стоял на своем.
С тяжелым сердцем, вся в слезах, бабушка вместе с мамой семенила к пристани, чтобы спуститься на лодке вниз по Янцзы и начать долгое и опасное путешествие назад в Маньчжурию. Мама стояла на берегу, махая лодке, уплывавшей в туман, и думала, увидит ли она еще свою мать.
Был июль 1950 года. Мамин испытательный партийный срок подходил к концу, и партячейка усердно следила за ее поведением. В нее входило трое: мама, телохранитель отца и мамина начальница — товарищ Ми. В Ибине было так мало коммунистов, что эти трое поневоле оказались вместе. И начальница, и телохранитель склонялись к тому, чтобы маму не принимать, но прямого ответа не давали. Вместо этого они непрерывно устраивали с ней беседы и заставляли ее выступать с самокритикой.
Каждая самокритика вызывала к жизни еще большую критику. Товарищи утверждали, что мама ведет себя «буржуазно». Она не хотела отправляться в деревню заготавливать продовольствие. На замечание, что она все–таки пошла, повинуясь воле партии, последовал ответ: «Но ты ведь не хотела». Ее обвиняли в том, что она питается не как все, да еще ей дома готовит мать. Кроме того, почему она поддается недомоганию больше, чем другие беременные? Товарищ Ми раскритиковала ее и за новую одежду, сшитую для будущего младенца: «Что за буржуазная расточительность! Неужели нельзя завернуть ребенка в старые тряпки, как это делают остальные?» Мамина печаль при расставании с бабушкой была расценена как несомненное доказательство тяжкого проступка — «чрезмерного внимания к семье».
Лето 1950 года выдалось небывало жаркое и влажное, воздух раскалялся выше +40°С. Мама мылась каждый день, и это также вызывало неудовольствие. Крестьяне, особенно на Севере, откуда происходила товарищ Ми, мылись крайне редко из–за нехватки воды. Партизаны обоего пола соревновались, у кого больше «революционных насекомых» — вшей. Опрятность считалась качеством непролетарским. Когда душное лето сменилось прохладной осенью, папин телохранитель выдвинул новое обвинение: «Мама ведет себя, как дама при гоминьдановском чиновнике», потому что моется горячей водой, оставшейся после отца. Ради экономии топлива ввели правило, что лишь чиновники выше определенного уровня могут использовать горячую воду. Отец подпадал под это правило, а мама нет. И хотя родственницы отца советовали ей перед родами горячее мытье, он принял сторону телохранителя. Мама страшно сердилась на отца из–за того, что он не защищает ее от бесконечных вторжений в ее личную жизнь.
Именно в ничем не ограниченном вторжении в жизнь людей и заключалась суть так называемого «идейного перевоспитания». Мао требовал от коммунистов не только самодисциплины, но и полного подчинения революционной идеологии, в большом и в малом. Каждую неделю для «революционеров» проводились собрания — «проверка мыслей». Нужно было критиковать себя за неправильные мысли и выслушивать критику от других. Тут торжествовали мелочные лицемеры, использовавшие возможность выместить на других собственную зависть и неудовлетворенность жизнью; люди крестьянского происхождения нападали на «буржуазию». Считалось, что надо учиться у крестьян, потому что китайская революция — это революция крестьянская. Интеллигенция ощущала свою вину за то, что жила лучше, и на этом зиждилась самокритика.
Собрания были одним из эффективнейших инструментов контроля за гражданами. У людей не оставалось свободного времени, частная жизнь исчезала. Мелочность, царившая на этих собраниях, провозглашалась самосовершенствованием через очищение. Мелочность вообще была одной из основ революции, при которой назойливость и невежество восхвалялись, а зависть входила в систему надзора. Мамина ячейка мариновала ее неделю за неделей, месяц за месяцем, и заставляла выступать с бесконечной самокритикой.
Ей не оставалось иного выбора, кроме как предаваться этому мучительному занятию. Жизнь революционера не имела смысла вне партии, это было словно отлучение от Церкви для католика. К тому же, процедура была стандартная. Отец также прошел через нее и принял ее как необходимый этап на пути в революцию. Это испытание не кончилось для него до сих пор и тогда. Партия никогда не скрывала, что перевоспитание — процесс болезненный. Мамины мучения воспринимались как нечто совершенно нормальное.
После всех терзаний мамины товарищи проголосовали против принятия ее в полноправные члены. Она впала в глубокую депрессию. Она всецело отдалась революции, а теперь оказалась ей не нужна. Особенно обидно было думать, что ее не принимают по совершенно дурацким причинам, по решению двух людей, чей образ мышления на световые годы отстал от партийной идеологии в ее понимании. Ее не пускали в прогрессивную организацию отсталые люди, а получалось, что перед революцией не права она. Она подсознательно думала и о другом, более прозаическом обстоятельстве, хотя не признавалась в этом себе самой: если ее не примут в партию, это будет означать вечное клеймо и позор.
С такими мыслями в голове мама пришла к ощущению, что мир повернулся против нее. Она стала бояться людей и плакала в одиночестве. Даже это приходилось скрывать, чтобы не упрекнули в недостатке веры в революцию. Она не могла винить партию, казавшуюся непогрешимой, поэтому обратила свой гнев против мужа, который, будучи отцом ее ребенка, не встал на ее защиту. Она бродила по набережной, глядела в мутные воды Янцзы и думала о самоубийстве, представляя, как накажет этим мужа и как он будет мучиться угрызениями совести.
Решение партячейки ушло на подтверждение в более высокую инстанцию. На этот раз ее дело рассматривали трое широко мыслящих интеллектуалов. Они сочли, что с мамой обошлись несправедливо, но по партийным правилам было очень сложно обойти решение ячейки. Поэтому они затянули дело. Это не представляло труда, потому что тройка редко встречалась. Как отец и другие чиновники–мужчины, они обычно пребывали где–нибудь далеко, заготавливая продовольствие или воюя с бандитами. Зная, что Ибинь почти не защищен, и в отчаянии от того, что оба пути к отступлению — на Тайвань и через Юньнань в Индокитай и Бирму — отрезаны, довольно крупное войско, состоящее из гоминьдановских солдат, помещиков и бандитов обложило город, и казалось, что он вот–вот падет. Отец поспешил из деревни, как только узнал об осаде.
Поля начинались прямо за городскими стенами, растительность подступала почти к самым воротам. Воспользовавшись этим, нападающие подобрались вплотную и начали бить в северные ворота огромными таранами. В авангарде шел отряд «Широкого меча», состоявший в основном из безоружных крестьян, которые выпили «заговоренной» воды и верили, что теперь неуязвимы для пуль. За ними шли гоминьдановские солдаты. Сначала командир коммунистов пытался направить огонь на гоминьдановцев, надеясь обратить крестьян в бегство.
Мама, на восьмом месяце, вместе с другими женщинами носила защитникам пищу и воду и уносила в тыл раненых. Еще в школе ее научили оказывать первую помощь. Мама не боялась. Примерно неделю спустя осада провалилась, коммунисты перешли в контрнаступление и навсегда уничтожили практически всю вооруженную оппозицию в районе.
В Ибине тут же началась земельная реформа. Летом коммунисты приняли закон о сельскохозяйственных преобразованиях, которым предстояло изменить лицо Китая. Основной принцип — «возвращение земли домой» — гласил, что поля, скот и дома нужно распределить примерно поровну. Помещикам выделялась такая же доля, как всем остальным. Отец участвовал в выполнении программы. Маму освободили, так как она вскоре должна была родить.
Ибиньцы жили богато. Говорили, что крестьяне могут жить два года на заработанное в течение одного. Но десятилетия бесконечных войн разорили край. К этому добавились огромные налоги на гражданскую войну и войну с Японией. Разруха усилилась, когда Чан Кайши перенес столицу в Сычуань, и в провинцию хлынули чиновники–взяточники и авантюристы. Последней каплей стала завершающая битва между коммунистами и Гоминьданом, который стал взимать совершенно непомерные налоги. Все это, да еще жадные помещики, не могло не привести к ужасающей бедности даже в богатой провинции. Около восьмидесяти процентов крестьян голодало. При неурожае многим приходилось есть траву и листья батата, которыми обычно кормили свиней. Из–за голода продолжительность жизни снизилась до сорока лет. Нищета в такой плодородной местности была одной из главных причин, заставивших отца стать коммунистом.
В Ибине земельная реформа проходила в целом без насилия, отчасти потому, что самые решительные помещики участвовали в восстаниях в первые девять месяцев после взятия города коммунистами и уже были убиты в бою или
казнены. Но без крови не обошлось. Б одном случае член партии изнасиловал женщин из помещичьей семьи, а затем отрезал им груди. Отец приказал расстрелять его.
Как–то банда поймала молодого коммуниста, выпускника университета, отправившегося в деревню на поиски пищи. Атаман велел разрубить его пополам. Атамана поймали, и друг погибшего, руководитель команды по земельной реформе, забил его насмерть. В довершение мести он вырезал и съел сердце атамана. Отец приказал уволить его, но сохранить ему жизнь, потому что он проявил жестокость не к невинному человеку, а к звероподобному убийце.
Земельная реформа продолжалась более года. Как правило, помещики в худшем случае теряли большую часть земли и домов. С так называемыми «передовыми помещиками», которые не присоединились к бунту или даже помогали коммунистам–подпольщикам, обращались хорошо. Родители бывали на обедах в роскошных домах своих друзей из помещичьих семей, до того как эти дома конфисковали и разделили между крестьянами.
Отец, вечно занятый работой, находился в отъезде, когда его жена 8 ноября родила первенца — девочку. Так как доктор Ся дал маме имя Дэхун, которое состоит из иероглифа «дикий лебедь» (хун) и имени поколения «мораль» (дэ), отец назвал дочь Сяохун, что значит «похожая» (сяо) на свою мать. Через семь дней после родов тетя Цзюньин наняла двух носильщиков, чтобы перенести маму на бамбуковых носилках из больницы в дом Чжанов. Отец вернулся несколько недель спустя и сразу заявил жене, что как коммунистке ей не пристало садиться на носилки. Мама объяснила: по традиции женщина не должна ходить некоторое время после родов. На что отец возразил: а как же крестьянки, которые выходят в поле сразу после рождения ребенка?
Мама все еще чувствовала внутренний разлад и не знала, сможет ли остаться в партии. Не имея возможности выместить гнев ни на партии, ни на отце, в своем несчастье она обвинила дочь. После выхода из больницы моя сестра плакала не замолкая четыре ночи подряд. У мамы лопнуло терпение, она закричала на нее и довольно сильно ударила. Тетя Цзюньин, спавшая в соседней комнате, вбежала со словами: «Ты очень устала. Теперь ухаживать за ней буду я». После этого с сестрой сидела тетя. Когда через несколько недель мама вернулась на работу, сестра осталась в доме тети Цзюньин.
До сих пор мама с горечью и угрызениями совести вспоминает ту ночь. Когда она ходила навестить Сяохун, та пряталась, и мама, повторяя то, что запомнилось ей из раннего детства, проведенного в особняке генерала Сюэ, не разрешала дочери называть себя «мамой».
Тетя нашла моей сестре кормилицу. Государство оплачивало кормилицу каждому младенцу, родившемуся в семье партийного работника, а также обеспечивало регулярный бесплатный медицинский осмотр. Кормилицы считались государственными служащими. Они не были прислугой и даже не стирали пеленок. Государство могло себе позволить такой расход, потому что, согласно правилам, касающимся «революционеров», вступать в брак позволялось только тем, кто занимал довольно высокий пост, и младенцев у них рождалось мало.
Кормилице было лет восемнадцать, ее собственный ребенок родился мертвым. Она вышла замуж за помещичьего сына, чья семья потеряла теперь доход с земли. Она не желала работать в поле, а хотела жить в городе, как и ее муж–учитель. Через общих знакомых она нашла мою тетю, и они с мужем поселилась в доме Чжанов.
Постепенно мама начала выбираться из депрессии. После родов она получила декретный отпуск на тридцать дней, который провела у свекрови и тети Цзюньин. Вернувшись на службу, она в связи с полной реорганизацией района перешла на работу в комсомол. Ибиньский район, занимавший площадь примерно в девятнадцать с половиной тысяч
квадратных километров с населением более чем в два миллиона, кроме города, включал девять сельских уездов. Отец стал членом комитета из четырех человек, управлявшего всем районом, а также главой районного отдела пропаганды.
В результате реорганизации перевели на другую работу и товарища Ми, а у мамы появилась новая начальница, возглавлявшая отдел агитации города Ибиня, которому подчинялся комитет комсомола. В коммунистическом Китае, несмотря на все официальные правила, личность непосредственного начальника играла гораздо большую роль, чем на Западе. Мнение начальника — это мнение партии. Хороший начальник делал жизнь подчиненных совершенно иной.
Маминой начальницей стала женщина по имени Чжан Ситин. Они с мужем служили в частях, посланных брать Тибет в 1950 году. Сычуань была остановкой на пути в Тибет, и ханьцы (китайцы по национальности) считали ее медвежьим утлом. Когда супруги попросили об увольнении из армии, их направили в Ибинь. Мужа звали Лю Цзетин. Он изменил старое имя на Цзетин («связанный с Тин»), чтобы показать, как ценит свою жену. Супругов стали называть «двумя Тинами».
Весной 1951–го мама возглавила комитет комсомола. Это было высокой должностью для женщины, которой не исполнилось и двадцати. К ней вернулись былые уравновешенность и энергия. В июне была зачата я.
9. «Когда человек приходит к власти, его куры и собаки возносятся на небо»: Жизнь с неподкупным человеком (1951–1953)
Теперь мама входила в новую партячейку, состоящую из нее, товарища Тин и третьей женщины, бывшей подпольной ибиньской коммунистки, с которой мама поладила. Вмешательству в личную жизнь и требованиям самокритики сразу же пришел конец. Новая ячейка быстро избрала ее в постоянные члены, и в июле она получила удостоверение.
Ее новая начальница, товарищ Тин, не была красавицей, но ее стройная фигура, чувственный рот, лицо в веснушках, живой взгляд и острый язык — все в ней было полно энергии; сразу стало понятно, что она — личность. Мама прониклась к ней симпатией с первого же знакомства.
Товарищ Тин не пилила маму, как товарищ Ми, а разрешала ей делать все что угодно, даже читать романы. Раньше книга без марксистской обложки обрушила бы бурю критики на голову «буржуазной интеллектуалки». Маме позволялось в одиночку ходить в кино — исключительная привилегия, потому что в те годы «революционеры» могли ходить только на советские фильмы и только в составе группы, а в частных кинотеатрах до сих пор показывали старые американские картины, например, с Чарли Чаплином. Другим новшеством, много значившим для мамы, стало мытье через день.
Однажды мама с товарищем Тин купили на рынке два метра хорошей розовой польской материи в цветочек. Она видела эту ткань раньше, но боялась покупать ее из–за обвинений в легкомыслии. По прибытии в Ибинь она сдала армейскую форму и вернулась к «ленинскому костюму». Под него надевалась бесформенная рубашка из грубого некрашеного хлопка. Ни одно правило не гласило, что нужно носить этот бесформенный наряд, но всякое выделение из массы каралось критикой. Маме ужасно хотелось надеть что–нибудь цветное. Они с товарищем Тин в состоянии крайнего возбуждения понеслись в дом Чжанов. Очень скоро перед ними лежало четыре новых блузки, по две для каждой. На следующий день они уже виднелись из–под их «ленинских пиджаков». Мама выправила розовый воротник наружу и весь день провела как на иголках. Товарищ Тин поступила еще смелее: не только выправила воротник, но и закатала рукава, так что видны были широкие розовые манжеты.
Маму такая безумная храбрость потрясла до глубины души. Люди, как и ожидалось, смотрели на них неодобрительно. Но товарищ Тин гордо задрала подбородок — кому какое дело? Мамина жизнь сильно упростилась: при одобрении начальницы она могла игнорировать любую критику, и открытую, и молчаливую.
Товарищ Тин не боялась вольничать отчасти потому, что была замужем за влиятельным и не столь принципиальным человеком. Муж товарища Тин, ровесник моего отца, с острым носом и подбородком, слегка сутулый, возглавлял орготдел партии во всем Ибиньском уезде. Он занимал важную должность: его отдел ведал повышениями, понижениями и взысканиями. Там же хранились дела членов партии. Наконец, как и мой отец, он входил в комитет четырех, управлявший Ибиньским уездом.
В комитете комсомола мама работала со сверстниками. Они были образованнее, беззаботнее и с более развитым чувством юмора, чем ее прежние коллеги — пожилые чиновницы из крестьян. Новые сослуживицы любили танцы, пикники, они разговаривали о книгах и новых идеях.
Ответственный пост означал также уважение, которое еще больше возросло, когда люди поняли, что мама человек толковый и энергичный. Она стала самостоятельнее, меньше зависела от отца и меньшего от него ожидала. Она привыкла к нему, уже не надеялась, что он всегда будет ставить ее на первое место, и примирилась с окружающим миром.
Другой плюс маминого повышения заключался в том, что она получила право перевезти в Ибинь свою мать. В конце августа 1951 года, преодолев все тяготы пути, приехали бабушка и доктор Ся. Транспорт вновь ходил, и все путешествие они проделали на поезде и судне. Как иждивенцы госслужащей, они получили государственное жилье, трехкомнатный дом в гостиничном комплексе. Им выдавался паек из товаров первого спроса, вроде риса и дров, которые доставлялись управляющим, а также немного денег для покупки прочих продуктов. Моя сестра с кормилицей поселились с ними, и там же проводила почти все свое свободное время мама, пользуясь возможностью поесть бабушкиных кушаний.
Мама счастлива была видеть рядом свою мать и любимого доктора Ся. Особенно она радовалась, что они уехали из Цзиньчжоу, потому что в соседней Корее началась война. В конце 1950 года американские войска стояли на берегу реки Ялу, на китайско–корейской границе; американские самолеты бомбили и обстреливали маньчжурские города.
Прежде всего мама хотела узнать, что случилось с Хуэйгэ, молодым полковником. Она очень горевала, услышав, что его расстрелял взвод солдат у излучины реки рядом с западными воротами Цзиньчжоу.
Одна из самых страшных вещей для китайца — умереть без похорон. Только глубоко в земле мертвец найдет успокоение. У этого религиозного чувства была и практическая сторона: непохороненное тело растерзают дикие собаки, расклюют хищные птицы. В прошлом трупы казненных на три дня выставлялись перед народом и только потом закапывались. Теперь коммунисты издали закон, что семья должна немедленно похоронить казненного родственника.
Если это было невозможно, его хоронили казенные могильщики.
Бабушка сама пошла на расстрельное поле. Изрешеченное пулями тело Хуэйгэ валялось на земле, среди других мертвецов. Вместе с ним расстреляли еще пятнадцать человек. Снег от их крови стал багровым. В городе не осталось никого из его родни, и бабушка заплатила ритуальному агентству за похороны. Хуэйгэ завернули в принесенный ею длинный кусок красного шелка. Мама спросила, были ли среди убитых общие знакомые. Да, бабушка встретила женщину, пришедшую за трупами мужа и брата. Оба служили главами гоминьдановских местных комитетов.
Мама с ужасом узнала, что на бабушку донесла ее собственная невестка, жена Юйлиня. Она давно уже считала, что бабушка ею помыкает, заставляя делать тяжелую работу по дому, а сама управляет им как хозяйка. Коммунисты призывали народ рассказывать о «гнете и эксплуатации», так что обиды жены Юйлиня обрели политическую основу. Когда бабушка забрала труп Хуэйгэ, невестка донесла, что она жалеет преступника. Квартал собрался на «митинг борьбы», чтобы «помочь» бабушке понять ее «промах». Бабушка не могла не прийти, но мудро решила ничего не говорить, притворившись, что смиренно приемлет критику. Про себя она негодовала и на невестку, и на коммунистов.
Этот случай не улучшил отношения между бабушкой и моим отцом. Ее поступок привел его в гнев, он говорил, что она больше сочувствует Гоминьдану, чем коммунистам. Но, очевидно, свою роль сыграла ревность. Бабушка, почти не разговаривавшая с отцом, обожала Хуэйгэ и мечтала видеть его зятем.
Мама оказалась меж двух огней: матерью и мужем, а также личными чувствами, горем по Хуэйгэ с одной стороны и политической преданностью коммунистам с другой.
Казнь полковника была частью кампании против «контрреволюционеров», нацеленной против всех сторонников Гоминьдана, обладающих влиянием и властью. Поводом для нее послужила война в Корее, начавшаяся в июне 1950 года. Когда американские войска подошли к самой границе Маньчжурии, Мао испугался, что США нападут на Китай, или нашлют на материк армию Чан Кайши, или сочетают то и другое. Он послал больше миллиона солдат сражаться на стороне северных корейцев против американцев.
Хотя армия Чан Кайши так и осталась на Тайване, США удалось организовать гоминьдановское вторжение в юго–западный Китай из Бирмы. В прибрежные районы совершались частые вылазки, туда высаживались агенты, участились акты саботажа. Гоминьдановские солдаты и бандиты по–прежнему разгуливали на свободе, в глубине страны вспыхивали крупные восстания. Коммунисты опасались, что союзники Гоминьдана уничтожат их режим, а в случае возвращения Чан Кайши станут пятой колонной. Им также хотелось показать народу, что они пришли надолго, и уничтожение противников было хорошим способом продемонстрировать стабильность власти, о которой все мечтали. Однако существовали разногласия, до какой степени следует быть безжалостными. Новое правительство решило не церемониться. В одной официальной бумаге говорилось: «Если мы не убьем их, они вернутся и убьют нас».
Маму этот довод не убеждал, но она посчитала бесполезным обсуждать с отцом подобные вопросы. Она вообще редко с ним виделась, он все еще пропадал в деревне. Да и в городе она редко его встречала. Рабочий день служащих продолжался с 8 утра до 11 вечера, семь дней в неделю, они так поздно возвращались, что почти не разговаривали друг с другом. Маленькая дочь жила отдельно, ели они в столовой, семейная жизнь практически отсутствовала.
По окончании земельной реформы отец опять уехал из города руководить строительством первого настоящего шоссе в регионе. До этого Ибинь с внешним миром связывала лишь река. Правительство решило проложить дорогу на юг, в провинцию Юньнань.
Всего за год они без всякой техники продвинулись на восемьдесят километров через гористую, пересеченную реками местность. Работали крестьяне, за еду.
Землекопы наткнулись на скелет динозавра и слегка повредили его. Отец выступил с самокритикой и проследил, чтобы его доставили в пекинский музей. Он также поставил часовых у могил II в. н. э., из которых крестьяне выковыривали кирпичи для свинарников.
Однажды двое крестьян погибли под обвалом. Отец всю ночь шел по горным тропам к месту происшествия. Местные крестьяне впервые видели чиновника такого уровня. Их тронуло, что его волнует их судьба. Прежде считалось, что чиновники отправляются в поездки только с целью набить карманы. После того, что сделал отец, жители прониклись к коммунистам неподдельной симпатией.
Одной из основных маминых задач было обеспечивать поддержку новому правительству, особенно среди фабричных рабочих. С начала 1951 года она ездила по фабрикам, выступала с речами, выслушивала жалобы и решала массу всяких вопросов. В ее обязанности входило объяснять молодым рабочим, что такое коммунизм, и призывать их вступать в комсомол и партию. Она подолгу жила то на одной фабрике, то на другой: считалось, что коммунисты должны «жить и работать среди рабочих и крестьян» и знать их чаяния.
Одна из фабрик, находившаяся на окраине города, производила изоляторы. Условия жизни там, как и везде, были ужасающие: десятки женщин спали в большой лачуге, построенной из соломы и бамбука. Пища никак не соответствовала их изнурительному труду — мясо они получали только дважды в месяц. Многим работницам приходилось по восемь часов стоять в холодной воде, промывая фарфоровые изоляторы. Из–за недоедания и отсутствия гигиены свирепствовал туберкулез. Чашки и палочки никогда как следует не мылись и сваливались в кучу.
В марте мама начала кашлять кровью. Она сразу поняла, что заразилась, но продолжала трудиться. Она была счастлива, потому что никто не вмешивался в ее жизнь, верила в то, чем занималась, и радовалась плодам своей работы: условия на фабрике улучшались, молодые работницы любили ее, и многие благодаря ей проникались идеями коммунизма. Искренне считая, что революции нужны ее преданность и самопожертвование, она выкладывалась полностью — семь дней в неделю с утра до вечера, без выходных. Но вскоре выяснилось, что она тяжело больна. В ее легких возникло четыре каверны. К тому же она была беременна.
Однажды в конце ноября мама потеряла сознание в заводском цехе. Ее спешно доставили в маленькую городскую больницу, некогда основанную иностранными миссионерами. Там за ней ухаживали китайские католики. В больнице все еще оставались европейский священник и несколько западных монахинь, носивших подобающее облачение. Товарищ Тин разрешила бабушке передавать маме еду, и мама ела чудовищно много: иногда за день съедала целую курицу, десяток яиц и полкило мяса. В результате я выросла в ее чреве до гигантских размеров, а она набрала пятнадцать килограммов.
В больнице имелось американское лекарство от туберкулеза. Товарищ Тин ворвалась в больницу и конфисковала все его запасы для мамы. Когда отец узнал об этом, он попросил товарища Тин вернуть хотя бы половину, но та огрызнулась: «Какой в этом смысл? Его и для одного человека мало. Если не верите, спросите у врача. Кроме того, ваша жена работает под моим началом, и решения относительно нее принимаю я».
Мама была страшно благодарна товарищу Тин за то, что та проявила такую заботу. Отец не спорил. Он разрывался между тревогой за здоровье жены и своими принципами, согласно которым интересы близких нельзя ставить выше интересов простых людей и хотя бы часть лекарства следовало оставить для других.
Я росла очень быстро, и каверны в маминых легких сократились и стали закрываться. Так считали врачи, но, по мнению мамы, ей помогло американское лекарство, добытое товарищем Тин. В больнице мама провела три месяца, до февраля 1952 года, когда ей посоветовали оттуда выписаться — «ради ее же собственной безопасности». По сведениям, полученным от одной знакомой, в доме некоего иностранного священника в Пекине нашли оружие, после чего все иностранные священники и монахини попали под подозрение.
Маме не хотелось покидать больницу, которая располагалась в чудесном дворе с красивыми кувшинками и где больных окружали профессиональный уход и чистота, редкие в Китае тех времен. Но выбора не было, и ее перевели в Народную больницу № 1. Главный врач этой больницы никогда в жизни не принимал родов. Он служил врачом в армии Гоминьдана, пока его часть не взбунтовалась и не перешла на сторону коммунистов. Он страшно волновался, ведь умри мама при родах, он оказался бы в незавидном положении: поводом для обвинений могли бы стать и его прошлое, и высокий пост, занимаемый мужем пациентки.
Незадолго перед тем днем, когда я должна была появиться на свет, врач предложил папе перевести маму в больницу более крупного города, где и оборудование лучше, и есть специалисты–акушеры. Он боялся, что когда ребенок станет выходить, из–за быстрой смены давления снова откроются каверны и начнется кровотечение. Но отец отказался: его жена должна рожать в тех же условиях, что и все остальные, ведь коммунисты поклялись покончить с привилегиями. Услышав об этом, мама с горечью подумала, что он всегда действует ей во вред и ему как будто все равно, выживет она или погибнет.
Я родилась 25 марта 1952 года. Случай был сложный, поэтому пригласили хирурга из другой больницы. Собралось еще несколько врачей и сестер, принесли дополнительный кислород и оборудование для переливания крови. Пришла и товарищ Тин. По традиции, китайские мужчины не присутствовали при родах, но главный врач попросил папу побыть возле родовой палаты — видимо, хотел подстраховаться. Роды были трудные. Когда показалась головка, стало ясно, что у младенца широкие плечи, и он застрял. Я была слишком толстой. Сестры тянули меня за голову руками, и я вышла наружу вся синяя и едва дышала. Врачи окунули меня сначала в горячую, потом в холодную воду, подняли за ноги и сильно шлепнули. Наконец я заплакала, причем очень громко. Все облегченно рассмеялись. Я весила около пяти килограммов. К счастью, мамины легкие не пострадали.
Женщина–врач подхватила меня и показала отцу; первые слова его были: «О господи, у этого ребенка глаза навыкате!» Маму его замечание очень расстроило. А тетя Цзюньин сказала: «Нет, просто у нее красивые, большие глаза!»
В Китае для каждого жизненно важного случая предписано особое блюдо; так, женщине сразу же после родов совершенно необходимы яйца, сваренные без скорлупы в сахарном соусе со сброженным клейким рисом. Бабушка сварила их в больнице, где, как и в любой другой, была кухня, чтобы пациенты и их родственники могли сами себе готовить, и передала маме, как только та смогла есть.
Когда новость о моем рождении достигла доктора Ся, он сказал: «Вот и родился еще один дикий лебедь».
Мне дали имя Эрхун, что значит «второй дикий лебедь».
Дав мне имя, доктор Ся совершил одно из последних дел в своей жизни. Через четыре дня после моего рождения он умер в возрасте восьмидесяти двух лет. Он сидел в кровати и пил молоко. Бабушка на минуту отлучилась из комнаты, а когда вернулась, увидела, что молоко разлито, а чашка валяется на полу. Он умер мгновенно и без страданий.
Похороны в Китае всегда были делом огромной важности. Простые люди часто разорялись, чтобы устроить пышную церемонию, а бабушка любила доктора Ся и хотела воздать ему должное. Она настаивала на трех вещах: во–первых, чтобы был хороший гроб; во–вторых, чтобы гроб несли на плечах, а не везли на катафалке; и в–третьих, чтобы буддистские монахи пели заупокойные сутры, а музыканты играли на соне, духовом инструменте с пронзительным звуком, без которого не обходились традиционные похороны. Отец согласился на первое и второе, но категорически отверг третье требование. Коммунисты считали подобные церемонии расточительными и «феодальными». Но, по обычаю, тихо хоронили только самых незначительных людей. Шумные похороны демонстрировали уважение к усопшему и придавали событию общественное значение: без этого покойный словно бы «умалялся в достоинстве». Отец заявил, что ни соны, ни монахов не будет. Бабушка устроила ему бурную сцену. Для нее это были совершенно необходимые вещи. Во время ссоры она от гнева и горя лишилась чувств — выходило, что в самый печальный момент своей жизни ее некому было поддержать. Маме она ничего не сказала, чтобы не расстраивать. После похорон у нее произошел нервный срыв, и она почти на два месяца попала в больницу.
Доктора Ся похоронили на кладбище на вершине холма, на краю Ибиня, над Янцзы. У его могилы росли тенистые сосны, кипарисы и камфарные деревья. За то недолгое время, что он прожил в Ибине, доктор Ся заслужил любовь и уважение всех, кто его знал. Когда он умер, управляющий дома для родственников партработников, где он жил, все устроил для бабушки и шел впереди персонала во главе молчаливой похоронной процессии.
Старость доктора Ся была счастливой. Ему очень нравился Ибинь, и особенно экзотические цветы, в изобилии произраставшие в субтропическом климате, так сильно отличавшемся от маньчжурского. До самого конца он пользовался отменным здоровьем. В Ибине ему жилось хорошо: в отдельном доме с двором, за который ничего не требовалось платить. О них с бабушкой заботились, щедро снабжали продовольствием, доставляемым прямо на дом. Каждый китаец, живя в обществе, где не было никакой системы социального обеспечения, мечтал о том, чтобы в старости его опекали так же, как доктора Ся. Это было немалой удачей.
У доктора Ся сложились прекрасные отношения со всеми, в том числе и с моим отцом, который глубоко уважал его за принципиальность. Доктор Ся считал отца очень знающим человеком. Он часто говорил, что повидал на своем веку многих чиновников, но ни один из них не был похож на моего отца. Известная пословица гласила: «Нет чиновника без взяток», но папа никогда не злоупотреблял своим положением, даже в интересах собственной семьи.
Мужчины разговаривали часами. Их взгляды на мораль во многом совпадали, хотя суждения отца были облачены в одежды идеологии, а доктор Ся исходил из общечеловеческих ценностей. Однажды доктор Ся сказал отцу: «Коммунисты сделали много добра. Но вы убили слишком много людей. Людей, убивать которых не следовало». «Кого, например?» — спросил отец. «Учителей из Общества разума».
Это была квазирелигиозная секта, к которой принадлежал доктор Ся. Ее лидеров расстреляли в ходе кампании «по подавлению контрреволюции». Новый режим разгромил все тайные общества, потому что они пользовались влиянием, что мешало коммунистам взять население под полный контроль.
«Они не делали ничего дурного, и вы не должны были трогать Общество», — сказал доктор Ся. Последовало долгое молчание. Отец попробовал защитить коммунистов, утверждая, что борьба с Гоминьданом была для революции делом жизни и смерти. Но его слова прозвучали неубедительно — он сам это понимал, хотя ни за что не признал бы ошибок партии.
Выписавшись из больницы, бабушка поселилась у родителей. Туда же переехали моя сестра с кормилицей. Я жила в одной комнате со своей кормилицей, у которой ребенок родился на двенадцать дней раньше, чем я. Она сильно нуждалась в деньгах. Ее мужа, простого рабочего, посадили за азартные игры и продажу опиума — коммунисты и то и другое объявили вне закона. Ибинь был крупным центром сбыта опиума с 25 000 наркоманов, опиум циркулировал тогда как деньги. Опиумная торговля находилась в руках гангстеров и служила одним из основных источников дохода Гоминьдана. За два года коммунисты уничтожили курение опиума в Ибине.
Для таких, как кормилица, не существовало ни страховки, ни пособия по безработице. Но за работу у нас она получала зарплату, которую посылала свекрови, сидевшей с младенцем. Моя кормилица — маленького роста с нежной кожей, необычайно большими круглыми глазами и длинными пышными волосами, которые она забирала в пучок, — была очень доброй и любила меня как родную дочь.
Согласно традиции, плечи у девочки не должны быть квадратными и их туго пеленали, чтобы сделать покатыми. От этого я так ревела, что кормилица выпускала мои плечи и руки на волю, я махала гостям и тянулась к ним. Мама всегда говорила, что я легко схожусь с людьми, потому что нося меня во чреве, она была счастлива.
Мы жили в старом помещичьем особняке, рядом с папиной работой. Перед домом раскинулся сад с перечными деревьями, банановыми рощами, душистыми цветами и южными растениями; его возделывал государственный садовник. Отец сам выращивал помидоры и стручковый перец. Ему это нравилось, а главное — он считал, что партработник должен заниматься физическим трудом, в отличие от гнушавшихся его мандаринов.
Отец нежно любил меня. Когда я начала ползать, он ложился на живот, изображая «горы», а я лазила по нему.
Вскоре после моего рождения отца назначили губернатором Исяньского уезда, вторым человеком в районе после первого секретаря партии. (Партия и правительство формально различались, хотя фактически составляли одно целое.)
Когда он только приехал в Ибинь, семья и родственники надеялись, что он будет помогать им. В Китае было принято, что человек во власти опекает родню. Широко известная пословица гласила: «Когда человек приходит к власти, его куры и собаки возносятся на небо». Однако отец считал, что от кумовства и фаворитизма недалеко до коррупции, корня всех зол старого Китая. Он понимал, что люди следят за тем, как ведут себя коммунисты, и что его поступки будут определять отношение к коммунизму в целом.
Из–за своей суровости он испортил отношения с семьей. Один его родственник попросил у него рекомендацию на место в кассе кинотеатра. Отец посоветовал ему идти официальным путем. Это было неслыханно, и с тех пор никто не обращался к нему с подобными просьбами. Следующий случай произошел, когда он стал губернатором. Один из его старших братьев работал в компании, торговавшей чаем. В начале 1950–х экономика была на подъеме, продажи росли, и администрация решила произвести его в управляющие. Все значительные повышения утверждались отцом. Он завернул рекомендацию. И его семью, и мою маму это глубоко возмутило. «Его повышаешь не ты, а его начальство! — воскликнула она. — Не помогай ему, но зачем же ставить палки в колеса!» Отец ответил, что брат недостаточно толковый, и что его выдвинули лишь потому, что он — губернатор. Существует долгая традиция предугадывать желания начальников. Администрация чайной компании оскорбилась поступком отца, из которого следовало, что ими руководили низменные мотивы. В результате отец обидел всех. Брат не разговаривал с ним до конца жизни.
Однако отец не раскаивался. Он вел крестовый поход против вековых обычаев и настаивал, что со всеми нужно обращаться одинаково. Но у честности не бывает объективных критериев, и он руководствовался инстинктом, стараясь быть сверхсправедливым. Он не советовался с коллегами, зная: они ни за что не скажут ему плохого о его родне.
Высший этап крестового похода пришелся на 1953 год, когда учредили систему разрядов госслужащих. Все чиновники и работники государственных предприятий подразделялись на 26 разрядов. Зарплата при низшем, 26–м разряде составляла одну двадцатую зарплаты при высшем, первом. Но настоящее различие заключалось в субсидиях и льготах. Система регламентировала почти всё: носит ли человек пальто из дорогой шерсти или дешевого хлопка, какого размера у него квартира и есть ли в ней туалет.
Разряды также определяли степень допуска к информации. Информация в коммунистическом Китае жестко контролировалась, мера доступа к ней определялась местом человека в партийной иерархии. Простому народу вообще мало что говорили.
Хотя тогда судьбоносность реформы еще не прояснилась окончательно, госслужащие чувствовали, что это очень важно, и волновались, какой ранг им присвоят. Отец, которому высшие инстанции присвоили 11–й разряд, отвечал за определение разрядов всех ибиньских работников. Мужа своей любимой младшей сестры он понизил на две ступеньки. Мамин отдел предложил дать ей 15–й разряд. Он дал 17–й.
Система разрядов не связана прямо с должностью. Человека могут повысить, не меняя разряда. Почти за сорок лет маму повышали дважды, в 1962 и 1982–м годах. Каждый раз она поднималась только на одну ступеньку, и к 1990 году у нее был тот же 15–й разряд. В 1980–е она по этой причине не могла купить билеты на самолет или в «мягкий» вагон: это полагалось только чиновникам начиная с 14–го разряда. Таким образом, благодаря действиям отца в 1953 году, она почти сорок лет спустя не имела права с комфортом ездить по своей собственной стране. Она не могла жить в гостинице в номере с ванной — на это имели право только работники 13–го разряда и выше. Когда она обратилась с заявлением, чтобы поменять электросчетчик в квартире на более мощный, в домоуправлении сказали, что новые счетчики ставят только жильцам с 13–м разрядом и выше.
Но те же самые поступки, что выводили из себя родню отца, производили самое благоприятное впечатление на население, и его репутация сохранилась по сей день. Однажды в 1952 году директор средней школы № 1 упомянул в беседе с отцом, что не может найти жилье для своих учителей. «Тогда возьмите дом моей семьи, он слишком велик для троих», — тут же сказал отец, притом что эти трое были его мать, сестра Цзюньин и умственно отсталый брат, обожавшие свой прекрасный дом с зачарованным садом. Школа была счастлива; папина семья не очень, хотя он и нашел им домик в центре города. Его мать огорчилась, но по доброте и деликатности промолчала.
Не все чиновники отличались такой же неподкупностью. Вскоре после прихода к власти коммунисты столкнулись с большой проблемой. Миллионы поддержали их за обещание честного правительства, но теперь некоторые чиновники брали взятки и оказывали услуги родне и друзьям. Другие устраивали роскошные банкеты — традиционный китайский порок, почти болезнь, способ повеселиться и показать себя, и все это за счет и во имя государства, которое едва сводило концы с концами, восстанавливая экономику и ведя войну в Корее, съедавшую около половины всего бюджета.
Некоторые чиновники проматывали огромные суммы. Это обеспокоило власть. Она почувствовала, что добрая воля, приведшая коммунистов к победе, исчезает, дисциплина и преданность, принесшие им успех, размываются. В конце 1951 года власти запустили кампанию против коррупции, расточительства и бюрократизма под названием «движение против трех зол». Отдельных взяточников казнили, многих посадили, еще больше поувольняли. Расстреляли даже кое–кого из ветеранов коммунистической армии, причастных к крупным взяткам и растратам. С тех пор за коррупцию сурово наказывали, лет на двадцать она стала редкостью среди официальных лиц.
В Ибиньском уезде кампанию курировал отец. Высокопоставленных взяточников здесь не было, но он считал важным показать, что коммунисты по–прежнему держат обещание следить за чистотой своих рядов. Каждый чиновник должен был выступить с самокритикой даже по самому мелкому поводу: если звонил по личным делам по казенному телефону или записал что–то неделовое на казенном листе бумаги. Чиновники стали такими принципиальными в вопросах использования государственной собственности, что государственными чернилами писали только государственные документы. Если нужно было записать что–нибудь для себя, брали другую ручку.
Все это исполнялось с пуританским пылом. Отец верил, что с помощью этих мелочей коммунисты прививают китайцам новый взгляд: теперь общественная собственность впервые будет строго отделена от частной, чиновники не будут обращаться с народными деньгами как со своими собственными, не будут злоупотреблять положением. Многие коллеги отца разделяли его позицию и искренне верили, что их мучения поспособствуют высокой цели обновления Китая.
Объектом «движения против трех зол» были члены партии. Но для взятки нужны двое, и эти вторые люди зачастую в партии не состояли; особенно это относилось к «капиталистам» — фабрикантам и торговцам, за которых еще по–настоящему не принялись. Старые привычки не хотели уходить. Весной 1952 года, вскоре после разворачивания кампании «против трех зол», начали параллельную кампанию «против пяти зол» (подкупа, уклонения от уплаты налогов, расхищения государственного имущества, недобросовестного выполнения государственных подрядов и заказов и хищения государственной экономической информации), направленную на капиталистов. Большинство их оказались виновны как минимум в одном из этих преступлений и подверглись взысканиям, в основном штрафам. Коммунисты использовали эту кампанию, чтобы кнутом (чаще) и пряником (реже) заставить капиталистов вести себя наиболее выгодным образом для экономики. В тюрьму попали немногие.
Эти взаимосвязанные кампании укрепили уникальный китайский механизм контроля, возникший еще на ранней стадии развития коммунизма: массовые кампании (цюнь–чжун юнь–дун), проводившиеся так называемыми «рабочими группами» (гун–цзо–цзу).
Рабочие группы создавались ad hoc (Специально для этой цели — лат.) в основном из сотрудников госучреждений с ответственным партработником во главе. Центральное пекинское правительство посылало рабочие группы в провинции проверять местных чиновников и служащих. Из последних, в свою очередь, создавались группы, повторявшие процедуру на следующем уровне, и так до самого низа. Как правило, членом рабочей группы можно было стать, лишь предварительно пройдя проверку в рамках соответствующей кампании.
Группы посылались по всем организациям, где следовало провести кампанию, чтобы «мобилизовать массы». Каждый вечер проводились обязательные собрания по изучению руководящих указаний верхов. Члены групп выступали с беседами, лекциями и убеждали людей встать и разоблачить подозреваемых. Для анонимных жалоб ставили особые ящики. Рабочая группа исследовала каждый случай. Если расследование подтверждало донос или выявляло подозрительные обстоятельства, группа выносила решение, которое посылалось в вышестоящую инстанцию на утверждение.
Системы апелляций не существовало, хотя подозреваемый мог попросить доказательств и попробовать защититься. Рабочие группы имели право выносить разнообразные приговоры: общественное порицание, увольнение с работы, надзор в различных формах, вплоть до отправки в деревню на тяжелые работы. Только самые серьезные случаи рассматривались официальным судом, находившимся под партийным контролем. Для каждой кампании центр составлял программу, которой рабочим группам надлежало строго придерживаться. Но в конкретных случаях значение имели и личное мнение, и даже настроение, царившее в группе.
Во время какого–либо движения все, относившиеся к категории, на которую оно нацеливалось Пекином, попадали под пристальное внимание, в основном сослуживцев и соседей, а не полиции. Мао придумал вовлечь в слежку все население. Редкий злоумышленник — с точки зрения режима — мог спастись от зорких глаз народа, особенно в обществе с глубоко укорененной психологией вахтера. Но «эффективность» доставалась дорогой ценой: много невинных пострадало из–за расплывчатости критериев, личной мести, а то и просто из–за слухов.
Тетя Цзюньин занималась ткачеством, чтобы содержать себя, мать и умственно отсталого брата. Она засиживалась за работой за полночь и испортила зрение. К 1952 году она скопила определенную сумму, заняла недостающее, купила еще два ткацких станка и пригласила двух подруг. Хотя они делили доход, считалось, что тетя им платит, потому что станки принадлежали ей. Во время движения «против пяти зол» всякий, имевший наемную силу, подпадал под подозрение. Даже такие маленькие предприятия, как у тети Цзюньин, то есть кооперативы, оказывались под прицелом. Она хотела попросить подруг уйти, но боялась: они подумают, что она их увольняет. Но подруги сами сказали, что им лучше разойтись. Они не желали, чтобы тетя подумала на них, если кто–то бросит в нее грязь.
К середине 1953 года движения «против трех и пяти зол» свернули; капиталистов прижучили, Гоминьдан истребили. Собрания подходили к концу, так как чиновники поняли: полученные на них сведения слишком ненадежны. Дела стали рассматривать на индивидуальной основе.
В мае 1953 года мама легла в больницу, чтобы родить третьего ребенка. Мальчик, названный Цзиньмином, появился на свет 23 мая. Это был тот же миссионерский госпиталь, где мама находилась во время беременности мной, но теперь миссионеров изгнали, как и по всему Китаю. Маму только что повысили, назначив на пост главы отдела пропаганды города Ибиня. Она по–прежнему работала под началом товарища Тин, которую сделали секретарем горкома партии. В то время бабушка тоже попала в больницу с тяжелой астмой. Там же лежала я с пупочной инфекцией; за мной ухаживала кормилица. Нас лечили хорошо и бесплатно, так как мы были «семьей революционеров». Доктора стремились выделять дефицитные койки чиновникам и их родственникам. Для большинства населения не существовало общественного здравоохранения: крестьяне, например, платили.
Сестра и тетя Цзюньин поехали к знакомым в деревню. Отец остался дома один. К нему пришла товарищ Тин доложить о проделанной работе. Потом она пожаловалась на головную боль и выразила желание прилечь. Отец помог ей опуститься на кровать, и тут она притянула его к себе и попробовала поцеловать и приласкать. Отец тут же отстранился. «Видимо, вы переутомились», — произнес он и вышел из комнаты. Через несколько минут он вернулся очень взволнованный. Поставил на столик у кровати стакан воды. «Вы должны знать, что я люблю жену» — с этими словами он вышел за дверь, прежде чем товарищ Тин нашлась, как поступить. Под стаканом он оставил записку: «Коммунистическая мораль».
Через несколько дней маму выписали. Едва она с ребенком перешагнула порог дома, отец объявил: «Мы уезжаем из Ибиня, как можно раньше и навсегда». Мама не могла понять, какая муха его укусила. Он рассказал ей о происшествии и добавил, что товарищ Тин давно положила на него глаз. Маму история скорее потрясла, чем рассердила. «Но почему ты хочешь немедленно уехать?» — «Она настойчивая. Думаю, попробует еще раз. К тому же она мстительная. Больше всего я боюсь, что она отомстит тебе. Это несложно, ведь ты ее подчиненная». — «Все настолько серьезно? Я слышала какую–то сплетню, что в гоминьдановской тюрьме она соблазнила тюремщика. Но мало ли болтают. В любом случае, неудивительно, что ты ей понравился, — улыбнулась мама. — Но неужели она на меня обозлится? Здесь она моя лучшая подруга».
«Ты не понимаешь — это называется «гнев от стыда» (нао–сю–чэн–ну). Вот что она чувствует. Я был не очень тактичен. Должно быть, я пристыдил ее. Прости. Я действовал импульсивно. Эта женщина отомстит».
Мама легко представила, как отец резко отчитывает товарища Тин. Но не думала, что ее начальница такая уж злодейка, а главное, не понимала, что такого она им может сделать. Тогда отец рассказал ей о своем предшественнике на посту губернатора, товарище Шу.
Шу, бедный крестьянин, вступил в армию коммунистов во время Великого похода. Он не любил товарища Тин и критиковал ее за легкомыслие. Не нравилось ему и то, что она заплетает много косичек — тогда это воспринималось как вызов. Он несколько раз велел ей остричь косы. Она отказалась, предложив ему не лезть не в свое дело. Он стал наседать на нее еще больше, в результате чего она его возненавидела и с помощью мужа решила отомстить.
У товарища Шу работала бывшая наложница гоминьдановского чиновника, бежавшего на Тайвань. Все видели, что она кокетничает с женатым товарищем Шу, ходили даже слухи, что у них роман. Товарищ Тин заставила ее подписать бумагу, что товарищ Шу приставал к ней и склонил к интимным отношениям. Хотя он был губернатором, женщина решила, что Тины опаснее. Товарища Шу обвинили в использовании служебного положения для вступления в связь с бывшей гоминьдановской наложницей — непростительном грехе для коммуниста–ветерана.
Стандартной технологией порчи карьеры в Китае было сочетание нескольких обвинений, чтобы дело выглядело серьезнее. Тины выдвинули против товарища Шу второе обвинение. Как–то он выразил несогласие с политикой Пекина и написал об этом руководству. Согласно партийному уставу, это было его право. К тому же он обладал привилегиями ветерана Великого похода, поэтому открыто высказывал недовольство. Тины расписали это как выступление против партии.
На основе двух обвинений муж товарища Тин предложил исключить товарища Шу из партии и снять его с работы. Товарищ Шу решительно отметал эти обвинения. Первое, сказал он, просто ложь. Он отнюдь не ухаживал за женщиной, а просто был галантен. Что же до второго, то он ничего дурного не сделал и не собирался выступать против партии. Уездный партком состоял из четырех человек: самого товарища Шу, мужа товарища Тин, моего отца и первого секретаря. Теперь товарища Шу судили трое. Отец его защищал. Он не сомневался, что товарищ Шу невиновен, и считал, что тот имел полное право написать письмо.
Однако при голосовании отец проиграл, и товарища Шу уволили. Первый секретарь поддержал мужа товарища Тин — отчасти потому, что товарищ Шу относился к «неправильному» крылу Красной армии. В начале 1930–х годов он служил старшим офицером на так называемом Четвертом сычуаньском фронте. Эта армия соединилась с войсками Мао во время Великого похода в 1935 году. Ее командующий, Чжан Готао, колоритная фигура, проиграл Мао в борьбе за лидерство и вновь отделился вместе со своими силами. Впоследствии, из–за больших потерь, он был вынужден вернуться к Мао, однако в 1938 году, когда коммунисты уже были в Яньани, перешел на сторону Гоминьдана. Это запятнало всех служивших на Четвертом фронте, их преданность Мао подвергалась сомнению. Вопрос обретал особую остроту, потому что многие участники Четвертого фронта были сычуаньцами.
После прихода коммунистов к власти это же клеймо легло на всех революционеров, не подчинявшихся Мао напрямую, в том числе и на подполье, куда входило немало храбрейших, преданнейших — и образованнейших — коммунистов. В Ибине все бывшие подпольщики ощущали на себе определенное давление. Дело осложнялось тем, что многие происходили из зажиточных семей, пострадавших при коммунистах. К тому же, поскольку зачастую они обладали более высоким культурным уровнем, чем полуграмотные крестьяне, пришедшие в Сычуань с армией, им завидовали.
Отец, бывший партизан, инстинктивно соотносил себя с подпольщиками. Во всяком случае, он отказывался подвергать их подковерному остракизму и открыто защищал. «Смешно делить коммунистов на «подпольных» и «напольных»», — говаривал он. Он брал к себе на работу в основном подпольщиков.
Отец считал, что нельзя держать на подозрении людей с Четвертого фронта, таких, как товарищ Шу. Для начала он посоветовал ему уехать подальше из Ибиня, и даже устроил у нас дома прощальный обед. Его перевели в Чэнду мелким служащим в провинциальном управлении лесоводства. Оттуда он посылал апелляции в пекинский Центральный Комитет, ссылаясь на моего отца. Отец написал в его поддержку. Долгое время спустя товарища Шу освободили от обвинений в «антипартийных выступлениях», однако менее существенных подозрений во «внебрачных связях» не сняли. Бывшая наложница, сочинявшая жалобу, не решилась забрать ее обратно, однако описала «приставания» нарочито неубедительно и сумбурно, явно намекая расследователям, что на самом деле ничего не было. Товарища Шу назначили на довольно высокую должность в министерстве лесоводства в Пекине, но на прежний пост не вернули.
Отец хотел убедить маму, что Тины ни перед чем не остановятся для сведения счетов. Он привел другие примеры и повторил, что уезжать нужно немедленно. На следующий же день он поехал в Чэнду, город в одном дне пути на север. Там он пошел прямо к своему хорошему знакомому, губернатору провинции, и попросил о переводе, пояснив, что слишком сложно работать в родном городе, уклоняясь от просьб многочисленной родни. О настоящей причине он умолчал, не имея твердых доказательств против Тинов.
Губернатор, Ли Дачжан, когда–то способствовал приему в партию жены Мао — Цзян Цин. Он посочувствовал отцу, обещал подыскать должность в Чэнду, но не сразу: сейчас подходящих мест не было. Отец сказал, что не может ждать и согласен на любое. Губернатор долго уговаривал его, но в конце концов согласился назначить на должность главы отдела искусства и образования, предупредив: «Вы достойны большего». Отец ответил, что для него главное — получить работу.
Отец был в таком состоянии, что не стал возвращаться в Ибинь, а послал маме сообщение с просьбой приехать как можно скорее. Родственницы запретили маме ехать сразу после родов, но отец был в ужасе от того, что может предпринять товарищ Тин, и как только прошел месяц традиционного послеродового отдыха, прислал за нами телохранителя.
Брата Цзиньмина, слишком юного для путешествия, оставили в Ибине. Его кормилица и кормилица моей сестры не хотели покидать родню. И поскольку кормилица Цзиньмина очень его любила, то попросила маму оставить его с ней. Мама согласилась, она ей полностью доверяла.
Мама, бабушка, сестра и я вместе с кормилицей и телохранителем покинули Ибинь июньской ночью. Мы уселись в джип с нашими скудными пожитками — парой чемоданов. В ту пору у чиновников не было имущества, не считая скромной одежды. Всю ночь мы тряслись по ухабистым дорогам до города Нэйцзян. Там мы несколько часов на жаре ждали поезда.
Когда он наконец пришел, мне внезапно захотелось облегчиться, и кормилица понесла меня к краю платформы. Мама не хотела нас пускать, боясь, что поезд уйдет. Кормилица, которая никогда не видела поезда и понятия не имела о том, что такое расписание, оскорбилась: «Пусть подождет! Эрхун нужно пописать». Она не сомневалась, что все, так же как она, будут в первую очередь думать о том, что нужно мне.
В поезде нам пришлось рассесться по разным вагонам. Мама с моей сестрой ехали в плацкартном, бабушка в «мягком» сидячем вагоне, мы с няней в купе «матери и ребенка» — она на «жестком» сиденье, я в кроватке, телохранитель — в соседнем «жестком» вагоне.
Мама смотрела на рисовые поля и сахарный тростник. Редкие крестьяне в широкополых соломенных шляпах — мужчины, голые по пояс, — ходили по полям словно в полусне. В оросительных каналах неспешно журчала вода.
Мама пребывала в раздумье. Уже второй раз они с мужем уезжали из места, к которому глубоко привязались — сначала из ее родного города, потом с родины мужа. Казалось, революция не решила их проблем, наоборот, создала новые. Она впервые смутно задумалась о том, что революцию делают люди и привносят в нее свои слабости. Но ей не пришло в голову, что революция мало что делала для исправления ошибок, а часто даже опиралась на худшие из них.
Когда поезд в полдень подъезжал к Чэнду, мама думала уже о новой жизни, ожидавшей ее здесь. Она много слышала о столице древнего царства, «городе шелка», «городе гибискусов», засыпавших его своими лепестками после летней бури. Ей было двадцать два года. В том же возрасте, двадцать лет тому назад, ее мать жила в Маньчжурии пленницей в доме отсутствующего «мужа» — генерала, под надзором его слуг, будучи не более чем мужской игрушкой. Мама, по крайней мере, чувствовала себя самостоятельным человеком. Все ее беды казались несравнимыми с тяжкой долей женщины в старом Китае. Она говорила себе, что за многое должна быть благодарна коммунистам. Когда поезд прибыл на вокзал, ее вновь переполнила решимость беззаветно отдаться великому служению.
10. «Страдания сделают тебя настоящей коммунисткой»: Мама попадает под подозрение (1953–1956)
Отец встретил нас на станции. Ее окутывал неподвижный зной. Мама с бабушкой устали от ночной тряски в автомобиле и жары, изнурявшей их всю дорогу в поезде. Нас отвезли в правительственную гостиницу, наше временное пристанище. Маму перевели так стремительно, что еще не подобрали ни работу ей, ни квартиру для всех нас.
Чэнду, столица Сычуани, самой населенной тогда провинции Китая (65 000 000 человек), был большим, полумиллионным городом. Основанный еще в V тысячелетии до нашей эры, в XIII веке он поразил своим блеском Марко Поло. Его построили по тому же плану, что и Пекин, с дворцами и основными воротами на оси север–юг, делившей город на равные западную и восточную части. К 1953 году он перерос свою строгую планировку и был разделен на три административных района — восточный, западный и пригородный.
Через несколько недель маме дали работу. По доброй китайской традиции о работе спросили отца, но не маму. Отец сказал, что подойдет все что угодно, лишь бы она не работала под его непосредственным началом. Ее назначили заведующей отделом пропаганды восточного района. По общему правилу, ей выделили жилье при ее организации, в старинном дворике. Мы переехали туда, а отец остался в своей служебной квартире.
Мы жили поблизости от здания администрации восточного района. Государственные учреждения располагались в основном в больших особняках, конфискованных у гоминьдановских чиновников и богатых помещиков. Все госслужащие, даже высокого ранга, жили по месту работы. Им не разрешалось готовить дома, все питались в столовых. Там же получали в термосах кипяток.
Супружеским парам разрешали проводить вместе только субботы. Среди чиновников эвфемизмом для секса стало выражение «провести субботу». Со временем в этом полковом образе жизни произошли некоторые послабления, и мужья с женами смогли воссоединяться чаще, но почти все они по–прежнему жили и проводили большую часть дня на работе.
Мамин отдел отвечал за самые различные сферы деятельности — начальную школу, здравоохранение, досуг и изучение общественного мнения. В двадцать два года мама заведовала всеми этими областями жизни четверти миллиона человек. При такой занятости мы редко ее видели. Государство хотело установить монополию (под названием «единые закупки и сбыт») на торговлю предметами первой необходимости — зерном, хлопком, растительным маслом и мясом. Крестьянам следовало продавать их только правительству для распределения в городе и бедных районах страны.
Всякую новую политику Коммунистическая партия Китая сопровождала соответствующей пропагандистской кампанией. В мамину задачу входило убеждать людей, что перемены — к лучшему. На этот раз главной мыслью было, что в Китае никогда не могли накормить, одеть и обуть огромное население; теперь правительство хотело гарантировать равное распределение жизненно важных товаров, чтобы никто не голодал, в то время как другие копят в амбарах зерно. Мама с удовольствием принялась за работу, гоняя по округе на велосипеде, выступая на бесконечных собраниях, даже на последних месяцах беременности четвертым ребенком. Она любила свое дело, верила в него.
В самый последний момент она легла в больницу, где родила сына. Роды вновь оказались опасными. Врач собрался уже домой, но мама остановила его. Она пожаловалась на кровотечение и настояла, чтобы врач ее осмотрел. Не хватало части плаценты. Операция считалась серьезной. Ее погрузили под общий наркоз и нашли в матке недостающую часть, чем, вероятно, спасли ей жизнь.
Отец в деревне пропагандировал программу госмонополии. Ему только что присвоили 10–й разряд и назначили заместителем заведующего отделом пропаганды всей Сычуани. Главное, он должен был непрерывно отслеживать общественное мнение: что люди думают по поводу той или иной политики? какие у них жалобы? Поскольку большую часть населения составляли крестьяне, он часто ездил в деревню, чтобы узнать их чаяния. Как и мама, он страстно верил в свое дело — поддержание связи между партией и народом.
На седьмой день после маминых родов коллега отца прислал машину, чтобы отвезти ее домой. Считалось, что если муж в отъезде, о жене будет заботиться партийная организация. Мама с благодарностью согласилась — до «дома» было полчаса ходьбы. Вернувшись через несколько дней, отец отчитал коллегу: по правилам, мама могла ездить в служебной машине только вместе с отцом. Ездить на машине без него — кумовство. Коллега ответил, что дал указание о машине, потому что мама ослаблена после тяжелой операции. Но правило есть правило, возразил отец. Маме тяжело было примириться с очередным проявлением его фанатической принципиальности. Отец второй раз нападал на нее после трудных родов. Она поинтересовалась: почему он сам не забрал ее домой — ведь тогда не пришлось бы нарушать правила? Отец объяснил, что был занят важной работой. Мама понимала и разделяла его преданность делу, но в то же время по–настоящему обиделась.
На второй день после рождения у моего нового братика, Сяохэя, появилась экзема. Мама решила, это оттого, что летом из–за занятости она не ела вареных зеленых оливок, которые, по китайским поверьям, выпускают из тела жар, а иначе он выходит в виде прыщей. Несколько месяцев ручки Сяохэя привязывали к кроватке, чтобы он не расчесывал себе кожу. В шесть месяцев его положили в дерматологическую больницу. Бабушка в это время спешно уехала в Цзиньчжоу, потому что ее мать захворала.
Кормилица Сяохэя, обладательница роскошных длинных иссиня–черных волос и лукавых глаз, происходила из деревни под Ибинем. Она случайно погубила собственного ребенка: кормила его лежа, уснула и заспала его. Воспользовавшись семейными связями, она обратилась к тете Цзюньин с просьбой порекомендовать ее нам. Она хотела весело жить в большом городе. Тетя дала ей рекомендацию, хотя некоторые местные женщины предупреждали, что девушка просто хочет убежать подальше от мужа. Тетя Цзюньин, сама незамужняя, не возражала против чужих удовольствий, особенно сексуальных; она всегда радовалась за влюбленных. Тетя отличалась терпимостью к человеческим слабостям и никого не судила.
Через несколько месяцев заговорили, что у кормилицы роман с похоронным агентом, жившим по соседству. Родители сочли это ее личным делом и не вмешивались.
Кормилица отправилась в дерматологическую больницу вместе с братом. В палате оказались венерические больные, и однажды кормилицу застали в постели одного из них. Врачи сообщили об этом маме и посоветовали расстаться с кормилицей. Мама рассчитала ее. С тех пор о Сяохэе заботилась моя кормилица, а также кормилица Цзиньмина, приехавшая с ним из Ибиня.
В конце 1954 года кормилица Цзиньмина написала маме, что хочет переехать к нам из–за трудностей с мужем. Он запил и начал драться. Мама не видела Цзиньмина полтора года, с месячного возраста, но его приезд очень расстроил ее. Он долго не давал ей притрагиваться к себе и называл «мамой» только кормилицу.
Не удалось подружиться с Цзиньмином и отцу, но меня он любил. Он ползал по полу и катал меня на спине, нередко вставляя себе за воротник цветы, чтобы я их нюхала. Если он забывал, я показывала на сад и повелительно мычала. Он целовал меня в щеку. Однажды, когда он не побрился, я скривилась и закричала во весь голос: «Старая борода, старая борода!» Несколько месяцев после этого я обзывала его «Старой бородой». С тех пор он целовал меня осторожнее. Мне нравилось бегать по кабинетам и играть с чиновниками. Я гонялась за ними и называла прозвищами, которые сама придумала. Мне шел всего лишь третий год, но я уже прославилась как «маленький дипломат».
Думаю, моя популярность объяснялась тем обстоятельством, что служащие радовались перерыву в работе, веселью, которое я привносила своей детской болтовней. К тому же я была пухленькой, и всем им нравилось сажать меня на колени, тискать и пощипывать.
Когда мне было три года с небольшим, нас с братьями и сестрами отправили в ясли. Я не понимала, почему меня уводят из дома, брыкалась и вырывала ленту из волос. В яслях я нарочно плохо себя вела и каждый день выливала на стол молоко и высыпала туда капсулы рыбьего жира. После обеда наступал долгий тихий час; в это время я рассказывала другим детям в большой спальне выдуманные мною страшные истории. Скоро меня разоблачили и наказали: посадили на порог.
В ясли нас отправили потому, что присматривать за нами было некому. Однажды в июле 1955 года маме и восьмистам служащим восточного района велели оставаться на работе до особого извещения. Началось новое политическое движение — на этот раз по раскрытию «тайных контрреволюционеров». Все должны были подвергнуться строжайшей проверке.
Мама и ее коллеги приняли приказ беспрекословно. Ведь они жили по–военному. К тому же совершенно естественным выглядело стремление партии проверить своих членов для обеспечения общественной стабильности. Как и у большинства ее сотрудниц, мамина преданность делу не давала места ворчанию из–за строгости этой меры.
Через неделю почти всех сослуживцев отпустили. Мама была одним из немногочисленных исключений. Ей сказали, что кое–какие обстоятельства ее прошлого ясны не до конца. Ей пришлось выехать из своей спальни и поселиться в другой части здания. Ее отпустили на несколько дней для улаживания домашних дел, поскольку, как ей было сказано, она может провести в изоляции довольно длительный срок.
Новая кампания возникла в результате реакции Мао на поведение некоторых писателей–коммунистов, особенно известного Ху Фэна. Они не обязательно расходились с Мао в области идеологии, но в их поступках чувствовалась толика независимости и умения мыслить самостоятельно, а этого Мао потерпеть не мог. Независимое мышление грозило сделать повиновение ему не столь абсолютным. Новый Китай должен мыслить и действовать как один человек, страну следовало сплотить суровыми мерами, иначе она распадется. Он велел арестовать нескольких ведущих писателей и назвал их «контрреволюционными заговорщиками» — обвинение было ужасным, так как «контрреволюционная деятельность» каралась строже всего, в том числе и смертью.
Это знаменовало конец независимого самовыражения в Китае. Все средства массовой информации перешли в руки коммунистов, как только они встали у руля. Теперь же планировалось установить неусыпный надзор над умами всей нации.
Мао утверждал, что охотится на «шпионов империалистических стран и Гоминьдана, троцкистов, бывших офицеров Гоминьдана и предателей среди коммунистов». Он заявлял, что эти люди готовят возврат Гоминьдана и «американских империалистов», которые отказывались признавать пекинские власти и окружили Китай вражеским кольцом. Если предыдущая кампания против контрреволюционеров, повинная в смерти маминого друга Хуэйгэ, действительно была нацелена на гоминьдановцев, теперь мишенью стали люди внутри партии или правительства, в прошлом связанные с Гоминьданом.
Составление подробных досье было основополагающей частью деятельности коммунистов еще до прихода их к власти. Досье на членов партии хранились в организационном отделе. Дела беспартийных госслужащих велись администрацией их учреждений и хранились в отделах кадров. О каждом из подчиненных начальник ежегодно писал отчеты и складывал их в дело. Никому не разрешалось читать свое собственное дело, и только избранные могли просматривать чужие дела.
Чтобы попасть под обстрел этой кампании, достаточно было иметь какие бы то ни было связи с Гоминьданом в прошлом. Расследование вели рабочие группы, про членов которых было точно известно, что они с Гоминьданом никогда не были связаны. Мама стала главной подозреваемой. Но и наши кормилицы тоже попали под подозрение.
Существовала группа, занимавшаяся обслуживающим персоналом провинциальной администрации — водителями, садовниками, горничными, поварами, уборщиками. Муж моей кормилицы сидел в тюрьме за азартные игры и торговлю опиумом, это делало ее «неблагонадежной». Муж кормилицы Цзиньмина происходил из помещичьей семьи, да еще был мелким гоминьдановским чиновником. Так как кормилицы не занимали важных постов, партия не копала очень глубоко. Однако они не могли больше работать в нашей семье.
Маме сообщили об этом во время ее краткого пребывания дома перед изоляцией. Когда она сказала об этом кормилицам, те очень расстроились. Они любили нас с Цзиньмином. Моя кормилица также огорчилась из–за потери жалованья в случае возвращения в Ибинь. Мама попросила председателя тамошнего исполкома найти девушке работу, и он выполнил просьбу. Она получила место на чайной плантации и забрала к себе дочь.
Кормилица Цзиньмина не хотела возвращаться к мужу. У нее появился новый жених, уборщик из Чэнду, за которого она собиралась замуж. Заливаясь слезами, она просила маму помочь ей в получении развода. Развестись было крайне сложно, но она знала, что если бы мои родители, особенно отец, замолвили за нее словечко, это могло бы возыметь действие. Мама любила кормилицу и хотела ей помочь. Выйдя замуж за уборщика, она автоматически превратилась бы из «помещицы» в представительницу «рабочего класса» и имела бы право остаться у нас в семье. Мама поговорила с отцом, но он не согласился: «Как ты можешь устраивать разводы? Люди скажут, что коммунисты разрушают семьи». «А как же наши дети? — спросила мама. — Кто будет смотреть за ними?» У отца был ответ и на это: «Отправь их в ясли».
Когда мама сказала кормилице Цзиньмина, что ей придется уехать, та едва не упала в обморок. Первое воспоминание Цзиньмина — прощание с ней. Как–то на закате его принесли к входной двери. Там стояла его кормилица в крестьянской одежде: простой рубашке с матерчатыми пуговицами в форме бабочек, с узелком. Он попросился к ней на руки, но она не подходила, как он ни тянул к ней руки. По ее лицу текли слезы. Затем она спустилась по ступеням в глубине двора. С ней был какой–то незнакомец. Она вышла было за ворота, но вдруг остановилась и обернулась. Он плакал, орал, брыкался, но его к ней не поднесли. Она долго стояла в воротах и глядела на него. Потом стремительно повернулась и исчезла. Больше Цзиньмин ее не видел.
Бабушка все еще оставалась в Маньчжурии. Прабабушка недавно умерла от туберкулеза. До «отправки в казармы» мама должна была собрать нас всех в ясли. В такой короткий срок удалось найти только по одному месту в нескольких яслях, и нас разлучили.
Отец советовал маме: «Будь совершенно откровенна перед партией, верь в нее. Она вынесет тебе справедливый приговор». Мама почувствовала к нему неприязнь. Она нуждалась в более теплых и сердечных словах. Все еще сердитая на отца, она душным летним днем отправилась в заключение во второй раз, но теперь уже под надзор своей собственной партии.
Расследование само по себе еще не означало пятна на репутации. Это значило лишь, что в прошлом человека нужно разобраться. Тем не менее ее унижала такая проверка после всех ее жертв и проявлений несомненной преданности делу коммунизма. Но жила в ней и надежда, что подозрения, омрачавшие ее жизнь почти семь лет, будут рассеяны навсегда. Ей нечего было стыдиться, нечего прятать. Она твердо знала: партия подтвердит ее верность революции.
Для расследования была создана особая тройка во главе с товарищем Куаном, заведовавшим отделом пропаганды Чэнду, то есть занимавшим должность ниже, чему у отца, но выше, чем у мамы. Его семья хорошо знала нашу. Теперь он говорил с мамой по–прежнему любезно, но более официально и сдержанно.
Как и другим задержанным, маме выделяли «соседок по комнате», которые следовали за ней повсюду, даже в уборную, и спали с ней в одной кровати. Ей объяснили, что это нужно, чтобы защитить ее. Про себя она поняла, что «защищали» ее от самоубийства и сговора с другими.
С ней находились по очереди несколько женщин. Одну освободили от обязанностей, потому что начали расследование над ней самой. Все сопровождающие каждый день писали отчет о мамином поведении. Всех их мама знала, потому что они работали в районных учреждениях, хотя и не в ее отделе. К ней относились доброжелательно; не считая ограничения свободы, с мамой обращались хорошо.
Расследователи, а также «соседка», устраивали «дружеские беседы», правда, на крайне неприятные темы. Не было ни презумпции вины, ни презумпции невиновности. А в отсутствие надлежащих юридических процедур очистить себя от наветов оказывалось необычайно сложно.
Мамино досье содержало подробнейшие отчеты обо всех этапах ее жизни — о подпольной работе в студенческие годы, о работе в Женской федерации Цзиньчжоу, о постах в Ибине. Эти отчеты в тот или иной период писали ее начальники. Первый вопрос возник по поводу ее освобождения из гоминьдановской тюрьмы в 1948 году. Как семье удалось вытащить ее оттуда, ведь ее проступок считался очень серьезным? Ее даже не пытали! Не мог ли арест быть фальшивкой, чтобы повысить ее очки у коммунистов и она могла пробраться на ответственный пост в качестве гоминьдановской шпионки?
Далее следовала дружба с Хуэйгэ. Несомненно, ее начальницы в Женской федерации Цзиньчжоу изложили этот факт с соответствующими комментариями. Раз Хуэйгэ стремился через нее подстраховаться на случай победы коммунистов, не пыталась ли она заручиться сходной страховкой у Гоминьдана?
Тот же вопрос задавался про ее гоминьдановских ухажеров. Не обнадеживала ли она их на всякий случай? И вновь мрачное подозрение: не велел ли ей кто–нибудь из них затаиться в коммунистической партии и работать на Гоминьдан?
Перед мамой поставили невыполнимую задачу доказать свою невиновность. Все люди, о которых ее спрашивали, были казнены, или бежали на Тайвань, или находились в неизвестных ей местах. В любом случае это были гоминьдановцы, их слово ничего не значило. «Как я могу убедить вас?» — думала она иногда в раздражении, вновь и вновь возвращаясь к одним и тем же случаям.
Ее также спрашивали о гоминьдановских связях ее дядьев, об отношениях со всеми школьными подругами, которые до взятия Цзиньчжоу коммунистами вступили в Молодежную лигу Гоминьдана. Инструкция по проведению кампании объявляла всех председателей отрядов Молодежной лиги после капитуляции японцев «контрреволюционерами». Мама пыталась убедить их, что Маньчжурия была особым случаем: после японской оккупации Гоминьдан воспринимался как представитель Китая, родины. Сам Мао когда–то был руководящим гоминьдановским чиновником, но об этом мама умолчала. К тому же ее подруги через один–два года перешли на сторону коммунистов. Ей возразили, что этих ее старых подруг теперь заклеймили как контрреволюционерок. Мама не принадлежала ни к одной из категорий преступников, но ей задавали один и тот же вопрос: почему у вас было так много знакомств среди членов Гоминьдана?
Ее держали в заключении шесть месяцев. За это время она присутствовала на нескольких массовых митингах, когда «вражеских агентов» прогоняли по улицам, объявляли приговор, заковывали в наручники и уводили в тюрьму — все это среди громовых лозунгов и десятков тысяч поднятых кулаков. Были и «раскаявшиеся контрреволюционеры», которым назначалось «мягкое наказание» — то есть не тюрьма. Среди них была мамина подруга. После митинга она совершила самоубийство, потому что на допросе в отчаянии оговорила себя. Через семь лет партия признала ее полную невиновность.
Маму водили на «поучительные» митинги. Однако, отличаясь сильным характером, она не сломалась, как очень многие, не дала запутать себя обманчивой логичностью и «мягкими убеждениями». Она сохраняла ясную голову и правдиво излагала историю своей жизни.
Долгие ночи она лежала без сна и не могла заглушить в себе горечь. Под жужжание комаров за сеткой марлевого полога знойным летом, под стук осеннего дождя о стекло, под влажное молчание зимы она раздумывала о несправедливости подозрений — особенно о заключении в гоминьдановской тюрьме. Она гордилась тем, как вела себя тогда, и представить не могла, что однажды это станет поводом для отлучения ее от революции.
Но затем она начинала убеждать себя, что не должна упрекать партию за стремление сохранить чистоту рядов. Китайцы были до некоторой степени привычны к несправедливости. Сейчас, по крайней мере, несправедливость совершалась во имя высокой цели. Она повторяла слова, с которыми партия требовала от своих членов самопожертвования: «Вам предстоит испытание; страдание сделает вас настоящим коммунистом».
Она думала о возможности объявления ее «контрреволюционеркой». Это могло запятнать детей, разрушить наши жизни. Спасти нас от такой участи она могла только через развод с отцом и «отказ» от нас. Размышляя по ночам об этих мрачных перспективах, она научилась не проливать слез. Нельзя было даже ворочаться: «соседка» спала вместе с ней и, несмотря на все свое дружелюбие, обязана доносить обо всем. Слезы воспринимались как знак обиды на партию, разочарование в ней. И первое и второе считалось недопустимым и могло отрицательно повлиять на окончательный вердикт.
Мама стискивала зубы и приказывала себе сохранять веру в партию. Но никакие самовнушения не могли искоренить тоску по семье, особенно по детям. Отец ни разу не написал ей, не навестил ее — это было запрещено. А ведь тогда она больше всего нуждалась в дружеском плече, любящем слове.
Но ей звонили. С другого конца провода звучали шутки и слова доверия, поддерживавшие в ней присутствие духа. Единственный телефон во всем отделе стоял на столе женщины, ведавшей секретными документами. Когда маме звонили, «соседки» стояли в комнате, но, симпатизируя ей, давали понять, что не слушают. Хозяйка стола не входила в группу расследователей и не должна была доносить о содержании маминых разговоров. Сопровождающие всегда старались сделать так, чтобы звонки не вызвали новых подозрений. Они писали: «Звонил заведующий Чжан. Обсуждали семейные дела». Ходили слухи о том, какой он внимательный супруг, как заботится о маме, как любит ее. Одна из молодых маминых опекунш призналась ей, что хотела бы выйти замуж за такого хорошего человека, как мой отец.
Никто не знал, что звонил не отец, а другой высокопоставленный чиновник, перешедший на сторону коммунистов из Гоминьдана во время войны с Японией. Из–за своего прошлого он в 1947 году попал в коммунистическую тюрьму, однако позднее его оправдали. Чтобы обнадежить маму, он рассказывал ей о пережитом. Он стал ее другом на всю жизнь. Отец за шесть долгих месяцев не позвонил ни разу. Он знал по опыту, что партия предпочитает, чтобы люди в таких случаях не имели контакта ни с кем, даже с мужем или женой. Он считал, что ободрить маму значит проявить недоверие к партии. Мама никогда не могла ему простить, что он покинул ее в то время, когда ей больше всего требовались любовь и поддержка. Он в очередной раз доказал, что главное для него — партия.
Как–то январским утром маму, которая тоскливо рассматривала траву, дрожащую под унылым дождем, и жасмин, увивающий подпорки молодыми зелеными побегами, позвали к главному следователю, товарищу Куану. Он сообщил, что ей дозволено вернуться на работу и заключение окончено. Но каждый вечер ей надлежало отмечаться. Партия так и не пришла к окончательному решению.
Мама поняла, что расследование завязло. Большинство подозрений не удалось ни доказать, ни опровергнуть. Хотя такой исход ее не устраивал, она отбросила эту мысль, ликуя, что впервые за шесть месяцев увидит детей.
Отец приходил к нам в ясли крайне редко. Он постоянно пропадал в деревне. Изредка возвращаясь в Чэнду, он поручал телохранителю на субботу забирать нас с сестрой домой. Он никогда не брал одновременно обоих братьев из опасения не справиться с ними — они были слишком маленькие. «Домом» был его кабинет. Когда нас приводили туда, он всегда уходил на какое–нибудь заседание, и телохранитель запирал нас в кабинете, где делать было нечего, разве что пускать мыльные пузыри. Как–то я от скуки выпила стакан мыльной воды, после чего долго болела.
Первое, что мама сделала, выйдя на свободу, — понеслась на велосипеде в наши ясли. Особенно она волновалась за Цзиньмина, которому исполнилось два с половиной года, а она его почти не знала. Но за шесть месяцев велосипедные шины сдулись, и едва мама выехала за ворота, как пришлось их накачивать. Еще никогда в жизни она не испытывала такого нетерпения; едва держа себя в руках, она вышагивала вокруг мастерской, пока мастер с чудовищной, как ей казалось, неторопливостью постукивал насосом.
Сначала она помчалась к Цзиньмину. Воспитательница посмотрела на нее холодно. Цзиньмин, сказала она, один из очень немногих, кого оставляли на выходные. Отец почти не навещал его и никогда не брал домой. Сначала Цзиньмин просился к «маме Чэнь». «Это ведь не вы?» — спросила воспитательница. Мама пояснила, что «мама Чэнь» — его кормилица. Потом Цзиньмин прятался в угловой комнатке, когда за другими детьми приходили родители. «Вы, наверно, мачеха», — сурово предположила воспитательница. Мама не могла сказать ей правду.
Когда Цзиньмина привели, он жался к стене и не хотел идти к маме — молча стоял, отказываясь на нее смотреть. Мама вынула персики, стала их чистить и все это время уговаривала его подойти. Но Цзиньмин не шевелился. Пришлось положить персики на носовой платок и подтолкнуть на другой конец стола.
Как только она убрала руку, Цзиньмин схватил персик и мигом проглотил его. Потом взял второй. Все три персика исчезли молниеносно. Впервые со времени заключения мама дала волю слезам.
Я помню, как она пришла ко мне. Почти четырехлетняя, я сидела в своей деревянной кроватке, похожей на клетку. Одну решетку опустили, и мама могла держать меня за руку, пока я засыпаю. Но я хотела все ей рассказать о своих приключениях и шалостях. Я боялась, что как только засну, она опять исчезнет навсегда. Каждый раз, когда она, думая, что я уснула, вынимала свою руку из моей, я снова хваталась за нее и заливалась слезами. Мама оставалась до полуночи. Когда она засобиралась, я закричала, но она вырвалась. Я не знала, что ей пора отмечаться.
11. «После кампании против правых элементов никто не открывает рта»: Молчание Китая (1956–1958)
Поскольку теперь у нас не было кормилиц, а мама каждый вечер ходила отмечаться, мы, дети, оставались в яслях. Мама не смогла бы сидеть с нами в любом случае. Она была слишком погружена в «забег к коммунизму» — как пелось в официальной песне — вместе с остальными китайскими гражданами.
В то время, когда мама находилась в изоляции, Мао решил еще стремительнее изменить лицо Китая. В июле 1955 года он призвал ускорить коллективизацию, а в ноябре вдруг объявил, что вся промышленность и торговля, до сих пор находившиеся в частных руках, должны быть национализированы.
Мама сразу оказалась в гуще этого движения. Теоретически государство владело предприятиями совместно с прежними собственниками, которые должны были получать пять процентов стоимости своего дела ежегодно в течение двадцати лет. Так как официально инфляции не существовало, считалось, что это полностью компенсирует их потери. Бывшие хозяева оставались в роли управляющих с довольно высокой зарплатой, но над ними стоял партийный начальник.
Мама возглавляла рабочую группу, осуществлявшую национализацию более сотни пищевых предприятий, пекарен и ресторанов в ее районе. Хотя она по–прежнему отмечалась и не могла даже спать в своей собственной постели, ей доверили эту важную задачу.
Партия навесила на нее ярлык: «кунчжи шиюн», то есть «использовать под контролем и наблюдением». Это обстоятельство не предали гласности, но оно было известно самой маме и людям, разбиравшим ее дело. Члены ее рабочей группы знали, что ее изолировали на полгода, но не знали, что она до сих пор под надзором.
Когда маму отправили в заключение, она написала бабушке письмо с просьбой задержаться в Маньчжурии. Она выдумала какой–то предлог, чтобы бабушка не огорчалась из–за ее ареста.
Когда началась программа по национализации, бабушка была в Цзиньчжоу; программа затронула и ее. После того как они с доктором Ся в 1951 году уехали из Цзиньчжоу, его аптечной лавкой управлял ее брат, Юйлинь. Когда в 1952 году доктор Ся умер, лавка перешла в бабушкину собственность. Теперь государство собиралось выкупить ее. Каждое предприятие оценивала комиссия из членов рабочей группы, представителей работников и управляющих. Они давали имуществу «честную цену», обычно заниженную — чтобы угодить властям. За лавку доктора Ся назначили смехотворную цену, но в этом содержалось и преимущество для бабушки: ее отнесли к категории «мелких капиталистов», что делало ее существование спокойнее. Она не обрадовалась этой замаскированной экспроприации, но оставила свои мысли при себе.
Частью кампании были организованные шествия с барабанами и гонгами и бесконечные собрания, в том числе и для капиталистов. Бабушка видела, что все они хотят продать свою собственность государству и даже благодарят за это. Многие говорили, что ожидали худшего. В Советском Союзе, как они слышали, собственность просто конфисковали. В Китае выплачивали компенсацию, кроме того, государство не обязывало их передать дело. Они должны были сами этого хотеть. Все, разумеется, хотели.
Бабушка не знала, что ей думать — возмущаться идеей, которой посвятила себя ее дочь или радоваться своей судьбе, как велено. Доктор Ся положил много сил на создание лавки, она кормила их с дочерью. Бабушке не нравилось, что теперь лавка уходит непонятно в чьи руки.
За четыре года до этого, во время войны в Корее, правительство призвало народ жертвовать ценности на покупку истребителей. Бабушка не хотела отдавать драгоценности, подаренные ей генералом Сюэ и доктором Ся, не раз спасавшие ее от голода. К тому же они были дороги ей как воспоминание. Но мама присоединила свой голос к голосу правительства. Она считала, что украшения — символ отжившего прошлого, соглашалась с партией, что они — плоды «эксплуатации народа» и должны быть ему возвращены. Не забыла она и обычные, но малопонятные бабушке слова о необходимости защитить Китай от вторжения «американских империалистов». Последним аргументом было: «Мама, зачем тебе эти побрякушки? Никто таких больше не носит. Продавать их тебе не придется. С коммунистической партией Китай не будет бедным. Чего ты боишься? В любом случае, у тебя есть я. Я уговариваю других делать пожертвования. Это часть моей работы. Как я могу просить об этом их, если моя собственная мать ведет себя иначе?» Бабушка подчинилась. Для дочери она была готова на все. Она сдала все драгоценности, кроме пары золотых серег и золотого кольца — свадебных подарков доктора Ся. Она получила от правительства квитанцию и множество похвал за «пламенный патриотизм».
Но она продолжала огорчаться из–за потери драгоценностей, хотя и скрывала свои чувства. Правда, помимо чувств, существовали и весьма практические соображения. Бабушка прожила тяжелую жизнь. Можно ли верить, что коммунистическая партия будет заботиться обо всех вечно?
Теперь, четыре года спустя, ей опять пришлось отдавать государству то, что она предпочла бы оставить при себе, последнее свое имущество. На этот раз у нее фактически не было выбора. Но она активно сотрудничала с властями. Она не хотела ни подводить, ни огорчать дочь.
Национализация лавки представляла собой долгий процесс, и пока он тянулся, бабушка оставалась в Маньчжурии. Мама в любом случае не хотела ее возвращения в Сычуань до своего окончательного освобождения и разрешения ей жить дома. Маму избавили от необходимости отмечаться и предоставили ей свободу передвижения только летом 1956 года. Однако и тогда ее дело не было прекращено.
Решение пришло в конце года. Вердикт партийной организации Чэнду гласил, что маминому рассказу поверили и что она не связана политически с Гоминьданом. Это была полная реабилитация. Мама испытала невероятное облегчение, зная, что расследование, как часто случалось, могли оставить открытым из–за «недостатка доказательств». Это запятнало бы ее на всю жизнь. Теперь всё позади, думала она. Она была очень благодарна товарищу Куану, возглавлявшему рабочую группу. Обычно чиновники предпочитали «перебдеть, чем недобдеть», чтобы защитить самих себя. Товарищу Куану потребовалось мужество поверить маминым объяснениям.
После полутора лет терзаний в маминой жизни снова засияло солнце. Ей повезло. В ходе кампании более 160 000 человек объявили «контрреволюционерами» и разрушили им жизнь на три десятилетия. Среди них были мамины друзья в Цзиньчжоу, вступившие когда–то в гоминьдановскую Молодежную лигу. Их скопом заклеймили как «контрреволюционеров», уволили с работы и сослали в деревню.
Кампания, истребившая последние остатки гоминьдановского прошлого, на первый план выдвигала происхождение и семейные связи. На протяжении всей истории Китая, когда осуждался один человек, нередко казнили целый клан — мужчин, женщин, детей, даже новорожденных. Казнь могла распространяться на девять колен (чжу лянь цзю цзу). Обвиненный в преступлении подвергал опасности жизнь всех соседей.
До сих пор коммунисты допускали в свои ряды людей с «неблагонадежным» прошлым. Многие сыновья и дочери их врагов заняли высокие должности. На самом деле, большинство ранних коммунистических лидеров происходили из «плохих» семей. Однако после 1955 года происхождение приобрело огромную важность. Мао затевал все новые охоты на ведьм, количество жертв росло как снежный ком, и каждая тянула за собой множество других, в первую очередь семьи. Несмотря на множество личных трагедий, железный контроль привел к тому, что для Китая 1956 год стал самым стабильным в XX веке. Иностранная оккупация, гражданская война, голодная смерть, бандиты, инфляция — всё, казалось, отошло в прошлое. Стабильность, извечная мечта китайцев, поддерживала веру в таких людях, как мама, несмотря на все переживаемые ими трудности.
Летом 1956 года в Чэнду вернулась бабушка. Первым делом она устремилась в ясли и забрала нас оттуда. Бабушка глубоко презирала ясли. Она считала, что в группе о детях никогда как следует не позаботятся. Мы с сестрой выглядели неплохо, но, едва завидев ее, закричали и потребовали отвести нас домой. Мальчики представляли более грустную картину: воспитательница Цзиньмина жаловалась, что он погружен в себя и ни одному взрослому не разрешает к себе прикоснуться. Он тихо, но упорно просился к своей кормилице. Увидев Сяохэя, бабушка расплакалась. Он был похож на марионетку — с бессмысленной улыбкой на лице оставался в той позе, какую ему придавали: сидел, стоял и не шевелился, не умел проситься в туалет и, казалось, даже не знал, как плачут. Бабушка заключила его в объятья, и он немедленно стал ее любимчиком.
В маминой квартире бабушка дала волю гневу и возмущению. Сквозь слезы она называла моих отца и мать «бессердечными родителями». Она не подозревала, что у мамы не было выбора.
Бабушка не могла сидеть со всеми четырьмя детьми, поэтому во время рабочей недели старшие, то есть мы с сестрой по–прежнему ходили в ясли. В понедельник утром отец с телохранителем поднимали нас на плечи и уносили, как мы ни орали, ни кричали и ни дергали их за волосы.
Так продолжалось какое–то время. Затем я подсознательно придумала форму сопротивления. В яслях я стала заболевать с высокой температурой, пугавшей врачей. Едва я оказывалась дома, болезнь чудесным образом проходила. В конце концов нас с сестрой тоже стали оставлять дома.
Для бабушки цветы, деревья, облака, дождь были живыми существами с сердцем, слезами и нравственным чувством. Нас могло спасти лишь следование старому китайскому правилу: дети должны «слушать слова», то есть слушаться. Когда мы ели апельсины, бабушка не велела глотать косточки: «Если не послушаете меня, однажды не влезете в дом. Каждая косточка — маленькое апельсиновое деревце, и оно, так же, как вы, хочет вырасти. Оно будет расти у вас в животе, а потом вдруг — айя! — прорастет сквозь макушку. У него будут листья, апельсины, оно вырастет выше нашей двери...»
Идея ходить с апельсиновым деревцем на голове так меня увлекла, что однажды я нарочно проглотила косточку — только одну, я не хотела таскать на голове целый сад. Весь день я беспокойно ощупывала голову, не треснула ли она. Несколько раз я чуть не спросила бабушку, разрешат ли мне есть апельсины с собственной головы, но сдерживалась, чтобы она не догадалась, что я ее не послушалась. Я решила, что, когда она увидит дерево, притворюсь, будто оно выросло по случайности. Той ночью я плохо спала. Я чувствовала внутри своего черепа какие–то толчки.
Но обычно я крепко засыпала после бабушкиных историй. Она знала их множество из классической китайской оперы. К тому же у нас было много книжек о животных и птицах, с мифами и сказками. Из иностранных книг мы читали сказки Ганса Христиана Андерсена, басни Эзопа, «Красную шапочку», «Белоснежку и семь гномов», «Золушку».
Любила я и детские стихи. С них началось мое знакомство с поэзией. Китайский язык основан на тонах, которые придают стихам особую музыкальность. Меня завораживали древние стихи в бабушкином исполнении, хотя я не понимала их смысла. Она читала их в традиционной манере: протяжно и нараспев с модуляциями. Однажды мама услышала, как бабушка читает нам стихи, написанные примерно в 500–м году до нашей эры. Мама подумала, что это для нас слишком сложно, и попыталась остановить ее. Но бабушка настояла на своем: нам не обязательно понимать, достаточно почувствовать музыку. Она часто жалела, что оставила свою цитру, когда двадцать лет назад уехала из Исяня.
Братьев сказки на ночь и стихи интересовали меньше. Но сестра, с которой мы жили в одной комнате, тоже любила эти истории. У нее была поразительная память. В трехлетнем возрасте она всех потрясла, когда без единой ошибки продекламировала длинную пушкинскую «Сказку о рыбаке и рыбке».
В нашей семье царила атмосфера любви. Как бы мама ни сердилась на отца, она редко с ним ссорилась, во всяком случае при детях. Теперь, когда мы подросли, отец редко к нам прикасался. Не принято было, чтобы отец брал детей на руки, целовал и обнимал. Он часто катал мальчиков на шее, хлопал их по плечу, трепал по волосам, но с нами, девочками, редко так себя вел. После трех лет он осторожно поднимал нас за подмышки, строго придерживаясь китайского обычая, запрещавшего близкий контакт с дочерьми. Он не входил в комнату, где спали мы с сестрой, без нашего разрешения.
Мама тоже ласкала нас меньше, чем ей хотелось. Она подпадала под другой набор правил, определявший пуританский образ жизни коммунистов. В начале 1950–х коммунистке следовало отдавать все свои силы и время народу и революции, и нежность к детям вызывала сомнения в преданности идее. Все время, за исключением часов, уходивших на еду и сон, принадлежало революции, то есть посвящалось работе. От всего не относящегося к революции, например, ношения детей на руках, следовало избавиться как можно скорее.
Сначала мама не могла к этому привыкнуть. Товарищи по партии вечно критиковали ее за «чрезмерное внимание к семье». Постепенно ей привили привычку работать непрерывно. Когда она вечером приходила домой, мы давно уже спали. Она садилась рядом с нашими кроватями, смотрела на наши лица, слушала спокойное дыхание. Это было счастливейшим мгновением ее дня.
В свободную минуту она нас тискала, тормошила, щекотала, особенно локти, нам это очень нравилось. Настоящим раем для меня было, когда я клала ей голову на колени, а она поглаживала внутреннюю сторону моих ушей. Китайцы всегда любили такой массаж. Я помню, как в моем детстве мастера носили подставку, на одном конце которой крепился бамбуковый стул, а с другого свисали гроздьями маленькие пушистые ушные палочки.
Начиная с 1956 года чиновники стали отдыхать по воскресеньям. Родители водили нас в парки, на детские площадки, где мы катались на простых и круговых качелях и съезжали с травяных горок. Я помню, как однажды лихо скатилась вниз, рассчитывая попасть в родительские объятия, но вместо этого врезалась по очереди в два дерева.
Бабушку все еще ужасало, как редко родители бывают дома. «Что это за родители такие», — вздыхала она, качая головой. Она старалась возместить это своей неустанной заботой, но не могла справиться с четырьмя детьми. Мама пригласила к нам тетю Цзюньин. Они с бабушкой жили душа в душу, и гармония не нарушилась, когда в начале 1957 года у нас поселилась домработница. Это совпало с нашим переездом в новую квартиру, бывшее жилище христианского викария. Отец присоединился к нам, и мы впервые сошлись под одной крышей.
Домработнице было восемнадцать лет. Впервые она появилась в нашем доме в хлопковой кофте с крупными цветами и широких штанах, слишком ярких на взгляд горожан, которые из снобизма и соображений коммунистической морали одевались неброско. Женщины в городе подражали русской моде, но наша домработница продолжала носить крестьянскую рубаху, которая застегивалась на сторону, с матерчатыми пуговицами вместо новых пластмассовых. Взамен ремня она подвязывала штаны веревкой. Многие девушки из села переходили на городские наряды, чтобы не выглядеть «деревенскими пугалами», но домработница не обращала никакого внимания на одежду, что говорило о сильном характере. У нее были большие грубые руки, робкая честная улыбка на смуглом загорелом лице и ямочки на розовых щеках. Вся семья тут же влюбилась в нее. Она ела вместе с нами и вместе с бабушкой и тетей работала по дому. Бабушка была счастлива обрести двух подруг и наперсниц, ведь мамы никогда не было дома.
Домработница происходила из семьи помещика и сделала все, чтобы вырваться из деревни, где она подвергалась непрерывной дискриминации. В 1957 году вновь стало возможно брать на службу людей с «плохим происхождением». Кампания 1955 года закончилась, жизнь стала спокойнее.
Коммунисты учредили систему обязательной регистрации по месту жительства. Только прописанные в городе получали паек. У домработницы была деревенская прописка, поэтому, живя у нас, она не получала от государства никакой еды, но нашей семье хватало пайков, чтобы прокормить и ее. Через год мама помогла ей прописаться в Чэнду.
Мы платили ей зарплату. Систему государственного содержания отменили в конце 1956 года, тогда же у отца забрали телохранителя, заменив работником, который обслуживал его и других руководителей на службе, например, подавал чай и вызывал машину. Теперь родители получали зарплату в соответствии со своим разрядом. Мама имела 17–й разряд, а отец 10–й, таким образом, он получал вдвое больше, чем она. Товары первой необходимости стоили дешево, понятия «общество потребления» не существовало, поэтому их дохода вполне хватало. Отец относился к особой категории «гаогань», высокопоставленных чиновников, этот термин применялся к служащим 13–го разряда и выше. В Сычуани таковых было около двухсот. Служащих с 10–м разрядом или выше, при населении в 72 000 000, во всей провинции было меньше двадцати человек.
Осенью 1956 года Мао объявил политику «ста цветов», получившую название от выражения «пусть расцветают сто цветов», что в теории означало большую свободу для искусства, литературы и науки. Партия хотела привлечь на свою сторону китайскую интеллигенцию, понадобившуюся государству в период перехода от восстановления к индустриализации.
Общий уровень образования в стране был крайне низкий. Население было огромным — около 600 000 000, но мало кто из этих людей жил достойно. Страной всегда управляла диктатура, державшая народ в темноте, а следовательно, в повиновении. Существовала и языковая проблема: китайское письмо слишком сложное. Оно основано на десятках тысяч знаков, не связанных со звучанием, из множества черт, каждый иероглиф приходится запоминать отдельно. Сотни миллионов не умели читать и писать.
Человек хоть с каким–то образованием уже считался «интеллигентом». При коммунистах с их классовым подходом «интеллигенты» стали особой, хотя и расплывчатой категорией, включавшей медсестер, студентов, актеров, а также инженеров, техников, писателей, учителей, врачей, ученых.
Во время политики «ста цветов» страна около года жила в атмосфере относительной свободы. Затем, весной 1957 года, партия призвала интеллигентов критиковать власти, включая ее высшие эшелоны. Мама думала, что это будет способствовать дальнейшей либерализации. После речи Мао, которую постепенно довели до госслужащих ее уровня, она так растрогалась, что не спала всю ночь. Она думала, что у Китая будет современная демократическая партия, открытая живительной критике. Она гордилась тем, что она коммунистка.
Когда маминым коллегам сообщили о речи Мао относительно критики чиновников, им не рассказали о другом его указании, сделанном примерно в то же время — о «выманивании змей из нор», то есть разоблачении всех, кто осмелится перечить ему и его режиму. Годом ранее советский лидер Хрущев осудил Сталина в своем «секретном докладе», и это потрясло Мао, отождествлявшего себя со Сталиным. Еще более насторожило его осеннее восстание в Венгрии — первая успешная, хотя и недолговременная, попытка свергнуть коммунистическую власть. Мао знал, что значительная доля образованных людей в Китае выступали за умеренность и либерализацию. Он желал предотвратить «китайское венгерское восстание». На самом деле он фактически признался венгерскому руководству, что его просьба критики — ловушка, которую он оставил несмотря на предложение коллег сменить курс, — оставил, чтобы «выкурить из норы» всех несогласных до единого.
Его не беспокоили рабочие и крестьяне, он не сомневался, что они благодарны коммунистам за верную плошку риса и стабильную жизнь. Кроме того, оно глубоко презирал их — не верил, что им хватит ума бросить вызов его власти. Однако Мао никогда не доверял интеллигенции. Она сыграла большую роль в венгерских событиях и умела мыслить самостоятельно в большей степени, чем все остальные.
Не зная о тайных планах Мао, чиновники соревновались в возможности подвергнуться критике, а интеллектуалы — в том, чтобы их покритиковать. По словам Мао, им следовало «говорить все, что они хотят сказать, без утайки». Мама с энтузиазмом повторяла это в школах, больницах и театральных труппах, бывших у нее в подчинении. На встречах, в стенгазетах предавались гласности самые разные мнения. Известные люди подали пример, опубликовав критические статьи в газетах.
Маму, как почти всех, покритиковали. Основная критика исходила от тех, кто жаловались, что она выделяет «ключевые» школы. В Китае существовали официально утвержденные школы и университеты, которым государство выделяло львиную долю своих скудных ресурсов. Сюда посылались лучшие учителя, направлялась лучшая техника, отбирались лучшие ученики, что означало больший процент поступления в университеты, тоже «ключевые». Некоторые учителя из обычных школ сетовали, что мама уделяет слишком много внимания «ключевым» школам за их счет.
Учителям также присваивались категории. Хорошим учителям давали почетные звания, обеспечивавшие им гораздо более высокую зарплату, особый паек во времена дефицита, лучшее жилье и бесплатные билеты в театр. Большинство учителей особой категории в мамином ведении происходили из «неблагонадежных» семей, и некоторые простые учителя жаловались, что мама уделяет слишком много внимания профессионализму в ущерб «классовому происхождению». Мама выступила с самокритикой в связи со своим пристрастием к «ключевым» школам, но подчеркнула, что считает правильным при продвижении подчиненных по службе исходить из их профессиональных достоинств.
Была критика, которую мама с презрением проигнорировала. Директриса одной начальной школы вступила в компартию в 1945 году — раньше, чем мама, и переживала, что мама ею руководит. Эта женщина заявила, что мама получила работу исключительно благодаря положению своего мужа.
Звучали и иные жалобы: директора добивались права самостоятельно подбирать учителей, а не принимать назначенных администрацией. Главные врачи больниц хотели сами покупать травы и прочие лекарства, так как государство не поставляло необходимые им средства. Хирурги требовали увеличения пайков: они считали, что их работа забирает не меньше сил, чем у актера–мастера боевых искусств в китайской опере, но паек у них был на четверть меньше. Чиновник невысокого ранга оплакивал исчезновение с рынков Чэнду традиционных товаров вроде «ножниц рябого Вэна» или «щеток бородатого Ху», которые заменил ширпотреб худшего качества. Мама соглашалась со многими из этих претензий, но здесь все зависело от государственной политики, и она могла лишь передать их наверх.
Критика, часто связанная с личными жалобами или практическими предложениями неполитического характера, процветала около месяца до начала лета 1957 года. В начале июня речь Мао о «выманивании змей из их нор» устно изложили работникам маминого уровня.
В речи Мао заявил, что «правые элементы» неистово набросились на коммунистическую партию и социалистическую систему Китая. Он сказал, что правые составляют от одного до десяти процентов интеллигентов — и их нужно разгромить. Для простоты картины была установлена средняя цифра — пять процентов; именно столько правых следовало поймать. Маме предстояло найти среди своих подчиненных более ста правых элементов.
Не вся критика, которую она услышала, обрадовала ее. Но мало что можно было счесть даже отдаленно «антикоммунистическим» и «антисоциалистическим». Судя по газетам, кто–то покушался на монополию коммунистов и социалистическую систему. Но в ее школах и больницах никто не мыслил подобными масштабами. Откуда же ей было взять правые элементы?
Кроме того, рассуждала она, нечестно наказывать людей, открывших рты после того, как им предложили, даже попросили их это сделать. Мао прямо обещал, что за откровенные выступления людям ничего не грозит. Она сама с энтузиазмом убеждала трудящихся высказываться.
С такой же трудностью столкнулись миллионы чиновников по всему Китаю. В Чэнду движение против правых элементов начиналось со скрипом. Власти провинции решили наказать для примера товарища Хао, партсекретаря научно–исследовательского института, где работали лучшие ученые Сычуани. От него ожидался большой улов правых, но он заявил, что в институте нет ни одного. «Возможно ли это? — спросило его начальство. — Некоторые исследователи учились на Западе. Их испортило западное общество. Как они могут радоваться коммунистической власти? Среди них, несомненно, есть правые элементы». Товарищ Хао сказал, что они добровольно приехали в Китай, а значит, приняли народную власть. Он даже лично за них поручился. Несколько раз его предупреждали, а в конце концов самого объявили правым, исключили из партии и уволили с работы, резко понизив ему разряд. Теперь он за маленькую зарплату подметал лаборатории в институте, которым раньше руководил.
Мама знала товарища Хао и восхищалась его принципиальностью. Они близкие друзья по сей день. Беседуя с ним вечерами, мама делилась с бывшим партсекретарем своими сомнениями. Но понимала, что с ней случится то же самое, если она не выполнит норму.
Каждый вечер, после обычных изнуряющих собраний, мама докладывала городским партийным властям о ходе кампании. В Чэнду движение возглавлял товарищ Ин, высокий худой самоуверенный мужчина. Мама должна была отрапортовать ему, сколько правых элементов она поймала. Имена не требовались — значение имели только цифры.
Но где ей было взять сотню с лишним «антикоммунистических, антисоциалистических правых элементов»? Наконец один из ее заместителей, товарищ Кун, отвечавший за образование в восточном районе, объявил, что директрисы нескольких школ нашли среди своих учителей правых. У одной учительницы начальной школы муж, офицер Гоминьдана, погиб в гражданскую войну. Она сказала что–то вроде: «Сейчас Китай беднее, чем раньше». Однажды она поругалась с директрисой, которая отчитала ее за недостаток усердия. Учительница разозлилась и ударила директрису. Другие учителя попытались ее остановить и напомнили, что директриса ждет ребенка. Как рассказывали, учительница закричала, что «одним коммунистическим выродком будет меньше».
Другая учительница, муж которой бежал на Тайвань вместе с Гоминьданом, хвасталась драгоценностями, которые подарил ей муж; она надеялась, что коллеги позавидуют ее прежней жизни. Еще она жалела, что американцы не выиграли войну в Корее и не вторглись в Китай.
Товарищ Кун сказал, что проверил факты. Мама не могла провести дополнительное расследование: осторожность расценили бы как попытку защитить правых и усомниться в честности своих сослуживцев.
Главные врачи и заместитель по здравоохранению не назвали правых, но нескольких врачей городские власти Чэнду объявили таковыми за критические выступления на собраниях, организованных горкомом ранее.
Правых элементов не набралось и десятка, до нормы было далеко. К этому моменту товарищу Ину надоела вялость мамы и ее коллег, он предупредил, что, раз она не может найти правых, она сама — «кандидатка в правые». Клеймо «правого элемента» грозило не только изгнанием из партийных рядов и увольнением с работы, но, самое страшное, дискриминацией по отношению к детям и всей семье жертвы; они теряли надежду на будущее. Над детьми издевались в школе и на их улице. Уличные комитеты шпионили за такими семьями — высматривали, кто к ним ходит. Если правого посылали в деревню, ему и его родне давали самую тяжелую работу. Однако никто не знал всех последствий, и эта неопределенность ужасала сама по себе.
Мама стояла перед выбором. Если бы ее объявили правой, ей пришлось бы либо отказаться от детей, либо разрушить им жизнь. Отца скорее всего заставили бы развестись с ней, в противном случае он тоже оказался бы в черном списке, под вечным подозрением. Даже если бы мама пожертвовала собой и развелась с ним, на семью все равно всегда смотрели бы косо. Но ценой спасения себя и своей семьи было счастье сотни невинных людей и их родственников.
Мама не обсуждала происходящее с отцом. Что он мог предложить? Ее злило, что высокий пост избавляет его от необходимости рассматривать конкретные случаи. Эти мучительные решения принимали работники низшего и среднего звена: товарищ Ин, мама, ее заместители, директрисы, главные врачи.
В мамином ведении находилось педагогическое училище № 2. Студенты педучилищ получали стипендию, покрывавшую плату за обучение и жилье, что, естественно, привлекало людей из бедных семей. Недавно построили первую железную дорогу, связывающую Сычуань, «житницу Поднебесной», с остальным Китаем. В результате из Сычуани внезапно вывезли большое количество продовольствия, и за ночь цены на многие продукты выросли вдвое и даже втрое. Студенты педучилища устроили демонстрацию с требованием повысить стипендию. Товарищ Ин сравнил эту акцию с действиями кружка Петефи во время восстания в Венгрии и назвал студентов «единомышленниками венгерских интеллектуалов». Он приказал всех студентов, участвовавших в демонстрации, записать в правые элементы. В училище было примерно 300 студентов, 130 из них приняли участие в демонстрации. Хотя училище не входило в мамину компетенцию — она ведала лишь начальными школами — городские власти решили засчитать студентов в ее квоту.
Однако маме не простили недостаток инициативы. Товарищ Ин затеял расследование, не является ли она правым элементом, но не успел предпринять никаких шагов, так как правым объявили его самого.
В марте 1957 года он ездил в Пекин на конференцию глав провинциальных и городских отделов пропаганды со всего Китая. Во время групповых обсуждений делегатов призывали смело говорить обо всех недостатках в руководстве их регионами. Товарищ Ин выразил легкое недовольство первым секретарем Сычуани, Ли Цзинцюанем, известным как комиссар Ли. Отец возглавлял сычуаньскую делегацию, и именно в его обязанности входило написать обычный отчет о поездке. Когда началась кампания против правых, комиссар Ли подумал, что ему не нравятся слова товарища
Ина. Он решил обсудить это с заместителем главы делегации, но выяснилось, что тот во время выступления товарища Ина предусмотрительно вышел в туалет. Когда кампания приобрела размах, комиссар Ли заклеймил товарища Ина как правого. Это известие крайне расстроило отца, его мучила мысль, что он отчасти виноват в падении товарища Ина. Мама пыталась успокоить его: «Ты ни в чем не виноват!» Но отец не переставал терзаться по этому поводу.
Многие чиновники использовали кампанию для сведения личных счетов. Одни считали, что зачислить в правые своих врагов — простейший путь заполнить квоту. Другие действовали исключительно из мстительности. В Ибине Тины уничтожили многих талантливых людей, тех, с кем они не ладили, к кому ревновали. Почти все помощники отца, некогда выдвинутые им, попали в правые. Один из них, любимец отца, оказался «крайне правым». Его преступление заключалось в одной–единственной реплике о том, что Китай не должен «целиком» полагаться на Советский Союз. (В то время партия провозглашала, что должен.) Его приговорили к трем годам лагеря. Он строил дорогу в глухом горном районе. Многие его товарищи погибли.
Движение против правых не затронуло всего общества. Рабочие и крестьяне жили как прежде. Когда через год кампания закончилась, по меньшей мере 550 000 человек заклеймили как правых — это были студенты, учителя, писатели, художники, ученые и другие профессионалы. Многие из них потеряли работу и стали чернорабочими на фабриках или фермах. Некоторых отправили в лагеря. И сами они, и их родственники превратились в граждан второго сорта. Урок был жестокий и внятный: никакой критики не потерпят. С тех пор люди перестали жаловаться и вообще высказывать свое мнение. Ситуацию отражала новая поговорка: «После движения против трех зол никто не хочет иметь дело с деньгами; после движения против правых элементов никто не раскрывает рта». Но трагедия 1957 года заключалась не только в том, что людям заткнули рты. Теперь неизвестно было, кто следующий упадет в пропасть. Система квот в сочетании с актами личной мести означала, что жертвой может стать каждый.
Общественные настроения отражались в языке: среди разновидностей правых были «правые по жребию» (чоуцянь юпай, когда правых действительно определяли по жребию), «правые–туалетчики» (цэсо юпай, люди, объявленные правыми во время их отсутствия, пока они, не выдержав, уходили с бесконечного собрания в туалет). Выделялась также категория «скрывающих яд» (юду буфан, люди, которых причисляли к правым несмотря на то, что они ни против кого не выступали). Когда начальнику кто–то не нравился, он говорил: «Какой–то он подозрительный» или: «Коммунисты казнили его отца — разве мог он не затаить злобу? Он просто не признается в этом». Добрые начальники иногда поступали наоборот: «Зачем мне кого–то ловить? Я не хочу никого ловить. Пусть это буду я». Таких руководителей называли «признавшийся правый» (цзыжэнь юпай).
Для многих 1957 год стал водоразделом. Мама по–прежнему не сомневалась в коммунистической идее, но стала задавать себе вопросы по поводу воплощения этих идей в жизнь. Она обсуждала свои сомнения с другом, товарищем Хао, пострадавшим директором института, но никогда — с моим отцом, не потому, что у него не было сомнений, но потому, что он никогда не стал бы обсуждать их с мамой. Партийные правила подобно военному приказу запрещали коммунистам обсуждать друг с другом линию партии. В ее уставе говорилось, что коммунист должен беспрекословно повиноваться своей парторганизации и вышестоящим работникам. Все возражения можно было высказывать только начальству — воплощению партийной организации. Эта военная дисциплина, которую коммунисты утверждали с самого начала, стала одной из важнейших причин их успеха, основным инструментом власти, необходимом в обществе, где личные отношения зачастую отменяли все другие законы. Отец всецело подчинялся партийной дисциплине.
Он считал, что революционные завоевания нельзя сохранить, если позволить открыто критиковать их. Нужно держать сторону революции, даже если у нее есть недостатки — раз веришь, что это лучшая из сторон. Единство — категорический императив.
Мама видела, что отец не допустит ее в свои взаимоотношения с партией. Однажды, отважившись сказать что–то критическое и не услышав от него никакого ответа, она горько заметила: «Ты хороший коммунист, но ужасный муж». Отец кивнул и сказал, что он это знает.
Через четырнадцать лет отец поведал нам, детям, что чуть не произошло с ним в 1957 году. Еще в Яньани он близко подружился с известной писательницей Дин Лин. В марте 1957 года, когда он в Пекине возглавлял сычуаньскую делегацию на совещании отделов пропаганды, она прислала ему записку с приглашением навестить ее в Тяньцзине, неподалеку от Пекина. Отец хотел было поехать, но передумал, потому что торопился домой. Через несколько месяцев Дин Лин объявили главной правой во всем Китае. «Если бы я к ней поехал, расправились бы и со мной», — сказал он.
12. «Способная женщина может приготовить обед без риса»: Голод (1958–1962)
Осенью 1958 года, когда мне было шесть лет, я пошла в начальную школу. От дома туда было идти минут двадцать по глинистым переулкам, мощеным булыжником. По дороге в школу и обратно я шла уставившись в землю, высматривая гнутые гвозди, ржавые винтики и прочие мелкие предметы, втоптанные между булыжниками. Все это предназначалось для сталеплавильных печей, ведь главным моим занятием была выплавка стали. Да, в шесть лет я участвовала в производстве стали и соревновалась с одноклассниками в сдаче металлолома. Вокруг из громкоговорителей ревела жизнеутверждающая музыка, на стенах висели знамена, плакаты, лозунги, провозглашавшие: «Да здравствует Большой скачок!» и «Делай сталь!». Я знала, что председатель Мао по не вполне понятной мне причине велел народу выплавить много стали. В нашей школе вместо части котлов для риса на огромные плиты поставили плавильные тигли. Туда бросали весь наш металлолом, включая старые котлы, ныне расколотые на куски. В плитах постоянно поддерживался огонь — до тех пор, пока они не начинали плавиться. Учителя по очереди круглые сутки подбрасывали дрова и помешивали металлолом огромным половником. У нас было мало уроков — учителя редко могли оторваться от тиглей. Вместе с ними работали старшие школьники. Остальные убирали учительские квартиры и сидели с их детьми.
Я помню, как навещала в больнице нашу учительницу, получившую серьезный ожог — ей на руки плеснуло расплавленным металлом. Вокруг носились врачи и медсестры в белых халатах. В больничном дворе стояла сталеплавильная печь, куда они все время бросали поленья, даже во время операций и по ночам.
Вскоре после того, как я пошла в школу, наша семья переехала из старого жилища викария в комплекс зданий провинциальной администрации. Он занимал несколько улиц и состоял из многоквартирных домов, служебных помещений и нескольких особняков. От внешнего мира его отделяла высокая стена. За главными воротами располагался бывший американский военный клуб времен Второй мировой. В 1941 году там бывал Эрнест Хемингуэй. Клуб был построен в традиционном китайском стиле, с загнутой желтой крышей и массивными красными колоннами. Теперь здесь разместили секретариат сычуаньского исполкома.
На автостоянке водрузили огромную печь. По ночам небо пылало и шум толпы, суетящейся вокруг печи, долетал до моей комнаты, находившейся в трехстах метрах оттуда. В печи расплавились наши кастрюли и сковородки. Мы не заметили этой потери, потому что готовить дома теперь запрещалось — все ели в столовых. В ненасытных печах исчезли мягкая родительская кровать с железными пружинами, ограды со всех улиц — всё, что только было сделано из железа. Я не видела родителей месяцами. Часто они вообще не приходили домой, чтобы поддерживать постоянный жар в печах.
В это время Мао решил воплотить свою недоношенную мечту о превращении Китая в ведущую современную державу. Он назвал сталь «маршалом» промышленности и приказал за год увеличить выплавку в два раза: с 5,35 миллионов тонн в 1957 году до 10,7 миллионов тонн в 1958–м. Но вместо того, чтобы расширить металлургическую отрасль за счет привлечения квалифицированных рабочих, он поставил к тиглю все население. Все учреждения приостановили нормальную работу, чтобы выполнить спущенный сверху план. Экономическое развитие страны свели к примитивному вопросу, сколько в ней выплавляется стали. По официальным оценкам, почти 100 000 000 крестьян, которые могли бы дать Китаю продовольствие, оказались вырваны их сельскохозяйственного производства и брошены на производство стали. Горы оголились — деревья пошли на дрова. Конечный продукт этого массового производства народ окрестил «коровьими лепешками» (нюши гэда).
Эта абсурдная ситуация отражала не только невежество Мао в экономических вопросах, но и почти метафизическое пренебрежение действительностью, возможно, интересное в поэте, но в политическом лидере, наделенном абсолютной властью, выглядящее совершенно по–иному. Одной из составляющих этого пренебрежения было глубоко укорененное презрение к человеческой жизни. Незадолго до того он заявил финскому послу: «Даже если бы у США было еще больше атомных бомб и они сбросили их на Китай, пробили бы в Земле дыру или взорвали ее вдребезги, возможно, это имело бы значение для солнечной системы, но мало что значило бы для Вселенной».
Волюнтаризм Мао подпитывали его недавние советские впечатления. В конце 1957 года он побывал в Москве на встрече коммунистических лидеров. И ранее разочарованный Хрущевым, в 1956 году разоблачившим культ личности Сталина, Мао теперь полностью уверился в том, что Россия и ее союзники уходят от социализма и становятся «ревизионистами». Единственной истинно коммунистической страной, озаряющей путь остальным, он видел Китай. В голове Мао мания величия и волюнтаризм легко сочетались.
Одержимость Мао сталью, как и другие его навязчивые идеи, практически не находила возражений. Он невзлюбил воробьев — они воруют зерно. Мобилизовали все население. Мы сидели на улице и ожесточенно били в железные предметы — от музыкальных тарелок до кастрюль — чтобы спугнуть воробьев с деревьев, так что в конце концов они замертво падали от изнеможения. И сегодня я ясно слышу грохот, который, сидя под гигантской дерезой (Дереза — древовидное растение высотой до трех метров с лиловыми цветками и оранжевыми плодами; используется в китайской медицине.), поднимали мы с сестрой, братья и работники исполкома.
Ставились фантастические экономические цели. Мао заявил, что за пятнадцать лет Китай сможет обогнать по объемам промышленного производства США и Великобританию. Для китайцев эти страны символизировали капиталистический мир. Обогнать их значило одержать победу над врагом. Это льстило народному самолюбию и способствовало небывалому энтузиазму. Людей оскорблял отказ США и большинства ведущих западных стран дипломатически признать Китай, и нация так хотела доказать, что справится и сама, что готова была поверить в чудеса. Мао воодушевлял. Китайцы горели желанием дать выход накопившейся энергии, и Мао нашел, куда ее девать. Шапкозакидательство попирало осторожность, невежество торжествовало над разумом.
В начале 1958 года, вскоре после возвращения из Москвы, Мао примерно на месяц приехал в Чэнду. Его вдохновляла идея, что Китаю все по плечу, особенно — вырвать у русских социалистическую пальму первенства. Именно в Чэнду он заговорил о Большом скачке. В городе для него организовали гигантский парад, но участники не знали, что на нем присутствует Мао. Он скрывался от взглядов. На параде был выдвинут лозунг: «Способная женщина может приготовить обед без риса» — переделка прагматического древнего изречения «Даже самая способная женщина не может приготовить обед без риса». Риторика преувеличений превратилась в конкретные требования. Невозможные фантазии подлежали претворению в жизнь.
Весна в том году была чудесная. Однажды Мао пошел прогуляться в парк под названием «Соломенная хижина Ду Фу» (Ду Фу — поэт, живший в VIII веке, в эпоху Тан). Администрация восточного района, где работала мама, отвечала за безопасность части парковой территории, сотрудники дежурили там под видом гуляющих туристов. Мао редко действовал по плану, редко сообщал о своих передвижениях, поэтому мама часами тянула чай в чайной. В конце концов это ей надоело, и она сказала коллегам, что пойдет прогуляться. Она забрела на участок западного района, где ее не знали, и ей тут же сели на хвост. Когда партсекретарю западного района доложили о «подозрительной женщине», он пришел лично удостовериться и рассмеялся: «Да это же наш товарищ Ся из восточного района!» Позднее мамин начальник, товарищ Го, отругал ее за «недисциплинированное блуждание по парку».
Мао побывал в нескольких хозяйствах Чэндуской равнины. До сих пор крестьянские кооперативы были маленькими. Именно здесь Мао приказал соединить их в более крупные единицы, впоследствии названные «народными коммунами».
Летом всех крестьян организовали в народные коммуны численностью от 2 000 до 20 000 дворов. Одним из пионеров этого движения стал район Сишуй в северной провинции Хэбэй. Мао там понравилось. Желая показать, что внимание Мао заслуженно, местный руководитель заявил, что они будут производить в десять раз больше зерна, чем раньше. Мао широко улыбнулся и ответствовал: «Что вы будете делать со всей этой продукцией? С другой стороны, излишки еды — это не так уж плохо. Государству они не нужны. У всех полно своего продовольствия. Но местные земледельцы смогут есть, сколько угодно. Вы сможете есть пять раз в день!» Мао одурманила извечная мечта китайского крестьянина об изобилии пищи. После этих слов члены коммуны стали еще больше радовать своего Великого Руководителя, утверждая, что собирают с одного му (My — примерно пятнадцатая часть гектара.) более миллиона цзиней (Цзинь — примерно полкилограмма.) картошки, более 130 000 цзиней пшеницы и капусту по 500 цзиней кочан.
В ту пору все рассказывали сами себе и окружающим невероятные вещи. Крестьяне переносили посевы с нескольких участков на один, чтобы показать партработникам чудесный урожай. Аналогичные «потемкинские деревни» показывали легковерным — или желавшим быть таковыми — агрономам, журналистам, гостям из других районов и иностранцам. Хотя эти посевы через несколько дней умирали из–за несвоевременной пересадки и чрезмерной густоты, гости этого не знали или не хотели знать. Большая часть населения погрузилась в мир безумных мечтаний. Нация оказалась в плену психологии «обманывания себя и людей» (цзы–ци–ци–жэнь). Многие — включая агрономов и высших партийных руководителей — говорили, что видели чудеса собственными глазами. Те, кто не мог поверить чужим фантазиям, начинали сомневаться в самих себе. В условиях маоистской диктатуры, когда информация скрывалась и фальсифицировалась, простым людям очень сложно было доверять своим знаниям и опыту. Не говоря уж о том, что они оказались на волне всекитайского энтузиазма, отметавшего любые сомнения. Не составляло труда закрыть глаза на действительность, предаться вере в Мао и поддаться общему безумию. Скептицизм в то время мог довести до беды.
Официальная карикатура изображала похожего на мышь ученого, пищащего: «На твоей печке можно только кипятить воду для чая». Рядом с ним стоял гигант–рабочий, открывающий шлюзовые ворота, из которых извергался поток расплавленной стали; рабочий отвечал: «Сколько ты можешь выпить?» Большинство из тех, кто видел абсурдность ситуации, боялись говорить, особенно после кампании против правых элементов 1957 года. Тем же, кто осмеливался выразить сомнение, быстро затыкали рот или увольняли их с работы, что означало дискриминацию семьи и жалкие перспективы для детей.
Во многих местах людей, которые отказывались хвастать фантастическими урожаями, били, пока они не сдавались. В Ибине председателей кооперативов подвешивали за руки на деревенской площади и выкрикивали вопросы:
— Сколько зерна можешь собрать с одного му?
— Четыреста цзиней. (Реалистическая цифра.)
Потом, с побоями:
— Сколько зерна можешь собрать с одного му?
— Восемьсот цзиней.
Даже это невозможное количество считалось слишком малым. Несчастного били или просто оставляли висеть, пока он не говорил: «Десять тысяч цзиней». Иногда люди умирали в подвешенном состоянии, потому что отказывались или просто не успевали назвать достаточно большую цифру.
Многие работники на местах и крестьяне, участвовавшие в подобных сценах, не верили смехотворному хвастовству, но ими двигал страх, что обвинят их самих. Тоталитарная система размывала их чувство ответственности. Даже врачи хвастались, что волшебным образом исцеляют неизлечимые болезни.
Перед нашим домом останавливались машины с ухмыляющимися крестьянами, докладывающими о фантастических рекордах. Один раз это был гигантский огурец длиной в полгрузовика. В другой раз — огромная свинья, еле засунутая в кузов. Крестьяне утверждали, что откормили живую свинью до таких размеров. Свинья была из папье–маше, но в детстве мне казалось, что она настоящая. Возможно, меня сбивали с толку взрослые, которые вели себя так, словно всему верят. Люди научились игнорировать разум и играть в жизни, как актеры на сцене.
Весь народ предался демагогии. Язык утратил связь с действительностью, чувством ответственности и истинными мыслями. Лгать стало легко, потому что слова потеряли смысл и не воспринимались всерьез.
Подкреплялось это и дальнейшей регламентацией общества. Создавая коммуны, Мао заявил, что их главное преимущество — в «легкости управления», потому что крестьяне будут встроены в организованную систему, а не оставлены, в некотором смысле, без присмотра. С самого верха им поступали подробнейшие указания, как возделывать землю. Мао сформулировал искусство ведения сельского хозяйства в восьми иероглифах: «почва, удобрения, вода, семена, густые посадки, защита, охрана, технология». Центральный Комитет партии в Пекине распространял двухстраничные листовки о том, как крестьяне по всему Китаю должны мелиорировать поля, еще одну страничку — об удобрениях и еще одну — о плотных посадках. Их неимоверно примитивным указаниям следовали до последней запятой, в ходе непрерывных мини–кампаний крестьянам приказывали все плотнее пересаживать посевы.
Другой навязчивой идеей Мао стало учреждение в коммунах столовых. В своей обычной туманной манере он определял коммунизм как «общественные столовые с бесплатной едой». Его не интересовало, что сами по себе столовые еду не производят. В 1958 году режим практически запретил есть дома. Все крестьяне обязаны были питаться в общественных столовых. Котлы для готовки пищи — а в некоторых местах и деньги — были поставлены вне закона. Обо всех заботились коммуна и государство. Каждый день после работы крестьяне шеренгами направлялись в столовые и ели там, сколько хотели — чего не могли себе позволить раньше, даже в самые урожайные годы и в самых плодородных районах. Они потребили и разорили все продовольственные запасы в деревне. В поля они тоже выходили строем. Но сколько работы делалось, не имело значения, потому что урожай теперь принадлежал государству и перестал определять уровень жизни крестьян. Мао предсказал, что Китай скоро вступит в коммунизм (по–китайски этот термин буквально значит «общее имущество»), и крестьяне считали, что получат свою долю в любом случае, вне зависимости от качества работы. В отсутствие стимула к труду они шли в поля хорошо отдохнуть.
Сельским хозяйством пренебрегали и из–за первоочередного внимания к стали. Многие крестьяне тратили все силы на поиски топлива, металлолома и руды и поддержание огня в печах. Обработка полей часто ложилась на плечи женщин и детей, которые трудились вручную, потому что животные также вносили свой вклад в выплавку стали. Осенью 1958 года, когда пришло время собирать урожай, мало кто вышел на поля.
Плохая уборка урожая в 1958 году сигнализировала, что близится недостаток продовольствия, хотя официальная статистика показывала увеличение объемов сельскохозяйственной продукции в два раза. Объявили, что в 1958 году Китай перегнал по производству пшеницы США. Партийная газета «Жэньминь жибао» развернула дискуссию на тему «Что нам делать с лишним продовольствием?».
Отдел отца ведал сычуаньской прессой, выступавшей с нелепыми заявлениями, как и издания по всему Китаю. Средства массовой информации были рупором партии, а когда речь заходила о партийном курсе, ни отец, ни другие работники печати ничего не решали. Все они были частью огромного конвейера. Отец наблюдал за развитием событий с тревогой. Единственное, что он мог сделать — обратиться к высшему руководству.
В конце 1958 года он написал письмо в ЦК, где объяснял, что так организованное производство стали представляет собою лишь бесцельную растрату ресурсов. Крестьяне обессилены, их труд направлен на бессмысленные задачи, продовольствия не хватает. Он призывал к срочным мерам. Он вручил письмо губернатору для передачи наверх. Губернатор, Ли Дачжан, был вторым человеком в провинции. Он дал отцу первую работу по переезде в Чэнду из Ибиня и относился к нему как к другу.
Губернатор Ли сказал отцу, что не отправит письмо. В нем не было ничего нового, пояснил он. «Партия все знает, верь в нее». Мао предостерегает, что ни в коем случае нельзя терять боевой дух. «Большой скачок» изменил психологический склад китайцев от пассивности к воодушевлению и подъему, и нельзя позволить народу потерять энтузиазм.
Губернатор Ли рассказал отцу, что провинциальные руководители дали ему опасную кличку «Оппозиционер» за сомнения, которые он перед ними выражал. Он не попал в беду только благодаря другим своим качествам: беззаветной верности партии и дисциплинированности. «Хорошо, что ты высказал свои мысли только партии, а не общественности». Он предупредил отца, что тот может оказаться в крайне тяжелой ситуации, если будет настаивать на своих идеях. Осложнит это жизнь и семье отца, и «другим» — он явно имел в виду себя, его друга. Отец не настаивал. Его частично убедили доводы губернатора, да и ставки были слишком высоки. Теперь ему порой приходилось идти на компромисс.
Однако отец и его подчиненные из отдела пропаганды в ходе своей работы собрали огромное количество жалоб и отправили их в Пекин. Среди народа и партработников господствовало недовольство. Фактически, «Большой скачок» вызвал наиболее серьезный раскол в руководстве с тех пор как коммунисты пришли к власти десять лет назад. Мао пришлось уступить менее важный из двух своих основных постов — председателя государства — Лю Шаоци. Лю стал вторым человеком в Китае, но его слава не могла сравниться со славой Мао, сохранившего пост председателя партии.
Голоса протеста настолько усилились, что партия созвала в конце июня 1959 года на горном курорте Лушань особую конференцию. На конференции министр обороны маршал Пэн Дэхуай письменно обратился к Мао с критикой «Большого скачка» и предложением реалистического подхода к экономике. Письмо было весьма сдержанное и заканчивалось обязательной оптимистической нотой (на этот раз о достижении уровня Великобритании за четыре года). Но хотя Пэн являлся одним из старейших соратников Мао и ближайших к нему людей, Мао не мог смириться даже с самой легкой критикой, особенно в пору, когда ему приходилось защищаться и он знал, что неправ. В столь любимых им выспренних выражениях Мао назвал письмо «бомбардировкой, рассчитанной на то, чтобы сравнять Лушань с землей». Он закусил удила и растянул конференцию на месяц, ожесточенно нападая на маршала Пэна. Маршала и тех немногих, кто его открыто поддерживал, заклеймили как «правых оппортунистов». Пэна уволили с поста министра обороны, заключили под домашний арест, а затем отправили в Сычуань, где дали маленькую должность.
Ради сохранения власти Мао пришлось интриговать вовсю. Тут он был непревзойденным мастером. Больше всего он любил — и рекомендовал другим партийным руководителям — одно классическое многотомное сочинение о придворных интригах. На самом деле, правление Мао лучше всего описывается в терминах средневекового двора, где он всецело владычествовал над телами и душами своих придворных и подданных. Он также весьма преуспел в искусстве «разделять и властвовать» и манипуляции присущей человеку слабостью отдавать на съедение других. В конце концов мало кто из руководителей партии и правительства, несмотря на внутреннее разочарование в политике Мао, встал на сторону маршала Пэна. Лишь генеральный секретарь партии Дэн Сяопин избежал необходимости голосовать — он сломал ногу. Мачеха Дэна ворчала дома: «Я всю жизнь была крестьянкой и никогда не слыхала о таком дурацком способе вести хозяйство!» Когда Мао узнал, что Дэн сломал ногу во время игры в бильярд, он сказал: «Очень удобно».
Комиссар Ли, первый секретарь парторганизации Сычуани, привез в Чэнду с конференции документ, содержащий замечания, сделанные Пэном в Лушане. Его раздали работникам начиная с 17–го разряда. Их попросили официально заявить, согласны ли они с замечаниями.
Отец слышал что–то о лушаньском диспуте от губернатора Сычуани, но на «экзаменационном» собрании высказался о письме Пэна довольно туманно. К тому же он совершил то, чего никогда раньше не совершал: предупредил маму, что это ловушка. Мама была глубоко тронута — впервые он ставил ее интересы выше интересов партии.
Ее удивило, что и других людей, по видимости, предупредили. На коллективном «экзамене» половина ее сослуживцев отозвалась о письме Пэна с бурным негодованием и объявила его критические мысли «не имеющими ни малейшего отношения к действительности». Другие словно разучились говорить и бормотали что–то неясное. Один человек сумел усидеть на двух стульях, сказав: «Я не могу ни согласиться, ни не согласиться, потому что не знаю, насколько верна информация маршала Пэна. Если верна, я его поддерживаю. Если неверна, то, разумеется, нет».
Глава зернового управления Чэнду и глава почты Чэнду были ветеранами Красной армии и сражались некогда под командованием маршала Пэна. Оба они сказали, что согласны с мнением их почитаемого командира, и поделились собственными наблюдениями о жизни, чтобы подтвердить его слова. Мама задавала себе вопрос, знают ли эти старые солдаты о ловушке. Если да, то они вели себя героически. Хотелось бы ей обладать их смелостью. Но она думала о детях — что станет с ними? Она уже не была перекати–полем, как в студенческие годы. Когда подошла ее очередь, мама сказала: «Взгляды, выраженные в письме, противоречат партийной линии последних лет».
Начальник, товарищ Го, упрекнул ее в том, что она сказала слишком мало и не выразила собственного отношения. Целые дни она проводила в состоянии неимоверного напряжения. Ветеранов Красной армии, поддержавших Пэна, ошельмовали как «правых оппортунистов», сняли с должностей и послали на черную работу. Маму вызвали на собрание, где раскритиковали за «правый уклон». На этом собрании товарищ Го вспомнил другую ее «серьезную ошибку». В 1959 году в Чэнду появился своеобразный черный рынок, на котором торговали курами и яйцами. Поскольку коммуны отобрали у крестьян кур, но вырастить их оказались не в состоянии, куры и яйца исчезли из магазинов, которые теперь принадлежали государству. Некоторые крестьяне умудрились спрятать под кроватью одну–двух птиц и продавали их и куриные яйца из–под полы в переулках примерно в двадцать раз дороже прежней цены. Партработников каждый день посылали отлавливать крестьян. Однажды, когда товарищ Го отправил маму на охоту, она возразила: «Что дурного в том, что людям продают то, что им нужно? Где спрос, там и предложение». За это замечание маме вынесли предупреждение относительно ее «правого уклона».
Чистка «правых уклонистов» нанесла очередной удар по партии, потому что многие коммунисты согласились с Пэном. Урок заключался в том, что авторитет Мао непререкаем — даже когда он явно ошибается. Партработники убедились, что как бы высоко человек ни сидел — Пэн ведь был министром обороны — и каким бы доверием ни пользовался — Пэн, по слухам, был любимцем Мао, — оскорбивший Мао попадал в опалу. Еще они поняли, что нельзя сказать правду и уйти в отставку, нельзя даже уйти в отставку тихо: отставка воспринималась как недопустимый протест. Выхода не было. Рты коммунистов, как и рты всего народа, оказались на замке. После этого «Большой скачок» вступил в еще более безумную фазу. Сверху спускали уже совершенно нереальные экономические директивы.
На плавку стали бросали все новых крестьян. Деревню заваливали все новыми безрассудными приказами, усугублявшими хаос.
В конце 1958 года, на пике «Большого скачка», развернулось крупное строительство: за десять месяцев, к 1 октября 1959 года, в столице, Пекине, должны были построить десять огромных зданий в ознаменование десятой годовщины основания Китайской Народной Республики.
Один из этих гигантов — здание Всекитайского Собрания Народных Представителей, в советском стиле, с колоннами — вырос на западной стороне площади Тяньаньмэнь. Его мраморный фасад тянется на добрые полкилометра, украшенный люстрами главный банкетный зал рассчитан на несколько тысяч человек. Здесь проводятся важные встречи и приемы зарубежных гостей на высшем уровне. Все роскошные комнаты в здании назвали по провинциям Китая. Отца назначили ответственным за украшение Сычуаньской комнаты, и по завершении работ он пригласил партийных руководителей, так или иначе связанных с Сычуанью, осмотреть помещение. Явились Дэн Сяопин, происходивший из Сычуани, маршал Хэ Лун, китайский Робин Гуд, один из основателей Красной армии и близкий друг Дэна.
В какой–то момент отца отозвали в сторону, и эти двое, а также брат Дэна, остались наедине. Вернувшись в комнату, отец услышал, как маршал Хэ, показывая на Дэна, говорит его брату: «На самом деле на троне должен быть он». Тут они заметили отца и немедленно замолчали.
После этого отец ожидал самого худшего. Он понял, что случайно подслушал слова, свидетельствующие о разногласиях наверху. Он мог попасть в беду из–за любого своего поступка — или бездействия. С ним ничего не случилось, но когда он рассказывал мне об этом происшествии почти десять лет спустя, то признался, что с тех пор жил с постоянным страхом в душе. «Просто услышать это — уже измена», — сказал он, использовав выражение «преступление, караемое отсечением головы».
То, что он услышал, означало не что иное, как определенное разочарование в Мао. Эту чувство разделяли многие руководители, не в последнюю очередь новый председатель государства Лю Шаоци.
Осенью 1959 года Лю приехал в Чэнду инспектировать коммуну «Красное великолепие». В предыдущем году Мао восторгался тамошним астрономическим урожаем риса. Перед приездом Лю местные чиновники согнали всех, кто, по их мнению, мог вывести их на чистую воду, и заперли в храме. Но у Лю там был осведомитель, и, проходя мимо храма, высокий гость остановился и выразил желание заглянуть внутрь. Чиновники попытались обмануть его и заявили, что храм вот–вот рухнет, но Лю ни за что не отказывался от своей идеи. В конце концов большой ржавый замок открыли, и на свет божий вылезли оборванные крестьяне. Смущенные чиновники попробовали объяснить Лю, что это «правонарушители», которых заперли ради безопасности дорогого руководителя. Сами крестьяне молчали. Начальство коммуны, никоим образом не решавшее политические проблемы, тем не менее обладало чудовищной властью над жизнью людей. Желая наказать человека, давали ему худшую работу, меньший паек, изобретали предлог, чтобы затравить его, опозорить и даже арестовать.
Председатель Лю стал задавать вопросы, но крестьяне лишь мямлили и улыбались. С их точки зрения, лучше было обидеть председателя, чем местных воротил. Председатель через несколько минут уедет в Пекин, а начальство коммуны останется с ними на всю жизнь.
Вскоре в Чэнду приехал другой высокопоставленный лидер — маршал Чжу Дэ в сопровождении одного из личных секретарей Мао. Чжу Дэ был сычуаньцем, командующим Красной армией, архитектором победы коммунистов. С 1949 года он держался в тени. Он посетил несколько коммун в округе Чэнду и позднее, гуляя вдоль Шелковой реки и любуясь павильонами, бамбуковыми рощами и чайными в окружении ив, расчувствовался: «Сычуань — божественный край...» Он заговорил в стиле классической поэзии. Секретарь Мао, по старинному обычаю стихотворцев, ответил в лад: «Как жаль, что проклятые ветры лжи и поддельного коммунизма губят его!» Мама сопровождала их и подумала про себя, что согласна всем сердцем.
Полный подозрений к соратникам и все еще злой за лушаньские нападки, Мао упрямо держался своего сумасшедшего курса. Отдавая себе отчет в собственных роковых ошибках и позволяя осторожно исправить наиболее абсурдные свои шаги, он не мог, ради «сохранения лица», признать свое поражение. Тем временем, в начале 1960–х, во всем Китае разразился великий голод.
В Чэнду месячный паек взрослого уменьшили до восьми с половиной килограммов риса, ста граммов растительного масла, ста граммов мяса, если оно было вообще. Все прочее, даже капуста, практически отсутствовало. Многие страдали отеками — из–за недоедания под кожей скапливалась жидкость, человек желтел и опухал. Наиболее распространенным средством избавления от отеков являлось употребление богатой белком хлореллы. Хлореллу разводили в человеческой моче, поэтому люди перестали пользоваться туалетом, а мочились в плевательницы и бросали туда семена хлореллы. Дня через два из них получалось нечто вроде зеленой икры. Ее вылавливали, промывали и готовили с рисом. На вкус это было отвратительно, но отек действительно спадал.
Как и все остальные, отец получал ограниченный паек. Однако, будучи ответственным работником, пользовался определенными льготами. В нашем блоке имелось две столовых, маленькая для заведующих отделами, их жен и детей и большая для всех прочих, куда ходили бабушка, тетя Цзюньин и домработница. Обычно мы брали еду из столовой домой. На улице достать еду было гораздо сложнее. У провинциальной администрации имелось собственное хозяйство, кроме того, уездные администрации присылали «подарки». Дефицитное продовольствие делилось между столовыми, и малая столовая снабжалась в первую очередь.
Как партработники, родители получали специальные талоны на питание. Мы с бабушкой ходили в спецмагазин за пределами блока и покупали там продукты. Мамины талоны были голубые. Ей полагалось пять яиц, примерно двадцать граммов соевых бобов и столько же сахара в месяц. У отца талоны были желтые. Благодаря высокой должности он получал вдвое больше, чем мама. Семья соединяла запасы из столовых и других источников и делила их между всеми домочадцами. Взрослые всегда отдавали большую часть детям, поэтому я не голодала. Но сами взрослые страдали от недоедания, у бабушки развился небольшой отек. Она выращивала в доме хлореллу, я знала, что старшие ее тайно едят. Как–то я взяла ее в рот и немедленно выплюнула. Больше я к этому тошнотворному зелью не притрагивалась.
Я не понимала, что вокруг меня голод. Однажды, когда я шла в школу и ела пампушку, кто–то вдруг вырвал ее у меня из рук. Опомнившись от потрясения, я увидела босоного мальчишку в шортах, с тощей смуглой спиной, бегущего по переулку и запихивающего в рот мою пампушку. Когда я рассказала об этом случае родителям, папины глаза стали очень печальными. Он потрепал меня по волосам и сказал: «Тебе повезло. Многие дети сейчас голодают».
Меня часто водили в больницу к зубному врачу. Каждый раз меня тошнило при виде десятков людей с блестящими, почти прозрачными конечностями, толстыми как бочки. Пациентов в огромных количествах свозили в больницу на низких телегах. Когда я спросила моего доктора, чем они больны, та вздохнула: «Отеком». На вопрос, что это значит, она пробормотала что–то уклончивое о питании.
В основном страдали крестьяне. Деревня голодала гораздо сильнее, потому что там не существовало твердых пайков. Государство прежде всего стремилось обеспечить едой город, и работники в коммунах отнимали у крестьян зерно силой. Во многих местах крестьян, прятавших продукты, арестовывали, били, пытали. Работников, не желавших забирать продовольствие у крестьян, снимали с должности, к некоторым применяли меры физического воздействия. В результате по всему Китаю крестьяне, производители пищи, умирали миллионами.
Позже я узнала, что от голода погибли несколько моих родственников, от Сычуани до Маньчжурии, среди них — умственно отсталый дядя со стороны отца. Его мать умерла в 1958 году. Он не смог пережить голод, потому что был не в состоянии воспринять советы родственников: паек выдавали раз в месяц, а он съедал его за несколько дней. Вскоре он умер от недоедания. Бабушкина сестра Лань и ее муж «Верный» Пэй–о тоже погибли в северной маньчжурской глуши, куда их сослали из–за связей с Гоминьданом. Когда еды почти не оставалось, деревенские власти распределяли ее остатки по своим неписаным правилам. Пэй–о с женой, как парии, лишились еды в первую очередь. Дети их выжили, потому что родители отдавали всю еду им. Умер и отец жены Юйлиня. В конце концов он съел набивку из своей подушки и связку чеснока.
Когда мне было лет восемь, как–то вечером в наш дом вошла маленькая, очень старая на вид женщина с испещренным морщинами лицом. Казалось, ее вот–вот повалит ветром. Она упала перед мамой на колени, билась лбом об пол и называла ее спасительницей своей дочери. Это была мать нашей домработницы. «Без вас моя доченька не выжила бы», — причитала она. Полностью я все поняла только через месяц, когда домработнице написали, что ее мать умерла вскоре после того, как приходила к нам, чтобы рассказать о гибели мужа и старшего сына. Мне никогда не забыть душераздирающих рыданий домработницы, закрывшей лицо платком и уткнувшейся в деревянный столб на нашей террасе. Бабушка сидела по–турецки на кровати и тоже плакала. Я спряталась в уголке за пологом от комаров и слышала, как бабушка говорит сама себе: «Коммунисты хорошие, но сколько же народу погибло...» Годы спустя я узнала, что другой брат домработницы и его жена тоже умерли. О семьях помещиков в голодной коммуне думали меньше всего.
В 1989 году чиновник, занимавшийся помощью голодающим, рассказал мне, что, по его сведениям, в общей сложности в Сычуани от истощения умерло семь миллионов человек. Это десять процентов населения богатой провинции. Принято считать, что по всей стране погибло около тридцати миллионов.
Однажды в 1960 году у ибиньской соседки тети Цзюньин пропала трехлетняя дочь. Через несколько недель соседка увидела на улице маленькую девочку в таком же платье, как у дочери. Она подошла поближе, тщательно рассмотрела его и по какой–то примете поняла, что это и есть платье дочери. Она сообщила в полицию. Оказалось, что родители девочки торговали вяленым мясом. Они похитили и убили несколько детей и продавали их мясо под видом крольчатины за бешеные деньги. Их расстреляли, дело замяли, но люди в то время знали о случаях детоубийства.
Много лет спустя я встретила старого коллегу отца, очень доброго, умного, не склонного к преувеличениям человека. Он взволнованно поведал мне, что видел в одной только коммуне. Умерло тридцать пять процентов крестьян. Урожай в районе был хороший, но полностью его не собрали, потому что мужчин заставили выплавлять сталь; к тому же столовая растранжирила имевшиеся запасы. Однажды в его кабинет ворвался крестьянин и бросился ему в ноги, крича, что совершил ужасное преступление и молит о наказании. Оказалось, он, обезумев от голода, убил и съел собственного ребенка. Со слезами на глазах чиновник приказал арестовать крестьянина. Его расстреляли для устрашения других детоубийц.
Одной из официальных причин голода считалось неожиданное требование Хрущева вернуть большой заем, который Китай сделал, чтобы помочь Ким Ир Сену во время войны в Корее. Режим играл на опыте большой части населения — безземельных крестьян, помнивших жестоких помещиков и кредиторов. Указывая на Советский Союз, Мао создавал образ внешнего врага, виновного во всех бедах, и сплачивал население. Другой причиной называли «небывалые природные бедствия». Китай — огромная страна, каждый год где–нибудь случается недород. Только высшие руководители имели доступ к информации о погоде во всем государстве. Учитывая оседлость населения, мало кто знал, что происходит в соседнем регионе или за ближайшей горой. Многие думали тогда (и думают до сих пор), что голод возник из–за природных бедствий. Я не располагаю всей картиной, но немногие из моих знакомых в самых разных частях Китая припоминают, чтобы в их районе было какое–нибудь природное бедствие; они рассказывают лишь о голодных смертях.
На съезде для семи тысяч ответственных партработников в начале 1962 года Мао сказал, что голод на семьдесят процентов объясняется природными бедствиями и на тридцать процентов человеческими ошибками. Председатель Лю Шаоци, видимо, не сдержавшись, поправил, что голод объясняется на тридцать процентов природными бедствиями и на семьдесят процентов — человеческими ошибками. Вернувшись со съезда, отец сказал маме: «Боюсь, товарища Шаоци ожидают неприятности».
Когда речи донесли до работников более низкого уровня вроде мамы, замечание Лю Шаоци вырезали. Населению не сообщили даже цифр Мао. Утаивание информации помогало держать народ в узде, вслух на коммунистов не жаловались. Помимо того, что большинство несогласных были убиты или нейтрализованы в предыдущие годы, многие китайцы не понимали до конца меру ответственности коммунистической партии. Чиновники не утаивали зерно. Партработники жили немногим лучше остального народа. На самом деле, в некоторых деревнях они первые оказывались жертвами голода. Голод был хуже любых бедствий времен Гоминьдана, но выглядел он по–иному: при Гоминьдане недоедание шло рука об руку с бесстыдной роскошью.
Еще до начала катастрофы многие партработники из помещичьих семей взяли родителей к себе в город. Когда разразился голод, партия приказала отослать этих пожилых людей в деревню, чтобы они разделили с крестьянами тяжелую жизнь — то есть голодание. Идея заключалась в том, что коммунисты не должны использовать свои привилегии ради «классово враждебных» родителей. Некоторых дедушек и бабушек моих друзей выслали из Чэнду, и они умерли голодной смертью.
Многие крестьяне почти не заглядывали за пределы деревни и обвиняли в голоде свое непосредственное начальство, дававшее им «вредительские» приказы. Из уст в уста передавались стихи, что руководство партии хорошее, вот только на местах все прогнило.
«Большой скачок» и чудовищный голод глубоко потрясли моих родителей. Хотя у них перед глазами не было полной картины, они не верили в возникновение голода из–за «природных бедствий». Их переполняло чувство вины. Работая в сфере пропаганды, они находились в самом центре машины дезинформации. Чтобы успокоить свою совесть, отец добровольно уезжал от уютной ежедневной кабинетной работы в деревню помогать голодающим, что значило, что он будет голодать сам. Таким образом он, в соответствии с учением Мао, делил с массами «радость и горе». Его подчиненные относились к этой практике крайне отрицательно, потому что им надлежало по очереди ездить и голодать вместе с ним.
С конца 1959–го по 1961 год, на пике бедствия, я редко видела отца. В деревне он вместе с крестьянами ел листья сладкого картофеля, травы и древесную кору. Однажды он шел по тропинке между полями и увидел вдали худого как скелет крестьянина, шевелившегося из последних сил. Вдруг он пропал из вида. Отец бросился к нему и обнаружил на земле труп.
Каждый день отец наблюдал ужасающие вещи, хотя маловероятно, что самые страшные: по доброй китайской традиции его всюду сопровождали местные чиновники. У него развились увеличение печени в тяжелой форме и отек. Несколько раз из своих поездок он отправлялся прямиком в больницу. Летом 1961 года он провел там несколько месяцев. Он изменился. Былой пуританский дух испарился. У партии появились к нему претензии. Его раскритиковали за «ослабление революционной воли» и велели выписаться из больницы.
Он пристрастился к рыбалке. Напротив больницы текла прелестная речка под названием Яшмовый ручей. Над ней низко склонились плакучие ивы, в воде преломлялись отражения облаков. Я часто сидела на покатом берегу и смотрела то на облака, то на папу с удочкой. Пахло человеческими фекалиями. На вершине холма на месте клумб разбили огород, кормивший сотрудников и пациентов больницы. До сих пор, закрывая глаза, я вижу, как гусеницы бабочек грызут капустные листья. Братья ловили их отцу для наживки. Грядки выглядели жалко. Врачи и медсестры явно не были сильны в земледелии.
Веками китайские ученые–мандарины принимались удить рыбу, когда император разочаровывал их своим поведением. Ловля рыбы означала уход к природе от политической злобы дня, символизировала обманутые надежды и отрешенность от происходящего.
Отцу редко удавалось что–нибудь поймать, и однажды он написал стихотворение со строкой: «Я с удочкой сижу не ради рыбы». Но его товарищ, другой заместитель заведующего из того же отдела, всегда отдавал ему часть улова. В 1961 году, среди голода, мама опять забеременела, а, по китайскому поверью, рыба нужна ребенку для хорошего роста волос. Мама не желала этого ребенка. Помимо всего прочего, они с отцом получали зарплату, то есть государство не предоставляло им больше ни кормилиц, ни нянь. С четырьмя детьми, бабушкой и частью семьи отца на руках они не могли много тратить. Значительная часть зарплаты отца уходила на покупку книг, особенно огромных томов классических сочинений. Одно такое собрание могло стоить двухмесячной зарплаты. Иногда мама ворчала: другие люди его уровня намекали издательствам о том, какие хотели бы иметь книги, и получали их бесплатно «для рабочих нужд». Однако отец обязательно за все платил.
Стерилизация, аборт и даже контрацепция были труднодоступны. В 1954 году коммунисты приступили к реализации программы по планированию семьи, мама отвечала за ее выполнение в своем районе. Тогда она донашивала Сяохэя и часто начинала собрания с добродушной самокритики. Но Мао выступал против ограничения рождаемости. Он видел страну большой, сильной, с огромным населением и говорил, что если американцы сбросят на Китай атомные бомбы, китайцы просто «продолжат размножаться» и стремительно восстановят свою численность. Он также разделял традиционный крестьянский взгляд на детей: чем больше рук, тем лучше. В 1957 году он лично назвал знаменитого пекинского профессора, выступавшего за контролирование рождаемости, «правым элементом». С тех пор о данной теме вспоминали редко.
Мама забеременела в 1959 году и, в соответствии с правилами, написала в партию заявление с просьбой разрешить ей аборт. Разрешение партии было необходимо отчасти потому, что операция в то время считалась опасной. Мама отметила, что занята работой во имя революции и будет лучше служить народу, если у нее не будет еще одного ребенка. Ей разрешили аборт, очень болезненный из–за примитивности используемого метода. В 1961 году она вновь поняла, что ждет ребенка; на этот раз аборт был невозможен по мнению врачей, самой мамы и партии, которая давала разрешение не чаще, чем раз в три года.
Наша домработница тоже собиралась родить. Она вышла замуж за бывшего папиного слугу, работавшего теперь на фабрике. Бабушка готовила им обеим яйца и соевые бобы, купленные на талоны родителей, и рыбу, выловленную отцом и его сослуживцем. В конце 1961 года домработница родила мальчика и поселилась вместе с мужем.
В то время, когда она еще ходила в столовые за нашей пищей, отец увидел в саду, как она запихивает в рот и жадно жует кусок мяса. Он отвернулся и отошел в сторону, чтобы не смущать ее. Рассказал он нам об этом лишь через годы, раздумывая о несбывшихся мечтах своей юности, главная из которых была положить конец голоду.
Когда домработница ушла, из–за положения с продуктами мы не могли позволить себе взять новую. Женщины из деревни, желавшие получить это место, не имели права на городской паек. Бабушке и тете пришлось воспитывать нас пятерых.
Самый младший мой брат, Сяофан, родился 17 января 1962 года. Его единственного наша мама кормила грудью. До рождения она хотела отдать его на сторону, но потом так прикипела к нему сердцем, что он сделался ее любимцем. Мы все играли с ним, как с большой куклой. Он вырос окруженный любовью, что придало ему, по маминому мнению, легкость в общении и уверенность в себе. Отец уделял ему гораздо больше времени, чем до этого нам. Когда Сяофан стал играть в игрушки, отец каждую субботу относил его в универмаг в конце нашей улицы и покупал ему новую игрушку. Как только Сяофан, по какой бы то ни было причине, начинал плакать, отец все бросал и кидался к нему.
В начале 1961 года, видя гибель десятков миллионов людей, Мао решил отказаться наконец от своей экономической политики. Он неохотно позволил прагматичному председателю КНР Лю Шаоци и генеральному секретарю партии Дэн Сяопину по–настоящему взяться за управление страной. Мао пришлось выступить с самокритикой, но она была полна снисходительности к себе и всегда звучала так, будто он обречен нести крест за бездарных чиновников всего Китая. Затем он великодушно призывал партию «извлечь уроки» из ужасающего опыта, но о содержании этих уроков рядовые чиновники судить не могли: Мао указывал, что они оторвались от дум и чаяний простых людей и принимали неверные решения. Бесконечные выступления с самокритикой, начиная с Мао, маскировали реальную ответственность, к которой никого так и не привлекли.
Тем не менее, дела стали поправляться. Прагматики провели ряд серьезных реформ. Именно тогда Дэн Сяопин сказал: «Неважно, белая кошка или черная, лишь бы ловила мышей». Прекратилась массовая выплавка стали. Безумные экономические планы заменили реалистичными. Закрыли общественные столовые, доход крестьян определялся их трудом. Им вернули конфискованную коммунами собственность, включая сельскохозяйственные орудия и домашний скот, позволили иметь небольшие личные наделы. В некоторых районах землю фактически сдавали крестьянам в аренду. В промышленности и торговле официально разрешили элементы рыночного хозяйства, и через пару лет экономика встала на ноги.
Одновременно с либерализацией экономики началась политическая оттепель. Со многих помещиков сняли ярлык «классового врага». Немало пострадавших от предыдущих чисток реабилитировали. Это относилось к «контрреволюционерам» 1955–го, «правым элементам» 1957–го и «правым оппортунистам» 1959 года. Поскольку в 1959 году маме сделали выговор за «правый уклон», в качестве компенсации в 1962 году ее повысили на один разряд. Появилась большая свобода в области литературы и искусства. Жизнь в целом стала более спокойной. Отцу и матери, да и многим другим, казалось, что режим демонстрирует способность исправлять свои ошибки и учиться на них — и это восстановило их веру в государство.
Я же тем временем жила в коконе, за высокими стенами территории провинциальной администрации. Меня трагедия напрямую не касалась. В этой «безоблачной» атмосфере и началось мое отрочество.
12. «Барышня из благородной семьи»: В коконе привилегий (1958–1965)
Когда в 1958 году мы с мамой пошли записываться в начальную школу, меня нарядили в новую розовую вельветовую куртку и фланелевые штаны, а в волосы повязали широкую зеленую ленту. Мы направились прямо в кабинет директрисы, которая ждала нас вместе с завучем и учительницей. Они почтительно улыбались и уважительно обращались к маме «заведующая Ся». Потом я узнала, что школа находилась в ведении маминого отдела.
Меня пригласили на особое собеседование, потому что мне было только шесть лет, а в школы, из–за малого их количества, брали с семи. Но в этот раз даже отец не возражал против некоторого отступления от правил, они с мамой хотели отдать меня в школу пораньше. Я без запинки декламировала классическую поэзию, красиво писала, и в школе меня сочли достаточно развитой. Я выдержала обычное вступительное испытание, после чего директриса и ее коллеги решили принять меня в виде исключения. Родители очень мною гордились. Многих детей их сослуживцев не приняли.
Все желали, чтобы их дети учились именно в этой лучшей в Чэнду, главной, «ключевой» школе провинции. Попасть в «ключевые» школы и университеты было очень сложно, принимали туда строго по результатам экзаменов, детям из семей партработников поблажек не делали.
Каждый раз меня представляли новой учительнице как «дочь заведующего Чжана и заведующего Ся». Мама часто приезжала в школу на велосипеде по работе. Однажды резко похолодало, и она привезла мне теплую зеленую вельветовую куртку с вышитыми на ней цветами. В класс ее занесла сама директриса. Я очень смутилась, на меня смотрел весь класс. Как большинство детей, я стремилась не выделяться из рядов сверстников, быть как все.
Каждую неделю мы сдавали экзамены. Оценки вывешивались на доске. Я всегда шла первой в списке, чем раздражала других детей. Иногда они мне мстили: обзывали «барышней из благородной семьи» (цяньцзинь сяоцзе), засовывали в парту лягушек, привязывали косы к спинке стула. Они утверждали, что мне не хватает «духа коллективизма» и что я отношусь к окружающим свысока. Но я знала, что просто люблю одиночество.
Предметы были такие же, как в западной школе, если не считать той поры, когда мы плавили сталь. Политических занятий не проводилось, но мы много занимались спортом; бегали, прыгали в высоту и в длину, плавали, упражнялись в гимнастическом зале. После уроков посещали секции. Меня приняли на теннис. Поначалу отец не хотел, чтобы я стала спортсменкой — это было целью обучения. Но тренер, красивая молодая женщина, пришла к нему в своих изящных шортах — отец, в частности, курировал спорт — и с очаровательной улыбкой объяснила, что, поскольку в Китае пока мало кто играет в теннис, самую элегантную игру, — его дочь может «подать народу пример». Пришлось отцу согласиться.
Я любила наших замечательных учителей, они умели сделать свой предмет необычным и увлекательным. Помню преподавателя природоведения Да–ли, который рассказывал нам, почему летают спутники (русские только что запустили на орбиту свой первый спутник), о будущих полетах на другие планеты. Во время его уроков даже самые непослушные мальчишки сидели как завороженные. Я слышала от одноклассников, что он бывший «правый элемент», но мы этих слов не понимали и они ничего не значили для нас.
Годы спустя мама объяснила мне, что учитель Да–ли писал детскую научную фантастику. В 1957 году его причислили к «правым элементам» за статью о мышах, которые толстеют на краденой еде, в чем увидели завуалированное нападение на партработников. Ему запретили писать и хотели было послать в деревню, но маме удалось перевести его в нашу школу. Редкому чиновнику хватало храбрости трудоустроить «правого».
Мама осмеливалась это делать, и именно поэтому занималась нашей школой. С точки зрения расположения, она должна была находиться в ведении западного района Чэнду. Однако городская администрация хотела, чтобы в школе работали лучшие учителя, даже с «неблагонадежным» прошлым, а глава отдела пропаганды западного района боялся брать на работу таких людей. Муж нашего завуча, бывший гоминьдановский офицер, находился в лагере. Обычно такие как она не могли занимать подобных должностей, но мама отказывалась переводить их куда–либо и даже присваивала им почетные звания. Начальство одобряло, но предпочитало, чтобы ответственность лежала на ней. Мама не возражала, под косвенной защитой отца она чувствовала себя в большей безопасности, чем сослуживцы.
В 1962 году отцу предложили отправить детей в новую школу, только что учрежденную поблизости от нашего дома. Она называлась «Платаны», по платановой аллее на ее территории. Школу основало руководство западного района с явным желанием сделать из нее «ключевую» — до сих пор ни одной такой в районе не было. В «Платаны» перевели из других районных школ хороших учителей. Вскоре она приобрела репутацию «элитной», потому что учились в ней дети работников провинциальной администрации.
До «Платанов» в Чэнду имелся интернат для детей старших офицеров. Туда же отдали детей некоторые высокопоставленные чиновники. Преподавали там неважно, чувствовался дух снобизма, дети хвастались родителями. Нередко они говорили: «Мой отец — командующий дивизии, а твой — только бригадный генерал». К концу недели у ворот выстраивалась длинная очередь автомобилей: няни, телохранители, водители развозили детей по домам. Многие считали, что такая атмосфера развращает детей, наши родители всегда относились к этому заведению крайне отрицательно.
«Платаны» задумывались не как школа для избранных. Встретившись с директором и несколькими учителями, родители решили, что в ней уделяют внимание этике и дисциплине. В каждом классе было не более двадцати пяти человек. Даже в моем старом классе было пятьдесят. Конечно, благоприятные условия «Платанов» предназначались отчасти для руководства провинцией, жившего по соседству, но смягчившийся в последнее время отец не обратил на это обстоятельство внимания.
Большинство моих одноклассников происходили из семей сычуаньского начальства. С некоторыми мы вместе жили на территории администрации. За пределами школы вся моя жизнь проходила здесь в садах, наполненных цветами и роскошными растениями: пальмами, агавами, олеандрами, магнолиями, камелиями, розами, гибискусами; там были даже две редкие китайские осины, склонившиеся друг к другу и сплетавшиеся ветвями, как возлюбленные. Осины чутко отзывались на самое легкое наше прикосновение дрожанием стволов и трепетом листвы. Летом во время обеденной перемены я усаживалась на каменный стул в форме барабана под шпалерой глициний, клала локти на каменный стол и читала или играла в шахматы. Вокруг меня сияло буйство красок, вдали гордо устремлялось в небо кокосовое дерево. Больше всего я любила душистый жасмин, увивавший широкую шпалеру. Когда он цвел, аромат долетал до моей комнаты. Мне нравилось сидеть у окна и купаться в его благоухании.
После переезда на территорию администрации мы поселились в чудном доме в один этаж с собственным двориком. Дом был традиционный, без современных удобств: водопровода, канализации и ванны. В 1962 году в углу территории построили современные многоквартирные дома со всеми этими благами цивилизации. Прежде чем мы переехали туда, я побывала в этой стране чудес и осмотрела новые для меня волшебные краны, унитазы с бачками и зеркальные шкафчики на стенах, провела рукой по прохладной, приятной на ощупь блестящей белой плитке ванных комнат.
Всего возвели тринадцать домов. Четыре предназначались для заведующих отделами, остальные для начальников управлений. Наша квартира занимала целый этаж, тогда как начальники управлений жили по две семьи на этаже. Наши комнаты были просторнее. Окна закрывали сетки от комаров, у нас было две ванных, а у них только одна. У нас стоял телефон, большая редкость в Китае, у них — нет. Чиновники пониже рангом жили через дорогу, с еще меньшими удобствами. Полдюжины партсекретарей — ядро руководства провинции — жили за забором внутри нашей территории. Вход в это святилище преграждали двое ворот, у которых круглосуточно дежурила вооруженная охрана, пропускавшая только имевших особое разрешение. За воротами располагались отдельные двухэтажные дома, по числу секретарей. У дверей первого секретаря, Ли Цзинцюаня, стоял еще один охранник. В детстве я принимала иерархию и привилегии как должное.
Все взрослые, работавшие на основной территории, предъявляли на входе пропуска. У детей пропусков не было, но охрана нас узнавала. Ситуация осложнялась, когда мы хотели провести гостей. Они заполняли особые бланки, затем комендант звонил к нам в квартиру, и кто–нибудь должен был выйти и забрать их. Обслуживающий персонал прохладно относился к чужим детям, которые могли «перевернуть всю территорию вверх ногами», поэтому мы редко звали гостей. За четыре года в «ключевой» школе я приглашала подруг домой всего несколько раз.
Я почти не покидала пределов территории, не считая хождения в школу. Пару раз бабушка брала меня в универмаг, но я никогда не испытывала нужды в покупках. Магазин был для меня чуждым понятием, родители давали мне карманные деньги лишь по особым случаям. Наша столовая напоминала ресторан, кормили там замечательно. За исключением голодных лет, можно было выбирать обед по меньшей мере из семи–восьми блюд. Поваров, первой или высшей категории, тщательно отбирали. Главным поварам присваивали такие же звания, как учителям. Дома всегда были сладости и фрукты. Мне же нравилось только фруктовое мороженое на палочке. Как–то 1 июня, в День защиты детей, я съела двадцать шесть штук.
Обитатели территории вели замкнутую жизнь. Здесь находились свои магазины, парикмахерские, кинотеатры, бальные залы, водопроводчики и техники–смотрители. В моде были танцы. По выходным для работников администрации разных рангов устраивались танцевальные вечера. Бывший бальный зал американских военных предназначался для семей начальников отделов и выше. Там всегда играл оркестр, танцевали артисты из ансамбля песни и пляски, что придавало вечеру еще больше элегантности. Некоторые актрисы приходили к нам домой поболтать с родителями, а потом гуляли со мной по территории. Меня переполняла гордость, потому что артисты в Китае почитались и пользовались особыми правами: могли ярко одеваться и даже заводить романы. Ансамбль находился в ведении отца, однако артисты держались с ним не как прочие подчиненные. Они поддразнивали его, называли «звездой танца». Отец смущенно улыбался. Это были традиционные бальные танцы, пары чинно скользили по зеркальному полу. Отец и правда хорошо танцевал, чувствовалось, что это доставляет ему удовольствие. Мама не могла поймать ритм, ей танцы не нравились. В перерывах на площадку выпускали детей, мы хватались за руки и катались по полу как на лыжах. Вся эта атмосфера, жара, духи, разряженные дамы и блестящие кавалеры сливались для меня в ощущение волшебной мечты.
В субботу вечером показывали кино. В 1962 году, с приходом оттепели, мы смотрели даже гонконгские фильмы, в основном о любви. Они пользовались большой популярностью, потому что давали какое–то представление о жизни за рубежом. Разумеется, крутили и фильмы, полные революционной романтики. Существовало два зала для зрителей разного статуса. Элита ходила в просторный, с большими удобными креслами. Другой зал размещался на отдельной территории и всегда набивался битком. Как–то я пошла туда, потому что хотела посмотреть один фильм. Места заняли задолго до начала сеанса. Опоздавшие приносили свои табуретки. Многие стояли. Оказавшиеся в конце зала забирались на табуретки, чтобы хоть что–нибудь увидеть. Я ничего подобного не ожидала и пришла без табуретки. Толпа прижала меня к задней стене. Тут я заметила знакомого повара, стоявшего на короткой скамейке, на которой могло усесться два человека. Он пригласил меня постоять вместе с ним. Лавка была узкая, я еле держалась. Толпа продолжала напирать и в конце концов столкнула меня. Я сильно ударилась, расшибла бровь о край скамьи. Шрам виден до сих пор.
В нашем зале для элиты можно было посмотреть кино, которое больше никому не показывалось, даже зрителям второго зала. Эти так называемые «справочные фильмы», как правило, состояли из фрагментов западных картин. Так я впервые увидела мини–юбку и «Битлз». Помню, как женщины на пляже окатили из ведра подглядывающего за ними мужчину; как художники–абстракционисты давали шимпанзе чернила, чтобы она размазывала их по бумаге; как человек задом играл на фортепьяно.
Думаю, все эти отрывки отбирались с таким расчетом, чтобы убедить нас в упадочности Запада. Их показывали только высокопоставленным партработникам, но и те получали лишь малую толику информации о Западе. Изредка демонстрировали фильм в малом зале, куда детей не пускали. Мне страшно хотелось посмотреть, я умоляла родителей взять меня с собой. Пару раз они согласились. К тому времени отец к нам помягчел. У дверей стоял охранник, но, поскольку я приходила с родителями, он не возражал. Я ничего не понимала. В одной картине, кажется, рассказывалось о пилоте, сошедшем с ума, после того как он сбросил атомную бомбу на Японию. В другом черно–белом игровом фильме гангстеры били в машине профсоюзного лидера, изо рта его сочилась кровь. Я была потрясена, впервые в жизни увидев, как проливается кровь. Коммунисты отменили в школах телесные наказания. Китайские фильмы той поры отличались мягкостью, сентиментальностью, оптимизмом; если в них и присутствовало насилие, изображалось оно стилизованно, как в традиционной китайской опере.
Меня озадачило, что западные рабочие ходят в чистых костюмах, даже без заплат — это не сочеталось с моими представлениями о том, что носят угнетенные массы в капиталистических странах. После фильма я поделилась своим недоумением с мамой, но она его не разрешила: я не поняла, что значит «относительный уровень жизни».
В детстве я представляла Запад юдолью горя и нищеты, описанной в андерсеновской сказке о бездомной «Девочке со спичками». В яслях, когда я не хотела есть, воспитательница говорила: «Подумай о детях, голодающих в мире капитализма!» В школе учительница призывала нас учиться прилежнее: «Вам повезло — вы ходите в школу, читаете книжки. В капиталистических странах дети работают, чтобы прокормить голодную семью». Часто, когда мы сопротивлялись каким–нибудь предложениям взрослых, они утверждали, что людям на Западе этого очень хочется, но у них этого нет, и мы должны радоваться своему счастью. Этот образ мыслей перешел у меня на уровень рефлекса. Если я замечала на однокласснице невиданный полупрозрачный розовый дождевик и думала, что хорошо бы и мне такой вместо скучного старого зонтика из вощеной бумаги, я тут же казнила себя за «буржуазные наклонности» и записывала в дневнике: «Подумай о детях в капиталистических странах — они и мечтать не могут о зонтике!»
Иностранцы представлялись мне чудовищами. У всех китайцев карие глаза и черные волосы, все остальные цвета кажутся им странными. Я воображала себе иностранцев более или менее в соответствии с официальным стереотипом: мужчина с рыжими растрепанными волосами, глазами нечеловеческой окраски, очень–очень длинным носом, пьяной шатающейся походкой и уродливо вывернутыми ногами, заливающий себе в горло кока–колу. Иностранцы все время со странной интонацией произносили «хэлло». Я этого слова не понимала и считала его неприличным. Когда мальчики играли в партизан, нечто вроде западных «ковбоев и индейцев», враги приклеивали к носу колючки и все время кричали «хэлло».
Когда я училась в третьем классе, мы решили украсить подоконники цветами. Одна девочка предложила принести красивые растения из сада, где работал ее отец. Сад принадлежал католической церкви на улице Спокойного моста. Когда–то при церкви существовал приют, но его закрыли. Церковь действовала под присмотром правительства, заставившего католиков порвать с Ватиканом и присоединиться к «патриотической организации». Образ церкви был одновременно загадочным и пугающим из–за антирелигиозной пропаганды. Впервые об изнасиловании я прочитала в одном романе, где оно приписывалось иностранному священнику. Еще священники всегда были империалистическими шпионами и злодеями, использовавшими детей из приютов для медицинских экспериментов.
Каждый день по пути в школу и обратно я пересекала усаженную софорами улицу Спокойного моста и видела силуэт церковных ворот. Моему китайскому глазу ее колонны казались крайне необычными: из белого мрамора, с греческими капителями; китайские всегда делались из раскрашенного дерева. Мне ужасно хотелось заглянуть внутрь; как–то я попросилась к девочке в гости, но она ответила, что отец не позволит. Это придало тайне пущей жгучести. Теперь я с готовностью вызвалась пойти за растениями вместе с ней.
Когда мы подошли ко входу в церковь, у меня почти перестало биться сердце. Я никогда не видела таких внушительных ворот. Подруга встала на цыпочки и ударила в них железным кольцом. Маленькая дверца со скрипом приоткрылась, из нее вышел согбенный старичок. Мне он напомнил ведьму с картинки. Я не разглядела его лица, но вообразила себе длинный крючковатый нос, островерхую шляпу и помело, на котором он сейчас взмоет в небеса. Мысль, что по своему полу он в ведьмы не годится, меня не посетила. Стараясь не глядеть на него, я протиснулась внутрь и оказалась в чистеньком дворике. От возбуждения я ничего в нем не заметила, только какую–то пестроту и фонтан между камней. Подруга взяла меня за руку и повела по галерее, обрамляющей двор. В конце ее она приотворила дверь и сказала, что там священник читает проповеди. Проповеди! Это слово встретилось мне в книжке, где священник во время «проповеди» передавал государственные тайны другому империалистическому шпиону. Попав в огромную сумрачную комнату, я на мгновение ослепла; нервы мои были натянуты как струны. Затем в глубине я увидела статую — впервые в жизни я оказалась перед распятием. Я приблизилась. Изваяние на кресте надвигалась на меня, огромное, давящее. Кровь, поза, выражение лица привели меня в состояние ужаса. Я развернулась и помчалась вон из церкви. Снаружи я чуть не врезалась в человека в черной сутане. Он выставил руку, чтобы поддержать меня. Я подумала, что он хочет меня схватить, увернулась и побежала. Где–то сзади скрипнула дверь. Потом наступила жуткая тишина, слышалось лишь журчание фонтана. Я выскочила через дверцу в воротах и не останавливалась до самого конца улицы. Сердце бешено колотилось в груди, перед глазами все плыло.
В отличие от меня, мой брат Цзиньмин с детства отличался независимым складом ума. Он увлекался наукой, читал научно–популярные журналы. Хотя они содержали неизбежную пропаганду, сообщалось в них и об успехах западной науки и техники, которые производили на Цзиньмина огромное впечатление. Его поражали фотографии лазеров, судов на воздушной подушке, вертолетов, электронных приборов и автомобилей, дополнявшие впечатления от «справочных фильмов». Он стал подозревать, что нельзя верить школе, прессе да и вообще взрослым, когда они говорят, что капиталистический мир — это ад, а Китай — рай на земле.
Особенно Цзиньмина увлекали США как страна с наиболее развитой техникой. Однажды, когда ему было одиннадцать лет, он восторженно рассказывал за обедом о новых успехах американцев в области лазеров и заявил отцу, что обожает Америку. Отец пришел в замешательство. Наконец он потрепал Цзиньмина по голове и сказал маме: «Что мы можем поделать? Наш сын вырастет «правым элементом»!»
Когда ему не было и двенадцати, Цзиньмин сделал ряд «изобретений» на основе картинок в детских научных книжках; он сконструировал телескоп, через который пытался наблюдать комету Галлея, микроскоп со стеклом от лампы. Как–то он решил усовершенствовать ружье, стрелявшее из резинки камешками и еловыми орешками. Чтобы добиться нужного звукового эффекта, он попросил у одноклассника, офицерского сына, пустые гильзы. Товарищ раздобыл патроны, вскрыл их, высыпал дробь и отдал их Цзиньмину, не зная, что порох остался внутри. Цзиньмин наполнил гильзы мелко нарезанным тюбиком из–под зубной пасты, зажал их в щипцах и стал держать над угольной плитой в кухне, чтобы пластмасса запеклась. На решетке стоял железный чайник, Цзиньмин засунул патроны под него. Вдруг раздался громкий хлопок и в дне чайника образовалась дырка. Все помчались в кухню посмотреть, что случилось. Цзиньмин был в ужасе. Не из–за взрыва, а из–за нашего грозного отца.
Однако отец не побил и даже не отругал Цзиньмина. Он строго посмотрел на него, сказал, что тот и так уже изрядно напуган и отправил проветриться. От облегчения Цзиньмин чуть не пустился вприпрыжку. Он не думал, что легко отделается. Когда он вернулся с прогулки, отец запретил ему проводить опыты без взрослых. Но вскоре он забыл о запрете, и Цзиньмин продолжил эксперименты.
Я помогала ему раз или два. Однажды мы сделали распылитель, работающий на струе воды из–под крана, который перемалывал мел. Разумеется, все придумал и сконструировал Цзиньмин. У меня к таким вещам интерес долго не держался.
Цзиньмин ходил в ту же «ключевую» начальную школу, что и я. Да–ли, объявленный «правым элементом» учитель природоведения, преподавал и у него и открыл перед ним мир науки. Цзиньмин остался глубоко ему благодарен на всю жизнь.
Второй мой брат, Сяохэй, родившийся в 1954 году, стал бабушкиным любимчиком, но отец с мамой уделяли ему мало внимания, отчасти потому, что считали: его достаточно балует бабушка. Чувствуя, что он не очень ко двору, Сяохэй занял по отношению к родителям оборонительную позицию. Это их раздражало, особенно отца, который не выносил такого нечестного, по его мнению, поведения.
Иногда Сяохэй так раздражал его, что он его бил. Однако позднее раскаивался, при первой возможности трепал Сяохэя по голове и говорил, что сожалеет, что вышел из себя. Бабушка устраивала ему ужасный скандал, а он говорил, что она портит ему сына. Это было постоянным источником трений между ними. Бабушка, естественно, привязывалась к Сяохэю еще больше и баловала еще сильнее.
Родители считали, что ругать и бить можно только сыновей. Мою сестру, Сяохун, ударили всего дважды. Один раз, когда ей было пять лет, она потребовала, чтобы ей дали сладкое до основной еды, а потом заявила, что не может ничего есть, потому что у нее во рту сладко. Отец сказал, что она добилась, чего хотела. Сяохун обиделась, закричала и швырнула палочки через всю комнату. Отец ударил ее, она схватила метелку из перьев для смахивания пыли и хотела дать ему сдачи. Он вырвал у нее метелку, тогда она схватила метлу. После потасовки отец запер ее в нашей спальне и восклицал: «Испорченная девчонка! Испорченная девчонка!» Сестра осталась без обеда.
В детстве Сяохун много капризничала. Непонятно почему отказывалась ходить в кино и в театр, путешествовать и не ела многих вещей: кричала как резаная, если ей давали молоко, говядину или баранину. Я ей подражала и упустила немало интересных фильмов и вкусной еды.
У меня был совсем другой характер; еще до подросткового возраста я, по словам окружающих, отличалась благоразумием и чувствительностью (дун ши). Родители пальцем меня не трогали, не сказали ни одного строгого слова. Даже редкую критику они облекали в деликатную форму, словно я была взрослым человеком с развитым чувством собственного достоинства. Они очень меня любили, особенно отец, который всегда гулял со мной после ужина и часто брал к друзьям. Большинство его ближайших друзей были ветеранами революции, способными, умными; с точки зрения партии, все они как–либо «запятнали» себя в прошлом, и потому занимали невысокие должности. Один из них служил в молодости в крыле Красной армии, возглавляемом соперником Мао — Чжан Готао. Другой был Дон Жуаном — его жена, партийная чиновница, которой отец избегал, была невыносимо строгой. Мне нравились эти встречи взрослых, но больше всего я любила оставаться наедине с книгами, которые во время летних каникул читала дни напролет, жуя концы волос. Кроме художественной литературы, в том числе не слишком сложной классической поэзии, я увлекалась научной фантастикой и приключениями. Помню книгу о человеке, который, как ему казалось, провел на другой планете всего несколько дней, а вернулся на Землю уже в двадцать первом веке, когда все изменилось. Люди ели пищевые капсулы, перемещались на судах с воздушной подушкой и разговаривали по телефонам с видеоэкранами. Мне страстно хотелось попасть в двадцать первый век и пользоваться всеми этими волшебными приспособлениями.
В детстве я всей душой рвалась в будущее, спешила повзрослеть и мечтала, чем займусь, когда вырасту. Едва на учившись читать и писать, я предпочитала книги с большим количеством текста книжкам с картинками. Я была нетерпеливой и в прочих отношениях: никогда не сосала конфету, а разгрызала и сразу глотала, жевала даже леденцы от кашля.
С братьями и сестрой у меня были прекрасные отношения. По традиции, девочки и мальчики редко играли вместе, но мы дружили и заботились друг о друге. Мы редко ревновали друг к другу, редко соревновались, редко ссорились. Когда сестра видела, что я плачу, она сама ударялась в слезы. Она не возражала, если меня хвалили. О наших хороших отношениях часто говорили, люди спрашивали наших родителей, как они этого добиваются.
Благодаря родителям и бабушке в семье царила атмосфера любви. Мы видели только нежность родителей друг к другу, и никогда не были свидетелями их размолвок. Мама никогда не показывала нам, что разочарована в отце. После голода родители, как и большинство партработников, уже не были так преданы своему делу, как в 1950–е годы. Более заметное место заняла семейная жизнь, теперь она не считалась свидетельством неблагонадежности. Отец, которому было за сорок, смягчился и сблизился с мамой. Родители больше времени проводили вместе, и, подрастая, я часто наблюдала проявления их любви друг к другу.
Однажды я услышала, как отец пересказывает маме комплимент, отпущенный в ее адрес сослуживцем, чья жена слыла красавицей: «Нам посчастливилось жениться на таких замечательных женщинах. Посмотрите, как они отличаются от всех остальных!» Отец тихо сиял, вспоминая эту сцену. «Конечно, я вежливо улыбнулся, — сказал он, — но про себя подумал: как ты можешь ставить свою жену рядом с моей? С моей женой не сравнится никто!»
Однажды отец поехал на трехнедельную экскурсию по стране для заведующих отделами пропаганды всех китайских провинций. Больше таких экскурсий за все карьеру отца не было, считалось, что это особая честь. На протяжении всего пути их обслуживали по высшему классу, поездку снимал фотограф. Однако отец чувствовал себя не в своей тарелке. К началу третьей недели, в Шанхае, он вконец соскучился по дому, объявил, что ему нездоровится, и прилетел обратно в Чэнду. С тех пор мама называла его «старым дурнем». «Никуда бы твой дом не делся. И я тоже. Во всяком случае, за неделю. Сколько ты всего упустил!» Мне всегда казалось, что на самом деле ей очень по душе папино «глупое домоседство».
В отношении детей родителей прежде всего волновали две вещи. Во–первых, образование. Несмотря на занятость на работе, они всегда находили время проверить наше домашнее задание. Они поддерживали постоянную связь с учителями, требовали от нас отличной учебы, утверждая, что она — основная цель нашей жизни. Еще больше внимания нашим занятиям они начали уделять после голода, когда у них прибавилось свободного времени. По вечерам они почти всегда по очереди давали нам уроки.
Мама репетировала нас по математике, отец — по китайскому языку и литературе. Мы торжественно входили в его кабинет, уставленный с пола до потолка томами в твердых переплетах и перевитыми шнурами изданиями китайских классиков. Перед тем как притронуться к книгам, мы обязательно мыли руки. Мы читали Лу Синя, нашего великого современника, и стихи золотых веков китайской поэзии, трудные даже для взрослых.
Такое же внимание родители уделяли нравственному воспитанию. Отец стремился вырастить нас настоящими гражданами своей страны, именно в этом он видел цель революции. В духе китайской традиции, он дал моим братьям имена, символизировавшие его идеалы: Чжи («Честный») — Цзиньмину; Пу («Непритязательный») — Сяохэю; Фан («Неподкупный») входило в имя Сяофана. Отец верил, что именно этих качеств не хватало старому Китаю и что они расцветут при коммунистах. Коррупция особенно истощала Китай. Однажды он отчитал Цзиньмина за то, что тот сделал самолетик из бланка его отдела. Чтобы позвонить с домашнего аппарата, следовало спросить разрешения у отца. Поскольку он заведовал средствами массовой информации, ему присылали множество газет и журналов. Он с удовольствием предлагал нам их читать, но только в стенах своего кабинета. В конце месяца он относил их в свой отдел, так как старые газеты сдавались в макулатуру. Я провела немало томительных воскресений, помогая ему сверять, все ли номера на месте.
Отец всегда был к нам очень требователен, что постоянно порождало трения между ним и бабушкой, между ним и нами. В 1965 году в Чэнду с балетным выступлением приехала одна из дочерей камбоджийского принца Сианука. В изолированном китайском обществе ее визит воспринимался как сенсация. Мне ужасно хотелось увидеть балет. Отцу, благодаря его должности, доставались лучшие бесплатные билеты на все новые представления, и он часто брал меня с собой. На этот раз он почему–то не смог пойти. Он дал мне билет, но велел поменяться с кем–нибудь, сидящим сзади.
В тот вечер я стояла у входа в театр с билетом в руке; мимо меня в зал проходили зрители — все с бесплатными билетами, распределенными в соответствии с их рангом. Прошла добрая четверть часа, а я все стояла. Я стеснялась обратиться к людям с такой просьбой. Проходящих мимо становилось все меньше, представление уже начиналось. В глазах у меня стояли слезы, я думала, почему мне так не повезло с отцом. Тут я увидела мелкого служащего из отдела отца. Я расхрабрилась и потянула его сзади за пиджак. Он улыбнулся и сразу же согласился пустить меня на свое место, в самом заднем ряду. Он не удивился. О том, как отец с нами строг, в администрации ходили легенды.
На Новый 1965 год по китайскому календарю устроили особый вечер для школьных учителей. Отец пошел на спектакль вместе со мной, но не позволил мне сидеть рядом с ним, поменяв мой билет на место в заднем ряду. Он сказал, что с моей стороны будет невежливо сидеть перед учителями. Я почти не видела сцены и чувствовала себя несчастной. Позднее я слышала от учителей, как их растрогала папина тактичность. Их раздражало, что дети других высокопоставленных чиновников восседали в передних рядах, ведя себя тем самым крайне неуважительно.
В Китае дети чиновников испокон веков считались заносчивыми и избалованными. Это вызывало всеобщее недовольство. Как–то новый охранник не узнал девочку–подростка и не пустил ее на территорию администрации, где она жила. Она наорала на него и ударила его сумкой. Некоторые дети разговаривали с поварами, шоферами и прочей обслугой грубо, в приказном тоне. Они называли их по именам, что в Китае является знаком вопиющего неуважения младшего к старшему. Я никогда не забуду обиженного взгляда повара в нашей столовой, когда сын одного из отцовских сослуживцев вернул ему часть обеда, сказав, что еда дрянь и выкрикнул имя повара. Тот проглотил оскорбление. Он не хотел сердить отца мальчика. Некоторые родители никак не реагировали на подобное поведение своих детей, но отца оно возмущало. Часто он восклицал: «Эти люди не коммунисты».
Родители придавали огромное значение тому, чтобы их дети вели себя со всеми вежливо и уважительно. Мы называли обслуживающий персонал по фамилии, добавляя к ней «дядя» или «тетя» — традиционное вежливое обращение ребенка к взрослому. Закончив еду, мы всегда относили грязную посуду и палочки на кухню. Отец объяснял, что так мы помогаем поварам, иначе им придется убирать со столов самим. Благодаря этим мелочам обслуга нас очень любила. Повара сохраняли нам еду теплой, если мы опаздывали. Садовники дарили мне цветы и фрукты. Водитель с удовольствием делал крюк, чтобы подвезти меня из школы домой — втайне от отца, который не позволял нам ездить в машине без него.
Наша современная квартира располагалась на третьем этаже, балкон выходил на узкий, мощенный булыжником переулок, огибающий стену нашей территории. С одной стороны переулок ограничивала кирпичная стена, с другой — ряд деревянных одноэтажных домиков, в каких в Чэнду селилась беднота. Там были глинобитные полы, не было ни туалетов, ни водопровода. Фасады сбивались из вертикальных досок, две из них образовывали дверной проем. Дом состоял из анфилады комнат. Задняя выходила на другую улицу. Поскольку дома вплотную граничили друг с другом, окна в них отсутствовали. Чтобы впустить в дом свет и свежий воздух, обитатели должны были открывать обе двери. Частенько, особенно жаркими летними вечерами, они сидели на узкой мостовой, читали, шили или болтали. С мостовой открывался отличный вид на просторные балконы и сверкающие окна наших квартир. Отец говорил, что нельзя оскорблять чувства жителей переулка, и запрещал нам играть на балконе.
Летними вечерами мальчики из этих хижин торговали на улицах благовонием от комаров. Чтобы привлечь внимание к своему товару, они распевали особую песенку. Я читала под аккомпанемент этой медленной печальной мелодии. Благодаря постоянным напоминаниям отца, я знала, что возможность учиться в просторной прохладной комнате с паркетом и затянутыми сеткой окнами — неслыханная привилегия. «Не думай, что ты лучше их, — повторял он. — Тебе просто повезло. Знаешь, зачем нам нужен коммунизм? Чтобы все жили в таких домах, как наш, и даже еще лучше».
Отец произносил подобные вещи так часто, что я росла с ощущением вины за свои привилегии. Иногда мальчики, жившие на нашей территории, выходили на балконы и передразнивали песенку юных разносчиков. Мне всегда было за них стыдно. Сидя с отцом в машине, я всегда смущалась, когда мы с гудением проезжали через толпу. Если люди заглядывали в машину, я пригибалась и старалась не встречаться с ними глазами.
В тринадцать–четырнадцать лет я была очень серьезной девочкой. Мне нравилось одиночество, нередко я размышляла на нелегкие этические темы. Я отдалилась от игр и развлечений, мало гуляла с другими детьми, мало сплетничала с девочками. Хотя я пользовалась авторитетом и умела общаться с окружающими, между мной и другими всегда существовала некоторая дистанция. В Китае люди легко сходятся, особенно женщины. Я же с детства любила одиночество.
Отец одобрял это свойство моего характера. Учителя постоянно твердили, что мне нужно проникнуться «духом коллективизма», но он учил меня, что панибратство и стадность необязательно доводят до добра. Это помогало мне сохранять личное пространство. В китайском языке отсутствует точное обозначение для этого понятия, но к тому же, что и я, инстинктивно стремились многие, в частности, безусловно, братья и сестра. Цзиньмин, например, настолько хотел жить своей собственной жизнью, что производил на не знавших его впечатление нелюдима; на самом деле он был очень общительным мальчиком, с ним дружили многие сверстники.
Отец часто говаривал нам: «Думаю, мама делает совершенно правильно, что выпускает вас «на вольный выпас»». Родители предоставляли нам свободу, уважали наше желание жить в своем собственном мире.
14. «Папа родной, мама родная, но никого нет роднее Председателя Мао»: Культ Мао (1964–1965)
«Председатель Мао», как мы всегда его называли, начал активно присутствовать в моей жизни с 1964 года, когда мне исполнилось двенадцать лет. Уйдя после голода на некоторое время на дальний план, он предпринял шаги к возвращению, и в марте 1963 года призвал всю страну, особенно молодежь, «учиться у Лэй Фэна».
Лэй Фэн был солдатом, умершим, как нам говорили, в двадцатидвухлетнем возрасте в 1962 году. Он совершил невероятное количество добрых дел: изо всех сил помогал старикам, больным, нуждающимся. Он пожертвовал свои сбережения в фонд помощи голодающим, а в больнице отдавал товарищам свой паек.
Вскоре Лэй Фэн стал главной фигурой в моей жизни. Каждый день после учебы мы отправлялись «совершать хорошие поступки, как Лэй Фэн». Мы ходили к вокзалу помогать старушкам тащить багаж, как Лэй Фэн. Иногда мы отнимали у них узлы силой — некоторые крестьянки принимали нас за воров. В дождливые дни я стояла на улице с зонтом, от всей души надеясь, что мимо пройдет пожилой человек и я смогу проводить его до дома, как Лэй Фэн. Если я видела кого–то с полными ведрами на коромысле — в старых домах водопровод по–прежнему отсутствовал, — я безуспешно пыталась собраться с духом и предложить свою помощь; при этом я не представляла, насколько ведра тяжелые.
Постепенно в течение 1964 года акцент сместился с добрых дел в духе бойскаутов на поклонение Мао. Учителя рассказывали нам, что главной чертой Лэй Фэна были «безграничная любовь и преданность Председателю Мао». Прежде чем взяться за любое дело, Лэй Фэн вспоминал какие–нибудь слова Председателя Мао. Его дневник опубликовали, он стал нашим учебником нравственности. Почти на каждой странице встречалось обещание в духе: «Я буду изучать труды Председателя Мао, слушать слова Председателя Мао, следовать указаниям Председателя Мао, стану верным солдатом Председателя Мао». Мы клялись следовать по стопам Лэй Фэна, «подняться в горы, утыканные ножами, и спуститься в моря, объятые пламенем», «истолочь свои тела в порошок и раздробить кости в пыль», «беспрекословно отдать себя в распоряжение нашего Великого Руководителя» — Мао. Поклонение Мао и почитание Лэй Фэна составляли две стороны одной медали: одно было культом личности, другое — безличием.
Первую статью Мао я прочитала в 1964 году, когда нашу жизнь определяли два его лозунга: «Служить народу» и «Никогда не забывать о классовой борьбе». Суть двух этих взаимодополняющих призывов передавало стихотворение Лэй Фэна «Времена года», которое мы заучивали наизусть:
Как весна, я тепло отношусь к товарищам.
Как лето, я с жаром занимаюсь революционной работой.
Я истребляю свой индивидуализм, как осенний ветер
уносит опавшие листья, А к классовому врагу я безжалостен, как суровая зима.
В соответствии с основной мыслью этого стихотворения, учитель предостерег нас от помощи «классовым врагам». Но я не понимала, кто это, а учителя, так же, как и родители, отказывались четко ответить на этот вопрос. Чаще всего говорилось: «Они — как злодеи в кино». Но вокруг я не видела никого, даже отдаленно напоминающего стилизованные образы врагов на экране. Это представляло серьезную проблему. Теперь я не могла спокойно выхватывать баулы из рук у старушек. Не спрашивать же мне было: «А вы не классовый враг?»
Иногда мы ходили убирать дома в переулке неподалеку от школы. В одной хижине жил молодой человек, который, восседая на бамбуковом стуле, с циничной ухмылкой наблюдал, как мы надрываемся, моя его окна. Он не только не предлагал помочь, но и выкатывал из сарая велосипед, чтобы мы его тоже почистили. «Какая жалость, — промолвил он однажды, — что вы не настоящий Лэй Фэн и вас не снимет фотограф для газеты». (Все подвиги Лэй Фэна волшебным образом запечатлевались официальным фотографом.) Мы все до единого ненавидели мерзкого хозяина грязного велосипеда. Может быть, это классовый враг? Но мы знали — он работает на машиностроительном заводе, а рабочие, как нам не уставали повторять, являлись лучшим, передовым отрядом революции. Я совсем запуталась.
После школы я помогала толкать тачки, часто доверху набитые кирпичами или глыбами известняка. Каждый шаг давался катившим их мужчинам с трудом. Даже в холодную погоду они ходили голые по пояс, по лицу и спине стекали капельки пота. Если дорога шла хоть немного в гору, некоторые из них еле продвигались вперед. Каждый раз при их виде на сердце у меня становилось тоскливо. С начала кампании «учись у Лэй Фэна» я дежурила на тротуаре, ожидая, пока проедет тележка. Я приходила в изнеможение после первой же тачки. Толкавший ее мужчина, стараясь не сбиться с шага, провожал меня почти незаметной перекошенной улыбкой.
Как–то раз одноклассница поведала мне серьезным тоном, что большинство людей, толкающих тачки, — классовые враги, приговоренные к тяжелым работам. Следовательно, помогать им неправильно. По китайской традиции, я обратилась за разъяснением к учителю. Однако она удивительным образом растерялась и призналась, что не знает правильного ответа. Действительно, нередко толкать тачки посылали людей, связанных с Гоминьданом, и жертв политических чисток. Учительница явно не хотела мне этого говорить, но она попросила меня не помогать больше толкать тележки. С тех пор, если на улице мне попадалась сгорбленная фигурка с тачкой, я отворачивалась и уходила с тяжелым сердцем.
Чтобы преисполнить нас ненависти к классовым врагам, в школах устраивали собрания «вспоминаем горечь, размышляем о счастье», на которых представители старшего поколения рассказывали нам о тяжкой жизни в Китае до прихода коммунистов. Мы родились в новом Китае «под красным знаменем» и представить себе не могли, как жилось при Гоминьдане. А Лэй Фэн, говорили нам, мог это представить, поэтому так люто ненавидел классовых врагов и всем сердцем любил Председателя Мао. Когда ему было семь лет, его мать, по рассказам, повесилась, потому что ее изнасиловал помещик.
К нам в школу приходили рабочие и крестьяне: мы слушали истории о голодном, холодном детстве, о зимах без ботинок, о ранних, мучительных смертях. Все они были безгранично благодарны Председателю Мао — он их спас, накормил, одел. Один оратор принадлежал к народности «и», жившей при рабовладельческом строе до конца 1950–х годов. Он относился к сословию рабов и показал нам ужасные шрамы от побоев, нанесенных ему прежними хозяевами. Каждый раз, когда выступающие повествовали о пережитых ими страданиях, набитый до отказа зал оглашался рыданиями. С этих собраний я приходила до глубины души возмущенная злодеяниями Гоминьдана и преисполненная беззаветной преданности Мао.
Чтобы продемонстрировать нам, как выглядела бы жизнь без Мао, школьная столовая регулярно готовила нам так называемый «горький обед», то, чем якобы питался бедный народ при Гоминьдане. Он состоял из странных трав, и я втайне задумывалась, не разыгрывают ли нас повара — это было нечто чудовищное. Первые два раза меня рвало.
Однажды нас отвели на выставку «классового воспитания», посвященную Тибету. Мы увидели фотографии темниц, кишащих скорпионами, ужасные орудия пыток: приспособление для выковыривания глаз и ножи для подрезания сухожилий на лодыжках. К нам в школу приехал человек в инвалидной коляске, рассказавший, что он был рабом и ему подрезали лодыжки за какую–то мелкую провинность.
С 1964 года «музеи классового воспитания» открыли также в богатых домах; там показывалось, в какой роскоши жили помещики, пившие кровь трудового народа до тех пор, пока к власти не пришел Мао. В 1965 году на китайский Новый год отец повез нас в знаменитый особняк в двух с половиной часах пути от дома. Под политическим предлогом мы просто ранней весной выехали на природу, в соответствии с китайской традицией «прогулки по первой зелени» (та цин). Это была одна из немногих наших семейных загородных прогулок.
Проезжая по обрамленной эвкалиптами асфальтовой дороге, пересекавшей зеленую Чэндускую равнину, я завороженно смотрела на дивные бамбуковые рощи вокруг деревенских домов, на дымок, вьющийся из труб крытых соломой хижин, прячущихся в бамбуковой листве. В струящихся среди зарослей ручейках отражались цветки слив. Отец попросил нас после поездки написать эссе о природе, и я тщательно вглядывалась в пейзаж. Меня озадачило, что с немногих деревьев у полей были ободраны все ветки и листья, лишь на вершинах этих голых шестов оставались зеленые шапки. Отец объяснил, что на распаханной Чэндуской равнине дрова добыть нелегко, и крестьяне срезали все ветви, до которых достали. Он умолчал о том, что еще несколько лет назад деревьев было гораздо больше, но львиную их долю поглотили сталеплавильные печи времен «Большого скачка».
Сельская местность выглядела процветающей. По ярмарочному городу, где мы остановились пообедать, сновали крестьяне в яркой новой одежде, пожилые в белоснежных тюрбанах и чистых синих передниках. В витринах переполненных ресторанов светились золотистые жареные утки. На прилавках, вытянувшихся вдоль людных улиц, из больших бамбуковых корзин вырывались клубы ароматного пара. Наш автомобиль прополз через рынок до здания местной администрации, двухэтажного особняка с сидящими у входа каменными львами. Отец жил в этом уезде в голодном 1961 году, и теперь, четыре года спустя, местные работники хотели показать ему, как все переменилось. Нас отвели в ресторан, где нас ждал отдельный кабинет. Когда мы пробирались через ресторанную толпу, крестьяне во все глаза смотрели, как нас, явно приезжих, уважительно провожает местное начальство. Я увидела на столах удивительные кушанья. Я почти ничего не ела за пределами нашей столовой и наслаждалась новыми блюдами под новыми названиями: «Жемчужные шары», «Три залпа», «Львиные головы». Потом директор ресторана проводил нас до мостовой — местные жители по–прежнему глазели на важных гостей.
По дороге в музей наша машина обогнала открытый грузовик с детьми из нашей школы. Они, несомненно, направлялись в тот же особняк. Позади стояла моя учительница. Она мне улыбнулась, а я вжалась в сиденье, стыдясь, что еду в автомобиле с шофером, а они трясутся в открытом кузове на холодном воздухе — весна только начиналась. Отец сидел впереди с самым младшим моим братом на коленях. Он узнал учительницу и улыбнулся в ответ. Обернувшись, чтобы привлечь мое внимание, он обнаружил, что я исчезла из виду. Отец засиял от удовольствия — смущение говорило в мою пользу; хорошо, что я стыжусь привилегий, а не щеголяю ими, заметил он.
Музей произвел на меня подавляющее впечатление. Вокруг стояли скульптуры безземельных крестьян, принужденных платить грабительскую аренду. Были показаны две мерки, которыми пользовался помещик: большой для собирания зерна с крестьян и маленькой для раздачи его в долг, к тому же под разорительные проценты. Была пыточная камера с железной клеткой, затопленная вонючей водой. В клетке человек не мог ни встать ни сесть. Нам рассказали, что так помещик наказывал крестьян, которые не могли заплатить арендную плату. В одной комнате, сообщил экскурсовод, жили три кормилицы: помещик считал, что женское молоко всего полезнее для здоровья. Его пятая наложница съедала в день тридцать уток — не мясо, а только лапки, которые считались большим лакомством.
Не рассказали нам только, что брат этого бесчеловечного помещика теперь возглавляет в Пекине министерство. Так его наградили за сдачу Чэнду коммунистам в 1949 году. Между историями о «людоедских временах Гоминьдана» нам не уставали напоминать, как мы должны благодарить Председателя Мао.
Культ Мао был неразрывно связан с манипулированием печальными воспоминаниями людей о прошлом. Классовых врагов изображали как вредителей, пытающихся вернуть Китай под власть Гоминьдана, и тогда дети лишатся школы, зимних ботинок и еды. Вот почему мы должны разгромить этих врагов. Чан Кайши будто бы устраивал нападения на материк и попытался вернуться в 1962 году, «в период трудностей» — так режим эвфемистически называл голод.
Несмотря на все эти разговоры и мероприятия, классовые враги для меня, как и для большинства моих сверстников, оставались абстрактными, бесплотными тенями невозвратного прошлого. Мао не удалось придать им бытовой, осязаемый облик. Одна из причин, по иронии судьбы, заключалась в том, что он так основательно разрушил прошлое. Тем не менее, нас запрограммировали на ожидание врага.
Одновременно Мао подготавливал почву для собственного обожествления, и все мы стали жертвами его грубой, но действенной пропаганды. Она работала отчасти благодаря тому, что Мао ловко занял положение нравственного ориентира: так же, как суровость к классовому врагу объявлялась синонимом верности народу, всецелое подчинение Мао подавалось как призыв к бескорыстию. Очень сложно было выпутаться из сетей демагогии, тем более что от взрослых не поступало никакой альтернативной точки зрения. Наоборот: они, словно сговорившись, пестовали культ Мао.
Две тысячи лет Китаем управлял император — символ неразрывно связанных государственной власти и духовного авторитета. Религиозные чувства, которые в других частях света испытывают к богу, в Китае всегда направлялись на фигуру императора. Мои родители, так же, как и сотни миллионов китайцев, жили во власти этой традиции.
Мао уподобился богу, окружив себя облаком тайны. Он всегда держался вдали от людей, сторонился радио, а телевидения тогда не было. За исключением «придворных» мало кто имел к нему доступ. Даже самые высокопоставленные люди в государстве встречались с ним лишь в ходе своеобразных официальных аудиенций. После Яньани отец видел его всего несколько раз, на многолюдных собраниях. Мама имела возможность наблюдать его лишь однажды, когда в 1958 году он приехал в Чэнду и сфотографировался с работниками 18–го разряда и выше. После провала «Большого скачка» он почти полностью исчез.
Мао–император подходил под один из шаблонов китайской истории: вождь крупного восстания, уничтоживший прогнившую династию и ставший новым мудрым самодержцем. И, в некотором смысле, Мао заслужил свое положение божественного императора. Он действительно положил конец гражданской войне и принес мир и стабильность, о которых китайцы всегда мечтали — настолько, что говорили: «Лучше быть собакой в мирные времена, чем человеком в войну». При Мао с Китаем в мире стали считаться, и многие китайцы перестали стыдиться своей национальной принадлежности — а это много для них значило. Мао вернул Китай к дням «Срединного государства» (Китайцы с древности называют свою страну «Срединное государство» (или «Срединные государства» — во времена раздробленности).), а также, не без помощи США, к изоляции от внешнего мира. Он дал китайцам возможность вновь почувствовать себя великим, даже величайшим народом, отрезав их от остального мира. Тем не менее, национальная гордость имела для китайцев такое значение, что значительная часть населения испытывала к Мао искреннюю благодарность и не находила в поклонении ему ничего оскорбительного, во всяком случае на первых порах. Практически полное отсутствие доступа к информации и систематическая дезинформация означали, что у китайцев, за редкими исключениями, не было возможности провести грань между успехами и неудачами Мао и оценить истинный вклад и Мао и других руководителей в достижения коммунистов.
Немалую роль в обожествлении Мао сыграл и страх. Многие не осмеливались даже думать из боязни проговориться. Те, кто мыслил хоть сколько–нибудь независимо, не делились своими соображениями с детьми, которые могли сболтнуть что–то другим детям и навлечь беду на себя и на родителей. В годы «учебы у Лэй Фэна» школьникам внушалась преданность Мао и лишь ему одному. В популярной песне пелось: «Папа родной, мама родная, но никого нет роднее Председателя Мао». Нас приучили считать врагом всякого несогласного с Мао, будь то даже отец или мать. Многие родители растили детей конформистами, веря, что это обеспечит им наилучшее будущее.
Самоцензура была всеобъемлющей. Я никогда не слышала ни о Юйлине, ни о других бабушкиных родственниках. Не говорили мне ни о мамином аресте в 1955 году, ни о голоде — ничего, что могло бы посеять во мне сомнение в режиме или в Мао. Мои родители, как практически все отцы и матери в Китае, никогда не делились с детьми крамольными мыслями.
В Новом 1965 году я, по традиции, обещала «слушаться бабушку». Отец покачал головой: «Ты должна говорить: «Я буду слушаться Председателя Мао»». В марте того же года отец подарил мне на тринадцатилетие не привычную научную фантастику, а том с четырьмя философскими работами Мао.
Только один взрослый человек произнес при мне нечто противоречащее официальной пропаганде, и этим человеком была мачеха Дэн Сяопина, которая некоторое время жила по соседству с нами, у дочери, работавшей в провинциальной администрации. «Бабушка Дэн» любила детей, я часто бывала у нее дома. Когда мы с друзьями воровали из столовой соленья или рвали в нашем саду цветы дыни и травы, мы приносили их не домой, где нас отругали бы, а к ней — она мыла и жарила их для нас. Запретные плоды были, конечно, особенно сладки. Эта женщина с тонким, но волевым лицом и крошечными ножками выглядела гораздо моложе своих семидесяти с лишним лет. Одевалась она всегда в серую хлопковую кофту и черные матерчатые туфли, которые шила сама. Она вела себя очень непринужденно и держалась с нами как равная. Мне нравилось болтать с ней на кухне. Как–то в тринадцатилетнем возрасте я явилась к ней сразу после собрания «вспоминаем горечь». Меня переполняло сочувствие ко всем жившим при Гоминьдане. Я воскликнула: «Бабушка Дэн, как вы страдали при отвратительном Гоминьдане! Как вас грабили солдаты! А помещики–кровопийцы! Что они с вами делали?» — «Ну, — ответила Дэн, — они не всегда занимались грабежом... и не всегда были отвратительными...» Эти слова так поразили меня, что я никому о них не сказала.
Никто из нас не подозревал, что раздувая свой культ и пропагандируя классовую борьбу, Мао готовился к решающему поединку с председателем государства Лю Шаоци и генеральным секретарем партии Дэн Сяопином. Мао не нравилось, что делают Лю и Дэн. Со времен голода они занимались либерализацией экономики и общественной жизни. С точки зрения Мао, их политика попахивала скорее капитализмом, чем социализмом. Особенно ему досаждало то обстоятельство, что «капиталистический путь» оказался успешным, тогда как избранный им «правильный путь» обернулся катастрофой. Как человек практичный, Мао это признавал и предоставил им свободу действий. Однако он намеревался вновь навязать стране свои идеи, как только она сможет выдержать эксперимент, а он накопит достаточно сил, чтобы сместить своих могучих врагов в партии.
Мысль о мирном прогрессе угнетала Мао. Неугомонный боевой предводитель, поэт–воин, он жаждал действий, жестоких действий, и считал вечную борьбу между людьми необходимым условием общественного прогресса. Окружавшие его коммунисты стали для него слишком мягкими и терпимыми, склонными к миру, а не к противостоянию. Политических кампаний, в ходе которых люди боролись друг с другом, не случалось с 1959 года!
Мао раздражался. Он чувствовал, что политические оппоненты унизили его, продемонстрировав его некомпетентность. Он желал отомстить и, осознавая, что соперники пользуются широкой поддержкой, стремился всемерно укрепить свой авторитет. Для этого ему потребовалось себя обожествить.
Мао выжидал, пока экономика станет на ноги, и, едва она стабилизировалась, особенно после 1964 года, начал готовить обширное контрнаступление. Относительная оттепель начала 1960–х сходила на нет.
Еженедельные танцы на территории администрации прекратились в 1964 году. Перестали показывать гонконгские фильмы. Мамины пушистые локоны сменились короткой прямой стрижкой. Яркие, охватывающие фигуру блузки и пиджаки уступили место тусклым и мешковатым. Особенно я жалела, что она перестала носить юбки. Я помню, как незадолго до этого мама слезала с велосипеда, грациозно приподнимая коленом юбку в бело–голубую клетку. Летними вечерами я облокачивалась на крапчатый ствол платана, росшего за стеной нашей территории, качала Сяофана в бамбуковой коляске и ждала, когда она приедет домой в юбке, колышущейся как веер.
Бабушка, которой было уже за пятьдесят, сохраняла больше признаков женственности. Хотя ее кофты в традиционном стиле теперь все были светло–серые, она много внимания уделяла своим длинным густым волосам. По китайской традиции, унаследованной коммунистами, женщины среднего возраста, то есть старше тридцати, не распускали волосы ниже плеч. Бабушка собирала волосы в аккуратный пучок, но всегда украшала его цветами — иногда двумя магнолиями цвета слоновой кости, иногда обрамленной темно–зелеными листьями белой гарденией, оттенявшей ее блестящие волосы. Она никогда не пользовалась магазинным шампунем, от которого волосы, по ее мнению, могли сделаться сухими и слабыми, заменяя его отваром плодов гледичии китайской (Гледичия китайская — растение семейства бобовых высотой до 15 м, с колючками и зеленоватыми соцветиями.). Она терла плоды до получения душистой пены и медленно опускала свои тяжелые черные волосы в блестящую молочно–белую жидкость. Деревянный гребень она смачивала в соке семян помело, чтобы он легко расчесывал волосы и придавал им слабый аромат. Она душилась настоем цветков коричного дерева, потому что духи начали исчезать из магазинов. Я помню, как она причесывалась. На это единственное занятие она не жалела времени — все остальное делала очень быстро. Под конец она слегка подводила брови угольным карандашом и припудривала нос. Ее глаза смотрели в зеркало с особой радостной сосредоточенностью. Думаю, это были одни из самых счастливых мгновений ее трудового дня.
То, что она красится, выглядело непривычно, хотя я наблюдала эти сцены с младенчества. Теперь в кино и книгах красились только дурные женщины, вроде наложниц. Я смутно знала, что моя горячо любимая бабушка некогда была наложницей, но приучилась хранить противоречащие друг другу мысли и факты в разных отделах головы. Отправляясь с бабушкой за покупками, я видела, что она отличается от других косметикой — пусть очень умеренной — и цветами в волосах. Окружающие обращали на нее внимание. Она шла гордо, с прямой спиной, не замечая взглядов.
Это сходило ей с рук, потому что она жила на территории администрации. В противном случае она попала бы в руки уличного комитета, надзиравшего за всеми взрослыми людьми, которые нигде не работали. В такие комитеты обычно входили пенсионеры и старые домохозяйки, которые нередко любили лезть в чужие дела и командовать. В этом случае бабушку ожидали бы недовольные намеки, а то и открытая критика. Однако у нас на территории комитет отсутствовал. Раз в неделю она вместе с другими родителями служащих, горничными и нянями ходила на собрание, где им рассказывали о политике партии, но к бабушке никто не приставал. Ей даже нравились собрания — они предоставляли возможность поболтать с другими женщинами, и она всегда приносила домой последние сплетни.
Политика стала все больше проникать в мою жизнь с осени 1964 года, когда я пошла в школу средней ступени. В первый же день нам сказали, что нас приняли благодаря Председателю Мао, потому что при наборе применяли «классовый подход». Мао обвинял школы и университеты в том, что они принимают слишком много детей буржуазии. Теперь, учил он, преимущество должно быть отдано детям с «хорошим происхождением» (чу–шэнь хао). Это означало, что в качестве родителей, особенно отцов, было предпочтительно иметь рабочих, крестьян, солдат или партийных работников. Применение «классового подхода» приводило к невероятной зависимости человека от его социального положения.
Однако положение это часто бывало неясным: рабочий, некогда работавший на заводе Гоминьдана; служащий, не относившийся ни к одной из известных категорий; интеллигент, то есть «неблагонадежный» элемент, но при этом член партии... — кем считать детей подобных родителей? Приемные комиссии зачастую шли по самому безопасному пути, то есть отдавали предпочтение детям партработников. Таковые составляли половину нашего класса.
Моя новая школа — «центральная средняя № 4» — принимала учеников из всей Сычуани, показавших лучшие результаты на вступительных экзаменах. Раньше учитывались только оценки, но в год, когда поступала я, результаты экзаменов и происхождение были одинаковы важны.
Я получила сто процентов по математике и, что необычно, «сто с плюсом» по китайскому. Отец постоянно вдалбливал мне в голову: нельзя рассчитывать, что мне поможет имя родителей. Мне не нравилась мысль, что я попала в школу благодаря «классовому подходу». Но вскоре я перестала об этом думать: если так сказал Председатель Мао, значит, всё правильно.
Как раз в тот период «дети высших чиновников» (гао–гань цзыди) стали отдельной общественной прослойкой. По их виду безошибочно можно было узнать в них представителей элиты, уверенных в своей защищенности и неприкасаемости. Многие дети крупных партработников стали еще надменнее и самонадеяннее, и все, начиная с Мао, выражали озабоченность их поведением. Об этом постоянно писали в прессе, что только подчеркивало их особый статус.
Отец часто предостерегал нас об опасности заразиться подобным духом и не велел входить в «клики» детей партработников. В результате у меня было мало друзей, потому что в моей жизни редко встречались дети другого происхождения. Да и в тех случаях, когда я сталкивалась с ними, мы находили мало общего: слишком большую роль играли семья и разнящийся опыт.
Из новой школы к родителям пришли две учительницы и спросили, какой язык я буду изучать. Отец с матерью выбрали английский; единственной альтернативой был русский. Учительницы также хотели знать, физику или химию я предпочитаю изучать в первый год. Родители ответили, что оставляют это на усмотрение школы.
Я влюбилась в школу, как только вошла в нее. Внушительные ворота венчала широкая голубая черепичная крыша с резными коньками. В здание вели каменные ступени, балкон покоился на шести колоннах из красного дерева. Дорогу к крыльцу обрамляли симметричные ряды темно–зеленых кипарисов, что придавало атмосфере особую торжественность.
Школа существовала со 141 года до нашей эры. Это было первое в Китае учебное заведение, учрежденное местными властями. В центре возвышался величественный конфуцианский храм, хорошо сохранившийся, но не действовавший: внутри, между массивными колоннами, было установлено с полдюжины столов для пинг–понга. Перед резными дверьми, у подножия длинной лестницы, начиналась роскошная аллея. На другом ее конце помещался двухэтажный учебный корпус, за которым журчал ручей с тремя выгнутыми мостиками. Их перила из песчаника украшали фигурки львов и других животных. За мостиками раскинулся прекрасный парк из платанов и персиковых деревьев. У ведущей в храм лестницы стояли огромные бронзовые курильницы, над которыми не вздымались больше тяжелые завитки сизого дыма; по обеим сторонам святилища разбили баскетбольную и волейбольную площадки. К ним примыкали две лужайки, где весной на большой перемене мы сидя или лежа грелись на солнышке. За храмом зеленела еще одна лужайка, а за ней — возле небольшого холма, поросшего деревьями, вьющимися кустарниками и травами, — тянулся большой фруктовый сад.
В лабораториях мы изучали биологию и химию, учились пользоваться микроскопом, исследовали внутренние органы животных. В лекционных залах нам показывали учебные фильмы. Я записалась в биологический кружок и, сопровождая учителя во время прогулок по холму и саду, заучивала названия растений и их свойства. У нас были инкубаторы, мы наблюдали, как из яиц вылупляются утята, из икринок — головастики. Весной школа утопала в розовом персиковом цвету. Но больше всего я любила двухэтажную библиотеку, построенную в традиционном китайском стиле. С обеих сторон здание опоясывали балконы с изящными расписными сиденьями в форме крыльев (фэй–лай–и). У меня там был любимый уголок, и я читала часами, иногда протягивая руку, чтобы потрогать веерообразные листья серебристого абрикоса гинкго. Два великолепных раскидистых дерева этой редкой породы росли перед главным входом в библиотеку. Только они и отвлекали меня от чтения.
Яснее всего я помню своих учителей — первой или высшей категории, лучших специалистов в своей области. Ходить на их уроки было счастьем.
Но в школе становилось все больше политической пропаганды. Постепенно утреннюю линейку стали посвящать учению Мао, на специальных собраниях мы изучали партийные документы. Теперь в нашем учебнике китайского языка было больше агитационных материалов, чем классической литературы, и частью учебной программы стали политические тексты — в основном работы Мао.
Практически любая деятельность приобретала политическое значение. Однажды на линейке директор сказал, что мы будем делать упражнения для глаз. По его словам, Председатель Мао заметил, что слишком много школьников в очках, дети переутомляют глаза, и распорядился исправить ситуацию. Все мы были страшно растроганы его заботой. Некоторые плакали от благодарности. Мы стали каждое утро делать пятнадцатиминутную зарядку для глаз. Разработанные медиками движения выполнялись под музыку. Сначала мы терли различные точки вокруг глаз, а потом старательно всматривались в ряды тополей за окном — считалось, что зеленый цвет успокаивает. Наслаждаясь упражнениями и видом листвы, я думала о Мао и вновь и вновь клялась про себя в верности ему.
Чаще всего речь шла о том, что мы не можем позволить Китаю «изменить цвет», то есть перейти от коммунизма к капитализму. Раскол между Китаем и Советским Союзом поначалу замалчивался, но в начале 1963 года тайна вышла наружу. Нам было сказано, что с 1953 года, с тех пор как после смерти Сталина к власти пришел Хрущев, Советский Союз находится во власти международного капитализма, и русские дети вновь бедствуют и страдают — как китайские дети при Гоминьдане. Однажды, в двадцать пятый раз предупредив нас об опасности советского пути, наш учитель по идеологии сказал: «Если вы не будете осторожны, наша страна постепенно изменит цвет: сначала от ярко–красного к бледно–красному, потом к серому, а потом и к черному». По случайности, сычуаньское выражение «бледно–красный» (эр–хун) звучало точно так же, как мое имя. Одноклассники захихикали, я видела, как они украдкой поглядывают на меня. Я решила, что немедленно избавлюсь от своего имени.
В тот вечер я упросила отца дать мне другое имя. Он предложил «Чжан», что значит «проза» и «созревающий рано», тем самым выразив надежду, что я буду хорошо писать с ранних лет. Но мне это имя не нравилось. Я заявила, что хочу, чтобы имя звучало «по–военному». Многие мои друзья вставили в свои имена иероглифы, означающие «армия», «солдат». Выбор отца свидетельствовал о его познаниях в классической литературе. Моим новым именем стало Юн, малоизвестное древнее слово со значением «военный», употребляемое только в классической поэзии и нескольких старинных оборотах речи. Оно вызывало в воображении картины древних сражений между рыцарями в сияющих доспехах, с копьями, украшенными шелковыми кистями, на ржущих скакунах. Когда я появилась в школе и назвала свое новое имя, оказалось, что даже некоторые учителя не знают иероглифа 戎.
В этот момент Мао призвал страну учиться не у Лэй Фэна, а у армии. При новом министре обороны Линь Бяо, сменившем маршала Пэн Дэхуая в 1959 году, армия стала пионером поклонения Мао. Мао стремился военизировать жизнь нации в еще большей степени. Он только что написал распространенное средствами массовой информации стихотворение, в котором призывал женщин «отбросить женственность и облачиться в доспехи». Нам внушали, что американцы выжидают момент, чтобы вторгнуться в страну и восстановить Гоминьдан; поэтому Лэй Фэн день и ночь тренировался, чтобы, несмотря на слабое здоровье, стать чемпионом по метанию гранаты. Физкультура вдруг приобрела громадное значение. Обязательными стали бег, плавание, прыжки в высоту, упражнения на брусьях, толкание ядра, бросание гранаты. Кроме еженедельных двухчасовых уроков, теперь требовалось посещать сорокапятиминутные занятия после школы.
У меня никогда не было способностей к спорту, я не любила его, за исключением тенниса. Раньше это не имело значения, но теперь дело приобрело политическую окраску. Звучали лозунги вроде: «Укрепляй здоровье для защиты Родины!». К сожалению, давление только усугубило мою неприязнь к физической культуре. Пытаясь поплыть, я всегда представляла себе, как американские интервенты загоняют меня на берег бурной реки. Поскольку плавать я не умела, оставалось только утонуть или попасть в лапы американцев на пытки и поругание. От страха у меня начинались судороги, и в один прекрасный день я чуть не захлебнулась в бассейне. Несмотря на обязательное плавание летом раз в неделю, за годы жизни в Китае я так и не научилась плавать.
По очевидным причинам, большое значение придавалось и метанию гранаты. Я всегда плелась в хвосте класса. Я могла бросить деревянную тренировочную гранату только на несколько метров. Одноклассники явно сомневались в моей решимости сражаться с американскими империалистами. Однажды на еженедельном собрании кто–то вспомнил, что я очень плохо метаю гранату. Я чувствовала буравящий взгляд всего класса: «Прислужница США!» Следующим утром я стояла на углу стадиона, держа на вытянутых руках четыре кирпича. В дневнике Лэй Фэна, заученном мной наизусть, говорилось, что так он укрепил мускулы, чтобы бросать гранаты. Через несколько дней, когда мои плечи покраснели и опухли, я сдалась. Всякий раз, когда мне давали деревянную болванку, руки у меня начинали дрожать от напряжения.
Как–то в 1965 году нам велели выйти во двор и вырвать с лужаек всю траву. Мао дал указание: трава, цветы и домашние животные — мещанство, от них следует избавиться. Такой травы, которая росла у нас, я нигде за пределами Китая не видела. Ее китайское название означает «привязанная к земле». Она цепляется за любую твердую поверхность и впивается в землю тысячами корешков, словно стальными когтями. Под землей они разворачиваются и дают новые отростки, распространяющиеся во все стороны. Очень быстро образуется две системы — наземная и подземная, которые переплетаются и держатся за землю мертвой хваткой, крепче железной проволоки. Гораздо больший ущерб, чем трава, несли мои пальцы, вечно покрытые длинными глубокими порезами. Корни сдавались, только если их выкорчевывали лопатами и мотыгами. Но любой кусочек, оставшийся на земле, пышно произрастал после малейшего потепления или легкого дождика. Тогда мы вновь отправлялись на битву.
С цветами справиться было гораздо проще, но в то же время и труднее, потому что никто не хотел с ними расставаться. Мао нападал на траву и цветы и раньше, заявляя, что на их месте должны расти капуста и хлопок. Но лишь теперь он смог добиться своего. И то до определенной степени: люди любили свои сады, и некоторые клумбы пережили кампанию Мао.
Меня очень огорчало, что цветов больше не будет. Но упрекала я отнюдь не Мао, а себя саму. К тому времени привычка к «самокритике» стала неотъемлемой частью моей натуры, и я автоматически считала себя виноватой во всех чувствах, шедших наперекор воле Мао. Такие чувства пугали меня. Они не подлежали обсуждению с окружающими. Я стремилась подавить их и воспитать в себе правильный образ мыслей. Я занималась постоянным психологическим самоистязанием.
Подобные ощущения были характерной чертой жизни в маоистском Китае. Вы станете новыми, лучшими людьми, твердили нам. На самом же деле все это служило не чему иному, как созданию людей, лишенных собственных мыслей.
Религиозное поклонение Мао не привилось бы в традиционно светском китайском обществе, если бы не очевидные экономические достижения. Страна быстро оправилась после голода и шла вперед семимильными шагами. Хотя в Чэнду рис все еще продавался по карточкам, было много мяса, птицы, овощей. Восковую тыкву, репу, баклажаны сваливали на улице у входа в магазины, потому что внутри они просто не помещались. На ночь их оставляли на мостовой, и почти никто на них не зарился. Магазины продавали их за гроши. Яйца, некогда столь ценные, тухли в огромных корзинах — их было слишком много. Всего несколько лет назад трудно было раздобыть хоть один персик; теперь поедание персиков объявили «патриотичным», работники ходили по домам и уговаривали народ купить персики по крайне низкой цене.
Национальная гордость подогревалась знаменательными достижениями. В октябре 1964 года Китай взорвал первую атомную бомбу. Об этом во всех изданиях писали как о результате научных и промышленных успехов страны, особенно в связи с «отпором империалистическим хулиганам». Взрыв совпал со снятием Хрущева, которое подавалось как очередное доказательство правоты Мао. В 1964 году Франция первой из ведущих западных государств признала Китай на уровне послов. В Китае это с восторгом приняли как свидетельство победы над США, отказывавшимися признать законное положение КНР в мире.
К тому же прекратились крупномасштабные политические преследования, люди были более или менее довольны жизнью. Все это считалось заслугой Мао. Хотя высшие руководители представляли себе истинную роль Мао, народ оставался в полном неведении. Годами я слагала страстные панегирики, в которых благодарила Мао за все его подвиги и клялась ему в беззаветной верности.
В 1965 году мне было тринадцать лет. Вечером 1 октября, в шестнадцатую годовщину основания Китайской Народной Республики, на площади в центре Чэнду устроили иллюминацию. К северу от площади виднелись величественные ворота недавно реконструированного древнего императорского дворца, возведенного в III в. н. э., когда Чэнду был столицей царства и процветающим городом с крепостной стеной. Они очень напоминали пекинские ворота Небесного спокойствия, ныне вход в Запретный город, отличаясь лишь цветом: широкая черепичная крыша была зеленой, стены серыми. Глазурованную крышу павильона поддерживали гигантские темно–красные столбы. Сияли беломраморные балюстрады. Я стояла за ними со своими близкими и сычуаньским начальством, наслаждалась атмосферой праздника и ждала салюта. Внизу на площади пело и плясало пятьдесят тысяч человек. Трах! — в нескольких метрах от меня раздался сигнал к началу фейерверка. В мгновение ока небо озарилось разноцветными огнями, расцвело морем вспышек. Великолепие дополнялось музыкой и гулом, поднимавшимся от площади к императорским воротам. Вдруг небо на секунду очистилось, и тут же на нем распустился гигантский цветок, за которым тянулся длинный широкий шелковый транспарант. Он развернулся, затрепетал на осеннем ветре, и в свете прожекторов засияли иероглифы: «Да здравствует наш Великий вождь Председатель Мао!» Мои глаза наполнились слезами. «Как мне повезло, как мне невероятно повезло, что я живу в эру Мао Цзэдуна! — повторяла я про себя. — Как дети в мире чистогана могут жить без Председателя Мао, без надежды увидеть его?» Мне хотелось что–нибудь сделать для них, спасти их из капиталистических джунглей. Я приняла непоколебимое решение: все силы положить на строительство сильного Китая, который возглавит мировую революцию. Быть может, ударным трудом я заслужу встречу с самим Председателем Мао. Это стало целью моей жизни.
15. «Разрушайте, а построится все само»: Начало «культурной революции» (1965–1966)
В начале 1960–х годов, несмотря на все бедствия, принесенные Китаю, Мао, народный кумир, оставался на вершине власти. Однако из–за того, что фактически страной управляли прагматики, существовала определенная свобода творчества. После долгой умственной спячки появлялись многочисленные пьесы, оперы, фильмы, романы. В них отсутствовали прямые нападки на партию, да и вообще современные темы затрагивались редко. Мао в то время занимал оборонительные позиции, он все более сближался со своей женой Цзян Цин, которая в 1930–е годы играла на сцене. Супруги решили, что исторические сюжеты используются для маскировки клеветнических измышлений против режима и лично против Мао.
В Китае существовала давняя традиция облекать оппозиционные настроения в исторические одежды, и даже эзотерические аллюзии воспринимались как завуалированные намеки на сегодняшний день. В апреле 1963 года Мао запретил все «драмы о духах», повествующие о мести духов жертв их преследователям. Духи–мстители казались ему слишком похожими на изведенных им классовых врагов.
Чета Мао обратила внимание и на иной жанр — «драму о чиновнике династии Мин», то есть о Хай Жуе. Знаменитое воплощение смелости и справедливости, «чиновник династии Мин» с риском для собственной жизни увещевал императора от имени страдающего простого народа. Его разжаловали и сослали. Мао с женой заподозрили, что под видом «чиновника династии Мин» изображается маршал Пэн Дэхуай, бывший министр обороны, который в 1959 году выступил против разрушительного курса Мао, приведшего к голоду. Почти немедленно после увольнения Пэна произошел расцвет «драмы о чиновнике династии Мин». Мадам Мао обратилась к писателям и министрам, ведающим культурой, с требованием заклеймить эти пьесы, но они не вняли ее словам.
В 1964 году Мао составил список из тридцати девяти художников, писателей и ученых, которых назвал «реакционными буржуазными авторитетами», новой категорией классовых врагов. Среди них фигурировали самый знаменитый автор пьес о «чиновнике династии Мин» У Хань и профессор Ма Иньчу, первый крупный экономист, заговоривший о планировании рождаемости. За это его назвали «правым» еще в 1957 году. Позднее Мао осознал необходимость планирования рождаемости, но возненавидел профессора Ма за его дальновидность.
Список не обнародовали, тридцать девять деятелей не подверглись партийной чистке. Мао спустил его до работников уровня мамы и предписал ловить прочих «реакционных буржуазных авторитетов». Зимой 1964–1965 годов мама возглавила рабочую группу в школе «Бычий рынок». Ей велели искать подозреваемых среди известных учителей и тех, кто пишет книги или статьи.
Маму это задание ужасало, потому что чистка угрожала наиболее уважаемым ею людям. Кроме того она понимала, что никаких «врагов» не найдет. Помимо всего прочего, после недавних преследований люди вообще боялись открывать рот. Она поделилась своими мыслями с начальником, товарищем Пао, руководившим кампанией в Чэнду.
Прошел 1965 год, а мама ничего не предпринимала. Товарищ Пао на нее не давил. Их бездействие отражало общий настрой среди партработников. Большинству надоели политические нападки, они хотели заниматься повышением уровня жизни населения. Однако они не выступали против Мао в открытую, наоборот, способствовали расцвету его культа. Те немногие, кто относился к обожествлению Мао настороженно, ничего не могли поделать: власть и престиж «Великого вождя» делали поклонение ему неизбежным. Они могли позволить себе разве что пассивное сопротивление.
Мао увидел в отклике партработников на его призыв начать охоту на ведьм свидетельство того, что они не так верны ему, как прежде, и сердца их с председателем Лю и генсеком Дэном. Его подозрения подтвердились, когда партийные газеты отказались напечатать написанную с его ведома статью, поносящую У Ханя и его пьесу о «чиновнике династии Мин». Этой статьей Мао стремился вовлечь в охоту на ведьм все население страны. Теперь же оказалось, что он отрезан от своих подданных посредником — партийной системой. Он, в сущности, потерял власть. Пекинский горком партии, где У Хань был заместителем председателя, и Центральный отдел пропаганды, ведавший искусством и средствами массовой информации, не дрогнули перед Мао и отказались заклеймить и уволить У Ханя.
Мао чувствовал угрозу. Он ощущал себя Сталиным, развенчиваемым Хрущевым еще при жизни. Он стремился нанести упреждающий удар и уничтожить человека, в котором видел «китайского Хрущева», — Лю Шаоци, а также его коллегу Дэна и их сторонников в партии. Этой операции он дал обманчивое название «культурная революция». Он знал, что будет сражаться один, и воспринимал этот бой как величественный вызов целому миру, как вселенскую битву. Он даже слегка жалел себя, как трагического героя, ополчившегося на могучего врага — огромный партийный аппарат.
10 ноября, после неудачных попыток опубликовать статью против пьесы У Ханя в Пекине, Мао удалось с помощью своих последователей сделать это в Шанхае. Именно в этой статье впервые появился термин «культурная революция». Партийная газета «Жэньминь жибао» («Народная ежедневная газета») отказалась перепечатать статью, равно как и «Бэйцзин жибао» («Пекинская ежедневная газета»), орган пекинской парторганизации. Некоторые провинциальные газеты на это пошли. В то время отец руководил работой партийной «Сычуань жибао» («Сычуаньской ежедневной газеты»); он был против перепечатки статьи, потому что почувствовал в ней атаку на маршала Пэна и призыв к охоте на ведьм. Он отправился к человеку, ведавшему культурными делами в провинции, который предложил позвонить Дэн Сяопину. Дэна в кабинете не было, к телефону подошел маршал Хэ Лун, близкий друг Дэна и член Политбюро. Именно его слова «На самом деле на престоле должен быть он [Дэн]» отец случайно услышал в 1959 году. Хэ велел не перепечатывать статью.
«Сычуань» опубликовала ее одной из последних, 18 декабря, значительно позднее, чем «Жэньминь жибао», где она вышла 30 ноября. В «Жэньминь жибао» статья появилась только с припиской Чжоу Эньлая, премьера, выступившего миротворцем в борьбе за власть, который от имени «редактора» заявил, что «культурная революция» должна быть «академической дискуссией», то есть не иметь политической окраски и не вести к политическим разоблачениям.
В течение следующих трех месяцев оппоненты Мао, в том числе Чжоу Эньлай, активно маневрировали с целью помешать охоте на ведьм. В феврале 1966 года, когда Мао не было в Пекине, Политбюро приняло решение о том, что «академические дискуссии» не должны вырождаться в преследования. Мао возражал, но его игнорировали.
В апреле отца попросили подготовить документ о «культурной» революции в Сычуани в духе февральского решения Политбюро. Написанный им «апрельский документ» гласил: «Дебаты должны быть исключительно академическими. Резкие обвинения недопустимы. Перед истиной все равны. Партии не следует силой подавлять интеллигенцию».
Перед самой публикацией в мае этот документ задержали. Было принято новое решение Политбюро. На этот раз Мао присутствовал и победил при соучастии Чжоу Эньлая. Мао порвал февральское решение и заявил, что все ученые — диссиденты и их идеи подлежат «уничтожению». Он подчеркнул, что инакомыслящих ученых и прочих классовых врагов поддерживают партработники. Он назвал таких чиновников «идущими по капиталистическому пути» и объявил им войну. Их стали называть «попутчиками капитализма» («каппутистами»). Так официально началась колоссальная по своим масштабам «культурная революция».
Кто же именно относился к разряду «попутчиков»? Мао сам точно не знал. Он знал, что хочет сменить весь состав пекинского комитета партии, — и это ему удалось. Также он желал избавиться от Лю Шаоци и Дэн Сяопина и «буржуазного штаба в партии». Однако оставалось неясным, кто в разветвленной партийной машине верен ему, а кто последователь Лю, Дэна и их «капиталистического пути». Он подсчитал, что контролирует только треть состава партии. Чтобы ни один его враг не спасся, он решил свергнуть всю компартию. Преданные ему люди переживут испытание. Говоря словами Мао: «Разрушайте, а построится все само». Мао не волновало возможное разрушение партии: император всегда одерживал в Мао верх над коммунистом. Не пугали его и невинные жертвы, даже среди самых искренних своих почитателей. Он восхищался изречением древнего полководца Цао Цао, одного из самых любимых его героев: «Лучше уж я поступлю несправедливо со всеми в Поднебесной, чем кто–нибудь поступит несправедливо со мной». Цао Цао произнес эти слова, когда обнаружил, что напрасно убил пожилую чету: старик со старухой, которых он заподозрил в измене, на самом деле спасли ему жизнь.
Туманный боевой клич Мао привел население и большинство партработников в глубокое смущение. Мало кто представлял, к чему он клонит и кто враги теперь. Отец с матерью, как и другие высокопоставленные партийцы, догадывались, что Мао хочет наказать каких–то чиновников, но понятия не имели, кого именно. Возможно, их самих. Ими овладели дурные предчувствия и замешательство.
Тем временем Мао предпринял свой самый главный организационный шаг: учредил собственную систему подчинения вне рамок партийного аппарата, хотя делал вид, что действует по приказу партии, официально заявив, что она подчиняется Политбюро и Центральному Комитету.
Прежде всего он назначил своим заместителем маршала Линь Бяо, сменившего в 1959 году на посту министра обороны Пэн Дэхуая и чрезвычайно развившего культ Мао в вооруженных силах. Он также создал новый орган, Группу по делам культурной революции, где фактически распоряжались его бывший секретарь Чэнь Бода, глава разведки Кан Шэн и мадам Мао. Они стали ядром руководства «культурной революцией».
Затем Мао принялся за средства массовой информации, в первую очередь за «Жэньминь жибао» — самую авторитетную партийную газету, которую население привыкло воспринимать как голос режима. 31 мая он поручил Чэнь Бода возглавить ее, чем обеспечил себе канал для непосредственного общения с сотнями миллионов китайцев.
С июня 1966 года «Жэньминь Жибао» излила на страну целый поток крикливых передовиц, призывающих «упрочить абсолютный авторитет Мао Цзэдуна», «вымести всех бычьих чертей и змеиную нечисть» (классовых врагов) и заклинала народ последовать за Мао и присоединиться к широкому, небывалому движению «культурной революции».
В моей школе с начала июня полностью прекратились занятия, хотя мы по–прежнему туда ходили. Из громкоговорителей гремели передовицы «Жэньминь жибао», и всю первую страницу газеты, которую мы изучали каждый день, нередко занимал портрет Мао. Ежедневно выходила колонка с его изречениями. Я до сих пор помню жирный шрифт лозунгов, благодаря многократному повторению в классе навеки впечатанных в мой мозг: «Председатель Мао — красное солнце наших сердец!», «Учение Мао Цзэдуна — дорога нашей жизни!», «Мы разгромим всех врагов Председателя Мао!», «Люди во всем мире любят нашего Великого вождя Председателя Мао!». Далее страницами шли благоговейные отклики иностранцев и фотографии европейских толп, рвущихся к трудам Мао. Для упрочения культа Мао опирались на национальную гордость китайцев.
Ежедневное чтение газеты вскоре сменилось декламацией и заучиванием «Изречений Председателя Мао», томика карманного размера в красной пластиковой обложке, известного как «маленькая красная книжка». Каждому раздали по экземпляру «цитатника» и велели беречь его «пуще зеницы ока». Мы дни напролет скандировали изречения хором. Многие я до сих пор помню дословно.
Как–то мы прочитали в «Жэньминь жибао», что один старый крестьянин повесил на стенах своей комнаты тридцать два изображения Мао «и теперь видит лицо Председателя Мао, едва откроет глаза, в какую бы сторону ни поглядел». Мы тоже оклеили стены класса плакатами с милостиво улыбающимся Мао. Но очень скоро поспешили их снять. Прошел слух, что на самом деле крестьянин использовал их вместо обоев — портреты Мао печатались на лучшей бумаге и выдавались бесплатно. Репортера, написавшего заметку, якобы разоблачили как классового врага, проповедующего «оскорбление Председателя Мао». Впервые в мое подсознание вошел страх перед Мао.
Как и в «Бычьем рынке», в нашей школе функционировала рабочая группа. Она скрепя сердце объявила нескольких лучших школьных учителей «реакционными буржуазными авторитетами», но скрыла это от учеников. Однако в июне 1966 года, запаниковав на волне «культурной революции» и почувствовав необходимость в жертвах, рабочая группа внезапно объявила их имена всей школе.
Ученикам и необвиненным учителям велели писать обличительные плакаты и лозунги, вскоре покрывшие весь школьный двор. Учителя проявляли активность по ряду причин: из конформизма, послушности приказам партии, зависти к престижу и привилегиям других учителей — и страха.
Под огонь попал и мой преподаватель китайского языка и литературы, учитель Чи, которого я обожала. В одной из стенгазет–дацзыбао говорилось, что в начале 1960–х он заявил: «От криков «Да здравствует Большой скачок!» сыт не будешь». Не зная, что «Большой скачок» привел к голоду, я не понимала смысла приписанных ему слов, но чувствовала их непочтительность.
Что–то делало учителя Чи непохожим на окружающих. Тогда я не могла определить, что именно, но теперь думаю, что это была ирония. Он часто издавал звуки, средние между сухим кашлем и смешком, свидетельствующие о невысказанных мыслях. Так он однажды отреагировал на следующий мой вопрос. В нашем учебнике содержался отрывок из воспоминаний Лу Дин–и, тогдашнего главы Центрального отдела пропаганды, о «Великом походе». Учитель Чи обратил наше внимание на яркое описание войск, идущих безлунной ночью по извилистой горной тропе со светящейся цепью сосновых факелов. Дойдя до ночлега, солдаты «побежали с мисками, чтобы отхватить себе что–нибудь на ужин». Это предложение меня поразило, потому что воинов Красной армии всегда описывали бескорыстными людьми, голодавшими, лишь бы отдать последнее товарищам. Я не могла представить, как они «хватают» еду. За ответом я обратилась к учителю Чи. Он с полукашлем–полусмехом заметил, что я никогда не голодала, и быстро переменил тему. Меня это не убедило.
Тем не менее я испытывала к учителю Чи огромное уважение. У меня разрывалось сердце, когда я видела, как его и других преподавателей, которых я очень уважала, обвиняют во всех грехах и оскорбительно обзывают. Еще сильнее я горевала, когда рабочая группа велела всем в школе написать «разоблачающие и клеймящие» их дацзыбао.
В четырнадцать лет я ощущала инстинктивную ненависть ко всяческому насилию и не знала, что писать. Меня пугали жирные черные иероглифы и огромные листы белой бумаги, дикие, полные жестокости выражения: «Разбей собачью голову такого–то!», «Уничтожь такого–то, если он не покорится!». Я начала прогуливать, оставалась дома. На бесконечных собраниях, из которых теперь состояла, в сущности, вся наша школьная жизнь, меня постоянно критиковали за то, что я «ставлю семью на первое место». Меня преследовало чувство неотвратимой опасности.
Однажды заместителя директора нашей школы, учителя Каня, живого, энергичного человека, обвинили в «следовании капиталистическому пути» и помощи заклейменным учителям. Все, что он сделал в школе за многие годы, объявили «капиталистическим», даже изучение работ Мао — потому что этому уделялось меньше часов, чем собственно урокам.
Точно так же я была поражена, когда жизнерадостного секретаря комсомольской организации школы, учителя Шаня, обвинили в «противостоянии Председателю Мао». Это был франтоватый молодой человек, которому я старалась понравиться, чтобы он помог мне вступить в комсомол в пятнадцать лет.
Он преподавал юношам и девушкам марксистскую философию и задавал им сочинения. Части сочинений, казавшиеся ему особенно удачными, он подчеркивал. Теперь его ученики соединили эти разрозненные отрывки и получившийся явно бессмысленный текст объявили антимаоистским. Многие годы спустя я узнала, что стряпать подобным образом обвинения начали еще в 1955 году писатели, выдиравшие из контекста высказывания своих соперников — именно тогда маму впервые арестовали коммунисты.
Через много лет учитель Шань рассказал мне, что их с заместителем директора назначили в жертвы потому, что в то время они вели расследование в составе рабочей группы на другом объекте и из них удобно было сделать козлов отпущения. Осложнили ситуацию и их не особенно хорошие отношения с директором школы, оставшимся на месте. «Если бы уехал он, этому черепашьему сыну не поздоровилось бы», — заметил с обидой учитель Шань.
Заместитель директора, учитель Кань, был предан партии и чувствовал себя незаслуженно обиженным. Однажды вечером он написал прощальную записку и резанул себе по горлу бритвой. Его срочно отвезла в больницу жена, пришедшая домой раньше обычного. Рабочая группа замяла его попытку свести счеты с жизнью. Для члена партии самоубийство считалось предательством, потерей веры в партию и попыткой шантажа. Поэтому к несчастному не следовало проявлять никакого сочувствия. Однако рабочая группа занервничала. Члены ее прекрасно знали, что выдумывают обвинения без малейших оснований.
Услышав об учителе Кане, мама расплакалась. Она его очень любила и догадывалась, что такой жизнелюбивый человек мог пойти на крайний шаг только в результате чудовищного давления.
В подведомственной ей школе мама отказалась объявлять кого бы то ни было изгоями. Однако подростки в школе, распаленные статьями в «Жэньминь жибао», ополчились на учителей. «Жэньминь жибао» призывала «разгромить» экзаменационную систему, потому что с учениками в ее рамках «обращались как с врагами» (слова Мао), да и вообще она явилась плодом злобных замыслов «буржуазных интеллигентов», то есть большинства учителей (еще одна цитата из Мао). Газета также обвиняла «буржуазных интеллигентов» в заражении умов молодежи капиталистической чепухой в преддверии планируемого ими возвращения Гоминьдана. «Мы не можем позволять буржуазным интеллигентам и дальше заправлять в наших школах!» — восклицал Мао.
Как–то приехав на велосипеде в школу, мама обнаружила, что ученики заперли директора, завуча, учителей особого разряда или просто им неугодных в классе, на двери которого повесили табличку «класс демонов». Так они поняли слова официальной прессы о «реакционных буржуазных авторитетах». Учителя позволили сделать это над собой, потому что их сбила с толку «культурная революция»: школьники теперь вроде бы наделялись какой–то неясной, но ощутимой властью. Школьный двор покрывали гигантские лозунги, в основном заголовки из «Жэньминь жибао».
Мама прошла в новоявленную «тюрьму» через толпу учеников. Кто выглядел озлобленным, кто пристыженным, кто огорченным, кто озадаченным. Часть школьников следовала за ней с самого ее приезда. Будучи руководителем рабочей группы, мама обладала верховными полномочиями и отождествлялась с партией. Ученики ожидали ее приказаний. «Тюрьму» они устроили, но не знали, что делать дальше.
Мама в энергичных выражениях объявила, что «класс демонов» распускается. По рядам учеников прошло волнение, но никто не оспорил ее приказа. Несколько мальчиков пробормотали что–то друг другу, но замолчали, едва мама предложила им высказаться. Далее она объяснила им, что нельзя никого задерживать без разрешения, что им запрещается дурно обращаться с преподавателями, достойными благодарности и уважения. Дверь класса отперли, «демонов» выпустили на волю.
Пойти против течения, как мама, было весьма храбрым поступком. Многие рабочие группы подвергали преследованию ни в чем не повинных людей, чтобы спасти собственную шкуру. Мамино положение было особенно затруднительным: власти провинции уже нашли нескольких козлов отпущения, и отец предчувствовал, что очередь за ним. Кое–кто из сослуживцев осторожно намекнул, что в некоторых подчиненных ему организациях люди задумываются, не обратить ли свои подозрения на него.
Ни мне, ни сестре, ни братьям родители ничего не говорили. Они по–прежнему считали неправильным откровенно обсуждать с нами политику. Теперь это даже виделось им еще менее уместным. Как они, сами запутавшись в ситуации, могли растолковать ее своим детям? И что бы это изменило? Повлиять на ход событий было невозможно. Более того, само знание представляло опасность. Как следствие, мы оказались абсолютно не готовы к «культурной революции», хотя смутно чувствовали надвигающуюся катастрофу.
Так мы дожили до августа. Совершенно неожиданно, как грибы после дождя, по всему Китаю появились миллионы хунвэйбинов.
16. «Взмывай в небо, пронзай землю»: Хунвэйбины Мао (июнь–август 1966)
При Мао выросло поколение молодежи, жаждущей борьбы с классовыми врагами, и смутные призывы к «культурной революции» в прессе всколыхнули ожидание неизбежной войны. Некоторые политически чуткие подростки почувствовали, что в события непосредственно вовлечен их кумир — Мао, и их идеологическое воспитание однозначно предписывало им принять его сторону. В начале июня активисты из средней школы при пекинском университете Цинхуа, одном из самых известных в Китае, несколько раз собирались для обсуждения тактики предстоящей битвы и решили назвать себя «красными охранниками (хунвэйбинами) Председателя Мао». Девизом они выбрали слова Мао, растиражированные «Жэньминь жибао»: «Бунт оправдан».
Сначала хунвэйбинами становились дети высших чиновников. Только они могли позволить себе заниматься подобного рода деятельностью. К тому же они выросли в политизированной обстановке и больше интересовались политическими интригами, чем остальные китайцы. Мадам Мао обратила на них внимание и в июле дала им аудиенцию. 1 августа Мао предпринял неожиданый жест — написал им открытое письмо с предложением «теплой, пламенной поддержки». В письме он слегка видоизменил прежнее свое высказывание: «Бунт против реакционеров оправдан». Подростки–фанатики восприняли это как обращение бога. После этого отряды хунвэйбинов возникли по всему Пекину, а затем и по всей стране.
Мао желал сделать хунвэйбинов своими ударными частями. Он видел, что многие не реагируют на его настойчивые указания громить «попутчиков капитализма». Коммунистическая партия пользовалась значительной поддержкой, вдобавок люди прекрасно помнили уроки 1957 года. Тогда Мао тоже призвал население критиковать партработников, однако поверившие ему в результате попали в ряды осужденных режимом «правых элементов». Большинство подозревало, что речь идет о той же тактике: «выманить змею из норы, чтобы отрубить ей голову».
Для мобилизации населения Мао необходимо было лишить партию власти и внушить людям преданность и повиновение себе одному. Достичь этого он мог с помощью террора — мощного террора, пересиливающего любые соображения, любые другие страхи. В подростках и молодежи он видел идеальных помощников. Их воспитали в религиозной преданности Мао, в воинствующей доктрине «классовой борьбы». Им были свойственны качества юности — непокорство, бесстрашие, желание драться за «правое дело», жажда действия и приключений. Привлекали Мао и их безответственность, невежество, подверженность манипулированию — и склонность к жестокости. Без их участия Мао не удалось бы получить гигантскую силу для устрашения всего общества и создания хаоса, который пошатнет, а затем и разрушит устои компартии. Предназначение хунвэйбинов кратко выражалось в лозунге: «Мы клянемся вести кровавую войну против всякого, кто осмелится препятствовать культурной революции, кто осмелится выступить против Председателя Мао!».
До сих пор все приказы и распоряжения передавались через тщательно контролируемую систему, полностью находящуюся в руках партии. Теперь Мао пренебрег этим каналом и напрямую обратился к массам молодежи. Для этого он пользовался двумя весьма различными методами: расплывчатыми возвышенными проповедями, открыто публикуемыми прессой, и тайными манипуляциями и агитацией, осуществляемыми Группой по делам культурной революции, особенно его женой. Именно они наполняли риторику подлинным содержанием. Выражения вроде «бунт против авторитетов», «революция в образовании», «разрушение старого мира во имя рождения нового», «создание нового человека», привлекавшие многих на Западе в 1960–е годы, интерпретировались как призывы к насилию. Мао играл на жестоких инстинктах, кроющихся в подростках; он заявил, что, раз их хорошо кормят и прекратили учить, их легко раззадорить и направить их безграничную энергию на разрушение.
Организованное беснование толпы требовало жертв. Наиболее естественными кандидатами становились учителя, некоторые уже пострадали в последние месяцы от рабочих групп и школьной администрации. Теперь за них принялись взбунтовавшиеся дети. Учителя годились на роль жертв больше, чем родители — на последних нападать можно было лишь по одиночке. Кроме того, с точки зрения китайской культуры, учителя были авторитетнее, чем родители. Практически во всех китайских школах учителя подверглись оскорблениям и побоям, иногда приводившим к их гибели. В некоторых ученики устраивали тюрьмы, где пытали учителей.
Однако одного этого не хватало для создания необходимого Мао террора. 18 августа в центре Пекина, на площади Тяньаньмэнь, произошла гигантская демонстрация с более чем миллионом участников–подростков. Впервые на публике в качестве заместителя и представителя Мао появился Линь Бяо. Он призвал хунвэйбинов выйти за пределы школ и «разгромить четыре старых явления» — «старые идеи, старую культуру, старые обычаи и старые привычки».
Откликнувшись на этот невнятный призыв, хунвэйбины всего Китая устремились на улицы, дав волю вандализму, невежеству и фанатизму. Они совершали налеты на чужие дома, уничтожали антиквариат, рвали картины и произведения каллиграфии. В кострах запылали книги. Вскоре уничтожили почти все частные коллекции, включая самые бесценные. Многие писатели и художники покончили с собой после того, как их бесчеловечно избили, унизили и сожгли у них на глазах их творения. Громили музеи. Грабили дворцы, храмы, древние могилы, разрушали статуи, пагоды, уродовали городские стены — все «старое». Немногие сохранившиеся наследники старины — например, Запретный город — выжили благодаря Чжоу Эньлаю, пославшему на их защиту войска и специально приказавшему оберегать их. Хунвэйбины бесчинствовали, только когда их поощряли.
Мао назвал действия хунвэйбинов «очень хорошими» и велел народу поддержать их.
Для усиления террора он велел хунвэйбинам расширить круг жертв. Выдающиеся писатели, художники, ученые, почти все интеллектуалы, пользовавшиеся при коммунистах привилегиями, — все теперь оказались «реакционными буржуазными авторитетами». Хунвэйбины оскорбляли этих людей с помощью их коллег, которые ненавидели их по разным причинам — от фанатизма до зависти. Далее следовали старые «классовые враги»: бывшие помещики и капиталисты, те, кто был связан с Гоминьданом, объявлен во время предыдущих кампаний «правым элементом», а также их дети.
Довольно многих «классовых врагов» не казнили, не отправили в лагеря, а оставили «под надзором». До «культурной революции» полиция имела право сообщать информацию о них только уполномоченным лицам. Теперь порядок изменился. Глава полиции, один из вассалов Мао, Се Фучжи велел свом подчиненным выдать «классовых врагов» хунвэйбинам, рассказать «красным охранникам» об их преступлениях, например, «планах свержения коммунистического правительства».
До начала «культурной революции» пытки в прямом значении слова запрещались. Теперь Се приказал полицейским «не связывать себя старыми правилами, даже если они установлены полицейскими властями или государством». Он заявил: «Я не считаю целесообразным забивать людей насмерть», — однако продолжил: «Но если некоторые [хунвэйбины] так ненавидят классовых врагов, что готовы убить их, не следует им мешать».
Страну захлестнула волна избиений и пыток, в основном во время налетов на дома. Членов семьи почти всегда заставляли встать на колени и отбивать поклоны хунвэйбинам; затем их лупили медными пряжками хунвэйбинских ремней. Их пинали по кругу, выбривали половину головы; эта унизительная прическа называлась «инь и ян», потому что напоминала классический китайский символ — сочетание темного (инь) и светлого (ян). Большую часть их имущества уничтожали или уносили с собой.
Хуже всего было в Пекине, где Группа по делам культурной революции баламутила молодежь. В центре театры и кино превращали в пыточные застенки. Жертв стаскивали со всего Пекина. Прохожие делали крюк, чтобы не слышать воплей.
Первые отряды хунвэйбинов состояли из детей высших чиновников. Вскоре, когда к ним присоединились люди другого социального происхождения, некоторым отпрыскам партработников удалось сохранить особые группы, например, «пикеты». Мао и его камарилья предприняли ряд шагов, чтобы усилить у них ощущение всевластия. На втором смотре хунвэйбинов Линь Бяо появился в их нарукавной повязке, давая понять, что он один из них. Мадам Мао сделала их часовыми у ворот Небесного спокойствия на площади Тяньаньмэнь в день основания КНР, 1 октября. В результате среди них стала циркулировать дикая «теория кровного родства», кратко сформулированная в песне: «Сын героя — великий человек; у отца–реакционера рождается ублюдок!» Вооруженные этой теорией дети партработников унижали и даже пытали детей из «неблагонадежных» семей.
Мао допустил все это ради необходимых ему террора и хаоса. Его не волновало, ни кто пострадает от насилия, ни кто будет его творить. Первоначальные жертвы не были настоящей целью его удара. К своим юным хунвэйбинам он не испытывал особой любви и доверия. Он их просто использовал. Вандалы и мучители, со своей стороны, не обязательно поклонялись Мао. Они бесновались, получив возможность дать волю худшим инстинктам.
Но жестокости чинились лишь небольшой частью хунвэйбинов. Многим удавалось этого избежать, поскольку свободно построенная хунвэйбинская организация, как правило, не заставляла своих членов участвовать в насилии. В сущности, сам Мао никогда не приказывал хунвэйбинам убивать, и его инструкции касательно применения силы отличались противоречивостью. Можно было испытывать преданность Мао и не избивать людей. Те, кто совершал злодеяния, не имеют права винить во всем Мао.
Однако то, что он тайно подстрекал людей к зверствам, несомненно. 18 августа, на первом из восьми гигантских смотров, в которых в общей сложности участвовало тринадцать миллионов человек, он спросил хунвэйбинку, как ее зовут. Та ответила: «Биньбинь» («нежная»). Мао недовольно заметил: «Будь воинственной» (яо у ма). Мао редко выступал на публике, и этой широко цитируемой реплике, разумеется, следовали как Евангелию. На третьем смотре, 15 сентября, когда зверства хунвэйбинов достигли пика, признанный представитель Мао, Линь Бяо, стоя рядом с Мао, объявил: «Бойцы! Красные охранники! Вы всегда верно направляли свое оружие. Вы в пух и прах разбили попутчиков капитализма, реакционных буржуазных авторитетов, кровососов и паразитов. Вы поступили правильно! Вы поступили замечательно!» Тут толпы, наполняющие бескрайнюю площадь Тяньаньмэнь, огласились истерическими приветствиями, оглушительным криком «Да здравствует Председатель Мао!», неудержимым плачем и надрывными клятвами в верности. Мао отечески помахал рукой, чем вызвал еще большее неистовство.
Через Группу по делам культурной революции Мао контролировал пекинских хунвэйбинов. Затем он послал их в провинцию рассказывать местной молодежи, что надо делать. В Цзиньчжоу, в Маньчжурии, избили бабушкиного брата Юйлиня с женой, их с двумя детьми сослали в бесплодную глушь. Юйлинь попал под подозрение сразу же после прихода к власти коммунистов, но до «культурной революции» его не трогали. Тогда мы об их изгнании не знали. Люди старались не сообщать друг другу новости. Слишком легко стряпались обвинения и слишком ужасными были последствия; никто не знал, в какую беду может вовлечь своего корреспондента.
Сычуаньцы слабо представляли себе размах террора в Пекине. В Сычуани бесчинства происходили в меньшем объеме отчасти благодаря тому, что Группа по делам культурной революции не подстрекала местных хунвэйбинов напрямую. К тому же провинциальная полиция проигнорировала указания своего пекинского министра Се и отказалась выдать хунвэйбинам «классовых врагов». Тем не менее молодежь в Сычуани, как и повсюду, брала пример с пекинской. Так же, как по всему Китаю, происходили упорядоченные беспорядки. Хунвэйбины, возможно, грабили дома, которые им позволялось громить, но редко обворовывали магазины. Большинство отраслей, включая торговлю, почту и транспорт, работали нормально.
В моей школе хунвэйбинский отряд сформировали 16 августа при участии «красных охранников» из Пекина. Я притворялась больной, скрывалась дома от политических собраний и устрашающих лозунгов и узнала о создании организации лишь через два дня, когда меня вызвали по телефону «участвовать в Великой пролетарской культурной революции». В школе я заметила, что многие гордо носят красные повязки с золотыми иероглифами «красный охранник».
В те дни только возникшие хунвэйбины пользовались неимоверным престижем «внуков Мао». Разумеется, я должна была вступить в отряд; я немедленно подала заявление командиру хунвэйбинов нашего класса — пятнадцатилетнему мальчику, который искал моего общества, но в моем присутствии неизменно начинал вести себя робко и неловко.
Я не могла понять, как Гэну удалось стать хунвэйбином; он не рассказывал о своих занятиях. Однако не возникало сомнений, что принимали в основном детей высших чиновников. Школьную организацию возглавлял один из сыновей комиссара Ли, первого партсекретаря Сычуани. Я явно подходила: мало кто из учеников мог предъявить отца высокопоставленнее, чем у меня. Однако Гэн сообщил мне по секрету, что я слишком нежная и «неактивная» и должна сначала закалить характер.
С июня по неписаному правилу все обязаны были находиться в школе двадцать четыре часа в сутки, чтобы всецело посвятить себя «культурной революции». Я, одна из немногих, раньше это правило нарушала, но теперь опасалась прогуливать. Мальчики спали в классах, освобождая девочкам места в общежитии. Не–хунвэйбины прикреплялись к хунвэйбинским отрядам и вместе с ними участвовали в различных мероприятиях.
Через день после возвращения в школу я отправилась вместе с несколькими десятками других детей менять названия улиц на более «революционные». Я жила на Торговой улице; мы обсуждали, как ее переименовать. Одни предлагали — «Дорога маяков», чтобы подчеркнуть роль руководства нашей провинции; другие — «улица Слуг народа», потому что Мао велел чиновникам служить народу. В конце концов мы ушли ни с чем, потому что не смогли решить ключевую задачу: табличка с названием улицы висела слишком высоко. Насколько я знаю, никто к этому делу не возвращался.
В Пекине хунвэйбины выказывали гораздо больше рвения. Мы слышали об их успехах: английское посольство находилось теперь на «улице Борьбы с империализмом», советское — на «улице Борьбы с ревизионизмом».
В Чэнду улицы сменяли прежние названия — «Пять поколений под одной крышей» (конфуцианская добродетель), «Тополь и ива зеленеют» (зеленый цвет не революционный), «Яшмовый дракон» (символ власти феодализма) — на новые: «Разрушай старое», «Алеет восток», «улица Революции». Табличку знаменитого ресторана «Дуновение благоуханного ветра» разбили вдребезги. Теперь он стал «Запахом пороха».
Несколько дней пребывал в хаосе транспорт. Красный цвет, разумеется, должен был означать не «стоп» — это было слишком контрреволюционно, — а только «вперед». Кроме того, правостороннее движение следовало сменить на левостороннее. В течение нескольких дней мы сгоняли полицейских с их постов и сами регулировали транспорт. Меня поставили на углу улицы указывать велосипедистам, что ездить теперь нужно по левой стороне. В Чэнду машин и светофоров было мало, но на нескольких больших перекрестках творился кавардак. В конце концов благодаря Чжоу Эньлаю старые правила восстановились — ему удалось убедить вождей пекинских хунвэйбинов. Молодежь нашла этому объяснение: одна хунвэйбинка из нашей школы поведала мне, что в Англии транспорт ходит слева, поэтому у нас он должен ходить справа, символизируя борьбу с империализмом. Про Америку она не вспомнила.
В детстве я всегда сторонилась коллективных мероприятий, а в четырнадцать лет испытывала к ним еще большую неприязнь. Я ее подавляла, в соответствии со своим воспитанием виня себя каждый раз, когда мои мысли и поступки нарушали заветы Мао. Я твердила себе, что обязана привести мысли в согласие с новой революционной теорией и практикой. Если я чего–то не понимаю, я должна себя перевоспитать. Тем не менее перебороть себя я не могла и всеми силами избегала воинственных операций, когда хунвэйбины останавливали прохожих и обрезали им длинные волосы, распарывали узкие штанины и юбки, ломали туфли даже на невысоком каблуке. Пекинские хунвэйбины объявляли все это признаками «буржуазного разложения».
Мои собственные волосы также вызвали недовольство одноклассников. Мне пришлось постричь их вровень с мочками. Втайне, хотя и стыдясь своего «мещанства», я проливала слезы над длинными косами. Когда я была маленькой, няня причесывала меня так, что волосы торчали вверх, словно ветки ивы. Она называла это «фейерверк стреляет в небо». До начала 1960–х годов волосы мне укладывали двумя корзинками и украшали их шелковыми цветочками. По утрам, пока я торопливо завтракала, бабушка или домработница любовно меня причесывали. Больше всего я любила розовые цветы.
После 1964 года, когда Мао призвал к суровому образу жизни, более уместному во времена классовой борьбы, я пришила на брюки заплаты и заплетала две стандартные косы без украшений, но длинные волосы на том этапе не возбранялись. Теперь же бабушка, ворча, обрезала мне волосы. Свои она сохранила, потому что не выходила тогда на улицу.
Знаменитые чэндуские чайные тоже попали под удар. Я не понимала, что в них «упадочного», но вопросов не задавала. Летом 1966 года я научилась заглушать голос рассудка. Большинство китайцев научились этому значительно раньше.
Сычуаньская чайная — уникальное место. Обычно она располагается в бамбуковой роще или под сенью раскидистого дерева. Вокруг низких квадратных деревянных столов стоят бамбуковые кресла, источающие тонкий аромат многие годы после того, как их сделали. Чтобы приготовить чай, в чашку бросают щепотку листьев и заливают кипятком. Затем чашку прикрывают крышкой, через щелку выходит пар, благоухающий жасмином или другими цветами. В Сычуани много видов чая. Только жасмин бывает пяти разных видов.
Чайные так же важны для сычуаньцев, как пабы для англичан. Старики особенно любят сидеть там за чашкой чая, покуривая длинную трубку и закусывая орешками и дынными семечками. Между столами снует официант с длинноносым чайником, из которого он с прицельной точностью подливает кипяток с расстояния в полметра. Профессиональный официант наливает воду чуть выше края чашки так, что она не проливается. Девочкой я всегда завороженно следила, как из носика льется вода. Правда, меня редко брали в чайные. Родители не любили царящей там расслабленной обстановки.
Как и в европейских кафе, посетители сычуаньских чайных могут читать газеты, натянутые на бамбуковые рамы. Некоторые ходят туда почитать, но в первую очередь это место для встреч и разговоров, обмена сплетнями и новостями. Там часто выступают сказители с деревянными трещотками.
Быть может, чайные закрыли из–за их развлекательного характера, из–за того, что сидя в них, люди не делали на улице революцию. Я отправилась с двумя десятками подростков тринадцати–шестнадцати лет, в основном хунвэйбинов, в маленькую чайную на берегу Шелковой реки. Снаружи под большой софорой стояли столы и стулья. Вечерний ветерок доносил густой аромат белых соцветий. Посетители, почти все мужчины, подняли головы от шахмат и посмотрели на нас. Мы шли по колким булыжникам, покрывавшим берег. Потом остановились под деревом. Кто–то из нас закричал: «Собирайтесь, не рассиживайтесь в этом буржуазном месте!» Мальчик из моего класса стащил с ближайшего стола бумажную шахматную доску. Деревянные фигуры посыпались на землю.
Игроки были довольно молоды. Один рванулся вперед со стиснутыми кулаками, но товарищ быстро схватил его за пиджак. Они начали молча собирать фигуры. Мальчик, опрокинувший их доску, кричал: «Шахматы запрещаются! Вы что, не знаете, что это мещанство?» Он наклонился, схватил несколько фигур и швырнул их в направлении реки.
Меня приучали вести себя со старшими вежливо и уважительно, но теперь революционный дух отождествлялся с агрессивностью и воинственностью. Мягкость считалась «буржуазной». Меня постоянно за нее критиковали и, в частности, по этой причине не принимали в хунвэйбины. В годы «культурной революции» мне еще придется наблюдать, как людей обвиняют в «буржуазном лицемерии» за то, что они слишком часто говорят «спасибо»; вежливость находилась на грани исчезновения.
Но теперь, стоя возле чайной, я понимала, что многим из нас, включая хунвэйбинов, не хотелось изъясняться по–новому и помыкать окружающими. Ведь большинство не проронили ни слова. Несколько человек стали молча наклеивать прямоугольные лозунги на стены чайной и ствол софоры.
Посетители тоже молча уходили по дорожке, тянущейся вдоль берега. Я растерянно смотрела на их удаляющиеся фигуры. Еще пару месяцев назад эти взрослые, скорее всего, велели бы нам проваливать. Но теперь они знали, что поддержка Мао давала хунвэйбинам власть. Могу представить себе, с каким удовольствием некоторые дети демонстрировали свою власть над взрослыми. В популярной хунвэйбинской песне пелось: «Взмывай в небо, пронзай землю — ведь наш командир Председатель Мао!» Уже из этой строчки видно, что хунвэйбины не обладали подлинной свободой самовыражения. С самого начала они были всего лишь орудием тирана.
Однако, стоя тогда на берегу реки, я не ощущала ничего кроме смущения. Вместе с одноклассниками я вошла в чайную. Кто–то попросил администратора закрыть заведение. Другие принялись расклеивать по стенам лозунги. Покупатели покидали чайную, но старик в дальнем углу спокойно потягивал чай. Я стояла рядом и стеснялась заговорить с ним в приказном тоне. Он взглянул на меня и продолжил шумно прихлебывать чай. У него было лицо с глубокими морщинами, с какими в кино изображали пролетариев. Руки напомнили мне о старом крестьянине из нашего учебника — он собирал голыми руками колючий хворост и не чувствовал боли.
Быть может, старику придавало уверенности его безупречное происхождение, быть может — уважаемый преклонный возраст, а может быть, я просто не произвела на него особого впечатления. Во всяком случае, он сидел на своем стуле и не обращал на меня ни малейшего внимания. Я собралась с духом и тихо попросила его: «Пожалуйста, уходите». Не глядя на меня, он спросил: «Куда?» — «Домой, конечно», — ответила я. Он обернулся ко мне и заговорил тихо, но с глубоким чувством: «Домой? Я живу в каморке с двумя внуками. У меня только угол с кроватью за бамбуковой занавеской. Когда дети дома, я прихожу сюда отдохнуть. Почему вы меня прогоняете?»
Его слова потрясли и пристыдили меня. Я впервые услышала из первых уст рассказ об ужасных жилищных условиях. Я повернулась и ушла.
Эта чайная, как и чайные всей Сычуани, стояла закрытой пятнадцать лет — до 1981 года, когда ее позволили открыть реформы Дэн Сяопина. В 1985 году я вернулась туда с английским знакомым. Мы сидели под софорой. Подошла старая официантка и традиционным жестом наполнила нам чашки. Вокруг люди играли в шахматы. Это был один из счастливейших моментов моего возвращения на родину.
Когда Линь Бяо приказал разрушать все, олицетворявшее старую культуру, некоторые ученики нашей школы стали разбивать все вокруг. В нашей имеющей более чем двухтысячелетнюю историю школе было множество предметов старины, так что она представляла прекрасное поле деятельности. Школьные ворота увенчивались старинной черепичной крышей с резными коньками. Их разбили молотками. То же случилось с широкой голубой глазурованной крышей большого храма, где играли в пинг–понг. Огромные бронзовые курильницы опрокинули, некоторые мальчики в них мочились. Во внутреннем садике ученики, вооруженные кувалдами и стальными прутьями, изуродовали украшающие мостики фигурки из известняка. Возле спортплощадки стояли две внушительные плиты из красного известняка около шести метров высотой с каллиграфически исполненными строками о Конфуции. Две бригады хунвэйбинов обвязали их толстым канатом и потянули вниз. На это дело ушло два дня: плиты были глубоко зарыты в землю. Вандалы позвали рабочих сделать подкоп вокруг плит. Когда камни, под радостные крики, рухнули, они вздыбили огибающую их дорожку.
Исчезало все, что я любила. Больше всего я скорбела по разграбленной библиотеке: голубая черепичная крыша, изящные окна, голубые расписные стулья... Книжные шкафы переворачивали верх дном, ученики из чистого удовольствия в клочки рвали книги. Затем на изуродованные двери и стены крестообразно наклеили бумажные полоски с черными иероглифами, означающие, что здание опечатано.
Книги явились одной из главных жертв устроенного Мао разгрома. Поскольку они были написаны не в последние два месяца и, следовательно, Мао не цитировался в них на каждой странице, хунвэйбины объявили их «ядовитыми сорняками». По всему Китаю горели книги, за исключением классиков марксизма, а также работ Сталина, Мао и покойного Лу Синя, чье имя мадам Мао использовала для сведения личных счетов. Страна утратила почти все свое письменное наследие. Книгами, избежавшими костров, люди топили печки.
В нашей школе костра не было. Глава школьных хунвэйбинов был прилежным учеником. Этого похожего на девочку семнадцатилетнего юношу назначили главой хунвэйбинов не потому, что он к этому стремился, а потому, что он был сыном первого партсекретаря провинции. Не имея возможности положить конец вандализму, он все же сумел спасти книги от огня.
От меня, как и от остальных школьников, ожидалось участие в «революционной деятельности». Но так же, как и остальным, мне удалось отвертеться, потому что буйство никто не организовывал, никто не следил, принимаем мы в нем участие или нет. Многие ученики очевидным образом не желали иметь никакого отношения к происходящему, но никто не пытался возражать. Думаю, они, подобно мне, обвиняли себя в несознательности и мечтали исправиться.
В глубине души все мы понимали, что нас раздавят при малейшем намеке на несогласие.
К тому моменту «митинги борьбы» стали одной из главных примет «культурной революции». На них истерически орали и редко обходились без рукоприкладства. Возглавлял движение Пекинский университет, под личным присмотром Мао. На первом же митинге 18 июня били, пинали, поставили на многие часы на колени более шестидесяти профессоров и деканов, и даже ректора. На головы им надели дурацкие колпаки с издевательскими надписями, лицо вымазали черными чернилами (черный — цвет зла), все тело обклеили лозунгами. Каждую из жертв, заломив ей руки за спину с такой силой, словно хотели их вывихнуть, толкали вперед двое студентов. Эта поза, называемая «реактивный самолет», вскоре стала характерной чертой «митингов борьбы» по всей стране.
Однажды хунвэйбины из нашего класса позвали меня на митинг. В жаркий летний полдень меня била дрожь: на спортплощадке, на помосте я увидела десяток учителей со склоненными головами и руками в позе «реактивный самолет». Потом одних пнули под колени и приказали на них встать, других, включая моего пожилого учителя английского языка с манерами джентльмена, поставили на длинные узкие скамьи. Он не удержался, покачнулся, упал и расшиб об острый край лоб. Стоявший рядом хунвэйбин машинально нагнулся и протянул ему руки, но тут же выпрямился, сжал кулаки, принял преувеличенно суровый вид и закричал: «Быстро на скамью!» Юноша явно не хотел показаться мягким к «классовому врагу». Кровь текла по лбу учителя и запекалась на его щеке.
Ему, как и другим преподавателям, предъявлялись дикие обвинения. На самом же деле виной были их особые разряды и счеты, которые хотел свести с ними кое–кто из учеников.
Позднее я узнала, что ученики нашей, самой престижной, школы вели себя еще достаточно мягко, потому что любили учиться и учились хорошо. В школах, где мальчики позволяли себе больше, учителей иногда забивали насмерть. В нашей школе я наблюдала только одно избиение. Учительница философии довольно пренебрежительно относилась к отстающим по ее предмету, теперь они ее возненавидели и обвинили в «упадочности». «Улики», отражавшие крайний консерватизм «культурной революции», заключались в том, что она познакомилась с мужем в автобусе. Они разговорились и полюбили друг друга. Любовь, возникшая во время случайной встречи, считалась безнравственной. Мальчики завели ее в кабинет и «предприняли по отношению к ней революционные действия» — таков был эвфемизм для побоев. Предварительно они специально позвали меня. «Пусть посмотрит на тебя, свою любимицу!»
Я считалась ее любимой ученицей, потому что она часто хвалила мои работы. Мне также объяснили, что я должна присутствовать, чтобы преодолеть свою мягкость и «получить урок революции».
Когда избиение началось, я забилась в задний ряд учеников, столпившихся в маленькой комнате. Пара одноклассников посоветовали мне подойти поближе и поучаствовать в процессе. Я пропустила их слова мимо ушей. В центре комнаты по кругу пинали мою зашедшуюся от боли учительницу. Прическа ее сбилась на сторону, она кричала, умоляла их остановиться. Злые на нее мальчики холодно ответили: «Теперь ты просишь! А нас ты не мучила? Проси как следует!» Они еще попинали ее, а потом приказали отбивать земные поклоны и приговаривать: «Пожалуйста, не убивайте меня, хозяева!» Земные поклоны и мольбы о пощаде были крайней формой унижения. Она села и бессмысленно уставилась в пространство. Сквозь спутанные волосы я увидела ее глаза, а в них — муку, отчаяние и пустоту. Она задыхалась, лицо ее стало пепельно–серым. Я тихо выскользнула из комнаты. Вслед за мной вышли еще несколько учеников. Я слышала, как позади кто–то неуверенно и осторожно выкрикивает лозунги. Видимо, многие испугались. Я быстро, с колотящимся сердцем пошла прочь. Я боялась, что меня тоже поймают и изобьют. Но никто за мной не погнался и не изобличил.
В те дни, несмотря на явное отсутствие энтузиазма, я избежала беды. Помимо того, что хунвэйбинская организация не особенно следила за своими членами, я, в соответствии с «теорией кровного родства», будучи дочерью высокопоставленного партработника, родилась ярко–красной. Хотя меня не одобряли, но и не трогали, разве что критиковали.
В те времена хунвэйбины подразделяли учеников на три категории: «красные», «черные» и «серые». «Красные» происходили из семей «рабочих, крестьян, революционных партработников, революционных офицеров и революционных мучеников». «Черные» были детьми «помещиков, кулаков, правых контрреволюционеров и дурных элементов». Родители «серых» — продавцы, конторские служащие — вызывали сомнение. Мой класс, по идее, должен был состоять только из «красных», из–за отсева при наборе. Однако «культурная революция» требовала найти негодяев. В результате десять с лишком человек оказались «серыми» и «черными».
В параллельном классе училась девочка по имени Айлин. Мы давно дружили, я часто бывала у нее дома, хорошо знала ее семью. Ее дедушка был видным экономистом, при коммунистах они пользовались весьма значительными привилегиями, жили в просторном, красивом, даже роскошном доме с изысканным садом — гораздо лучше нашей квартиры. Мне очень нравилась их коллекция старинных вещичек, особенно бутылочки с нюхательной солью, которые дедушка Айлин привез из Оксфорда, где учился в 1920–е годы.
Теперь Айлин вдруг стала «черной». Я слышала, что ее одноклассники устроили налет на их дом, уничтожили всю коллекцию, в том числе и бутылочки, и избили ее родителей и дедушку медными пряжками своих ремней. На следующий день я увидела ее в платке. Одноклассники сделали ей прическу «инь и ян», ей пришлось побриться наголо. Она плакала передо мной. Я не знала что делать, как ее утешить.
В моем классе хунвэйбины провели собрание, на котором все мы должны были рассказать о своих семьях, чтобы нас отнесли к той или иной категории. Я с огромным облегчением объявила: «революционный чиновник». Три–четыре ученика сказали: «сотрудники учреждений», что на жаргоне того времени означало более низкую разновидность госслужащих. Граница не отличалась четкостью, потому что не определялось, что такое «старшие» служащие. Тем не менее эти расплывчатые ярлыки использовались во всевозможных анкетах, которые обязательно содержали графу «социальное происхождение». Вместе с девочкой, дочерью продавца, детей «сотрудников учреждений» записали в «серые». Объявили, что они должны находиться под надзором, подметать школьную территорию, мыть туалеты, ходить с опущенной головой и с готовностью выслушивать поучения от любого хунвэйбина. Кроме того, им надлежало каждый день отчитываться в своих мыслях и поступках.
Эти ученики вдруг стали ниже ростом и незаметнее. Пыл и энтузиазм, переполнявшие их до сей поры, куда–то исчезли. Одна девочка понурила голову и залилась слезами. Мы дружили. После собрания я подошла ее ободрить, но увидела в ее глазах неприязнь, почти ненависть. Я молча повернулась и медленно пошла прочь. Был конец августа. Вокруг благоухала гардения. Мне это казалось странным.
Наступали сумерки; я возвращалась в общежитие, и вдруг увидела, как на высоте третьего этажа учебного корпуса метрах в сорока от меня что–то сверкнуло. У подножия здания раздался глухой стук. Сквозь густые ветви апельсиновых деревьев я не видела, что произошло. На шум сбежались люди. Из сбивчивых, сдавленных восклицаний я поняла: кто–то выпрыгнул из окна!
Я рефлекторно закрыла руками глаза и понеслась в свою комнату. Меня обуял ужас. Перед моим мысленным взором возникла застывшая в воздухе неясная скрюченная фигура. Я торопливо захлопнула окна, но сквозь тонкие стекла все равно слышала, как люди нервно обсуждают происшествие.
Девушка семнадцати лет попыталась свести счеты с жизнью. Перед «культурной революцией» она была одним из комсомольских вожаков, активно штудировала труды Председателя Мао и «училась у Лэй Фэна». Она совершила много добрых дел: стирала товарищам белье, мыла туалеты и часто выступала с речами о том, как верно она следует указаниям Мао. Часто можно было увидеть ее увлеченно беседующей с каким–нибудь учеником, с сознательным, сосредоточенным выражением на лице — так она вела «разговор начистоту» с кандидатами в комсомольцы. Теперь же ее вдруг объявили «черной». Отец ее, член партии, был «сотрудником учреждения». Он работал в городской администрации. Но кое–кто из одноклассников, завидовавших ей и происходивших из семьи «познатнее», решил, что она будет «черной». В последние два дня ее вместе с остальными «черными» и «серыми» поместили под стражу и заставили вырывать траву на спортплощадке. Чтобы унизить, одноклассники отрезали ее прекрасные черные волосы, обрили ее, и она ходила с уродливой голой головой. В тот вечер «красные» из ее класса читали ей и другим жертвам унизительные нотации. Она гордо возразила, что больше верна Председателю Мао, чем они. Ее ударили и сказали, что не ей болтать о преданности Председателю Мао: она — классовый враг. Она подбежала к окну и выбросилась.
Ошеломленные, испуганные хунвэйбины отвезли ее в больницу. Она выжила, но осталась калекой навсегда. Много месяцев спустя я увидела, как она бредет по улице, скрючившись на костылях, с пустотой во взгляде.
Ночь, когда она попыталась совершить самоубийство, я провела без сна. Едва закрывала глаза, передо мной возникала смутная окровавленная фигура. Я содрогалась от ужаса. На следующий день я отпросилась домой по болезни; меня отпустили. Дом казался единственным спасением от школьных кошмаров. Я мечтала только о том, чтобы никуда оттуда не выходить.
17. «Хочешь, чтобы наши дети стали «черными»?»: Тяжелый выбор моих родителей (август–сентябрь 1966)
На этот раз дома мне стало легче. Родители казались рассеянными и едва замечали меня. Отец расхаживал по квартире или запирался в кабинете. Мама вытряхивала в кухонную печь ведра скомканной бумаги. Бабушка тоже выглядела так, будто ждет катастрофы. Она беспокойно и пристально смотрела на родителей. Я замечала их настроение, но не решалась спросить, что случилось.
Родители не рассказали мне о беседе, состоявшейся между ними несколько дней назад. Тем вечером они сидели у открытого окна и слышали несущиеся из рупора на фонаре бесконечно повторяемые изречения Мао, особенно о том, что все революции жестоки по определению — «дикий бунт одного класса, свергающего другой». Изречения декламировались вновь и вновь на запредельно высокой ноте, пугавшей одних и возбуждавшей других. Регулярно сообщалось о «победах» хунвэйбинов: они разгромили еще больше жилищ «классовых врагов» и «разбили их песьи головы».
Отец смотрел на пылающий закат. Он обернулся к маме и медленно проговорил: «Я не понимаю «культурной революции». Но уверен, что совершается большая ошибка. Такую революцию нельзя оправдать никакими марксистскими, коммунистическими принципами. Люди лишились основных прав и защиты. Это неописуемо. Я коммунист, и мой долг — не допустить еще большей катастрофы. Я напишу партийному руководству, Председателю Мао».
В Китае практически не существовало канала для подачи жалоб или высказывания пожеланий властям, кроме обращения к вождям. В данном конкретном случае ситуацию мог изменить только лично Мао. Что бы отец ни думал, ни подозревал о роли, которую играл в происходящем Мао, единственное, что он мог сделать — обратиться к нему с петицией.
Опыт говорил маме, что жаловаться крайне опасно. Жалобщиков и их семьи постигало ужасное возмездие. Она долго молчала, глядела в далекое пылающее небо и пыталась преодолеть тоску, злобу и бессилие. «Почему ты хочешь, как мотылек, броситься в огонь?» — спросила она наконец.
Отец ответил: «Это не обычный огонь. В нем — жизнь и смерть многих людей. На этот раз я должен что–нибудь сделать».
Мама гневно сказала: «Хорошо, тебя не волнует собственная судьба. Тебя не заботит, что станет с твоей женой. Я это понимаю. Но как же наши дети? Знаешь, что случится с ними, если ты попадешь в беду. Ты хочешь, чтобы они стали «черными»?»
Отец ответил задумчиво, словно пытался убедить себя самого: «Всякий любит своих детей. Ты знаешь ведь, что прежде чем прыгнуть на жертву, тигр всегда оглядывается на тигренка. Так поступает даже животное–людоед, что уж говорить о человеке. Но коммунист обязан сделать большее. Он должен думать о других детях. Детях жертв».
Мама встала и вышла из комнаты. Возражать было бесполезно. Оставшись одна, она горько заплакала.
Отец сел за письмо. Он рвал черновик за черновиком. Он всегда был перфекционистом, а письмо Председателю Мао требовало особой тщательности. Ему предстояло не только выразить свои мысли предельно четко, но и смягчить возможные последствия, особенно для собственной семьи. Иными словами, критика не имела права выглядеть критикой. Он не мог позволить себе оскорбить Мао.
О письме отец начал раздумывать в июне. В охоте на ведьм пострадали уже несколько его друзей, он хотел заступиться за них. Но ход событий помешал его планам. Помимо прочего, становилось все яснее, что скоро жертвой станет он сам. Однажды мама увидела в центре Чэнду большое дацзыбао, где отец прямо назывался «главным оппонентом культурной революции в Сычуани». Предъявлялось два обвинения: предыдущей зимой он воспрепятствовал печатанию статьи против «драм о чиновнике династии Мин» — первого призыва Мао к «культурной революции»; кроме того, он составил «апрельский документ», запрещавший преследования и сводящий «культурную революцию» к неполитической дискуссии.
Когда мама рассказала отцу о дацзыбао, он сразу же заключил, что это дело рук партийного руководства провинции. Две вещи, в которых его обвиняли, были известны только небольшому кругу людей наверху. Отец не сомневался, что они решили сделать из него козла отпущения, и знал почему. Студенты чэндуских университетов повели наступление против провинциальной администрации. Группа по делам культурной революции информировала студентов больше, чем школьников — им сообщили, что главной целью Мао было уничтожить «попутчиков капитализма», то есть партработников. Среди студентов почти не было детей высокопоставленных чиновников, потому что партийные деятели, как правило, женились только после основания Китайской Народной Республики в 1949 году, и, соответственно, не имели детей студенческого возраста. Не будучи заинтересованными в сохранении существующей ситуации, студенты с удовольствием ополчились на партработников.
Сычуаньские власти возмущались беспорядками, совершаемыми школьниками, но студенты вызывали у них просто панику. Руководство чувствовало, что необходимо отдать им на растерзание высокопоставленного работника. Отец отвечал за культуру, одну из основных мишеней «культурной революции». Он славился принципиальностью. Теперь же требовалось единодушие и повиновение, так что без него можно было обойтись.
Предчувствие отца вскоре подтвердилось. 26 августа его пригласили на митинг студентов Сычуаньского университета, лучшего в провинции. Они уже выступили против ректора и администрации, а теперь обратили взоры на партработников. Формально митинг устраивался, чтобы студенты могли изложить руководству свои жалобы. В президиуме во главе партийного пантеона сидел комиссар Ли. Громадная аудитория, самая большая в Чэнду, была переполнена.
Студенты явились побуянить, и вскоре в зале началось бог знает что. Студенты выкрикивали лозунги, размахивали флагами, прыгали на сцену, рвались к микрофону. Хотя отец не председательствовал на митинге, именно его попросили взять ситуацию под контроль. Пока он сражался со студентами, партработники удалились.
Отец кричал: «Вы здравомыслящие студенты или хулиганы? Одумайтесь!» Обычно китайские чиновники ведут себя бесстрастно, в соответствии со своим статусом, а отец вопил как студент. К сожалению, его искренность не впечатлила молодежь, его проводили громкими выкриками. Тут же появились огромные дацзыбао, объявлявшие его «упорнейшим попутчиком капитализма, твердолобым чинушей, противником культурной революции».
Митинг стал вехой. По дате его проведения хунвэйбинская организация Сычуаньского университета получила название «Двадцать шестое августа». Она составила ядро блока, включавшего миллионы людей, основной силы «культурной революции» в Сычуани.
После митинга администрация провинции приказала отцу не покидать нашей квартиры ни при каких условиях — «ради своей же собственной безопасности». Отец видел, что сначала его показали студентам как мишень для нападок, а затем фактически поместили под домашний арест. В письме Мао он упомянул и о том, что его отдают на расправу. Однажды вечером он со слезами на глазах попросил маму доставить письмо в Пекин — сам он утратил свободу передвижения.
Мама не хотела, чтобы он писал письмо, но теперь передумала. Чашу весов перевесило то обстоятельство, что отца сделали жертвой. Это значило, что ее дети станут «черными» — она понимала, что это значит. Оставалась единственная, пусть зыбкая надежда спасти мужа и детей — воззвать к вождям. Она обещала отвезти письмо.
В последний августовский день от неверного сна меня разбудил шум из комнат родителей. Я на цыпочках подкралась к приотворенной двери отцовского кабинета. Отец стоял посреди комнаты. Вокруг него сгрудилось несколько человек. Я узнала сотрудников его отдела. Они держались сурово, без прежних угодливых улыбок на лице. Отец горячился: «Поблагодарите от моего имени руководство за заботу. Но я не хочу прятаться. Коммунист не должен бояться студентов».
Он говорил спокойно, но что–то в его голосе меня испугало. Затем раздался внушительный мужской голос: «Заведующий Чжан, партии лучше знать. Вам угрожают студенты, они могут прибегнуть к насилию. Партия считает необходимым защитить вас. Вы должны знать, что коммунист неукоснительно повинуется решениям партии».
Помолчав, отец спокойно ответил: «Я подчиняюсь решению партии. Я пойду с вами». «Но куда?» — спросила мама. Мужской голос нетерпеливо ответил: «Партия решила держать это в тайне». Выходя из кабинета, отец взял меня за руку: «Папа ненадолго уходит. Слушайся маму».
Мы с мамой проводили его до боковых ворот нашей территории. Вдоль длинной дорожки стояли сотрудники его отдела. Мое сердце тяжело билось, ноги подкашивались. Отец казался возбужденным. Его рука, сжимавшая мою ладонь, дрожала. Я погладила его свободной рукой.
У ворот стояла машина. Ему открыли дверь. Там сидело по человеку спереди и сзади. В мамином лице чувствовалось напряжение, но она держалась себя в руках. Она посмотрела отцу в глаза и произнесла: «Не волнуйся. Я всесделаю». Отец уехал, не обняв ни меня, ни маму. Китайцы редко проявляют эмоции на людях, даже в чрезвычайных ситуациях.
Я не осознавала, что отца арестовали, потому что задержание замаскировали под «защиту». В четырнадцать лет я еще не понимала лицемерного языка режима; к уклончивым формулировкам власти прибегли потому, что еще не решили, как поступить с отцом. Как и в большинстве случаев, полиция не имела никакого отношения к делу. За отцом пришли работники его отдела по устному поручению партийного комитета.
Едва отца увезли, мама бросила в сумку несколько вещей и сообщила нам, что отправляется в Пекин. Письмо отца все еще имело вид черновика, с зачеркиваниями и исправлениями. При появлении сослуживцев он сунул его маме в руку.
Бабушка обняла моего четырехлетнего братика Сяофана и заплакала. Я заявила, что отправлюсь на станцию вместе с мамой. Не было времени ждать автобус, мы вскочили в трехколесное велотакси.
Я пребывала в испуге и замешательстве. Мама не объяснила мне, что происходит. Она держалась как–то неестественно и явно была поглощена своими мыслями. Когда я спросила ее, в чем дело, она лаконично ответила, что со временем я все узнаю, и вновь погрузилась в молчание. Видимо, она не придумала, как это объяснить; я привыкла слышать, что слишком мала, чтобы понимать некоторые вещи. Кроме того я чувствовала: мама сосредоточенно осмысливает положение и планирует следующие шаги и никоим образом не хотела ее тревожить. Не знала я лишь того, что мама сама многое отдала бы, чтобы разобраться в запутанной ситуации.
Мы сидели в кузове молча, напряженно, держась за руки. Мама все время смотрела назад: власти, разумеется, не хотели, чтобы она ехала в Пекин, и она позволила мне проводить ее лишь затем, чтобы в случае какого–либо инцидента я могла выступать свидетелем. На станции она купила «жесткий сидячий» билет на ближайший пекинский поезд. Он отправлялся только на рассвете, мы сели на скамью в зале ожидания — под навесом без стен.
Я притулилась к маме и приготовилась к долгому ожиданию. Мы безмолвно смотрели, как на залитую цементом площадь перед вокзалом опускается тьма. Слабо светили голые лампочки на деревянных столбах. Свет отражался в лужах, оставшихся после утреннего ливня. Я мерзла в летней блузке. Мама укутала меня своим плащом. Когда наступила ночь, она велела мне спать. Я устало заснула у нее на коленях.
Пробудилась я оттого, что она пошевелилась. Я подняла голову и увидела перед нами двоих незнакомцев в серых дождевиках с капюшонами. Они что–то доказывали маме полушепотом. Сквозь сон я не могла разобрать смысла их речей. Я не поняла даже, мужчины это или женщины. Мама спокойно сказала: «Я позову на помощь хунвэйбинов». Люди в серых плащах замолчали, потом пошептались и ушли, очевидно не желая привлекать внимание.
На рассвете мама села в пекинский поезд.
Многие годы спустя она поведала мне, что это были младшие сотрудницы из отдела отца. Они заявили, что, по постановлению начальства, поездка в Пекин представляла собой «антипартийный» поступок. Мама привела статью устава партии, где говорилось, что любой ее член имеет право обратиться к руководству. Когда посланницы намекнули, что в машине их ждут мужчины, готовые применить силу, мама предупредила, что крикнет дежурящим у станции хунвэйбинам, что ей не дают поехать в Пекин к Председателю Мао. Я спросила ее, откуда она знала, что хунвэйбины помогут ей, а не преследователям. «А вдруг они объявили бы хунвэйбинам, что ты — классовый враг, который пытается сбежать?» Мама с улыбкой возразила: «Я рассчитала, что они не захотят рисковать. Я готова была все поставить на карту. Больше ничего не оставалось».
В Пекине мама пошла с письмом отца в «ведомство жалоб». На протяжении всей китайской истории правители, не допускавшие создания независимой судебной системы, учреждали особые ведомства, куда простой народ мог явиться с жалобой на начальство. Коммунисты продолжили эту традицию. Когда в ходе «культурной революции» возникло впечатление, что коммунистическое начальство теряет власть, многие люди, пострадавшие от них в прошлом, устремились в Пекин с апелляциями. Однако вскоре Группа по делам культурной революции пояснила, что «классовым врагам» жаловаться не дозволяется, даже на «попутчиков капитализма». За такие жалобы наказывали вдвойне.
В «ведомство жалоб» редко обращались с делами работников уровня моего отца, поэтому маме уделили особое внимание. Жены пострадавших, как правило, не осмеливались искать правды в Пекине. Обычно людей заставляли «провести черту» между собой и «разоблаченным» супругом. Маму почти сразу же принял заместитель премьера Тао Чжу, глава Центрального отдела пропаганды и один из тогдашних вождей «культурной революции». Мама вручила ему письмо отца и попросила приказать сычуаньским властям освободить его.
Недели через две она вновь встретилась с Тао Чжу. Он вручил ей письмо, в котором утверждалось, что отец действовал в полном соответствии с Конституцией и совместно с руководством Сычуани, его надлежит немедленно освободить. Тао не изучал дело, а поверил маме на слово. Случаи, подобные папиному, происходили по всему Китаю: партработники искали козлов отпущения, чтобы спасти собственную шкуру. Тао вручил письмо напрямую, а не послал его по партийным каналам, зная, что на них нельзя более полагаться.
Тао Чжу дал понять, что согласен с опасениями, выраженными в письме моего отца по поводу охоты на ведьм и роста безудержного насилия. Мама видела, что он хочет упорядочить положение. По этой самой причине вскоре его самого заклеймили как «третьего по значимости попутчика капитализма» после Лю Шаоци и Дэн Сяопина.
Мама переписала письмо Тао Чжу от руки, отправила копию по почте бабушке с просьбой показать ее деятелям из отдела отца и передать, что она вернется только после его освобождения. Мама боялась, что после возвращения в Сычуань власти могут ее арестовать и перехватить письмо, а отца не отпустить. Она полагала, что лучшим ходом с ее стороны будет остаться в Пекине и оказывать давление оттуда.
Бабушка передала текст письма. Однако руководство заявило, что имело место недоразумение, что они защищают отца. Они настоятельно требовали, чтобы мама вернулась и прекратила свои «индивидуалистические выходки».
Чиновники являлись к нам в дом несколько раз и все пытались уговорить бабушку поехать в Пекин и привезти маму. Один сказал ей: «Я всерьез задумываюсь о поведении вашей дочери. Почему она так упорно отказывается понять партию? Партия хотела защитить вашего зятя. А ваша дочь не послушала партию и укатила в Пекин. Боюсь, в случае невозвращения ее посчитают антипартийным элементом. А вы знаете, что это не шутки. Вы, как мать, должны заботиться о ее благе. Партия обещает: если ваша дочь вернется и выступит с самокритикой, ее простят».
Мысль о том, что дочь в беде, глубоко угнетала бабушку. После нескольких сеансов обработки она заколебалась. Потом ей помогли принять решение: заявили, что у отца тяжелый нервный срыв и в больницу его пошлют только после маминого возвращения.
Партия вручила бабушке два билета для нее самой и Сяофана, и они тридцать шесть часов ехали в поезде до Пекина. Едва услышав новость, мама послала в отдел отца телеграмму о том, что собирается домой, и занялась приготовлениями к обратному путешествию. Они с бабушкой и Сяофаном приехали в Чэнду на второй неделе октября.
Во время ее отсутствия — весь сентябрь — я жила дома, чтобы не оставлять бабушку одну. Я видела, что ее гложет беспокойство, но не понимала, что происходит. Где отец? Под арестом или под защитой? Действительно ли для семьи наступили трудные времена? Я не знала, и никто ничего не говорил.
Я имела возможность находиться дома, потому что хунвэйбины никогда не осуществляли такого строгого контроля, как партия. К тому же у меня был там «покровитель» Гэн, мой неловкий пятнадцатилетний начальник, ни разу не попытавшийся призвать меня в школу. Однако в конце сентября он позвонил мне и велел явиться 1 октября — в День основания КНР, в противном случае я никогда не смогу вступить в «красные охранники».
Меня не заставляли вступать в хунвэйбины. Мне этого хотелось. Несмотря на все, что происходило вокруг меня, мои отвращение и страх не были направлены ни на что конкретное. Мне не приходило в голову подвергнуть сомнению «культурную революцию» или хунвэйбинов. Творения рук Мао, как и он сам, не подлежали обсуждению.
Подобно многим китайцам, в те дни я оказалась неспособна к самостоятельному мышлению. Страх и промывание мозгов настолько опустошили и извратили наше сознание, что любое отступление от пути, предначертанного Мао, становилось нереальным. Вдобавок, нас окружал туман демагогии, дезинформации и лицемерия, не позволявший увидеть положение своими глазами и сформировать собственную точку зрения.
В школе я услышала, что многие «красные» жаловались, что их до сих пор не приняли в хунвэйбины. Вот почему важно было прийти в школу в День основания КНР, когда разом принимали всех неохваченных до сей поры «красных». Таким образом, именно тогда, когда «культурная революция» омрачила жизнь моей семьи, я стала хунвэйбинкой.
Я не могла оторвать глаз от красной повязки с золотыми иероглифами. Среди хунвэйбинов существовала мода на старую военную форму и кожаные ремни — в таком виде Мао показывался на публике в начале «культурной революции». Мне не терпелось одеться по этой моде; сразу после приема я помчалась домой и Выкопала со дна старого сундука светло–серый «ленинский пиджак», в котором мама ходила в начале 1950–х. Бабушка слегка ушила его по моей фигуре. Я затянулась кожаным отцовским ремнем. Правда, на улице я чувствовала себя неуютно: мой вид казался мне самой слишком воинственным. Тем не менее я продолжала носить этот наряд.
Вскоре бабушка поехала в Пекин. Я, новоиспеченная хунвэйбинка, осталась в школе. Из–за того, что произошло дома, в школе я постоянно ощущала себя не в своей тарелке. Когда я видела «черных» и «серых», со склоненными головами чистящих туалеты и подметающих территорию, в душе у меня поднимался липкий ужас, словно я принадлежу к их числу. Когда вечерами хунвэйбины отправлялись совершать налеты на дома, у меня подгибались ноги, как если бы собирались громить наш дом. Когда рядом со мной кто–то шептался, мое сердце начинало беспорядочно биться: не говорят ли они, что теперь я тоже «черная», что мой отец арестован?
Однако я обрела убежище: хунвэйбинскую приемную.
В школу приезжало много гостей. Начиная с сентября 1966 года все больше молодых людей путешествовали по стране. Чтобы дать им возможность устраивать повсюду беспорядки, им бесплатно предоставляли проезд, питание и проживание.
Приемная размещалась в бывшем лекционном зале. Блуждающим — часто без всякой цели — посетителям давали чай, беседовали с ними. Если они заявляли, что прибыли по серьезному делу, им устраивали встречу с одним из школьных хунвэйбинских вожаков. Я прилепилась душой к этой приемной, потому что она избавляла от необходимости стеречь «черных» и «серых» и участвовать в налетах. Еще мне нравились работающие там пять девушек. Меня успокаивали их теплота и отсутствие фанатизма.
Сюда приходило множество людей, и значительная их часть оставалась, чтобы с нами поболтать. Порой у двери стояла очередь, некоторые возвращались по нескольку раз. Теперь я понимаю, что девичье общество привлекало молодых людей гораздо больше, чем революция. Но я воспринимала все всерьез, спокойно выдерживала их пристальные взгляды, оставалась безучастной к подмигиваниям и старательно конспектировала бред, который они несли.
Как–то жарким вечером в нашу как всегда шумную приемную явились две довольно грубые женщины средних лет. Они представились председателем и заместителем председателя соседнего со школой уличного комитета, после чего заговорили в таинственной и ложно–многозначительной манере, словно прибыли по важному поручению. Меня всегда раздражал этот пошлый тон, я повернулась к ним спиной. Однако вскоре стало ясно, что они принесли потрясающую новость. Вокруг закричали: «В грузовик! В грузовик! Поехали!» Я сама не заметила, как толпа вынесла меня из комнаты и втащила в грузовик. Поскольку Мао велел рабочим помогать хунвэйбинам, и грузовики, и их водители постоянно были к нашим услугам. В кузове я оказалась прижатой к одной из женщин. Та повторяла свой рассказ, всеми силами пытаясь нам понравиться: муж ее соседки, гоминьдановский офицер, бежал на Тайвань; сама же соседка хранит в квартире портрет Чан Кайши.
Меня раздражала ее заискивающая улыбка, злило, что из–за нее я впервые попала в налетчики. Тут грузовик остановился в узком переулке. Мы вылезли и пошли за женщинами по каменистой дорожке. Было совершенно темно, только сквозь щели в деревянных стенах домов пробивался слабый свет. Я еле тащилась, чтобы оказаться позади. Обвиняемая в хранении портрета жила в двух комнатах, которые не вмещали всех приехавших на грузовике. Я обрадовалась, что останусь снаружи. Вдруг кто–то крикнул, что в квартире освободилось место, так что стоящие на улице могут зайти и «получить урок классовой борьбы».
Толпа втолкнула меня в помещение. Я сразу почувствовала запах кала, мочи и немытого тела. Дом перевернули вверх дном. Мой взгляд упал на обвиняемую. Ей было лет сорок. Она, полураздетая, стояла посередине комнаты на коленях под голой лампочкой в пятнадцать ватт. В причудливых тенях коленопреклоненная фигура на полу выглядела гротескно. Волосы были растрепаны и запачканы кровью. С вытаращенными от ужаса глазами она кричала: «Хозяева, красные охранники! У меня нет портрета Чан Кайши! Клянусь!» Она громко билась головой об пол, из ее лба сочилась кровь. Спину покрывали порезы и кровоподтеки. Когда она в поклоне приподнялась, сзади на ней стали видны грязные пятна и еще сильнее завоняло испраженениями. Я отвернулась и увидела ее мучителя, семнадцатилетнего юношу по фамилии Цянь, к которому до сих пор испытывала симпатию. Он, удобно расположившись на стуле, поигрывал медной пряжкой ремня. «Скажи правду, иначе получишь еще», — проговорил он скучающим тоном.
Отец Цяня служил в Тибете. Большинство расквартированных там офицеров оставляли семьи в Чэнду, ближайшем китайском городе, потому что Тибет считался диким и не приспособленным для жизни. Раньше мне нравилась ленивая манера Цяня, я принимала ее за мягкость. Я пролепетала, стараясь одолеть дрожь в голосе: «Разве Председатель Мао не учит нас приемам «словесной борьбы» (вэнь доу) взамен «воинской» (у доу)? Может быть, не стоит...»
Мой нерешительный протест поддержали несколько голосов. Однако Цянь поглядел на нас искоса и со значением произнес: «Проведите черту между собой и классовым врагом! Председатель Мао учит: «Жалость к врагу — жестокость к народу!» Если боитесь крови, вам не место среди хунвэйбинов!» Его лицо исказилось от фанатичной злобы. Мы замолчали. Хотя поведение его не могло вызвать ничего кроме отвращения, мы не спорили. Нас приучили быть безжалостными к классовым врагам, в противном случае мы сами оказались бы в их числе. Я развернулась и быстро ушла на задний двор. Там было полно хунвэйбинов с лопатами. Из дома вновь раздались щелканье ремня и вопли, от которых волосы становились дыбом. Другим, видимо, тоже сделалось не по себе от криков; многие перестали копать: «Здесь ничего нет. Пошли! Пошли!» Проходя мимо комнаты, я увидела Цяня, в расслабленной позе стоящего над жертвой. Снаружи у двери заметила доносчицу с заискивающим взглядом. Теперь она смотрела еще подобострастнее и испуганнее. Ее рот был открыт. По ее лицу я вдруг поняла, что никакого портрета Чан Кайши не было и в помине. Она оклеветала бедную женщину. Хунвэйбинов использовали для сведения личных счетов. Кипя гневом и презрением, я взобралась обратно на грузовик.
18. «Совершенно потрясающая новость»: Паломничество в Пекин (октябрь–декабрь 1966)
Я нашла предлог, чтобы освободиться из школы, и следующим утром вернулась домой. В квартире никого не было. Отец находился под арестом. Мама, бабушка и Сяофан уехали в Пекин. Сестра и братья жили отдельно. Цзиньмин сразу же возненавидел «культурную революцию». Он учился в моей школе в первом классе и мечтал стать ученым, но «культурная революция» объявила это «буржуазным занятием». Еще до ее начала он с другими любителями тайн и приключений из своего класса основал «Железное братство». Цзиньмин, рослый отличник, был братом номер один. Каждую неделю он, пользуясь своими химическими познаниями, показывал классу фокусы; открыто прогуливал уроки, если они его не интересовали или были слишком простыми; вел себя с товарищами честно и благородно.
Когда 16 августа в школе учредили хунвэйбинскую организацию, «братство» Цзиньмина включили в ее состав. Им поручили печатать листовки и расклеивать их на улице. Листовки, которые сочиняли хунвэйбины постарше, лет пятнадцати, назывались: «Учредительная декларация Первой бригады Первой армейской дивизии красных охранников школы номер четыре» (все хунвэйбинские организации имели пышные названия); «Торжественное заявление» (ученик заявлял, что меняет имя на «Хуан Защитник Председателя Мао»); «Совершенно потрясающая новость» (член Группы по делам культурной революции принял каких–то хунвэйбинов); «Последние верховные указания» (стали известны очередные несколько слов Мао).
Скоро Цзиньмину до смерти надоела эта чепуха. Он начал манкировать миссиями и увлекся ровесницей, тринадцатилетней девочкой. Она казалась ему идеальной возлюбленной — красивой, нежной, отстраненной и немного робкой. Он не заговаривал с ней и довольствовался любованием издали.
Однажды их классу велели поучаствовать в налете. Старшие хунвэйбины сказали что–то про «буржуазных интеллигентов». Всех членов семьи объявили заключенными и согнали в одну комнату; хунвэйбины обыскивали дом. Цзиньмину поручили сторожить семью. К его удовольствию, вторым «тюремщиком» оказалась дама его сердца.
«Арестованных» было трое: мужчина средних лет, его сын и невестка. Они, очевидно, знали о налете заранее и спокойно сидели перед Цзиньмином, словно не видя его. Брат испытывал неловкость под их взглядами, а также из–за присутствия девочки, которая явно скучала и поглядывала на дверь. Когда по коридору мальчишки пронесли огромный деревянный ящик с фарфором, она пробормотала, что пойдет посмотрит, и вышла из комнаты.
Наедине с узниками Цзиньмин почувствовал себя еще неуютнее. Женщина встала и заявила, что хочет покормить ребенка грудью в соседней комнате. Цзиньмин охотно согласился.
Едва она ступила за порог, в комнату ворвалась его пассия и строго спросила, почему заключенная гуляет на свободе. Услышав, что это произошло с разрешения Цзиньмина, девочка закричала, что он «проявляет мягкотелость к классовому врагу». Она сорвала со своей «ивовой» — по словам Цзиньмина — талии кожаный ремень и стилизованным хунвэйбинским жестом поднесла его к носу моего ошеломленного брата. Девочку невозможно было узнать. Вдруг из нежной, робкой, милой она превратилась в уродливую истеричку. Так окончилась первая любовь Цзиньмина.
Он тоже закричал на свою бывшую возлюбленную. Командир их отряда, которого та призвала на помощь, так орал на Цзиньмина, что забрызгал его слюной, и тоже махал у него перед носом сложенным ремнем. Вдруг он осекся, сообразив, что не стоит стирать грязное белье перед «классовыми врагами», и приказал Цзиньмину отправляться в школу и ждать там «суда».
В тот вечер хунвэйбинская организация из класса моего брата заседала без него. Вернувшиеся в общежитие мальчики не смотрели ему в глаза. Дня два они держались отчужденно, потом рассказали Цзиньмину, что поспорили с разбушевавшейся девочкой. Она доложила о «капитуляции Цзиньмина перед классовым врагом» и требовала для него сурового наказания. Но «Железное братство» встало на его защиту. Кое–кто из «братьев» сам терпеть не мог эту «воительницу», которая нападала и на других учеников.
Цзиньмина все–таки наказали: заставили выдирать траву вместе с «черными» и «серыми». Приказание Мао о борьбе с травой из–за упрямства последней требовало для своего выполнения бесконечного притока рабочей силы. В качестве наказания к этой деятельности привлекали новоиспеченных «классовых врагов».
Цзиньмин рвал траву лишь несколько дней. «Железное братство» не могло безучастно смотреть на его страдания. Тем не менее его причислили к «сочувствующим классовому врагу» и не посылали больше в налеты, что совершенно его устраивало. Вскоре он отправился со своими «братьями» в путешествие по всей стране, любоваться чудесными горами и реками Китая, однако, в отличие от большинства хунвэйбинов, так и не совершил паломничества в Пекин, не увидел Мао. Домой он вернулся только в конце 1966 года.
Моей сестре Сяохун исполнилось пятнадцать лет. Она основала в своей школе хунвэйбинский отряд. Она была одной из многих: в школе хватало отпрысков начальственных семейств, желавших проявить активность. Воинственная, жестокая атмосфера внушала ей такую ненависть, такой страх, что она оказалась на грани нервного срыва. В начале сентября она появилась у нас дома, желая обратиться к родителям за помощью, но их не застала: отец находился в заключении, мама поехала в Пекин. Бабушкино волнение испугало ее еще больше, и она вернулась в школу. Она вызвалась «охранять» школьную библиотеку, которую разграбили и опечатали, точно так же, как и в моей школе. Она читала день и ночь напролет, пытаясь добраться до всех запретных плодов. Это очень поддерживало ее. В середине сентября они с подругами поехали открывать для себя дальние уголки Поднебесной. Как и Цзиньмин, она вернулась лишь под Новый год.
Брату Сяохэю было почти двенадцать, он учился в моей бывшей начальной школе. Когда в школах средней ступени создавались хунвэйбинские отряды, Сяохэй с друзьями горели желанием в них вступить. Для них звание «красного охранника» означало возможность жить за пределами дома, не спать ночью и командовать взрослыми. Они отправились в мою школу и стали упрашивать, чтобы их приняли в отряд. Желая отделаться от них, какой–то хунвэйбин небрежно разрешил: «Можете сформировать 1–й армейский дивизион подразделения 4969». Сяохэй возглавил отдел пропаганды отряда из двадцати мальчишек; остальные именовались «командующим», «начальником штаба» и так далее. Рядовых не имелось.
Сяохэй дважды участвовал в избиениях учителей. Первым был преподаватель физкультуры, объявленный «дурным элементом». Несколько ровесниц Сяохэя пожаловались, что на уроках физкультурник трогает их грудь и ноги. Мальчики решили проучить его, главным образом, чтобы произвести впечатление на девочек. Второй была воспитательница. Телесные наказания в школе запрещались, поэтому она жаловалась родителям, а те били своих сыновей.
Как–то мальчишек отправили в налет на семью, по слухам, имевшую отношение к Гоминьдану. Они не знали, что именно должны делать. Они смутно ожидали найти что–нибудь вроде потайного дневника, где говорится, как семья жаждет возвращения Чан Кайши и ненавидит коммунистическую партию.
В семье было пятеро сыновей, отличавшихся крепким телосложением. Они встали у двери, уперли руки в боки и грозно уставились на мальчиков. Самый храбрый попробовал было пробраться внутрь. Один из сыновей схватил его за шиворот и вышвырнул на улицу. Больше Сяохэева «дивизия» «революционных действий» не предпринимала.
Таким образом, во вторую неделю октября, когда Сяохэй наслаждался самостоятельной жизнью в школе, Цзиньмин с сестрой странствовали, а мама с бабушкой хлопотали в Пекине, я оставалась дома в одиночестве. Вдруг в квартиру вошел отец.
Его возвращение было отмечено странной тишиной. Отец стал другим человеком. Он держался отстраненно, был погружен в свои мысли и не рассказывал, где был и что с ним делали. Ночами я слушала, как он бессонно ходит по своей комнате, и от страха сама не могла заснуть. Через два дня, к моему огромному облегчению, из Пекина вернулись мама с бабушкой и Сяофаном.
Мама немедленно отправилась в отдел отца и вручила заместителю заведующего письмо Тао Чжу. Отца тут же направили в клинику. Маме разрешили его сопровождать.
Я навестила их там. Клиника размещалась за городом, в чудном месте, в излучине зеленой речки. Отец лежал в палате, состоящей из гостиной с пустыми книжными полками, спальни с большой двуспальной кроватью и ванной, выложенной блестящей белой плиткой. Перед его балконом одуряюще благоухали османтусы. Ветерок сдувал их крошечные цветки на голую землю.
Родители выглядели спокойными. Мама сказала, что они каждый вечер ходят ловить рыбу. Мне показалось, что они в безопасности, и я сказала им, что хочу поехать в Пекин, чтобы увидеть Председателя Мао. Мне давно хотелось, подобно многим другим, совершить это путешествие, но до сих пор я не могла решиться оставить родителей.
Поездки в Пекин всячески поощрялись — бесплатно предоставлялись еда, жилье, транспорт. Однако их никак не организовывали. Я покинула Чэнду два дня спустя, вместе с пятью девочками из приемной. В поезде, мчащемся на север, я испытывала одновременно восторг и глухое беспокойство за отца. За окном, на Чэндуской равнине, среди золотого колосящегося риса нарядно чернели квадраты уже убранных полей. Деревню меньше затронули беспорядки, несмотря на все инициативы Группы по делам культурной революции во главе с мадам Мао. Сам он не хотел, чтобы население голодало: тогда некому было бы «делать революцию», поэтому он поддерживал супругу не во всем. Крестьяне знали, что если они перестанут производить продовольствие, то в первую очередь лишатся его сами. Этому их научил последний голод, разразившийся всего несколько лет тому назад. Домики среди зеленых бамбуковых рощ дышали миром и идиллией. Над изящными верхушками стволов бамбука из труб вился легкий дымок. С начала «культурной революции» прошло меньше пяти месяцев, но мой мир полностью изменился. Я задумчиво любовалась спокойной красотой равнины; к счастью, мне не грозили обвинения в «буржуазной ностальгии»: мои подруги не испытывали желания никого критиковать. В их кругу я чувствовала себя спокойно.
Вскоре плодородная Чэндуская равнина сменилась низкими холмами. Вдали сверкали снеговыми вершинами горы Западной Сычуани. Затем начались тоннели, идущие через горную гряду Цинь, отделяющую Сычуань от северного Китая. Сычуань, граничащая на западе с Тибетом, на востоке — с опасными ущельями Янцзы, а на юге — с «варварами», всегда отличалась самодостаточностью, а ее жители — независимостью. Мао волновал свойственный им издревле вольный дух, и он всегда следил, чтобы провинция пребывала в жестком подчинении у Пекина.
За Циньской грядой пейзаж совершенно изменился. Вместо свежей зелени кругом раскинулась твердая желтая земля, вместо крытых соломой домиков Чэндуской равнины тянулись ряды глинобитных хижин. В таких пещерных хижинах пять лет прожил в молодости мой отец. Мы находились всего в полутораста километрах от Яньани, где после Великого похода Мао устроил свой штаб. Именно там отец грезил о светлом будущем и стал убежденным коммунистом. При мысли о нем у меня увлажнились глаза. Мы ехали два дня и ночь. Проводники часто заходили к нам поболтать; они говорили, что завидуют нам — ведь мы скоро увидим Председателя Мао.
На пекинском вокзале нас, «гостей Председателя Мао», приветствовали лозунги. Было уже за полночь, но площадь перед вокзалом светилась как днем. Прожектора носились по толпам подростков в красных нарукавных повязках, говоривших на самых разных, часто непонятных их соседям диалектах. Они обменивались впечатлениями, кричали, хихикали, ссорились на фоне громадного, советского по стилю, здания вокзала. О китайской архитектуре напоминали лишь стилизованные загнутые крыши на двух обрамляющих его башнях с часами.
Покачиваясь от усталости, я медленно плелась в направлении прожекторов. Мраморное здание потрясло меня новизной и величием. Я привыкла видеть традиционные столбы из темного дерева и стены, сложенные из грубого кирпича. Я оглянулась и с восторгом увидела гигантский портрет Мао — он висел в центре, под тремя золотыми иероглифами «Пекинский вокзал», исполненными его почерком.
Громкоговорители направили нас в приемные в помещении станции. В Пекине, как и во всех остальных китайских городах, за организацию питания и проживания для путешествующей молодежи отвечали особые администраторы. До отказа набивались общежития, школы, гостиницы и даже служебные кабинеты. Отстояв многочасовую очередь, мы получили распределение в университет Цинхуа, один из самых престижных в стране. Нас отвезли туда на автобусе и объяснили, что есть мы будем в столовой. За работой огромной машины по обслуживанию миллионов странствующих подростков следил сам Чжоу Эньлай. Он занимался ежедневной рутиной, на которую у Мао времени не было. Без такого человека, как Чжоу, страна — а вместе с нею и «культурная революция» — давно бы рухнула, и Мао дал понять, что Чжоу трогать нельзя.
Наша группа была очень серьезной и горела одним желанием — увидеть Председателя Мао. К сожалению, мы пропустили только что состоявшийся пятый смотр хунвэйбинов на площади Тяньаньмэнь. Что нам было делать? Развлечения и осмотр достопримечательностей исключались как не имеющие отношения к революции. Все свое время мы посвящали переписыванию плакатов во дворе общежития. Мао сказал, что среди целей поездок по стране — «обмен информацией о культурной революции». Этим мы и занимались: готовились вернуться в Чэнду с лозунгами пекинских хунвэйбинов.
Мы не покидали университетской территории и по иной причине: транспорт был перегружен, а университет находился в пригороде, примерно в пятнадцати километрах от центра города. Тем не менее мы убеждали себя, что нежелание куда–либо ездить политически обосновано.
Жить было очень неудобно. Даже сегодня, когда я об этом вспоминаю, мне в нос ударяет вонь уборных, располагавшихся в конце коридора. По причине засоров вода из раковин и испражнения из унитазов заливали выложенный плиткой пол. К счастью, высокий порог не выпускал смрадную жижу в коридор. Университетские службы находились в состоянии паралича, поэтому туалеты не ремонтировались. Однако деревенские дети все равно ими пользовались: крестьяне не считали фекалии чем–то зазорным. Выходя оттуда, юные хунвэйбины оставляли за собой цепь зловонных следов, тянущуюся по коридору до самых их комнат.
Прошла неделя, а новостей о следующем смотре все не поступало. Подсознательно стремясь избавиться от окружающего нас неудобства, мы решили отправиться в Шанхай на место, где в 1921 году была основана компартия, а затем на юг центрального Китая, в провинцию Хунань, где родился Мао.
Эти поездки оказались сущим адом. В поезде невозможно было пошевелиться. Среди «красных охранников» становилось все меньше детей высокопоставленных чиновников, потому что сами чиновники попадали в разряд «попутчиков капитализма». Угнетенные «серые» и «черные» создавали собственные группы хунвэйбинов и отправлялись путешествовать. Цвета теряли свою символику. Я помню девушку, с которой познакомилась в одном из поездов, — стройную восемнадцатилетнюю красавицу с огромными бархатными глазами и длинными густыми ресницами. По обычаю мы начали знакомство с вопроса о «семейном происхождении». Меня потрясло, как спокойно девушка заявила, что она «черная». Она явно ожидала, что мы, «красные» девочки, будем с ней дружить.
Мы шестеро вели себя отнюдь не воинственно, и вокруг наших мест всегда собиралась веселая компания. Особенной популярностью пользовалась старшая из нас, восемнадцатилетняя «Пампушка». Она была кругленькая, много смеялась глубоким, грудным голосом. Пела она тоже немало, но, разумеется, исключительно песни, состоящие из высказываний Председателя Мао. Дозволялись только они, а также небольшое количество произведений, восхваляющих Мао. Все прочие развлечения находились под запретом десять лет, до самого окончания «культурной революции».
Для меня это время стало счастливейшим с тех пор, как началась «культурная революция», несмотря на неотпускающую тревогу об отце и мучения, сопровождавшие наши поездки. В вагонах не было ни пяди свободного пространства, даже на багажных полках кто–нибудь ехал. Протиснуться в туалет не представлялось возможным. Нас поддерживала лишь решимость увидеть святыни Китая.
В какой–то момент у меня возникла жизненная необходимость воспользоваться уборной. Я сидела зажатая у окна, потому что на узкой скамье, предназначенной для троих, разместилось пятеро. Добравшись до туалета ценой неимоверных усилий, я моментально поняла их бессмысленность. Даже если бы мальчик, сидящий на бачке и положивший ноги на унитаз, поднял их на одно мгновение, даже если бы набившиеся в туалет дети приподняли на секунду девочку, примостившуюся у него между ног, я не смогла бы облегчиться на глазах у всех этих пассажиров обоего пола. Я вернулась на свое место чуть ли не в слезах. От волнения потребность обострилась, у меня задрожали ноги. Я заставила себя дотерпеть до следующей станции.
Через нескончаемый срок поезд остановился на маленьком, окутанном сумерками полустанке. Я вылезла через открытое окно. Вернувшись, поняла, что не могу вскарабкаться обратно.
Видимо, я была самой неспортивной из нашей шестерки. Раньше в подобных случаях одна из подруг всегда запихивала меня снаружи, а другие втаскивали вовнутрь. Теперь же, хотя меня тянули в вагон как минимум четыре человека, я не могла просунуть в окно даже голову и локти. Я обливалась потом, несмотря на пронизывающий холод. Вдруг поезд тронулся. В панике я обернулась, стала искать, кто может мне помочь, и увидела худое, смуглое лицо непонятно как очутившегося рядом со мной мальчишки. Однако у него были совсем другие намерения.
В кармане куртки у меня лежал кошелек, и сейчас, из–за моей согнутой позы, он торчал наружу. Мальчишка двумя пальцами вытащил его, выбрав для этого момент отхода поезда. Я разрыдалась. Мальчик замер. Он посмотрел на меня и после некоторого колебания засунул кошелек обратно. Потом он схватил меня за правую ногу и подтолкнул вверх. Я приземлилась на стол, когда поезд уже набирал ход.
После этого случая у меня появилась слабость к юным карманникам. В последовавшие за «культурной революцией» годы воровство распространилось очень широко; однажды у меня пропали продовольственные талоны на целый год. Но всякий раз, услышав, что полицейские или другие защитники «правопорядка» избили карманника, я чувствовала боль в сердце. Пожалуй, тот мальчишка на зимнем перроне выказал больше человечности, чем лицемерные столпы общества.
В общей сложности за время путешествия мы преодолели более трех тысяч километров; никогда в жизни я не доходила до такой степени истощения всех сил. Мы побывали в старом доме Мао, превращенном в музей–святыню. Смотрелся он довольно величественно и никак не сочетался с моими представлениями о жилище угнетенного крестьянина. Подпись под огромной фотографией матери Мао гласила, что она отличалась необыкновенной добротой и, хотя происходила из довольно состоятельной семьи, часто помогала продуктами бедноте. Так значит, родители нашего Великого Вождя — богатые крестьяне! Но богатые крестьяне — классовые враги! Почему же родители Председателя Мао — герои, а другие классовые враги — объект ненависти? Этот вопрос так напугал меня, что я немедленно заставила себя о нем забыть.
Когда в середине ноября мы вернулись в Пекин, там стояли морозы. Приемные размещались теперь не на вокзале, потому что его территории явно не хватало для все новых потоков молодежи, изливавшихся на столицу. На грузовике нас отвезли в парк, где мы всю ночь ждали, пока нас куда–нибудь поселят. Мы не могли сесть, потому что земля заиндевела. На секунду–другую я заснула стоя. Я не привыкла к суровой пекинской зиме; к тому же из дома я уезжала осенью и не взяла с собой теплой одежды. Ветер продувал меня до костей, ночь тянулась бесконечно, точно так же, как и очередь. Она извивалась вокруг покрытого льдом озера в центре парка.
Забрезжил и наступил рассвет, а мы, лишенные всяких сил, по–прежнему стояли в очереди. Поселили нас лишь вечером — в Центральном театральном институте. Когда–то наша комната служила классом вокала. Теперь на полу лежали в два ряда соломенные тюфяки без простыней и подушек. Нас встретили офицеры ВВС, которые пояснили, что Председатель Мао прислал их с поручением заботиться о нас и обучать военном делу. Забота Мао страшно нас растрогала.
Обучение хунвэйбинов военному делу было новостью. Мао рассудил, что беспорядочное разрушение, развязанное им самим, пора обуздать. Из сотен «красных охранников», размещенных в театральном институте, офицеры составили «полк». У нас сложились с ними хорошие отношения. Особенно нам полюбились двое, чье семейное происхождение мы, по традиции, сразу же узнали. Командир батальона был крестьянином с севера, а политрук происходил из интеллигентной семьи из знаменитого города–сада Сучжоу. Однажды они предложили отвезти нашу шестерку в зоопарк, но просили никому об этом не рассказывать, потому что в их джипе больше не было места. Кроме того, они намекнули, что не имеют права вовлекать нас в занятия, не связанные с «культурной революцией». Не желая создавать им проблемы, мы отказались от их предложения, заявив, что «хотим отдавать все силы революции». Офицеры принесли нам два мешка больших спелых яблок — редкость в Чэнду — и связки водяных каштанов в карамели, знаменитое пекинское лакомство. Чтобы отблагодарить их за доброту, мы прокрались в их спальню, унесли грязное белье и с большим энтузиазмом выстирали его. Помню, как я пыталась справиться с формой защитного цвета, очень тяжелой и не гнущейся в ледяной воде. Мао велел народу учиться у военных, потому что желал, чтобы все соблюдали строгую дисциплину и были так же беззаветно ему преданы, как армия. Учеба у солдат шла рука об руку с проповедью любви к ним, и многочисленные книги, статьи, песни и танцы изображали девушек, стирающих бойцам белье.
Я стирала даже их трусы, но у меня не было и тени фривольных мыслей. Думаю, многие мои сверстницы, оказавшиеся в центре политических бурь, не задумывались о подобных вещах. Но не все. Отсутствие родительского глаза для некоторых означало свободный образ жизни. Вернувшись домой, я услышала о бывшей однокласснице, пятнадцатилетней красотке, отправившейся путешествовать с пекинскими хунвэйбинами. По дороге у нее приключился роман, так что возвратилась она беременной. Отец ее побил, соседи обжигали презрительными взглядами, друзья с удовольствием распространяли о ней сплетни. Она повесилась; в ее прощальной записке говорилось, что «ей слишком стыдно жить». Никому не показалось странным это средневековое чувство стыда, которое стоило бы сделать мишенью подлинной культурной революции. Но Мао подобные темы нисколько не волновали, они не входили в число «пережитков», с которыми боролись хунвэйбины.
«Культурная революция» произвела на свет немало воинствующих святош, в основном молодых женщин. Другая моя одноклассница как–то получила любовное письмо от шестнадцатилетнего мальчика. В ответном письме она назвала его «предателем революционных идеалов»: «Как смеешь ты лелеять в душе такие бесстыдные мысли, когда классовый враг по–прежнему свирепствует, и столько людей еще живут в капиталистическом аду!» Этим стилем увлекались многие мои подруги. Мао призывал девушек быть воинственными, женственность во времена моей юности считалась качеством позорным. Многие пытались говорить, двигаться и вести себя как грубые, агрессивные мужчины; тех, кто держался по–иному, высмеивали. В любом случае возможностей проявить женственность находилось крайне мало. Для начала, нам не разрешалось носить ничего кроме бесформенных голубых, серых или зеленых штанов и курток.
Наши офицеры каждый день муштровали нас на баскетбольной площадке возле театрального института. По соседству располагалась столовая. Я начинала невольно смотреть на нее, едва нас выстраивали в шеренги, даже если это происходило сразу же после завтрака. У меня развилась пищевая одержимость, не знаю уж, потому ли, что мне не хватало мяса, или из–за холода и скуки муштры. Я грезила о роскошной сычуаньской кухне: о хрустящей утке, рыбе в кисло–сладком соусе, «пьяном цыпленке» и десятках прочих восхитительных кушаний.
Мы не привыкли обращаться с деньгами и к тому же думали, что в самом процессе покупки заключается нечто «капиталистическое». Поэтому, несмотря на все мои мечты о еде, я купила лишь связку каштанов в карамели, к которым пристрастилась после офицерского угощения. Я решилась так себя побаловать после длительных, мучительных размышлений и консультаций с другими девочками. Вернувшись из поездки домой, я мигом проглотила какое–то черствое печенье, и тут же вручила бабушке почти нетронутыми деньги, данные ею в дорогу. Она заключила меня в объятия и все приговаривала: «Какая же ты дурочка!»
Еще я привезла с собой ревматизм. В Пекине от холода вода замерзала в кранах, а я маршировала на улице без пальто. Не было горячей воды, чтобы согреть заледеневшие ноги. По приезде нам выдали по одеялу. Через несколько дней приехали еще девочки, но им одеял не досталось. Мы решили обойтись вшестером тремя одеялами, а три отдать им. Воспитание предписывало нам помогать товарищу в беде. Нам сообщили, что одеяла взяты из запасов на случай войны. Председатель Мао велел распределить их между нами, заботясь о нашем удобстве. Мы преисполнились горячей благодарности. Теперь же, когда мы оказались практически без одеял, нам посоветовали быть еще благодарнее, потому что Мао поделился с нами всем, что было у Китая.
Под маленькими одеялами можно было уместиться, только если спать вплотную. Бесформенные кошмары, мучившие меня с тех пор, как я стала свидетельницей неудавшегося самоубийства, усугубились, когда отца увели, а мама уехала в Пекин; поскольку спала я плохо, то часто выбивалась из–под одеяла. Помещения плохо отапливались, во сне я дрожала от холода. Когда мы уехали из Пекина, мои коленные суставы воспалились до такой степени, что я почти не могла их согнуть.
Но это было еще не все. Некоторые из деревенских детей страдали от вшей и блох. Как–то, войдя в комнату, я застала одну из подруг в слезах. Оказалось, она только что обнаружила гниды в подмышечном шве нательной рубашки. Я перепугалась до смерти — завшивевших людей мучила невыносимая чесотка, они считались грязными. С тех пор несколько раз на дню меня одолевала чесотка и я осматривала свое нижнее белье. Моей мечтой было поскорее увидеть Председателя Мао и возвратиться домой.
24 ноября, во второй половине дня, я была на одном из обычных собраний по изучению цитат Мао в комнате мальчиков (офицеры и мальчики из скромности не появлялись в комнатах девочек). Вдруг неожиданно легкой походкой вошел наш славный командир батальона и предложил исполнить под его руководством песню «В морях нам нужен кормчий». Раньше он никогда этого не делал, мы были приятно удивлены. Он размахивал в такт руками, его глаза светились, щеки пылали. Когда мы допели, он объявил, сдерживая возбуждение, что у него хорошая новость, и мы сразу поняли, в чем она заключается. «Завтра мы увидим Председателя Мао!» — воскликнул он. Его слова потонули в наших восторженных возгласах. После первоначального нечленораздельного вопля наш энтузиазм вылился в лозунги: «Да здравствует Председатель Мао!», «Мы всегда будем следовать за Председателем Мао!»
Командир батальона сказал нам, что с этой минуты мы не имеем права покидать кампус и должны следить, чтобы никто этого правила не нарушал. Просьба следить друг за другом была совершенно нормальной. Вдобавок, эти меры предпринимались ради безопасности Председателя Мао, и мы с радостью повиновались. После ужина к нам с подругами подошел офицер и сказал тихим торжественным голосом: «Хотите помочь в защите Председателя Мао?» — «Разумеется!» Он успокоил нас жестом и шепотом продолжил: «Предложите завтра утром перед выходом, чтобы каждый обыскал соседа — нет ли при нем чего–нибудь запрещенного? Знаете, молодые люди могут забыть о правилах...» Правила он огласил еще раньше: нельзя брать с собой ничего металлического, даже ключи.
Многие из нас глаз не могли сомкнуть, мы возбужденно проговорили всю ночь. В четыре утра мы встали и стройными рядами отправились в полуторачасовой поход к площади Тяньаньмэнь. Перед отправлением нашего «батальона» в путь Пампушка, которой в нужный момент подмигнул офицер, встала и предложила провести обыск. Я видела, что некоторые из присутствующих считают, что она зря тратит время, но командир батальона весело поддержал ее предложение. Он вызвался первым подвергнуться обыску. Сделать это поручили мальчику, он нашел большую связку ключей. Командир изобразил, будто и в самом деле проявил неосмотрительность и победительно улыбнулся Пампушке. Все мы обыскали друг друга. Такой окольный образ действий отражал маоистскую практику: все должно выглядеть как воля народа, а не приказ сверху. Лицемерие и актерство никого не удивляли.
Утренние улицы бурлили. Хунвэйбины маршировали к площади Тяньаньмэнь со всей столицы. Всюду гремели оглушительные лозунги. Скандируя, мы поднимали руки, в темноте наши цитатники образовывали яркую красную линию. На площадь мы пришли с рассветом. Меня поставили в седьмой ряд на широком северном тротуаре проспекта Вечного спокойствия к востоку от площади Тяньаньмэнь. За мной тянулось множество других рядов. Выровняв наше построение, офицеры велели нам сесть по–турецки на жесткую землю. Мои воспаленные суставы от этого заныли еще сильнее, ягодицы быстро затекли. Я страшно замерзла, устала, кружилась голова, потому что ночью мне не удалось уснуть. Офицеры заставляли нас петь, устраивали состязания между отрядами, чтобы нас приободрить.
Перед самым полуднем с востока донеслись истерические крики: «Да здравствует Председатель Мао!» Я потеряла бдительность от утомления и не сразу осознала, что Мао вот–вот проедет мимо в открытой машине. Вдруг вокруг меня раздался рев: «Да здравствует Председатель Мао! Да здравствует Председатель Мао!» Сидящие передо мной резко встали и запрыгали в безумном возбуждении, неистово размахивая красными цитатниками. «Сядьте! Сядьте!» — закричала я. Наш командир батальона говорил, что следует оставаться в сидячем положении. Но мало кто соблюдал правила, все сгорали от желания узреть Мао.
От долгого сидения ноги у меня занемели. Несколько секунд я видела лишь море колышущихся затылков. Когда же мне наконец удалось подняться на ноги, я увидела только хвост кортежа. Лю Шаоци, председатель КНР, смотрел в мою сторону.
В дацзыбао уже начали нападать на Лю как на «китайского Хрущева» и главного оппонента Мао. Хотя официально его еще не заклеймили, не оставалось сомнений, что его падение неминуемо. В репортажах о смотрах хунвэйбинов ему уделяли не самое почетное место. Вот и в этой процессии он стоял не рядом с Мао, как вторая персона в государстве, а в самом конце, на одной из последних машин.
Лю выглядел подавленным и усталым. Однако я ему не сочувствовала. Несмотря на пост председателя КНР, он ничего не значил для нашего поколения. Мы выросли на единоличном культе Мао. И если Лю против Мао, нам казалось естественным, что он должен уйти со сцены.
В ту минуту, среди толп юнцов, орущих о своей преданности Мао, Лю, видимо, чувствовал всю безнадежность своего положения. Ирония судьбы заключалась в том, что сам он сыграл ключевую роль в обожествлении Мао, которое привело к этой вспышке фанатизма среди молодежи в целом нерелигиозного народа. Возможно, Лю и его соратники участвовали в раздувании культа, чтобы умиротворить Мао, надеясь, что он удовольствуется абстрактной славой и не будет вмешиваться в их повседневную работу. Однако Мао хотел абсолютной власти на небе и на земле. И они, вероятно, ничего не могли поделать: ограничивать поклонение Мао было поздно.
Утром 25 ноября 1966 года мою голову переполняли совсем иные мысли. Единственное, чего я хотела — хоть краешком глаза увидеть Председателя Мао. Я быстро перевела взгляд с Лю к началу автоколонны, заметила могучую спину Мао и его мерно помахивающую правую руку. Но уже через мгновение он исчез. Мое сердце замерло. Неужели это все? Только спина на долю секунды? Солнце внезапно показалось мне серым. Вокруг ревела толпа. Девушка рядом со мной уколола указательный палец правой руки и выдавливала из него кровь, чтобы сделать надпись на аккуратно сложенном носовом платке. Я в точности знала, что она напишет. Так до нее делали многие другие хунвэйбины, и нам прожужжали об этом все уши: «Сегодня я самый счастливый человек в мире. Я видела Председателя Мао!» От этой сцены мне стало еще тяжелее. Жизнь казалась бессмысленной. На секунду мелькнула мысль: не наложить ли на себя руки?
Теперь я думаю, что это была подсознательная попытка выразить отчаяние разбитой надежды после всех перенесенных мною трудностей. Набитые до отказа поезда, воспаленные колени, голод и холод, чесотка, неработающие туалеты, утомление — все оказалось напрасным.
Паломничество завершилось, через несколько дней мы отправились домой. Я была сыта путешествием по горло и мечтала о тепле, покое и горячей ванне. Но мысль о доме омрачалась дурным предчувствием. Во время путешествия, несмотря на все его тяготы, меня не мучил страх, наполнявший жизнь до этого. Прожив более месяца бок о бок с тысячами и тысячами хунвэйбинов, я ни разу не стала свидетелем насилия, не испытала ужаса. Гигантские толпы вели себя истерично, но в то же время дисциплинированно и неопасно. Люди, с которыми я знакомилась, держались дружелюбно.
Перед самым моим отъездом из Пекина пришло письмо от мамы, где говорилось, что отец совершенно выздоровел и в Чэнду все хорошо. Однако в конце она добавила, что их критикуют как «попутчиков капитализма». Я вновь впала в уныние. Я уже понимала, что главной мишенью «культурной революции» были коммунистические чиновники. Вскоре мне предстояло увидеть, как это скажется на жизни нашей семьи.
19. «При желании осудить доказательства найдутся»: Мучения моих родителей (декабрь 1966–1967)
Под «попутчиком капитализма» понимался могущественный чиновник, осуществляющий капиталистический курс. Однако в действительности чиновникам не приходилось выбирать, какую политику проводить. Приказы Мао и его оппонентов представлялись исходящими от партии, все они были обязательны для исполнения, хотя при этом приходилось делать много зигзагов и даже развороты на сто восемьдесят градусов. Если чиновнику уж очень не нравилось какое–либо указание, максимум, что он мог сделать — оказать пассивное сопротивление, да и то в условиях строжайшей маскировки. Следовательно, только на основе его работы невозможно было определить, является ли он «попутчиком капитализма».
Многие чиновники имели собственную точку зрения на события, но партийные правила запрещали оглашать ее. Они и не осмеливались. Поэтому, какими бы ни были убеждения чиновников, население ничего о них не знало.
Однако именно простых людей Мао призвал нападать на «попутчиков» — разумеется, не предоставив им ни соответствующей информации, ни права независимого суждения. В результате чиновники причислялись к «попутчикам капитализма» из–за занимаемых ими постов. Значение имела не только важность этого поста. Решающую роль играло то, возглавлял ли человек достаточно независимую организацию. Все население страны относилось к той или иной организации, и для простого народа власть олицетворяли их непосредственные начальники — главы организаций. Направляя недовольство на этих людей, Мао использовал наиболее очевидный источник отрицательных эмоций, так же, как когда натравливал учеников на учителей. Люди, стоявшие во главе той или иной организации, были основными звеньями в коммунистической властной цепочке, и Мао желал избавиться от них.
Мои родители оказались в рядах «попутчиков капитализма» потому, что возглавляли отделы. «При желании осудить доказательства найдутся» — гласит китайское изречение. Поэтому всех начальников, больших и маленьких, подчиненные скопом объявили «попутчиками капитализма», следующими «капиталистическому курсу, направленному против Председателя Мао». К такому курсу относили разрешение свободных рынков в деревне, пропаганду повышения квалификации рабочих, допущение относительной свободы в сфере литературы и искусства, провозглашение соревновательности в спорте — последнюю теперь называли «буржуазной манией кубков и медалей». До сих пор большинство чиновников не подозревали, что Мао такая политика не нравится — в конце концов, все эти директивы исходили от возглавляемой им партии. Теперь им вдруг заявили, что указания исходили от «буржуазного штаба» в партии.
В каждой организации появились активисты, которых называли «красными бунтарями», или просто бунтарями (цзаофанями). Они писали дацзыбао и лозунги «Долой попутчиков капитализма!», а также проводили собрания против своего начальства. Часто обвинения звучали неубедительно, потому что чиновники отвечали, что всего лишь исполняли указания партии — Мао всегда велел им беспрекословно повиноваться и никогда не говорил о существовании «буржуазного штаба». Откуда им было знать? Они не могли действовать по–другому. Многие поддерживали партработников и даже устраивали шествия в их защиту. Их называли «лоялистами». Между ними и бунтарями разгорелась словесная и физическая борьба. Поскольку Мао не говорил явно, что следует заклеймить всех партийных руководителей, некоторые сомневались: а что если начальники, на которых они нападают, не «попутчики капитализма»? Простой народ не знал, что делать помимо плакатов, лозунгов и собраний.
Вернувшись в Чэнду в декабре 1966 года, я почувствовала висящую в воздухе неуверенность.
Родители жили дома. В ноябре их попросили покинуть клинику, где до этого лежал отец, потому что «попутчики капитализма» должны были вернуться в свои организации и подвергнуться критике. Маленькую столовую на нашей территории закрыли, все мы получали питание в большой столовой, работавшей как обычно. Родители каждый месяц получали зарплату, несмотря на то, что партийная система находилась в параличе и они не ходили на работу. Поскольку их отделы ведали культурой, а супруги Мао особенно ненавидели их пекинское руководство, которое они и вычистили в самом начале «культурной революции», родители оказались непосредственно на линии огня. В дацзыбао их стандартным образом оскорбляли: «Бомбардируй Чжан Шоуюя» и: «Сожги Ся Дэхун». Обвинения против них были такие же, как против почти любого заведующего отделом пропаганды по всей стране.
В отделе отца созывались собрания с целью заклеймить его. На него орали. Как и в большинстве случаев политической борьбы в Китае, настоящим двигателем служила личная вражда. Главной обвинительницей отца была товарищ Шао, чопорная и необычайно самодовольная заместительница главы управления, которая давно мечтала избавиться от приставки «зам». Она считала, что ее не продвигают по вине моего отца, и жаждала мести. Однажды она плюнула ему в лицо и ударила его. Однако в целом агрессия не выходила за определенные границы. Многие сотрудники любили и уважали отца и не проявляли к нему жестокости. Вне его отдела собрания против него проводили также организации, входившие в сферу его ведения, например, редакция газеты «Сычуань жибао», однако тамошние работники не чувствовали к отцу никакой личной неприязни, и там собрания оборачивались формальностью.
Против мамы вообще не было никаких собраний. Будучи партработником низового уровня, она руководила большим количеством организаций, чем мой отец — школами, больницами, развлекательными учреждениями. Обычно подобных руководителей критиковали сотрудники этих учреждений. Однако маму все они оставили в покое. Она решала их личные проблемы, например, с переездом или пенсией, и вела свою работу умело и с искренним желанием помочь. В ходе предыдущих кампаний она сделала все, что могла, чтобы никого не оклеветать, и в результате многих уберегла. Люди знали, как она рисковала, и отплатили ей тем, что отказались нападать на нее.
В день моего возвращения бабушка приготовила «облачные» пельмени и пареный рис с «восемью сокровищами», завернутый в пальмовые листья. Мама в оптимистическом ключе рассказала мне о том, что происходит с ней и с отцом. Они решили после «культурной революции» уйти из партработников. Они попросят, чтобы им разрешили быть обычными гражданами и вести обычную семейную жизнь. Позднее я поняла, что это был самообман, ибо обратного ходу из компартии не существовало; но в то время им требовалась какая–то опора.
Отец сказал: «Даже капиталистический президент может за одну ночь стать обычным гражданином. Хорошо, когда тебе не дают постоянной власти. Иначе чиновники будут ею злоупотреблять». Затем он извинился передо мной, что вел себя в семье как диктатор: «Вы словно поющие цикады, смолкшие от холодного ветра. Хорошо, что вас, молодежь, призывают бунтовать против нас, старшего поколения». Он добавил, обращаясь и ко мне, и к себе самому: «Думаю, что работников вроде меня критикуют совершенно правильно — нам не помешают трудности и даже в какой–то степени потеря лица».
Эта была еще одна неловкая попытка родителей принять «культурную революцию». Их не пугала перспектива утратить свое привилегированное положение — напротив, они пытались видеть в этом перемену к лучшему.
Наступил 1967 год. «Культурная революция» вдруг резко прибавила обороты. На первой ее стадии, в ходе движения хунвэйбинов, была установлена атмосфера террора. Теперь Мао перешел к основной своей цели — заменить «буржуазный штаб» и существующую партийную иерархию собственной системой власти. Лю Шаоци и Дэн Сяопин были официально заклеймлены и взяты под арест, та же участь постигла Тао Чжу.
9 января «Жэньминь жибао» и радио объявили, что в Шанхае, где к власти пришли бунтари–цзаофани, начался «январский штурм». Мао призвал народ по всему Китаю брать с них пример и перехватывать власть у «попутчиков капитализма».
«Бери власть (до–цюань)!» В Китае это стало заклинанием. Власть означала не влияние на политику — но власть над людьми. Помимо денег, она приносила привилегии, почет, заискивание нижестоящих и возможность отомстить. В Китае обычным людям некуда было выпустить пар. Вся страна была гигантским котлом, где скопилась огромная масса сжатого пара. Не существовало ни футбольных матчей, ни влиятельных общественных объединений, ни судебных процессов, ни даже жестких фильмов. Не представлялось возможности заявить какой бы то ни было протест против системы и ее несправедливостей, не говоря уже об устройстве демонстраций. Даже разговоры о политике — важная форма снятия стресса в большинстве обществ — находились под запретом. У подчиненных почти не было шансов ограничить произвол начальства. Зато начальство могло дать выход раздражению. Поэтому когда Мао призвал «брать власть», он нашел большую группу людей, которым хотелось кому–нибудь отомстить. Хотя власть содержала в себе опасность, она оставалась более желанной, чем бессилие, особенно для людей, лишенных власти. Теперь население восприняло эту идею так, что Мао разрешил всем и каждому захватывать власть.
Практически во всех китайских учреждениях цзаофани очень осмелели. Заметно возросла их численность. Самые разные люди — рабочие, учителя, продавцы, даже служащие правительственных организаций — начали называть себя «бунтарями». По примеру шанхайцев, они физическими мерами привели в повиновение сбитых с толку «лоялистов». Первые группы хунвэйбинов, например, в нашей школе, распадались, потому что в свое время организовывались вокруг детей высокопоставленных чиновников, теперь оказавшихся жертвами нападения цзаофаней. Некоторых таких хунвэйбинов, сопротивлявшихся новой фазе культурной революции, арестовали. «Красные охранники» избили до смерти одного из сыновей комиссара Ли за якобы произнесенные им слова против мадам Мао.
Сотрудники из отдела отца, которые его арестовывали, теперь стали цзаофанями. Товарищ Шао возглавила цзаофаней всех правительственных учреждений Сычуани вдобавок к своей должности командира их отряда в отделе отца.
Не успели цзаофани сформировать свои организации, как они тут же почти в каждом китайском учреждении распались на фракции и стали бороться за власть. Все стороны обвиняли врагов в «линии на сопротивление культурной революции» или в преданности старой партийной системе. В Чэнду многочисленные группы быстро объединились в два противостоящих блока, возглавляемые университетскими отрядами цзаофаней: более воинственный «Двадцать шестое августа» из Сычуаньского университета и сравнительно умеренный «Красный Чэнду» из университета Чэнду. За каждым из блоков стояли миллионы последователей по всей провинции. В отделе отца отряд товарища Шао относился к «Двадцать шестому августа», а их противники — в основном более умеренные люди, которых отец любил и продвигал, и которые со своей стороны любили его, — к «Красному Чэнду».
За стенами нашей территории и «Двадцать шестое августа», и «Красный Чэнду» установили громкоговорители на деревьях и столбах и оскорбляли друг друга день и ночь. Однажды вечером я услышала, что «Двадцать шестое августа» собрало сотни сторонников и атаковало фабрику–твердыню «Красного Чэнду». Они взяли в плен рабочих и пытали их, используя такие методы, как «поющие фонтаны» (раскалывали им череп, так что из него била кровь) и «пейзажи» (вырезали у них на лицах узоры). В передачах «Красного Чэнду» сообщалось, что несколько рабочих приняли мученическую смерть, спрыгнув с крыши здания. Насколько я поняла, они покончили с собой, не вынеся пыток.
Одной из основных мишеней цзаофаней была профессиональная элита каждой организации, не только выдающиеся врачи, художники, писатели и ученые, но и инженеры и квалифицированные рабочие, даже образцовые золотари, собиравшие человеческие испражнения — ценное удобрение для крестьян. Цзаофани заявили, что их выдвинули «попутчики капитализма», но подлинной причиной явилась зависть. Во имя революции сводились и личные счеты.
«Январский штурм» стал началом жестокого насилия по отношению к «попутчикам капитализма». Теперь у партийных функционеров отнимали власть и натравливали на них народ. Люди, ненавидевшие свое начальство, пользовались возможностью отомстить, хотя жертвам предыдущих кампаний действовать не разрешалось. До того, как Мао сделал новые назначения, прошло определенное время — на этой стадии он еще не знал, кому доверить те или иные посты; по этой причине амбициозные карьеристы горели желанием продемонстрировать свою воинственность и надеялись, что таким образом выслужатся в новые руководители. Соперничающие фракции соревновались в зверствах. Значительная часть населения примыкала к ним вследствие запугивания, конформизма, преданности Мао, жажды свести личные счеты или просто чтобы снять напряжение.
Наконец физическое насилие коснулось и моей мамы. Оно исходило не от ее подчиненных, а в основном от бывших заключенных, работавших в уличных мастерских ее восточного района — грабителей, насильников, наркоторговцев и сутенеров. В отличие от «политических преступников», страдавших от «культурной революции», этих обыкновенных уголовников науськивали на людей, заранее определенных в качестве жертв. Собственно против мамы они ничего не имели, но она принадлежала к руководству их района, и этого им было достаточно.
На устраиваемых против нее собраниях бывшие заключенные проявляли особенную активность. Однажды она пришла домой с лицом, перекошенным от боли. Ей приказали стоять на коленях на битом стекле. Бабушка весь вечер вынимала из ее коленей осколки пинцетом и иглой. На следующий день она сшила маме толстые наколенники, а также защитную подушку, оборачиваемую вокруг пояса — именно в эту уязвимую часть тела нападающие направляли свои удары.
Несколько раз маму водили по улицам в дурацком колпаке и с тяжелой табличкой, свисающей с шеи, где ее имя было перечеркнуто большим крестом в знак унижения и падения. Через каждую пару шагов ее вместе с товарищами по несчастью заставляли становиться на колени и отбивать толпе земные поклоны. Над ними издевались дети. Некоторые кричали, что они бьют головой о землю недостаточно громко и требовали повторить. Тогда маме приходилось снова биться головой о каменную мостовую.
Как–то зимой проводился «митинг борьбы» в уличной мастерской. Перед митингом, когда его участники обедали в столовой, маме и другим «преступникам» было велено полтора часа стоять на усыпанной гравием улице. Шел дождь, она промокла до нитки. Резкий ветер продувал мокрую одежду и пробирал до костей. Когда митинг начался, она стояла на помосте, согнувшись в три погибели, и старалась побороть озноб. На нее кричали — дико и бессмысленно; боль в пояснице и шее стала совсем невыносимой. Она немного переменила позу и попыталась приподнять голову, чтобы облегчить боль. Вдруг она почувствовала сильный удар в затылок, сбивший ее с ног.
Только некоторое время спустя она узнала, что же произошло. Женщина, сидевшая в переднем ряду, содержательница борделя, попавшая в тюрьму во время кампании против проституции, нацелилась на маму, возможно, потому что она была единственной женщиной на помосте. Едва мама подняла голову, женщина подпрыгнула и сделала выпад, целясь шилом прямо ей в глаз. Охранник–цзаофань, стоявший за мамой, заметил это и сбил ее на землю. Если бы не он, мама лишилась бы глаза.
Тогда мама скрыла от нас этот случай. Она вообще редко рассказывала о происходившем с ней. Когда ей необходимо было упомянуть что–нибудь вроде битого стекла, она делала это вскользь. Она никогда не показывала своих синяков и всегда держалась спокойно и даже весело. Она не хотела, чтобы мы тревожились за нее. Но бабушка видела, как она страдает. Она беспокойно смотрела маме вслед, пытаясь спрятать собственную боль.
Как–то нас навестила бывшая домработница. Они с мужем были одними из немногих, кто не порывал с нашей семьей на протяжении всей «культурной революции». Я испытывала к ним глубокую благодарность за даримое ими тепло, ведь они рисковали получить ярлык «сочувствующих попутчикам капитализма». Она проговорилась бабушке, что только что увидела, как по улицам водят маму. Бабушка настояла, чтобы она рассказала больше, и вдруг упала, громко ударившись головой об пол. Она потеряла сознание и лишь постепенно пришла в себя. Со слезами, катящимися по щекам, она всхлипывала: «Чем моя дочь заслужила такое?»
У мамы начались маточные кровотечения, которые с тех пор случались почти каждый день на протяжении шести лет, до 1973 года, когда ей удалили матку. Иногда из–за серьезности кровотечений мама попадала в больницу. Врачи прописали ей гормоны для уменьшения потери крови, и мы с сестрой делали ей уколы. Мама знала, что сидеть на гормонах опасно, но выхода не было. Только так она могла перенести «митинги борьбы».
Одновременно цзаофани из отдела отца усилили свои нападки на него. В одном из важнейших отделов провинциальной администрации хватало оппортунистов. Прежде послушные инструменты партийной системы, теперь многие стали чрезвычайно воинственными «бунтарями», которых под знаменем «Двадцать шестого августа» вела товарищ Шао.
Как–то их отряд ворвался к нам в квартиру и прошел в кабинет отца. Они оглядели книжные полки и объявили его настоящим «упорствующим врагом», который до сих пор держит дома «реакционные книги». Уже после первых костров из книг, устроенных хунвэйбинами, многие люди сожгли свои библиотеки. Но не мой отец. Он даже предпринял слабую попытку защитить книги, указав на марксистские сочинения. «Не пытайтесь обмануть нас, хунвэйбинов!» — заорала товарищ Шао. — У вас полным–полно «ядовитых сорняков»!» Она схватила несколько классических китайских книг, отпечатанных на тонкой рисовой бумаге.
«Что значит «нас, хунвэйбинов»? — возразил отец. — Вы им в матери годитесь и должны бы быть поумнее».
Товарищ Шао со всей силы ударила отца. Толпа разразилась криками негодования, хотя кое–кто не смог сдержать смешков. Затем они вывалили книги с полок и запихнули их в огромные джутовые мешки, которые принесли с собой. Наполнив мешки, они отнесли их вниз и заявили, что сожгут книги завтра, после «митинга борьбы», и что они заставят отца смотреть на костер, чтобы он «извлек урок».
Вернувшись после обеда домой, я обнаружила отца в кухне. Он разжег огонь в большой цементной раковине и швырял в пламя свои книги.
Я впервые в жизни увидела, как он плачет. Он был мучительным, прерывистым, диким, этот плач мужчины, который не привык проливать слезы. То и дело отец в припадке рыданий топал ногами и бился головой о стену.
От испуга я не смела утешать его. В конце концов я обняла его, но не знала, что сказать. Он тоже не произнес ни слова. Отец тратил на книги каждую лишнюю копейку. В них была его жизнь. Я чувствовала, что после костра что–то случится с его рассудком.
Ему постоянно приходилось присутствовать на «митингах борьбы». Товарищ Шао и ее отряд обычно приглашали множество цзаофаней со стороны, чтобы увеличить размер толпы и иметь побольше желающих поучаствовать в насилии. Как правило, митинг начинался со скандирования: «Десять тысяч лет, и еще раз десять тысяч лет, и еще раз десять тысяч лет нашему Великому Учителю, Великому Вождю, Великому Командующему, Великому Кормчему Председателю Мао!» Каждый раз, когда выкрикивались три «десятитысячелетия» и четыре «величия», все дружно поднимали цитатники. Отец этого не делал. Он говорил, что «десять тысяч лет» жизни желали императорам, а Председателю Мао, коммунисту, такое обращение не пристало.
Это вызывало целую волну истерических выкриков и ударов. На одном митинге всем обвиняемым приказали встать на колени и отбивать поклоны перед огромным портретом Мао, водруженном позади помоста. Все повиновались, но отец отказался. Он заявил, что стояние на коленях и земные поклоны — позорное наследие феодализма, с которым коммунисты ведут безжалостную войну. Цзаофани вопили, пинали его, лупили по голове, но он изо всех сил держался прямо. «Я не встану на колени! Я не буду кланяться!» — сказал он гневно. Разъяренная толпа потребовала: «Склони голову и покайся в преступлениях!» Он ответил: «Я не совершал преступлений. Я не склоню голову!»
На него прыгнули несколько крупных молодых людей и попытались поставить на колени, но едва они с него слезли, отец вновь выпрямился, поднял голову и дерзко посмотрел на зрителей. Палачи схватили его за волосы, потянули за шею. Отец отчаянно сопротивлялся. Когда толпа истерично закричала, что он «враг культурной революции», отец зло ответил: «Разве это культурная революция? Это не культура! Это дикость!»
Избивающие его мужчины заревели: «Культурной революцией руководит Председатель Мао! Как смеешь ты выступать против нее?» Отец закричал еще громче: «Да, я выступаю против нее, даже если ею руководит Председатель Мао!»
Наступила абсолютная тишина. «Выступление против Председателя Мао» каралось смертной казнью. Многие люди погибли только потому, что их обвинили в этом преступлении, без всяких улик. Цзаофани обомлели оттого, что отец, кажется, ничего не боится. Оправившись от первоначального потрясения, они опять принялись избивать его, призывая отречься от кощунственных слов. Он отказался. В ярости они связали его, потащили в местный полицейский участок и там потребовали, чтобы его арестовали. Но полицейские отказались его принять. Им нравились закон и порядок, они уважали партработников, а цзаофаней ненавидели. Они заявили, что им нужно разрешение на арест такого высокопоставленного работника, как мой отец, а такого разрешения никто не давал.
Отца часто избивали. Но он держался своих принципов. Он единственный на нашей территории вел себя таким образом, другие примеры подобного поведения мне неизвестны, и многие люди, в том числе цзаофани, втайне восхищались им. Часто совершенно незнакомый прохожий на улице шептал, как отец поразил его. Некоторые мальчики признались моим братьям, что хотели бы быть такими же стойкими, как наш отец.
После дневных мучений родители приходили домой, где о них заботилась бабушка. К тому времени она позабыла о неприязни к отцу, да и он смягчился к ней. Она накладывала ему мазь на раны, особыми припарками лечила его синяки и поила раствором белого порошка под названием байяо, чтобы поскорее зажили внутренние повреждения.
Родителям было приказано постоянно оставаться дома и ждать вызова на следующий митинг. Спрятаться было невозможно. Весь Китай был огромной тюрьмой. Каждый дом, каждая улица находились под надзором самих жителей. В бескрайней стране скрыться было негде.
Родители не могли как–то расслабиться или развлечься. «Развлечение» устарело как понятие. Книги, картины, музыкальные инструменты, спорт, карты, шахматы, чайные, питейные заведения — все исчезло. Парки превратились в изуродованные пустыри, траву и цветы вырвали с корнем, ручных птиц и золотых рыбок убили. Фильмы, пьесы, концерты запретили: мадам Мао расчистила место для «образцовых пьес», в сочинении которых принимала участие, и кроме них ничего ставить не дозволялось. В провинции боялись ставить даже их. Одного режиссера заклеймили, потому что грим, придуманный им для пытаемого героя одной из опер, мадам Мао сочла чрезмерным. Его бросили в тюрьму за «преувеличение тягот революционной борьбы». Мы не мечтали даже о прогулке. Атмосфера на улице внушала страх: на углах происходили «митинги борьбы», на стенах висели зловещие дацзыбао и лозунги; люди бродили как зомби, со злыми или испуганными лицами. К тому же опухшие лица родителей выдавали их — выйдя на улицу, они рисковали подвергнуться оскорблениям.
Одним из свидетельств ужаса, воцарившегося в те дни, стало то, что никто не осмеливался жечь или выбрасывать газеты. На первой странице всегда помещался портрет Мао, через каждые несколько строчек приводились цитаты из Мао. Газеты следовало беречь как зеницу ока, выкинуть их у кого–то на глазах значило попасть в беду. Держать их тоже было непросто: портрет Мао могли погрызть мыши, газета могла просто сгнить — и то и другое расценили бы как преступление против Мао. Первое крупное сражение между фракциями в Чэнду началось из–за того, что хунвэйбины случайно сели на старые газеты с изображением Мао. Мамину школьную подругу довели до самоубийства, потому что она написала в дацзыбао слова «Искренне люби Председателя Мао» неправильно: в иероглифе «искренне» одна черта оказалась слишком короткой, и он стал похож на иероглиф «печально».
Как–то в феврале 1967 года, в самый разгар этого всеобъемлющего террора, между родителями произошла беседа, о содержании которой я узнала лишь годы спустя. Мама сидела на краешке кровати, а отец в плетеном кресле напротив. Он сказал ей, что понял, в чем суть «культурной революции», и это осознание пошатнуло все его представления о мире. Теперь он не сомневался, что она не имеет никакого отношения к демократизации или к большей гласности для простого народа. Это кровавая чистка, и цель ее — упрочить личную власть Мао.
Отец говорил медленно и обдуманно, тщательно подбирая слова. «Но Председатель Мао всегда был таким великодушным, — заметила мама. — Он пощадил даже Пу И. Почему же он не может пощадить собственных товарищей по оружию, которые бок о бок сражались с ним за новый Китай? Почему он к ним так беспощаден?»
Отец ответил спокойно, но убежденно: «Кем был Пу И? Военным преступником, которого не поддерживал народ. Он ничего не мог сделать. Но...» Он погрузился в красноречивое молчание. Мама поняла его: Мао не потерпит никакого вызова. Потом она спросила: «Но почему все мы, ведь мы, в конце концов, только выполняем приказы? Зачем обвинять всех этих невинных людей? Зачем столько разрушений, столько страданий?»
Отец предположил: «Возможно, Председатель Мао думает, что достигнет своей цели, лишь перевернув все вверх дном. Он всегда действовал основательно — и никогда не боялся человеческих жертв».
После напряженной паузы отец продолжил: «Это не революция, как бы ни понимать этот термин. Гарантировать личную власть такой ценой для страны и народа — неправильно. Даже преступно».
Мама почувствовала надвигающееся несчастье. После подобных рассуждений ее муж начинал действовать. Как она и ожидала, он заявил: «Я собираюсь написать письмо Председателю Мао».
Мама уронила голову на руки. «Какой в этом смысл? — вырвалось у нее. — Неужели ты воображаешь, что Председатель Мао послушает тебя? Почему ты хочешь погубить себя — ни за что? Не надейся, что на этот раз я повезу письмо в Пекин!»
Отец наклонился и поцеловал ее. «Я не собирался просить тебя отвезти письмо. Я отправлю его по почте». Потом он поднял ее голову и заглянул ей в глаза. С отчаянием в голосе он произнес: «Что еще я могу сделать? Какой у меня выбор? Я должен высказаться. Вдруг это поможет. Я должен поступить так хотя бы ради собственной совести».
«Разве твоя совесть — самое важное? — спросила мама. — Важнее твоих детей? Хочешь, чтобы они стали «черными»?»
Воцарилось долгое молчание. Затем отец неуверенно сказал: «Наверно, тебе нужно развестись со мной и вырастить детей, как ты считаешь нужным». Они опять замолчали, и она подумала: быть может, он не окончательно решил написать письмо, понимая, что последствия будут самыми катастрофическими.
Проходили дни. В конце февраля над Чэнду низко пролетел самолет и тысячи блестящих листков слетели на землю со свинцового неба. Они содержали текст письма, датированного 17–м февраля и подписанного Центральным Военным Советом, верховным военным органом. Письмо предписывало цзаофаням прекратить насилие. Хотя в письме прямо не критиковалась «культурная революция», его целью явно было остановить ее. Маме показала листовку ее коллега. Родители загорелись надеждой. Возможно, вмешаются заслуженные, уважаемые народом маршалы. В центре Чэнду прошла крупная демонстрация в поддержку призыва военных.
Листовки появились вследствие закулисных пертурбаций в Пекине. В конце января Мао впервые попросил армию поддержать цзаофаней. Большинство военных лидеров — за исключением министра обороны Линь Бяо — пришли в ярость. 14 и 16 февраля они провели с политическими руководителями два долгих совещания. Сам Мао, как и его заместитель Линь Бяо, остались в стороне. Председательствовал Чжоу Эньлай. Маршалы, командиры коммунистической армии, ветераны Великого похода, герои революции, объединили свои силы с теми членами Политбюро, кто еще не подвергся чистке. Они осудили «культурную революцию» за преследование невиновных и дестабилизацию страны. Один из вице–премьеров, Тань Чжэньлинь, гневно заявил: «Я следовал за Председателем Мао всю жизнь. Больше я за ним не следую!» Сразу после этих встреч маршалы стали предпринимать шаги для остановки насилия. Так как в Сычуани беспорядки достигли особенно высокого уровня, письмо от 17 февраля было написано специально для нее.
Чжоу Эньлай отказался присоединиться к большинству и остался на стороне Мао. Культ личности наделил Мао дьявольской властью. Возмездие постигло оппозицию очень скоро. Мао организовал нападение толпы на отступников среди членов Политбюро и армейских командующих, устроил домашние налеты и жестокие «митинги борьбы». Когда Мао велел наказать маршалов, армия пальцем не пошевелила, чтобы их поддержать.
Эта робкая попытка оказать сопротивление Мао и его «культурной революции» получила название «февральского враждебного течения». Режим выпустил отредактированный отчет о событиях, чтобы усугубить насилие против «попутчиков капитализма».
Для Мао февральские совещания стали поворотной точкой. Он увидел, что против его политики выступают практически все. Это привело к полному устранению партии — за исключением самого названия. Политбюро умело заменили Группой по делам культурной революции. Линь Бяо вскоре приступил к чистке командиров, преданных маршалам, и функции Центрального Военного Совета перешли к его личному аппарату, который он контролировал через жену. Клика Мао теперь приобрела форму средневекового двора, с женами, родственниками и льстивыми придворными. Мао послал в провинции делегатов организовывать «революционные комитеты» — новое орудие его личной власти, призванное сменить партийную систему вплоть до самого низового уровня.
В Сычуани делегатами Мао оказались старые знакомые родителей — супруги Тин. После отъезда родителей из Ибиня Тины стали практически полновластными хозяевами региона. Муж занял пост секретаря партии; жена возглавила партию в столице — городе Ибине.
Тины использовали свои должности для бесконечных преследований и сведения счетов. Одной из жертв оказался телохранитель жены, работавший у нее в начале 1950–х годов. Она несколько раз пыталась соблазнить его, а однажды пожаловалась на боль в животе и заставила молодого человека массировать его. Потом она завела его руку ниже. Телохранитель вырвал руку и вышел из комнаты. Товарищ Тин обвинила его в попытке изнасиловать ее и добилась, чтобы его приговорили к трем годам исправительных работ.
В партком Сычуани пришло анонимное письмо, где рассказывалась вся эта история. Было назначено расследование. Как обвиняемые, Тины не имели права видеть письмо, но их дружок показал им документ. Они заставили всех сотрудников ибиньской администрации написать какой–нибудь отчет, чтобы сверить почерк. Автора они так и не выявили, и расследование окончилось ничем.
В Ибине и партработники, и простое население боялись Тинов как огня. Постоянные политические кампании и система квот давали им прекрасные возможности для расправы.
В 1959 году Тины избавились от ибиньского губернатора, сменившего отца в 1953 году. Это был ветеран Великого похода, которого все любили — кроме Тинов, которые ему завидовали. Его называли «Ли — Соломенные Сандалии», потому что он всегда ходил в крестьянских сандалиях — это был символ связи со своими корнями, с землей. Во время «Большого скачка» он старался не заставлять крестьян плавить сталь, а в 1959 году заговорил о голоде. Тины разоблачили его как «правого оппортуниста» и понизили до агента по закупкам в столовой пивного завода. Он умер во время голода, хотя профессия давала ему шанс питаться лучше, чем другие. Вскрытие показало, что в его желудке одна солома. Он оставался честным человеком до последнего вздоха.
Другой случай, тоже произошедший в 1959 году, был связан с врачом, которого Тины осудили как классового врага, потому что он ставил истинный диагноз жертвам голода — а упоминать об этом официально воспрещалось.
Таких историй были десятки — так много, что люди рисковали жизнью и жаловались на Тинов провинциальным властям. В 1962 году, когда в правительстве наиболее сильные позиции занимали умеренные деятели, они затеяли всекитайское расследование прежних кампаний и реабилитировали многих жертв. В сычуаньской администрации создали группу по изучению деятельности Тинов, которых признали виновными в серьезных злоупотреблениях властью. Их уволили, задержали, а в 1965 году генеральный секретарь как Дэн Сяопин подписал приказ об исключении их из партии.
Когда началась «культурная революция», Тины бежали в Пекин, где обратились в Группу по делам культурной революции. Они изобразили себя героями, ведущими «классовую борьбу», за что, утверждали они, их и преследовали прежние партократы. Однажды мама столкнулась с ними в ведомстве жалоб. Те любезно спросили ее пекинский адрес. Она отказалась его дать.
Тинов приютил Чэнь Бода, один из руководителей Группы по делам культурной революции и начальник отца в Яньане. Благодаря его протекции их приняла сама мадам Мао и тут же распознала в них родственные души. Мадам Мао в «культурной революции» привлекала не столько политика, сколько сведение личных счетов — самых что ни на есть мелочных. Она приняла участие в преследовании супруги Лю Шаоци, потому что, как она сама рассказала хунвэйбинам, ее возмущали заграничные поездки председателя Лю с супругой. Мао бывал за границей только дважды, оба раза в СССР и без мадам Мао. Ситуацию усугубляло то, что за границей жена Лю носила туалеты и украшения, которые никто не мог себе позволить в суровом маоистском Китае. Супругу Лю обвинили в работе на ЦРУ и бросили в тюрьму, она едва избежала смерти.
В 1930–е годы, до встречи с Мао, мадам Мао была третьестепенной шанхайской актрисой, которой пренебрегала местная творческая интеллигенция. Некоторые ее представители руководили коммунистическим подпольем, а после 1949 года стали ведущими работниками Центрального отдела пропаганды. Отчасти чтобы отомстить за действительные или мнимые унижения, перенесенные ею в Шанхае тридцать лет тому назад, мадам Мао приложила невероятные усилия для того, чтобы найти в их деятельности мотивы, «направленные против Председателя Мао, против социализма». Когда Мао в период голода ушел в тень, она сумела сблизиться с ним и нашептала ему много ядовитых слов о своих врагах. Ради того, чтобы погубить недругов, она разнесла всю руководимую ими систему, то есть отделы пропаганды по всей стране.
Мстила она и тем актерам и актрисам, которым завидовала в шанхайские времена. Однажды актриса по имени Ван Ин сыграла роль, привлекшую мадам Мао. Тридцать лет спустя, в 1966 году, та добилась для соперницы с мужем пожизненного заключения. В 1974 году Ван Ин покончила с собой в тюрьме.
Другая известная актриса, Сунь Вэйши, за несколько десятков лет до описываемых событий играла перед Мао в поставленной в Яньане пьесе. Видимо, играла она лучше, чем мадам Мао, в связи с чем полюбилась высшему руководству, в том числе и самому Великому Вождю. Вдобавок она была приемной дочерью Чжоу Эньлая и не чувствовала необходимости подлизываться к мадам Мао. В 1968 году по указке последней актрису и ее брата арестовали и замучили насмерть. Ее не защитила даже власть Чжоу Эньлая.
Со временем общественность из слухов узнала о том, как мадам Мао сводит счеты; свой характер она обнаруживала и в речах, воспроизводимых в стенгазетах–дацзыбао. Ее возненавидели почти все, но в начале 1967 года о ее злодеяниях знали еще немногие.
Мадам Мао и Тины принадлежали к одной породе, которая в маоистском Китае имела название — чжэнжэнь, то есть «чиновники, преследующие людей». Неутомимость и целеустремленность, с которой они занимались преследованиями, кровожадные методы, к которым прибегали, достигали поистине чудовищных масштабов. В марте 1967 года Мао подписал документ о том, что Тины реабилитированы и им поручено сформировать сычуаньский революционный комитет.
Был создан переходный орган под названием «Подготовительный революционный комитет Сычуани». Он состоял из двух генералов — главного политического комиссара и командующего военным округом Чэнду (одного из восьми военных округов Китая) — и супругов Тин. Мао постановил, что каждый ревком должен включать в себя три категории членов: местную армию, представителей цзаофаней и «революционных чиновников». Последние избирались из бывших партработников, и в данном случае этот выбор был оставлен на усмотрение Тинам, которые фактически руководили комитетом.
В конце марта 1967 года Тины навестили отца. Они хотели включить его в свой комитет. Отец пользовался среди коллег славой необыкновенно честного и справедливого человека. Даже Тины ценили эти его качества; в частности, они знали, что когда попали в опалу, отец, в отличие от некоторых других, не присоединился к их преследователям. Кроме всего прочего, им требовался работник с его способностями.
Отец встретил их вежливо, а бабушка — с большой теплотой. Она слышала мало историй об их мести, зато знала, что именно товарищ Тин выбила для мамы, когда она вынашивала меня, драгоценное американское лекарство от туберкулеза.
Когда Тины прошли в часть квартиры, занимаемую отцом, бабушка быстро раскатала тесто, и вскоре кухню наполнила музыка мерно стучащего по доске ножа. Она мелко нарезала свинину, покрошила пучок нежного молодого лука–резанца, добавила специи и залила порошок чили горячим рапсовым маслом. Получилось традиционное блюдо, которым приветствуют гостей — пельмени с соусом.
В кабинете Тины рассказали отцу о своей реабилитации и новом статусе. Они зашли к нему в отдел и услышали от цзаофаней о том, до какого печального положения он сам себя довел. Тем не менее, заявили они, в те ранние ибиньские годы он всегда вызывал у них симпатию, они и сейчас уважают и ценят его и хотят опять работать вместе.
Они обещали, что все крамольные слова, которые он произнес, все его опасные поступки будут забыты, если он станет с ними сотрудничать. Более того, он мог сделать новую карьеру в создаваемой структуре власти, например, мог руководить всеми культурными организациями в Сычуани. Они дали понять, что от таких предложений не отказываются.
Отец услышал о назначении супругов Тин от мамы, прочитавшей об этом в дацзыбао. Тогда он заявил маме: «Нельзя верить слухам. Это невозможно!» Он не мог себе представить, что Мао поставит на ключевые позиции таких людей. Сейчас он постарался сдержать отвращение и ответил: «К сожалению, не могу принять вашего предложения».
Товарищ Тин огрызнулась: «Мы делаем тебе большое одолжение. Другие просили бы об этом на коленях. Ты понимаешь, в какой ты передряге и кто мы теперь такие?»
Отец гневался все сильнее. Он воскликнул: «Я сам отвечаю за свои слова и поступки. Я не желаю иметь с вами ничего общего». В ходе последовавшего разгоряченного обмена репликами он сказал, что, по его мнению, их наказали справедливо, им нельзя доверять важные должности. Они оторопели и посоветовали ему думать, что говорит: их реабилитировал и назвал «хорошими работниками» сам Председатель Мао.
Гнев раззадорил отца. «Но Председатель Мао не мог знать про вас все. Какие же вы «хорошие работники»? Вы совершили непростительные ошибки». Он сдержался и не сказал «преступления».
«Да как ты смеешь сомневаться в словах председателя Мао? — воскликнула супруга Тин. — Заместитель командующего Линь Бяо сказал: «Каждое слово Председателя Мао — абсолютная истина, и каждое его слово значит столько же, сколько десять тысяч слов»!»
«Если одно слово значит одно слово, — сказал отец, — это высшее, чего достиг человек. Никто не может сделать так, чтобы одно слово значило столько же, сколько десять тысяч слов. Заместитель командующего Линь Бяо выразился в переносном смысле, и его оценку не следует воспринимать буквально».
Тины, как они потом рассказывали, не могли поверить собственным ушам. Они предупредили отца, что его образ мыслей, речи и поведение противоречат духу «культурной революции», возглавляемой Председателем Мао. На это отец заметил, что был бы рад поспорить с Председателем Мао обо всем происходящем. Эти слова прозвучали настолько самоубийственно, что Тины лишились дара речи. Помолчав, они встали и пошли прочь.
Бабушка услышала сердитые шаги и выбежала из кухни — ее руки были в муке, ведь она готовила пельмени. Она столкнулась с супругой Тин и пригласила их остаться пообедать. Товарищ Тин не обратила на нее ни малейшего внимания, выскочила из квартиры и затопала вниз по лестнице.
На лестничной площадке она остановилась, обернулась и разъяренно крикнула отцу, вышедшему вместе с ними: «Ты сошел с ума? Спрашиваю в последний раз — ты все еще отказываешься от моей помощи? Знай, что теперь я могу сделать с тобой все, что угодно».
«Мне от вас ничего не нужно, — ответил отец. — Мы с вами принадлежим к разным видам».
Оставив смущенную и испуганную бабушку на лестничной клетке, отец прошел в свой кабинет. Почти мгновенно он вышел оттуда с чернильным камнем. В ванной он капнул на него несколько капель и вернулся к себе. Затем он сел за стол и принялся растирать о камень палочку туши; получилась густая черная жидкость. Он положил перед собой чистый лист бумаги. Очень скоро он написал свое второе письмо к Мао. Начиналось оно словами: «Председатель Мао, я обращаюсь к вам, как коммунист к коммунисту с просьбой прекратить культурную революцию». Далее он описывал несчастья, в которые она погрузила Китай. Заканчивалось письмо так: «Я опасаюсь за будущее нашей партии и нашей страны, если таким людям, как Лю Цзетин и Чжан Ситин дается власть над десятками миллионов людей».
Он написал на конверте: «Председателю Мао, Пекин», отнес его на почту, находившуюся в начале улицы, и послал заказным авиаписьмом. Служащий взял конверт и взглянул на него, не изменив пустого выражения лица. Отец вернулся домой — ждать.
19. «Я не продам свою душу»: Арест отца (1967–1968)
На третий день после того, как отец отправил Мао письмо, в дверь нашей квартиры постучали. Мама открыла. Вошли трое мужчин в мешковатой синей одежде, какую носили тогда все в Китае. Отец знал одного из них: он служил в его отделе уборщиком и был воинствующим цзаофанем. Другой, высокий человек с нарывами на худом лице, объявил, что они, цзаофани из полиции, пришли арестовать «активного контрреволюционера, покушающегося на жизнь Председателя Мао и культурную революцию». Затем он и еще один, пониже ростом и поплотнее, схватили отца за руки и подтолкнули к двери.
Они не предъявили удостоверений и уж тем более ордера на арест. Но никто не усомнился в том, что это полицейские в штатском. Их полномочия подтверждались присутствием известного отцу цзаофаня из его собственного отдела.
Хотя они не упомянули о письме, отец понимал, что его, скорее всего, перехватили — это было почти неизбежно. Он ожидал ареста, и не только потому, что совершил оскорбление величества в письменной форме, но и потому, что теперь существовала власть — супруги Тин, — которая могла санкционировать его арест. Он ясно сознавал последствия своего шага, но не мог не воспользоваться единственной, пусть и призрачной возможностью выразить свое мнение. Он молчал и не выражал протеста, хотя чувствовалось, что нервы у него напряжены. Выходя, он ласково сказал маме: «Не держи зла на нашу партию. Верь, что она исправит свои ошибки, даже самые серьезные. Разведись со мной. Скажи детям, что я их люблю. Не пугай их».
Когда я в тот день вернулась домой, родителей уже не было. Бабушка сказала, что мама поехала в Пекин хлопотать за отца, которого увели цзаофани. Она не произнесла слова «полиция» — это было бы слишком страшно и означало бы полную безнадежность.
Я понеслась в отдел отца, чтобы узнать, где он. На меня лишь заорали (солировала при этом товарищ Шао), что я «должна провести черту между собой и отцом» и что «где бы он ни был, так ему и надо». Я сдержала слезы гнева. Меня обуревала ненависть к этим якобы разумным взрослым. Почему они такие безжалостные и грубые? Добрый взгляд, мягкий голос, хотя бы просто молчание — все это вполне можно было себе позволить даже в те дни.
С тех пор я стала делить китайцев на две категории: человечные и бесчеловечные. Общественные потрясения периода «культурной революции» выявили в людях нравственную основу, будь они подростки–хунвэйбины, взрослые–цзаофани или «попутчики капитализма».
Тем временем мама на вокзале ждала поезда, чтобы во второй раз отправиться в Пекин. Тогда, полгода назад, еще существовала какая–то надежда на справедливость, сейчас — не было почти никакой. Но мама решила не поддаваться отчаянию и драться до конца.
Она пришла к мысли, что единственный, к кому есть смысл обращаться, — Чжоу Эньлай. Больше никто не мог помочь. Встреча с любым другим руководителем лишь ускорила бы гибель мужа, ее самой и их близких. Она знала, что Чжоу гораздо умереннее, чем мадам Мао и Группа по делам культурной революции, и что он имеет большое влияние на цзаофаней, которым ежедневно дает руководящие указания.
Но добиться встречи с ним было все равно что попасть в Белый дом или получить личную аудиенцию у Папы Римского. Даже если ее не схватят по дороге и она доберется до Пекина, даже если ей удастся попасть в нужную приемную, она не посмеет назвать имя того, с кем хочет встретиться, потому что это было бы воспринято как оскорбление других руководителей и даже как прямой выпад против них. Еще более она беспокоилась оттого, что не знала, известно ли уже цзаофаням о ее отъезде. Ведь ей надлежало оставаться дома и ждать очередного «митинга борьбы». Надеяться можно было только на то, что одна группа цзаофаней решит, что в данный момент ею занимается другая.
Вдруг перед ее глазами мелькнул огромный транспарант со словами «Делегация «Красного Чэнду» едет с петицией в Пекин». Вокруг собралось человек двести, все чуть старше двадцати лет. Из надписей на прочих транспарантах она поняла, что это студенты, едущие в Пекин жаловаться на супругов Тин, и что им обещана встреча с премьером Чжоу.
По сравнению с соперничающей группой «Двадцать шестое августа», «Красный Чэнду» отличался относительной умеренностью. Тины встали на сторону «Двадцать шестого августа», но «Красный Чэнду» не сдавался. Тины никогда не обладали абсолютной властью, несмотря на поддержку Мао и Группы по делам культурной революции.
В то время «культурная революция» характеризовалась напряженной фракционной борьбой в среде цзаофаней. Это явление возникло практически сразу после призыва Мао перехватывать власть у «попутчиков капитализма»; теперь, три месяца спустя, выдвигающиеся вожди «бунтарей» очень отличались от изгоняемых коммунистических функционеров: это были недисциплинированные оппортунисты, даже не фанатики маоизма. Мао велел им сплотиться и распределять между собой власть, но они следовали этому указанию лишь на словах. Они обстреливали друг друга цитатами, цинично пользуясь обтекаемостью формулировок, напоминающих таинственные изречения гуру, — не составляло труда подыскать цитату Мао на любой случай, даже в защиту противоположных мнений. Мао знал, что его пустопорожняя философия бьет рикошетом по нему самому, но не мог напрямую вмешаться, дабы не утратить своей мистической отстраненности.
В «Красном Чэнду» понимали, что для истребления «Двадцать шестого августа» требуется победить супругов Тин. Они слышали о мстительности Тинов и их жажде власти — эти их качества широко обсуждались, вполголоса одними, более открыто другими. Даже то, что их поддержал Мао не заставила «Красный Чэнду» подчиниться. Именно в этой ситуации возникла идея отправки студентов в Пекин. Чжоу Эньлай обещал их принять, поскольку «Красный Чэнду», один из двух «бунтарских» лагерей Сычуани, насчитывал миллионы сторонников.
Мама протиснулась вслед за «Красным Чэнду» мимо билетной стойки; на платформе уже пыхтел пекинский экспресс. Но когда она попыталась вместе со студентами пробраться в вагон, один из них остановил ее. «А вы кто такая? — закричал он. Мама, которой тогда было тридцать пять, мало походила на студентку. — Вы не из нашей группы! Вылезайте!»
Мама изо всех сил ухватилась за дверную ручку. «Я тоже еду в Пекин с жалобой на супругов Тин! — крикнула она. — Я давно их знаю». Студент посмотрел на нее недоверчиво. Но сзади раздались два голоса, мужской и женский: «Впусти ее! Послушаем, что она скажет!»
Мама втиснулась в набитое купе и села между мужчиной и женщиной. Они представились штабными офицерами «Красного Чэнду». Мужчину звали Юн, а женщину — Янь.
Из их речей мама поняла, что студенты мало что знали о супругах Тин. Она рассказала о тех случаях преследования людей в Ибине до «культурной революции», которые сумела вспомнить: о попытке Тин, маминой начальницы, соблазнить моего отца в 1953 году; о недавнем визите этой пары к моему отцу и его отказе сотрудничать с ними. Она заявила, что супруги Тин приказали арестовать ее мужа, потому что он написал Председателю Мао: таким, как они, нельзя доверять руководство Сычуанью.
Янь и Юн обещали, что возьмут ее на встречу с Чжоу Эньлаем. Всю ночь мама не сомкнула глаз, обдумывая, что и как она ему скажет.
Когда делегация прибыла на пекинский вокзал, там их уже ждал представитель премьера. Всех отвезли в правительственную гостиницу и предупредили, что Чжоу примет их завтра вечером.
На другой день, воспользовавшись отсутствием студентов, мама приготовила письменное обращение к Чжоу. Кто знал, удастся ли ей с ним поговорить, да и в любом случае лучше было подать бумагу. В девять часов вечера она вместе со студентами явилась в Дом народных собраний на западной стороне площади Тяньаньмэнь. Встреча проходила в Сычуаньском зале, в украшении которого в 1959 году участвовал и мой отец. Студенты сидели полукрутом перед премьером. Мест не хватало, и некоторые расположились на ковре. Мама оказалась в заднем ряду.
Она знала, что ее речь должна быть лаконичной и убедительной, и, пока шло собрание, репетировала про себя. Она была слишком занята, чтобы слушать, о чем говорят студенты, и следила только за реакцией премьера. Он то и дело кивал, показывая, что принял к сведению услышанное, но ни разу не выразил ни одобрения, ни порицания, только молчал, лишь время от времени отпуская общие замечания, вроде: «Нужно следовать за Председателем Мао», «Необходимо сплотиться». Референт делал записи.
Вдруг мама услышала, как премьер говорит, словно в заключение: «Что–нибудь еще?» Она вскочила со стула. «Премьер, я хочу сказать».
Чжоу поднял глаза. Мама определенно не была студенткой. «Кто вы такая?» — спросил он. Мама назвала свои имя и должность и сразу же добавила: «Моего мужа арестовали как активного контрреволюционера. Я приехала сюда в поисках справедливости». Затем назвала имя и должность отца.
Чжоу пристально посмотрел на нее. Отец занимал важный пост. «Студенты могут идти, — сказал он. — С вами я поговорю отдельно».
Мама жаждала поговорить с Чжоу с глазу на глаз, но решила пожертвовать этим шансом ради более важной цели. «Премьер, не позволите ли вы студентам остаться и быть моими свидетелями?» Говоря это, она вручила свое обращение сидевшему впереди молодому человеку, который передал его Чжоу.
Премьер кивнул: «Хорошо, продолжайте».
Быстро и четко мама рассказала, что отца арестовали за письмо Председателю Мао, где отец выражал несогласие с назначением супругов Тин новыми сычуаньскими руководителями, так как еще в Ибине был свидетелем их злоупотреблений. И в конце быстро прибавила: «В письме моего мужа также содержалась глубоко ошибочная оценка культурной революции».
Мама тщательно обдумала эту формулировку. Она обязана была сказать Чжоу правду, но не могла процитировать слова мужа из страха перед присутствовавшими здесь цзаофанями. Ей ничего не оставалось, кроме как говорить отвлеченно: «Мой муж серьезно заблуждался в некоторых вопросах. Однако никогда не предавал свои взгляды гласности. Следуя Уставу Коммунистической партии, он поделился своими мыслями с Председателем Мао. Согласно Уставу, это неотъемлемое право члена партии, и письмо не может служить поводом для ареста. Я пришла сюда в поисках справедливости».
Когда мама встретилась взглядом с Чжоу Эньлаем, она увидела: он понял, что написано в письме на самом деле и почему невозможно прямо сказать об этом. Он проглядел мамину жалобу, обернулся к сидящему позади референту и что–то шепнул. В зале царило гробовое молчание. Все глаза были устремлены на премьера.
Референт передал Чжоу несколько листов бумаги с грифом Государственного совета. Чжоу с трудом стал писать — много лет назад он сломал руку, упав в Яньане с лошади. Закончив, вернул бумагу референту, и тот зачитал ее вслух.
«Первое: как член Коммунистической партии, Чжан Шоуюй имеет право писать партийному руководству. Какие бы серьезные ошибки ни содержались в его письме, они не могут служить основанием для обвинения его в контрреволюционной деятельности. Второе: необходимо провести расследование и, как заместитель заведующего отдела пропаганды провинции Сычуань, Чжан Шоуюй должен подвергнуться критике со стороны народных масс. Третье: окончательное решение по поводу Чжан Шоуюя может быть принято только по окончании культурной революции. Чжоу Эньлай».
От радости мама лишилась дара речи. Записка не была адресована новым хозяевам Сычуани, чего естественно было ожидать, поэтому она могла не передавать ее ни им, ни кому–либо другому. Значит, Чжоу хотел, чтобы она сохранила ее у себя и показывала, кому сочтет нужным.
Янь и Юн сидели слева от мамы. Повернувшись, она увидела на их лицах радость.
Через два дня она села на обратный поезд в Чэнду, и все время держалась рядом с Янь и Юном, беспокоясь, что Тины прознают о записке и натравят на маму своих палачей. Янь и Юн также считали, что маме жизненно важно быть при них, чтобы ее «не похитили люди из «Двадцать шестого августа»». Они настояли, что проводят ее от станции до нашей квартиры. Бабушка угостила их блинчиками со свининой и зеленым луком, которые они проглотили в два счета.
Я сразу полюбила Янь и Юна. Цзаофани, но такие сердечные, приветливые, добрые к нашей семье! Даже не верилось. Было ясно с первого взгляда, что у них роман: по тому, как они разглядывали, поддразнивали, касались друг друга — такое поведение на людях встречалось нечасто. Я слышала, как бабушка со вздохом сказала маме, что неплохо было бы подарить им что–нибудь на свадьбу. Мама сказала, что это невозможно: если о подарке прознают, молодая пара попадет в беду. Принятие «взятки» от «попутчика капитализма» — серьезное нарушение для любого цзаофаня.
Янь, студентке третьего курса университета Чэнду, было двадцать четыре года, она училась на бухгалтера. Половину ее живого лица занимали очки в толстой черной оправе. Она часто смеялась, запрокидывая голову назад. Ее смех согревал сердце. В тогдашнем Китае мужчины, женщины, дети носили темно–синие или серые куртки и штаны. Узоры запрещались. Несмотря на единообразие, некоторые женщины умудрялись показать, что задумываются о своей одежде. Но не Янь. Вечно казалось, что она застегнулась не на ту пуговицу; короткие волосы она кое–как убирала в растрепанный хвост. Даже влюбленность не заставила ее обратить внимание на собственный вид.
Юн придавал моде больше значения. Он носил соломенные сандалии и подворачивал штанины. Студенты любили соломенные сандалии — намек на связь с крестьянством. Юн держался тактично, умно и произвел на меня громадное впечатление.
Весело поужинав, Янь и Юн стали прощаться. Мама проводила их вниз по лестнице, и они шепнули, что записку Чжоу Эньлая нужно хранить в надежном месте. Мама не рассказала о встрече с Чжоу ни мне, ни сестре с братьями.
В тот вечер мама показала записку своему бывшему коллеге. Чэнь Мо работал с родителями в Ибине в начале 1950–х годов и ладил с обоими. Одновременно ему удалось сохранить хорошие отношения с Тинами, после их реабилитации он присоединился к ним. Мама со слезами на глазах попросила его освободить отца ради старой дружбы, и он пообещал замолвить словечко перед Тинами.
Время шло, и в апреле отец вернулся домой. На душе у меня стало легче и веселее, но почти тотчас радость сменилась страхом. Его глаза горели странным огнем. Он не рассказывал, где был, а если вообще что–либо произносил, я с трудом разбирала слова. Он не спал и круглые сутки расхаживал по квартире, разговаривая сам с собой. Однажды он выгнал всю семью под ливень, утверждая, что мы должны «пройти через революционную бурю». В другой раз, получив конверт с зарплатой, бросил его в печку и заявил, что «порывает с частной собственностью». Нам открылась страшная правда: отец сошел с ума.
Средоточием его безумия стала мама. Он набрасывался на нее, обзывая «бесстыжей» и «трусливой», обвиняя в том, что она «продала душу». Затем без всякого перехода начинал, к ее величайшему смущению, выражать при всех свои нежные чувства: признавался в горячей любви, каялся в том, что был дурным мужем, молил «простить и вернуться».
В первый свой день дома он, подозрительно глядя на маму, спросил, чем она занималась все это время. Она сказала, что ездила в Пекин хлопотать о его освобождении. В ответ он недоверчиво покачал головой и потребовал доказательств. Она решила не рассказывать ему о записке Чжоу Эньлая. Она видела, что он не в себе, и боялась, что он отдаст записку не тем, кому следует, возможно, супругам Тин, если «партия прикажет». Она даже не могла призвать в свидетели Янь и Юна, потому что отец мог счесть, что она не вправе была общаться со студентами–цзаофанями.
Он настойчиво возвращался к этой теме. Каждый день подвергал маму все новым и новым допросам, ловил на непоследовательности. Им все более овладевали подозрительность и смятение. В гневе он порой доходил до рукоприкладства. Мы, дети, хотели помочь ей, старались прибавить ее рассказам убедительности. Но когда отец начинал нас допрашивать, дело только больше запутывалось.
Как выяснилось позднее, в тюрьме следователи постоянно внушали отцу, что, если он не напишет «признания», жена и дети откажутся от него. Добиваться признаний было обычным делом. Чтобы сломить дух жертвы, требовалось выбить из нее «повинную». Но отец сказал, что ему не в чем признаваться и он ничего не будет писать.
Тогда следователи заявили, что мама от него отреклась. Когда он попросил, чтобы ему разрешили свидание с ней, то услышал в ответ, что она получила такое разрешение, но отказалась им воспользоваться, ибо «проводит черту» между собой и мужем. Когда следователи поняли, что у отца начались слуховые галлюцинации, свидетельствовавшие о шизофрении, они, обратив его внимание на слабый гул голосов в соседней комнате, заявили: мама там, но не хочет его видеть, пока он не напишет признания. Следователи очень хорошо разыграли эту сцену, и отец решил, будто и впрямь слышит мамин голос. Рассудок стал изменять ему. И все же он не оговорил себя.
Когда его выводили из тюрьмы, один из следователей сказал, что его отпускают домой под надзор жены, которой «партия поручила следить» за ним; дом будет его новой тюрьмой. Он не знал причины своего внезапного освобождения и в растерянности ухватился за это объяснение.
Мама понятия не имела о том, что с ним делали в тюрьме, и когда отец спрашивал ее, почему его выпустили, не могла дать удовлетворительного ответа. Она не смела сказать ему не только о записке Чжоу Эньлая, но и о том, что ходила к Чэнь Мо, правой руке супругов Тин. Отец не потерпел бы, чтобы его жена «просила подачки у Тинов». Образовался порочный круг: безвыходность маминого положения и безумие отца усугублялись тем, что подпитывали одно другое.
Мама пыталась его лечить, обратилась в клинику при бывшем управлении провинции, потом в психиатрическую больницу. Но как только в регистратуре слышали имя отца, в ответ качали головами. Там не могли его принять без разрешения властей — а сами просить о подобном разрешении не отваживались.
Мама обратилась в главенствующую группу цзаофаней папиного отдела и попросила дать разрешение на госпитализацию. Группой руководила товарищ Шао, а на более высоком уровне — Тины. Товарищ Шао огрызнулась: отец наверняка симулирует душевную болезнь, чтобы избежать наказания, а мама ему помогает, пользуясь своим прошлым (ведь ее отчим, доктор Ся, был врачом). Отец — «пес, упавший в воду, которого нужно бить и лупить без жалости», сказал один цзаофань, процитировав популярный лозунг, воспевающий безжалостность «культурной революции».
По указанию Тинов цзаофани повели против отца кампанию в дацзыбао. Очевидно, Тины рассказали мадам Мао о «преступных словах», которые он произнес на «митинге борьбы» и в беседе с ними, а также употребил в письме к Мао. В дацзыбао сообщалось, что мадам Мао в негодовании поднялась с кресла и воскликнула: «Для человека, смеющего так нагло нападать на Великого Вождя, и тюрьма, и даже смертный приговор — слишком легкая кара. Мы его как следует накажем, и только потом разделаемся с ним!»
Во мне эти стенгазеты вызывали неподдельный ужас. Отца прокляла сама мадам Мао! Ему точно пришел конец. Однако, парадоксальным образом, одна из дурных черт ее характера оказалась нам на руку: ее больше волновали личные враги, чем противники режима, и, поскольку она не знала моего отца и никогда с ним не ссорилась, она не стала преследовать его. Мы, однако, об этом не подозревали, и я утешалась только мыслью, что, быть может, это не более чем слух. Теоретически дацзыбао выпускались неофициально, их писали «массы», они не относились к государственной прессе. В глубине души я, тем не менее, понимала, что автор статьи написал правду.
Злоба Тинов и проклятие мадам Мао придали митингам цзаофаней еще больше жестокости, хотя отцу по–прежнему позволяли жить дома. Однажды он вернулся с сильно поврежденным глазом. В другой раз я видела, как он стоит на неспешно едущем по улицам грузовике. На шее у отца висела тяжелая доска, тонкая проволока врезалась в шею, руки ему больно скрутили за спиной. Он старался держать голову прямо, сопротивлялся пригибавшим ее цзаофаням. Больше всего меня опечалило, что он, казалось, не замечал боли. Безумие отделило рассудок от тела.
Он изорвал все фотографии из семейного альбома, на которых присутствовали Тины. Он жег пододеяльники, простыни, нашу одежду. Отламывал ножки столов и стульев и тоже их сжигал.
Однажды в полдень мама отдыхала в спальне, а отец сидел в кабинете в своем любимом бамбуковом кресле. Вдруг он вскочил на ноги и вмиг очутился в спальне. Услышав грохот, мы ринулись вслед за ним и увидели, что он вцепился маме в горло. Мы с криками пытались оторвать его руки. Казалось, он сейчас ее задушит. Вдруг он отшвырнул ее и большими шагами вышел из комнаты.
Мама медленно села. Лицо у нее было землистого цвета. Левой рукой она прикрывала ухо. Отец разбудил ее ударом в висок. Тихо, но спокойно она сказала рыдающей бабушке: «Не волнуйся, все в порядке». Потом обратилась к нам: «Посмотрите, что с отцом, и ступайте к себе». Она прислонилась к овальному зеркалу в раме камфорного дерева, висевшему в изголовье кровати. В зеркале я увидела ее правую кисть, судорожно вцепившуюся в подушку. Бабушка просидела у дверей родительской спальни всю ночь. Мне тоже не спалось. Что будет, если в другой раз он запрет дверь и нападет на маму?
Мама почти перестала слышать на левое ухо. Она поняла, что оставаться дома слишком опасно, и на следующий день пошла в свой отдел — просить, чтобы ей выделили угол. Цзаофани встретили ее приветливо. Ей дали крошечную, примерно два с половиной на три метра, комнатку в домике садовника в глубине сада. Воткнуть туда удалось только кровать и стол, между которыми невозможно было протиснуться.
В ту ночь мы спали в этой клетушке с мамой, бабушкой и Сяофаном — все вместе на одной кровати, не имея возможности ни вытянуть ноги, ни повернуться. У мамы усилилось маточное кровотечение. Мы очень испугались, потому что на новом месте не было плиты, чтобы стерилизовать шприц и иглу. От усталости я в конце концов забылась неверным сном, но ни бабушка, ни мама не сомкнули глаз.
В течение последующих нескольких дней Цзиньмин оставался с отцом, а я жила с мамой, помогала бабушке ухаживать за ней. Соседнюю комнату занимал молодой вожак цзаофаней из маминого района. Я с ним не здоровалась — вдруг он не хочет, чтобы к нему обращались члены семьи «попутчика капитализма». К моему удивлению, он приветствовал нас как обычно. С мамой он вел себя вежливо, хотя и суховато. После демонстративной враждебности отцовских сослуживцев–цзаофаней это было приятным сюрпризом.
Как–то утром, когда мама умывалась перед домом — внутри места не хватало, — сосед окликнул ее и спросил, не хочет ли она поменяться с ним комнатами. Его была вдвое больше нашей. Мы переехали в тот же день. Он же помог добыть вторую кровать, так что теперь мы могли спать с относительными удобствами. Нас очень тронула его забота.
У этого молодого человека, сильно косившего, была очень красивая девушка, которая оставалась с ним на ночь (по тем временам смелость почти неслыханная). От нас они, похоже, не скрывались. Ведь «попутчикам капитализма» не пристало распространять сплетни. Утром они всегда приветливо мне улыбались при встрече, и я видела, как они счастливы. Я поняла, что когда люди счастливы, они становятся добрее.
После того как мама почувствовала себя лучше, я вернулась к отцу. Квартира была в ужасном состоянии: окна перебиты, по всему дому разбросаны обломки горелой мебели и обрывки одежды. Отец, казалось, не замечал моего присутствия; он только нарезал и нарезал круги по дому. На ночь я запиралась в спальне, потому что он не мог уснуть и настойчиво завязывал со мной бесконечные, бессмысленные разговоры. Но над дверью было слуховое окошко, которое не закрывалось. Однажды я проснулась и увидела, как он проскальзывает сквозь это крошечное отверстие и ловко спрыгивает на пол. На меня он, однако, не обратил никакого внимания. Он принялся почти без усилий швырять по комнате тяжелые стулья из красного дерева. В своем безумии он стал нечеловечески ловок и силен. Жить с ним было кошмаром. Я неоднократно собиралась сбежать к маме, но мне не хватало духу оставить его.
Несколько раз он набрасывался на меня с побоями, чего никогда не случалось раньше, и я пряталась во внутреннем дворике под окнами нашей квартиры. Холодными весенними ночами я в отчаянии ожидала, когда наконец он уснет и наверху все стихнет.
Однажды он куда–то исчез, и, охваченная дурным предчувствием, я выбежала из квартиры. По дороге я встретила соседа, который спускался с верхнего этажа. Некоторое время тому назад мы перестали здороваться во избежание неприятностей, но тут он сам со мной заговорил: «Я видел, как твой отец лезет на крышу».
В доме было пять этажей. Я помчалась наверх. Слева над лестничной площадкой было прорезано небольшое окошко, выходившее на плоскую черепичную крышу соседнего четырехэтажного дома. Крышу обрамляло низкое железное ограждение. Подтянувшись и выглянув в окно, я увидела, что отец стоит на самом краю крыши. Мне показалось, что он уже занес над ограждением левую ногу.
«Папа», — позвала я дрожащим голосом, изо всех сил стараясь говорить спокойно. Я инстинктивно поняла, что его нельзя пугать. Он замер, а потом обернулся ко мне: «Что ты здесь делаешь? Пожалуйста, помоги мне пролезть через окно».
Каким–то образом я смогла подманить его поближе. Я схватила его за руку, и мы перебрались на лестничную площадку. Меня трясло. Его душа словно пробудилась, лицо приняло почти нормальное выражение: исчезла обычная маска пустого безразличия, прояснился безумный невидящий взгляд вечно вращающихся глаз. Он отнес меня вниз, положил на диван и даже достал полотенце, чтобы вытереть мне слезы. Но рассудок вернулся к нему лишь на мгновение. Не успев опомниться от пережитого, я вынуждена была бежать со всех ног, потому что он опять на меня замахнулся.
Вместо того чтобы позволить отцу лечиться, цзаофани потешались над его безумием. Они выпустили «сериал» из дацзыбао, называвшийся «Подлинная история сумасшедшего Чжана» (Намек на знаменитые произведения Лу Синя (1881–1936) «Дневник сумасшедшего» (1918) и «Подлинная история А–Кью» (1921).), авторы которого разили своего бывшего начальника стрелами иронии и сатиры. Каждый второй день новые дацзыбао вывешивались на самом видном месте — рядом со входом в отдел — и собирали целую толпу любопытных. Я тоже заставляла себя их читать, не обращая внимания на окружающих, многие из которых меня знали. Я слышала, как они шепотом просвещают остальных, кто я такая. Сердце у меня бешено колотилось от гнева и невыносимой боли за отца, но я знала, что о моей реакции будет доложено его преследователям. Я старалась сохранять спокойствие, чтобы показать, что мы не сдадимся. Я не испытывала ни страха, ни унижения, только презрение.
Что превращало людей в чудовищ? Зачем нужна была вся эта бессмысленная жестокость? Именно тогда поколебалась моя преданность Мао. Раньше, когда я наблюдала, как преследуют других, у меня не было полной уверенности в их невиновности. Но я знала своих родителей. В душу мою стали закрадываться сомнения в непогрешимости Мао, однако на этой стадии я, как и многие другие, в основном винила его жену и Группу по делам культурной революции. Сам Мао, богоподобный император, был, как и прежде, выше подозрений.
Мы видели, что отец с каждым днем душевно и физически угасает. Мама вновь обратилась к Чэнь Мо. Он сказал, что попробует помочь. Но время шло, и ничего не происходило: молчание, должно быть, означало, что ему не удалось выпросить у супругов Тин разрешение на лечение. В отчаянии мама отправилась в штаб–квартиру «Красного Чэнду» к Янь и Юну.
В Сычуаньском медицинском институте главенствующие позиции принадлежали организации «Красный Чэнду». При институте имелась психиатрическая больница, куда отца положили бы, если б в «Красном Чэнду» замолвили за него словечко. Янь и Юн отнеслись к маминой просьбе весьма сочувственно, но для начала им требовалось заручиться поддержкой своих товарищей.
Мао объявил гуманизм «буржуазным лицемерием», не говоря уж о том, что жалость к «классовым врагам» считалась непростительной слабостью. Янь и Юн обязаны были дать политическое обоснование необходимости лечить отца. И такое обоснование нашлось: он был жертвой супругов Тин. У «Красного Чэнду» появлялось оружие против них, которое, как знать, даже могло помочь их свергнуть. А это, в свою очередь, сулило победу над «Двадцать шестым августа».
Существовала и иная причина. Мао призвал к тому, чтобы в новые революционные комитеты наряду с цзаофанями и военными вошли «революционные кадры». И «Красный Чэнду», и «Двадцать шестое августа» искали чиновников, которые представляли бы их в сычуаньском ревкоме. К тому же цзаофани начинали понимать, как сложна политика и как трудно управлять людьми. Им требовались опытные политики–советники. В «Красном Чэнду» сочли, что отец — идеальный кандидат, и дали добро на лечение.
В «Красном Чэнду» знали, что отца обвиняют в клевете на Мао и «культурную революцию», и что его заклеймила сама мадам Мао. Однако все эти обвинения выдвигались всего лишь их врагами в дацзыбао, где истина часто бывала перемешана с ложью. Следовательно, они могли спокойно их игнорировать.
Отца положили в психиатрическую больницу при Сычуаньском мединституте. Она располагалась в пригороде Чэнду, среди рисовых полей. Над кирпичными стенами и железными воротами покачивались бамбуковые листья. За вторыми воротами скрывался огороженный двор, поросший мхом, — здесь жили врачи и сестры. В дальнем конце двора ступеньки из красного песчаника вели в двухэтажное здание, обращенное слепой стеной во двор и окруженное широким высоким забором. Только по этим ступенькам и можно было попасть внутрь, в палаты психлечебницы.
За отцом явились двое санитаров (белых халатов на них не было) и сказали, что отведут его на очередной «митинг борьбы». Когда они добрались до больницы, отец стал вырываться. Его затащили в пустую каморку наверху и закрылись там, чтобы мы с мамой не видели, как его засовывают в смирительную рубашку. У меня сердце разрывалось от того, как грубо с ним обращаются, но я понимала: это для его же блага.
Психиатр, доктор Су, мужчина лет тридцати со спокойным лицом и суховатой профессиональной манерой держаться, сказал маме, что понаблюдает за отцом в течение недели, прежде чем поставит диагноз. В конце недели он сделал вывод — шизофрения. Отца лечили электрошоком и инъекциями инсулина, для чего привязывали к кровати. Через несколько дней рассудок стал возвращаться к нему. Со слезами на глазах он молил маму, чтобы она упросила врача сменить лечение. «Это такая боль, — повторял он дрожащим голосом. — Лучше умереть». Но доктор Су объяснил, что другого метода не существует.
Когда я пришла в следующий раз, отец уже сидел на кровати и болтал с мамой, Янь и Юном. Все улыбались, он даже смеялся. И выглядел хорошо, как прежде. Я убежала в туалет, чтобы выплакаться.
По приказу руководителей «Красного Чэнду» отцу давали особую пищу, при нем круглосуточно дежурила медсестра. Янь и Юн часто навещали его вместе с сотрудниками из его отдела, которые ему сочувствовали и сами попали под удар группы товарища Шао. Отец очень хорошо относился к Янь и Юну; и хотя порой бывал ненаблюдателен, на этот раз приметил, что у них роман, и очаровательно их поддразнивал. Я видела, как им это нравится. Наконец, думала я, кошмар позади. Теперь, когда отец здоров, нам не страшны никакие невзгоды.
Лечение продолжалось около сорока дней. К середине июля отец поправился окончательно, и его выписали. Им с мамой предоставили квартиру с отдельным двориком в университете Чэнду. У ворот стояли студенты–часовые. Отцу дали псевдоним и велели днем не покидать пределы двора из соображений безопасности. Мама приносила готовую еду из особой кухни. Янь и Юн приходили каждый день, как и вожди «Красного Чэнду», державшиеся исключительно вежливо.
Я часто просила у кого–нибудь велосипед и, с час поколесив по разбитым деревенским дорогам, приезжала к родителям. Отец, казалось, пребывал в мирном расположении духа. Он непрерывно повторял, как благодарен студентам за помощь в лечении.
С наступлением сумерек его выпускали наружу, и мы долго бродили по кампусу в сопровождении пары охранников, следовавших в отдалении. Мы гуляли по аллеям, обрамленным кустами китайского жасмина. Белые цветы величиной с кулак, овеваемые летним ветерком, источали дурманящее благоухание. Мы словно очутились в безмятежном сне, далеко от ужаса и жестокости. Я знала, что мой отец в тюрьме, но желала, чтобы он остался в ней навсегда.
Летом 1967 года фракционная борьба цзаофаней по всему Китаю переросла в маленькую гражданскую войну. Из–за безжалостной борьбы за власть антагонизм между группами «бунтарей» достигал значительно больших размеров, чем их предполагаемая ненависть к «попутчикам капитализма». Кан Шэн, глава разведки, и мадам Мао через Группу по делам культурной революции разжигали вражду, называя фракционную борьбу «расширением борьбы между коммунистами и Гоминьданом» — не уточняя, какая партия чему соответствует. Группа по делам культурной революции приказала армии «вооружить цзаофаней для самообороны», опять же не сообщив, какие фракции следует поддержать. Разумеется, различные армейские подразделения снабжали оружием различные фракции, полагаясь на свой собственный вкус.
Войска уже находились в состоянии разброда, потому что Линь Бяо вычищал оппонентов и ставил на их место своих людей. Со временем Мао понял, что не может позволить себе нестабильность в армии, и приструнил Линь Бяо. Но его отношение к цзаофаням, казалось, никак не могло определиться. С одной стороны, он хотел объединения фракций — это упрочило бы его личную власть. С другой — не мог побороть своей любви к сражениям; когда по всему Китаю шли кровавые бои, он говорил: «Неплохо дать молодым возможность испытать, что такое оружие — у нас так давно не было войны».
В Сычуани кипели особенно жестокие битвы, отчасти потому, что провинция являлась центром производства вооружений. Склады и заводские линии снабжали обе стороны танками, броневиками и артиллерией. Другая причина заключалась в Тинах, твердо решивших истребить своих врагов. В Ибине в ход шли ружья, ручные гранаты, минометы и пулеметы. Только там погибло свыше сотни человек. В конце концов «Красный Чэнду» был изгнан из города.
Многие направились в соседний Лучжоу, бастион «Красного Чэнду». Тины бросили на город более 5 000 активистов «Двадцать шестого августа», и в результате взяли его, с тремястами убитых и гораздо большим числом раненых.
В Чэнду сражения происходили лишь в отдельных точках, участие в них принимали только фанатики. И тем не менее, я видела шествия десятков тысяч «бунтарей», которые несли окровавленные трупы погибших в боях, слышала на улицах стрельбу из винтовок.
В этих обстоятельствах «Красный Чэнду» огласил отцу три условия: объявить о том, что он их поддерживает; рассказать им о Тинах; стать их советником и в будущем представлять их в сычуаньском революционном комитете.
Отец отказался: он не мог становиться на сторону одной из группировок, не мог дать информацию о Тинах и таким образом еще более разжечь вражду, не хотел представлять фракцию в сычуаньском ревкоме — он вообще не собирался туда входить.
Это вызвало охлаждение. Мнения вождей «Красного Чэнду» разделились. Одни говорили, что в первый раз видят такое извращенное упрямство. Отца чуть не сжили со света, а он не желает, чтобы за него отомстили. Он смеет противиться могущественным цзаофаням, которые спасли ему жизнь. Он отказывается от предложения реабилитироваться и вернуться во власть. Кто–то возмущенно закричал: «Давайте проучим его! Надо сломать ему пару ребер!»
Но Янь и Юн и несколько их единомышленников вступились за него. «Такие люди, как он — большая редкость, — заметил Юн. — Наказывать его будет неправильно. Он не сдастся, даже если умрет от побоев. Пытать его — позор для всех нас. Это человек принципа!»
Отец и в самом деле не отступил от своих принципов, несмотря на угрозу избиений и благодарность цзаофаням. Однажды ночью в конце сентября 1967 года машина отвезла его и маму домой. Янь и Юн не могли больше оберегать его. Они проводили родителей до дверей и распрощались с ними.
Родители немедленно угодили в лапы супругов Тин и группы товарища Шао. Супруги Тин дали понять, что будущее их сотрудников зависит от того, какую позицию они займут по отношению к отцу. Товарищу Шао обещали в организуемом сычуаньском ревкоме должность, соответствующую посту отца, если она ему «хорошенько задаст». Проявлявшие к нему сочувствие сами попадали под огонь.
Однажды к нам пришли двое мужчин из группы товарища Шао и увели отца на «митинг». Некоторое время спустя они вернулись и велели нам с братьями пойти привести его домой.
Отец полулежал во дворе своего отдела, опершись о стену, — видно, пытался встать на ноги. Лицо превратилось в один сплошной синяк, голова была наполовину грубо обрита.
На самом деле никакого «митинга» не было. Едва отец появился, его немедленно затолкали в комнатку, где на него набросилось с полдесятка незнакомцев спортивного телосложения. Его лупили кулаками и ногами в нижнюю часть тела, особенно в пах. Вливали ему через рот и нос воду, а потом били по животу ногой. Вода изливалась наружу с кровью и испражнениями. Отец потерял сознание.
Когда он очнулся, истязатели исчезли. Его мучила жажда. Он выполз из комнаты и зачерпнул воды из лужи во дворе. Попробовал встать, но не удержался на ногах. По двору ходили люди из группы товарища Шао, но никто и пальцем не шевельнул, чтобы ему помочь.
Громилы были из группировки «Двадцать шестое августа» — из Чунцина, который находится в 240 километрах от Чэнду. Там шли упорные бои, через Янцзы летали артиллерийские снаряды. После того как «Двадцать шестое августа» вытеснили из города, многие его члены бежали в Чэнду, кое–кого поселили в нашем блоке. Они изнывали от бездействия и заявили товарищу Шао, что «у них чешутся руки — надоела вегетарианская жизнь, пора отведать крови и мяса». Им предложили расправиться с отцом.
В ту ночь отец, который никогда раньше, что бы ни случилось, не издавал ни стона, буквально выл от боли. На следующее утро мой четырнадцатилетний брат Цзиньмин примчался к открытию кухни, чтобы одолжить там тачку и отвезти отца в больницу. Сяохэй, которому тогда было тринадцать, купил машинку и сбрил оставшиеся на голове у отца волосы. Увидев в зеркале свою лысую голову, отец криво улыбнулся: «Это хорошо. На следующем митинге меня точно не будут таскать за волосы».
Мы погрузили отца в тачку и привезли в расположенную неподалеку травматологическую больницу. На этот раз нам не потребовалось дозволения на осмотр — недуг не имел отношения к рассудку. Психическая болезнь считалась делом тонким, у костей же не было идеологической окраски. Доктор принял нас очень тепло. Наблюдая, как осторожно он прикасается к отцу, я ощутила ком в горле. Столько раз я видела, как людей толкают, топчут, бьют, и так редко — доброту.
Врач сказал, что отцу сломали два ребра. Но в больницу его положить было невозможно. На это требовалось разрешение. К тому же медицинские учреждения не справлялись с наплывом тяжелых травм. Палаты были переполнены жертвами «митингов борьбы» и межфракционных сражений. Я видела на носилках молодого человека, у которого отсутствовала треть головы. Его товарищ пояснил, что это ранение гранатой.
Мама вновь обратилась к Чэнь Мо с просьбой уговорить Тинов прекратить избиения отца. Через несколько дней Чэнь сообщил маме, что Тины готовы «простить» отца, если он напишет дацзыбао, восхваляющее добродетели «хороших партработников» Лю Цзетина и Чжан Ситин. Он подчеркнул, что Группа по делам культурной революции недавно подтвердила их полномочия, а Чжоу Эньлай заявил, что считает супругов Тин «хорошими партработниками». Чэнь заметил, что противостоять им — все равно что «бить яйцом о камень». Отец сказал на все это: «Их не за что хвалить». Мама со слезами умоляла: «Ведь это не чтобы вернуть тебе работу, не ради реабилитации, а ради твоей жизни! Что такое дацзыбао по сравнению с жизнью?» «Я не продам свою душу», — отрезал отец.
Более года, до конца 1968–го, отца вместе с другими руководящими работниками администрации то арестовывали, то отпускали домой. В нашей квартире постоянно устраивали обыски. Теперь заключение называли «курсами учения Мао Цзэдуна». После обработки на этих «курсах» многие сдавались на милость Тинам; некоторые совершали самоубийство. Однако отец так и не уступил требованиям Тинов работать вместе с ними. Позднее он говорил, как ему помогла любящая семья. Обычно люди накладывали на себя руки после того, как от них отрекались семьи. Мы навещали отца в заключении всякий раз, когда изредка добивались разрешения. Когда ему удавалось ненадолго вырваться домой, мы делали все, чтобы он не чувствовал себя одиноким.
Тины знали, что отец очень любит нашу маму, и пытались использовать этот рычаг. Ее принуждали отказаться от мужа. У мамы было много причин обижаться на моего отца. Он не пригласил ее мать на свадьбу. Он заставил ее прошагать сотни километров и не поддерживал в трудные минуты. В Ибине он не позволил ей лечь в хорошую больницу, когда ей предстояли тяжелые роды. Он всегда предпочитал ей партию и революцию. Но мама понимала и уважала отца — и никогда не переставала его любить. Тем более она не собиралась оставлять его в беде. Никакие страдания не могли сломить ее волю.
Мамин отдел проигнорировал требования Тинов мучить ее, но отряд товарища Шао, вместе с другими организациями, не имевшими к маме никакого отношения, рад был услужить. В общей сложности она прошла примерно через сотню «митингов борьбы». Однажды ее привели на демонстрацию, состоявшую из нескольких десятков тысяч человек; большинство людей, глазевших на нее в Народном парке в центре Чэнду, понятия не имели, кто она такая. По своему статусу она слишком явно не соответствовала сборищу такого уровня.
В чем только ее не обвиняли, в частности, в том, что ее отец — генерал. То обстоятельство, что, когда генерал Сюэ умер, ей не было и двух лет, никого не волновало.
В те времена на каждого «попутчика капитализма» приходилось как минимум по одной группе, изучавшей его прошлое до мельчайших подробностей — Мао желал, чтобы в жизни работающих на него людей не оставалось ни одного белого пятнышка. В разное время мамой занималось четыре группы, в последней работало человек пятнадцать. Их разослали по городам и весям Китая. Именно в ходе этих расследований мама узнала о судьбах своих старых друзей и родственников, с которыми связь прервалась много лет назад. Большинство следователей просто проехались по стране, но одна группа вернулась с «добычей».
В конце 1940–х годов в Цзиньчжоу доктор Ся сдавал комнату коммунистическому агенту Юй–у, под чьим руководством мама собирала военную информацию и тайно передавала ее за пределы города. Начальник самого Юй–у, тогда маме неизвестный, использовал прикрытие: якобы работал на Гоминьдан. Во время «культурной революции» он под сильнейшим давлением и бесчеловечными пытками «сознался», что он гоминьдановский шпион и выдумал шпионскую сеть, куда включил и Юй–у.
Юй–у тоже жестоко пытали. Чтобы не оклеветать других, он перерезал себе вены. Маму он не упомянул. Однако следственная группа прознала об их связи и заявила, что она входила в «шпионскую сеть».
Вновь вспомнили о ее связях с Гоминьданом в юности. Ей опять задали все те же вопросы, на которые она уже отвечала в 1955 году. На этот раз ответа не ожидали. Маме просто приказали признать, что она гоминьдановская шпионка. Она настаивала, что расследование 1955 года ее оправдало, но ей пояснили, что руководитель того расследования, товарищ Куан, сам оказался «предателем и шпионом Гоминьдана».
В юности товарищ Куан попал в гоминьдановскую тюрьму. Гоминьдан обещал отпустить коммунистов–подпольщиков, которые подписывали отречение для публикации в местной газете. Сначала они с соратниками отказались, но партия велела им подчиниться. Им сказали, что партия в них нуждается и не возражает против притворных «антикоммунистических высказываний». Товарищ Куан выполнил приказ и был выпущен на свободу.
Так поступали многие. В 1936 году имел место известный случай, когда таким образом свободу получил шестьдесят один коммунист. Приказ «каяться» от лица ЦК партии огласил Лю Шаоци. Некоторые из освобожденных впоследствии стали руководителями первого звена, в том числе вице–премьерами, министрами, первыми секретарями провинций. Во время «культурной революции» мадам Мао и Кан Шэн объявили их «шестьдесят одним предателем и шпионом». Этот приговор Мао утвердил лично. Их зверски пытали. Даже отдаленно связанным с ним людям грозила смертельная опасность.
После этого прецедента сотни тысяч бывших подпольщиков, храбрейших людей, сражавшихся за коммунистический Китай, назвали «предателями и шпионами», подвергли заключению, унижениям на «митингах борьбы» и пыткам. По позднейшим официальным данным, в соседней с Сычуанью провинции, Юньнани, умерло более 14 000 человек. В провинции Хэбэй, окружающей Пекин, арестовали и пытали 84 000 человек; тысячи умерли. Годы спустя мама узнала, что среди них был ее первый возлюбленный, Брат Ху. Она думала, что сына казнили гоминьдановцы, но в действительности его отец выкупил сына золотыми слитками. Никто так и не рассказал маме, как он умер.
Товарища Куана обвинили в том же самом. Не вынеся пыток, он попробовал совершить самоубийство, но неудачно. То, что он в 1956 году оправдал маму, сочли доказательством ее «вины». В течение почти двух лет — с конца 1967–го до октября 1969 года — маму то сажали в разные тюрьмы, то выпускали на волю. Условия содержания зависели в основном от надзирательниц. Некоторые обращались с ней хорошо — когда никто не видел. Одна из них, жена военного, доставала ей лекарство от кровотечений. Она же попросила мужа, получавшего особый паек, каждую неделю приносить маме молоко, яйца и курятину.
Благодаря таким добрым надзирательницам маму несколько раз отпускали на пару дней домой. Супруги Тин узнали об этом и заменили этих тюремщиц новой, с кислым выражением лица, пытавшей и мучившей ее в свое удовольствие. Она то и дело заставляла маму часами простаивать во дворе согнувшись. Зимой мама стояла на коленях в ледяной воде, пока не теряла сознание. Дважды она пытала маму так называемой «тигровой скамьей». Маме приказывали сесть на узкую скамью, вытянув перед собой ноги. Туловище привязывали к столбу, а бедра — к скамье, так что она не могла ни согнуть ноги, ни пошевелить ими. Затем под пятки засовывали кирпичи. Цель состояла в том, чтобы сломать либо коленные чашечки, либо кости таза. Двадцать лет назад в Цзиньчжоу маме угрожали той же пыткой в застенках Гоминьдана. «Тигровую скамью» не удалось довести до конца, потому что тюремщице не хватало сил впихнуть нужное количество кирпичей, а мужчины ей сначала неохотно помогали, но потом отказались. Годы спустя этой женщине поставили диагноз «психопатия», и сейчас она находится в психиатрической больнице.
Мама подписала много «признаний» в том, что «сочувствовала капиталистическому пути развития». Однако она ни разу не предала отца и отрицала все обвинения в «шпионаже», которые, как она понимала, неизбежно навлекут беду на других людей.
Когда мама сидела под арестом, нам, детям, обычно не разрешали свиданий и даже не сообщали, где она. Я бродила по улицам возле мест возможного заточения, надеясь увидеть ее хоть на миг.
Одно время ее держали в заброшенном кинотеатре на главной торговой улице города. Иногда нам дозволялось передать через надзирательницу гостинец или увидеть маму на несколько минут, но всегда под надзором тюремщиков. Когда дежурила злая тюремщица, она не сводила с нас своего леденящего взгляда. Как–то осенним днем 1968 года я принесла передачу, но ее не взяли без всяких объяснений, только сказали, чтобы я больше ничего не приносила. Услышав это, бабушка лишилась чувств. Она решила, что дочь умерла.
Мы терзались неизвестностью. Я взяла за руку своего шестилетнего братика Сяофана и пошла к кинотеатру. Мы взад и вперед бродили по улице перед воротами и оглядывали все окна на втором этаже. В отчаянии мы кричали из последних сил: «Мама! Мама!» На нас глазели прохожие, но мне было не до них. Я во что бы то ни стало хотела увидеть ее. Но мама не отозвалась.
Годы спустя она рассказала мне, что слышала нас. Надзирательница–психопатка даже приоткрыла окно, чтобы наши голоса доносились громче. Маме объявили, что стоит ей согласиться донести на отца и признаться в том, что она — гоминьдановская шпионка, как нас немедленно впустят. «А иначе, — продолжила тюремщица, — ты не выйдешь отсюда никогда». Мама сказала: «Нет». Чтобы сдержать слезы, она так крепко сжимала кулаки, что ногти впивались в ладони.
21. «Уголь под снегом»: Сестра, братья, друзья и подруги (1967–1968)
В 1967–м и 1968 годах Мао, деловито строивший систему личной власти, держал своих жертв — в том числе моих родителей — в состоянии мучительной неуверенности. Мао не волновало человеческое страдание. Люди были не более чем пешками в его стратегических планах. Однако геноцид в его цели не входил, и моя семья, как и многие другие преследуемые, не голодала. Родители по–прежнему получали зарплату, хотя не только не выполняли никакой работы, но еще и подвергались преследованиям и пыткам. Основная столовая на нашей территории работала как обычно, чтобы цзаофани могли продолжать свою «революцию», и нас, «попутчиков капитализма», там тоже кормили. Мы получали такие же государственные пайки, как остальные горожане.
Значительную часть населения держали в «подвешенном» состоянии. Мао хотел, чтобы люди дрались, но оставались в живых. Он не давал трогать чрезвычайно способного премьер–министра Чжоу Эньлая, благодаря которому экономика оставалась на плаву. Он знал, что ему нужен первоклассный администратор на замену Чжоу, поэтому Дэн Сяопин жил в условиях относительной безопасности. Страну не доводили до полной разрухи.
Тем не менее «культурная революция» парализовала многие хозяйственные отрасли. Население городов выросло на несколько десятков миллионов, но практически не было построено ни нового жилья, ни дополнительной инфраструктуры. Почти все товары, от соли, зубной пасты, туалетной бумаги до продуктов и одежды продавались по карточкам или вообще исчезли с магазинных полок. В Чэнду год не было сахара, полгода — мыла.
С июня 1966 года прекратилось школьное обучение. Одних учителей осудили как врагов, другие создали собственные группы цзаофаней. Не было школы — не было и надзора за нами. Но что могли мы поделать с нашей свободой? Не существовало ни книг, ни музыки, ни фильмов, ни театра, ни музеев, ни чайных — почти никаких развлечений кроме карт, которые, несмотря на официальный запрет, потихоньку вернулись в наш быт. Мао умудрился устроить революцию, склоняющую людей к безделью. Естественно, многие подростки отдавали все свое время хунвэйбинским занятиям. Свою энергию и неудовлетворенность они направляли на жестокие издевательства над жертвами, а также физические и словесные разборки между собой.
Вступать в хунвэйбины не заставляли. С распадом партийной системы большая часть населения вышла из–под контроля. Многие бездельничали дома, что вызывало бесконечные раздоры. На смену вежливому обслуживанию и поведению «культурная революция» принесла хамство и сварливость. Люди постоянно скандалили на улицах с продавцами, водителями автобусов, прохожими. Другим следствием стало резкое повышение рождаемости, за которой также никто не следил. За годы «культурной революции» население Китая выросло на двести миллионов.
К концу 1966 года мы с сестрой и братьями решили выйти из «красных охранников». Детей из осужденных семей заставляли «провести черту» между собой и родителями, и многие повиновались. Одна из дочерей Лю Шаоци писала «разоблачающие» ее отца дацзыбао. Некоторые мои знакомые изменили фамилии в знак отречения от отцов, другие никогда не навещали родителей в заключении, третьи даже участвовали в «митингах борьбы» против родителей.
Однажды, когда маме просто выкручивали руки, чтобы она развелась с отцом, она спросила, что об этом думаем мы. Защищая его, мы рисковали стать «черными»; все мы видели, как их мучают и преследуют. Но мы ответили, что, несмотря ни на что, не бросим его. Мама ответила, что она нами гордится. Мы тем более любили родителей, что сострадали их бедствиям, восхищались их честностью и мужеством, презирали их палачей. Наше уважение и привязанность к отцу и матери стали еще глубже.
Мы быстро росли. Между нами не было ни соперничества, ни ссор, ни обид — обычных трудностей (или радостей) переходного возраста. «Культурная революция» лишила нас отрочества со всеми его ловушками и заставила повзрослеть очень рано.
В четырнадцать лет я любила родителей с истовостью, невозможной в нормальных обстоятельствах. Вся моя жизнь вращалась вокруг них. Когда они ненадолго возвращались домой, я следила за их настроением, старалась развлечь. Когда они снова попадали в заключение, я раз за разом ходила к надменным цзаофаням и требовала разрешить мне посещение. Порой мне позволяли посидеть с отцом или матерью несколько минут, при охране. Я рассказывала им, как сильно их люблю. Я прославилась среди бывших работников сычуаньской администрации и восточного района Чэнду, и в то же время невероятно раздражала тех, кто мучил моих родителей; они ненавидели меня и за то, что я упорно их не боялась. Однажды товарищ Шао закричала, что я «смотрю сквозь нее». В ярости они написали в одной из своих стенгазет, что «Красный Чэнду» позаботился о лечении отца потому, что я якобы соблазнила Юна.
В свободное время (а им я располагала в избытке) я также виделась с друзьями. Вернувшись в декабре 1966 года из Пекина, мы с Пампушкой и ее подругой Цинцин поехали на месяц на авиационный завод поблизости от Чэнду. Нам требовалось чем–нибудь себя занять, а самое важное наше занятие, по мнению Мао, заключалась в том, чтобы ходить по заводам и пробуждать у рабочих бунтарские настроения. Мао казалось, что на производстве беспорядков слишком мало.
Единственное, что нам удалось пробудить, — это интерес молодых людей из бывшей заводской баскетбольной команды. Вечерами мы гуляли по деревенским дорогам среди благоухания рано распустившихся бобов. Вскоре, когда родителям стало тяжелее, я вернулась, навсегда забыв об указаниях Мао и своем участии в «культурной революции».
Дружба с Пампушкой, Цинцин и баскетболистами продолжалась. В нашу компанию входила моя сестра Сяохун и несколько других девочек из нашей школы. Я была младшей. Мы часто встречались у кого–нибудь дома и сидели там целый день, а часто и ночь, потому что больше заняться было нечем.
Мы бесконечно обсуждали, кто кому нравится. В центре нашего внимания был капитан баскетбольной команды, девятнадцатилетний красавец Сай. Девочки спорили, кого он предпочитает: меня или Цинцин. Он держался сдержанно и молчаливо. Цинцин была к нему явно неравнодушна. Каждый раз перед встречей с ним она старательно мыла и расчесывала свои доходящие до плеч волосы, гладила и расправляла одежду, даже немного пудрилась, румянилась и рисовала карандашом брови. Все мы над ней посмеивались.
Меня тоже привлекал Сай. При мысли о нем сердце начинало стучать, ночью я просыпалась лихорадочно разгоряченная, и мне чудилось его лицо. Я часто бормотала его имя и вела с ним молчаливые беседы, когда мне становилось горько или страшно. Но я никогда не говорила о своих чувствах ни ему, ни подругам, ни даже себе самой. Я только робко фантазировала. Мою жизнь, мое сознание всецело занимали родители. Малейшую попытку уделить внимание своим личным делам я подавляла как предательство. «Культурная революция» лишила, а может, избавила меня от обычного девичества с капризами, размолвками и ухажерами.
Но я не была лишена тщеславия. Я нашила на выцветшие колени своих штанов голубые заплатки с абстрактными узорами. Друзья смеялись над ними. Бабушка ужасалась и сетовала: «Никто так не одевается». Но я настаивала на своем. Мне хотелось выглядеть не столько красиво, сколько по–другому.
Однажды подруга рассказала нам, что ее родители, известные актеры, покончили с собой; они не вынесли издевательств. Вскоре стало известно, что наложил на себя руки брат еще одной девочки. Его вместе с сокурсниками по Пекинскому авиаучилищу обвинили в попытке создать антимаоистскую партию. Когда за ним пришла полиция, он выбросился из окна четвертого этажа. Некоторых его со–ратников — «заговорщиков» казнили; других приговорили к пожизненному заключению, обычному наказанию за попытки организовать оппозицию. Эти трагедии были частью нашей повседневной жизни.
Семьи Пампушки, Цинцин и некоторых других не пострадали. И они не перестали со мной дружить. Их не трогали преследователи моих родителей — их власть не распространялась так далеко. Тем не менее они рисковали, плывя против течения. Мои друзья, как и миллионы китайцев, следовали вековому принципу верности: «давать уголь, когда идет снег». Одно их присутствие помогло мне выжить в самые тяжелые годы «культурной революции».
Помогали они и практически. К концу 1967 года территорию нашего блока, контролируемого «Двадцать шестым августа», стал атаковать «Красный Чэнду». Наш дом превратили в крепость. Нам приказали переехать из квартиры на четвертом этаже в комнаты на первом этаже соседнего здания.
Родители находились под стражей. Отдел отца, который в нормальных условиях отвечал бы за переезд, теперь только отдавал приказы. Компаний по перевозке вещей не существовало, так что лишь благодаря помощи друзей мы не остались без кровати. И все же мы взяли с собой только самую необходимую мебель и оставили, например, тяжелые книжные шкафы отца; мы не могли их поднять, а тем более провезти на тележке через несколько лестничных пролетов.
Теперь мы жили в квартире, уже занятой семейством другого «попутчика», которому приказали освободить половину площади. Квартиры уплотняли во всем нашем блоке, чтобы использовать верхние этажи под командные пункты. Мы с сестрой жили в одной комнате. Окно, выходящее на запущенный сад позади дома, мы всегда держали на задвижке, потому что стоило его открыть, как из засоренной канализации в комнату поднималась вонь. Ночью мы слышали из–за стены, ограждавшей территорию, приказы сдаться и беспорядочную стрельбу. Однажды меня разбудил звон стекла: в окно влетела пуля. Она застряла в противоположной стене. Как ни странно, я не испугалась. После всех пережитых ужасов пули на меня не действовали.
Чтобы занять себя, я принялась сочинять стихи в классическом стиле. Первое удовлетворившее меня стихотворение написалось к моему шестнадцатилетию, 25 марта 1968 года. День рождения не праздновали. И отец и мать находились в заключении. Той ночью я лежала в кровати и слушала выстрелы и доносящиеся из рупоров проклятия, от которых кровь застывала в жилах; во мне происходил переворот. Мне всегда говорили, а я верила, что я живу в раю на земле — в социалистическом Китае, не в капиталистической преисподней. Теперь я спрашивала себя: если это рай, то каков же ад? Я не против была бы посмотреть на место, где страдают еще больше. Впервые я испытала осознанную ненависть к режиму и страстно захотела узнать, какова же альтернатива.
Но я инстинктивно избегала мыслей о Мао. Он наполнял мою жизнь с самого детства. Он был кумиром, богом, вдохновением, смыслом существования. Два года назад я с радостью отдала бы за него жизнь. Хотя он утратил для меня волшебную притягательность, но по–прежнему оставался святыней и был вне подозрений. Даже теперь я не дерзала покуситься на его авторитет.
В этом настроении я написала свои стихи — о смерти моего легковерного простодушия, улетающего, как сухие листья, уносимые бурей в иной мир, откуда нет возврата. Я выразила все свое недоумение на пороге новой жизни, всю путаницу своих мыслей. Это были стихи о поиске, о блуждании в темноте.
Я записала стихотворение и, лежа в постели, повторяла его про себя, как вдруг услышала удары в дверь. По звуку я сразу поняла, что это налет на дом. «Бунтари» товарища Шао уже обшаривали несколько раз нашу квартиру. Они унесли «предметы буржуазной роскоши», например, элегантные бабушкины наряды докоммунистической эпохи, отороченное мехом мамино маньчжурское пальто, даже папины костюмы — хотя они были в стиле Мао. Конфисковали даже мои шерстяные брюки. Они всё возвращались и возвращались в надежде найти улики против отца. Я привыкла, что наше жилье периодически переворачивают вверх дном.
Я перепугалась: что будет, если они обнаружат мое произведение? Когда нападки на отца только начались, он попросил маму сжечь его стихи; он знал, что любой текст может быть обращен против своего автора. Однако мама не смогла заставить себя уничтожить их полностью. Она сохранила несколько строф, посвященных ей. Они стоили отцу нескольких жестоких «митингов борьбы».
В одном стихотворении отец шутливо рассказывал, как не смог взобраться на вершину живописной горы. Товарищ Шао со товарищи заявили, что он «оплакивает неудачную попытку узурпировать высшую власть в Китае».
В другом он описывал работу ночью:
Свет белее, когда ночь темнее,
Моя кисть скользит навстречу утру...
Цзаофани заявили, что он называет социалистический Китай «темной ночью», и работал своей кистью, чтобы приветствовать «белый рассвет» — возвращение Гоминьдана (белый цвет символизировал контрреволюцию). В те дни подобные смехотворные толкования встречались сплошь и рядом. Сочинение стихов стало чрезвычайно опасным занятием.
Услышав удары в дверь, я помчалась в туалет и заперлась там, пока бабушка впускала товарища Шао со свитой. Дрожащими руками я порвала стихи на мелкие клочки и спустила их в унитаз. Я тщательно проверила, не осталось ли на полу каких–нибудь обрывков. Все сразу спустить не удалось; пришлось подождать и слить воду еще раз. Теперь цзаофани ломились в туалет и орали, чтобы я немедленно вышла. Я не отвечала.
В ту ночь мой брат Цзиньмин тоже натерпелся страху. С самого начала «культурной революции» он ходил на книжную толкучку. Коммерческий инстинкт в китайцах так силен, что черный рынок, величайший капиталистический кошмар Мао, существовал и в самый разгар «культурной революции».
В центре Чэнду, в середине главной торговой улицы, высилась бронзовая статуя Сунь Ятсена, возглавившего республиканскую революцию 1911 года, которая положила конец двум тысячам лет императорского правления. Статую поставили до прихода коммунистов. Мао не особенно жаловал своих революционных предшественников, включая Суня. Однако объявить себя его наследником представлялось политически целесообразным, поэтому статую не снесли; кусок земли вокруг нее превратили в питомник. После начала «культурной революции» хунвэйбины оскверняли суньятсеновскую символику, пока Чжоу Эньлай не запретил им это. Статуя сохранилась, но питомник уничтожили как проявление «буржуазной упадочности». Когда хунвэйбины принялись устраивать налеты на дома и жечь книги, люди стали собираться на этом маленьком пустыре и торговать изданиями, избежавшими костра. Здесь встречались самые разные типы: хунвэйбины, хотевшие заработать на конфискованных книгах; дельцы, почуявшие запах денег; ученые, которые не хотели, чтобы их книги сгорели, но боялись держать их дома; наконец, любители книг. Все, что здесь продавали, до «культурной революции» было разрешено коммунистическим режимом. Кроме китайской классики предлагали Шекспира, Диккенса, Байрона, Шелли, Шоу, Теккерея, Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова, Ибсена, Бальзака, Мопассана, Флобера, Дюма, Золя и многие другие произведения, даже конандойлевского Шерлока Холмса, которого в Китае очень любили.
Цена зависела от ряда причин. Если на книгах был библиотечный штамп, большинство людей их сторонились. Было известно, что коммунисты достанут где угодно, и народ боялся, что попадется с неизвестно как доставшейся государственной собственностью, — за это сурово наказывали. Книги без опознавательных знаков расходились гораздо лучше. Дороже всего стоили романы с эротическими пассажами; они же представляли самую большую опасность. «Красное и черное» Стендаля, роман, считавшийся эротическим, стоил столько же, сколько обычный человек зарабатывал за две недели.
Цзиньмин ходил на толкучку каждый день. Свой первоначальный капитал он получил из конторы вторсырья, куда испуганные граждане сдавали книжные собрания. Цзиньмин сговорился с продавцом и купил большую партию книг, которую перепродал значительно дороже. Он купил на толкучке другие книги, прочитал их, продал, купил новые...
От начала «культурной революции» до конца 1968 года через его руки прошло не менее тысячи книг. Он прочитывал одну–две в день. Одновременно он держал у себя не более десятка и прятал их очень тщательно. Один из его схоронов находился под заброшенной водонапорной башней на нашей территории, пока его любимые книги, в том числе «Зов предков» Джека Лондона, не размочило ливнем. Он прятал их дома в матрасах, в углах кладовки. В ночь обыска у него в кровати лежал роман «Красное и черное». Но, как всегда, он вставил книгу в обложку от «Избранных трудов»
Мао Цзедуна (предварительно оторвав настоящий переплет), так что компания товарища Шао ничего не заподозрила.
Цзиньмин торговал из–под полы и другими вещами, связанными с его неугасающим интересом к науке. В то время из товаров, пригодных для проведения научных опытов, на рынке имелись только полупроводниковые радиодетали: эта отрасль индустрии была в фаворе, потому что «распространяла слова Председателя Мао». Цзиньмин покупал детали, паял из них приемники и загонял их по хорошей цене. Он покупал детали и для своей настоящей цели: проверки различных занимавших его физических гипотез.
Чтобы добыть денег на эксперименты, он даже торговал значками. Многие фабрики прекратили обычное производство и выпускали вместо этого алюминиевые значки с портретом Мао. Коллекционирование марок, картин и тому подобного запрещалось как «буржуазная привычка». Поэтому инстинкты коллекционеров обратились на этот разрешенный предмет — хотя и операции со значками проводились втихую. Цзиньмин сколотил небольшое состояние. Великий Кормчий и не подозревал, что изображение его головы превратилось в объект капиталистической спекуляции, на борьбу с которой он положил столько сил.
Часто устраивались облавы. Приезжали на грузовиках цзаофани, перекрывали улицы и хватали всех подозрительных. Иногда они посылали разведчиков под видом покупателей. Вдруг раздавался свисток, и они набрасывались на торговцев. У попавшихся конфисковывали товар. Как правило, их избивали. Обычной карой было «кровопускание» — жертву кололи чем–нибудь острым в ягодицы. Некоторых пытали. Всем обещали, что в следующий раз накажут вдвойне. Но большинство возвращались туда раз за разом.
Моему второму брату, Сяохэю, в начале 1967 года исполнилось двенадцать лет. От безделья он вступил в уличную банду. До «культурной революции» их почти не существовало; теперь они процветали. Банда называлась «причалом», ее главарь — «кормчим». Все остальные были «братьями» и носили клички, связанные с животными: «Тощий Пес» — худой мальчик; «Серый Волк» — мальчик с седыми волосами. Сяохэй получил прозвище «Черное Копыто», потому что слог «хэй» в его имени значит «черный», а еще потому, что он был смуглый и быстро бегал с поручениями — это входило в обязанности младших членов банды.
Хулиганы приняли его как дорогого гостя: сыновья важных партработников на их жизненном пути встречались нечасто. Сами они происходили в основном из бедных слоев, до «культурной революции» их выгоняли из школы. Их семьи не интересовали «культурную революцию», а она не интересовала их.
Некоторые мальчики подражали детям высокопоставленных чиновников, но последние и попали теперь в опалу. В свои хунвэйбинские дни дети партработников щеголяли в старой красноармейской форме, они единственные могли достать ее через родителей. Уличные мальчишки покупали ее на черном рынке или красили одежду в зеленый цвет. Однако им недоставало надменности элиты, да и зеленый часто бывал не того оттенка. Золотая молодежь и даже их собственные товарищи презрительно называли их «выскочками».
Позднее дети партработников перешли на темно–синие куртки и штаны. Хотя большинство населения одевалось в синее, этот оттенок был особенным; к тому же мало кто носил верх и низ одного цвета. Теперь подростки из других семей избегали такого наряда, если не хотели прослыть выскочками. То же касалось и особого рода обуви: черных вельветовых ботинок с белыми пластиковыми подошвами, обрамленными белым же шнуром.
Порой банды изобретали свой собственный стиль. Они носили под курткой много рубашек и выправляли наружу все воротники. Чем больше воротников — тем круче. Нередко Сяохэй надевал под куртку шесть–семь рубашек — и две даже в палящий летний зной. Из–под укороченных штанов обязательно выглядывали тренировочные. Обувались в кеды без шнурков. На голову натягивали армейские кепки; чтобы козырек гордо торчал, в него вставляли картонку.
Прежде всего «братья» Сяохэя спасались от безделья воровством. Вся добыча вручалась «кормчему», который делил ее поровну. Сяохэй боялся красть, но все равно получал долю.
В годы «культурной революции» крали сплошь и рядом, особое раздолье было карманникам и велосипедным ворам. Почти всем моим знакомым хоть однажды залезли в карман. Отправляясь за покупками, я чуть не каждый день либо сама хваталась кошелька, либо слышала возмущенные крики других страдальцев. Полиция, распавшаяся на фракции, лишь изображала охрану порядка.
Когда в 1970–х годах иностранцы впервые стали в больших количествах приезжать в Китай, многих поразила «нравственная чистота» общества: выброшенный носок следовал за владельцем полторы тысячи километров из Пекина в Гуанчжоу и, выстиранный и аккуратно сложенный, оказывался в его номере. Гости не понимали, что только китайцы, находящиеся под неусыпным наблюдением, и иностранцы пользуются подобным вниманием, что никто не осмелится украсть у иностранца, потому что даже за носовой платок могли покарать смертью. Чистый сложенный носок не имел отношения к подлинному состоянию общества — он был лишь частью большого спектакля.
«Братья» из банды Сяохэя назойливо ухаживали за девочками. Мальчики двенадцати–тринадцати лет стеснялись ухаживать, поэтому они становились посланцами старших товарищей и разносили их пестрящие ошибками любовные письма. Сяохэй стучал в дверь, умоляя высшие силы, чтобы дверь открыла сама девочка, а не ее отец или брат, который непременно даст ему подзатыльник. Иногда, перетрусив, он просовывал письмо под дверь.
Когда девочка отвергала предложение, Сяохэй и другие младшие обращались в орудие мести незадачливого любовника, устраивали кошачий концерт у ее дома и стреляли по окнам из рогатки. Если девочка выходила из дома, они плевали в нее, обзывали, показывали ей средний палец и выкрикивали непристойности, им самим до конца не понятные. Китайские оскорбления в адрес женщин весьма картинны: «челнок» (из–за формы гениталий), «седло» (образ мужчины, оседлавшего женщину), «подтекающая лампа» («слишком часто течет»), «разношенная туфля» (ею много «пользовались»).
Кое–кто из девочек искал в бандах защитников, а самые способные сами становились «кормчими». Девочки, попавшие в этот мужской мир, носили живописные прозвища: «Черный Пион в Каплях Росы», «Разбитая Винная Чара», «Заклинательница Змей».
Третьим занятием банд были драки по малейшему поводу. Сяохэя они очень привлекали, но, к большому своему сожалению, он страдал болезнью, которую называл «природной робостью», и убегал при первых же настораживающих признаках. Благодаря отсутствию бравады он уцелел, тогда как многие мальчики получали ранения и даже погибали во время этих бессмысленных стычек.
Однажды они с «братьями» слонялись, как обычно, по улицам; вдруг прибежал член банды и рассказал, что другой «причал» совершил налет на дом их «брата» и устроил ему «кровопускание». Они отправились на свою собственную «верфь» за оружием — палками, кирпичами, ножами, проволочными хлыстами и дубинками. Сяохэй заткнул за кожаный ремень кистень. Они побежали в дом, где произошел разбой, но враги уже скрылись, раненого «брата» семья отвезла в больницу. «Кормчий» Сяохэя написал пестрящее ошибками письмо, в котором бросал перчатку другой банде; доставить его должен был Сяохэй.
Послание требовало официального сражения на просторном Народном стадионе. Спортом там теперь не занимались, потому что Мао осудил состязательные игры. Атлетам следовало посвятить свои таланты «культурной революции».
В назначенный день банда Сяохэя — несколько десятков парней — ждала на беговой дорожке. Прошло два томительных часа; затем на стадионе появился хромой человек лет двадцати. Это был Колченогий Тан, знаменитый персонаж блатного мира Чэнду. Несмотря на относительную молодость, его уважали, как старика.
Колченогий Тан охромел от полиомиелита. Из–за отца–гоминьдановца сына отправили работать в маленькой мастерской, в доме, конфискованном коммунистами у их семьи. Работники подобных маленьких предприятий не пользовались льготами, положенными заводским рабочим, — гарантированным трудоустройством, бесплатной медициной, пенсией.
Семейное происхождение помешало Тану получить высшее образование, но благодаря природной одаренности он фактически возглавил преступный мир Чэнду. На этот раз он, по просьбе другого «причала», пришел договориться о перемирии. Он вынул несколько пачек лучших сигарет и пустил их по кругу. Враждебный «причал» передавал свои извинения и обещал оплатить счета за починку дома и лечение «брата». «Кормчий» Сяохэя ответил согласием: Колченогому Тану не отказывали.
Вскоре он попал за решетку. В начале 1968 года началась четвертая стадия «культурной революции». Сначала были хунвэйбины; затем цзаофани и разгром «попутчиков»; затем война между цзаофаньскими группировками. Теперь Мао решил ее прекратить. Чтобы привести народ в повиновение, он раздул террор: неприкосновенных не было. Пострадала значительная часть населения, ранее не затронутая преследованиями, в том числе цзаофани. Для этого одна за другой объявлялись новые кампании. Крупнейшая из них — «Блюди чистоту классовых рядов» — достала Колченогого Тана. После «культурной революции», в 1976 году, он стал предпринимателем и миллионером, одним из первых богачей в Чэнду. Ему вернули старый ободранный семейный дом. Он снес его и построил величественный двухэтажный особняк. Когда в Китае все сошли с ума по дискотекам, он сидел на самом почетном месте в зале и благодушно смотрел, как танцуют мальчики и девочки из его свиты; одновременно он с нарочитой небрежностью пересчитывал толстую пачку денег и платил за всех, наслаждаясь новообретенной властью.
Кампания «Блюди чистоту классовых рядов» разрушила жизни миллионов. В одном–единственном случае, так называемом «деле Народной Партии Внутренней Монголии», пыткам и дурному обращению подверглось около десяти процентов взрослого монгольского населения; по меньшей мере двадцать тысяч человек умерло. Кампания проводилась по образцу, выработанному на основе опытов на шести фабриках и в двух университетах, под личным наблюдением Мао. В репортаже об одной из шести фабрик, типографии Синьхуа, присутствовал следующий абзац: «После того, как эту женщину назвали контрреволюционеркой, когда она занималась принудительным трудом и охранник отвернулся, она побежала на пятый этаж женского общежития, выпрыгнула из окна и разбилась насмерть. Разумеется, контрреволюционеры неизбежно будут кончать с собой. Но жаль, что теперь у нас одним отрицательным примером меньше». Мао написал на репортаже: «Лучшая из прочитанных мною статей на эту тему».
Кампании проводились ревкомами, создаваемыми по всей стране. Революционный комитет Сычуани сформировали 2 июня 1968 года. Возглавляло его бывшее руководство Подготовительного комитета — два генерала и супруги Тин. В комитет входили вожди двух основных лагерей цзаофаней — «Красного Чэнду» и «Двадцать шестого августа», а также «революционные партработники».
Предпринятая Мао консолидация новой системы власти круто изменила жизнь нашей семьи. Было принято решение удерживать часть зарплаты «попутчиков капитализма» и оставлять их иждивенцам лишь небольшое денежное пособие. Наш доход уменьшился более чем вполовину. Мы не голодали, но больше не могли ничего покупать на черном рынке, а государственное снабжение продовольствием ухудшалось с каждым днем. Например, мяса полагалось около 200 грамм в месяц на человека. Бабушка нервничала, день и ночь думала о том, как получше накормить нас, детей, как наскрести на продуктовые передачи для сидящих в заключении родителей.
Следующим решением революционного комитета было выставить с нашей территории всех «попутчиков капитализма», чтобы освободить место для новых руководителей. Нашей семье выделили несколько верхних комнат в трехэтажном доме, бывшей редакции прекратившего выходить журнала. У нас не было ни водопровода, ни канализации, приходилось спускаться вниз, даже чтобы почистить зубы или вылить остатки чая. Но я не возражала: изящество дома утоляло мою жажду прекрасного.
На административной территории мы жили в скучном цементном здании, а переселились в чудесный двухфасадный особняк из дерева и кирпича, с окнами в прелестных красновато–коричневых переплетах и загнутыми коньками. Задний двор зарос тутами, а сад перед домом украшали пышный вьющийся виноград, олеандр, бумажная шелковица и гигантское дерево без названия — кисти его похожих на перцы плодов росли в складках коричневых хрустких листьев в форме лодочек. Больше всего я любила выгнутые радугой листья декоративных бананов — удивительное для нетропического климата зрелище.
В те дни красоту настолько презирали, что нашу семью отправили в этот замечательный дом в качестве наказания. В большой прямоугольной главной комнате пол был выложен паркетом. Через три стеклянные стены проникало много света, а в ясный день открывался вид на далекие снежные горы Западной Сычуани. Балкон, не цементный, а из терракотового дерева, украшали перила, расписанные меандром. Во второй комнате, выходившей на балкон, необычно высокий — около шести метров — заостренный кверху потолок поддерживали выцветшие алые столбы. Я сразу же влюбилась в наше новое жилище. Потом оказалось, что зимой прямоугольная комната становится полем битвы ветров, пробиравшихся через тонкое стекло, а с высокого потолка сыплется пыль. И все же тихой ночью, когда я лежала в кровати и глядела на лунный свет, струящийся сквозь окна, и танцующую на стене тень стройной бумажной шелковицы, меня наполняло блаженство. Я радовалась, что нахожусь вдали от административного квартала со всей его грязной политикой, и надеялась, что больше мы туда не вернемся.
Нравилась мне и наша новая улица. Называлась она Метеоритной, потому что сотни лет назад сюда упал метеорит. Ее булыжник выглядел гораздо красивее, чем наша прежняя асфальтовая дорога.
Об администрации напоминали только некоторые соседи — сотрудники из отдела отца и «бунтари» из отряда товарища Шао. Они смотрели на нас со стальной непреклонностью и в редких безвыходных случаях, когда приходилось с нами общаться, разговаривали лающим голосом. Среди них были редактор закрытого журнала и его жена, бывшая учительница. Их шестилетнего сына, ровесника нашего Сяофана, звали Чжоучжоу. У них жил мелкий служащий с пятилетней дочерью. Дети часто играли в саду втроем. Бабушке не нравилось, что Сяофан с ними играет, но она не смела ему запретить — соседи могли увидеть в этом враждебность к «бунтарям» Председателя Мао.
У подножия темно–красной винтовой лестницы, ведущей в наши комнаты, стоял большой стол в форме полумесяца. В старые дни на нем возвышалась бы огромная фарфоровая ваза с цветами персика или зимнего жасмина. Ныне же на пустом столе играли дети. Однажды они играли в «доктора»: Чжоучжоу был доктором, Сяофан медбратом, а пятилетняя девочка пациенткой. Она легла на живот и задрала юбку, чтобы ей сделали укол. Сяофан держал в руках деревяшку от спинки сломанного стула — это была его «игла». В этот момент по известняковым ступенькам на площадку поднялась мать девочки. Она вскрикнула и схватила дочь со стола.
На внутренней стороне ее бедра она нашла несколько царапин. Вместо того, чтобы сходить с девочкой в больницу, она привела живущих неподалеку цзаофаней из отдела отца. Вскоре в нашем саду собралась толпа. Немедленно привели маму, которую, по случайности, на несколько дней выпустили из заключения. Сяофана тоже схватили и стали на него орать. Они обещали, что «изобьют его до смерти», если он не признается, кто подучил его «изнасиловать девочку». Они требовали, чтобы Сяофан подтвердил, что это были его старшие братья. Сяофан потерял дар речи и даже не плакал. Чжоучжоу тоже очень испугался. Он заплакал и рассказал, что это он попросил Сяофана сделать укол. Маленькая девочка тоже плакала и жаловалась, что ей не сделали укола. Но взрослые велели им заткнуться и продолжили мучить Сяофана. В конце концов толпа по маминому предложению устремилась в Сычуаньскую народную больницу, подталкивая перед собой маму и Сяофана.
Едва войдя в амбулаторию, обозленная мать девочки и разогретая толпа начали выкрикивать врачам, сестрам и другим пациентам обвинения: «Сын попутчика капитализма изнасиловал дочь цзаофаня! Родители–попутчики капитализма должны поплатиться!» Пока девочку в кабинете осматривала врач, совершенно незнакомый нам молодой человек в коридоре завопил: «Почему вы не схватили родителей–попутчиков и не избили их до смерти?»
Закончив осмотр, врач вышла и объявила, что никаких признаков изнасилования нет. Царапины на ногах девочки были старые, они не могли возникнуть от деревяшки Сяофана — врач показала, что она гладкая и крашеная. Вероятно, девочка поцарапалась, когда лазила на дерево. Толпа с ворчанием разошлась.
В тот вечер Сяофан бился в истерике. Он покраснел от крика, колотил руками и ногами. На следующий день мама отвела его в больницу, где ему прописали большую дозу транквилизаторов. Через несколько дней он поправился, но с тех пор с другими детьми не играл. В сущности он попрощался с детством.
На Метеоритную улицу мы — бабушка и пятеро детей — переезжали собственными силами. Но нам помогал Чэн–и — друг моей сестры Сяохун.
При Гоминьдане отец Чэн–и служил мелким чиновником; после 1949 года ему не удалось получить достойную работу, отчасти из–за своего прошлого, отчасти из–за туберкулеза и язвы. Он пробавлялся случайной работой: мел улицу, собирал деньги у общественного водопроводного крана. В голод они с женой умерли в Чунцине от болезней и недоедания.
Чэн–и работал на авиамоторном заводе. С моей сестрой они познакомились в начале 1968 года. Как и большинство заводского персонала, он входил в господствующую группу цзаофаней, курируемую «Двадцать шестым августа». В те дни, страдая от отсутствия развлечений, многие отряды «бунтарей» учреждали собственные ансамбли песни и пляски, исполнявшие несколько разрешенных гимнов Мао и его изречения, положенные на музыку. Чэн–и, хороший музыкант, был членом такого ансамбля. Моя любившая танцевать сестра, хотя и не работала на заводе, тоже вступила в ансамбль вместе с Пампушкой и Цинцин. Очень скоро они с Чэн–и полюбили друг друга. Их отношения раздражали всех: его сестру и товарищей по работе, боявшихся, что связь с семьей «попутчиков капитализма» испортит ему будущее; наш круг детей партработников, презиравших его за то, что он «не один из нас»; и меня неразумную, думавшую, что, желая жить своей жизнью, сестра предает родителей. Но их любовь преодолела все преграды и поддерживала сестру все последующие тяжелые годы. Короткое время спустя я, как и вся наша семья, стала относиться к Чэн–и с любовью и уважением. Он носил очки, поэтому мы прозвали его Очкариком.
Другой музыкант, друг Очкарика, был плотником и сыном водителя грузовика. Огромный нос делал этого жизнерадостного парня не вполне похожим на китайца. В те дни наши представления об иностранцах опирались прежде всего на изображения албанцев, потому что единственной союзницей Китая оставалась далекая крошечная Албания. Даже северные корейцы считались вольнодумцами. Друзья называли музыканта «Ал», сокращенно от «албанец».
Ал явился с тележкой, чтобы помочь нам переехать на Метеоритную улицу. Не желая злоупотреблять его добротой, я предложила оставить кое–какие вещи. Но он велел забрать все, улыбнулся, сжал кулаки и продемонстрировал нам свои крепкие мускулы. Братья с восхищением их ощупали.
Алу нравилась Пампушка. На следующий день после переезда он пригласил ее, Цинцин и меня пообедать у него дома, в обычной чэндуской хибарке с глинобитным полом, без окон, дверью, выходившей прямо на мостовую. Я впервые оказалась в таком жилище. Когда мы добрались до улицы Ала, я увидела на углу кучку молодых людей. Они поздоровались с Алом, но смотрели при этом на нас. Зардевшись от гордости, он подошел к ним, вернулся с оживленной улыбкой на устах и непринужденно произнес: «Я сказал им, что вы дети партработников, что я подружился с вами и после культурной революции смогу доставать дефицит».
Я обомлела. Во–первых, из его слов следовало, что, по мнению народа, дети партработников имеют доступ к потребительским товарам (это не соответствовало действительности). Во–вторых, меня поразило, что знакомство с нами явно его радует и придает ему вес в глазах друзей. Во времена, когда мои родители сидели в заключении, нас выбросили из квартиры, а недавно основанный Сычуаньский революционный комитет вновь изгнал «попутчиков капитализма» из их жилья, когда «культурная революция», казалось, одержала победу, Ал с друзьями не сомневались, что партработники вернутся.
С подобным отношением я сталкивалась неоднократно. Выходя из наших внушительных ворот на Метеоритной улице, я всегда замечала на себе взгляды людей, полные любопытства и почтения. Я поняла: люди думают, что в конечном счете выживут «попутчики капитализма», а не революционные комитеты.
Осенью 1968 года в нашу школу явилась новая команда — «группа учения Мао Цзэдуна». Такие группы состояли из солдат или рабочих, не принимавших участия во фракционных боях. Их целью было восстановить порядок. В моей школе, как и во всех остальных, группа собрала учеников, числившихся в ней два года назад, когда началась «культурная революция». Тех немногих, кто оказался за пределами города, разыскали и вызвали по телеграфу. Мало кто решился ослушаться.
Уцелевшие учителя не вели уроков. Они не смели. Старые учебники заклеймили как «буржуазный яд», а храбрецов, чтобы написать новые, не находилось. Поэтому в классе декламировали статьи Мао и читали передовицы из «Жэньминь жибао». Мы пели песни, составленные из изречений Мао, и танцевали «танцы верности», совершая круговые движения рукой, в которой был цитатник, помахивая им из стороны в сторону.
Революционные комитеты по всему Китаю обязали население исполнять «танцы верности». Это бессмысленное кривляние совершалось повсюду: в школах, на заводах, на улице, в магазинах, на перронах — даже в больницах, если пациенты еще шевелились.
Агиткоманда в нашей школе отличалась сравнительной мягкостью. Существовали и иные варианты. «Группу учения Мао Цзэдуна» в университете Чэнду собственноручно набрали супруги Тин, потому что университет был штабом их врага — «Красного Чэнду». Янь и Юн пострадали более других. По приказу Тинов агиткоманда требовала, чтобы они осудили моего отца. Они отказались. Позднее они рассказали маме, что равнялись на мужественное поведение отца.
В конце 1968 года всех китайских студентов скопом «выпустили» из университетов без всяких экзаменов и распределили на работу по всей стране. Янь и Юна предупредили, что, если они не отступятся от нашего отца, на достойное будущее они могут не рассчитывать. Они не сдались. Янь послали на маленькую шахту в горах на востоке Сычуани. Хуже этой работы, с примитивными условиями труда, с практически отсутствующей техникой безопасности, сложно было придумать. Женщины, как и мужчины, заползали в забой на карачках и вытаскивали оттуда корзины с углем. Судьба Янь отчасти отражала извращенную риторику эпохи. Мадам Мао утверждала, что женщины должны работать точно так же, как и мужчины, один из популярных лозунгов гласил: «Женщина может держать половину неба». Но женщины знали, что это равенство означало для них тяжелый физический труд.
Сразу же после того, как расправились со студентами, мы, ученики средней школы, узнали, что нас пошлют в дальние деревни, в горы — надрываться на полях. Мао желал навечно сделать из меня крестьянку.
22. «Преобразование мышления через труд»: В отрогах Гималаев (январь–июнь 1969)
В 1969 году нас с родителями одного за другим выслали из Чэнду в самые глухие места Сычуани. Вместе с нами в деревню отправили миллионы горожан. Таким образом власти избавлялись от молодежи, бесцельно бродящей по улицам и хулиганящей от скуки, и обеспечивали «будущее» таким взрослым, как мои родители. Старым чиновникам, ставшим ненужными после того, как Мао создал ревкомы, нашли применение на тяжелых работах.
Маоистская риторика гласила, что нас посылают в деревню на перевоспитание. Мао утверждал, что всем и каждому необходимо пройти «идейное перевоспитание через труд», хотя не раскрывал связи между двумя этими понятиями. Конечно, никто не просил пояснений. Даже капля сомнений считались изменой родине. На самом деле все в Китае знали, что тяжелый физический труд, тем более в деревне, — наказание. Бросалось в глаза, что им не занимается никто из свиты Мао, а также члены только что созданных революционных комитетов, офицеры — и почти никто из их детей.
Первым из нашей семьи выслали отца. В самом начале нового 1969 года его отправили в уезд Мии в местности Си–чан, в восточных отрогах Гималаев. Теперь в этом отдаленном районе расположена китайская база запуска спутников. От Чэнду его отделяет около 450 километров; в те дни железнодорожного сообщения не было, приходилось четыре дня добираться на грузовике. В древности людей ссылали сюда на погибель, потому что здешние горы и воды дышали таинственными «ядовитыми испарениями», говоря современным языком, таили в себе субтропические болезни.
Тут учредили лагерь для бывших работников администрации. По всему Китаю построили сотни таких лагерей. Они назывались «школами кадров», но не говоря уже о том, что школами они не были, они предназначались не только для чиновников. Сюда же направлялись писатели, ученые, учителя, врачи и актеры, ставшие «бесполезными» для невежественного режима Мао.
Из партработников в лагеря, помимо «попутчиков капитализма» вроде моего отца и других классовых врагов, высылались и записавшиеся в «бунтари», потому что новый Сычуаньский революционный комитет очевидным образом не мог вместить их всех, вакансии заполнили цзаофани — выходцы из других слоев: бывшие рабочие, студенты и военные. «Идейное перевоспитание через труд» оказалось удобным решением проблемы лишних цзаофаней. Мало кто из отдела отца остался в Чэнду. Товарищ Шао стала заместителем заведующего отделом пропаганды Сычуаньского ревкома. Все «бунтарские» организации были распущены. «Школы кадров» отличались от концлагерей или Гулага — их обитатели пользовались ограниченной свободой, но содержались в изоляции и должны были заниматься тяжелым физическим трудом под строгим надзором. Поскольку все пригодные для сельского хозяйства местности в Китае плотно заселены, горожан можно было сослать только в засушливые или горные районы. Предполагалось, что они будут производить продовольствие и обеспечивать себя сами. Им по–прежнему платили зарплату, в этих суровых местах почти бесполезную.
За несколько дней до поездки отца выпустили из заключения, чтобы он к ней подготовился. Единственное, чего он хотел, — увидеть жену. Мама все еще находилась под арестом, отец думал, что никогда ее не увидит. Он написал в ревком прошение о свидании самым смиренным тоном, на какой был способен. Ему отказали.
Кинотеатр, где содержалась мама, располагался на некогда самой оживленной улице Чэнду. Теперь магазины пустовали, но поблизости из–под полы торговали радиодеталями, так что Цзиньмин иногда видел нашу маму в колонне заключенных, с миской и палочками в руках. Столовая в кинотеатре работала не каждый день, поэтому иногда узников водили на обед в другое место. После открытия Цзиньмина мы время от времени поджидали маму на улице. Иногда ее не было среди заключенных, и тогда нас снедало беспокойство. Мы не знали, что в эти часы надзирательница–психопатка морит ее голодом. Но в один из следующих дней нам удавалось ее увидеть среди дюжины других угрюмых, молчаливых людей со склоненными головами, с белыми нарукавными повязками, на которых чернели четыре зловещих иероглифа: «бычий черт, змеиный демон». Мы с отцом несколько раз ходили на ту улицу и ждали с рассвета до полудня, но мама не появлялась. Мы ходили взад–вперед по заледеневшему тротуару и притопывали, чтобы согреться. Однажды утром мы в очередной раз смотрели, как из–под густого тумана появляются мертвые бетонные здания, и вдруг увидели маму. Она знала, что дети часто ждут ее на этом месте, и быстро взглянула, пришли ли мы на этот раз. Они с отцом встретились глазами. Их губы дрогнули, но остались немыми. Родители лишь неотрывно смотрели друг на друга, пока охранник не заорал на маму, чтобы она опустила голову. Отец всё смотрел ей вслед, хотя она давно уже скрылась из виду.
Через несколько дней отец уехал. Несмотря на всю его сдержанность, я чувствовала, что нервы его на пределе. Я очень боялась, что он вновь потеряет рассудок от физических и душевных мук, которые ему придется переносить в одиночестве, вдали от семьи. Я твердо решила присоединиться к нему, но попасть в Мии было крайне сложно — сообщение с такими отдаленными местностями находилось в параличе. Поэтому известие, что нашу школу отправляют в Ниннань, всего в восьмидесяти километрах от его лагеря, необычайно меня обрадовало.
В январе 1969 года всех учеников чэндуских средних школ сослали в сычуаньские деревни. Нам предстояло жить среди крестьян и «перевоспитываться» ими, — в какой именно области, не пояснялось, но Мао всегда придерживался той точки зрения, что сколько–нибудь образованные люди стоят ниже неграмотных крестьян и должны учиться у них. Одно из его изречений гласило: «У крестьян руки грязные, а ноги измазаны навозом, но они гораздо чище интеллигентов».
В школах, куда ходили мы с сестрой, училось много детей «попутчиков капитализма», поэтому нас отправили в совсем богом забытые места. Все дети работников ревкомов остались в городе. Они пошли в армию — это была единственная и гораздо лучшая альтернатива деревне. С этого времени одним из самых явных признаков власти стала возможность устроить детей туда.
В общей сложности в ходе одного из величайших перемещений населения в истории человечества в деревню было отправлено около пятнадцати миллионов юношей и девушек. О существовании порядка внутри всеобщего хаоса свидетельствовала прекрасная организация перевозки. Всем выдали субсидию на покупку одежды, одеял, простыней, чемоданов, сетки от комаров и полиэтиленовых чехлов для постельного белья. Нас предусмотрительно снабдили кедами, флягами и фонарями. Большую часть этих товаров изготовили специально для нас, так как магазинные полки были пусты. Дети из бедных семей могли подать заявление на дополнительную финансовую помощь. В течение первого года государство обеспечивало нас деньгами на карманные расходы и продовольственным пайком, в том числе рисом, растительным маслом и мясом. Все это выдавалось в деревне, к которой мы были приписаны.
Еще во времена «Большого скачка» крестьян объединили в коммуны, состоявшие из некоторого количества деревень и включавшие в себя от двух до двадцати тысяч хозяйств. На ступень ниже, чем коммуна, находились производственные бригады, ведавшие несколькими производственными звеньями. Производственное звено примерно соответствовало одной деревне и являлось основной единицей сельской жизни. К каждому звену приписывалось до восьми учеников нашей школы, и нам разрешалось выбрать себе компанию. Я выбрала подруг из класса Пампушки. Сестра решила ехать не со своей школой, а со мной: присоединяться к родственникам также позволялось. Цзиньмин, учившийся в моей школе, остался в городе — ему еще не исполнилось шестнадцати. Пампушка как единственный ребенок в семье тоже не поехала.
Мне хотелось в Ниннань. Я не понимала, что такое тяжелая, черная работа. Мне представлялась идиллия, свободная от политических бурь. С нами провел беседу ниннаньский чиновник — он рассказал нам о субтропическом климате, высоком синем небе, об огромных красных гибискусах, бананах в четверть метра длиной и реке Золотого песка (Цзинь–шацзян) — верхнем течении Янцзы, — переливающейся на ослепительном солнце, овеваемой мягким ветерком.
Я жила в мире сизого тумана и черных настенных лозунгов, слова «солнце», «буйная растительность» звучали для меня сказочной музыкой. Слушая чиновника, я воображала себя на цветущей горе с золотой рекой, текущей у моих ног. Он упомянул о «ядовитых испарениях», про которые я читала в классической литературе, но это только придало его рассказу экзотики. Опасными мне казались лишь политические кампании.
Еще я хотела поехать потому, что надеялась, живя там, навещать отца. Мне не пришло в голову, что наши деревни разделены непроходимыми горами в три тысячи метров высотой. Я всегда плохо разбиралась в картах.
27 января 1969 года наша школа отправилась в Ниннань. Каждому ученику разрешили взять один чемодан и постель. Нас рассадили в грузовик человек по сорок. Сидений было мало. В основном мы сидели на постелях или на полу. Колонна грузовиков три дня петляла по проселочным дорогам до границы Сичана. Мы проехали Чэндускую равнину и восточные отроги Гималаев, где на колеса грузовиков пришлось надеть цепи. Я старалась очутиться в задней части кузова, чтобы видеть величественные снегопады и град, застилавший мир белой пеленой, из–за которой вдруг, мгновенно, появлялись бирюзовое небо и ослепительное солнце. Грозная красота природы приводила меня в немой восторг. На западе вдалеке высился почти восьмикилометровый пик, за которым простирались дикие земли — родина многих растений Земного шара. Только оказавшись на Западе, я поняла, что такие привычные нам цветы, как рододендроны, хризантемы, большинство видов роз и многие другие цветы происходят отсюда. Здесь еще жили панды.
На второй вечер мы прибыли в Асбестовый уезд, названный так по основной своей продукции. Колонна остановилась среди гор, чтобы мы могли сходить в туалет — этой цели служили две глинобитные хижины с круглыми общими выгребными ямами, где плавали личинки мух. Но если внутри туалеты выглядели отвратительно, картина, представавшая перед глазами снаружи, вселяла ужас: лица рабочих были бескровные, свинцовые, совершенно мертвенные. Я спросила Дун–аня, обаятельного партработника, руководившего нашим переездом, кто эти люди, больше похожие на бесплотных духов. Он ответил: преступники из лао–гая (лагеря «трудового перевоспитания»). Ядовитый асбест добывался в основном силами заключенных, технике безопасности и охране труда уделялось крайне мало внимания. Так я в первый и единственный раз в жизни столкнулась с китайским Гулагом.
На пятый день грузовик высадил нас возле зернохранилища на вершине горы. Поверив пропаганде, я ожидала, что нас встретят барабанным боем и торжественно приколют на грудь красные бумажные цветы, но нас приветствовал всего один чиновник из коммуны. Он произнес речь, состоящую из напыщенных газетных штампов. С ним явилось два десятка крестьян, которые помогли нам нести постели и чемоданы. Лица их были непроницаемы, я совершенно не понимала, что они говорят.
К нашему новому дому мы с сестрой отправились в компании двух девочек и четырех мальчиков, из которых состояла наша группа. Четверо крестьян, несшие часть нашего багажа, хранили молчание и, видимо, не понимали наших вопросов. Мы тоже умолкли. Долгие часы мы шли гуськом, все глубже погружаясь в темно–зеленый мир гор. Я так изнемогла, что уже не замечала их красоты. В какой–то миг, когда я, опершись о скалу, переводила дух, мне открылось наше одиночество. Наш отряд терялся среди необъятных, бескрайних гор — вокруг ни дороги, ни жилья, ни других людей, только шелестящие на ветру леса и журчание невидимых рек. Я растворялась в безмолвии молчаливой, дикой, таинственной природы.
На закате мы пришли в деревню, в которой не светился ни один дом. Электричества не было, а масло из бережливости зажигали только в полной темноте. Люди стояли у дверей и смотрели на нас, разинув рты. Я не понимала, что кроется за бесстрастным выражением их лиц — интерес или безразличие. Так смотрели на иностранцев в Китае, когда он впервые открылся в 1970–е годы. Несомненно, мы для крестьян были иностранцами — как и они для нас.
Деревня приготовила нам жилье: хижину из дерева и глины. В ней имелось две больших комнаты — одна для четырех мальчиков, другая для четырех девочек. По коридору можно было пройти в деревенский зал собраний, где сложили кирпичную печь, чтобы мы на ней готовили.
Я в изнеможении упала на жесткую доску — то была наша с сестрой кровать. За нами прибежали дети и с радостными криками забарабанили в дверь. Когда мы ее открыли, дети исчезли. Стоило нам ее закрыть — стук возобновлялся. Они заглядывали в окно — обычную ничем не прикрытую квадратную дырку в стене — и визжали. Сначала мы улыбались и приглашали их зайти, но наше дружелюбие на находило отклика. Мне не терпелось помыться. Мы занавесили окно старой рубашкой и опустили полотенца в тазы с ледяной водой. Я старалась не обращать внимания на хихикающих детей, то и дело заглядывающих за «занавеску». Мы мылись, не снимая клетчатых курток.
Один из мальчиков в нашей группе исполнял роль руководителя и посредника в общении с деревенскими. Он сообщил, что у нас есть несколько дней на решение проблем с водой, керосином и дровами. После этого мы отправляемся работать в поле.
В Ниннане все делалось вручную, как 2 000 лет назад. Не было ни техники, ни тяглового скота. Нехватка пищи не позволяла разводить лошадей и ослов. К нашему приезду деревенские наполнили водой большой глиняный сосуд. На следующий день я поняла, как драгоценна каждая капля. За водой надо было полчаса карабкаться по узким тропкам с деревянными ведрами на коромысле. С водой они весили под сорок килограмм. У меня плечи ныли даже от пустых ведер. Я страшно обрадовалась, когда мальчики галантно заявили, что носить воду — их работа.
Они же готовили, потому что трое из четырех девочек, в том числе и я, в силу семейного происхождения никогда в жизни не подходили к плите. Теперь пришлось обучаться кулинарии в суровых условиях. Необмолоченное зерно клали в каменную ступу и изо всех сил били тяжелым пестом. Затем смесь пересыпали в большую низкую бамбуковую корзину, которую особым образом трясли, так что легкая шелуха собиралась наверху, откуда ее можно было снять, а рис оставался внизу. Через пару минут руки у меня не только ужасно разболелись, но и затряслись, так что я не в состоянии была поднять корзину. За каждый завтрак, обед и ужин приходилось вести изнурительную борьбу.
Следующая задача — собирание топлива. Роща, откуда, в соответствии с правилами охраны лесов, можно было приносить дрова, находилась в двух часах ходьбы. Нам разрешалось обрезать только маленькие веточки, поэтому мы залезали на низкорослые сосны и обрубали с них все, что могли.
Поленья связывали и носили на спине. Как самой младшей в группе, мне поручили всего лишь нести корзину с мягкими сосновыми иголками. Домой мы возвращались еще два часа, вверх и вниз по горным тропинкам. Когда мы наконец дошли, я от усталости вообразила, что несла килограммов шестьдесят. Поставив корзину на весы, не поверила собственным глазам: она едва дотягивала до двух с половиной. Этого топлива не хватило бы и на котелок воды.
В один из первых же походов за дровами, слезая с дерева, я порвала штаны. От смущения я спряталась в кусты и вышла оттуда с таким расчетом, чтобы оказаться последней и скрыть от всех свой позор. Мальчики — все до одного настоящие джентльмены — настаивали, чтобы я шла впереди, тогда они не будут шагать слишком быстро. Я упорно повторяла, что мне нравится идти последней и я поступаю так не из вежливости.
Даже посещение туалета превращалось в целое приключение. Сначала требовалось слезть по крутому склону к глубокой яме рядом с козьим загоном. Либо зад, либо голову приходилось обращать к козам, которые всегда счастливы были боднуть чужака. От нервного напряжения я многие дни не могла облегчиться. Выбравшись из загона, из последних сил карабкалась обратно в гору. Каждый раз я возвращалась с синяками на новом месте.
В первый рабочий день мне велели носить козий помет и фекалии из нашего туалета на крошечные поля, где только что выжгли кусты и траву. Теперь землю покрывал слой золы, вместе с козьим и человеческим навозом он удобрял землю к весенней пахоте, проводимой вручную.
Я водрузила тяжелую корзину на спину и еле–еле поползла в гору на четвереньках. Навоз уже подсох, но все равно просачивался через хлопковую куртку и нижнее белье до самой спины. Через край корзины он пачкал мне волосы. Добравшись наконец до поля, я увидела, как крестьянки умело нагибаются в сторону, наклоняют корзины и опорожняют их на землю. Но у меня навоз не вываливался.
Желая во что бы то ни стало избавиться от тяжести, я попыталась снять корзину со спины. Вынула из лямки правую руку, и корзина тут же перевалилась налево, потянув за собой мое левое плечо. Я упала на землю, прямо в навоз. Некоторое время спустя одна моя подруга вывихнула так себе колено. Я отделалась легким растяжением поясницы.
Трудности являлись составной частью «идейного перевоспитания». Теоретически мы должны были им радоваться — они делали нам новыми людьми, приближали к крестьянам. До «культурной революции» я всем сердцем верила в эту наивную теорию и специально занималась тяжелым трудом в целях личного совершенствования. Весной 1966 года мы всем классом помогали строить дорогу. Девочкам давали легкие задания — например, отделять камни, которые потом дробили мальчики. Я вызвалась работать вместе с ними; в результате от огромной кувалды, которую я еле поднимала, у меня ужасно опухли руки. Теперь же, всего три года спустя, моя идейная подготовка трещала по швам. Слепая вера испарилась, суровая жизнь в горах Ниннаня вызывала во мне одну ненависть. Все это мероприятие казалось совершенно бессмысленным.
Сразу после приезда у меня появилась сыпь. Более трех лет эта сыпь возвращалась, едва я оказывалась в деревне, от нее не помогало ни одно лекарство. День и ночь меня мучил зуд, я не могла не чесаться. Через три недели новой жизни у меня уже было несколько гноящихся ран, ноги опухли. Еще меня мучили понос и рвота. В то время, когда я более всего нуждалась в телесной крепости, я болела и слабела, а клиника коммуны находилась от нас километрах в пятидесяти.
Вскоре я пришла к выводу, что, живя в Ниннане, вряд ли смогу навестить отца. До ближайшей дороги, достойной этого названия, нужно было брести целый день, но даже там общественный транспорт отсутствовал. Грузовики проезжали редко, и маршрут их в подавляющем большинстве случаев не проходил через Мии. К счастью, работник агитотряда Дун–ань, приехавший к нам в деревню, чтобы проверить, как мы устроились, увидел, что я больна и любезно предложил мне отправиться в Чэнду и обратиться в поликлинику. Он возвращался с последним из грузовиков, на которых мы приехали в Ниннань. Через двадцать шесть дней после приезда я уехала обратно.
За это время я так и не познакомилась как следует с крестьянами, за исключением разве что деревенского бухгалтера — самого образованного человека в округе, который часто навещал нас, чтобы продемонстрировать некоторое наше умственное сродство. Я побывала в гостях только у него, и в основном мне запомнились ревнивые взгляды, которые бросала на меня его молодая жена с обветренным лицом. Она чистила окровавленные свиные потроха, к спине ее был привязан не издававший ни единого звука младенец. Я поздоровалась; она посмотрела на меня как на пустое место. Я почувствовала себя неловко и вскоре удалилась.
В те несколько дней, когда я работала вместе с крестьянами, у меня было слишком мало сил, чтобы по–настоящему с ними познакомиться. Они казались такими далекими, словно отделены от меня непроходимыми ниннаньскими горами. Я знала, что нам полагается их навещать — так и поступали лучше себя чувствовавшие мои друзья и сестра, — но меня одолевала слабость, все болело и чесалось. К тому же походы в гости означали бы, что я смирилась с судьбой и готова провести здесь всю оставшуюся жизнь. Но я подсознательно отказывалась стать крестьянкой. Не признаваясь в этом даже самой себе, не желала следовать по пути, предначертанному для меня Мао.
Когда пришло время уезжать, я неожиданно загрустила по ослепительной красоте ниннаньской природы. Борясь за существование, я не обратила особого внимания на горы. Весна наступила рано, в феврале, среди обледенелых сосен сияли золотые цветы зимнего жасмина. Ручьи в долинах разливались в прозрачные озерца, окруженные причудливыми утесами. В зеркале воды отражались величественные облака, кроны стройных деревьев и безымянные соцветия, распускавшиеся прямо в трещинах скал. Мы стирали белье в этих небесных прудах и развешивали его на освещенных солнцем, овеваемых студеным ветром утесах. Потом ложились на траву и слушали тихий шелест соснового леса. Я любовалась склонами далеких гор, поросших дикими персиковыми деревьями, и представляла, как через несколько недель их покроет ковер розовых цветов.
После мучительной четырехдневной тряски в пустом кузове грузовика, страдая от постоянной боли в животе и поноса, я добралась наконец до Чэнду и прямиком отправилась в поликлинику нашей территории. Уколы и таблетки вылечили меня в мгновение ока. Наша семья по–прежнему могла пользоваться услугами и поликлиники, и столовой. Второсортный Сычуаньский ревком раздирали противоречия, он не смог наладить работу администрации. Ему не удалось даже установить правила, определяющие повседневную жизнь. В результате в системе было множество прорех, многое продолжало делаться по–старому, людям приходилось решать проблемы собственными силами. Ни столовая, ни поликлиника не отказывались нас обслуживать, и мы этим пользовались.
Бабушка заявила, что в дополнение к прописанным уколам и таблеткам я должна принимать средства традиционной китайской медицины. Однажды она вернулась домой с курицей и корнями двух растений: астрагала перепончатого (Астрагал перепончатый — многолетнее травянистое растение семейства бобовых.) и дудника китайского (Дудник китайский (дягиль) — многолетнее травянистое пряно–ароматическое растение семейства зонтичных.), считавшимися бу (целебными), и сварила мне суп, который посыпала мелко нарезанным луком–пореем. В магазинах ничего подобного не было, и она просеменила на своих ножках многие километры, чтобы достать все это на деревенском черном рынке.
Бабушка сама плохо себя чувствовала. Иногда я видела, что она лежит на кровати — поведение для нее крайне нетипичное. Она всегда отличалась такой энергией, что почти ни минуты не сидела на месте. Теперь же она зажмуривала глаза и закусывала губы: очевидно, ее мучили боли. Но когда я спрашивала, что с ней, она отмахивалась и продолжала добывать лекарства и стоять в очередях, чтобы купить для меня продукты.
Скоро мне стало гораздо лучше. Поскольку никто не приказывал мне вернуться в Ниннань, я начала разрабатывать план поездки к отцу. Но тут из Ибиня пришла телеграмма о серьезной болезни тети Цзюньин, воспитывавшей моего самого младшего брата Сяофана. Я решила, что должна о них позаботиться.
Тетя Цзюньин и другие ибиньские родственники тепло относились к нашей семье, хотя отец и порвал с вековой китайской традицией опеки над родней. По обычаю сыну следовало приготовить для матери тяжелый деревянный гроб со многими слоями лака и устроить ей торжественные — и часто разорительные — похороны. Однако правительство широко пропагандировало кремацию, чтобы уменьшить площадь захоронений, а также скромный обряд. О смерти матери, скончавшейся в 1958 году, отцу сообщили лишь после похорон: семья беспокоилась, что он воспротивится погребению и сложному ритуалу. После переезда в Чэнду его родственники почти нас не навещали.
Однако когда во время «культурной революции» отец попал в беду, они пришли к нам и предложили помощь. Со временем тетя Цзюньин, часто курсировавшая между Чэнду и Ибинем, взяла к себе Сяофана, чтобы снять с бабушки часть забот. Она жила в одном доме с младшей сестрой моего отца, но бескорыстно отдала половину своей доли семье дальнего родственника, вынужденной выехать из своего полуразрушенного жилья.
Я застала тетю в плетеном кресле у двери гостиной. На почетном месте стоял огромный гроб из тяжелого темно–красного дерева. Этот гроб — ее собственный — был ей единственной отрадой. При виде тети меня охватила грусть. Она только что перенесла удар, приведший к частичному параличу ног. Больницы работали с грехом пополам. Сломавшееся оборудование некому было чинить, лекарства поставлялись с перебоями. В больнице тете Цзюньин сказали, что ничем не могут ей помочь, поэтому она оставалась дома.
Наибольшие страдания ей доставляла перистальтика. После еды у нее вздувался кишечник, а облегчаться было очень больно. Иногда рецепты родни помогали, но, как правило, — нет. Я часто массировала ей живот, а однажды, когда она в отчаянии попросила меня об этом, попыталась механически удалить кал из ее заднего прохода. Все эти средства давали лишь временное облегчение. В результате тетя боялась есть досыта. Она была очень слаба и часами сидела в плетеном кресле, глядя на бананы и папайи, росшие на заднем дворе. Она никогда не жаловалась, только однажды сказала мне почти неслышным шепотом: «Я так хочу есть. Но не могу...»
Она больше не могла ходить без посторонней помощи, да и сидела еле–еле. Чтобы у нее не появилось пролежней, я садилась рядом и она на меня опиралась. Она говорила, что я хорошо за ней ухаживаю, но, наверно, устала и соскучилась. Как я ни настаивала, каждый день она садилась лишь ненадолго, чтобы я могла «повеселиться».
Разумеется, никаких увеселений не предусматривалось. Мне мучительно хотелось что–нибудь почитать. Но кроме «Избранных сочинений» Мао Цзэдуна в четырех томах я нашла в доме только словарь. Все остальное сожгли. Я занялась заучиванием тех пятнадцати тысяч иероглифов, которые были мне еще неизвестны.
Остальное время посвящала семилетнему Сяофану. Мы подолгу гуляли. Порой он от скуки начинал что–нибудь выпрашивать — например, игрушечный пистолет или черные как уголь леденцы, одиноко лежащие на витрине. Но у меня не было денег — государство выдавало лишь небольшое пособие. Маленький Сяофан не мог этого понять; он бросался на пыльный тротуар, лягался, кричал и дергал меня за куртку. Я садилась на корточки, утешала его, а когда не могла придумать, что делать дальше, начинала плакать сама. Тут он прекращал капризничать и мирился со мной. Мы оба приходили домой обессиленные.
Ибинь был чрезвычайно живописен даже в разгар «культурной революции». Журчащие реки, безмятежные холмы и теряющаяся в дымке даль пробуждали во мне ощущение вечности. Я на время забывала окружающие меня невзгоды. Сумерки скрывали затянувшую город сеть плакатов и громкоговорителей; в переулках не было фонарей, их окутывал туман, сквозь который пробивалось лишь мерцание масляных ламп, сочившееся из дверных и оконных щелей. Вдруг выплывало яркое пятно — на моем пути попадался ларек с закусками. Торговать было особо нечем, но по–прежнему стоял квадратный деревянный стол, окруженный узкими длинными лавками — темно–коричневыми, блестящими от многолетнего сидения и скобления. На столе светилась горошина — фитиль в рапсовом масле. За столом никто не сидел, но владелец держал ларек открытым. В прежние дни здесь было бы полно людей — болтающих, пьющих местную водку «из пяти злаков» и закусывающих маринованной говядиной, отваренным в соевом соусе свиным языком и арахисом, жаренным с солью и перцем. Пустые ларьки напоминали мне старый Ибинь, когда политика еще не заполонила всю жизнь.
Едва я выходила из дальних переулков, меня оглушали репродукторы. До восемнадцати часов в сутки центр города оглашали славословия и проклятия. Не говоря уж о содержании, сам уровень шума был невыносим; чтобы не сойти с ума, я научилась отключать слух.
Как–то апрельским вечером одно сообщение все же привлекло мое внимание. В Пекине проходил съезд партии. Как обычно, китайцам не рассказали, чем занимаются их «представители». Объявили новый состав высшего руководства. Я с отчаянием услышала, что «органы культурной революции» утверждены.
Девятый съезд ознаменовался формальным утверждением личной власти Мао. Мало кто из вождей предыдущего съезда 1956 года остался у руля. Из семнадцати членов Политбюро свои посты удержали только четверо: Мао, Линь Бяо, Чжоу Эньлай и Ли Сяньнянь. Все прочие либо умерли, либо были ошельмованы и изгнаны. Некоторым вскоре предстояло умереть.
Председатель КНР Лю Шаоци, второй человек на Восьмом съезде, находился под арестом с 1967 года; на «митингах борьбы» его жестоко избивали. Его не лечили ни от застарелого диабета, ни от вновь приобретенного воспаления легких. Врачи занялись им, лишь когда он чуть не погиб — мадам Мао прямым текстом приказала держать его живым, чтобы у Девятого съезда «была живая мишень». На съезде приговор, гласивший, что Лю «предатель, вражеский агент, прихвостень империалистов, современных ревизионистов [советских] и гоминьдановских реакционеров», зачитал Чжоу Эньлай. После съезда Лю дали умереть мучительной смертью.
Маршал Хэ Лун, другой бывший член Политбюро и основатель коммунистической армии, умер спустя два месяца после съезда. Поскольку он пользовался авторитетом в армии, его подвергли двум с половиной годам медленной пытки, целью которой, как он сказал своей жене, было «разрушить мое здоровье, чтобы убить, не проливая крови». Знойным летом ему давали одна маленькую фляжку воды в день, долгой морозной зимой не включали отопление, отказывались лечить от диабета. В конце концов он умер, когда диабет усугубился и ему ввели большую дозу глюкозы.
Тао Чжу, член Политбюро, помогший маме в начале «культурной революции», около трех лет провел в нечеловеческих условиях, подорвавших его здоровье. Его не лечили как следует до тех пор, пока рак желчного пузыря не зашел очень далеко и Чжоу Эньлай не санкционировал операцию. Окна его больничной палаты заклеили газетами, семье не позволили повидаться с ним ни на одре болезни, ни даже после смерти.
Маршал Пэн Дэхуай умер от такой же растянутой пытки, которая в его случае продолжалась восемь лет, до 1974 года. Его последней просьбой было увидеть деревья и солнечный свет за закрытыми газетами окнами больничной палаты, и в этой просьбе ему было отказано.
Это лишь несколько примеров травли, практиковавшейся Мао в период «культурной революции». Он не подписывал смертных приговоров, а просто обозначал свои пожелания, а палачи, додумывавшие омерзительные подробности пыток, выискивались сами. Прибегали и к психологическому давлению, и к физическим мучениям, и к лишению медицинской помощи — убивали даже лекарствами. Такая гибель получила особое название — пo–хай чжи–сы — «замучен до смерти». Мао полностью представлял себе происходящее и поощрял преследователей «молчаливым согласием» (мо–сюй). Это позволяло избавиться от врагов и остаться в стороне. Ответственность за эти злодеяния безусловно лежит на нем, но не на нем одном. Мучители проявляли определенную инициативу. Люди Мао всегда стремились угодить ему, предугадать его желания; разумеется, при этом они тешили и собственные садистские инстинкты.
Ужасные подробности преследования многих высших руководителей открылись много лет спустя. Однако никого в Китае они не удивили. Слишком много таких случаев было известно нам по собственному опыту.
Я стояла на запруженной народом площади и слушала, как по радио объявляют состав нового Центрального Комитета. Я с ужасом ожидала имен Тинов. И дождалась: Лю Цзетин и Чжан Ситин. Я подумала, что страдания нашей семьи не прекратятся никогда.
Вскоре пришла телеграмма о том, что бабушка очень плоха и не встает с постели. Раньше с ней ничего подобного не случалось. Тетя Цзюньин убедила меня вернуться домой, чтобы ухаживать за бабушкой. Мы с Сяофаном ближайшим поездом выехали в Чэнду.
Бабушке должно было исполниться шестьдесят, и ее стойкость в конце концов отступила перед болью. Колющая боль бродила по всему телу, сходясь к ушам. Врачи в поликлинике нашего блока считали, что, возможно, это нервы, и что единственное лекарство — хорошее настроение. Я отвезла ее в больницу в получасе ходьбы от Метеоритной улицы.
Новых хозяев жизни, ездящих на автомобилях с шоферами, мало заботило существование простых людей. Автобусы в Чэнду не ходили, потому что не имели большого значения для революции, а велорикш запретили, потому что это была эксплуатация человека человеком. Из–за сильной боли бабушка не могла идти. Пришлось усадить ее на багажник велосипеда, покрытый подушкой, и попросить держаться за сиденье. Я толкала велосипед, Сяохэй поддерживал ее, а Сяофан сидел на раме.
Больница все еще работала благодаря профессионализму и жертвенности некоторых сотрудников. На кирпичных стенах красовались огромные лозунги, написанные их более воинственными коллегами, где разоблачались те, кто «использует работу для подавления революции» — таково было стандартное обвинение в адрес людей, не переставших трудиться. У принимавшего нас врача дергались веки, под глазами залегли глубокие тени, видимо, вследствие крайнего утомления: пациенты шли толпами, нервы были напряжены — боялись политических нападок. Больница не могла вместить поток угрюмых мужчин и женщин с синяками на лицах, кое–кто лежал на носилках со сломанными ребрами — все это были жертвы «митингов борьбы».
Никто из врачей не мог понять, что происходит с бабушкой. Не было ни рентгеновского аппарата, ни какого–либо другого оборудования, чтобы всерьез ее обследовать, — все было сломано. Бабушке дали болеутоляющее, оно не помогло, и ее положили в больницу. Палаты были переполнены, кровати стояли и в коридоре. Несколько медсестер, носившихся между больными, явно не справлялись с таким объемом работы, и я решила остаться с бабушкой.
Я принесла из дома посуду, чтобы готовить для нее, а также бамбуковый матрас, который расстелила под ее кроватью. Ночью, просыпаясь от стонов, я вылезала из–под тонкого покрывала и делала ей массаж, на время облегчавший боль. Под кроватью особенно сильно ощущался смрад — все вокруг пропахло мочой. Рядом с каждой кроватью стоял ночной горшок. Бабушка была крайне чистоплотна и даже по ночам упорно добиралась до туалета, находившегося в конце коридора. Но остальные пациенты не осложняли себе жизнь, а горшки часто не опорожнялись сутками. Сестры были слишком перегружены, чтобы следить за подобными мелочами.
Окно рядом с бабушкиной кроватью выходило в сквер перед больницей. Он весь зарос сорняками, деревянные скамейки покосились. Впервые бросив туда взгляд, я заметила детей, ломавших ветки маленькой магнолии, на которой еще осталось два–три цветка. Взрослые проходили мимо не реагируя. Вандализм так распространился в повседневной жизни, что стал восприниматься за норму.
Однажды я увидела в открытое окно, как с велосипеда слезает мой друг Бин. У меня заколотилось сердце, к щекам прилила кровь. Я быстро посмотрелась в оконное стекло. Погляди я на людях в настоящее зеркало, сразу прослыла бы «буржуазным элементом». На мне была кофта в бело–розовую клетку — рисунок, только–только разрешенный для девушек. Опять дозволялось носить длинные волосы, но заплетенные в две косы, и я часами мучилась сомнениями, как их лучше заплести: поближе или подальше одну от другой? Оставить кончики прямыми или завить? Побольше заплести или побольше распустить? Существовало бесконечное множество едва заметных вариантов. Прически и одежда не регулировались государственными актами. Правила определялись тем, что вокруг носят в данный момент, и из–за узости этого диапазона люди придавали значение мельчайшим отличиям. Верхом изобретательности было выглядеть необычно, привлекательно и в то же время так, чтобы никто не мог ткнуть пальцем и сказать, в чем допущена ересь.
Я все еще размышляла над тем, как выгляжу, когда Бин вошел в палату. В его внешности не было ничего особенного, но чем–то он выделялся из толпы. Может быть, легким цинизмом, редким в те лишенные юмора годы. Меня сильно к нему тянуло. До «культурной революции» его отец был заведующим отделом в провинциальной администрации, но Бин отличался от детей большого начальства. «С какой стати я должен ехать в деревню?» — возмутился он и в самом деле сумел достать справку о «неизлечимой болезни». Он первый показал мне, что такое свободное мышление, иронический, пытливый ум, ничего не принимающий на веру. Он первый поставил передо мной вопросы, над которыми я раньше боялась задумываться.
До сих пор я гнала от себя мысли о любви. Преданность семье, усиленная лишениями, перекрывала все другие чувства. Хотя во мне всегда жила другая, сексуальная личность, жаждущая вырваться на свободу, мне удавалось держать ее под запором. Знакомство с Бином толкнуло меня на грань любовного увлечения.
В тот день Бин появился в бабушкиной палате с синяком под глазом. Он сказал, что ему только что врезал Вэнь, парень, который недавно сопровождал из Ниннаня девочку, сломавшую ногу. Бин рассказывал о драке с подчеркнутым безразличием, и с чувством глубокого удовлетворения заявил, что Вэнь ревнует, потому что Бин пользуется моим вниманием и обществом больше, чем он. Позднее я познакомилась с точкой зрения Вэня: он ударил Бина, потому что не мог стерпеть «его самодовольной ухмылки».
Вэнь был маленького роста, коренастый, с большими руками и ногами, с крупными зубами. Как и Бин, он происходил из семьи высокопоставленных чиновников. Он засучивал рукава, подворачивал штанины и носил соломенные сандалии, как крестьянин, чтобы быть похожим на образцового юношу с плакатов. Однажды он сказал мне, что возвращается в Ниннань, чтобы «перевоспитываться» дальше. Когда я спросила, зачем ему это, он без лишних раздумий ответил: «Как зачем? Чтобы следовать за Председателем Мао. Я ведь «красный охранник» Председателя Мао». Я онемела от изумления. Я–то полагала, что люди пользуются этим жаргоном только в официальной обстановке. Кроме того, он не придал своему лицу обязательного в таких случаях торжественного выражения. Непринужденный тон свидетельствовал об искренности его слов.
Образ мыслей Вэня не оттолкнул меня от него. «Культурная революция» научила меня делить людей не по их убеждениям, а по тому, способны ли они на жестокость и подлость. Я знала, что Вэнь приличный человек, и когда захотела навсегда выбраться из Ниннаня, то обратилась за помощью именно к нему.
В Ниннане я отсутствовала больше двух месяцев. Это не запрещалось никакими правилами, но режим располагал мощным оружием, гарантировавшим, что рано или поздно я вернусь в горы: меня выписали из Чэнду и прописали в деревню, и, оставаясь в городе, я не могла получать продовольственных и других пайков. Какое–то время я жила на пайки своих родственников, но это не могло длиться вечно. Я поняла, что должна перенести прописку в какое–нибудь место поблизости от Чэнду.
Сам город Чэнду не обсуждался, потому что менять сельскую прописку на городскую никому не разрешалось. Людям из горного района с суровыми условиями жизни также запрещалось прописываться в плодородном месте вроде Чэндуской равнины. Однако существовала лазейка: нам дозволялось переехать к родственникам, готовым нас принять. Таких родственников можно было изобрести, потому что никто не стал бы проверять всю родню, столь многочисленную у китайцев.
Переезд я обдумывала с Нана, близкой подругой, которая только что вернулась из Ниннаня и тоже не желала туда возвращаться. Мы включили в план и мою сестру, все еще остававшуюся в Ниннане. Для изменения прописки нам в первую очередь требовалось три письма: одно от коммуны, о том, что она принимает нас по рекомендации своего члена — нашего родственника; второе из уезда, где находилась коммуна, подтверждающее содержание первого письма; и третье из Сычуаньского управления по делам молодежи, с разрешением изменить место прописки. С тремя этими письмами в руках нам следовало вернуться в наши ниннаньские сельскохозяйственные бригады и получить от них «добро». Только тогда чиновник в уезде Ниннань мог выдать нам документы, имеющие огромное значение для всякого китайского гражданина — наши регистрационные книжки, которые мы должны были вручить властям по новому месту прописки.
Малейшее отклонение от строгих государственных планов всегда влекло за собой такие трудности. И в большинстве случаев добавлялись непредвиденные осложнения. Пока я думала, как устроить переезд, центральное правительство ни с того ни с сего издало указ, который замораживал все изменения прописки по состоянию на 21 июня. Шла уже третья неделя мая. Было невозможно найти реального родственника, готового нас принять, и вовремя осуществить все требуемые процедуры.
Я обратилась к Вэню. Он без малейших колебаний предложил «изготовить» три письма. Подделка официальных документов являлась серьезным преступлением, наказуемым длительным тюремным заключением. Но верный «красный» охранник Мао Цзэдуна только отмахнулся от моих предостережений.
Главным элементом подделки были печати. В Китае все документы становятся официальными лишь после того, как на них поставлена печать. Вэнь хорошо владел каллиграфией и умел вырезать печати в официальном стиле. Он изобразил их на нескольких кусках мыла. За один вечер были готовы все три письма, на получение которых, при счастливом раскладе, у нас ушло бы несколько месяцев. Вэнь вызвался сопровождать нас в Ниннань, чтобы помочь завершить всё это предприятие.
Пришло время отправляться в путь. Я разрывалась между необходимостью ехать и нежеланием оставлять бабушку в больнице. Она уговаривала меня не волноваться, хотела вернуться домой и присматривать за моими младшими братьями. Я ее не разубеждала — обстановка в больнице была угнетающая. Пациентов окружали вонь и шум: стоны, грохот и круглосуточные громкие разговоры в коридорах. В шесть часов утра включали громкоговорители. Часто люди умирали у всех на глазах.
В вечер выписки бабушка почувствовала острую боль в пояснице. Она уже не могла сидеть на багажнике велосипеда, поэтому Сяохэй отвез на нем домой одежду, полотенца, тазы, термосы и кухонные принадлежности, а я тихонько вела бабушку по улице, осторожно поддерживая. Вечер был душный. Даже медленная ходьба причиняла ей страшную боль, о чем свидетельствовали закушенные губы и дрожь — она старалась не стонать. Я пыталась отвлечь ее разговорами, пересказывала разные истории и сплетни. На платанах, некогда отбрасывавших густую тень на тротуары, теперь торчали лишь редкие жалкие веточки: за три года «культурной революции» их ни разу не подрезали. Время от времени на пути попадались полуразрушенные здания — свидетельство жестоких боев между группировками цзаофаней.
За час мы преодолели всего полпути. Вдруг небо потемнело. Резкий порыв ветра взметнул в воздух пыль и обрывки дацзыбао. Бабушка закачалась. Я крепко ее держала. Грянул ливень, и в один миг мы промокли до нитки. Укрыться было негде, мы продолжали брести. Облеплявшая тело одежда мешала двигаться. Я почувствовала, что задыхаюсь и мне все тяжелее поддерживать крошечную, худенькую бабушку. Дождь с шумом хлестал по лужам, ветер — по нашим мокрым телам, я вся продрогла. Бабушка зарыдала: «О небо, дай мне умереть! Дай мне умереть!» Мне тоже хотелось плакать, но я только сказала: «Бабушка, скоро мы будем дома...»
Тут я услышала колокольчик. «Эй, хотите подвезу?» Остановилась велосипедная тележка; за рулем сидел молодой парень в расстегнутой рубашке, по лицу его струился дождь. Он слез и перенес бабушку в кузов, где уже лежал свернувшись старик — он поприветствовал нас кивком. Молодой человек сказал, что это его отец, которого он везет домой из больницы. Юноша высадил нас у дверей дома, на мои многословные выражения глубокой благодарности ответил беззаботным «пустяки» и скрылся во тьме под дождем. Из–за смятения, произведенного ливнем, я так и не узнала его имени.
Через два дня бабушка уже была на ногах и хлопотала на кухне, раскатывая тесто для пельменей. Затем взялась за уборку и, как всегда, работала, не давая себе продыху. Я видела, что она переутомляется, просила лечь в постель, но безуспешно.
Наступил июнь. Бабушка твердила, что мне пора уезжать, и настаивала на том, чтобы Цзиньмин тоже отправился со мной в деревню, потому что недавно я сильно болела. Хотя Цзиньмину исполнилось шестнадцать лет, его еще не приписали к коммуне. Я послала сестре телеграмму в Ниннань с просьбой приехать, чтобы ухаживать за бабушкой. Сяохэй, которому тогда было четырнадцать, пообещал, что на него можно положиться, и семилетний Сяофан торжественно поклялся в том же.
Когда я пришла прощаться, бабушка заплакала. Она сказала, что не знает, доведется ли ей еще увидеть меня. Я погладила отощавшую руку с проступившими венами и прижала ее к щеке. Глотая слезы, сказала, что скоро вернусь.
После долгих поисков я наконец нашла грузовик, идущий в Сичан. В середине 1960–х годов Мао велел перевести многие важные заводы (включая тот, где работал друг моей сестры Очкарик) в Сычуань, главным образом в Сичан, где создавалась новая промышленная база. Теория Мао гласила, что сычуаньские горы будут лучшей защитой от американской или советской агрессии. Машины из пяти провинций доставляли на базу необходимые грузы. Через знакомых мы нашли водителя из Пекина, который согласился взять нас — Цзиньмина, Нана, Вэня и меня. Мы сидели в открытом кузове грузовика, потому что кабина предназначалась для второго водителя. Грузовики отправлялись группой и вечерами встречались в определенном месте.
Про этих водителей говорили, что они — как и их собратья во всем мире — с удовольствием берут девочек, но не мальчиков. Поскольку грузовики были практически единственным доступным транспортом, некоторых мальчиков это возмущало. По пути я видела прилепленные к деревьям лозунги: «Решительно выступаем против водителей, которые берут девушек и не берут юношей!» Самые храбрые мальчики становились посреди дороги, чтобы грузовик остановился. Один мальчик из нашей школы не сумел вовремя отпрыгнуть и погиб под колесами.
Находившиеся в привилегированном положении пассажирки иногда рассказывали об изнасилованиях, но гораздо чаще — о любви. Многие из этих поездок заканчивались браками. Водитель грузовика, принимавший участие в сооружении стратегических объектов, пользовался определенными привилегиями, в частности, мог перенести сельскую прописку жены в город, где он жил. Некоторые девушки хватались за эту возможность.
Наши водители были к нам очень добры и вели себя безупречно. Когда мы останавливались на ночь, они, перед тем как уехать в служебное общежитие, помогали нам получить койку в гостинице. К тому же они приглашали нас поужинать с ними, и мы могли бесплатно поесть особой, полагавшейся только им, пищи.
Лишь однажды я почувствовала в их отношении к нам легкий романтический оттенок. Как–то другая пара водителей пригласила нас с Нана проделать с ними следующий отрезок пути. Когда мы сказали об этом нашему водителю, он явно расстроился и ответил с надутым видом: «Ну и пожалуйста, поезжайте с ними, раз они вам больше нравятся». Мы с Нана переглянулись и смущенно пробормотали: «Мы вовсе не говорили, что они нам больше нравятся. Вы все к нам очень добры...» Мы не сели в другой грузовик.
Вэнь присматривал за мной и Нана. Он постоянно напоминал нам об опасности водителей и мужчин вообще, велел остерегаться воров, следить за питанием и не ходить на улицу в темноте. Еще он носил наши сумки и снабжал нас кипятком. Во время обеда он отправлял нас с Цзиньмином и Нана обедать с водителями, а сам оставался в гостинице сторожить наши вещи — кражи в самом деле встречались сплошь и рядом. Мы приносили ему еду.
Сам Вэнь никогда к нам не приставал. В тот жаркий, но приятный вечер, когда мы въехали в Сичан, нам с Нана захотелось искупаться в реке. Вэнь нашел для нас спокойную заводь, где мы купались среди диких уток и шуршащих камышей. Реку заливал свет луны, от ее отражения расходилось множество серебряных кругов. Вэнь неподвижно сел у дороги, повернувшись к нам спиной, и охранял нас. Как многих других молодых людей, в годы перед «культурной революцией» его воспитали в духе рыцарского отношения к прекрасному полу.
Для заселения в гостиницу требовалось предъявить письмо с места работы. Мы с Вэнем и Нана получили письма из наших производственных звеньев в Ниннане, а Цзиньмин — из школы. Гостиницы были дешевы, но мы не могли сорить деньгами, потому что зарплаты наших родителей заметно урезали. Мы с Нана спали на одной кровати в общей комнате; мальчики поступали так же. Гостиницы не блистали чистотой и предлагали крайне ограниченный набор услуг. Перед тем, как лечь в постель, мы с Нана долго осматривали одеяло на предмет вшей и блох. Гостиничные тазы обычно покрывали кольца темно–серой или желтой грязи. Трахома и грибок встречались на каждом шагу, поэтому мы пользовались собственными тазами.
Как–то в двенадцать часов ночи нас разбудил громкий стук в дверь: всем постояльцам требовалось встать и сделать «вечерний доклад» Председателю Мао. Этот фарс был из той же серии, что и «танцы верности». Люди собирались перед статуей или портретом Мао, скандировали изречения из красной книжки и кричали: «Да здравствует Председатель Мао, и еще раз да здравствует Председатель Мао, и еще, и еще раз да здравствует Председатель Мао!», размахивая книжками в такт.
Полусонные, мы с Нана поплелись прочь из нашей комнаты. Остальные обитатели гостиницы появлялись по двое, по трое, терли глаза, застегивали куртки и натягивали задники матерчатых тапок. Никто не смел жаловаться. В пять утра мы должны были вновь пройти через это испытание. Это называлось «утренняя просьба указаний» у Мао. Когда мы отправились в путь, Цзиньмин заметил: «В этом городе глава ревкома явно страдает бессонницей».
Гротескные формы поклонения Мао — декламация, значки с его изображением, размахивание цитатником — были частью нашей жизни уже некоторое время. Однако идолопоклонство распространилось еще больше, когда к концу 1968 года повсеместно учредили ревкомы. Члены комитетов рассудили, что лучшая тактика — не заниматься ничем, кроме разворачивания культа Мао и, разумеется, политических преследований. Однажды в аптеке в Чэнду старый провизор, бесстрастно глядя сквозь очки в серой оправе мимо меня, пробормотал: «Когда мы плывем по морям, нам нужен кормчий...» Повисла многозначительная пауза. Я не сразу сообразила, что должна закончить это предложение — подхалимское высказывание Линь Бяо о Председателе Мао. Незадолго до того такой обмен репликами объявили новой формой приветствия. Мне пришлось пролепетать: «Когда мы делаем революцию, нам нужно учение Мао Цзэдуна».
По всей стране ревкомы водружали статуи Мао. В центре Чэнду планировали поставить гигантское изваяние из белого мрамора. Чтобы расчистить для него место, взорвали чудесные древние дворцовые ворота, на которых я стояла всего несколько лет назад. Белый мрамор из гор Сичана доставляли особые «грузовики верности». Они были украшены, как на параде, красными шелковыми лентами, а спереди — огромным шелковым цветком. Из Чэнду они ехали порожняком, ибо единственной их задачей было привозить мрамор. Грузовики, снабжавшие Сичан, наоборот, возвращались в Чэнду пустыми: они бы осквернили материал, из которого возникнет «тело» Мао.
Попрощавшись с водителем, везшим нас из Чэнду, мы проехали на таком «грузовике верности» последнюю часть пути до Ниннаня. По дороге остановились отдохнуть у мраморного карьера. По обнаженным спинам рабочих струился пот; они пили чай и курили трубки чуть ли не в метр длиной. Один из них сказал, что они не используют никаких машин, потому что только работа голыми руками может выразить их преданность Мао. Я ужаснулась, увидев, что значок с Мао приколот к его голой груди. Когда мы вернулись в грузовик, Цзиньмин предположил, что значок приклеен пластырем. Касательно их работы вручную он сделал следующее наблюдение: «Скорей всего, у них попросту нет никаких машин».
Цзиньмин часто отпускал подобные скептические замечания, неизменно вызывавшие взрыв хохота. Но вообще–то в те дни шутки могли довести до беды. Мао, лицемерно призывавший к «бунту», не хотел настоящих вопросов и сомнений. Способность мыслить стала для меня первым шагом к прозрению. Как и Бин, Цзиньмин помог мне раскрепостить мышление.
Как только мы въехали в Ниннань, находящийся на высоте около 1600 метров над уровнем моря, у меня опять разболелся живот. Все, что я глотала, извергалось наружу, в глазах у меня все ходило ходуном. Но мы не имели права остановиться — требовалось добраться до наших производственных звеньев и изменить прописку до 21 июня. Поскольку звено Нана было ближе, мы решили сперва отправиться туда. Мы целый день пробирались через дикие горы. По ущельям с ревом неслись летние потоки, мосты попадались редко. Вэнь шел впереди и нащупывал дно, а Цзиньмин тащил меня на своей костлявой спине. Часто приходилось пробираться по узким козьим тропам вдоль пропастей глубиной во многие сотни метров. С таких троп, возвращаясь в темноте домой, сорвалось несколько моих школьных друзей. Солнце палило нещадно, у меня стала облезать кожа. Меня мучила неутолимая жажда, я выпила воду из фляжек всех моих спутников. Когда мы добрались до протоки, я бросилась на землю и начала жадными глотками пить прохладную влагу. Нана попыталась меня остановить. Она сказала, что даже крестьяне не пьют такую воду некипяченой, но меня обуяла безумная жажда, я ничего не слушала. Разумеется, закончилось это еще более мучительной рвотой.
Наконец нам попался какой–то дом. Перед ним росло несколько огромных каштанов с величественными раскидистыми кронами. Крестьяне пригласили нас зайти. Я, облизывая потрескавшиеся губы, немедленно отправилась к печи, на которой стояла большая глиняная миска, возможно, с рисовым отваром. В горах он считался восхитительнейшим из напитков. Добрый хозяин нас угостил. Рисовый отвар обычно белый, но этот был черный. С застывшей поверхности сорвался рой жалобно жужжащих мух. Я заглянула в миску и увидела несколько утопленниц. Я всегда крайне брезгливо относилась к мухам, но сейчас взяла миску, отодвинула трупики в сторону и принялась нетерпеливо осушать ее.
В деревню, где жила Нана, мы добрались уже в темноте. На следующий день начальник ее звена с большим удовольствием проштамповал все три письма и таким образом избавился от нее. За последние несколько месяцев крестьяне поняли, что получили не дополнительные руки, а лишние рты. Они не могли выгнать городскую молодежь и радовались, когда дармоеды уходили добровольно.
Состояние здоровья явно не позволяло мне идти в мое собственное звено, поэтому Вэнь в одиночестве отправился добывать нам с сестрой свободу. Нана и ее деревенские подруги ухаживали за мной как могли. Я ела и пила только много раз прокипяченное, но все равно тосковала по бабушке и ее куриному супу. В те дни курица считалась большим деликатесом, и Нана шутила, что мне каким–то образом удалось сочетать бурю в желудке с гурманскими наклонностями. Тем не менее, и она с девочками, и Цзиньмин обошли всю округу в поисках цыпленка. Но местные крестьяне не ели и не продавали курятины — они разводили птицу только ради яиц. Местные утверждали, что так им завещали предки, но знакомые рассказали нам, что куры здесь болеют распространенной в горах проказой, поэтому яиц мы тоже избегали.
Цзиньмин решил во что бы то ни стало сварить мне суп не хуже, чем у бабушки, и использовал свою страсть к изобретательству для практических нужд. На открытой площадке перед домом он соорудил ловушку из большой круглой бамбуковой крышки, подпертой палкой, под крышку насыпал немного зерна, к палке привязал бечевку, другой ее конец взял в руку и спрятался за дверью. В особым образом установленном зеркале отражалось все, что происходило под полуопущенной крышкой. На зерно слетелись воробьи и даже горлинки. Цзиньмин подстерег нужное мгновение и дернул за бечевку. Благодаря его находчивости я смогла отведать чудесного супа из дичи.
Горы позади дома покрывали персиковые рощи; сейчас ветви ломились от спелых плодов. Цзиньмин и девочки каждый день возвращались с полными корзинами персиков. Цзиньмин считал, что мне нельзя есть их сырыми, и варил мне варенье.
Я чувствовала, что меня балуют. Дни напролет я просиживала в зале, любовалась на далекие горы и читала Тургенева и Чехова, которых Цзиньмин взял с собой в поездку. Я прониклась настроением тургеневской прозы и выучила многие отрывки из «Первой любви» наизусть.
Вечером изгибы гор на горизонте сверкали на фоне темного неба, словно огненный дракон. В Сичане климат очень сухой, но никто не следил, соблюдаются ли правила охраны лесов, пожарная служба не работала. В результате горы горели день за днем, путь пламени преграждали только ущелья, иногда его гасили ливни.
Через несколько дней Вэнь возвратился из нашего звена с разрешениями для нас с сестрой. Мы немедленно отправились на поиски чиновника, ведавшего пропиской, хотя я еще не окрепла. Я еле шла, из глаз у меня сыпались искры, но до 21 июня оставалась всего одна неделя.
Когда мы добрались до уездного города Ниннаня, нам показалось, что он на военном положении. В большинстве китайских местностей сражения между группировками уже прекратились, но в захолустных местах многие еще не сложили оружия. Проигравшая партия скрывалась в горах и часто совершала оттуда молниеносные налеты. На каждом шагу встречались охранники, в основном представители народности «и», обитавшей в сичанской глуши. По легенде, они спят не лежа, а сидя на корточках, положив голову на скрещенные руки. Вожди группировок — все ханьцы — поручили им самые опасные занятия: бой в авангарде и охрану. Когда мы искали нужного чиновника во всевозможных уездных учреждениях, нам то и дело приходилось пускаться в долгие объяснения с воинами и, за неимением общего языка, мы прибегали к жестикуляции. Завидев нас, они поднимали винтовки и прицеливались, клали палец на курок и прищуривали левый глаз. У нас душа уходила в пятки, но мы из последних сил напускали на себя беззаботный вид. Нас предупредили, что любое проявление страха они воспримут как доказательство вины и прореагируют соответственно.
В конце концов мы нашли необходимый кабинет, но он пустовал. Потом мы встретили знакомого, который раскрыл нам глаза: оказывается, чиновник прячется от городских юношей и девушек, идущих нескончаемым потоком и требующих, чтобы он решил их проблемы. Знакомый не имел понятия, где скрывается чиновник, но он рассказал нам о кружке «старой городской молодежи», где можно было получить необходимую информацию.
«Старая городская молодежь» приехала в деревню еще до начала «культурной революции». Заваливших экзамены в школу старшей ступени и в университет партия убеждала использовать свое образование на благо «строительства новой прекрасной социалистической деревни». Романтически настроенные молодые люди вняли призыву партии. Но суровые условия жизни в деревне, откуда невозможно было уехать, а также осознание лицемерия режима — дети чиновников, даже потерпев неудачу на экзаменах, никогда не отправлялись в деревню — многих из них превратили в циников.
«Старая городская молодежь» отнеслась к нам очень дружелюбно. Они угостили нас прекрасным обедом из дичи и предложили разыскать чиновника. Двое молодых людей пошли за ним, а мы болтали с остальными на просторной сосновой веранде их дома, перед которой бурлила река под названием Черная вода. На высоких утесах в балетных позах стояли на одной ноге цапли. Их подруги летали вокруг, показывая во всей красе свои белоснежные крылья. Я никогда не видела этих изящных танцовщиц на воле.
Хозяева обратили наше внимание на темную пещеру на другом берегу реки. С ее потолка свисал ржавый бронзовый меч. Добраться туда было невозможно: мимо с бешеным ревом неслась вода. По преданию меч в пещере оставил мудрый первый министр древнего Сычуаньского царства, знаменитый Чжугэ Лян. Он семь раз ходил из Чэнду походом на здешних сичанских варваров. Я хорошо знала эту историю и с восторгом увидела подтверждение ее правдивости. Он семь раз пленял и отпускал на свободу варварского вождя, надеясь завоевать его сердце великодушием. Шесть раз вождь упрямо продолжал свой бунт, но на седьмой раз смирился и добровольно признал власть сычуаньского царя. Мораль этой легенды гласит: чтобы завоевать людей, нужно завоевать их сердца и умы — именно такой стратегии придерживался Мао, да и вообще коммунисты. У меня мелькнула смутная мысль, что именно в этом цель нашего «идейного перевоспитания» — сделать так, чтобы мы выполняли приказы добровольно. Поэтому в пример нам ставили крестьян, самых покорных и не задающих вопросов подданных. Теперь я бы сказала, что лучше всего поведение властей описывалось словами советника президента Никсона, Чарльза Колсона: «Если схватить их за яйца, то сердца и умы последуют в нужном направлении».
Мои размышления прервали хозяева. Они посоветовали намекнуть чиновнику о постах, которые занимают наши отцы. «Он сразу шлепнет вам печать», — заявил один жизнерадостный молодой человек. О нашем семейном происхождении они догадались по репутации школы, где мы учились. Я засомневалась:
— Но все это в прошлом. Наших родителей объявили «попутчиками капитализма».
— Какое это имеет значение? — хором восклинули несколько юношей и девушек. — Твой отец ветеран партии?
— Да, — пробормотала я.
— Высокопоставленный чиновник?
— В общем, да, — пролепетала я. — Но это было до «культурной революции». Теперь...
— Забудь об этом. Его кто–нибудь уволил? Нет? Тогда все в порядке. Ведь совершенно ясно, что мандат партийных работников не истек (В Китае существовало традиционное понятие «небесного мандата», или «воли неба», указующей, кому должна принадлежать власть.). Он подтвердит, — жизнерадостный молодой человек показал на меч первого министра.
В то время я не отдавала себе отчета, что, сознательно или подсознательно, люди отказываются считать структуру личной власти Мао заменой старой коммунистической администрации. Изгнанные чиновники вернутся. А жизнерадостный молодой человек продолжал:
— Ни один здешний чиновник не осмелится обидеть тебя и создать себе проблемы в будущем.
Я подумала об ужасной мести Тинов. Разумеется, люди в Китае всегда будут опасаться власть имущих.
Уходя, я спросила, как тактичней намекнуть чиновнику о положении отца, чем очень всех позабавила.
— Он все равно что крестьянин! Они о таких вещах не задумываются. Он даже не заметит твоей деликатности. Скажи ему прямо: «Мой отец — глава...»
Я отметила их насмешливый тон. Позже я обнаружила, что большинство городских юношей и девушек, и «старых» и «новых», после того, как поселились среди крестьян, прониклись к ним презрением. Мао, очевидно, рассчитывал на противоположную реакцию.
20 июня, после отчаянных многодневных поисков в горах, мы отловили нужного нам чиновника. Я совершенно напрасно репетировала, как сказать ему о положении наших родителей. Он сам спросил меня: «Кем был твой отец до культурной революции?» После многих личных вопросов, заданных скорее из любопытства, чем по необходимости, он вытащил из кармана куртки грязный носовой платок, развернул его и вынул деревянную печать и плоскую жестяную коробочку с подушечкой, пропитанной красными чернилами. Он торжественно приложил печать к подушечке и проштамповал наши письма.
Получив жизненно важную печать, мы еле–еле — менее чем за двадцать четыре часа до истечения срока — успели завершить нашу миссию. Еще требовалось разыскать секретаря, у которого хранились наши регистрационные книжки, но мы знали, что это трудности не составит. Я тут же расслабилась — и у меня снова начались боли в животе и понос.
Я поплелась вслед за спутниками в уездный город. Мы вошли туда в темноте и направились в гостиницу местной администрации, унылое двухэтажное здание, окруженное стеной. За стойкой дежурного никого не было, во дворе тоже. Большинство комнат было заперто, за исключением нескольких дверей наверху.
Я заглянула в один из этих номеров, убедилась, что никого нет, и вошла. Их распахнутого окна открывался вид на поля, простирающиеся за обшарпанной кирпичной стеной. Вдоль другой стороны тоже тянулся ряд комнат. Не было ни души. По личным вещам и недопитой кружке чая я догадалась, что совсем недавно здесь кто–то находился. Но я слишком устала, чтобы размышлять, почему этот человек — как и все остальные — покинул здание. Мне не хватило сил даже чтобы закрыть дверь. Я упала на кровать и тут же заснула одетая.
Меня разбудили крики из громкоговорителя. Скандировались изречения Мао, в частности: «Если враг не сдается, его уничтожают!» Сон слетел с меня в мгновение ока. Я поняла, что здание берут штурмом.
Тут же совсем рядом засвистели пули, зазвенели стекла. В рупор заорали, чтобы такая–то организация цзаофаней сдалась, в противном случае здание будет взорвано.
Ко мне ворвался Цзиньмин. В противоположные комнаты, выходящие на ворота, вбежало несколько вооруженных бойцов в ротанговых шлемах. Один из них, маленький мальчик, тащил на плече винтовку длиннее, чем он сам. Не говоря ни слова, они засели у окон, разбили прикладами стекла и открыли огонь. Человек, бывший, по видимости, их командиром, торопливо рассказал нам, что здание — штаб его группировки, на которую теперь напала оппозиция. Нам нужно как можно быстрее сматывать удочки. Но как? Только не по лестнице, выходящей на передний двор.
Мы сорвали с кровати простыни и пододеяльники и связали их друг с другом. Один конец привязали к оконной раме и спустились по ней со второго этажа. Вокруг нас твердую землю взрывали пули. Мы пригнулись и побежали за обвалившуюся стену. Выскочив со двора, мы еще долго мчались, не разбирая дороги, пока не почувствовали себя в относительной безопасности. Из темноты постепенно появлялись бледные очертания неба и кукурузных полей. Мы отправились к другу в соседнюю коммуну перевести дух и сообразить, что делать дальше. По дороге мы слышали, как крестьяне говорят, что гостиницу взорвали.
В доме друга нас ждала записка. Как только мы ушли из деревни Нана разыскивать чиновника, пришла телеграмма из Чэнду, от моей сестры. Так как никто не знал, где я, друзья распечатали ее и сообщили новость всем в округе, чтобы любой из знакомых мог мне ее передать.
Так я узнала, что бабушка умерла.
23. «Чем больше книг читаешь, тем больше глупеешь»: Я становлюсь крестьянкой и «босоногим врачом» (июнь 1969–1971)
Мы с Цзиньмином сидели на берегу реки Золотого песка (Цзиньшацзян) и ждали парома. Обхватив голову руками, я смотрела на буйный поток, несущийся из Гималаев в далекое море. Через 480 километров, соединившись у Ибиня с Миньцзяном, он превращался в самую длинную китайскую реку — Янцзы. Ближе к концу своего пути широкая Янцзы прихотливо извивается по равнине, орошая обширные пахотные земли. Но здесь, в горах, она течет так стремительно, что через нее не решались перекинуть мост. На востоке провинции Сычуань и Юньнань связывались лишь паромами. Каждое лето, когда река разливалась и бурлила от растаявших снегов, она уносила человеческие жизни. Всего несколько дней назад она поглотила паром с тремя учениками нашей школы.
Землю окутывали сумерки. Я чувствовала себя разбитой. Цзиньмин расстелил на земле куртку, чтобы я не сидела на сырой траве. Мы собирались переплыть на другой берег, в провинцию Юньнань, и поймать попутку до Чэнду. На дорогах, проходящих через Сичан, воевали группировки цзаофаней, поэтому мы решили сделать крюк. Нана и Вэнь предложили довезти до Чэнду наши с сестрой регистрационные книжки и багаж.
Двенадцать могучих гребцов вели паром против течения и пели в такт работе. Когда мы доплыли до середины реки, они оставили весла, и поток отнес паром на юньнаньский берег. Несколько раз через борт перехлестывали волны. Судно беспомощно накренилось, я крепко схватилась за край скамьи. В другое время я пришла бы в ужас, но сейчас была всецело поглощена другим чувством — скорбью по бабушке.
На баскетбольной площадке Цяоцзя, города на другом берегу реки, в Юньнани, стоял одинокий грузовик. Водитель охотно согласился подвезти нас в кузове. У меня в голове все время крутился вопрос: что я могла сделать, чтобы спасти бабушку? Мимо нас мелькали банановые рощи, за ними виднелись глинобитные хижины, а еще дальше — увенчанные снежными шапками горы. Глядя на огромные листья бананов, я вспоминала бесплодное банановое деревце в кадке у дверей бабушкиной палаты. Когда ко мне приезжал Бин, мы сидели рядом с кадкой и болтали до поздней ночи. Бабушка не любила его за циничную ухмылку и раскованность в общении со взрослыми, которую она воспринимала как неуважение. Дважды она, пошатываясь, спускалась по лестнице, чтобы позвать меня обратно. Я ненавидела себя за то, что заставляю ее волноваться, но ничего не могла поделать. Я не могла побороть в себе желание видеть Бина. Как я теперь хотела бы начать все с начала! Я ни за что не стала бы ее волновать. Теперь я готова была на все, лишь бы она поправилась — но тогда не знала, чем ей помочь.
Мы проехали через Ибинь. Дорога огибала Холм изумрудной ширмы на окраине города. Любуясь на стройные сосны и бамбуковые рощи, я вспоминала, как в апреле только что вернулась на Метеоритную улицу из Ибиня. Я рассказала бабушке, как солнечным весенним днем ходила подметать могилу доктора Ся, располагавшуюся на склоне этого холма. Тетя Цзюньин дала мне немного специальных, сделанных из бумаги, «серебряных монет», чтобы сжечь их на могиле. Бог знает, откуда она взяла этот «пережиток феодализма». Я искала много часов, но так и не нашла могилы. Весь холм перевернули вверх дном. Хунвэйбины сровняли кладбище с землей и разбили памятники, потому что считали захоронение «старым» обычаем. Я никогда не забуду надежды, загоревшейся в бабушкиных глазах, когда я заговорила о своем походе на кладбище, и как эта надежда померкла, едва я, по глупости своей, сказала, что могила пропала. С тех пор я постоянно вспоминала разочарованный бабушкин взгляд и жестоко корила себя, что не солгала ей. Но было слишком поздно.
Когда мы с Цзиньмином, проведя в дороге больше недели, добрались до дома, то увидели только пустую кровать. Я вспомнила, как обессиленная бабушка со впалыми щеками, с распущенными, но аккуратно причесанными волосами лежала на ней, кусая губы. Она боролась со смертельным недугом молча, спокойно: не кричала, не металась от боли. Ее выдержка не давала мне осознать, как тяжела болезнь.
Маму продолжали держать в заключении. То, что Сяохэй и Сяохун рассказали о последних днях бабушки, было так ужасно, что я попросила их замолчать. Только через долгие годы я узнала, что произошло после моего отъезда. Бабушка понемногу занималась домашним хозяйством, но то и дело возвращалась в кровать и лежала с напряженным лицом, борясь с болью. Она постоянно шептала, что беспокоится, как я добралась до места, и боится за моих младших братьев. «Кем вырастут мальчики без школы?» — вздыхала она.
Однажды она не смогла встать с кровати. Вызвать врача на дом было невозможно, и парень моей сестры, Очкарик, отнес ее в больницу на спине. Сестра шла рядом, придерживая бабушку. После нескольких таких визитов доктора попросили их больше не приходить. Они сказали, что не видят у нее никакой болезни и ничем не могут помочь.
Она лежала в постели и ждала смерти. Жизнь уходила из нее по капле. Губы временами шевелились, но ни сестра, ни братья ничего не могли разобрать. Много раз они ходили туда, где сидела под арестом мама, и умоляли отпустить ее домой. Но возвращались ни с чем, не получив даже свидания.
Казалось, все бабушкино тело умерло. Но глаза оставались открытыми и смотрели выжидательно. Она отказывалась их закрыть, не повидав дочь.
Наконец маму отпустили. В течение последующих двух дней она не отходила от постели бабушки, которая все время шептала ей что–то. Последние ее слова были о том, когда ее начали мучить боли.
Она сказала, что соседи, входившие в группу товарища Шао, провели против нее во дворе «митинг борьбы». Квитанцию на драгоценности, пожертвованные ею в годы войны в Корее, конфисковали какие–то хунвэйбины, явившиеся с обыском. Они назвали бабушку «вонючей представительницей эксплуататорского класса» — откуда бы иначе взялись все эти драгоценности? Потом поставили ее на маленький столик. Земля была неровная, столик покачивался, голова кружилась. Соседи кричали. Женщина, обвинявшая Сяофана в изнасиловании своей дочери, от злости ударила по одной из ножек столика палкой. Потеряв равновесие, бабушка упала спиной на твердую землю. С того времени ее не отпускала страшная боль.
На самом деле никакого «митинга борьбы» не было. Но именно это видение преследовало бабушку до последнего вздоха.
На третий день после маминого возвращения она умерла. Через два дня, сразу после того, как бабушку кремировали, маме пришлось вернуться в заточение.
С той поры мне часто снится бабушка, и я просыпаюсь в слезах. Она была незаурядной личностью — энергичной, талантливой, замечательно умной. Но ее способности не нашли применения. Дочь тщеславного полицейского из маленького городка, наложница генерала, мачеха в большой семье, раздираемой враждой, мать и теща двух чиновников–коммунистов — ничто из этого не принесло ей счастья. Жизнь с доктором Ся была омрачена тенью прошлого, они с мужем страдали от бедности, пережили японскую оккупацию, гражданскую войну. Она могла бы обрести счастье во внуках, но слишком тревожилась за их будущее. Большую часть жизни она провела в страхе и много раз лицом к лицу встречалась со смертью. Она была сильной, но в конце концов несчастья, обрушившиеся на моих родителей, беспокойство за внуков, грязная пена человеческой вражды — все это сломило ее. Самым невыносимым для нее оказались страдания дочери. Душой и телом ощущала она каждый укол боли, причиняемой маме, и умерла, в сущности, от горя.
Конечно, были и другие, более простые причины: отсутствие медицинской помощи и дочернего ухода; даже смертельно заболев, она не могла видеться с дочкой. И все из–за «культурной революции». Как может революция быть благом, спрашивала я себя, если она приносит невинным людям столько зла? Я говорила себе вновь и вновь, что ненавижу «культурную революцию», но мне становилось только хуже оттого, что я ничего не могла поделать.
Я упрекала себя за то, что не ухаживала за бабушкой по–настоящему. Как раз когда она лежала в больнице, я познакомилась с Бином и Вэнем; дружба с ними и отвлекла, и отдалила меня от бабушки, чувства притупились — я не понимала меры ее страданий. Я сказала себе, что стыдно было испытывать радость, когда рядом, как мне стало понятно теперь, бабушка лежала на смертном одре. Я решила никогда не влюбляться. Только самоотречением, думала я, можно хоть отчасти искупить вину.
Следующие два месяца я провела в Чэнду вместе с подругой Нана и сестрой, отчаянно пытаясь где–нибудь поблизости найти «родственника», который согласился бы взять нас к себе в коммуну. Найти его нужно было, прежде чем уберут осенний урожай, когда распределялись пайки, чтобы получить запасы на следующий год — государственное довольствие кончалось в январе.
Когда ко мне пришел Бин, я была очень холодна с ним и просила больше не появляться. Он писал, но я бросала письма в печку не вскрывая — жест, заимствованный мною из русских романов. Вэнь приехал из Ниннаня с моей регистрационной книжкой и багажом, но я отказалась повидаться. Однажды встретив его на улице, я скользнула по нему взглядом, словно не узнавая, и прочла в его глазах смущение и обиду.
Вэнь вернулся в Ниннань. Летом 1970 года рядом с деревней, где он тогда находился, начался лесной пожар. Они с другом бросились тушить его, вооружившись метлами. Порыв ветра бросил в лицо другу огненный шар, изуродовав его на всю жизнь. Оба они бежали из Ниннаня в Лаос, где шла партизанская война. В то время многие дети крупных чиновников перебирались тайно в Лаос и Вьетнам, чтобы сражаться с американцами, — вопреки правительственному запрету. Эти молодые люди верили, что могут вернуть себе юношеский адреналин, воюя с «американскими империалистами».
Однажды, вскоре после того как они пробрались в Лаос, Вэнь услышал сирену, предупреждавшую о нападении американских самолетов. Он первый выскочил и разрядил в них очередь, но, по неопытности, наступил на мину, поставленную его же собственными товарищами. Его разнесло в клочья. Мое последнее воспоминание о нем — смущенный и раненый взгляд на углу грязной чэндуской улицы.
Нашу семью разлучили. 17 октября 1969 года Линь Бяо объявил в стране военное положение под предлогом произошедших в этом году стычек на границе с Советским Союзом. Он «эвакуировал» из столицы своих армейских врагов и опальных вождей и поместил их под домашний арест или в тюрьмы в различных частях Китая. Ревкомы воспользовались этой возможностью, чтобы ускорить депортацию «неблагонадежных». Пятьсот работников маминой администрации восточного района выслали в сичанскую глушь, на равнину Волопаса. Маму отпустили из заключения на десять дней, чтобы она подготовилась к поездке. Она посадила Сяохэя и Сяофана на ибиньский поезд. Хотя тетя Цзюньин была наполовину парализована, были другие дядюшки и тетушки, чтобы за ними присмотреть. Цзиньмина школа послала в коммуну в восьмидесяти километрах к северо–востоку от Чэнду.
Тем временем мы с сестрой и Нана, наконец, нашли готовую взять нас коммуну в уезде Дэян, неподалеку от деревни Цзиньмина. Очкарик, парень моей сестры, попросил товарища по заводу, родом из этого уезда, сказать, что мы его родственники. Некоторым коммунам в этом районе не хватало рабочих рук. Хотя мы не предъявили никаких доказательств родства, никто не задавал вопросов. Значение имело только то, что мы можем — или якобы можем — работать.
Нас распределили в два рабочих звена, потому что более двух человек одно звено принять не могло. Мы с Нана оказались в одном звене, а сестра в другом, в пяти километрах от нас. До железнодорожной станции нужно было идти пять часов, в основном по узеньким тропкам между рисовыми полями.
Теперь семь членов нашей семьи жили в шести разных местах. Сяохэй с радостью уехал из Чэнду, от бойкота и издевательств. В новом учебнике китайского языка, составленном учителями и работниками агитотряда его школы, содержалось именное обличение нашего отца.
В начале лета 1969 года их школу послали в деревню под Чэнду помогать собирать урожай. Мальчики и девочки жили раздельно, в двух больших залах. Звездными вечерами по тропинкам между полями прогуливались парочки. Мой четырнадцатилетний брат тоже влюбился в девочку из своей группы. Несколько дней он сбирался с мужеством и наконец, когда они жали пшеницу, подошел к ней и робко пригласил на вечернюю прогулку. Девочка кивнула и ничего не ответила. Сяохэй подумал, что это знак «молчаливого согласия», мо–сюй.
Опершись на стог сена, он предавался всем мукам и надеждам первой любви, как вдруг услышал свист. Появились мальчишки из его класса. Они стали толкать и обзывать его, а потом устроили ему «темную». Он вырвался, доковылял до двери учителя и позвал на помощь. Учитель открыл, но оттолкнул его и сказал: «Я не могу тебе помочь! Не смей возвращаться!»
Сяохэй боялся идти обратно в лагерь, всю ночь он прятался в стогу. Он догадался, что хулиганов позвала «возлюбленная»: ее оскорбило, что за ней дерзнул ухаживать сын «контрреволюционера — попутчика капитализма».
Когда они вернулись в Чэнду, Сяохэй обратился за помощью в свою уличную банду. Они появились в его школе, поигрывая мускулами, с громадным волкодавом, и выволокли главного обидчика из класса. Он побелел как мел и весь дрожал. Не успела банда взяться за него, как Сяохэя охватила жалость, и он попросил «кормчего» отпустить мальчика.
Жалость в Китае стала чуждым понятием и расценивалась как проявление глупости. Над Сяохэем начали издеваться еще сильнее. Он опять попытался позвать на помощь банду, но там ему сказали, что не будут помогать «креветке».
Сяохэй боялся, что в ибиньской школе его тоже будут задирать. К его изумлению, его приняли тепло, даже сердечно. Учителя, работники руководившего школой агитотряда, дети — все слышали об отце и говорили о нем с открытым восхищением. Сяохэй сразу приобрел определенный престиж. С ним согласилась дружить самая красивая девочка в школе. Даже отпетые хулиганы относились к нему с уважением. Отца в Ибине почитали, хотя все знали, что он в опале, и у власти стояли Тины. При Тинах жители Ибиня ужасно пострадали. Тысячи погибли или получили увечья в ходе боев между группировками или во время пыток. Один из друзей нашей семьи остался в живых только потому, что дети, пришедшие за его телом в морг, обнаружили, что он еще дышит.
Ибиньцы тосковали по мирным дням, по чиновникам, не злоупотребляющим властью, по правительству, которое поставит хозяйство на ноги. В центре этой ностальгии было начало 1950–х, когда губернатором был наш отец. Именно тогда коммунисты находились на вершине популярности — они только что изгнали Гоминьдан, прекратили голод, установили закон и порядок, но еще не начали бесконечные политические кампании (и не устроили под руководством
Мао свой собственный голод). В народной памяти отец связывался со старыми добрыми временами. В нем видели легендарного хорошего чиновника, полную противоположность Тинам.
Благодаря отцу Сяохэю хорошо жилось в Ибине, хотя в школе его почти ничему не учили. Учебные материалы по–прежнему состояли из трудов Мао и газетных статей. Ученики никого не слушали — Мао так и не взял обратно слова о вреде учебных заведений.
Учителя и работники агитотряда попытались навести в классе дисциплину с помощью Сяохэя. Но здесь не сработала даже репутация нашего отца, некоторые мальчики обозвали Сяохэя «прислужником учителей». Поползли сплетни, что он обнимал свою подругу под фонарным столбом — «буржуазное преступление». Сяохэя лишили привилегий и велели написать «самокритику» и пообещать пройти «идейное перевоспитание». В один прекрасный день явилась мать его возлюбленной, потребовала, чтобы врач проверил, не лишилась ли ее дочь девичьей чести, и с большим скандалом забрала ее из школы.
У Сяохэя в классе был близкий друг, семнадцатилетний мальчик, пользовавшийся уважением, несмотря на то, что его мать никогда не была замужем, но имела пятерых детей от разных и неизвестных отцов. В китайском обществе «незаконнорожденные» клеймились позором, хотя само это понятие официально отменили. Теперь во время очередной охоты на ведьм ее публично опозорили, окрестив «дурным элементом». Мальчик очень стыдился матери и по секрету сказал Сяохэю, что ненавидит ее. Однажды в школе вручали приз лучшему пловцу (потому что Мао любил плавание), и ученики школы единодушно выдвинули друга Сяохэя; но награду дали не ему. Одна молодая учительница возразила: «Мы не можем его наградить: его мать — «разношенная туфля»».
Когда мальчик услышал об этом, он схватил кухонный тесак и помчался в учительскую. Его остановили, а учительница убежала и спряталась. Сяохэй знал, как больно этот случай уязвил его друга: школьники в первый раз видели, как он плачет. В ту ночь Сяохэй с другими мальчиками утешали его. На следующий день он пропал. Его тело вынесло на берег реки Золотого песка. Перед тем, как броситься в воду, он связал себе руки.
«Культурная революция» не только ничего не сделала для упразднения средневековых элементов китайской культуры — она еще и придавала им политическую респектабельность. Современная диктатура и древняя нетерпимость подпитывали друг друга. Всякий нарушитель вековых установлений мог стать жертвой политических преследований.
Мою новую коммуну в Дэяне окружали низкие холмы, покрытые кустарниками и эвкалиптовыми деревьями. Земли в основном были хорошие, в год собирали два урожая–риса и пшеницы. В изобилии произрастали овощи, рапс и сладкий картофель. После Ниннаня главным облегчением для меня было то, что отпала необходимость постоянно карабкаться по горам, мне нормально дышалось, я больше не хватала ртом воздух. Меня не смущало, что ходить здесь нужно было по узеньким глинистым тропкам между полями. Я часто падала на спину, и иногда, пытаясь за что–нибудь ухватиться, сталкивала впереди идущего — как правило, Нана, — прямо в поле. Не боялась я и другой опасности ночных прогулок — укусов собак, среди которых было немало бешеных.
В первое время после приезда мы жили в свинарнике. Ночью засыпали под симфонию хрюканья свиней, зудения комаров и собачьего лая. В комнате постоянно воняло свиным навозом и курением от насекомых. Потом производственное звено построило нам с Нана двухкомнатную хижину на участке, откуда добывали глину для кирпичей. Уровень земли здесь был ниже, чем рисовое поле, лежавшее по другую сторону тропинки, поэтому летом и зимой, когда поля заливало водой, или после сильного дождя из глинобитного пола сочилась болотная влага. Мы с Нана разувались, подворачивали штанины и заходили в дом, как в реку. К счастью, у нашей двуспальной кровати были высокие ножки, поэтому мы спали на полметра выше грязной воды. В постель укладывались так: ставили на табуретку таз с чистой водой, забирались на нее и мыли ноги. От этой мокрой жизни у меня постоянно ныли кости и мышцы.
У хижины имелась и забавная сторона. Когда паводок сходил, под кроватью и по углам комнаты прорастали грибы и пол превращался в сказочную поляну. Однажды я просыпала ложку гороха. После того, как на полу побывала вода, показались тонкие стебли с нежными лепестками, словно только проснувшимися навстречу солнечным лучам, струящимся сквозь обрамленное деревом отверстие в стене — наше окно.
Природа вокруг завораживала. У нашей двери лежал деревенский пруд, заросший кувшинками и лотосами. Тропа от хижины вела к проходу через стометровый холм. За ним среди черных утесов заходило солнце. Перед сумерками на поля у подножия холмов опускался серебристый туман. В вечерней дымке с работы возвращались мужчины, женщины и дети, с корзинами, мотыгами и серпами; вокруг них с тявканьем носились собаки. Они словно плыли между облаков. Из крытых соломой хижин струился дым. У каменного колодца скрипели деревянные бочки — люди доставали воду для ужина. Из бамбуковых рощ слышались громкие голоса. Мужчины сидели на корточках и курили тонкие длинные трубки. Женщины так не поступали: это считалось неприличным, и никто в «революционном» Китае не собирался думать иначе.
Именно в Дэяне я узнала, как на самом деле живут китайские крестьяне. Каждое утро бригадир звена раздавал поручения. Все крестьяне работали и зарабатывали определенное число «трудовых очков» (гун–фэнь) в день. Общее число очков играло важную роль в годовом распределении урожая. Крестьяне получали от звена продукты, топливо и другие предметы первой необходимости, а также немного денег. После сбора урожая часть его звено отдавало государству в качестве налога. Остальное делилось. Сначала выделялась базовая доля мужчинам; женщины получали на четверть меньше. Детям младше трех лет полагалась половина. Поскольку ребенок, которому только исполнилось три года, явно ел меньше, чем взрослый, желательно было народить побольше детей. Система шла в разрез с планированием рождаемости.
Остаток урожая распределялся в соответствии с количеством очков, заработанных каждым. Дважды в год крестьяне собирались, чтобы утвердить общее число очков. Этих собраний никто не пропускал. В итоге молодые и среднего возраста мужчины как правило получали десять очков в день, женщины — восемь. Одна–две, про которых вся деревня знала, что они особенно сильные, получали на очко больше. «Классовым врагам», например, бывшему помещику и его семье, присваивали на два очка меньше, хотя они трудились не хуже односельчан и вдобавок на самых тяжелых работах. На нас с Нана, неопытных представительниц «городской молодежи», записывали по четыре очка — как детям чуть старше десяти лет. Нам сказали, что это «для начала», хотя больше мне так и не дали.
Так как люди одного пола получали примерно одинаковое число очков в день, общее число очков зависело не от качества работы, а от числа рабочих дней. Это раздражало крестьян — и, разумеется, резко снижало производительность труда. Они зорко следили, как работают другие — никто не хотел, чтобы его обвели вокруг пальца. Никто не желал вкалывать больше, чем те, кто получал одинаковое с ним число очков. Женщины считали несправедливым, что мужчины получают на два очка больше, нередко за ту же самую работу. Не прекращались споры.
Мы часто делали за десять часов то, что можно было бы сделать за пять. Но чтобы нам засчитали полный трудодень, следовало провести в поле десять. Мы работали медленно, я нетерпеливо глядела на солнце в ожидании, когда же оно сядет, и считала минуты до свистка, означавшего конец работы. Скоро я поняла, что от скуки устаешь так же, как от непосильного труда.
Здесь, как и в Ниннане, как и практически во всей остальной Сычуани, не было никаких машин. Хозяйство велось почти теми же методами, что и две тысячи лет назад, разве что использовались химические удобрения, которые звено получало от государства в обмен на зерно. Не было и гужевого скота, за исключением водяных буйволов, на которых пахали. Все прочее — воду, навоз, топливо, овощи, зерно — носили на коромыслах в бамбуковых корзинах или деревянных бочках. Труднее всего мне было таскать грузы. У меня постоянно болело и опухало от ведер с водой правое плечо. Каждый раз, когда ко мне являлся один из увлеченных мной молодых людей, я демонстрировала такую беспомощность, что все они обязательно предлагали наполнить мне водой бак, а также кувшины, тазы и даже чашки.
Бригадир разумно перестал давать поручения, связанные с перетаскиванием тяжестей, и посылал меня на «легкие» работы с детьми, пожилыми женщинами и беременными. Мне они не всегда казались легкими. Вскоре от разбрасывания навоза у меня заныли руки, не говоря уже о том, что меня переворачивало при виде плавающих в нем жирных личинок. Море ослепительно белого хлопка пленяло взор, но я быстро осознала, как тяжело его собирать в тридцатиградусную жару под безжалостным солнцем: я задыхалась от влажности, царапалась о вездесущие колючие стебли.
Мне больше нравилось пересаживать рисовые ростки. Эта работа считалась тяжелой, потому что требовалось много нагибаться. Часто в конце дня даже самые крепкие мужчины жаловались, что не могут распрямиться. Но мне нравилось в невыносимый зной стоять в прохладной воде, любоваться на ровные ряды нежной зелени и ощущать босыми ногами мягкую землю. Волновали меня только пиявки. Однажды что–то защекотало мне ногу. Я вынула ее из воды и увидела деловито присасывающуюся жирную скользкую тварь. Я завизжала. Крестьянская девочка рядом со мной захихикала. Моя брезгливость показалась ей смешной. Она все–таки подошла и хлопнула меня по ноге прямо над местом, где висела пиявка. Та плюхнулась в воду.
Зимой по утрам за два часа до завтрака я вместе со «слабыми» женщинами лезла на холмы за дровами. Деревьев почти не было, даже кусты приходилось выискивать. Мы срезали хворост серпом, придерживая растения свободной рукой. Шипы кустарника впивались мне в ладонь и запястье. Поначалу я долго их выковыривала, но постепенно привыкла к тому, что они выйдут сами, когда места уколов воспалятся.
Хворост, который мы собирали, крестьяне называли «перьевой растопкой». Толку от нее не было почти никакого. Как–то я выразила сожаление, что нет настоящих деревьев. Женщины рассказали, что так было не всегда. До «Большого» скачка холмы покрывали сосны, эвкалипты и кипарисы. Все они пошли в «дворовые печи», на плавку стали. Женщины говорили об этом спокойно, никого не обвиняя, словно не из–за этого им приходилось сражаться за каждую вязанку хвороста. Они видели в этом лишь очередную трудность, подброшенную им жизнью. Я впервые лицом к лицу столкнулась с ужасными последствиями «Большого скачка», ранее известного мне только как «славный успех».
Узнала я и многое другое. Крестьян созвали на собрание «вспоминаем горечь», где они описывали, как страдали при Гоминьдане; главной целью этого мероприятия было вызвать благодарность к Мао, особенно у молодого поколения. Крестьяне говорили, как голодали в детстве и жаловались, что их собственные избалованные дети часто не доедают то, что им дают.
Затем они переключились на воспоминания о конкретном голоде. Они рассказывали, как ели ботву сладкого картофеля и разрывали бортики между полями в надежде найти коренья. Тогда в деревне многие умерли. Я расплакалась. После слов о ненависти к Гоминьдану и любви к Председателю Мао крестьяне упомянули, что голод случился «во время создания коммун». Вдруг до меня дошло, что это было уже при коммунистах. Они перепутали режимы. Я спросила: «Наверно, это произошло из–за природных бедствий?» — «Вовсе нет, — ответили они. — Погода стояла самая подходящая. Поля дали богатый урожай. Но этот человек — они показали на угодливо держащегося сорокалетнего крестьянина, — отправил мужчин плавить сталь, и половина урожая пропала в поле. Он сказал нам: неважно, мы в коммунистическом раю и можем не заботиться о пропитании. Раньше мы всегда ограничивали себя, а теперь наедались в столовой коммуны до отвала. Мы выбрасывали остатки, даже скармливали драгоценный рис свиньям. Потом еда в столовой закончилась, но он поставил у склада сторожей. Остальное зерно отправляли в Пекин и в Шанхай — там были иностранцы».
Постепенно картина прояснилась. Угодливый крестьянин во время «Большого скачка» возглавлял производственное звено. Они с дружками разбили все котлы и печки, чтобы деревенские ели в столовой, а утварь отправили на переплавку. В своих докладах он сильно завышал урожаи, в итоге последние остатки зерна уходили на соответственно возросший налог. Люди умирали десятками. После голода его обвинили во всех бедах. Коммуна разрешила деревне проголосовать за снятие его с должности и, кроме того, объявила его «классовым врагом».
Подобно большинству классовых врагов его не посадили в тюрьму, а отправили «под надзор» односельчан. Так Мао поступал часто: держал «врагов» среди народа, чтобы всегда было кого ненавидеть. С началом любой кампании этот крестьянин оказывался в числе «первых подозреваемых». Его всегда отправляли на самую тяжелую работу, за которую давали только семь очков в день, на три меньше, чем большинству других мужчин. Я никогда не видела, чтобы с ним разговаривали. Несколько раз я замечала, как деревенские дети бросают в его сыновей камни.
Крестьяне благодарили Председателя Мао, покаравшего их обидчика. Его вина, степень его ответственности ни у кого не вызывала сомнений. Я подошла к нему наедине и попросила рассказать свою историю.
Мой приход, очевидно, глубоко растрогал его. «Я выполнял приказы, — повторял он. — Я должен был выполнять приказы... — Потом вздохнул: — Конечно, я не хотел потерять должность. На мое место пришел бы кто–нибудь другой. И что сталось бы со мной и детьми? Мы бы наверняка умерли с голода. Бригадир звена — человек маленький, но, по крайней мере, он может умереть последним в деревне».
Его слова и рассказы крестьян потрясли меня до глубины души. Я впервые узнала об уродливой стороне жизни в коммунистическом Китае до «культурной революции». Картина резко отличалась от жизнерадостной официальной пропаганды. Среди полей и холмов Дэяна мои сомнения относительно коммунистической власти углубились.
Я иногда задумываюсь, понимал ли Мао, что делает, когда давал живущей в коконе городской молодежи столкнуться с настоящей жизнью. Но он ведь ни на минуту не предполагал, что сколько–нибудь значительная часть населения сможет сделать логические выводы из доступной ей обрывочной информации. Да и я в возрасте восемнадцати лет была способна лишь на смутные сомнения, но не на сознательную критику режима. Как бы я ни ненавидела «культурную революцию», мне и в голову не приходило обвинить в чем–то Мао.
В Дэяне, так же как и в Ниннане, мало кто из крестьян мог прочитать простейшую газетную статью или написать самое примитивное письмо. Многие не умели даже писать своего имени. Ранние попытки коммунистов искоренить неграмотность уступили место непрерывной охоте на ведьм. Когда–то в деревне была начальная школа, содержавшаяся на деньги коммуны, но в начале «культурной революции» дети издевались над учителем, как хотели. Они надели ему на голову несколько тяжелых чугунных котлов, вымазали лицо сажей и в таком виде водили по деревне. Однажды они чуть не проломили ему череп. С тех пор желающих стать учителем не находилось.
Большинство крестьян прекрасно обходились без школы. «Какой в ней смысл? — спрашивали они. — Многие годы платишь, читаешь книжки, а после всего этого все равно остаешься крестьянином, обливаешься потом ради миски с рисом. Если ты умеешь читать, больше риса тебе не дадут. Зачем выбрасывать время и деньги? Лучше сразу зарабатывать трудовые очки». Отсутствие надежды на лучшее будущее и привязанность крестьян к месту жительства лишали жажду знаний всякого практического смысла. Дети школьного возраста помогали семье по дому или сидели с младшими братьями и сестрами. С одиннадцати–двенадцати лет они выходили в поле. Обучение девочек крестьяне считали тем более бессмысленным. «Они уходят в семью мужа. Это все равно, что лить воду на землю».
«Культурную революцию» славили за то, что она принесла крестьянам образование благодаря «вечерним занятиям». Однажды наше звено объявило, что тоже устраивает вечерние занятия, и пригласило нас с Нана в учительницы. Я очень обрадовалась. Однако на первом же занятии поняла, что к образованию оно ни малейшего отношения не имеет.
Каждое занятие звеньевой бригадир просил нас с Нана зачитать статью Мао или что–нибудь еще из «Жэньминь жибао». Потом он разражался часовой речью, состоящей из непереваренных и слепленных в бессмысленные сочетания выражений новейшего политического жаргона. Он регулярно давал какие–нибудь указания, все от имени Мао. «Председатель Мао велит нам есть дважды в день рисовую кашу и только один раз в день твердый рис». «Председатель Мао не велит нам кормить сладким картофелем свиней».
После тяжелой работы в поле крестьяне думали только о домашнем хозяйстве. Им было жалко терять вечер, но никто не осмеливался не явиться на «занятие». Они сидели–сидели и в конце концов засыпали. Я ничуть не огорчилась, когда это «обучение», предназначенное для оболванивания, а не просвещения, постепенно сошло на нет.
Без образования кругозор крестьян был страшно узок. Их разговор обычно сосредотачивался на мельчайших деталях повседневной жизни. Одна женщина могла целое утро жаловаться, что ее золовка приготовила завтрак на десяти связках «перьевой растопки», хотя могла бы обойтись девятью (топливо, как и все остальное, было общим). Другая могла часами ворчать, что ее свекровь положила в рис слишком много батата (рис считался ценнее и вкуснее). Я знала, что они не виноваты в своей ограниченности, и все же не могла заставить себя с ними общаться.
Разумеется, сплетничали о сексе. В соседнюю со мной деревню из уездного города Дэяна сослали двадцатилетнюю женщину по имени Мэй. Она, по слухам, спала со многими городскими молодыми людьми, а также с крестьянами. То и дело кто–нибудь в поле рассказывал о ней сальную историю. Говорили, будто она беременна и утягивает талию, чтобы это не было заметно. Желая доказать, что она не носит в чреве «выродка», Мэй специально делала все, что не полагалось делать женщине на сносях, например, таскала тяжести. Потом в кустах у ручья нашли мертвого младенца. Люди заявили, что мать она. Никто не знал, родился ли он мертвым. Бригадир звена приказал вырыть яму и похоронил младенца. Вот и всё, не считая, конечно, сплетен, которые стали еще злее.
Вся эта история привела меня в содрогание, но она отнюдь не была единственной. Рядом со мной жили четыре сестры — темнокожие большеглазые красавицы. Но крестьянам они не казались привлекательными. Слишком темные, говорили они. Главным показателем красоты в китайской деревне считалась бледность. Когда старшей дочери пришла пора выходить замуж, отец решил взять зятя в дом. Так он одним махом сохранял за семьей дочкины трудодни и получал дополнительную пару рабочих рук. Обычно женщина уходила жить в семью мужа, для мужчины идти жить в семью жены значило подвергнуться страшному унижению. Однако наш сосед в конце концов нашел парня из очень бедного горного района, которому во что бы то ни стало хотелось оттуда вырваться — и единственным способом сделать это являлась женитьба. Таким образом, статус у него был крайне низкий. Я часто слышала, как тесть на него орет, оскорбляет его. Чтобы помучить зятя, он, когда ему в голову приходила такая фантазия, велел дочери спать отдельно. Она не решалась отказать, потому что «дочерняя почтительность», глубоко укорененная в конфуцианской этике, предписывала повиноваться родителям. Кроме того, ей не хотелось, чтобы люди думали, будто ей хочется спать с мужчиной, даже с собственным мужем: женщине стыдно получать удовольствие от плотской любви. Как–то утром меня разбудил шум за окном. Молодой человек как–то раздобыл несколько бутылок бататовой водки и выпил их все. Тесть бил ногой в дверь его комнаты, чтобы он выходил на работу. Когда он в конце концов выломал дверь, оказалось, что зять мертв.
Как–то наше звено готовило гороховую лапшу и одолжило мой эмалированный таз, чтобы носить воду. В тот день лапша слиплась в бесформенный ком. Толпа, в сладком предвкушении собравшаяся вокруг кадки, где варилась лапша, при моем появлении громко зароптала и презрительно на меня уставилась. У меня душа ушла в пятки. Позже женщины объяснили мне, что лапша, по мнению деревенских, расползлась оттого, что я мылась в тазу во время месячных. Мне повезло: я — «городская молодежь». Им бы мужчины «задали хорошую порку».
В другой раз через нашу деревню проходило несколько парней с ведрами сладкого картофеля. Они остановились передохнуть на узкой дорожке. Коромысла они положили на землю так, что их нельзя было обойти. Я переступила через одно из них — вдруг его хозяин вскочил, схватил коромысло и встал передо мной, сверкая глазами. Я подумала, что сейчас он меня ударит. От других крестьян я узнала: он был уверен, что, если через его коромысло перешагнет женщина, ему натрет плечи. Меня заставили перешагнуть обратно, чтобы «обезвредить яд». За все время, прожитое в деревне, я так и не видела, чтобы кто–нибудь попытался оспорить подобные извращенные представления — они никого не удивляли.
Самым образованным человеком нашего звена был прежний помещик. Во мне с детства воспитывали враждебность к помещикам, а теперь я, к смущению своему, обнаружила, что ближе всего сошлась с его семьей. Они не имели ничего общего с навязанными мне некогда стереотипами. В глазах мужа не было ни жестокости, ни порочности, а жена не виляла задом и не говорила сладким голоском, чтобы казаться соблазнительной.
Иногда, наедине, он жаловался на судьбу. «Юн Чжан, — сказал он однажды. — Я знаю, что ты добрая. Ты, должно быть, и разумная, потому что читала книги. Посуди, справедливо ли это». И он рассказал мне, почему его объявили помещиком. В 1948 году он работал в Чэнду официантом и ценой невероятной бережливости скопил некоторую сумму денег. В то время самые дальновидные помещики дешево продавали землю, потому что понимали, что коммунисты проведут в Сычуани земельную реформу. Официант не отличался политическим чутьем и купил надел, думая, что совершил удачную сделку. Он не только потерял большую ее часть в ходе земельной реформы, но и в придачу стал классовым врагом. «Увы, — процитировал он обреченно классическую строку, — один промах привел к тысяче лет печали».
Я не заметила, чтобы деревенские относились к помещику или его семье враждебно, хотя они и держались в отдалении. Однако, как и всем «классовым врагам», им давалась работа, которую никто не хотел выполнять. Оба сына получали на одно очко меньше, чем остальные мужчины, хотя работали лучше всех в деревне. Они казались мне очень умными, самыми утонченными молодыми людьми в округе. От остальных их отличала мягкость и доброта, и я поймала себя на том, что из всей деревенской молодежи мне ближе всего именно они. Несмотря на их достоинства, ни одна девушка не желала за них идти. Их мать рассказала мне, как много она потратила на подарки тем немногим невестам, которых предлагали свахи. Они принимали одежду и деньги и исчезали. Другие крестьяне могли потребовать подарки обратно, но семья помещиков не имела на это права. Она долго вздыхала о том, что ее сыновьям, видно, никогда не найти хороших жен. Но они, по ее словам, несли свою беду легко и утешали ее после каждой неудачи. Они предлагали работать в рыночные дни, чтобы вернуть потраченное ею на подарки.
Обо всех этих несчастьях мне рассказывали совершенно спокойно. Здесь даже ужасная смерть воспринималась как падающий в пруд камень, над которым мгновенно сходится невозмутимая вода.
В деревенской тиши, лежа безмолвными ночами в нашей мокрой хижине, я много читала и думала. Когда я только приехала в Дэян, Цзиньмин отдал мне несколько ящиков книг с черного рынка, которые ему удалось собрать благодаря тому, что любителей обысков отправили в «школы кадров» в Мии, вместе с нашим отцом. Работая днем в поле, я с нетерпением ожидала нового свидания с очередным оставленным дома томиком.
Я глотала книги, пережившие сожжение отцовской библиотеки. Прежде всего — полное собрание сочинений Лу Синя, великого китайского писателя 1920–х–1930–х годов. Он умер в 1936 году, до прихода коммунистов к власти, поэтому избежал преследований и даже стал любимцем Мао, в то время как любимого ученика и ближайшего соратника Лу Синя, Ху Фэна, Мао лично назвал «контрреволюционером» и на десятки лет упрятал в тюрьму. Именно преследование Ху Фэна стало поводом для охоты на ведьм 1955 года, когда арестовали маму.
Отец очень любил Лу Синя. В детстве он часто читал нам его эссе. Тогда я их не понимала, даже с папиными объяснениями, но теперь увлеклась. Я обнаружила, что их сатира могла быть направлена не только против Гоминьдана, но и против коммунистов. У Лу Синя не было идеологии, только просвещенный гуманизм. Его скептический гений бросал вызов всевозможным идейным установкам. Он был одним из тех людей, чей вольный ум помог мне избавиться от пропагандистских шор.
Папино собрание классиков марксизма также сослужило мне добрую службу. Я читала беспорядочно, водя пальцем по темным словам, и не понимала, какое отношение эти споры немцев XIX столетия имеют к маоистскому Китаю. Однако меня привлекало то, с чем я редко сталкивалась в Китае — безупречная логика оппонентов. Чтение Маркса научило меня рассуждать и анализировать.
Мне нравились эти новые способы организации мыслей. Порой я позволяла себе витать в облаках и писала стихи в классической манере. Работая в поле, часто самозабвенно сочиняла что–нибудь, что делало работу сносной, а временами даже приятной. Поэтому я предпочитала одиночество и решительно не хотела ни с кем общаться.
Как–то я проработала все утро, срезая серпом тростник и поедая самые сочные его части. Тростник отправлялся на сахарный завод коммуны, в обмен на сахар. Нам нужно было сдать норму по количеству, но не по качеству, поэтому лучшее мы ели сами. В обеденный перерыв полагалось оставить кого–нибудь стеречь поле от воров — я предложила свои услуги и осталась на некоторое время одна. При этом обедать мне тоже, к вящему моему удовольствию, предстояло в одиночестве.
Я лежала навзничь на груде тростниковых стеблей, прикрыв лицо соломенной шляпой. Сквозь шляпу я видела бескрайнее бирюзовое небо. Над моей головой торчал тростниковый лист, казавшийся огромным на фоне неба. Я полузакрыла глаза и наслаждалась прохладной зеленью.
Лист напомнил мне качающиеся на ветру листья бамбуковой рощи, в тени которой в такой же знойный день много лет назад отец удил рыбу и сочинил стихотворение об одиночестве. Я начала сочинять собственное стихотворение на то же самое гэ–люй — сочетание тонов, рифм и типов слов, — что и у него. Мир вокруг словно замер, лишь шелестели листья тростника. Жизнь на мгновение стала прекрасной.
В то время я пользовалась любой возможностью остаться в одиночестве и намеренно показывала, что не хочу иметь ничего общего с окружающей меня действительностью. Должно быть, я казалась весьма самодовольной. А поскольку крестьяне были образцом для подражания, я сосредотачивалась на их отрицательных качествах. Я не пыталась ни узнать их, ни наладить с ними отношения.
В деревне меня не особенно любили, но и не особенно трогали. Крестьяне не одобряли меня за недостаточное усердие в работе. Работа наполняла всю их жизнь и служила единственным мерилом оценки любого человека. Они ясно видели, что я терпеть не могу физический труд и пользуюсь всякой возможностью, чтобы остаться дома и читать свои книжки. Желудочное расстройство и сыпь, мучившие меня в Ниннане, вновь стали меня одолевать сразу по приезде в Дэян. Почти каждый день у меня был понос, ноги покрылись язвами. Меня не оставляли слабость и головокружение, но жаловаться крестьянам не имело смысла. Суровая жизнь приучила их презирать несмертельные заболевания.
Однако сильнее всего меня не любили за частые отлучки. Две трети времени я проводила не в Дэяне, а в лагерях у родителей или в Ибине у тети Цзюньин. Поездки длились по нескольку месяцев, и никакой закон их не запрещал. Хотя я совершенно не окупала своего содержания, деревня снабжала меня продуктами. Крестьяне не могли отделаться ни от меня, ни от уравнительной системы распределения. Разумеется, они обвиняли в сложившейся ситуации меня. Мне их было жалко. Но я тоже не могла отделаться от них. Я не могла покинуть деревню навсегда.
Мое звено, хотя и было мной недовольно, отпускало меня всякий раз, когда я хотела уехать. Отчасти это объяснялось моим отдельным от крестьян существованием. Я поняла, что лучше всего играть роль чужака. Став «представителем масс», вы сразу же допускали в свою личную жизнь других людей.
Моей сестре Сяохун в соседней деревне жилось неплохо. Хотя ее, как и меня, постоянно кусали мухи, а ноги от навоза иногда так воспалялись, что у нее начинался жар, она по–прежнему усердно трудилась и получала восемь очков в день. Часто ей помогал приезжавший из Чэнду Очкарик. Его завод, подобно большинству других, почти не работал. Администрацию разгромили, а новый революционный комитет стремился вовлечь рабочих в революцию, а не в производство, так что они уезжали с завода, когда хотели. Иногда Очкарик работал в поле вместо моей сестры, чтобы она отдохнула. Иногда они трудились вдвоем, что радовало деревенских: «Взяли одну девушку, а получили две пары рук!»
Мы с сестрой и Нана каждую неделю в базарный день вместе ходили на местный рынок. Мне нравились шумные проходы, уставленные корзинами и ведрами на бамбуковых коромыслах. Крестьяне шли несколько часов, чтобы продать одну–единственную курицу, десяток яиц или связку бамбука. Большинство занятий ради торговли — выращивание овощей, плетение корзин или разведение свиней на продажу — запрещались как «капиталистические». В результате у крестьян почти не имелось наличных денег, а без них они не могли поехать в город. Базарный день был чуть ли не единственным их развлечением. Они встречались с родственниками и друзьями. Мужчины сидели на корточках и дымили трубками.
Весной 1970 года сестра и Очкарик поженились. Никакой церемонии не было. В то время им и в голову не могло прийти ее устроить. Они просто получили в совете коммуны свидетельство о браке и отправились в деревню сестры угощать крестьян конфетами и сигаретами. Деревенские были в восторге: они редко могли позволить себе такую роскошь.
Свадьба в деревне считалась событием нешуточным. В крытой соломой хижине сестры столпились гости. Они принесли дорогие подарки: горсть сухой лапши, полкило соевых бобов, несколько яиц, бережно завернутых в красную бумагу из соломы, красиво перевязанных соломинкой. Дарители расстались с самым ценным, что у них было. Сестра с Очкариком были очень растроганы. Когда мы с Нана пришли навестить молодоженов, они для забавы учили деревенских детишек исполнять «танцы верности».
Замужество не вызволило сестру из деревни: супружеским парам право проживать вместе не предоставлялось автоматически. Конечно, если бы Очкарик захотел расстаться с городской пропиской, ему бы ничего не стоило поселиться с женой, но она со своей деревенской пропиской не могла поехать с ним в Чэнду. Как десятки миллионов китайских пар, они жили по отдельности; для встреч предусматривался двенадцатидневный отпуск. К их счастью, завод Очкарика работал кое–как, так что он часто приезжал к Сяохун.
После года жизни в Дэяне произошла перемена: я вступила в ряды медиков. Сельскохозяйственная бригада, к которой была прикомандирована моя деревня, располагала собственной поликлиникой, где лечили кое–какие несложные заболевания. Поликлинику вместе содержали деревни, входившие в бригаду, и за лечение, правда, примитивное, больные не платили. В поликлинике работало двое врачей. Один из них, молодой человек с тонким, умным лицом, в 1950–е годы закончил в уезде Дэян мединститут и вернулся в родную деревню. Другой, мужчина средних лет с бородкой, начинал учеником у старого деревенского доктора, знатока традиционной китайской медицины, но в 1964 году коммуна послала его повышать квалификацию — он прошел экспресс–курс западной медицины.
В начале 1971 года руководство коммуны распорядилось, чтобы поликлиника взяла на работу «босоногого врача». Название подразумевало, что врач должен жить так же, как крестьяне, которые берегли обувь и не надевали ее на работу в поле. В то время в разгаре была пропагандистская кампания, превозносившая «босоногих врачей» как изобретение «культурной революции». Моя деревня ухватилась за возможность избавиться от меня: если бы я работала в поликлинике, за мою пищу и все остальное платила бы бригада, а не деревня.
Я всегда мечтала быть врачом. Болезни близких, и особенно бабушкина смерть, убедили меня в важности этой профессии. Перед приездом в Дэян я начала учиться иглоукалыванию у подруги; кроме того я штудировала книгу «Руководство босоногого врача» — одно из немногих разрешенных в тот период изданий.
Пропаганда «босоногих врачей» представляла собой один из политических маневров Мао. Он заклеймил Министерство здравоохранения, существовавшее до «культурной революции», за то, что оно не заботилось о крестьянах, а занималось только здоровьем горожан, в первую очередь, партийных работников. Он также обвинил докторов в нежелании работать в деревне, особенно в отдаленных районах. Но Мао не только не взял на себя ответственности как глава государства, но и не предложил никаких конкретных шагов, чтобы исправить ситуацию, например, построить больше больниц или подготовить больше настоящих врачей. Таким образом, в годы «культурной революции» положение медицины только ухудшилось. Пропагандистская трескотня о том, что крестьян никто не лечит, на деле имела одну цель — породить ненависть к партийной системе, существовавшей ранее, и к интеллигенции (частью которой были врачи и сестры).
Мао предложил крестьянам волшебное средство — докторов, которых можно было производить в массовом порядке, «босоногих врачей». «Совершенно не обязательно обучаться в институтах, — заявил он. — Нужно учиться и повышать свой уровень во время практической работы». 26 июня 1965 года он высказал мысль, ставшую принципом действия для системы образования и здравоохранения: «Чем больше книг читаешь, тем глупее становишься». Я приступила к работе, не имея ни малейшей подготовки.
Поликлиника располагалась в большом здании на вершине холма, примерно в часе ходьбы от моего жилища. По соседству находился магазин, торговавший спичками, солью и соевым соусом — все было по карточкам. Мои профессиональные обязанности оставались неясными.
Единственной медицинской книгой, которую я к тому времени открывала, был «Учебник босоногого врача». Я упорно штудировала его. Он не содержал никакой теории, лишь краткое описание симптомов и возможные рецепты. Я сидела за отдельным столом рядом с двумя докторами, в пыльной, как и у них, повседневной одежде, и видела, что больные крестьяне, входящие в помещение, мудро направляются не ко мне, неопытной восемнадцатилетней девчонке, уткнувшейся в какую–то книгу, к тому же не слишком толстую, а сразу сворачивают к двум моим коллегам. Я испытывала скорее облегчение, чем обиду. Доктор в моем представлении не должен был заглядывать в книгу каждый раз, когда слышит жалобы пациента, чтобы вычитать нужный рецепт. Иногда, пребывая в язвительном настроении, я спрашивала себя: захотели бы наши новые руководители лечиться у меня, босоногой или обутой? Ответ прост, говорила я себе: «босоногие врачи» прежде всего должны «служить народу, а не чиновникам». В конце концов я с удовольствием стала просто медсестрой, которая выдает по рецептам немногие имеющиеся лекарства и делает уколы (этому я научилась раньше, когда нужно было бороться с мамиными кровотечениями).
Все стремились попасть к молодому врачу, закончившему мединститут. Его лекарства, приготовленные из китайских трав, исцеляли от многих болезней. К тому же он был на редкость добросовестен, навещал пациентов в деревнях, а в свободное время собирал и выращивал травы. Другой врач, с бородкой, ужасал меня своей небрежностью. Он делал нескольким пациентам укол одной и той же иглой, не стерилизуя ее, вводил пенициллин, не проверяя, нет ли у больного аллергии. Это было очень опасно, потому что плохо очищенный пенициллин китайского производства мог вызвать серьезные побочные реакции, даже смерть. Я вежливо предложила делать пробы. Он не обиделся на меня, только улыбнулся и сказал, что несчастных случаев не бывает: «Деревенские не такие неженки, как городские».
Я хорошо относилась к нашим врачам: они были ко мне очень добры и всегда приходили на помощь, если я в чем–либо сомневалась. Неудивительно, что они не воспринимали меня как конкурента. В деревне значение имела не политическая риторика, а профессионализм.
Мне нравилось жить на холме, вдали от деревни. Каждое утро я вставала рано и, прогуливаясь по вершине, читала восходящему солнцу строчки из древнего поэтического трактата об иглоукалывании. У моих ног под пение петухов пробуждались поля и дворы. Одинокая Венера бледно светила на загорающемся небе. Я с наслаждением вдыхала разносимое утренним ветерком благоухание жимолости и любовалась большими лепестками паслена, стряхивающими с себя жемчужины росы. Всю округу наполнял щебет птиц, отвлекавший меня от стихов. Нагулявшись, я возвращалась домой и растапливала печь, чтобы приготовить завтрак.
Благодаря анатомической схеме и моим акупунктурным стихам, я довольно хорошо представляла, куда нужно воткнуть иголки, чтобы вылечить то или иное заболевание. Я с нетерпением ожидала пациентов. И у меня было несколько бесстрашных добровольцев — живших в соседних деревнях мальчиков из Чэнду, увлеченных мною. Они шли по несколько часов ради сеанса иглоукалывания. Один молодой человек, закатывая рукав, чтобы обнажить точку рядом с локтем, как–то спросил отважно: «Для чего нужны друзья–мужчины?»
Я не влюбилась ни в одного из них, хотя моя решимость отказаться от личной жизни ради родителей и во искупление вины перед покойной бабушкой начала ослабевать. Но мне было трудно дать чувствам волю, а воспитание не допускало интимных отношений без любви. Вокруг городская молодежь вела свободный образ жизни, я же восседала на своем пьедестале в гордом одиночестве. Прошел слух, что я пишу стихи, и это мне помогло: репутация романтической девушки оградила от домогательств.
Молодые люди вели себя по–рыцарски. Один из них подарил мне щипковый музыкальный инструмент саньсянь, который состоит из чаши, обтянутой змеиной кожей, и длинного грифа с тремя струнами, и целыми днями обучал меня игре на нем. Все разрешенные мелодии воспевали Мао, набор их был весьма ограничен, но для меня это большого значения не имело: мои способности ограничивали меня еще сильнее.
Теплыми вечерами я сидела в саду с душистыми лекарственными травами, окруженном китайским кампсисом, и тихонько перебирала струны. Когда магазин по соседству закрывался, я оставалась совершенно одна. Вокруг царила ночь, озаряемая лишь нежной луной и мерцающими огоньками далеких домов. Иногда мимо проплывали светлячки, похожие на фонарики в руках невидимых летающих человечков. От благоухания, источаемого садом, у меня приятно кружилась голова. Моя музыка вступала в некоторое противоречие с хором разошедшихся лягушек и тоскливым стрекотом сверчков. Но я находила в ней утешение.
24. «Пожалуйста, прими мои извинения, опоздавшие на целую жизнь»: Родители в лагерях (1969–1972)
В трех днях езды от Чэнду, в северном Сичане, находится равнина Волопаса. Там есть дорожная развилка: одна ветка идет на юго–запад, в Мии, лагерь отца, а другая — на юг, в Ниннань.
Название равнине дала знаменитая легенда. Божественная Ткачиха, дочь Небесной Государыни, спускалась туда из небесного дворца купаться в озере. (Считается, что метеорит, упавший на Метеоритной улице в Чэнду, служил основанием ее ткацкого стана.) Юноша, пасший у озера волов, увидел богиню, и они полюбили друг друга. Они поженились, у них родились сын и дочь. Небесная Государыня позавидовала их счастью и велела богам похитить Ткачиху. Они схватили ее, Волопас ринулся за ними вслед. Когда он уже настигал их, Небесная Государыня вытащила из прически шпильку и пустила между ними огромную реку. Серебряная река с тех пор всегда разделяет супругов, за исключением седьмого дня седьмой луны, когда со всех концов Китая слетаются сороки и выстраиваются в мост, чтобы семья могла воссоединиться. Серебряной рекой китайцы называют Млечный Путь. Над Сичаном он широкий и состоит из множества звезд, среди которых ярко сияющая Вега — Божественная Ткачиха — по одну сторону, и Альтаир — Волопас с двумя детьми — по другую. Эта легенда веками привлекала китайцев, потому что их семьи часто разлучались из–за войн, разбоя, нищеты и бессердечия правителей. По иронии судьбы, именно сюда отправили маму.
Она прибыла в лагерь в ноябре 1969 года с пятьюстами бывшими чиновниками из восточного района — и цзаофанями и «попутчиками капитализма». Из Чэнду их выслали в спешке, никаких жилищ не подготовили, не считая бараков, которые остались после военных инженеров, строивших железную дорогу из Чэнду в Куньмин — столицу провинции Юньнань. Одни набились в эти бараки, другим пришлось ютиться в домах местных крестьян.
Не было никаких строительных материалов кроме камыша и глины, которую приходилось выкапывать в горах и приносить вниз. Глину разводили водой и лепили из нее кирпичи. Не было ни машин, ни электричества, ни скота. На равнине, находящейся на высоте 5 000 метров над уровнем моря, на сезоны делится не год, а день. В семь часов утра, когда мама начинала работу, температура почти опускалась до точки замерзания. К середине дня она поднималась выше +30°. Примерно в четыре часа пополудни по горам проносились палящие ветры, буквально сдувавшие людей с ног. В семь часов вечера, когда работа заканчивалась, воздух вновь стремительно охлаждался. В этих суровых условиях они трудились по двенадцать часов в день, с кратким перерывом на обед. В первые несколько месяцев они ели только рис с вареной капустой.
Лагерь, с военными порядками и администрацией, подчинялся Революционному комитету Чэнду. Сначала с мамой обращались как с классовым врагом и весь обеденный перерыв заставляли стоять со склоненной головой. Такое наказание — «обличение у поля» — рекомендовалось в прессе, чтобы напомнить отдыхающим, что им нужно копить силы для ненависти. Мама заявила командиру отряда, что не может весь день стоять на ногах. До «культурной революции» он работал в военном отделе восточного района и был с мамой в хороших отношениях; он приказал прекратить эту практику. Тем не менее маме давали самую тяжелую работу, и по воскресеньям она, в отличие от других заключенных, не могла отдыхать. Маточные кровотечения усилились. Потом она слегла от гепатита. Все ее тело пожелтело и опухло, она едва держалась на ногах.
Кого в лагере было с избытком, так это врачей, потому что туда отправили половину медицинских работников восточного района. В Чэнду остались лишь те, без кого не могло обойтись руководство городских ревкомов. Врач, лечивший маму, говорил, что он и его коллеги искренне благодарны ей, защищавшей их до «культурной революции», и что, если бы не она, его наверняка записали бы в «правые» еще в 1957 году. Западных медикаментов не было, поэтому он ходил за много километров, чтобы набрать лекарственные травы, которые китайцы принимают при гепатите, например, азиатский подорожник и портулак крупноцветный.
В докладе лагерному начальству он преувеличил заразность маминой болезни, и ее переместили в отдельное жилье, в километре от общей территории. Мучители, боявшиеся инфекции, оставили ее в покое, но доктор приходил каждый день; он тайно брал для нее у местного крестьянина козье молоко. Теперь мама жила в заброшенном свинарнике. Товарищи по лагерю заботливо расчистили его и устлали толстым слоем сена. Она воображала, что возлежит на пышной перине. Знакомая повариха вызвалась носить ей еду. Если никто не видел, она подкладывала в паек пару яиц. Когда появилось мясо, мама ела его каждый день — а другие только раз в неделю. Друзья покупали ей на базаре свежие фрукты — груши и персики. Гепатит стал для нее даром небес.
Дней через сорок, к большому ее огорчению, она поправилась, и ее перевели обратно в лагерь, теперь размещавшийся в новых глинобитных хижинах. Равнина Волопаса — странное место, привлекающее гром и молнию, но не дождь, который проливается на соседние горы. Местные крестьяне не сажали там зерновых, потому что почва была сухой, а частые сухие грозы представляли опасность. Но другой земли у лагеря не имелось, поэтому заключенные посадили особый сорт засухоустойчивой кукурузы и носили воду с нижних склонов гор. Чтобы получить рис, они предложили местным крестьянам помощь в возделывании полей.
Крестьяне согласились; но по местным обычаям женщинам запрещалось носить воду, а мужчинам сажать рис — это могли делать лишь замужние женщины, у которых были дети, особенно сыновья. Чем больше сыновей родила женщина, тем охотнее ей позволяли гнуть спину. В соответствии с поверьем, ростки, посаженные матерью многих сыновей, дадут много рисовых зерен (по–китайски слова «зерно» и «сын» звучат одинаково). В первую очередь от этого древнего обычая «выиграла» мама. У нее было трое сыновей, больше, чем у основной массы ее товарок по лагерю, поэтому ей пришлось по пятнадцать часов в день сидеть на рисовом поле, согнувшись в три погибели, с воспаленной брюшной полостью и кровотечением.
Ночами мама, как и остальные, дежурила у свинарника, сторожила его от волков. За бараками — мазанками из глины и травы — тянулась горная гряда, по праву называемая Волчьим логовом. Волки, как поведали местные жители, были очень умны. Забравшись в свинарник, волк почесывал и лизал свинью, особенно за ушами, погружая животное в своеобразный сладостный транс, чтобы оно не подняло шум. Затем прихватывал свинью зубами за ухо и выводил из свинарника, не переставая поглаживать своим пушистым хвостом. Свинье все еще грезилось, что она в объятиях возлюбленного, когда волк набрасывался на нее.
Крестьяне предупредили городских, что волки — а также встречающиеся временами леопарды — боятся огня, поэтому каждую ночь возле свинарника жгли костры. Мама провела много бессонных ночей, наблюдая за метеоритами, проносящимися по сияющему звездному небосводу, и слушая далекий, доносившийся из темноты вой из Волчьего логова.
Как–то вечером она стирала у небольшого водоема. А когда поднялась, обнаружила, что прямо на нее устремлены красные глаза волка, замершего метрах в двадцати по ту сторону пруда. У мамы волосы встали дыбом, но она вспомнила, что друг детства, Большой Ли, учил ее, как поступать при встрече с волком: медленно идти назад, не проявляя ни малейших признаков паники, не по?орачиваться спиной и не бежать. Она стала тихо пятиться в сторону поселка, не отрывая глаз от преследовавшего ее зверя. Когда она достигла границы лагеря, волк остановился: уже виден был огонь, слышны голоса. Мама повернулась и в мгновение ока скрылась за дверью.
Во тьме сичанских ночей светил только костер. Электричества не было. Свечи, даже когда их завозили, стоили слишком дорого, керосина не хватало. Но в любом случае читать было практически нечего. В отличие от Дэяна, где я наслаждалась относительной свободой и могла читать книги, добытые Цзиньмином на черном рынке, «школа кадров» жестко контролировалась. Из печатных материалов дозволялись лишь «Избранные труды» Мао Цзэдуна и «Жэньминь жибао». Иногда в военной казарме в нескольких километрах от лагеря показывали фильм — «образцовый спектакль» мадам Мао («Образцовые спектакли» — оперы, балеты и т. п. зрелища «революционного» содержания, созданные при участии Цзян Цин (жены Мао). Выходить за пределы этого крайне ограниченного репертуара не разрешалось.).
Дни, месяцы тяжелой работы и полное отсутствие отдыха делали жизнь невыносимой. Все скучали по семьям, по детям — в том числе и «бунтари». Возможно, они скорбели сильнее других, потому что поняли, что все их старания оказались напрасными и теперь им ни за что не вернуться в Чэнду, на свои посты. В их отсутствие ревкомы заполнили все вакансии. Через несколько месяцев после отправки на равнину обличения сменились подавленностью, и нередко цзаофаней ободряла моя мама. Ее прозвали «Гуаньинь» — богиней милосердия.
Ночами, лежа на соломенной подстилке, она вспоминала своих детей, время, когда они были маленькими. Воспоминаний оказалось немного. Пока мы росли, она редко бывала дома — ради дела жертвовала семьей. Теперь она горько сожалела об этой бессмысленной жертве. Тоска по детям причиняла непереносимую, почти физическую боль.
В феврале 1970 года, за десять дней до китайского Нового года, мамин отряд, проживший более трех месяцев на равнине, выстроили перед лагерем для встречи какого–то высокопоставленного военного, прибывавшего с инспекцией. После долгого ожидания люди заметили вдалеке на глинистой тропе, отходящей от шоссе, маленькую фигурку. Вглядевшись, они поняли, что это не начальство: оно ехало бы в машине с эскортом. Но и не местная крестьянка — слишком элегантно был обмотан черный шарф вокруг ее склоненной головы. Это оказалась девушка с большой корзиной на спине. Мама с замиранием сердца смотрела, как она подходит все ближе. Сердце подсказывало ей, что это я, но она говорила себе, что это ей только чудится. «Если бы это была Эрхун!» — молила она небо. Вдруг люди стали возбужденно подталкивать ее: «Твоя дочь! К тебе пришла Эрхун! Это Эрхун!»
Так мама увидела меня впервые после разлуки, тянувшейся, казалось, целую жизнь. Я была первой гостьей, появившейся в лагере, и меня принимали со смесью радости и зависти. Я приехала на том же грузовике, что привез меня в Ниннань, когда я за год до того меняла прописку. Большая корзина, которую я несла на спине, была набита колбасой, яйцами, сластями, выпечкой, лапшой, сахаром и мясными консервами. Мы, пятеро детей и Очкарик, собирали продукты из своих пайков и того, что нам выдавали в наших производственных бригадах, чтобы приготовить родителям гостинец. Я едва волокла тяжелый груз.
Я тут же отметила: мама выглядела хорошо — как она объяснила мне позднее, она только что поправилась после гепатита; и атмосфера вокруг нее не была враждебной. На самом деле, кое–кто уже называл ее «Гуаньинь» — я не верила собственным ушам, ведь мама официально считалась классовым врагом.
Она покрывала голову голубым платком, который завязывала под подбородком. Ее лицо утратило былую нежность. От палящего солнца и пронизывающих ветров оно загрубело и покраснело, почти как у местной крестьянки. Казалось, ей не тридцать восемь, а по меньшей мере на десять лет больше. Когда она погладила меня по щеке, я почувствовала, что руки у нее стали шершавые, как старая потрескавшаяся кора.
Я пробыла в мамином лагере десять дней, а сразу после Нового года намеревалась отправиться в лагерь к отцу. Добрый водитель грузовика согласился подобрать меня там же, где я вышла. У мамы в глазах блестели слезы, потому что им с отцом запрещалось видеться, хотя их лагеря находились неподалеку один от другого. Я взвалила на спину нетронутую корзину — мама настояла, чтобы я все отнесла отцу. Сберечь драгоценную еду для близких в Китае всегда считалось высшим проявлением любви и заботы. Мама очень грустила из–за моего отъезда и все повторяла, как ей жалко, что я уезжаю так рано, не дождавшись традиционного новогоднего завтрака, который готовят в лагере — тан–юань, круглых клецок, символа семейного воссоединения. Но я не могла задерживаться, боясь пропустить грузовик.
За полчаса мы вместе дошли до шоссе, сели в высокой траве и стали ждать. По густым зарослям камыша ходили плавные волны. Солнце уже и пригревало, и ярко светило. Мама прижимала меня к себе, и все ее тело говорило, как она не хочет меня отпускать, как боится, что мы никогда не увидимся. Кто знает, выпустят ли ее когда–нибудь из лагеря, смогу ли я уехать из коммуны? Ведь нам внушали, что это навсегда. Мы могли никогда больше не встретиться по сотне причин. Я заразилась маминой печалью — мне вспомнилось, как я не сумела выбраться из Ниннаня до бабушкиной смерти.
Солнце поднималось все выше. Грузовика не было. Когда крупные клубы дыма, валившие из кухонной трубы, окончательно растаяли в воздухе, маме стало ужасно жалко, что она так и не угостила меня новогодним завтраком. И она решила сходить за ним.
Пока ее не было, пришел грузовик. Я посмотрела в сторону лагеря и увидела, как она в голубом платке бежит среди волн бледно–золотой травы. В правой руке она держала большую яркую эмалированную миску. Она бежала осторожно, чтобы, как я догадалась, не расплескать суп с клецками. Она была еще далеко, я видела, что ей не добежать меньше чем за двадцать минут. Мне показалось неудобным просить водителя ждать меня все это время: он и так уже сделал мне большое одолжение. Я вскарабкалась в кузов. А мама все бежала ко мне. Но миски в руках уже не было.
Годы спустя она рассказала, что уронила миску, когда я забиралась в грузовик. Но продолжала бежать туда, где мы сидели, просто чтобы удостовериться, что я уехала, хотя кого еще мог подобрать грузовик? В этой желтой безбрежности не было ни одной живой души. Несколько дней она бродила по лагерю словно в забытьи, не находя себе места.
После многочасовой тряски в кузове я прибыла в находившийся выше в горах исправительно–трудовой лагерь отца. Заключенные вырубили жилища в неприступных горах, после чего их перегнали на новое место распахивать целину, а эту относительно освоенную территорию оставили тем, кто стоял ступенькой выше на китайской лестнице наказаний — ссыльным чиновникам. Лагерь был огромный, там отбывали заключение тысячи бывших работников администрации.
Мне пришлось часа два добираться от дороги до отряда отца. Веревочный мост над бездной зашатался при первом же моем шаге, и я чуть не потеряла равновесие. Усталая, с грузом на спине, я все же не могла не поразиться ошеломляющей красоте гор. Весна только начиналась, но земля уже покрылась яркими цветами, распустились капок и папайя. Дойдя наконец до барака отца, я увидела пару нарядных величественных фазанов, расхаживающих под облаками грушевого, сливового и миндального цвета. Несколько недель спустя белые и розовые лепестки засыпали всю тропинку.
При виде отца, с которым мы были в разлуке больше года, у меня заныло сердце. Ковыляя, он нес на коромысле две полные корзины кирпичей. Старый синий пиджак болтался на нем, как на вешалке, а из–под закатанных штанин выглядывали тощие ноги с выпирающими жилами. Его обожженное солнцем лицо испещрили морщины, волосы почти совсем поседели. Тут он заметил меня. Потрясенный, он неловко опустил на землю груз, а я бросилась к нему. Китайская традиция не позволяет отцу касаться дочери, и о том, как он счастлив меня видеть, говорили только его глаза. В них было столько любви и нежности! Но я заметила и следы переживаемых им мучений. Молодая энергия и воодушевление сменились старческой растерянностью и в то же время какой–то молчаливой решимостью. А ведь он был в расцвете лет, ему исполнилось всего сорок восемь. У меня перехватило горло. Я вглядывалась в его глаза, искала признаки того, чего боялась всего больше, — возвращения безумия. Нет, он не походил на безумца. С души у меня свалился камень.
В одной комнате с ним жили еще семь человек из его прежнего отдела. Там было только одно маленькое окошко, так что дверь приходилось оставлять на день открытой, чтобы внутрь проникало хоть немного света. Соседи редко говорили друг с другом, со мной никто не поздоровался. Я сразу ощутила: атмосфера здесь гораздо более тяжелая, чем в мамином отряде. Причина заключалась в том, что этот лагерь напрямую подчинялся Сичанскому революционному комитету, и соответственно — супругам Тин. На дворовой стене, у которой выстроились побитые мотыги и лопаты, все еще красовались дацзыбао и лозунги: «Долой такого–то!» и: «Покончим с таким–то!». Как я вскоре поняла, после тяжелого рабочего дня отца все еще таскали на вечерние «митинги борьбы». Поскольку вырваться из лагеря можно было, лишь попав обратно в ревком, для чего требовалось угодить Тинам, некоторые цзаофани соревновались в подлости, и отец, естественно, оказывался жертвой их нападок.
Его не допускали на кухню. Считалось, что он, «покусившийся на Мао», может отравить пищу. Не важно, что в это никто не верил. Смысл был в том, чтобы нанести оскорбление.
Отец стойко переносил все издевательства. Только однажды он дал волю гневу. Едва он появился в лагере, ему приказали надеть белую повязку с надписью: «Активный контрреволюционер». Он яростно отбросил тряпку и проговорил сквозь сжатые зубы: «Можете забить меня до смерти. Я не буду это носить!» Цзаофани отступили. Они поняли, что отец не шутит, а приказа убить его у них не было.
Супруги Тин имели возможность отомстить старым врагам. Так, один из лагерников в 1962 году участвовал в расследовании их деятельности. До 1949 года он находился в подполье, потом попал в гоминьдановскую тюрьму, подвергся пыткам, потерял здоровье. В лагере он вскоре тяжело заболел, но его по–прежнему заставляли работать без единого выходного. Он все делал медленно и, чтобы выполнить норму, трудился по вечерам. В дацзыбао его клеймили за лень. Одно дацзыбао, попавшееся мне на глаза, начиналось словами: «Товарищ, ты видел этого кошмарного типа — живой скелет с жутким лицом?» Под безжалостным сичанским солнцем кожа у него обгорела, сморщилась и сходила кусками. Он отощал до потери человеческого облика; после операции осталась лишь треть желудка, и есть он мог только очень понемногу. Не имея возможности питаться так часто, как следовало, он постоянно мучился голодом. Однажды он в отчаянии отправился на кухню, чтобы попить рассола. Его обвинили в намерении отравить пищу. Понимая, что ему недолго осталось жить, он подал лагерному начальству прошение — писал, что умирает и просит освободить его от тяжелых работ. Единственным ответом была злобная кампания в дацзыбао. Вскоре, разбрасывая навоз в поле под жгучим солнцем, он потерял сознание и упал. Его положили в лагерную больницу, где он через день умер. У смертного одра не было никого из близких. Его жена покончила с собой.
В «школах кадров» томились не только «попутчики капитализма». Люди, даже самым отдаленным образом связанные с Гоминьданом, либо те, кто имел несчастье стать объектом чьей–то мести или зависти, будь это даже вожаки потерпевших поражение группировок цзаофаней, умирали десятками. Многие бросались в реку, с грохотом бежавшую по долине. Называлась она рекой Спокойствия (Аньнинхэ). Глухими ночами эхо разносило далеко по округе ее шум, напоминавший стенания духов, и у заключенных кровь стыла в жилах.
Услышав об этих самоубийствах, я еще яснее поняла, что должна немедленно что–то придумать и как–то смягчить психологическое и физическое давление, оказываемое на отца. Нужно было дать ему почувствовать, что жизнь стоит усилий и что его любят. На «митингах борьбы», теперь уже не сопровождавшихся насилием, ибо у агрессивных лагерников кончился запал, я садилась там, где он мог меня видеть и ощутить мою поддержку. После митинга мы уходили гулять. Я рассказывала что–нибудь ободряющее, чтобы он забыл об омерзительном собрании, и массировала ему голову, шею и плечи. Он читал мне классические стихи.
Днем я помогала ему выполнять работу — разумеется, ему доставалась самая тяжелая и грязная. Иногда я вместо него носила корзину с кирпичами, весившую больше пятидесяти килограммов, стараясь сохранять беззаботное выражение лица, хотя едва держалась на ногах.
Я пробыла в лагере больше трех месяцев. Начальство позволило мне есть в столовой и выделило койку в комнате, где уже было пятеро других женщин, которые почти не разговаривали со мной. Большинство лагерников при виде меня отворачивались. Я же смотрела словно сквозь них. Но попадались и хорошие или, может быть, более смелые люди, не скрывавшие своей доброты.
Один из них, Юн, человек чуть моложе тридцати, с узким лицом и большими ушами, по окончании университета — а это было накануне «культурной революции» — попал в отдел к моему отцу. В лагере он командовал отцовским отрядом. Хотя ему было вменено в обязанность посылать отца на самые тяжелые работы, он при любой возможности старался незаметно уменьшить ему норму. Во время одной из наших мимолетных бесед я сказала, что не могу готовить еду, которую привезла с собой, потому что нет керосина для плитки. Через пару дней Юн прошел мимо меня с безразличным видом. Но я почувствовала, что он сунул мне в руку какую–то железку: это была сделанная им проволочная горелка — сантиметров двадцать в высоту и десять в окружности. Топливом служили скомканные старые газеты — теперь их разрешалось рвать, потому что с их страниц исчезли портреты Мао. (Он сам отменил эту практику, сочтя, что цель — самым явным и несомненным образом утвердить его абсолютную и непререкаемую власть — уже достигнута, и пора остановиться, чтобы не перегнуть палку.) На оранжево–голубом пламени горелки я готовила пищу, мало похожую на лагерный паек. Когда из кастрюли вырывался соблазнительный пар, я видела, как челюсти семерых соседей отца непроизвольно начинают двигаться. Я жалела, что не могу угостить Юна: если бы его воинственные коллеги прознали об этом, нам бы обоим не поздоровилось.
Благодаря Юну и другим порядочным людям отцу разрешались посещения родных. Юн также позволил ему в дождливые дни, его единственные выходные, уходить из лагеря, потому что, в отличие от остальных заключенных, отец, как и мама, обязан был работать по воскресеньям. Едва дождь стихал, мы отправлялись в лес и собирали под соснами грибы и дикий горох, которые я, вернувшись в лагерь, готовила с банкой утиных или каких–нибудь других мясных консервов. Мы пировали как боги.
После ужина часто приходили к моему любимому месту, которое я прозвала «зоопарком», — к россыпи причудливых камней на травянистой опушке леса. Они напоминали стадо удивительных животных, нежащихся на солнце. Впадины на некоторых валунах повторяли очертания наших тел, и, устроившись там, мы смотрели вдаль. Вниз по склону шли громадные капоковые деревья, без листьев, с алыми цветами, похожими на большие магнолии — они крепились на голых черных ветвях, устремленных прямо вверх. За месяцы, проведенные в лагере, я видела, как распускаются эти огромные цветы — багровые на черном. Потом на них завязались плоды размером с фигу. Созрев, они лопались и превращались в шелковистый пух, разносимый теплым ветром по горам, словно нетающий снег. За капоками текла река Спокойствия, а дальше тянулись бескрайние горы.
Однажды, когда мы блаженствовали так в «нашем зоопарке», мимо прошел крестьянин, такой маленький и скрюченный, что я испугалась. Отец сказал, что в этих глухих краях кровосмешение — обычная история, а потому и немало случаев вырождения. Потом он продолжал: «В горах столько всего можно сделать! Это прекрасное место с огромными возможностями. Как бы я хотел жить здесь; если б у меня была коммуна или производственная бригада, можно было бы заниматься каким–то реальным делом. Чем–то полезным. Пусть простым крестьянским трудом. Я так устал быть чиновником. Если бы только наша семья могла тут поселиться и радоваться простой сельской жизни». В его глазах я увидела отчаяние энергичного, талантливого человека, страстно желающего работать. Узнала я и традиционную идиллическую мечту китайского ученого, разочарованного в чиновничьей карьере. Но отчетливее всего я понимала, что о другой жизни отец может только мечтать как о недостижимом чуде: для партийного работника пути назад не существовало.
Я приезжала в лагерь трижды, каждый раз оставаясь там по нескольку месяцев. Братья и сестра тоже навещали отца, так что его всегда согревало семейное тепло. Он часто с гордостью говорил, что ему завидует весь лагерь: никого дети так не балуют. На самом деле ко многим вообще никто не ездил: «культурная революция», ожесточив людей, разрушила бессчетное число семей.
Со временем мы становились все ближе друг другу. Мой брат Сяохэй, на которого отец часто поднимал руку, теперь полюбил его. Когда он впервые приехал в лагерь, им пришлось спать на одной кровати, потому что лагерное начальство, раздраженное тем, что отца часто навещает семья, не выделило еще одной койки. Чтобы отец высыпался — это было важно для его нервной системы, — Сяохэй не смыкал глаз, боясь нечаянно потревожить его во сне.
Отец, со своей стороны, каялся, что был суров к Сяохэю, гладил его по голове и просил прощения. «Как я мог бить тебя? Это было несправедливо, — говорил он. — Я много думал о прошлом, я виноват перед тобой. Смешно, но «культурная революция» и в самом деле сделала меня лучше».
Кормили в лагере в основном вареной капустой; недостаток белка вызывал у людей постоянное чувство голода. Каждого мясного дня ожидали с огромным нетерпением и отмечали, словно веселый праздник. Даже самые воинственные цзаофани, казалось, приходили в сравнительно хорошее настроение. В такие дни отец вылавливал мясо из своей чашки и отдавал детям. Неизменно разыгрывалась битва на палочках.
Отца мучили угрызения совести. Он вспоминал, как не пригласил бабушку на свадьбу, как, несмотря на подстерегавшие в пути опасности, отослал ее обратно в Маньчжурию всего через месяц после приезда. Он много раз упрекал себя в том, что недостаточно заботился о своей матери и держался так сурово, что ему даже не сообщили о ее похоронах. Качая головой, он восклицал: «Слишком, слишком поздно!» Он раскаивался в том, как обращался в 1950–е годы со своей сестрой Цзюньин, когда пытался убедить ее отречься от буддизма и даже заставить ее, вегетарианку по убеждению, есть мясо.
Тетя Цзюньин умерла летом 1970 года. Паралич постепенно завладел всем ее телом, да ее и не лечили по–настоящему. Умерла она так же стоически и тихо, как и жила. Семья скрыла от отца ее смерть. Мы знали, как он любил и уважал ее.
Той осенью отца навещали мои братья Сяохэй и Сяофан. Однажды во время прогулки восьмилетний Сяофан проговорился, что тетя Цзюньин умерла. Отец изменился в лице. Он застыл на месте и долго смотрел в пустоту, потом сошел с тропинки, опустился на корточки и прикрыл лицо руками; плечи его затряслись от рыданий. Братья, которые никогда не видели, как отец плачет, буквально потеряли дар речи.
В начале 1971 года просочилась информация, что Тинов сместили со всех должностей. В жизни родителей, особенно отца, произошли некоторые улучшения. По воскресеньям им разрешали отдыхать и теперь посылали на более легкие работы. Другие заключенные начали разговаривать с отцом, хотя все еще сквозь зубы. Доказательством перемен стало появление в лагере новой узницы — товарища Шао, старой мучительницы отца, попавшей в опалу вместе с Тинами. Маме разрешили провести с отцом две недели — в первый раз за несколько лет они оказались вместе и смогли взглянуть друг на друга впервые с того зимнего утра на чэндуской улице перед отправкой отца в лагерь более двух лет тому назад.
Но несчастья родителей отнюдь не закончились. «Культурная революция» продолжалась. Тины подверглись чистке не за свои злодеяния, но потому, что Мао заподозрил их в тесной связи с попавшим в немилость Чэнь Бода, одним из вождей Группы по делам культурной революции. В ходе этой чистки появились новые жертвы. Чэнь Мо, правая рука Тинов (это он помог вызволить отца из тюрьмы), покончил с собой.
Летом того же года у мамы случилось сильное кровотечение, она потеряла сознание и попала в больницу. Отцу не разрешили проведать ее, хотя оба они находились в Сичане. Когда ее состояние несколько стабилизировалось, ей позволили вернуться в Чэнду для лечения. Там кровотечение наконец остановили, однако врачи обнаружили у нее кожное заболевание — склеродермию. Участок кожи за правым ухом затвердел и начал сжиматься. Правая половина челюсти стала заметно меньше левой, все хуже слышало правое ухо. Правая сторона шеи задеревенела, правая рука онемела. Дерматологи сказали ей, что впоследствии могут затвердеть и ссохнуться внутренние органы, в таком случае через три–четыре года она умрет. По их словам, западная медицина была тут бессильна. Они могли предложить маме лишь кортизон, который ей давали в таблетках и кололи в шею.
Когда пришло письмо от мамы с этой новостью, я была у отца в лагере. Отец немедленно попросил разрешения съездить домой навестить ее. Юн отнесся к просьбе сочувственно, но лагерное начальство отказало. Отец разрыдался прямо во дворе в присутствии других лагерников. Бывшие сотрудники его отдела были поражены. Они знали его как «железного человека». На следующий день он пришел на почту ранним утром, за несколько часов до открытия. Он послал маме трехстраничную телеграмму, начинавшуюся словами: «Пожалуйста, прими мои извинения, опоздавшие на целую жизнь. Я так виноват перед тобой, что рад понести любое наказание. Я не был тебе достойным мужем. Пожалуйста, выздоравливай поскорее и дай мне возможность исправиться».
25 октября 1971 года Очкарик принес мне в Дэян потрясающее известие: Линь Бяо убит. На фабрике Очкарику официально сказали, что Линь покусился на жизнь Мао; потерпев неудачу, попытался бежать в Советский Союз, и его самолет разбился над Монголией.
Гибель Линь Бяо была окутана тайной. Существовала связь между ней и падением Чэнь Бода годом ранее. Мао почуял неладное, когда оба слишком далеко зашли в его обожествлении — не планируют ли они оставить ему одну только славу, отстранив от земной власти? Особое недоверие ему внушал Линь Бяо, назначенный им преемник, про которого позднее сложили стишок: «Книжка красная в руках, «Слава Мао!» на устах». Мао рассудил, что Линь, первый в очереди на престол, замыслил недоброе. Кто–то из них предпринял шаги во имя сохранения своей жизни и власти. Возможно, они оба это сделали.
Вскоре коммуна донесла официальную версию событий до моей деревни. Для крестьян новость ровным счетом ничего не значила. Они вряд ли даже слышали имя Линя. Однако я была вне себя от радости. Не решаясь обвинять Мао даже в мыслях, я возлагала ответственность за «культурную» революцию на Линя. Очевидный разрыв между ним и Мао означал, думала я, что Мао отрекся от «культурной революции» и положит конец бедствиям и разрухе. В каком–то смысле падение Линя укрепило мою веру в Мао, Многие разделяли мой энтузиазм, потому что, по ряду признаков, «культурную революцию» собирались сворачивать. Почти сразу же начали реабилитировать и выпускать из лагерей некоторых «классовых врагов».
Отцу новость о Лине сообщили в середине ноября. Тут же кое–кто из «бунтарей» начал ему улыбаться. На митингах его просили сесть — что не имело прецедента — и «разоблачить Е Чунь», жену Линь Бяо, работавшую с отцом в Яньане в начале 1940–х. Отец отказывался выступать.
Но, хотя его коллег реабилитировали и освобождали из лагеря целыми партиями, комендант сказал отцу: «Не думай, что теперь сможешь сорваться с крючка». Его преступление против Мао считалось слишком тяжким.
В результате невыносимого психологического и физического давления, многолетних жестоких избиений и изнуряющего труда в ужасных условиях, здоровье отца сильно пошатнулось. Почти пять лет он в огромных количествах принимал успокоительные, чтобы держать себя в руках. Иногда он принимал в двадцать раз больше обычной дозы, и это истощило его организм. Его постоянно мучили боли во всем теле. Он начал кашлять кровью, задыхаться, временами возникали сильные головокружения. В свои пятьдесят лет он выглядел как семидесятилетний. Лагерные врачи всегда встречали его с кислыми физиономиями и спешили прописать очередную порцию транквилизаторов. Они отказывались не то что осмотреть — даже выслушать его. После каждого обращения в поликлинику один из цзаофаней рявкающим тоном поучал его: «Не надейся, симуляция тебе не поможет!»
В конце 1971 года в лагерь приехал Цзиньмин. Здоровье отца внушило ему такую тревогу, что он остался там до весны. Затем он получил письмо из своей сельскохозяйственной бригады с приказом немедленно вернуться, или ему не достанется никакой еды после сбора урожая. В день отъезда отец проводил его до поезда — в Мии только что протянули железнодорожную ветку, потому что в Сичан перевели промышленные объекты стратегического назначения. Во время всего долгого пути они молчали. Вдруг отец начал задыхаться, и Цзиньмин усадил его у края дороги. Отец долго пытался отдышаться. Цзиньмин услышал, как он с глубоким вздохом сказал: «Видно, мне недолго осталось. Жизнь — это сон». Цзиньмин, который никогда не слышал, чтобы отец рассуждал о смерти, испугался и попробовал успокоить его. Но отец медленно проговорил: «Я спрашиваю себя, боюсь ли я смерти. Думаю, нет. Моя жизнь сейчас хуже смерти. И, кажется, ей не будет конца. Иногда я поддаюсь слабости: стою у реки Спокойствия и думаю: «Всего один прыжок — и кончено». Но потом говорю себе: «Нельзя». Если я умру неоправданным, вы будете мучиться всю жизнь... В последнее время я много думал. У меня было тяжелое детство. Вокруг было много несправедливости. Я стал коммунистом, чтобы исправить это. Многие годы я делал все что мог. Но что хорошего это дало народу? Да и мне самому? Как случилось, что в конце концов я стал наказанием для собственной семьи? Люди, верящие в воздаяние, говорят, что плохо кончает тот, у кого грех на душе. Я долго думал, что я такого совершил в жизни. Я отдавал приказы о казнях...»
Отец рассказал Цзиньмину о смертных приговорах, подписанных им, о делах э–ба (злых деспотов) во время земельной реформы в Чаояне, назвал имена главарей банд в Ибине. «Но они причинили людям так много зла, что сам Бог повелел бы их убить. Что же я тогда сделал, чем заслужил все это?» После долгой паузы он прибавил: «Если я умру так, как живу, не верь больше в коммунистическую партию».
25. «Дуновение благоуханного ветра»: Новая жизнь со «Справочником электрика» и «Шестью кризисами» (1972–1973)
1969–й, 1970–й, 1971–й годы прошли со смертями, любовью, мучениями и ожиданием. В Мии чередовались дожди и засухи. На равнине Волопаса росла и таяла луна, ревели и затихали ветры, выли и умолкали волки. В Дэяне трижды зацвели лекарственные травы. Я металась между лагерями родителей, смертным одром тети и своей деревней, разбрасывала по рисовым полям навоз и обращалась в стихах к водяным лилиям.
О падении Линь Бяо мама услышала дома, в Чэнду. В ноябре 1971 года ее реабилитировали и сообщили, что в лагерь возвращаться не нужно. Ей стали полностью выплачивать зарплату, однако работу не вернули — ее должность уже заняли. Теперь в восточном районе в ее отделе было по меньшей мере семь заведующих: члены ревкомов и освобожденные из лагерей чиновники. Отчасти мама оказалась безработной по болезни, но важнейшей причиной послужило то, что отца, в отличие от большинства «попутчиков капитализма», не реабилитировали.
Мао допустил массовую реабилитацию не потому, что наконец пришел в себя, а потому, что после смерти Линь Бяо и неизбежной чистки его людей исчез инструмент влияния на армию. Мао убрал практически всех маршалов, выступивших против «культурной революции», почти единственной его опорой был Линь. Великий Кормчий поставил на важные военные посты жену, родственников и заправил «культурной революции», но у них не было прошлого в вооруженных силах, а следовательно, и поддержки подчиненных. С уходом Линя Мао пришлось обратиться к пользующимся доверием репрессированным руководителям, в том числе к Дэн Сяопину, вскоре появившемуся на политической арене. Вождю ничего не оставалось, как уступить — и, прежде всего, вернуть на службу большинство разжалованных чиновников.
Мао знал, что его власть зиждется на стабильной экономике. Его ревкомы раздирали безнадежные противоречия, их члены не блистали талантами и не могли наладить жизнь в стране. Выход был один: вновь призвать старых, опозоренных, руководителей.
Отец все еще находился в Мии, но часть его зарплаты, удерживаемую с июня 1968 года, ему возвратили, и мы неожиданно оказались владельцами астрономической, по нашим понятиям, суммы в банке. Нам вернули также все имущество, конфискованное хунвэйбинами в ходе обысков, за исключением двух бутылок маотая, наиболее ценимого китайцами спиртного напитка. Обнадеживало и другое. Чжоу Эньлай, получив расширенные полномочия, принялся за восстановление хозяйства. Он возродил старые принципы управления, сделал особый упор на производительность и дисциплину, вновь прибег к системе стимулов. Крестьянам разрешили производить дополнительную продукцию на продажу. Ожила наука. В школах после шестилетнего перерыва началось настоящее преподавание. Сяофан в возрасте десяти лет наконец–то пошел учиться.
С оживлением экономики заводы стали нанимать новых рабочих. В качестве поощрения разрешалось отдавать предпочтение детям сотрудников, сосланных в деревню. Мама поговорила с администрацией машиностроительного завода, который ранее находился в ведении восточного района, а теперь подчинялся Второму управлению легкой промышленности Чэнду. Они охотно согласились принять меня. Таким образом, за несколько месяцев до своего двадцатого дня рождения я навсегда оставила Дэян. Сестра должна
была остаться, потому что молодежь из городов, вступившая в брак после отправки в деревню, не имела права вернуться, даже к супругу с городской пропиской.
Я могла пойти только в рабочие. Большинство университетов так и не открылись. Других возможностей у меня не было. Работа на заводе означала восьмичасовой день вместо крестьянского труда от рассвета до заката, избавляла от необходимости таскать тяжести, жить отдельно от семьи, а главное — возвращала городскую прописку с продовольственным и иным государственным обеспечением.
Предприятие располагалось на восточной окраине Чэнду, от дома я доезжала до него минут за сорок пять. Большая часть пути шла вдоль берега Шелковой реки, а потом по грязным проселочным дорогам вдоль рапсовых и пшеничных полей. Приводила она к унылой огороженной территории, где повсюду валялись груды кирпича и ржавеющие стальные листы. Это и был мой завод, весьма и весьма примитивный: некоторые станки помнили начало века. После пяти лет «митингов борьбы», лозунгов и боев между группировками администрацию и инженеров вернули на рабочие места и предприятие начало производить станки. Рабочие приняли меня тепло, прежде всего из–за родителей: разрушительность «культурной революции» вызывала у них ностальгию по старым руководителям, поддерживавшим порядок и стабильность.
Меня определили в литейный цех, в ученицы к женщине, которую все звали «тетя Вэй». Ее детство прошло в нищете, девушкой она не могла позволить себе даже приличной пары штанов. Коммунисты изменили ее жизнь, за что она была им глубоко благодарна. Она вступила в партию и в начале «культурной революции» присоединилась к «лоялистам», защищавшим прежних партработников. Когда Мао открыто поддержал «бунтарей», ее группа потерпела поражение, тетю Вэй пытали. Ее хороший товарищ, старый рабочий, тоже многим обязанный коммунистам, погиб после того, как его горизонтально подвесили за щиколотки и запястья (пытка «плавающая утка»). Тетя Вэй со слезами на глазах поведала мне историю своей жизни и заявила, что навеки связала свою судьбу с партией, пострадавшей от «антипартийных элементов» вроде Линь Бяо. Она относилась ко мне как к родной дочери, главным образом потому, что я происходила из семьи коммунистов. Я не могла разделить ее веру в партию и чувствовала себя с ней неловко.
Вместе со мной работало еще человек тридцать — мужчин и женщин — мы набивали в литейные формы землю. Когда раскаленное добела пузырящееся железо разливали по формам, из них вылетали ослепительные искры. Лебедка над нашим цехом угрожающе скрипела, мне вечно казалось, что тигель с расплавленным железом вот–вот упадет на снующих внизу людей.
Работа литейщика была тяжелой и грязной. От утрамбовки земли у меня опухали руки, но я не унывала, потому что простодушно верила в скорый конец «культурной революции». Мое трудолюбие наверняка удивило бы дэянских крестьян.
Однако, несмотря на весь свой энтузиазм, я обрадовалась, когда через месяц меня перевели на другую работу. Я не выдержала бы, если бы мне пришлось долгое время набивать формы землей по восемь часов в день. Благодаря доброму отношению к моим родителям я могла выбирать между профессиями токаря, лебедчика, телефонистки, плотника и электрика. Меня привлекали две последние. Я хотела возиться с деревом, но решила, что у меня недостаточно умелые руки. Зато мне представилась возможность прославиться в качестве единственной на заводе женщины–электрика. До меня уже работала женщина, впоследствии перешедшая на другую должность. Она всегда вызывала у заводчан неподдельное восхищение. Люди останавливались и глазели, как лихо она взбирается на столбы электропередач. Эта работница, с которой я тут же подружилась, помогла мне принять решение: она сообщила, что электрикам не нужно по восемь часов выстаивать у станка. Они сидят у себя в подсобке, пока их не вызовут на починку. Значит, у меня будет время читать.
В первый же месяц меня пять раз ударило током. Так же, как и для «босоногих врачей», обучения не предусматривалось — еще одно следствие презрения Мао к образованию. Шестеро мужчин из нашей бригады терпеливо меня наставляли, но начинала я с ужасающе низкого уровня. Я даже не знала, что такое пробка. Женщина–электрик подарила мне свой экземпляр «Справочника электрика», однако даже после внимательного его прочтения я путала ток с напряжением. В конце концов мне стало стыдно отнимать у других электриков время и я начала просто копировать их действия без особого понимания теории. Дела пошли быстрее, и со временем я научилась производить кое–какой ремонт самостоятельно.
Как–то рабочий сообщил, что на распределительном щитке испортился выключатель. Я подошла к задней стороне щитка, проверила проводку и решила, что, видимо, разболтался винт. Вместо того, чтобы предварительно отключить питание, я поспешила пощупать винт тестером–отверткой. Хитроумные переплетения проводов находились под напряжением 380 вольт. Мне нужно было чрезвычайно осторожно провести отвертку через это минное поле. Я дотронулась до винта и поняла, что с ним все в порядке. Тут моя рука задрожала от волнения. Затаив дыхание, я стала вынимать ее. Но только я подумала было расслабиться, меня несколько раз тряхануло изо всех сил: ток потек через мою правую руку и по ногам ушел в землю. Я подскочила, отвертка отлетела в сторону. Уже сидя на полу подумала, что еще чуть–чуть — и меня убило бы. Я скрыла этот случай от товарищей, чтобы они не чувствовали себя обязанными ходить на вызовы вместе со мной.
Я привыкла к ударам током. Они никого не удивляли. Один пожилой монтер рассказал мне, что до 1949 года, когда завод находился в частных руках, он проверял напряжение тыльной стороной ладони. Лишь коммунисты заставили предприятие купить электрикам тестеры.
У нас было две комнаты. В ожидании вызовов большинство монтеров играли в карты, а я читала в дальней каморке. В маоистском Китае нежелание общаться с окружающими порицалось как «обособление от масс», и поначалу я нервничала, когда уединялась для чтения. Как только в комнатку заходил кто–нибудь из электриков, я немедленно откладывала книгу и неловко заговаривала с ним. Из–за этого они заходили редко. Я с огромным облегчением обнаружила, что они не возражают против моих странностей. Наоборот, всячески стараются мне не мешать. Чтобы отплатить им за доброту, я старалась сделать как можно больше починок.
В нашей бригаде работал молодой электрик по имени Дэй. До «культурной революции» он учился в школе старшей ступени и считался очень образованным. Он мастерски писал иероглифы и прекрасно владел несколькими музыкальными инструментами. Мне он очень нравился; каждое утро, прислоняясь к косяку нашей двери, он дожидался моего появления. Оказалось, что на многих вызовах мы бываем вместе. Как–то ранней весной, закончив ремонт, мы проводили обеденный перерыв у стога сена на заднем дворе литейного цеха. Был первый солнечный день в году. Над нашими головами над оставшимися на рисовых колосьях зернышками шумно ссорились воробьи. Сено пахло солнцем и землей. Я с радостью узнала, что Дэй, как и я, увлекается классической поэзией и мы, подобно древним поэтам, можем сочинять друг другу стихи на одну и ту же последовательность рифм. Мало кто из людей моего поколения любил и понимал старинные стихи. В тот день мы вернулись на работу с большим опозданием, но никто нас не отчитал. Нас встретили понимающими улыбками.
Вскоре мы с Дэем начали томиться по выходным, считая минуты до новой встречи на заводе. Мы пользовались всякой возможностью быть рядом, касаться друг друга, ощущать запах друг друга и искать поводы обижаться или радоваться, домысливая недосказанные слова.
Затем до меня стали доходить слухи, что Дэй меня недостоин. Меня считали особенной. Я единственная на заводе была дочерью высокопоставленных партработников, и, конечно, большинство рабочих никогда не соприкасались с людьми подобного происхождения. Про детей партработников говорили, что они надменные и испорченные. Я, видимо, оказалась приятным сюрпризом, и некоторые рабочие думали, что никто на фабрике мне не ровня.
Дэю поминали отца, гоминьдановского офицера, отсидевшего в лагере. Рабочие не сомневались, что у меня блестящее будущее, и я не должна «попасть в беду» из–за дружбы с Дэем.
Отец Дэя стал офицером Гоминьдана по чистой случайности. В 1937 году он с двумя товарищами отправился в Яньань, чтобы вместе с коммунистами сражаться с японцами. Они почти дошли до пункта назначения, но тут их остановили на гоминьдановском блок–посту и принялись уговаривать вступить в Гоминьдан. Двое товарищей заявили, что будут пробиваться в Яньань, а отец Дэя подумал: не имеет значения, в какой из китайских армий он будет воевать с японцами, и остался с гоминьдановцами. Когда возобновилась гражданская война, они с друзьями оказались по разные стороны баррикад. После 1949 года его отправили в лагерь, а его бывшие попутчики заняли командные посты в коммунистической армии.
Из–за этой прихоти истории Дэй попал под огонь насмешек: он не знает своего места и «надоедает» мне, он — «выскочка». Его печальное лицо и горькие улыбки ясно показывали, как он страдает от этой подлой болтовни, но сам он ничего мне не говорил. На свои чувства мы намекали лишь в стихах. Теперь он перестал их писать. Уверенность, с которой он начал нашу дружбу, сменилась робостью, даже когда мы были наедине. На людях же он пытался показать, что я ничуть его не интересую. Порой он настолько терял лицо, что я не могла побороть горестного раздражения. Я выросла в привилегированной среде и не понимала, что большинство китайцев не могли позволить себе такой роскоши, как чувство собственного достоинства. Я не осознавала ни мучительности положения, в котором оказался Дэй, ни того, что он не смеет показать свою любовь из страха навредить мне. Постепенно мы отдалились друг от друга.
За четыре месяца знакомства мы ни разу не произнесли слова «любовь». Я гнала его даже из своих мыслей. Слишком глубоко сидели в нас представления о семейном происхождении. Последствия связи с семьей «классового врага» были крайне серьезны. Из–за самоцензуры я никогда не чувствовала себя по–настоящему влюбленной в Дэя.
К этому времени маме перестали колоть кортизон, теперь от склеродермы ее лечили китайскими травами. Мы прочесывали деревенские рынки в поисках удивительных ингредиентов — черепашьего панциря, желчного пузыря змеи, чешуи муравьеда. Врачи советовали ей с оттепелью поехать в Пекин показаться ведущим специалистам по поводу кровотечений и склеродермы. В качестве частичной компенсации за перенесенные страдания власти предложили послать с ней сопровождающее лицо. Мама попросила, чтобы это была я.
В апреле 1972 года мы остановились в Пекине у друзей, общаться с которыми стало безопасно. Мама сходила к нескольким гинекологам в Пекине и Тяньцзине, которые диагностировали у нее доброкачественную опухоль и рекомендовали удалить матку. Они сказали, что до операции уменьшить кровотечения помогут покой и хорошее настроение. Дерматологи считали, что склеродерма может локализоваться и не будет тогда представлять опасности для жизни. Мама последовала советам врачей. На следующий год ей удалили матку. Склеродерма локализовалась.
Мы побывали у многих родительских друзей. Все они находились в процессе реабилитации. Некоторые только освободились из тюрьмы. Рекой текли водка маотай и елезы. Чуть ли не в каждой семье в годы «культурной революции» кто–нибудь погиб. Одну нашу знакомую семью выселили из квартиры, восьмидесятилетняя старушка упала с лестничной площадки, где ночевала, и разбилась насмерть. Другой знакомый, глядя на меня, еле сдерживал слезы. Я напомнила ему дочь, который было бы примерно столько же, сколько мне. Всю их школу выслали на окраину страны, на границу с Сибирью, где девочка забеременела. Она испугалась и послушалась совета тайной повивальной бабки, которая привязала ей к поясу амулет и велела спрыгнуть со стены, чтобы избавиться от ребенка. Она умерла от тяжелого кровотечения. В каждом доме мы слышали трагические истории. Но не теряли надежды и ожидали лучших времен.
Однажды мы отправились в гости к Туну, старому другу родителей, только что вышедшему из тюрьмы. Он был маминым начальником во время похода из Маньчжурии в Сычуань, а затем возглавил управление в Министерстве общественной безопасности. В начале «культурной революции» его назвали «русским шпионом» и обвинили в установке магнитофонов в резиденции Мао — что он действительно сделал, повинуясь приказу. Каждое слово Мао считалось драгоценностью, которая должна быть сохранена; однако Мао говорил на диалекте, который даже его секретари понимали с трудом, к тому же иногда их выставляли из комнаты. В начале 1967 года Туна арестовали и отправили в особую тюрьму для высокопоставленных лиц, Циньчэн. Он пять лет провел в кандалах в одиночном заключении. Его ноги стали как спички, а верхняя часть тела ужасно распухла. Жену заставили от него отказаться и заменить отцовскую фамилию детей на ее, материнскую, в знак того, что они порывают с ним навеки. Большинство их вещей, включая его одежду, конфисковали в ходе налетов. После падения Линь Бяо один из его врагов вернулся к власти и освободил Туна, которому покровительствовал. Жену выпустили из лагеря на северной границе.
Когда она в день освобождения принесла мужу новую одежду, он обратился к ней: «Ты должна была принести мне не только материальные блага, но и духовную пищу [то есть труды Мао]». Все пять лет в одиночке он читал только их. В то время я жила у них в доме и видела, как он заставляет домочадцев ежедневно изучать труды Мао с серьезностью, которая казалась мне скорее трагичной, чем смешной.
Через несколько месяцев после нашей поездки Туна послали разбирать какое–то дело в южном порту. Долгое заключение сделало его непригодным для этой сложной работы, и вскоре у него случился сердечный приступ. Правительственный самолет доставил его в больницу в Гуанчжоу. Там не работал лифт, но он не захотел, чтобы его несли — это противоречит коммунистической морали, — и сам поднялся на пятый этаж. Он умер на операционном столе. Семьи с ним не было — он велел им «не отрываться от работы».
Когда мы с мамой жили у Тунов, пришла телеграмма, что папе разрешили покинуть лагерь. После смерти Линь Бяо лагерные доктора в конце концов поставили отцу диагноз: чрезвычайно высокое давление, тяжелые заболевания сердца и печени и склероз сосудов. Они рекомендовали ему пройти полное обследование в Пекине.
Он доехал поездом до Чэнду, откуда вылетел в Пекин. Поскольку транспорт до аэропорта существовал лишь для пассажиров, мы с мамой ожидали его в городском терминале. Он был худой, почти почерневший от солнца. Впервые за три с половиной года он очутился за пределами гор Мии. Поначалу он никак не мог освоиться в большом городе и вместо «перейти дорогу» говорил «переправиться через реку», вместо «сесть в автобус» — «сесть в лодку». Он неуверенно ходил по людным улицам и опасался машин. Я взяла на себя обязанность водить его. Мы остановились у его старого друга, тоже страшно пострадавшего во время «культурной революции».
Кроме этого человека и Туна отец никого не навещал — ведь его еще не реабилитировали. Меня переполнял оптимизм, а он почти постоянно чувствовал себя подавленно. Стараясь ободрить его, я таскала их с мамой по достопримечательностям в сорокаградусную жару. Однажды чуть ли не силой заставила его поехать вместе со мной на Великую Китайскую стену в битком набитом автобусе, где все дышали пылью и потными испарениями. Я болтала, он слушал с задумчивой улыбкой. У крестьянки, сидящей перед нами, заплакал младенец, и она сильно его шлепнула. Отец вскочил со своего места и закричал: «Не смей бить ребенка!» Я поспешно потянула его за рукав и усадила. На нас смотрел весь автобус. Для китайца вмешиваться в подобные дела было очень необычно. Я со вздохом подумала, что отец изменился с тех пор, как бил Цзиньмина и Сяохэя.
В Пекине я прочитала книги, открывшие мне новые горизонты. В феврале того года в Китае побывал президент США Никсон. Пропаганда заявляла, что он явился «с белым флагом». К тому времени я освободилась от представления об Америке как о «враге номер один», вместе с прочей идеологической шелухой. Я радовалась визиту Никсона, создавшему новый политический климат, в котором стало возможно издать переводы некоторых зарубежных книг. На них стояла помета «для внутреннего пользования» — это теоретически означало, что их можно читать только избранным, но никаких четких правил не существовало, поэтому они свободно циркулировали между знакомыми, если кто–то из них по службе имел доступ к подобным публикациям.
Мне тоже удалось кое–что заполучить. С огромным наслаждением я прочитала никсоновские «Шесть кризисов» (конечно, несколько причесанные, учитывая его антикоммунистическое прошлое), «Лучшие, великолепные» Дэвида Халберстама, «Взлет и падение Третьего Рейха» Уильяма Л. Ширера, «Ветры войны» Германа Воука с их современной (для меня) картиной мира. Описания администрации Кеннеди в «Лучших, великолепных» восхищали меня расслабленной атмосферой, царившей в американском правительстве, которое так отличалась от моего — далекого, страшного, за семью печатями. Меня завораживал стиль документальной прозы — такой невозмутимый и отстраненный! Даже «Шесть кризисов» Никсона казались образцом спокойствия по сравнению с языком китайской прессы, словно молотком вбивавшей читателям в голову брань, клевету и голословные утверждения. В «Ветрах войны» даже больше, чем величественные описания времен, меня впечатлили отступления, рассказывавшие, насколько большое место в голове западных женщин занимает мода, какой у них широкий выбор цветов и стилей одежды, как легко ее купить. В двадцать лет я была обладательницей лишь двух–трех нарядов, таких же, как у всех остальных — почти все синее, серое или белое. Я закрывала глаза и тешила воображение прекрасными платьями, которых никогда не носила и не видела.
Приток сведений о загранице, разумеется, явился следствием общей либерализации после падения Линь Бяо, но приезд Никсона послужил удачным предлогом: китайцы не должны «потерять лицо», показав, что представления не имеют об Америке. В те дни каждый шаг к разрядке сопровождался притянутыми за уши политическими объяснениями. Изучение английского теперь считалось не наказуемым деянием, а достойным занятием: благодаря ему можно было «приобрести друзей по всему миру». Чтобы не обеспокоить и не напугать высокого гостя, упразднили воинственные названия улиц и ресторанов, данные им в начале «культурной революции» «бунтарями». В Чэнду, хотя Никсон туда и не доехал, ресторан «Запах пороха» вновь стал «Дуновением благоуханного ветра».
Я провела в Пекине пять месяцев. Наедине я всегда думала о Дэе. Мы не переписывались. Я посвящала ему стихи, но оставляла их при себе. Постепенно надежды на будущее одержали верх над сожалениями прошлого. Особенно мои мысли занимала поразительная новость: впервые с тех пор, как мне исполнилось четырнадцать, открылась возможность, о которой я не смела и мечтать — поступить в университет. Последние несколько лет в университет в Пекине стали понемногу принимать студентов; казалось, скоро откроются университеты по всей стране. Чжоу Эньлай обращал внимание на изречение Мао о том, что университеты все еще необходимы, особенно в сфере естественных наук и технологий. Мне не терпелось вернуться в Чэнду и начать готовиться.
На завод я возвратилась в сентябре 1972 года, увидела Дэя и не почувствовала боли. Он тоже успокоился, лишь иногда проявлял признаки легкой меланхолии. Мы снова дружили, но больше не говорили о поэзии. Я погрузилась в подготовку к поступлению, хотя и не знала куда именно. Выбирать не приходилось. Мао изрек, что «в образовании следует произвести революционные перемены». Кроме всего прочего, это означало, что при распределении по специальностям не учитывать интересы студентов было бы индивидуализмом, буржуазным пороком. Я начала изучать все основные предметы: китайский, математику, физику, химию, биологию и английский.
Мао также провозгласил, что студентов не следует набирать, как раньше, из выпускников средних школ — они должны найтись среди рабочих и крестьян. Это меня устраивало, потому что недавно я была самой настоящей крестьянкой, а теперь трудилась на заводе.
Чжоу Эньлай решил устроить вступительный экзамен, хотя слово «экзамен» ему пришлось заменить выражением «проверка обладания кандидатом некоторыми базовыми знаниями, а также его умения анализировать и решать конкретные задачи» — это определение сформулировали на основе слов Мао. Новая процедура заключалась в том, что сначала человек получал рекомендацию своего учреждения, затем сдавал вступительные экзамены, а комиссия соотносила экзаменационные оценки с «политическим поведением» заявителя.
Почти десять месяцев все вечера, выходные и значительную часть рабочего времени я корпела над учебниками, не попавшими в хунвэйбинские костры. Их давали друзья.
В моем распоряжении была целая сеть репетиторов, которые с радостью уделяли мне свое свободное время. Любители учения чувствовали родство. Такова была реакция народа с высокоразвитой культурой, которую подвергли почти полному уничтожению.
Весной 1973 года Дэн Сяопина реабилитировали и назначили вице–премьером, фактическим заместителем больного Чжоу Эньлая. Я пришла в восторг. Возвращение Дэна казалось мне верным знаком, что «культурная революция» идет на убыль. Он славился как блестящий руководитель, который стремится строить, а не разрушать. Мао сослал его в относительно безопасное место — на тракторный завод, откуда его можно было вернуть в случае падения Чжоу Эньлая. Хоть и одержимый жаждой власти, Мао никогда не сжигал все мосты.
Реабилитация Дэна радовала меня и по личным причинам. В детстве я близко знала его мачеху, мы многие годы жили по соседству с его единокровной сестрой, которую звали «тетя Дэн». Они с мужем попали в опалу из–за одного только родства с Дэном, и жители нашего блока, которые до «культурной революции» заискивали перед ней, теперь ее сторонились. Но мы здоровались с ней как всегда. Она, со своей стороны, была одной из немногих, кто высказывал нам восхищение поведением отца на самом пике преследований. В те времена даже кивок, даже мимолетная улыбка ценились на вес золота; наши семьи связала теплая дружба.
Летом 1973 года начался прием в университеты. Я ожидала его результатов словно решения вопроса жизни и смерти. Одно место на факультете иностранных языков Сычуаньского университета выделили Второму управлению легкой промышленности Чэнду, к которому относилось двадцать три завода, в том числе и мой. Каждое предприятие должно было выдвинуть на экзамен одного кандидата. У нас на фабрике было несколько сотен рабочих, и из них, вместе со мной, заявление подали шестеро. Провели выборы кандидата; меня выбрали четыре из пяти заводских цехов.
В нашем цехе имелась еще одна кандидатка — моя девятнадцатилетняя подруга. Нас обеих любили, но проголосовать могли только за одну. Ее имя огласили первым. Воцарилось неловкое молчание — очевидно, люди пребывали в нерешительности. Я почувствовала себя очень несчастной: чем больше проголосует за нее, тем меньше за меня. Вдруг она встала и сказала с улыбкой: «Я снимаю свою кандидатуру в пользу Юн Чжан. Я на два года ее моложе. Попытаю силы в следующем году». Рабочие облегченно рассмеялись и пообещали проголосовать за нее в следующий раз. Они сдержали слово. В 1974 году она поступила в университет.
Ее жест, так же как и исход голосования, глубоко меня растрогали. Рабочие помогли сбыться моей мечте. Не помешало и мое происхождение. Дэй заявления не подал — он знал, что никаких шансов у него нет.
Я сдала экзамены по китайскому, математике и английскому. Накануне от волнения не могла заснуть. В обеденный перерыв дома меня ждала сестра. Она нежными движениями помассировала мне голову, я впала в полудрему. Задания были примитивными, старательно выученные мной геометрия, тригонометрия, физика и химия не понадобились. Я получила высшие отметки по всем предметам, а устный английский сдала лучше всех в Чэнду.
Но меня ожидал страшный удар. 20 июля в «Жэньминь жибао» появилась статья о «пустом экзаменационном листе». Человек по имени Чжан Тешэн, сосланный в деревню под Цзиньчжоу, не сумел ответить на экзаменационные вопросы и сдал пустой лист вместе с письмом, где экзамены приравнивались к «реставрации капитализма». Его письмо перехватил заправлявший провинцией Мао Юаньсинь, племянник и личный помощник Мао. Мадам Мао и ее присные заявили, что внимание к успеваемости свидетельствует о «буржуазной диктатуре». «Что случится, если даже вся страна разучится читать и писать? Ведь главное — это триумф культурной революции!» — восклицали они.
Сданные мной экзамены объявили недействительными. Теперь в университеты принимали исключительно на основании «политического поведения». Но как его предъявить? На фабрике мне выдали характеристику, составленную после «коллективного обсуждения» бригады электриков. Дэй написал черновик, а моя бывшая наставница–электрик довела его до полного блеска. Я изображалась абсолютным воплощением добродетелей. Равных мне рабочих в истории не существовало. Но я ни капли не сомневалась, что остальные двадцать два кандидата принесли бумаги ничуть не хуже. Различить нас было невозможно.
Официальная пропаганда ответа на вопрос не давала. Один вовсю расхваливаемый «герой» кричал: «Ты спрашиваешь меня о праве на университет? Вот оно!» — и он показывал мозоли на руках. Но у нас у всех были такие же. Все работали на фабриках, а до этого почти все — в деревне.
Оставался только блат.
Большинство начальства Сычуаньской приемной комиссии были реабилитированными старыми коллегами отца; они восхищались его мужеством и принципиальностью. Однако отец, как ни желал, чтобы я получила высшее образование, не мог к ним обратиться. «Это нечестно по отношению к тем, у кого нет связей, — повторял он. — Что бы стало с нашим государством, если бы так делались дела?» Я заспорила с ним и в конце концов расплакалась. Я, должно быть, выглядела очень жалко, потому что в итоге он сказал со страдальческим лицом: «Хорошо, я это сделаю».
Я взяла его за руку, и мы направились в больницу в полутора километрах от нашего дома, где проходил диспансеризацию один из высокопоставленных членов приемной комиссии: практически всех своих жертв «культурная революция» сделала глубоко больными людьми. Отец шел медленно, опираясь на палку. От былой энергии и целеустремленности не осталось и следа. Я смотрела, как он идет шаркающей походкой, отдыхает каждые пять минут и мучается не только телом, но и душой, и все порывалась сказать: «Давай вернемся». Но мне очень хотелось попасть в университет.
Дойдя до больничного двора, мы присели на краю низкого каменного мостика. Отец выглядел истерзанным. В конце концов он проговорил: «Простишь ли ты меня? Мне очень трудно это сделать...» На мгновение я почувствовала горькую обиду и чуть не крикнула ему, что предлагаю ему самый честный выбор, что я так мечтала поступить в университет, что заслужила его — упорной работой, результатами экзаменов, тем, что меня выбрали. Но отец и так все это знал. Ведь именно он вложил в меня жажду знаний. Но у него были свои принципы, и, любя его, я должна была принять его таким, каков он есть, понять, как сложно ему быть нравственным человеком в безнравственной стране. Я сдержала слезы и сказала: «Разумеется». Мы молча поплелись обратно.
Как мне повезло с моей находчивой мамой! Она обратилась к жене председателя приемной комиссии — и та поговорила со своим мужем. Мама сходила и к другим начальникам и убедила их поддержать мою кандидатуру. Она особенно подчеркнула мои экзаменационные отметки, потому что знала, что это подействует на бывших «попутчиков капитализма» сильнее всего. В октябре 1973 года я приступила к изучению английского языка на факультете иностранных языков Сычуаньского университета, находящегося в Чэнду.
26. «Сладкая иностранная вонь»: Изучение английского в последние годы Мао (1972–1974)
Когда осенью 1972 года мама вернулась из Пекина, все свои силы она стала отдавать нам, пятерым детям. С моим самым младшим братом, Сяофаном, тогда десятилетним, требовалось заниматься дополнительно, потому что он несколько лет не ходил в школу. Будущее остальных детей также в основном зависело от нее.
Паралич, в котором общество пребывало шесть лет, породил множество социальных проблем, которые никто не собирался решать. Одной из самых серьезных были сосланные в деревню подростки, которые мечтали вернуться в город. После гибели Линь Бяо у некоторых из них появилась такая возможность, отчасти потому, что государству требовалась рабочая сила для восстановления городского хозяйства. Однако государство должно было строго контролировать число возвращенцев: оно отвечало за обеспечение горожан продовольствием, жильем и рабочими местами.
Так что борьба за немногочисленные «обратные билеты» была очень острой. Существовали специальные правила. Например, не могли вернуться вступившие в брак. Ни одна городская организация не приняла бы женатого или замужнюю. Поэтому моя сестра не имела права ни на работу в городе, ни на место в университете — а других законных способов вернуться в Чэнду не существовало. Она очень тосковала по мужу; его завод вновь заработал, и теперь он не мог жить с ней в Дэяне за исключением двенадцати дней в году — времени официального «брачного отпуска». Она могла вернуться в Чэнду, только получив справку, что у нее неизлечимое заболевание — так поступали многие, кто оказался в сходном положении. Мама достала у знакомого врача справку, гласившую, что у Сяохун цирроз печени. Сестра вернулась в конце 1972 года.
Теперь дела делались по блату. К маме каждый день приходили посетители: учителя, врачи, медсестры, актеры, мелкие чиновники — и все они просили вытащить из деревни своих детей. Часто моя безработная мама была единственной их надеждой, и она использовала все свои личные связи. Отец в этом не участвовал; он слишком верил в принципы, чтобы «хлопотать».
Даже когда официальный канал работал, только знакомство могло гарантировать, что все пройдет гладко и не случится никакой беды. Мой брат Цзиньмин выбрался из деревни в марте 1972 года. Рабочих из его коммуны набирали две организации: фабрика электроприборов в уездном городе и неизвестное предприятие в западном районе Чэнду. Цзиньмин хотел вернуться, но мама навела справки у друзей в западном районе и выяснила, что работу предлагает скотобойня. Цзиньмин тут же забрал заявление и отправился трудиться на местную фабрику.
На самом деле это был крупный завод, переведенный из Шанхая в 1966 году в рамках плана Мао укрыть промышленность в горах Сычуани от американского или советского нападения. Честность и трудолюбие Цзиньмина произвели на товарищей благоприятное впечатление, и в 1973 году он стал одним из четырех молодых людей, отобранных заводом из двухсот кандидатов в студенты. Письменные экзамены он сдал блестяще, без малейшего труда. Но, поскольку отца так и не реабилитировали, мама позаботилась, чтобы во время обязательной «политической проверки» университет не испугался этого обстоятельства — следовало создать ощущение, что обвинения вот–вот снимут. Она также приняла меры, чтобы место Цзиньмина не занял какой–нибудь провалившийся на экзаменах абитуриент с нужными связями. В октябре 1973 года, когда я начала учебу в Сычуаньском университете, Цзиньмина приняли в Инженерный институт Центрального Китая, находившийся в Ухане. Ему предстояло изучать литейное дело. Брат предпочел бы физику, но все–таки был на седьмом небе от счастья.
Пока мы с Цзиньмином пытались прорваться в университет, второй мой брат, Сяохэй, пребывал в подавленном состоянии духа. Для поступления в вуз прежде всего требовалось принадлежать к рабочим, крестьянам или солдатам, а он не имел ни с одной из этих категорий ничего общего. Власти по–прежнему в массовом порядке высылали городскую молодежь в деревню. Именно это будущее и моего брата его — если только он не вступит в армию. На одно место претендовали десятки человек, выручить могло только знакомство.
Мама пристроила Сяохэя в декабре 1972 года, с огромными трудностями, потому что отца до сих пор не оправдали. Сяохэя направили в авиационное училище в Северном Китае. После трехмесячного обучения он стал радистом, работал по пять часов в день, весьма вальяжно, а остальное время посвящал «политзанятиям» и производству продовольствия.
На «политзанятиях» все утверждали, что вступили в вооруженные силы, чтобы «следовать указаниям партии, защищать народ, оборонять Родину». Но существовали и более актуальные причины. Молодые горожане не хотели оказаться в деревне, а крестьяне рассчитывали использовать армию как трамплин для переезда в город. Крестьянам из бедных районов военная служба по меньшей мере сулила относительную сытость.
В 1970–е годы вступление в партию, так же, как и в армию, теряло всякую связь с идеологией. В заявлениях все писали, что «дело партии великое, славное и правое» и что «стать коммунистом — значит посвятить жизнь священнейшему долгу человека: освобождению мирового пролетариата». Однако большинство в первую очередь стремилось к собственной выгоде. Без вступления в партию нельзя было стать офицером; офицер же при увольнении автоматически становился «госслужащим» с гарантированной зарплатой, престижем и властью, не говоря уж о городской прописке. Рядовой возвращался в родную деревню и вновь становился крестьянином. Каждый год перед демобилизацией среди военнослужащих ходили слухи о самоубийствах, нервных срывах и депрессиях.
Однажды вечером Сяохэй вместе с примерно тысячью человек — солдатами, офицерами, членами офицерских семей — смотрел кино на открытом воздухе.
Вдруг застрекотал пулемет и прогремел взрыв. Люди стали в панике разбегаться. Стрелял часовой, которого вскоре должны были демобилизовать и отослать обратно в деревню, потому что его не приняли в партию, а следовательно и в офицеры. Сначала он убил комиссара подразделения, которого считал виновным в своем провале, а затем принялся беспорядочно строчить по толпе и размахивать гранатой. Погибло еще пятеро — жены и дети офицеров. Более десятка получили ранения. Солдат забежал в жилой дом; однополчане окружили его и через громкоговорители приказали сдаться. Но едва часовой пальнул из окна, они позорно бежали, развеселив сотни увлеченных зрителей. В конце концов явился спецотряд. После ожесточенной перестрелки бойцы ворвались в квартиру и обнаружили, что часовой покончил с собой.
Как и все, Сяохэй хотел вступить в партию. Для него это не было делом жизни и смерти, как для бывших крестьян, которые по окончании военной службы обязаны были вернуться в деревню. Солдаты возвращались туда, где их призвали, и Сяохэй, ушедший в армию из Чэнду, имел право в любом случае получить там работу. Но членство в партии улучшало перспективы, а также давало более широкий доступ к информации, чем тоже не стоило пренебрегать, ибо Китай в ту пору представлял собой интеллектуальную пустыню, где нечего было читать, кроме агиток.
Помимо этих практических соображений, существовало еще одно — страх. Для многих вступить в партию означало получить своеобразную индульгенцию. Члены партии пользовались большим доверием, чем остальные, и это чувство относительной безопасности весьма согревало душу. К тому же в сверхполитизированной среде, окружавшей Сяохэя, нежелание вступать в партию, что непременно отмечалось в личном деле, выглядело подозрительно: «Это еще почему?» Подавшие заявление, но не принятые тоже внушали подозрение: «Не взяли? Что–то тут не так...»
Сяохэй читал классиков марксизма с неподдельным интересом, ведь только их тексты и можно было раздобыть, а ему нужно было как–то утолять интеллектуальную жажду. К тому же, в Уставе Коммунистической Партии Китая говорилось, что для вступления в нее прежде всего нужно овладеть марксизмом–ленинизмом, и брат надеялся, что сможет сочетать интерес с практической выгодой. Но ни на командиров, ни на товарищей его знания не производили впечатления. Напротив, полуграмотные люди, в основном выходцы из крестьян, не понимавшие Маркса, сочли, что Сяохэй выхваляется перед ними. Его критиковали за чванство и за то, что он отделяет себя от коллектива. В общем, ему нужно было искать какой–то другой путь в партию.
В первую очередь, как он вскоре понял, надо было угождать непосредственным начальникам, а уж потом — товарищам. Кроме уважения коллектива и ударного труда, требовалось еще «служить народу» в самом прямом смысле слова. Как правило, в армии неприятную и черную работу обычно поручают низшим чинам, в китайской же армии охотники, добивавшиеся чести вступить в партию, сами вызывались натаскать воды для умывания или подмести территорию. Подъем был в 06:30 утра, «честь» вставать еще раньше выпадала на долю кандидатов в члены партии. А их было так много, что разгорались драки: чтобы «забить» себе метлу, люди вставали все раньше и раньше. Однажды Сяохэй проснулся от шарканья метлы в четыре утра.
Существовали и другие важные сферы деятельности, и самой значительной была продовольственная.
Даже офицерский паек был крайне скудным. Мясо давали один раз в неделю. Каждая рота сама выращивала зерновые и овощи, сама выкармливала свиней. Во время деревенской страды ротный комиссар выступал с зажигательными речами: «Товарищи, настал час! Партия нас проверяет! К вечеру мы должны пройти все поле. Да, для этой работы требуется вдесятеро больше людей, чем есть. Но каждый из нас, революционных бойцов, может трудиться за десятерых! Коммунисты должны играть руководящую роль. Тем же, кто мечтает вступить в партию, пришло время показать, на что они способны. Тот, кто пройдет испытание, станет коммунистом сегодня вечером — прямо на поле боя!»
Члены партии действительно старались вовсю, но роль у них была «руководящая», так что по–настоящему выкладываться приходилось кандидатам — «коммунистам полевого призыва», которые в конце дня поднимали сжатую в кулак правую руку и давали клятву «всю жизнь бороться за славное дело коммунизма». Однажды Сяохэй до того доработался, что потерял сознание и рухнул посреди поля, в результате чего угодил в больницу, где провалялся довольно долго.
Наипрямейшей дорогой в партию являлось свиноводство. У роты было несколько десятков свиней, и они занимали ни с чем не сравнимое место в солдатских сердцах; офицеры и рядовые не отходили от свинарника, наблюдая, отпуская замечания и желая свиньям быстрого прибавления в весе. Если хрюшки процветали, свинари пользовались всеобщей любовью, и на эту должность имелось множество претендентов.
Сяохэй всецело посвятил себя свиноводству. Работа была тяжелая, грязная, не говоря уж о психологической ее стороне. Приходилось вставать ни свет ни заря, чтобы покормить питомцев. Когда свиноматка поросилась, дежурили ночами, чтобы она не заспала приплод. Драгоценные соевые бобы курсанты собирали, промывали, мололи, отжимали, а полученное «соевое молоко» любовно преподносили кормящей матери, чтобы усилить лактацию. Жизнь в военной авиации мало походила на то, что некогда представлялось Сяохэю. Пожалуй, не меньше трети армейской службы ушло на «производство продовольствия». После года беззаветного служения свиньям Сяохэя приняли в партию. Тут он, как и многие другие, дал себе расслабиться.
Каждый новоявленный партиец ставил себе цель выбиться в офицеры, что сулило двойную выгоду по сравнению с членством в партии как таковым. Поэтому очень важно было не настраивать против себя начальство. Как–то Сяохэя вызвали к одному из политруков училища. Сяохэй места себе не находил, не зная, что его ждет — удача или беда. Политрук, толстяк лет пятидесяти с налитыми кровью глазами и громким командирским голосом, встретил брата чрезвычайно благосклонно: закурив, стал расспрашивать Сяохэя о его социальном происхождении, возрасте и состоянии здоровья. Затем последовал вопрос о невесте, и Сяохэй ответил, что невесты у него пока нет. А про себя подумал, что такая личная заинтересованность — пожалуй, хороший знак. Политрук продолжал нахваливать его: «Ты добросовестно изучал марксизм–ленинизм и учение Мао Цзэдуна. Ударно трудился. Коллектив тебя одобряет. Ты, конечно, не задавайся, скромность — залог успеха», и так далее. К тому времени, как политрук стал тушить бычок, Сяохэй уже думал, что звание у него в кармане.
А тот снова закурил и стал рассказывать о пожаре на хлопкопрядильной фабрике и о работнице, сильно обгоревшей при спасении «государственной собственности». Ей ампутировали и руки и ноги, только и осталось, что голова да туловище; но, подчеркнул политрук, не пострадали ни лицо, ни, что еще важнее, детородные органы. Политрук сказал, что она героиня и ее собираются широко прославить в прессе. Партии хотелось бы пойти навстречу ее желаниям, а она призналась, что мечтает выйти замуж за летчика. Сяохэй молод, хорош собой, свободен и может стать офицером в любую минуту...
Сяохэю было жалко девушку, но жениться на ней не хотелось. Как отказать политруку? Какие доводы привести? Любовь? Но партия считала, что любовь — классовое чувство, а кого же любить, если не коммунистическую героиню? То, что он с ней не знаком, не поможет ему сорваться с крючка: в Китае многие браки совершались по решению партии. Как партиец, а тем более ожидающий производства в офицеры курсант, Сяохэй обязан был сказать: «Я беспрекословно повинуюсь воле партии!» А он к тому же проболтался, что у него нет невесты. Голова его бешено работала в поисках вежливого отказа, а политрук тем временем распространялся о преимуществах подобного брака: Сяохэй незамедлительно станет офицером, его прославят как героя, жене назначат постоянную сиделку и всю жизнь будут выплачивать щедрое денежное содержание.
Политрук закурил следующую папиросу и замолчал. Сяохэй тщательно подбирал слова. Рассчитав риск, он спросил, приняла ли уже партия решение. Он знал, что партия всегда предпочитает «добровольцев». Как и ожидалось, политрук сказал «нет» — решать Сяохэю. Сяохэй рискнул: он «признался», что, хотя у него нет невесты, мать нашла ему подругу. Чтобы переплюнуть героиню, подруге требовались два качества: безупречное классовое происхождение и доблестный труд — в вышеозначенной последовательности. Она стала дочерью командующего большим военным округом, работающей в госпитале. Они уже начали «говорить о любви».
Политрук отступил, заявив, что только хотел знать мнение Сяохэя и не собирается навязывать ему супругу. Брата не наказали, а некоторое время спустя даже произвели в офицеры и назначили в службу наземной связи. А калеку–героиню согласился взять в жены крестьянский парень.
Тем временем мадам Мао со товарищи вновь принялись, не покладая рук, ставить стране палки в колеса. В промышленности их лозунгом было: «Остановить производство — уже революция». Для сельского хозяйства, в которое они теперь вмешались всерьез, «лучше социалистические сорняки, чем капиталистические урожаи». Перенимать иностранные технологии значило «нюхать, как воняют иностранцы, и говорить: «Ах, как сладко!»». В образовании: «Нам нужны неграмотные трудящиеся, а не духовные аристократы». Они подначивали школьников бунтовать против учителей; в январе 1974 года в Пекине вновь били окна и ломали парты и стулья, как в 1966 году. Мадам Мао сравнила это «с революционными действиями английских рабочих XVIII века, уничтожавших машины». Вся эта демагогия имела одну цель: осложнить жизнь Чжоу Эньлаю и Дэн Сяопину и породить хаос. Мадам Мао и прочие деятели «культурной революции» могли «блистать» только в разрушении. В созидании им не было места.
Чжоу и Дэн осторожно пытались открыть страну внешнему миру, поэтому мадам Мао начала новую атаку на зарубежную культуру. В начале 1974 года в прессе прошла большая кампания против итальянского режиссера Микеланджело Антониони, снявшего фильм о Китае; в Китае никто этого фильма не видел и мало кто слышал как о фильме, так и о самом Антониони. После гастролей Филадельфийского оркестра ксенофобия распространилась и на Бетховена.
За два года после падения Линь Бяо надежды сменились в моем сердце отчаянием и гневом. Утешало лишь то, что вообще происходила какая–то борьба, что безумие не одерживало безусловной победы, как в первые годы «культурной революции». Теперь Мао не оказывал явной поддержки ни одной из сторон. Попытки Чжоу и Дэна поворотить «культурную революцию» вспять приводили его в бешенство, но он понимал, что его жена со своими прихвостнями не смогут держать страну на плаву.
Мао позволил Чжоу продолжать управлять страной, но напустил на него свою жену, устроившую, в частности, кампанию «критики Конфуция». Лозунги внешне обличали Линь Бяо, но на самом деле были направлены против Чжоу, который, как считалось в обществе, преклонялся перед добродетелями, провозглашаемыми древним мудрецом. Хотя Чжоу проявлял беспрекословную преданность Мао, тот никак не мог оставить его в покое. Даже теперь, когда Чжоу был смертельно болен раком мочевого пузыря.
Именно в этот период я начала осознавать, что за «культурную революцию» прежде всего отвечает Мао, но по–прежнему не обвиняла его прямо, даже про себя. Так трудно было сбросить с алтаря бога! Но психологически я готова была услышать это обвинение от другого.
Образование стало главным направлением саботажа мадам Мао и ее камарильи: оно не было непосредственно связано с жизнеспособностью экономики, а кроме того, всякая попытка учить или учиться противоречила прославленному невежеству «культурной революции». Поступив в университет, я оказалась на поле битвы.
Сычуаньский университет ранее был штабом «Двадцать шестого августа» — группы цзаофаней, действовавшей под эгидой Тинов; здания покрывали шрамы семи лет «культурной революции». Не оставалось почти ни одного неразбитого окна. Пруд посреди кампуса, некогда знаменитый изящными лотосами и золотыми рыбками, превратился в вонючее комариное болото. Платановая аллея, начинавшаяся от главных ворот, выглядела жалко.
Едва я поступила в университет, началась кампания против «задней двери» (блата). Конечно, никто не говорил о том, что «переднюю дверь» заблокировали сами вожди «культурной революции». Среди новых студентов «рабоче–крестьянско–солдатского происхождения» я видела множество детей высокопоставленных чиновников; почти у всех остальных, если сами они не были мелкими партработниками, были связи: у крестьян — с бригадирами или секретарями коммун, у рабочих — с заводским начальством. Войти можно было лишь через «заднюю дверь». Мои однокурсники участвовали в этой кампании без особого энтузиазма.
Каждый день после обеда, а иногда и вечерами, мы должны были «изучать» велеречивые статьи из «Жэньминь жибао», разоблачавшие то или иное явление, а также вести бессмысленные «дискуссии», во время которых все повторяли напыщенные и пустые фразы из статей. Нам следовало постоянно находиться в кампусе, за исключением вечера субботы и воскресенья; воскресным вечером мы возвращались в общежитие.
Я жила в комнате с пятью девушками. Слева и справа вдоль стен стояло по три двухэтажных кровати, между ними — шесть стульев и стол, за которым мы делали домашнее задание. Нам почти некуда было поставить тазы для умывания. Окно выходило на зловонную сточную канаву.
Я специализировалась в английском языке, но изучать его не было практически никакой возможности. Ни для кого вокруг он не являлся родным, какие бы то ни было иностранцы отсутствовали. Вся провинция Сычуань была для них закрыта. Изредка туда пропускали какого–нибудь «друга Китая», но самочинный разговор с ними считался уголовным преступлением. За слушание «Би–Би–Си» или «Голоса Америки» мы могли угодить в тюрьму. Нельзя было читать никаких иностранных изданий кроме «Уоркера», органа крошечной маоистской Коммунистической Партии Британии, но даже эта газета хранилась под замком в особой комнате. Я помню, в какое волнение пришла, когда один–единственный раз получила разрешение взглянуть на нее. Все мое воодушевление испарилось, едва мой взгляд упал на передовицу с «критикой Конфуция». Мимо проходил один симпатичный мне преподаватель; увидев мое замешательство, он с улыбкой сказал: «Видимо, эту газету читают только в Китае».
Наши учебники пестрели смехотворной пропагандой. Первое изученное нами английское предложение звучало: «Да здравствует Председатель Мао!». Но никто не осмеливался объяснить это предложение грамматически. По–китайски сослагательное наклонение, обозначающее нечто желательное, буквально называется «нереальным». В 1966 году преподавателя Сычуаньского университета избили за то, что он «имел наглость назвать пожелание «Да здравствует Председатель Мао!» нереальным»! Одна глава в учебнике рассказывала о юном герое, который утонул во время наводнения, спасая электрический столб — ведь столб будет нести слово Мао.
С большими трудностями я сумела раздобыть учебники английского языка, изданные до «культурной революции» у преподавателей нашего факультета и у Цзиньмина, присылавшего мне книги из своего университета по почте. Там были отрывки из Джейн Остин, Чарльза Диккенса, Оскара Уайльда, рассказы из европейской и американской истории. Читать их было увлекательно, но большая часть моей энергии уходила на то, чтобы достать и сохранить эти книги.
Едва кто–нибудь подходил, я быстро прикрывала их газетой. Это лишь частично объяснялось их «буржуазным» содержанием. Важно было также не казаться слишком прилежной ученицей и не возбуждать в товарищах зависти по поводу того, что я читаю нечто совершенно им недоступное. Хотя мы изучали английский язык и получали за это деньги — отчасти из–за нашей ценности для пропаганды, — нам не следовало проявлять излишнего интереса к своему предмету: такие люди назывались «белыми спецами». По безумной логике того времени хорошо знавшие свое дело («спецы») автоматически считались политически неблагонадежными («белыми»).
Я имела несчастье учиться лучше своих одноклассников и поэтому вызывала неприязнь «студентов–партработников», контролеров самого низкого уровня, отвечавших за «политучебу» и «идейный уровень» своих однокурсников. На моем курсе студенты–партработники в основном происходили из крестьян. Им очень хотелось выучить английский язык, но большинство из них были полуграмотными и малоспособными. Я сочувствовала их мукам и понимала, почему они мне завидуют. Однако маоистская теория о «белых спецах» придавала их недостаткам политический авторитет, а им самим обеспечивала возможность выместить свое возмущение на тех, кто учится лучше.
Студенты–партработники постоянно вызывали меня на «разговор по душам». Парторгом нашего курса был некий Мин — из деревни он попал в армию, а потом возглавил сельскохозяйственную бригаду. Мин, учившийся очень плохо, долго и самодовольно читал мне лекции о последних достижениях «культурной революции», «славных задачах, стоящих перед нами — рабоче–крестьянско–солдатскими студентами» и необходимости «идейной перековки». Эти «разговоры по душам» проводились со мной из–за моих недостатков, но Мин никогда не говорил о них прямо. Он предпочитал многоточия: «У масс есть к тебе претензия. Догадываешься?..» — и он смотрел, какое впечатление произвели на меня его слова. В конце концов он произносил конкретное обвинение. То я вела себя как «белый спец», то оказывалась «буржуазной», потому что не боролась за возможность вымыть туалет или выстирать белье подруг — то есть совершить обязательные добрые поступки. В другой раз он приписывал мне «низкие чувства»: я не трачу все свое свободное время, занимаясь с однокурсниками, потому что не хочу, чтобы они меня догнали.
У Мина дрожали губы, когда он говорил мне (очевидно, он принимал это близко к сердцу): «Массы докладывают, что ты держишься в стороне. Ты отделяешь себя от масс». В Китае люди часто считали, что вы смотрите на них свысока, если вы не скрывали желания побыть наедине.
Уровнем выше, чем студенты–партработники, шли политические руководители, почти или совсем не знавшие английского языка. Они меня не любили. Я их тоже. Время от времени я должна была рассказывать свои мысли политруку, занимавшемуся моим курсом. Перед каждой встречей я часами бродила по кампусу, набираясь решимости постучать в его дверь. Хотя он не казался мне дурным человеком, я его боялась. Но больше всего я боялась неизбежных нудных расплывчатых распеканий. Как и многие другие, он любил играть в кошки–мышки, чтобы почувствовать свою власть. Мне же следовало выглядеть робкой, серьезной и обещать то, что я и не думала делать.
У меня началась ностальгия по годам в деревне и на заводе, когда меня более–менее не трогали. Университеты контролировались гораздо жестче, потому что представляли особый интерес для мадам Мао. Теперь я находилась среди людей, извлекших пользу из «культурной революции». Без нее многие из них здесь не оказались бы.
Однажды нескольким студентам нашего курса поручили составить словарь английских сокращений. Факультет решил, что существующий «реакционен», потому что, разумеется, он содержал гораздо больше «капиталистических», чем «идейных» аббревиатур. «Почему у Рузвельта есть сокращение — ФДР, — а у Председателя Мао нет?» — возмущенно спрашивали некоторые студенты. Они с торжественной серьезностью подбирали подходящие словарные статьи, но в конце концов вынуждены были отказаться от своей «исторической миссии», потому что правильных сокращений явно не хватало.
Меня эта обстановка выводила из себя. Я понимала причины невежества, но не могла принять его прославления, а тем более предоставляемого ему права решать все вокруг.
Нас часто посылали заниматься вещами, не имевшими никакого отношения к нашей специальности. Мао провозгласил, что мы должны «учиться на заводах, в деревне и военных частях». Чему именно мы должны там учиться, как всегда, не уточнялось. Мы начали с «обучения в деревне». Когда я только поступила на первый курс, весь университет на неделю отправили в местечко под Чэнду, называвшееся Источник у Драконьей горы. Этому населенному пункту не повезло — его посетил один из вице–премьеров, Чэнь Юнгуй. Когда–то он возглавлял сельскохозяйственную бригаду Дачжай в северной гористой провинции Шаньси; эта бригада стала для Мао образцовой сельскохозяйственной единицей, видимо, потому, что работа ее основывалась на революционном энтузиазме крестьян, а не на материальных стимулах. Мао не заметил или не пожелал заметить, что заявляемые достижения Дачжая мало соответствовали действительности. Когда вице–премьер Чэнь приехал в Источник у Драконьей горы, он воскликнул: «О, у вас тут горы! Сколько же полей тут можно устроить!» — словно плодородные холмы, покрытые фруктовыми садами, походили на голые горы его родной деревни. Но его замечания имели силу закона. Толпы студентов взорвали сады, снабжавшие Чэнду яблоками, сливами, персиками и цветами. Издалека мы привозили на тележках и приносили на коромыслах камни, чтобы разбить террасированные рисовые поля.
В этом деле обязательно требовалось демонстрировать усердие, как и во всех остальных делах, к которым призывал Мао. Прилежание многих моих товарищей просто бросалось в глаза. Меня же считали недостаточно старательной, во–первых, потому, что я с трудом скрывала отвращение к этому занятию, а во–вторых — потому, что я мало потела, как бы тяжело ни работала. Студентов, у которых пот тек ручьем, хвалили на ежевечерних собраниях.
Разумеется, учащиеся проявляли больше энтузиазма, чем профессионализма. Динамитные бруски, которые они вставляли в землю, обычно не взрывались — к счастью, потому что никаких мер безопасности не принималось. Каменные ограждения, выложенные нами вокруг полей, вскоре рассыпались, и ко времени нашего отъезда, через две недели, горный склон представлял собой пустырь, покрытый воронками от взрывов, бесформенными цементными глыбами и грудами камней. Это мало кого волновало. Все это предприятие было лишь спектаклем, театральным представлением — бессмысленным средством во имя бессмысленной цели.
Я ненавидела эти поездки, меня глубоко возмущало, что наш труд и само наше существование использовались для низкопробной политической игры. Такое же раздражение переполняло меня, когда в конце 1974 года всех нас послали в воинскую часть.
Военный лагерь, до которого мы из Чэнду часа два добирались на грузовике, располагался в чудесном месте, в окружении рисовых полей, цветущих персиковых деревьев и бамбуковых рощ. Но проведенные там семнадцать дней показались мне годом. Каждое утро я задыхалась от долгих кроссов; все мое тело покрывали синяки — нужно было падать и ползать под воображаемым огнем «танков противника»; я изнемогала от многочасовых учений, во время которых куда–то целилась из винтовки и бросала деревянные гранаты. Все это я должна была выполнять умело и с воодушевлением — а вместо этого демонстрировала полное отсутствие необходимых навыков. Мне не могли простить, что я сильна только в английском — в своей специальности. Военные учения имели политическое значение, и я обязана была себя в них проявить. Забавно, но в самой армии за меткость и прочие воинские доблести солдат мог попасть в «белые спецы».
Я попала в горстку отверженных, которые бросали деревянные гранаты на такое опасно малое расстояние, что нас не допустили до торжественного метания настоящей гранаты. Наша жалкая компания сидела на вершине холма и вслушивалась в доносящиеся взрывы. Одна девушка разрыдалась. Я тоже чувствовала себя не в своей тарелке: я в очередной раз продемонстрировала всем свою «белизну».
Вторым испытанием была стрельба. По дороге на стрельбище я говорила себе: ни за что нельзя провалить и это. Когда меня вызвали и я легла на землю, я не увидела в мушке мишени — глаза застилала тьма. Я не видела ни цели, ни земли, ничего. Меня трясло, я чувствовала, что меня покинули все силы. Команда «пли!» прозвучала слабо, словно из–за дальних облаков. Я нажала на курок, но ничего не увидела и не услышала. Проверив мишень, инструкторы пришли в недоумение — ни одна из десяти выпущенных мною пуль не попала даже в щит, не говоря уже о мишени.
Я не поверила собственным глазам. У меня было стопроцентное зрение. Я сказала инструктору, что у винтовки, наверно, гнутый ствол. Он, кажется, мне поверил: результат был слишком плохим, чтобы объясняться одной моей неловкостью. Мне дали другую винтовку, что вызвало жалобы со стороны других неудачников, безуспешно просивших разрешения перестрелять. Во время второго подхода мне повезло чуть больше: две из десяти пуль попали во внешние круги. Тем не менее мое имя оказалось последним в общеуниверситетском списке. Я смотрела на результаты, вывешенные на стене, словно дацзыбао, и ощущала, что моя «белизна» стала еще ослепительнее. Один из студентов–партработников саркастически заметил: «Ха! Второй подход! Если у нее нет классовых чувств, классовой ненависти, ей и сто подходов не помогут!»
Вся в своих переживаниях, я почти не замечала солдат, крестьянских парней двадцати с чем–то лет, которые нас обучали. Только один случай привлек к ним мое внимание. Как–то вечером девушки сняли с веревки свое белье и увидели на трусах явные следы спермы.
В университете я нашла приют в домах профессоров и преподавателей, получивших работу до «культурной революции», благодаря своим знаниям. Несколько профессоров успели побывать в Англии и Америке до прихода коммунистов к власти, и я чувствовала, что могу расслабиться и говорить с ними на одном языке. Тем не менее, они соблюдали осторожность. После многолетних репрессий так вели себя почти все интеллектуалы. Мы избегали разговоров на опасные темы. Жившие когда–то на Западе редко предавались воспоминаниям об этом периоде своей биографии. Преодолевая мучительное любопытство, я не задавала им никаких вопросов, дабы не поставить их в трудное положение.
Отчасти по той же причине я никогда не обсуждала своих мыслей с родителями. Что бы я услышала в ответ: опасную правду или осторожную ложь? К тому же, не хотелось огорчать их своей ересью. Я стремилась держать их в искреннем неведении, чтобы, если со мной что–нибудь случится, они могли не покривив душой сказать, что ничего не знали.
Мыслями я делилась с друзьями–ровесниками. Нам, в общем–то, нечем было заняться кроме разговоров, особенно с молодыми людьми. Выйти с мужчиной «в свет» — то есть показаться вдвоем на людях — фактически приравнивалось к помолвке. Да и в любом случае, куда мы могли пойти? В кинотеатрах крутили лишь несколько фильмов, одобренных мадам Мао. Изредка показывали иностранную — например, албанскую — картину, но почти все билеты тут же оказывались в карманах людей со связями. Кассу чуть не сносила дикая толпа, люди оттирали друг друга от окошка и пытались завладеть одним из немногих оставшихся билетов. Спекулянты хорошо зарабатывали.
Так что мы только сидели дома и беседовали. Вели мы себя необычайно прилично, в полном соответствии с нравами викторианской Англии. Тогда считалось странным, если у женщины друзья — мужчины. Однажды подруга сказала мне: «Никогда не встречала девушки, у которой столько друзей мужского пола. Нормально, когда девушки дружат с девушками». Она была права. Я знала много девушек, которые вышли замуж за первого мужчину, оказавшегося рядом с ними. Единственными проявлениями интереса, поступавшими от моих друзей–мужчин, были весьма сентиментальные стихи и довольно сдержанные письма — одно из них вратарь университетской футбольной команды якобы написал кровью.
Мы с друзьями часто разговаривали о Западе. К тому времени я пришла к заключению, что это чудесное место. Как ни странно, впервые меня натолкнул на эту мысль Мао со своим режимом. Многие годы к «язвам западного общества» причисляли вещи, которые мне инстинктивно нравились: красивую одежду, цветы, книги, развлечения, вежливость, мягкость, непосредственность, милосердие, доброту, свободу, неприятие жестокости и насилия, любовь вместо «классовой ненависти», уважение к человеческой жизни, желание быть оставленной в покое, профессионализм... И порой я задавала себе вопрос, кто же этого не хочет?
Меня ужасно интересовала возможность жить иначе, не так, как мы. Друзья обменивались со мной слухами и обрывками информации, которые мы могли извлечь из официальных публикаций. На Западе меня поражали не столько технический прогресс и высокий жизненный уровень, сколько отсутствие охоты на ведьм и всепронизывающего подозрения, а еще — личное достоинство и невообразимая степень свободы. Для меня неопровержимым доказательством свободы западного мира служило то, что многие люди там (как утверждалось) ругают Запад и превозносят Китай. Чуть не каждые два дня в «Справочной газете», где перепечатывались иностранные статьи, появлялся очередной панегирик Мао и «культурной революции». Сначала подобные тексты меня бесили, но потом я увидела в них свидетельство необычайной толерантности европейцев. Я поняла, что хочу жить именно в таком обществе: там, где людям дозволяется придерживаться иных, подчас вопиюще иных взглядов. Я начала понимать, что именно терпимость к оппозиции, к протесту позволяет Западу двигаться вперед.
Тем не менее, некоторые наблюдения не могли меня не раздражать. Однажды я прочитала статью западного автора, приехавшего в Китай навестить старых друзей, университетских профессоров, которые радостно рассказали ему, какое удовольствие они испытали от разоблачения и ссылки в глушь, как они благодарны за то, что их перевоспитали. Автор заключал, что Мао, безусловно, превратил китайцев в «новый народ», которому нравилось то, что сделало бы западного человека несчастным. Я пришла в ужас. Неужели он не понимал, что самые страшные репрессии — те, на которые никто не жалуется? А еще страшнее — когда жертва улыбается? Неужели он не увидел, до какого жалкого состояния довели этих профессоров, какой они должны были испытать ужас? Я не осознавала, что наше притворство для европейцев непривычно, а чаще всего и незаметно.
Не понимала я и того, что информация о Китае на Западе труднодоступна и порой неверно истолковывается, что люди без опыта общения с таким режимом, как китайский, принимают пропаганду и риторику за чистую монету. В результате я пришла к выводу: эти похвалы бесчестны. Мы с друзьями шутили, что их подкупило «гостеприимство» наших властей. Когда после визита Никсона в некоторые места в Китае начали пускать иностранцев, власти обязательно выгораживали территории внутри отгороженных территорий. Лучшие транспортные средства, магазины, рестораны, гостиницы и достопримечательности были доступны только им и отмечались знаками «только для зарубежных гостей». Маотай, самый ценимый спиртной напиток, не продавался простым китайцам, но беспрепятственно предлагался иностранцам. Все самое вкусное сберегалось для них. Газеты с гордостью сообщали: Генри Киссинджер заявил, что раздался в талии после многих банкетов из двенадцати блюд, на которых он побывал во время посещений Китая. Это происходило в то время, когда в Сычуани, «житнице Поднебесной», нам полагалось чуть более двухсот граммов мяса в месяц, а улицы Чэнду переполняли бездомные нищие крестьяне, бежавшие от голода на севере. Население возмущалось тем, что к иностранцам относятся как к господам. Мы с друзьями говорили друг другу: «Почему мы осуждаем Гоминьдан за знаки «Китайцам и собакам вход запрещен» — не делаем ли мы то же самое?»
Поиск информации стал моей страстью. Способность читать по–английски принесла мне огромную пользу, потому что, хотя университетская библиотека в годы «культурной революции» была разграблена, прежде всего пострадали китайские книги. Обширное собрание книг на английском языке перевернули вверх дном, но не разорили окончательно.
Библиотекари радовались, что эти книги кто–то читает, тем более студентка, и помогали, чем могли. Не имея возможности пользоваться перепутанными каталогами, они перерывали горы книг, чтобы найти то, что мне нужно, Благодаря усилиям этих милых юношей и девушек я узнала английскую классику. Первым романом, прочитанным мной по–английски, стали «Маленькие женщины» Луизы Мэй Элкотт. Язык писательниц — ее, Джейн Остен, сестер Бронте — казался мне гораздо проще стиля авторов–мужчин, вроде Диккенса; кроме того, я легче отождествляла себя с их персонажами. Я прочитала краткую историю европейской и американкой литературы. Огромное впечатление на меня произвели традиция греческой демократии, гуманизм эпохи Возрождения и не знающий преград скептицизм Просвещения. Когда я прочитала в «Приключениях Гулливера» об императоре, «издавшем эдикт, повелевавший всем подданным, под страхом тяжких наказаний, разбивать яйца с острого конца», я задалась вопросом, не бывал ли Свифт в Китае. Я с восторгом ощущала, как освобождается мой ум, расширяется кругозор.
Возможность в одиночестве посидеть в библиотеке была для меня счастьем. Сердце мое прыгало от радости, когда я подходила к ее дверям, обычно в сумерках, предвкушая удовольствие от общения с книгами; внешний мир в эти часы преставал для меня существовать. Я нетерпеливо взбегала по казавшимся нескончаемыми ступеням в псевдоклассическое здание, и запах старых книг, долго стоявших в душных комнатах, приводил меня в ликование.
С помощью словарей, позаимствованных у некоторых профессоров, я познакомилась с Лонгфелло, Уолтом Уитменом и американской историей. Я выучила наизусть «Декларацию независимости», и сердце мое замирало от слов: «Мы считаем самоочевидной ту истину, что все люди созданы равными», от перечисления «неотъемлемых Прав» человека, среди которых «Свобода и стремление к Счастью». О таких понятиях в Китае и не слыхивали; для меня открылся новый чудесный мир. Я увлеченно, со слезами на глазах, исписывала цитатами целые тетради, которые всегда носила с собой.
Как–то осенью 1974 года знакомая под большим секретом показала мне номер «Ньюсуика» с фотографиями Мао и его супруги. Знакомая не знала английского и хотела знать, что написано в статье. Это был первый настоящий заграничный журнал, попавший мне в руки. Одно предложение в статье поразило меня как вспышка молнии. Оно гласило, что мадам Мао — «глаза, уши и голос» его самого. До сего момента я не позволяла себе задуматься об очевидной связи между деяниями мадам Мао и ее мужем. Но теперь имя Мао было названо. Расплывчатая картина, существовавшая до сих пор в моем мозгу, приобрела необычайную четкость. Именно Мао стоял за разрухой и страданиями. Без него мадам Мао со своей второсортной командой не продержалась бы ни единого дня. С глубоким трепетом я впервые бросила Мао тайный, но сознательный вызов.
27. «Если это рай, что такое ад?»: Смерть отца (1974–1976)
В то время, в отличие от большинства бывших коллег, отца все еще не реабилитировали и не устроили на работу. С тех пор как мы с ним и с мамой осенью 1972 года вернулись из Пекина, он сидел дома на Метеоритной улице и ничего не делал. Загвоздка заключалась в том, что он открыто критиковал Мао. Группа, занимавшаяся его делом, попыталась помочь ему, объяснив некоторые из его речей психическим заболеванием. Однако она столкнулась с резким сопротивлением начальства, которое желало сурово заклеймить отца. Многие коллеги ему сочувствовали, восхищались им. Но они не могли не думать о собственной шкуре. К тому же отец не принадлежал ни к какой клике и не имел могущественных покровителей, которые могли бы посодействовать в снятии обвинений. Взамен у него были влиятельные враги. Однажды в 1968 году мама, которую ненадолго выпустили из заключения, встретила у уличного лотка старого папиного друга. Этот человек связал свою судьбу с Тинами. С ним была жена, с которой его познакомили мама и товарищ Тин, когда они вместе работали в Ибине. Хотя супруги, кивнув ей, явно не хотели продолжать общения, мама подсела к ним за столик. Она попросила их похлопотать перед Тинами за отца. Выслушав маму, этот человек покачал головой и промолвил: «Все не так просто...» Потом он обмакнул палец в чай и написал на столе иероглиф «Цзо». Он со значением посмотрел на маму, супруги поднялись и ушли, ничего больше не сказав.
Цзо, прежде близкий сотрудник отца, один из немногих не пострадал в ходе «культурной революции». Он стал любимцем «бунтарей» товарища Шао, другом Тинов, но пережил падение и их, и Линь Бяо и остался у власти.
Отец не желал отречься от слов, направленных против Мао. Но когда разбиравшая его дело группа предложила объяснить их психической болезнью, он, с болью в сердце, согласился.
Общее положение приводило его в отчаяние. Ни население, ни партия не следовали никаким принципам. Стремительно возвращалась коррупция. Чиновники в первую очередь думали о родне и друзьях. Из страха побоев учителя ставили всем ученикам отличные оценки вне зависимости от качества их работы, а автобусные кондукторы не брали денег за проезд. На интересы общества открыто плевали. «Культурная революция» Мао уничтожила как партийную дисциплину, так и обыкновенную мораль.
Отец с трудом сдерживался, чтобы не высказать своих мыслей и не навлечь на себя и нас еще большие неприятности.
Приходилось пить транквилизаторы. Когда наступала некоторая политическая оттепель, он принимал меньше, когда кампании усиливались — больше. Выдавая ему лекарства, психиатры каждый раз качали головой и напоминали, что очень опасно принимать такие гигантские дозы. Но он мог обходиться без таблеток лишь короткое время. В мае 1974 года он почувствовал, что находится на грани срыва, и попросился в психиатрическую больницу. На этот раз его положили быстро благодаря усилиям прежних коллег, вновь руководивших здравоохранением.
Я взяла отпуск в университете, чтобы не оставлять его в больнице одного. Его опять наблюдал доктор Су, психиатр, который лечил его раньше. При Тинах доктор Су пострадал за то, что поставил отцу правильный диагноз. Он отказался написать признание, что отец симулировал сумасшествие; против него провели «митинги борьбы», избили его и лишили права заниматься медициной. Я увидела его как–то в 1968 году — он чистил больничные урны и плевательницы. Ему не было и сорока, но он уже поседел. После падения Тинов его реабилитировали. Со мной и отцом он держался очень приветливо, как и остальные врачи и сестры. Они говорили, что позаботятся об отце, что мне нет нужды с ним сидеть. Но мне самой этого хотелось. Главное, что ему требовалось — любовь. Еще я волновалась, что он упадет, а никого не будет рядом. У него опасно поднималось давление, уже было несколько микроинфарктов, после которых он ходил прихрамывая. Он в любую минуту мог поскользнуться. Доктора предупреждали, что падение представляет угрозу для его жизни. Я поселилась вместе с ним в мужской палате, той же самой, что он занимал летом 1967 года. Отсеки были предназначены для двоих, но отец лежал один, и я спала на соседней койке.
Боясь падения, я не покидала его ни на миг. Когда он ходил в туалет, я ждала снаружи. Если мне казалось, что он задерживается там слишком долго, я воображала, что у него приступ и, ставя себя в дурацкое положение, кричала ему. Каждый день мы долго гуляли по больничному саду. Там было много других пациентов в серых полосатых пижамах, которые ходили туда–сюда с отсутствующим взглядом. При виде их становилось и страшно, и печально.
Сам же сад пылал красками. Между желтыми цветами львиного зева порхали белые бабочки. Вокруг на клумбах росли китайские осины, покачивался стройный бамбук, в зарослях олеандра краснели лепестки гранатов. Я на ходу сочиняла стихи.
В конце сада находилась большая комната отдыха, где больные играли в карты, шахматы, просматривали немногие газеты и разрешенные книги.
Одна медсестра рассказала мне, что в годы «культурной революции» они изучали труды Председателя Мао, потому что его племянник, Мао Юаньсинь, «открыл», что сумасшедшие излечиваются не от лекарств, а от заучивания цитатника. Занятия продолжались недолго: «Когда больной открывал рот, у нас сердце замирало. Кто знает, что он скажет?»
Пациенты вели себя смирно, потому что лечение истощало их физические и душевные силы. Тем не менее жить среди них было страшно, особенно ночью. Отец крепко засыпал от таблеток, все здание стихало. Как и во всех палатах, в нашей не было замка, и я несколько раз просыпалась и видела, как совсем рядом со мной, приоткрыв москитную сетку, стоит какой–то человек и смотрит на меня пристальным безумным взглядом. Обливаясь холодным потом, я натягивала на голову одеяло, чтобы заглушить крик: я ни в коем случае не могла будить отца — сон был одним из главных условий выздоровления. Наконец пациент удалялся шаркающей походкой.
Через месяц отец вернулся домой. Однако он не поправился окончательно. Слишком долго его сознание находилось под давлением, политический климат все еще угнетал его. Он сидел на транквилизаторах. Психиатры ничего не могли поделать. Его нервная система, тело, душа становились все более хрупкими.
Постепенно группа по расследованию его дела сформулировала предварительные выводы. Он «совершил серьезные политические ошибки» — шаг в сторону от приговора «классовый враг». В соответствии с установлениями партии предварительные выводы дали подписать отцу в знак того, что он с ними согласен. Читая бумагу, отец плакал. Но подписал ее.
Начальство не одобрило документ. Требовалось что–нибудь посерьезнее.
В марте 1975 года Очкарика, мужа моей сестры, собирались повысить на заводе, и тамошние кадровики явились в отдел отца для обязательной политической проверки. Посетителей принял бывший «бунтарь» товарища Шао; он сказал, что отец «против Председателя Мао». Очкарика не повысили. Он скрыл это от наших родителей, чтобы их не расстраивать, но отец услышал, как знакомый из его бывшего отдела шепотом говорит об этом маме. Сердце обливалось кровью, когда он извинялся перед Очкариком за то, что лишил его будущего. Он сказал, горько плача: «Неужели я так провинился, что даже моему зятю нужно ставить палки в колеса? Как мне вас спасти?»
Несмотря на огромные дозы успокоительных, отец несколько дней и ночей почти не спал. Днем 9 апреля он решил отдохнуть.
Мама уже приготовила ужин в нашей маленькой кухне на первом этаже, но подумала, что надо дать ему полежать еще. В конце концов она все–таки поднялась в спальню и не смогла его разбудить. У отца случился сердечный приступ. Телефона у нас не было, поэтому она помчалась в клинику администрации, находившуюся на соседней улице. Там она застала главного врача, доктора Чжэня.
Доктор Чжэнь обладал незаурядными способностями; до «культурной революции» он лечил местную элиту и часто появлялся в нашей квартире, чтобы тщательно исследовать состояние нашего здоровья. Однако после начала «культурной революции», когда мы впали в опалу, он стал держаться с нами холодно и презрительно. Я встречала много людей, подобных доктору Чжэню, и всякий раз поражалась их поведению.
Мамин приход явно раздражил доктора; он нехотя обещал прийти, когда закончит свои занятия. Она возразила, что сердечный приступ — вещь безотлагательная, но он посмотрел на нее с выражением, говорившим: «торопить меня бесполезно». Они с сестрой удосужились прийти к нам только через час, но без всяких средств для оказания первой помощи. Сестре пришлось за ними возвращаться. Доктор Чжэнь несколько раз перевернул отца, а потом сел и стал ждать. Прошло еще полчаса, за которые отец умер.
В ту ночь я училась в общежитии при свете свечи, потому что электричество в очередной раз отключили. Приехали сотрудники из отдела отца и без каких–либо объяснений отвезли меня домой.
Отец лежал на краю кровати с необычайно спокойным лицом, словно заснул. Он выглядел молодо, моложе своих пятидесяти четырех лет. У меня сердце разрывалось на куски, я не могла побороть слезы.
Я молча плакала несколько дней. Размышляла о жизни отца, его растраченной попусту преданности делу и обманутой мечте. Он не должен был умереть. Но смерть не могла не забрать его. В маоистском Китае не было места человеку, попытавшемуся жить честно. Его отвергало то, чему он отдал всю свою жизнь, и он не перенес такого предательства.
Мама потребовала, чтобы доктора Чжэня наказали. Если бы не его халатность, отец, возможно, остался бы в живых. От ее требования отмахнулись как от «расстроенных чувств вдовы». Она решила не настаивать, а приготовиться к более важному сражению: добиться приемлемой надгробной речи об отце.
Эта речь представляла огромную важность, потому что ее воспринимали как мнение партии. Такие речи помещались в личные дела покойников и определяли будущее их детей. Существовали установленные образцы и готовые формулы. Любое отклонение от них означало, что партработник реабилитирован не до конца, что партия в нем сомневается или даже осуждает его. Маме показали черновик речи. Он пестрил предосудительными отклонениями. Мама знала, что с таким некрологом нашей семье никогда не освободиться от обвинений. В лучшем случае нас ожидало чувство вечной тревоги, но скорее всего мы подвергались бы дискриминации поколение за поколением. Она отклонила несколько вариантов.
Шансов у нее было немного, но она знала, что об отце скорбят. Наступил момент, когда китайская семья, по традиции, прибегает к некоторому эмоциональному шантажу. После смерти отца она слегла, но с не меньшим упорством продолжала борьбу с одра болезни. Она грозилась обличить власти на похоронах, если отцу не напишут правильную речь.
Она созвала к своей постели друзей и коллег отца и объявила, что вверяет им судьбу своих детей. Они обещали выступить в защиту отца. В конце концов начальство уступило. Хотя никто не осмеливался считать его реабилитированным, итоговая характеристика звучала довольно безобидно.
Церемония состоялась 21 апреля. По сложившейся практике, ее организовал «траурный комитет» из его коллег, в число которых входили и преследователи, например, Цзо. Все было предусмотрено до малейших подробностей. Всего мероприятие, по предусмотренной процедуре, посетило приблизительно пятьсот человек. Они представляли несколько десятков отделов и управлений администрации провинции, а также учреждений, подчиненных отделу отца. Явилась даже такая одиозная личность, как товарищ Шао. Всем организациям следовало послать бумажные венки установленного размера. В некотором смысле нас устраивал этот официоз. Частные похороны были бы для человека уровня отца чем–то неслыханным и значили бы, что партия от него отреклась. Большинство присутствовавших были мне неизвестны, но пришли все мои близкие друзья, знавшие о смерти отца, в том числе Пампушка, Нана, монтеры с моего завода, а также однокурсники из Сычуаньского университета, включая студента–партработника Мина. Был в толпе и мой старый приятель Бин, с которым я порвала после бабушкиной смерти, и наша дружба тут же восстановилась после шестилетнего перерыва.
Ритуал предписывал, чтобы выступил с речью «член семьи покойного». Эта задача выпала мне. Я вспомнила характер отца, его нравственные принципы, веру в партию, страстную преданность народу. Я надеялась, что его трагическая смерть заставит собравшихся призадуматься.
В конце, когда все по очереди пожимали нам руки, я увидела на лицах многих бывших цзаофаней слезы. Даже товарищ Шао демонстрировала скорбь. У них имелись маски на все случаи жизни. Группа «бунтарей» прошептала мне: «Нам очень жаль, что ваш отец прошел через все эти испытания».
Возможно, так оно и было. Но что это меняло? Отец умер — и они немало поспособствовали его смерти. Поступят ли они так же с другим человеком во время следующей кампании? — думала я про себя.
Незнакомая молодая женщина положила голову мне на плечо и горько заплакала. Я почувствовала, что мне в руку сунули записку. Позже я ее прочитала и разобрала кое–как нацарапанные иероглифы: «Меня глубоко растрогал характер Вашего отца. Мы должны учиться у него и стать достойными продолжателями его дела — великого дела пролетарской революции». Неужели моя речь и вправду вызвала такие чувства? — удивилась я. Моральные убеждения и высокие помыслы коммунисты всецело присвоили себе, с этим, видимо, ничего нельзя было подделать.
За несколько недель до смерти отца мы с ним ждали на вокзале Чэнду его знакомого. В том же самом зале ожидания мы сидели с мамой почти десять лет тому назад, когда она отправлялась в Пекин хлопотать за отца. Место почти не изменилось, разве что выглядело более убого и теперь с трудом вмещало всех желающих. На широкой площади перед вокзалом толпилось еще больше народу. Кто спал, кто просто сидел; женщины кормили грудью младенцев; многие просили милостыню. Это были крестьяне с севера, где случился голод — следствие неурожая, а в некоторых случаях — саботажа со стороны клики мадам Мао. Они в огромном количестве забирались на крыши вагонов и так приезжали на юг. Рассказывали, что многие срывались, многим отрезало головы, когда поезд шел через туннель.
По дороге к вокзалу я спросила отца, можно ли мне будет летом отправиться в путешествие по реке Янцзы. «Главное в моей жизни, — заявила я, — развлекаться». Он неодобрительно покачал головой: «В молодости главное — учиться и работать».
В зале ожидания я снова заговорила на эту тему. Вокруг нас ходила уборщица с метлой. На ее пути оказалась крестьянка с севера; она сидела на цементном полу с жалким узлом и двумя детьми в лохмотьях. Третий сосал ее черную от грязи грудь, которую она оголила без тени стыда. Уборщица стала мести пыль прямо через них. Крестьянка и бровью не повела.
Отец повернулся ко мне: «Как ты можешь развлекаться, когда люди вокруг тебя живут так?» Я промолчала. Не стала возражать: «Но что могу сделать я, один человек? Неужели я должна быть несчастной, даже если никому от этого лучше не станет?» Это прозвучало бы крайне эгоистично. Меня с детства приучали «считать интересы всего народа своим долгом» (и тянь–ся вэй цзи–жэнь).
Теперь, в пустоте, оставшейся после смерти отца, все эти принципы стали казаться мне сомнительными. Мне не хотелось великих миссий, «борьбы за правое дело», я мечтала об обычной жизни, спокойной, быть может, легкомысленной — но своей собственной жизни. Я сказала маме, что на летних каникулах хочу поплыть по Янцзы.
Она горячо меня поддержала. С ней согласилась сестра, которая вместе с Очкариком поселилась с нами после возвращения в Чэнду. В принципе, завод Очкарика должен был обеспечивать своих работников жильем, но во время «культурной революции» новых квартир не строилось. Тогда многие, в том числе и Очкарик, были холостыми и жили в общежитии по восемь человек в комнате. Теперь, десять лет спустя, большинство женились и обзавелись детьми. Им приходилось присоединяться к родителям, нередко три поколения жили в одной комнате.
Сестре не дали работу, потому что она вышла замуж до трудоустройства в городе. Теперь, благодаря правилу, позволявшему члену семьи, где умер госслужащий, получить место в учреждении, ей дали должность в администрации Чэндуского училища китайской медицины.
В июле мы с Цзиньмином, который учился в Ухане, большом городе на Янцзы, отправились путешествовать. Первой нашей стоянкой была гора Лушань, покрытая пышной растительностью, с прекрасным микроклиматом. Здесь проводились важные партийные конференции, в частности, в 1959 году здесь «разоблачили» маршала Пэн Дэхуая, и гору обозначили как достопримечательность, «где люди могут получить урок революции». Когда я предложила сходить туда, Цзиньмин недоверчиво спросил: «Неужели ты не хочешь отдохнуть от «уроков революции»?»
Мы много фотографировались на горе; из тридцати шести кадров пленки осталось доснять один. По пути вниз нам попалась двухэтажная вилла, окруженная зарослями утунов, магнолий и сосен. На фоне скал она выглядела живописной кучей камней. Мне очень понравилось это место, и я его сфотографировала. Вдруг из–под земли вырос человек и тихим, но не терпящим возражений голосом велел мне отдать ему фотоаппарат. Он был в штатском, но я заметила пистолет. Он открыл камеру и засветил всю пленку. Затем он исчез, словно испарился. Стоящие рядом туристы шепотом сообщили, что это одна из летних дач Мао. Я почувствовала очередной приступ отвращения, не столько из–за его привилегий, сколько из–за лицемерия: он позволял себе роскошь, а своему народу рассказывал, как предосудительны простые удобства. Когда мы удалились на безопасное расстояние от охранника–невидимки и я принялась оплакивать потерю тридцати шести фотографий, Цзиньмин сказал с ухмылкой: «Вот до чего доводит твоя страсть к святыням!»
Из Лушаня мы поехали автобусом. Там было не протолкнуться, и мы крутили шеями, чтобы ухватить немножко свежего воздуха. С начала «культурной революции» новых автобусов практически не производили, а за это время население городов выросло на десятки миллионов человек. Через несколько минут мы вдруг остановились. Водителя заставили открыть переднюю дверь, внутрь протиснулся человек в штатском и рявкнул: «Пригнитесь! Пригнитесь! Сюда едут американские гости. Если они увидят, как вы тут толкаетесь, это нанесет ущерб престижу нашей Родины!» Мы попытались пригнуться, но не смогли. Человек закричал: «Защита чести Родины — дело каждого! Вы должны стоять ровно и аккуратно! Присядьте! Согните колени!»
Вдруг я услышала громовой голос Цзиньмина: «Разве Председатель Мао не учит нас никогда не преклонять колени перед американскими империалистами?» Он нарывался на проблемы. Юмор не оценили. Человек строго на нас посмотрел, но ничего не сказал. Он еще раз быстро оглядел автобус и убежал. Он не хотел, чтобы «американские гости» стали свидетелями скандала. Иностранцам не следовало видеть никаких конфликтов.
Везде мы наблюдали следы «культурной революции»: разгромленные кумирни, опрокинутые статуи, разрушенные старые города. Мало что осталось от древней китайской цивилизации. Но ущерб был нанесен и на более глубинном уровне. Китайцы не только уничтожили почти все красивое, что у них было, — они разучились ценить красоту и создавать ее. За исключением природы, великолепной, несмотря на все нанесенные ей раны, Китай стал страной повсеместного безобразия.
В конце каникул я в одиночестве вернулась из Уханя теплоходом вверх по Янцзы, проплыв по дороге Три ущелья. Путешествие заняло три дня. Как–то я стояла на палубе, перегнувшись через ограждение. Порыв ветра растрепал мне волосы, и одна шпилька упала в воду. Тогда пассажир, с которым я болтала, показал на приток, впадавший в Янцзы как раз там, где мы в тот миг проплывали, и рассказал мне легенду.
В 33–м году до нашей эры китайский император, желая усмирить могучих северных соседей, гуннов, решил послать предводителю варваров невесту. Он выбирал одну из 3 000 наложниц, большинство которых никогда не видел, по портретам. Для варвара он выбрал самый страшный портрет, но в день отправки наложницы обнаружил, что на самом деле она прекрасна. Придворный художник нарисовал ее некрасивой, потому что она отказалась подкупить его. Император казнил художника, а дева стояла у реки и рыдала от тоски, что должна отправиться на чужбину, к варварам. Ветер вырвал из ее волос шпильку и уронил в реку, чтобы на родине осталась память о ней. Позднее она покончила с собой.
Согласно преданию, там, где упала шпилька, река стала прозрачной, как хрусталь, потому ее и называют Хрустальной. Этот приток мы и проплывали, рассказал мне мой спутник. Он с усмешкой воскликнул: «Дурной знак! Наверно, и вы будете жить на чужбине и выйдете замуж за варвара!» Я слегка улыбнулась традиционной убежденности китайцев в том, что все прочие народы — варвары, и подумала, что, быть может, древняя красавица и нашла бы свое счастье с их вождем. По крайней мере, она каждый день видела бы степь, коней, природу. У китайского императора она жила в роскошной тюрьме, где не было даже настоящих деревьев, чтобы наложницы не могли забраться на них и перелезть через стену. Я вспомнила пословицу о лягушке на дне колодца, которая считала, что небо не больше того кусочка, что она видит в дыре наверху. Я ощущала острое, необоримое желание увидеть мир.
На тот момент я ни разу в жизни не разговаривала с иностранцем, хотя мне было двадцать три года и я заканчивала второй курс университета по специальности «английский язык». Единственный раз я видела иностранцев в Пекине, в 1972 году. Как–то раз один из немногих «друзей Китая» появился у нас в университете. Был жаркий летний день. Я дремала. Вдруг к нам в комнату влетела студентка и разбудила нас криком: «Пришел иностранец! Пошли смотреть на иностранца!» Кто–то пошел, но я решила оставаться в кровати. Мне казалось смехотворным идти и глазеть, как зомби. Какой в этом смысл, если нам запрещено с ним заговаривать, хотя он и «друг Китая»?
Я никогда не слышала, как разговаривают иностранцы, если не считать одной лингафонной записи. Когда я начала учить язык, мне одолжили проигрыватель и пластинку, которую я стала слушать дома, на Метеоритной улице. Во дворе собрались соседи. Они восклицали, широко раскрыв глаза и качая головами: «Какие странные звуки!» Они просили ставить пластинку еще и еще.
О том, чтобы поговорить с иностранцем, мечтали все студенты; в конце концов настал и на моей улице праздник. Вернувшись из плавания по Янцзы, я узнала, что в октябре наш курс посылают в южный порт под названием Чжаньцзян, чтобы практиковаться в английском языке с иностранными моряками. Я была вне себя от радости.
Чжаньцзян находится примерно в 1200 километрах от Чэнду, поездом до него ехать два дня и две ночи. Это был крупный порт на самом юге Китая, совсем рядом с вьетнамской границей. Он выглядел как заграница — с колониальными зданиями рубежа веков, псевдороманскими арками, окнами–розетками и просторными верандами с разноцветными навесами. Местное население говорило по–кантонски — почти на иностранном языке. Воздух наполнял непривычный запах моря, экзотических тропических растений и большого мира.
Однако мой восторг омрачало раздражение. Нас сопровождали политический руководитель и три лектора, которые решили, что, хотя от моря нас отделяло около километра, нам туда нельзя. Сам порт был закрыт для посторонних: власти боялись «саботажа» и побегов. Нам рассказали о студенте из Гуанчжоу, который прокрался на грузовое судно, не зная, что его убежище запечатают на несколько недель, и погиб. Наши передвижения ограничивались строго определенной территорией, состоящей из нескольких зданий вокруг места, где мы жили.
Подобные правила были частью нашей ежедневной жизни, но я не уставала ими возмущаться. Однажды я почувствовала, что мне совершенно необходимо выбраться наружу. Я притворилась больной и получила разрешение отправиться в больницу, располагавшуюся в центре города. Я бродила по улицам и упорно пыталась найти море, но безуспешно. Местные жители мне не помогли: они не любили тех, кто говорит не по–кантонски, и отказывались меня понимать. Мы провели в порту три недели, и только однажды нам позволили, в виде особого одолжения, поехать на остров посмотреть на море.
Поскольку цель поездки заключалась в общении с иностранцами, нас разбили на маленькие группки, в составе которых мы по очереди работали в двух местах, куда им разрешалось ходить: в магазине «Дружба», где торговали за твердую валюту, и в Клубе моряков, где были бар, ресторан, бильярдная и комната для игры в пинг–понг.
Относительно наших разговоров с моряками существовали строгие правила. Нам не разрешалось говорить с ними наедине, не считая краткого обмена репликами через прилавок магазина «Дружба». Если у нас спрашивали имя и адрес, ни в коем случае нельзя было сообщать настоящие. Все мы выдумали себе фальшивые имена и несуществующие адреса. После каждой беседы следовало писать подробнейший отчет о ее содержании — стандартная практика для всех, соприкасавшихся с иностранцами. Нас неустанно предупреждали о важности соблюдения «дисциплины в контактах с иностранными гражданами» (шэ–вай цзи–люй). В противном случае, предостерегали нас, не только у нас самих будут крупные неприятности, но и другим студентами запретят сюда приезжать.
На самом деле возможностей практиковаться в английском у нас было весьма и весьма немного. Суда приходили не каждый день, не все моряки высаживались на берег. Для большинства из них английский не был родным; это были греки, японцы, югославы, африканцы, а также, в большом количестве, филиппинцы, которые, как правило, слабо владели английским. Правда, один капитан–шотландец с женой и скандинавы прекрасно говорили по–английски.
Ожидая в клубе наших драгоценных моряков, я часто сидела на дальней веранде и читала или глядела на кокосовые и пальмовые рощи, темневшие на фоне сапфирово–голубого неба. Едва в клуб забредали моряки, мы бросались к ним со всех ног, одновременно пытаясь изображать чувство собственного достоинства. Когда они предлагали нам какой–нибудь напиток, мы всегда отказывались, что крайне их озадачивало. Нам запрещалось принимать их угощения. Мы вообще ничего не могли там пить: все красивые иностранные банки и бутылки на витрине предназначались исключительно для иностранцев. Мы просто сидели там — четверо–пятеро устрашающе серьезных юношей и девушек. Я и не подозревала, как странно это должно было выглядеть в глазах моряков, как далеко это было от их представлений о портовой жизни.
Когда прибыли первые чернокожие моряки, преподаватели мягко предупредили студенток: «Они не такие развитые и не приучены держать себя в руках, они выражают свои чувства без всякого стеснения: трогают, обнимают, даже целуют». Мы были поражены и возмущены, когда услышали историю о женщине из предыдущей группы. Посреди беседы она завизжала, потому что матрос из Гамбии попытался ее обнять. Она решила, что сейчас ее изнасилуют (среди толпы, китайской толпы!), и так испугалась, что не смогла заставить себя подойти к иностранцу все оставшееся время стажировки.
Студенты–юноши, особенно студенты–партработники, вменили себе в обязанность защищать нас, женщин. Едва с нами заговаривал черный моряк, они переглядывались и спешили к нам на помощь: включались в разговор и вставали между нами и моряками. Вероятно, эти ухищрения остались незамеченными матросами, потому что студенты немедленно начинали говорить о «дружбе между Китаем и народами Азии, Африки и Латинской Америки».
«Китай — развивающаяся страна, — декламировали они строки из нашего учебника, — он всегда будет стоять на стороне угнетенных и эксплуатируемых масс третьего мира в их борьбе против американских империалистов и советских ревизионистов». Черные выглядели растерянно, но растроганно. Иногда они обнимали китайских мужчин, которые в ответ дружески хлопали их по плечу.
Режим на каждом углу объявлял, что Китай — развивающаяся страна, часть третьего мира, в соответствии с «блестящей теорией» Мао. Но подобные формулировки создавали впечатление, будто это не констатация факта, а свидетельство великодушия Китая, который опускает себя до уровня отсталых стран. Не оставалось ни малейшего сомнения, что мы присоединились к третьему миру, чтобы направлять и оберегать его, и международное сообщество числит за нами более почетное место.
Меня раздражало это доморощенное чувство превосходства. Чем мы так гордились? Населением? Размерами страны? В Чжаньцзяне я поняла, что моряки из стран третьего мира, со всеми их яркими часами, камерами и напитками — ничего этого я раньше в глаза не видела — гораздо состоятельнее и неизмеримо свободнее, чем подавляющее большинство китайцев.
Меня страшно интересовали иностранцы; мне хотелось узнать, что же они такое на самом деле. Чем похожи на китайцев и чем от них отличаются? Но мне приходилось скрывать свое любопытство, которое, не говоря уже о его политической опасности, посчитали бы «потерей лица». При Мао, как и во времена Срединного государства, китайцы старались всеми силами «с достоинством» держаться перед иностранцами, что выражалось в надменности и непроницаемости. Выказывать интерес к жизни за пределами страны не было принято, и многие мои однокурсники не задавали никаких вопросов.
Видимо, отчасти из–за моего неудержимого любопытства, отчасти из–за того, что английский у меня был лучше, всем морякам хотелось общаться со мной, хотя я старалась говорить поменьше, чтобы дать возможность попрактиковаться своим товарищам. Некоторые моряки даже отказывались разговаривать с другими студентами. Еще меня очень любил директор Клуба моряков, могучий великан по имени Лун. Это вызывало ярость у Мина и некоторых наших руководителей. Теперь на политсобраниях разбирали, насколько мы соблюдаем «дисциплину в отношениях с иностранцами». Утверждалось, что я вела себя недисциплинированно, потому что глядела «слишком заинтересованно», улыбалась «слишком часто» и рот при этом открывала «слишком широко». Критиковали меня и за жестикуляцию: считалось, что во время разговора с незнакомым мужчиной девушки должны держать руки под столом и не шевелиться.
Значительная часть китайского общества все еще требовала, чтобы женщина вела себя сдержанно, опускала глаза под мужскими взглядами и улыбалась одними губами. Жесты не дозволялись. Нарушение этих канонов воспринималось как «заигрывание». При Мао заигрывать с иностранцами было чудовищным преступлением.
Меня эти инсинуации приводили в бешенство. Свободное воспитание дали мне родители–коммунисты. Они считали, что как раз этим ограничениям, налагаемым на поведение женщин, коммунистическая революция и должна положить конец. Однако теперь угнетение женщин соединилось с политическим нажимом и служило вымещению зависти и мелочных обид.
Однажды пришло пакистанское судно. Из Пекина приехал пакистанский военный атташе. Лун велел всем нам организовать в клубе генеральную уборку и устроил банкет, на котором назначил меня своим переводчиком, что вызвало невероятную зависть у некоторых студентов. Через несколько дней пакистанцы давали прощальный обед на судне, на который пригласили и меня. Военный атташе бывал в Сычуани, для меня специально приготовили сычуаньское блюдо. И Луна, и меня приглашение ужасно обрадовало. Но несмотря на личную просьбу капитана и даже угрозу Луна больше не пускать студентов в клуб, преподаватели сказали, что на борт иностранного судна ступать запрещено. «Кто будет отвечать, если кто–нибудь уплывет на корабле?» — спрашивали они. Мне велели сказать, что в этот вечер я занята. Для меня это означало отказ от единственного шанса увидеть открытое море, побывать на иностранном банкете, по–настоящему побеседовать по–английски и получить хоть какое–то представление о внешнем мире.
Но даже мое повиновение не прекратило толков. Мин спрашивал со значением: «Почему иностранцы так ее любят?», словно в этом было что–то подозрительное. Отчет о моем поведении в поездке гласил, что я вела себя «сомнительно с политической точки зрения».
В этом чудесном порту, наполненном солнечным светом, морским бризом и шелестом кокосовых пальм, нам умудрялись омрачить любую радость. В группе у меня был хороший друг, который попробовал меня ободрить, сравнив мои огорчения со страданиями других. Разумеется, я испытывала лишь мелкие неприятности по сравнению с тем, что довелось пережить жертвам зависти в первые годы «культурной революции». Но мысль о том, что таковы лучшие моменты моей жизни, приводила меня в еще большее отчаяние.
Этот мой друг был сыном коллеги отца. Но и другие студенты из города тоже держались со мной приветливо. Их легко было отличить от студентов крестьянского происхождения, которые составляли большинство студентов–партработников. Студенты из города чувствовали себя в новом портовом мире гораздо увереннее и безопаснее, а потому не испытывали такой тревоги и агрессивности по отношению ко мне. Чжаньцзян стал для студентов–крестьян серьезным культурным шоком, их чувство неполноценности лежало в основе потребности испортить жизнь другим.
Через три недели мне и жалко, и радостно было распрощаться с Чжаньцзяном. На обратном пути в Чэнду мы с друзьями посетили легендарный Гуйлинь, где горы и воды словно сошли с классической китайской картины. Там были иностранные туристы. Мы увидели семейную пару; мужчина нес на руках ребенка. Мы улыбнулись друг другу и сказали «доброе утро» и «до свидания». Как только они скрылись, к нам подошел полицейский в штатском и допросил нас.
Когда я в декабре вернулась в Чэнду, то увидела, что город кипит негодованием против мадам Мао и трех шанхайцев — Чжан Чуньцяо, Яо Вэньюаня и Ван Хунвэня, сплотившихся под знаменем «культурной революции». Они так сблизились, что Мао в июле 1974 года предостерег их от формирования «банды четырех», хотя тогда мы этого не знали. Теперь же Мао, которому исполнился восемьдесят один год, начал оказывать им всяческую поддержку, устав от прагматизма Чжоу Эньлая, а затем Дэн Сяопина, который занимался каждодневной работой правительства с января 1975 года, когда Чжоу госпитализировали из–за рака. Бесконечные и бессмысленные миникампании «банды четырех» истощили народное терпение, и люди начали распространять слухи — практически единственный способ выразить возмущение.
Особенно тяжкие обвинения выдвигались против мадам Мао. Ее часто видели с определенным актером китайской оперы, игроком в настольный теннис и артистом балета, которых она назначила заведовать соответствующими областями, и, поскольку все они были молодыми людьми приятной наружности, люди говорили, что она взяла их себе в «мужские наложницы», — ранее она открыто и непринужденно заявляла, что именно так должны вести себя женщины. Но все понимали, что к широким кругам населения это не относится. На самом деле именно при мадам Мао китайцы оказались наиболее подавленными в сексуальном отношении. За те почти десять лет, что она контролировала искусство и средства массовой информации, из них изгонялись любые упоминания о любви. Когда в Китай приехал вьетнамский армейский ансамбль песни и пляски, счастливчики, которым удалось попасть на концерт, услышали от ведущего, что любовная песня «описывает дружеские чувства между двумя товарищами». Из небольшого количества разрешенных европейских фильмов — в основном албанских и румынских — вырезались все сцены, где мужчины и женщины стояли близко друг к другу, не говоря уже о поцелуях.
Часто в набитых автобусах, поездах и магазинах я слышала, как женщины кричат на мужчин и дают им пощечины. Иногда мужчина кричал в ответ, и начинался обмен оскорблениями. Ко мне самой нередко приставали. В таких случаях я просто уворачивалась от дрожащих рук и коленей. Мне было жалко этих мужчин. В этом мире они не могли дать выхода своей сексуальности, если только не состояли в счастливом браке, что случалось редко. Заместителя партсекретаря моего университета, пожилого человека, застали в универмаге с сочащейся сквозь штаны спермой — толпа прижала его к женщине, стоявшей перед ним. Его потащили в полицию и в конце концов исключили из партии. Женщинам жилось не лучше. В каждой организации имелось две–три «разношенных туфли», уличенных во внебрачных связях.
Властителей эти правила не касались. Восьмидесятилетний Мао окружил себя красивыми девушками. Истории о нем рассказывались осторожным шепотом, но о мадам Мао и ее дружках — громко и откровенно. К концу 1975 года Китай бурлил гневными слухами. Во время мини–кампании «Наша социалистическая Родина — это рай» многие почти прямо задавали вопрос, который впервые пришел мне в голову восемь лет назад: «Если это рай, то что такое ад?»
8 января 1976 года умер премьер Чжоу Эньлай. Для меня и многих других китайцев Чжоу представлял более или менее вменяемое и либеральное правительство, желавшее поставить страну на ноги. В мрачные годы «культурной революции» мы могли возлагать зыбкую надежду только на него. Меня, как и всех моих друзей, его смерть глубоко опечалила. Наша скорбь по нему и ненависть к «культурной революции» и Мао с его камарильей были неразрывно связаны.
Но Чжоу помогал Мао устраивать «культурную революцию». Именно он объявил Лю Шаоци «американским шпионом». Он почти ежедневно встречался с «красными охранниками» и «бунтарями» и отдавал им приказы. Когда в феврале 1967 года большинство членов Политбюро и маршалов попытались положить конец «культурной революции», Чжоу их не поддержал. Он верно служил Мао. Однако, вероятно, он действовал так, чтобы предотвратить еще более чудовищную катастрофу, например, гражданскую войну, которую мог бы вызвать открытый протест против Мао. Держа Китай на плаву, он давал Мао возможность устраивать бесчинства, но одновременно спас страну от полного краха. Он защищал некоторых людей до тех пор, пока это казалось ему безопасным — в том числе и моего отца. То же относилось к ряду важнейших памятников китайской культуры. Он, видимо, оказался перед неразрешимым нравственным выбором, однако это не исключает возможности, что главной его задачей было выжить. Он знал, что если встанет поперек дороги, его раздавят.
Наш кампус превратился в море белых бумажных венков, траурных стенгазет и стихов. Все ходили с черной повязкой, белым бумажным цветком на груди и скорбным выражением лица. Оплакивание было частично спонтанным, частично организованным. Поскольку все знали, что на момент смерти Чжоу преследовала «банда четырех», и поскольку «банда» велела уменьшить масштабы скорби, проявление горя являлось и для обычных граждан и для властей способом показать неодобрение ее действий. Но многие оплакивали Чжоу по совершенно иным причинам. Мин и другие студенты–партработники с нашего курса воспевали предполагаемый ими вклад Чжоу в подавление контрреволюционного восстания в Венгрии в 1956 году, его роль в выдвижении Мао в лидеры мирового масштаба и абсолютную ему преданность.
За пределами кампуса диссидентские голоса звучали громче. На улицах Чэнду поля стенгазет украсили граффити. Люди толпились вокруг них и пытались, выгнув шею, прочитать крошечные иероглифы. Одна стенгазета гласила:
Небо покрыто мраком,
Закатилась великая звезда...
На полях было нацарапано: «Почему же небо покрыто мраком? А как же «красное, красное солнце»?» (подразумевался Мао). Другое граффити появилось на лозунге «Жарь преследователей премьера Чжоу!» Автор напоминал: «В твоем месячном пайке всего два ляна [100 граммов] растительного масла. На чем будешь жарить преследователей?» Впервые за десять лет я наблюдала публичное выражение иронии и юмора, и это приводило меня в восторг.
На место Чжоу Мао назначил бездарного Хуа Гофэна и запустил движение «Обличай Дэна и отбей возвращение правого крыла». «Банда четырех» печатала речи Дэн Сяопина как объект для ругани. В одной из речей 1975 года Дэн признал, что крестьяне в Яньане живут хуже, чем когда коммунисты пришли туда после «Великого похода» сорок лет назад. В другой он заявил, что партийный начальник должен говорить профессионалам: «Я следую, вы ведете». В третьей он обрисовал свои планы по повышению уровня жизни, либерализации и окончанию политических преследований. Сравнение этих документов с действиями самой «банды четырех» сделало Дэна народным героем и довело ненависть людей к «банде» до предела. Я не могла поверить своим глазам: они так презирают китайский народ, что надеются, что мы, прочитав эти речи, возненавидим его, а не восхитимся им, и более того, что мы полюбим их.
В университете нам велели обличать Дэна на бесконечных митингах. Но большинство людей оказывали пассивное сопротивление: ходили по аудитории, болтали, вязали, читали или даже спали во время ритуальных представлений.
Так как Дэн был сычуаньцем, бродили слухи, что его сослали обратно в Чэнду. Я часто видела, как вдоль дороги выстраивается толпа, услышавшая, что сейчас он пройдет мимо. Такие толпы могли насчитывать десятки тысяч человек.
В то же время по отношению к «банде четырех», известной также как «шанхайская банда», общество занимало все более враждебную позицию. Внезапно перестали покупать велосипеды и другие товары, сделанные в Шанхае. Когда в Чэнду приехала шанхайская футбольная команда, на них шикали в течение всего матча. Народ собрался у стадиона и выкрикивал оскорбления, когда они шли на стадион и выходили обратно.
Протесты разворачивались по всему Китаю и достигли апогея весной 1976 года, на Праздник подметания могил, когда китайцы по традиции вспоминают своих покойников. В Пекине сотни тысяч граждан дни напролет стояли на площади Тяньаньмэнь с особыми венками, страстно читали стихи и произносили речи. В их символике и закодированном, но всем понятном языке слышалась ненависть к «банде четырех» и даже к Мао. Протест подавили ночью 5 апреля, когда полиция налетела на демонстрантов и арестовала сотни людей. Мао с «бандой четырех» объявили события «контрреволюционным мятежом венгерского типа». Дэн Сяопина, лишенного сообщения с внешним миром, обвинили в постановке выступлений и назвали «китайским Надем» (Имре Надь был премьер–министром Венгрии в 1956 году). Мао официально снял Дэна с поста и усилил направленную против него кампанию.
Хотя демонстрацию подавили и ритуально заклеймили в средствах массовой информации, но сам тот факт, что она вообще состоялась, изменил настроение в Китае. Это был первый крупный вызов, брошенный режиму с тех пор, как он пришел к власти в 1949 году.
В июне 1976 года нашу группу отправили на месяц на горную фабрику — «учиться у рабочих». Затем мы с друзьями взошли на гору Эмэйшань — «Бровь красавицы» — к западу от Чэнду. По дороге вниз, 28 июля, мы услышали громкие звуки транзисторного радиоприемника, который нес какой–то турист. Меня всегда чрезвычайно раздражала ненасытная любовь людей определенного рода к этому агрегату пропаганды. Да еще среди прекрасной природы! Словно наши уши не пострадали достаточно от оглушительного бреда висящих всюду громкоговорителей. Но на сей раз кое–что привлекло мое внимание. В Таншане, шахтерском городке близ Пекина, произошло землетрясение. Я поняла, что это неслыханное бедствие, потому что обычно средства массовой информации не сообщали плохих новостей. Официальная цифра была 242 000 погибших и 164 000 тяжело раненых.
«Банда четырех», хотя и объявляла в прессе о том, как заботится о жертвах, предупреждала, что народ не должен отвлекаться на землетрясение и забывать о главном — «обличении Дэна». Мадам Мао публично произнесла: «Всего несколько сотен тысяч смертей. Ну и что? Обличение Дэн Сяопина касается восьмисот миллионов человек». Даже от мадам Мао не ожидали таких возмутительных слов, но нам их официально процитировали.
В Чэнду тоже ожидалось землетрясение, поэтому, когда я вернулась с Эмэйшани, мы с мамой и Сяофаном поехали в Чунцин, где положение считалось менее опасным. Сестра, оставшаяся в Чэнду, спала под массивным дубовым столом, покрытым одеялами и покрывалами. Под руководством властей люди строили времянки и организовывали отряды, которые круглые сутки следили за животными, умевшими, как считалось, предсказывать землетрясение. Однако последователи «банды четырех» развешивали кричащие лозунги вроде: «Не упускай из виду преступную попытку Дэн Сяопина эксплуатировать страх землетрясения для подавления революции!» и пытались организовать шествие, чтобы «торжественно заклеймить попутчиков капитализма, которые используют страх землетрясения, чтобы саботировать обличение Дэна». Шествие провалилось.
Я вернулась в Чэнду в начале сентября, когда опасения по поводу землетрясения стали ослабевать. Во второй половине дня 9 сентября 1976 года у меня было занятие по английскому языку. Около половины третьего нам сказали, что через полчаса будет сделано важное объявление, которое всем нам надо будет прослушать во дворе. Такие вещи делались и раньше, и я вышла на улицу в раздраженном состоянии духа. Был обычный для Чэнду туманный осенний день. Я слышала, как у стен шуршат бамбуковые листья. Без нескольких минут три под скрежет настраиваемого репродуктора перед строем встала партсекретарь нашего факультета.
Она печально на нас посмотрела и низким, прерывающимся голосом выдавила из себя слова: «Наш Великий Вождь Председатель Мао, наш глубоко почитаемый старец (та–лао–жэнь–цзя)...»
И тут я поняла, что Мао умер.
28. Борьба за крылья (1976–1978)
Новость вызвала у меня такое ликование, что на мгновение я онемела. Немедленно включилась прочно укоренившаяся во мне самоцензура: я осознала, что вокруг разворачивается оргия плача и мне нужно разыграть соответствующую сцену. Нехватку правильных чувств можно было скрыть только на плече стоявшей передо мной женщины, студентки–партработника, которая казалась буквально вне себя от горя. В ее плечо я и уткнулась с тяжким вздохом. Как обычно, представление сделало свое дело. Громко всхлипнув, она хотела было повернуться, чтобы заключить меня в свои объятия. Я налегла на нее всем телом, чтобы она оставалась на месте. Таким образом я надеялась произвести впечатление безутешной скорби.
В дни после смерти Мао я много размышляла. Он считался философом, и я пыталась понять, в чем же состоит его «философия». Суть ее заключалась в необходимости — или желании? — вечного конфликта. В борьбе между людьми он видел движущую силу истории, и чтобы история продолжалась, следовало непрерывно создавать все новых и новых «классовых врагов». Существовали ли другие философы, чьи теории приводили к такому количеству жертв? Я думала об ужасах и несчастьях, выпавших на долю китайцев. В чем был их смысл?
Однако теория Мао, видимо, являлась лишь продолжением его личности. Он обладал природным даром втравливать людей в драку. Он прекрасно знал низкие человеческие инстинкты — зависть, злобу — и умел на них играть. Он правил, сея среди своих подданных ненависть. Так ему удалось заставить обычных граждан выполнять задачи, возлагаемые в других диктатурах на профессионалов. Мао удалось превратить людей в главное орудие тирании. Вот почему при нем в Китае не существовало настоящего эквивалента КГБ. В этом не было никакой необходимости. Пестуя в людях худшие чувства, Мао создал нравственную пустыню, страну ненависти. Но я не могла решить, какую долю персональной ответственности несли простые люди.
Другой знаковой чертой маоизма являлось торжество невежества. Мао считал, что культурный класс легко сделать жертвой неграмотного в своей массе народа. Собственная глубинная ненависть к образованию и образованным, мания величия и вызванное ею презрение к великим личностям китайской культуры, пренебрежительное отношение к тем областям китайской цивилизации, которых он не понимал — архитектуре, изобразительному искусству, музыке, — явились причиной, по которой Мао уничтожил большую часть культурного наследия страны. После себя он оставил не только изуродованные души, но и искалеченную землю, от былой славы которой не уцелело почти ничего.
Китайцы, казалось, искренне скорбели. Но я сомневалась в этой искренности. Люди так приучились к лицедейству, что порой не отличали притворных чувств от подлинных. Пожалуй, плач по Мао был очередным запрограммированным действием в их запрограммированной жизни.
Тем не менее народ явно не желал следовать курсу Мао. Меньше чем через месяц после его смерти, 6 октября, арестовали мадам Мао и остальных членов «банды четырех». Их никто не поддержал — ни армия, ни полиция, ни даже собственная их охрана. Раньше у них был Мао. На самом деле «банда четырех» была бандой пяти.
Когда я услышала, как легко расправились с «бандой четырех», мне стало грустно. Как могла эта кучка второсортных сатрапов так долго мучить 900 000 000 человек? Но прежде всего я, разумеется, радовалась: наконец–то сошли со сцены последние тираны «культурной революции». Рядом со мной ликовали многие. Я пошла купить лучшие напитки, чтобы отметить победу с семьей и друзьями — но обнаружила, что всё уже раскуплено: праздник внезапно пришел чуть не в каждый дом.
Проходили и официальные торжества — они ничем не отличались от массовых митингов «культурной революции». Меня приводило в бешенство то обстоятельство, что у нас на факультете всю эту показуху устраивали всё те же политические руководители и студенты–партработники, не утратившие ни капли былого самодовольства.
Новое руководство возглавил назначенный Мао преемник, Хуа Гофэн, чье единственное достоинство заключалось, по–моему, в его посредственности. Он начал с того, что объявил о строительстве огромного мавзолея Мао на площади Тяньаньмэнь. Меня это глубоко возмутило: сотни тысяч пострадавших от таншаньского землетрясения по–прежнему не имели крыши над головой и жили во временных хижинах.
Моя опытная мама сразу поняла, что начинается новая эра и на следующий день после смерти Мао явилась в свой отдел. Она просидела дома пять лет и жаждала дела. Ей дали должность седьмого заместителя начальника отдела, который она возглавляла до «культурной революции». Она не возражала.
Мне в моем нетерпении казалось, что ничего не изменилось. В январе 1977 года я закончила университет. Мы не сдавали экзаменов и не получили никакой степени. Хотя Мао и «банды четырех» больше не существовало, по–прежнему действовало установленное Великим Кормчим правило, предписывавшее нам вернуться туда, откуда мы пришли. В моем случае это означало станкостроительный завод. Саму мысль о том, что наличие университетского образования должно влиять на профессию человека, Мао заклеймил как стремление «растить духовных аристократов».
Мне ужасно не хотелось возвращаться на завод. Там у меня не было бы никакой возможности использовать знание английского: нечего переводить, не с кем говорить. Я в очередной раз обратилась за помощью к маме. Она сказала, что есть единственный выход: завод должен сам от меня отказаться. Мои заводские друзья убедили начальство написать во Второе управление легкой промышленности служебную записку, гласившую, что, хотя я прекрасный работник, завод обязан пожертвовать своими интересами ради более высокой цели: мой английский послужит на благо нашей Родине.
Вслед за этим цветистым письмом мама отправила меня к главному специалисту управления, товарищу Хуэю. Они когда–то вместе работали, и в детстве я очень ему нравилась. Мама знала, что он и сейчас мне симпатизирует. На следующий день для обсуждения моего случая созвали заседание управления. Двадцать его директоров собирались для принятия самого заурядного решения. Товарищ Хуэй сумел убедить их, что стоит дать мне возможность применить английский на деле, и они написали официальное письмо в мой университет.
Хотя на факультете меня не больно любили, но преподавателей не хватало, и в январе 1977 года я стала младшим преподавателем английского языка в Сычуаньском универститете. По поводу работы там я испытывала противоречивые чувства, потому что мне предстояло жить в кампусе, под надзором политических руководителей и амбициозных и ревнивых коллег. Хуже того, вскоре я узнала, что в течение года не буду иметь никакого отношения к своей профессии. Через неделю после назначения меня послали в сельскую местность на окраине Чэнду на «перековку».
Я работала в полях и высиживала бесконечные томительные собрания. Скука, неудовлетворенность и давление окружающих, удивлявшихся, что у меня нет жениха в таком зрелом возрасте (мне было двадцать пять лет), толкнули меня на связи с двумя мужчинами. Одного из них я не видела, только получала от него прекрасные письма. Я разочаровалась в нем на первом же свидании. Другой, Хоу, недавний вожак цзаофаней, был сыном своего времени — блестящим и беспринципным. Я не устояла перед его чарами.
Летом 1977 года Хоу арестовали в ходе кампании по поимке «последователей «банды четырех»». Таковыми считались «главари цзаофаней» и повинные в насильственных преступлениях, которые расплывчато определялись как пытки, убийство, порча и хищение государственной собственности. Кампания выдохлась через несколько месяцев. Главная причина заключалась в том, что власти не отреклись ни от Мао, ни от «культурной революции» в целом. Все нарушители утверждали, что ими двигала преданность Мао. Не существовало и четких критериев, кого считать преступником, за исключением самых жестоких убийц и истязателей, — столько народу участвовало в налетах на дома, в уничтожении достопримечательностей, предметов старины, книг, в сражениях между группировками. Ответственность за главный кошмар «культурной революции» — чудовищное давление, которое довело сотни тысяч людей до безумия, самоубийства, гибели — лежала на плечах всего населения. Практически все, включая маленьких детей, участвовали в отвратительных «митингах борьбы». Многие помогали избивать жертв. Более того, нередко жертвы становились палачами и наоборот.
Не существовало независимой юридической системы, дававшей возможность вести следствие и суд. Кого наказывать, а кого нет, решали партийные функционеры. Часто решающим фактором становились личные чувства. Некоторые «бунтари» понесли заслуженную кару. С другими обошлись несправедливо. Третьи легко отделались. Что касается преследователей отца, то с Цзо ничего не случилось, а товарища Шао всего лишь перевели на чуть менее пристижную работу.
Тины находились в тюрьме с 1970 года, но даже теперь их не судили — потому что партия не выработала соответствующих критериев. Единственное, что им пришлось вынести — это присутствовать на лишенных насилия митингах, где их жертвы могли «говорить о горечи». На одном из таких массовых митингов мама рассказала о том, как супруги травили моего отца. Тины прождали суда до 1982 года, когда мужа приговорили к двадцати годам заключения, а жену к семнадцати.
Хоу, из–за чьего ареста я ночей не спала, вскоре вышел на свободу. Но скорбные чувства, пробужденные в те быстро пролетевшие дни платы по счетам, убили всю мою страсть к нему. Хотя я так и не узнала точной меры его ответственности, будучи вожаком хунвэйбинов (Именно так написано у автора.) в самые зверские времена он, очевидным образом, не мог не замарать рук. Мне не удалось возненавидеть его лично, но и жалости к нему я не испытывала. Я надеялась, что он, как и все прочие, получит по заслугам.
Когда придет этот день? Настанет ли вообще время справедливости? Возможна ли справедливость без возбуждения еще большей враждебности и в без того накаленной обстановке? Повсюду я наблюдала, как группировки, боровшиеся недавно не на жизнь, а на смерть, жили теперь под одной крышей. «Попутчикам капитализма» приходилось работать бок о бок с бывшими «бунтарями» — своими мучителями и клеветниками. Нервы страны по–прежнему были напряжены до предела. Когда же (и возможно ли это?) мы освободимся от злых чар Мао?
В июле 1977 года Дэн Сяопина вновь реабилитировали и назначили заместителем Хуа Гофэна. Каждая речь Дэна была глотком свежего воздуха. Политическим кампаниям пришел конец. Политзанятия сравнили с «чрезмерными налогами и сборами» и также прекратили. В своей политике партия должна исходить из действительности, а не из догматов. И самое важное — неверно свято следовать каждому слову Мао. Дэн менял курс Китая. Потом мной овладело беспокойство: я так боялась, что это новое будущее никогда не наступит.
Благодаря новому духу в стране, срок моего пребывания в коммуне истек в декабре 1977 года, на месяц раньше, чем предполагалось прежним годовым планом. Эта разница в какой–то месяц привела меня в дикий восторг. Когда я вернулась в Чэнду, в университете готовились к поздним вступительным экзаменам за 1977 год — первым настоящим экзаменам начиная с 1966 года. Дэн объявил, что прием в вузы должен осуществляться на основании экзаменов, а не путем блата. Осенний семестр пришлось перенести на более позднее время, чтобы подготовить население к отказу от маоистской политики.
Меня командировали в горы северной Сычуани проводить собеседование с поступающими на мой факультет. Я охотно поехала. Именно тогда, в одиночестве колеся по извилистым пыльным дорогам из уезда в уезд, я впервые подумала: как чудесно было бы учиться на Западе!
За несколько лет до того один знакомый рассказал мне такую историю. В 1964 году он приехал на «родину» из Гонконга, но выпустили его только в 1973 году, когда, вследствие открытости, вызванной визитом Никсона, ему разрешили навестить семью. В первую ночь в Гонконге он услышал, как племянница договаривается по телефону, как поедет на выходные в Токио. Эта, казалось бы, ничего не значащая история стала для меня постоянным источником беспокойства. Меня мучило желание видеть мир — желание свободы, о которой я не могла даже мечтать. Эти несбыточные надежды оставались крепко запертыми глубоко внутри. В прошлом в других университетах изредка выделялись стипендии для обучения за рубежом, но, разумеется, кандидаты отбирались властями и необходимой предпосылкой было членство в партии. У меня не было ни малейшего шанса, даже если бы на наш университет с неба упала такая стипендия — я не являлась членом партии и не пользовалась доверием факультета. Но теперь у меня в голове начала зарождаться мысль, что, раз восстановлены экзамены и Китай высвобождается из смирительной рубашки маоизма, удача может мне улыбнуться. Я подавляла в себе эти фантазии, потому что боялась неминуемого разочарования.
Вернувшись из поездки в деревню, я узнала, что моему факультету выделили одну стипендию для обучения на Западе, и он вправе послать туда кого–нибудь из своих преподавателей — молодого или средних лет — для повышения квалификации. Но стипендия досталась не мне.
Эту печальную новость я услышала от профессора Ло. Ей было за семьдесят, она ходила, опираясь на палочку, но сохранила активность, живость, даже страстность натуры. По–английски она говорила быстро, словно ей не терпелось выложить все, что она знает. Около тридцати лет она прожила в Соединенных Штатах. Ее отец, член Верховного суда при Гоминьдане, пожелал дать ей западное образование. В Америке она взяла себе имя Люси и влюбилась в американского студента Люка. Они собирались пожениться, но когда сообщили о своих планах его матери, та сказала: «Люси, ты мне очень нравишься. Но на кого будут похожи ваши дети? Это непросто...»
Люси порвала с Люком — гордость не позволила ей войти в семью, которая не была ей рада. В начале 1950–х годов, после победы коммунистов, она вернулась на родину в надежде, что теперь китайцы наконец обретут чувство собственного достоинства. Она так и не забыла Люка и в брак вступила очень поздно — вышла замуж за профессора английского языка, китайца, которого не любила и с которым постоянно ссорилась. В годы «культурной революции» у них отобрали квартиру, и они поселились в каморке три на два с половиной метра, набитой старыми пожелтевшими газетами и пыльными книгами. Сердце щемило, когда эти хрупкие, седовласые, не переваривавшие друг друга старики старалась сесть подальше, в разные концы комнатенки: один садился на краешек кровати, другая — на единственный, с трудом втиснутый в комнату, стул.
Профессор Ло любила меня. Она говорила, что видит во мне себя, свою собственную юность — пятьдесят лет тому назад она тоже бунтовала, пытаясь найти в жизни счастье. Ей это не удалось, но хотелось, чтобы повезло мне. Услышав о стипендии и о поездке за границу, возможно, даже в Америку, она пришла в страшное волнение, ведь я была далеко, в деревне, и не могла отстаивать свои интересы. Место отдали товарищу И, которая была на год старше меня и уже вступила в партию. Она и другие молодые преподаватели, окончившие университет в годы «культурной революции», посещали курс английского языка для продвинутых слушателей, а я в это время пребывала среди крестьян. Одним из их наставников была профессор Ло; для обучения она, в частности, использовала статьи из англоязычных изданий, которые добывала у друзей, работавших в таких городах, как Пекин и Шанхай (Сычуань все еще оставалась закрытой для иностранцев). Всякий раз, когда мне удавалось выбраться из деревни, я посещала эти занятия.
Однажды мы разбирали текст о промышленном использовании атомной энергии в США. Едва профессор Ло закончила объяснение, товарищ И гневно подняла голову, расправила плечи и возмущенно произнесла: «Эту статью следует читать критически! Как могут американские империалисты использовать атомную энергию в мирных целях?» Я почувствовала раздражение, услышав, как она, словно попугай, повторяет слова из агиток. В запальчивости я возразила: «Откуда вам знать, могут или не могут?» Товарищ И да и почти вся группа посмотрели на меня с изумлением. Такая постановка вопроса была для них немыслимой, даже кощунственной. Зато в глазах профессора Ло я увидела огонек, губы ее тронула едва заметная улыбка. Я почувствовала поддержку и одобрение.
Не только профессор Ло, но и некоторые другие профессора также предпочитали, чтобы на Запад поехала я, а не товарищ И. Но хотя общая атмосфера несколько смягчилась и преподавателей начали уважать, никакого реального влияния они не имели. Если кто и мог помочь, то только мама. По ее совету я сходила к нескольким бывшим коллегам отца, ведавшим теперь университетами, и заявила, что хочу подать жалобу: товарищ Дэн Сяопин говорит, что принимать в университет нужно исходя из достоинств абитуриента, и безусловно ошибочно было бы не руководствоваться этим же принципом при выборе кандидата для заграничной стажировки. Я просила устроить честное состязание, иначе говоря — экзамен.
Пока мы с мамой «интриговали», из Пекина неожиданно пришел приказ: впервые с 1949 года стипендии для обучения на Западе распределялись на основе единого общегосударственного экзамена, который планировалось провести одновременно в Пекине, Шанхае и Сиане — древней столице, где позднее во время раскопок была найдена глиняная армия императора Шихуанди.
Мой факультет посылал в Сиань трех кандидатов. Решение о поездке товарища И отменили и выбрали двоих кандидатов — превосходных преподавателей, начавших работать еще в годы, предшествовавшие «культурной революции». Отчасти благодаря пекинскому приказу проводить отбор по профессиональным качествам, отчасти вследствие кампании, развернутой мамой, выбрать третьего, молодого кандидата из двадцати с лишним людей, окончивших университет во времена «культурной революции», факультет решил на основании письменного и устного экзаменов, назначенных на 18 марта.
Я получила высший балл по обоим предметам, хотя в устном испытании победу одержала весьма необычным образом. Мы по одному заходили в аудиторию, где сидели двое экзаменаторов: профессор Ло и еще один пожилой профессор. На столе перед ними лежали бумажные шарики, мы брали один из них, разворачивали и отвечали на соответствующий вопрос по–английски. Мой билет звучал так: «Каковы основные положения недавно завершившегося Второго пленума XI съезда Коммунистической Партии Китая?» Я, конечно, понятия об этом не имела и застыла как в столбняке. Профессор Ло глянула на мое лицо и потянулась за листком. Она прочла его и показала коллеге. Потом молча сунула в карман и сделала знак глазами, чтобы я взяла другой. На этот раз в билете было написано: «Расскажите о славных успехах нашей социалистической Родины».
Многолетнее вменявшееся в обязанность восхищение «славными успехами социалистической Родины» вызывало у меня тошноту, но на этот раз мне было что сказать. Недавно я даже написала восторженное стихотворение о весне 1978 года. Ху Яобан, правая рука Дэн Сяопина, возглавил кадровый отдел партии и начал процесс массовой реабилитации «классовых врагов» — страна на глазах сбрасывала с себя бремя маоизма. Промышленность работала в полную силу, в магазинах стало гораздо больше товаров. Функционировали школы, больницы и другие общественные учреждения. Переиздавались давно запрещенные книги, и люди иногда по два дня стояли в очереди у книжных магазинов, чтобы их купить. На улицах и в домах звучал смех.
Я начала яростно готовиться к экзаменам в Сиане, до которых оставалось меньше трех недель. Мне предложили свою помощь несколько профессоров. Профессор Ло дала список обязательного чтения и с дюжину английских книг, но затем решила, что у меня не будет времени прочитать их все. Одним махом она расчистила на своем заваленном бумагами столе пространство для портативной пишущей машинки и просидела две недели, печатая по–английски краткое содержание основных произведений. Так, сказала она с озорной улыбкой, пятьдесят лет тому назад помогал ей сдавать экзамены Люк, поскольку она предпочитала танцы и вечеринки.
Вместе с двумя преподавателями и заместителем партийного секретаря мы сутки ехали на поезде до Сианя. Большую часть пути я провела на полке плацкартного вагона, лежа на животе и торопливо конспектируя заметки профессора Ло. Никто не знал ни числа стипендий, ни стран, куда отправляли победителей, так как основная часть информации в Китае составляла государственную тайну. Однако добравшись до Сианя, мы узнали, что экзаменоваться будут двадцать два человека, в основном старшие преподаватели из четырех провинций Западного Китая. Запечатанные экзаменационные материалы накануне доставили из Пекина самолетом. Письменный экзамен, занявший все утро, состоял из трех частей; одним из заданий было перевести на китайский большой отрывок из «Корней» («Корни» — книга американского писателя Алекса Хэйли (1921–1992) об истории семьи чернокожих американцев.). За окнами ветер нес по улицам опавшие вербные «зайчики». Перед полуднем наши переводы собрали, опечатали и отослали в Пекин, где одновременно проверяли и другие работы, доставленные из всех экзаменационных комиссий. Во второй половине дня был устный экзамен.
В конце мая я из неофициальных источников узнала, что оба экзамена сдала на «отлично». При этом известии мама с еще большей энергией стала добиваться реабилитации отца. Даже после смерти родителей их досье продолжало определять будущее детей. В предварительной реабилитационной характеристике отца говорилось о «серьезных политических ошибках». Мама знала, что, хотя Китай и становится свободнее, мне не позволят выехать за границу.
Она обратилась к бывшим коллегам отца, которых вновь пригласили работать в администрации, и приложила к своему прошению о пересмотре дела записку Чжоу Эньлая о том, что отец имел право писать Мао. Записку с редкой изобретательностью спрятала бабушка, зашившая ее в матерчатый верх своей туфельки. Теперь, через одиннадцать лет после того, как Чжоу вручил маме этот документ, она решила передать его властям провинции, во главе которых встал Чжао Цзыян.
Время было на редкость удачное: заклятие Мао теряло свою парализующую силу; большую роль тут сыграл Ху Яобан, ведавший реабилитациями. 12 июня на Метеоритной улице появился ответственный работник с партийной характеристикой отца. Он вручил маме листок папиросной бумаги, где говорилось, что отец был «хорошим работником и достойным членом партии». Это была официальная реабилитация. Только тогда мою стипендию утвердило пекинское Министерство образования.
От возбужденных друзей, прибежавших с факультета, я узнала, что еду в Англию, раньше, чем от начальства. Люди, едва со мной знакомые, были счастливы за меня, присылали поздравительные письма и телеграммы. Устраивались праздничные вечеринки, лились слезы радости — поездка на Запад была невероятным событием. На протяжении десятилетий Китай оставался закрытым государством, люди задыхались, живя взаперти. После 1949 года я первой из своего университета и, насколько знаю, из провинции Сычуань (которую населяло тогда около девяноста миллионов человек) поехала учиться на Запад. Причем поехала благодаря профессиональной подготовке, ведь я даже не состояла в партии. Это было еще одним знаком грандиозных перемен, происходивших в стране. Люди жили надеждой, перед ними открывались новые возможности.
Но я испытывала не только радость. Я достигла цели, столь желанной и недостижимой для остальных, и чувствовала себя виноватой перед друзьями. Ликовать было бы неприлично, даже жестоко, но и скрывать радость — нечестно. Я вела себя сдержанно. Я с грустью думала о скованности и однообразии жизни в Китае — столько людей были лишены возможности реализовать свои таланты! Я понимала, что мне повезло родиться в привилегированной семье, какие бы страдания ни выпали на ее долю. Но теперь, когда Китай становился более открытым и свободным, я с нетерпением ждала более стремительных и глубоких перемен в обществе.
Я думала об этом, проходя через весь тот цирк, который предшествовал тогда любой зарубежной поездке. Меня послали в Пекин на специальные курсы для отъезжающих за границу. Сначала нам целый месяц промывали мозги, а потом еще на месяц отправили в путешествие по всему Китаю. Целью было поразить нас красотой родины, чтобы у нас не возникло соблазна покинуть ее навсегда. За нас сделали все необходимые для поездки приготовления и вдобавок выдали деньги на покупку одежды. Нам следовало предстать перед иностранцами в приличном виде.
В последние вечера перед отлетом я часто бродила по берегам Шелковой реки, мерцавшей и в лунном свете, и в густом тумане летних ночей. Я размышляла о двадцати шести годах, прожитых мною. Я знала, что такое благополучие и лишения, страх и отвага, видела доброту и верность — как и крайние пределы человеческой подлости. Противостоять страданиям, разрушению и смерти мне прежде всего помогали любовь и извечное человеческое стремление к жизни и счастью.
Меня переполняли сложные чувства, особенно когда я вспоминала отца, бабушку и тетю Цзюньин. Раньше я пыталась заглушить мысли об их смерти: это было слишком больно. Теперь я представляла себе, как бы они радовались за меня, как гордились бы моими успехами.
Я улетела в Пекин, откуда вместе с тринадцатью университетскими преподавателями, в число которых входил идеологический работник, должна была следовать дальше. Наш самолет вылетал 12 сентября в 8 часов вечера, и я чуть не опоздала, потому что в Пекинский аэропорт пришли попрощаться друзья и мне казалось неудобным следить за временем. Плюхнувшись наконец в кресло, я вдруг поняла, что по–настоящему не обняла маму. Мы попрощались в аэропорту Чэнду как–то буднично, деловито, не проронив ни слезинки, словно мое путешествие через полмира — лишь заурядный эпизод в нашей богатой событиями жизни.
Китай уходил все дальше, я выглянула из иллюминатора и увидела под серебряным крылом самолета вселенную. Я вновь окинула взглядом свою прошлую жизнь и устремила взор в будущее. Мне хотелось обнять весь мир.
Эпилог
Я сделала Лондон своим домом. Десять лет я старалась не думать о Китае, который оставила позади. Потом, в 1988 году, ко мне в Англию приехала мама. Тогда она впервые рассказала мне семейную историю — свою жизнь и жизнь бабушки. Когда она вернулась в Чэнду, я вновь пустилась по волнам воспоминаний и пролила непролитые слезы. Я решила написать «Диких лебедей». Мысль о прошлом перестала причинять боль, потому что я обрела любовь, твердую почву под ногами и в результате — спокойствие.
Китай со времени моего отъезда изменился до неузнаваемости. В конце 1978 года Коммунистическая партия отправила на свалку «классовую борьбу» Мао. Изгоев, в том числе «классовых врагов» из моей книги, реабилитировали; среди них были и мамины маньчжурские друзья, заклейменные как «контрреволюционеры» в 1955 году. Официальное преследование их и их семей прекратилось. Они оставили тяжелый физический труд и получили другую, лучшую работу. Многих восстановили в партии и взяли на государственную службу. В 1980 году Юйлинь, мой двоюродный дядя, его жена и дети получили разрешение уехать из деревни и вернуться в Цзиньчжоу. Он стал главным бухгалтером медицинской компании, она — заведующей детским садом.
В досье бывших жертв ложились оправдательные характеристики, старые обвинительные документы изымались и сжигались. В учреждениях по всему Китаю разводили костры, в которых горели эти жалкие листки, погубившие несметное количество жизней.
Мамино «дело» распухло от доносов о ее юношеских связях с Гоминьданом. Теперь все они сгинули в пламени. Их заменила двухстраничная характеристика, датированная 20 декабря 1978 года, где все обвинения отметались как ложные. В качестве компенсации за пережитое ей изменили происхождение: в графе «отец» вместо предосудительного «генерал–милитарист» написали невинное — «врач».
Решив остаться в 1982 году в Великобритании, я сделала очень необычный выбор. Опасаясь, что это приведет к неприятностям на работе, мама раньше срока подала заявление об уходе на пенсию, которую и получила в 1983 году. Однако то обстоятельство, что дочь живет на Западе, никак не осложнило ее жизнь, что при Мао было бы немыслимо.
Двери Китая открывались все шире. Трое моих братьев живут сейчас на Западе. Цзиньмин, специалист с мировым именем в области физики твердого тела, занимается исследовательской работой в Англии, в Саутгемптонском университете. Сяохэй, оставивший авиацию ради журналистики, поселился в Лондоне. Оба женаты, у каждого из них есть ребенок. Сяофан получил степень магистра международной торговли в Страсбургском университете и теперь работает в одной французской компании.
Только моя сестра Сяохун осталась в Китае. Она служит в управлении Института китайской медицины в Чэнду. Когда в 1980–е годы разрешили частное предпринимательство, она взяла двухлетний отпуск, чтобы принять участие в создании компании по моделированию одежды, о чем давно мечтала. Затем ей пришлось выбирать между радостями и опасностями свободной коммерции и скукой и безопасностью государственной должности. Она предпочла последнее. Ее муж, Очкарик — один из руководителей местного банка.
Связь с окружающим миром стала частью повседневной жизни китайцев. Письмо из Чэнду в Лондон доходит за неделю. Мама может посылать мне факсы с центрального почтамта. Я звоню ей домой по прямой линии из любой точки мира. Каждый день по телевизору наряду с официальной пропагандой показывают избранные новости иностранных каналов. Сообщается о важнейших мировых событиях, включая революции и перевороты в Восточной Европе и Советском Союзе.
Между 1983–м и 1989–м годами я ездила к маме ежегодно и каждый раз поражалась очевидному ослаблению того, что более всего характеризовало жизнь при Мао, — страха.
Весной 1989 года, путешествуя по Китаю, я собирала материал для этой книги. И видела, как люди выходят на демонстрации по всей стране — от Чэнду до площади Тяньаньмэнь. Мне подумалось: неужели страх настолько забылся, что никто из миллионов демонстрантов не чует в воздухе опасность? Многие, казалось, были застигнуты врасплох, когда солдаты открыли огонь. И я тоже, вернувшись в Лондон, не поверила своим глазам, увидев расстрел по телевидению. Неужели приказ отдал тот самый человек, который и для меня, и для множества других стал освободителем?
Страх попробовал было вернуться, но в нем уже нет вездесущей, всесокрушающей силы, как при Мао. Сегодня на политических собраниях люди открыто критикуют партийных руководителей, называя их имена. Либерализация необратима. И все же Мао по–прежнему взирает с портрета на площадь Тяньаньмэнь.
Экономические реформы 1980–х принесли небывалый рост уровня жизни, отчасти благодаря внешней торговле и инвестициям. По всему Китаю чиновники и население горячо приветствуют иностранных бизнесменов. В 1988 году, приехав в Цзиньчжоу, мама остановилась у Юйлиня в маленькой темной неблагоустроенной квартирке, рядом со свалкой, но из ее окон была видна лучшая гостиница Цзиньчжоу, где каждый день задавали роскошные пиры для зарубежных инвесторов. Однажды мама увидела, как один из гостей выходит после банкета, окруженный льстивой толпой, показывая ей фотографии своего роскошного дома и машин на Тайване. Это был гоминьдановец Яохань, школьный политрук, послуживший причиной ее ареста сорок лет тому назад.
Май 1991
Фотографии
Мой дед, генерал Сюэ Чжихэн, глава полиции в пекинском диктаторском правительстве. 1922–1924
Доктор Ся
Мама (слева) со своими матерью и отчимом, доктором Ся; в центре — второй сын доктора Ся, Дэгуй, единственный член семьи, одобривший женитьбу доктора на моей бабушке. Первый справа — сын Дэгуя. Цзиньчжоу, ок. 1939
Мама–школьница, в тринадцать лет. Маньчжоу–го
Брат Ху, первый мамин возлюбленный. На обратной стороне фотографии — написанное им стихотворение:
Ветер и пыль мои спутники, Край земли — мой дом. Изгнанник
После того, как брат Ху был выкуплен из тюрьмы своим отцом, он попросил знакомого передать этот снимок маме в знак того, что он жив. Из–за осады знакомый увиделся с мамой только после взятия Цзиньчжоу коммунистами; узнав, что у нее роман с моим отцом, он решил не отдавать ей фотографию. Мама получила ее от него лишь после случайной встречи в 1985 году; именно тогда она узнала, что брат Ху погиб во время «культурной революции»
Бабушкина сестра Лань и ее муж «Верный» Пэй–о с новорожденным сыном; вскоре после поступления Пэй–о в гоминьдановскую разведку. Цзиньчжоу, 1946
Лозунги эпохи гражданской войны на подошвах «тапок освобождения»: «Защищай Родину» и «Бей Чан Кайши»
Коммунисты берут Цзиньчжоу. Октябрь 1948
Солдаты–коммунисты, проходящие под гоминьдановскими лозунгами на городских воротах, уцелевших во время осады Цзиньчжоу. 1948
Отец. Думаю, эта фотография особенно точно передает его настроение на пути из Маньчжурии в Сычуань. Конец 1949
Мои родители в Нанкине, бывшей гоминьдановской столице, на пути из Маньчжурии в Сычуань, за несколько дней до того, как первая мамина беременность закончилась выкидышем. И отец, и мама в коммунистической военной форме. Сентябрь 1949
Родители (стоят), бабушка (слева) с Сяохун на руках и моя кормилица со мной. Чэнду, осень 1953
Проводы мамы перед отъездом из Ибиня. Июнь 1953. Слева направо (2–й ряд): самая младшая сестра отца и моя мама; (1–й ряд): моя бабушка со стороны отца, я, бабушка со стороны матери, Сяохун, Цзиньмин, тетя Цзюньин
Бабушка со мной (мне два года, в волосах у меня ленты) и Цзиньмином; мама с Сяохэем, Сяохун (стоит). Чэнду, конец 1954
Моя мама и (слева направо): Сяохун, Цзиньмин, Сяохэй и я. Чэнду, начало 1958. Эта фотография была сделана второпях для отца, чтобы он взял ее с собой в Ибинь и показал тяжело больной матери. О спешке свидетельствуют растрепанные мамины волосы и носовой платок, так и оставшийся приколотым к морскому костюмчику Цзиньмина (в то время так ходили многие маленькие дети)
С Сяохун (слева), Сяохэем (сзади) и Цзиньмином (справа) па ежегодной чэндуской выставке цветов. 1958. Вскоре после того, как был сделан этот снимок, начался голод. Отец постоянно уезжал в сельскую местность, поэтому несколько лет семейных фотографий не было
На площади Тяньаньмэнь в Пекине, с друзьями–хунвэйбинами и обучавшими нас офицерами авиации (среди которых одна женщина). На руке у меня повязка «красного охранника»; я в мамином «ленинском пиджаке» и заплатанных брюках–чтобы выглядеть «по–пролетарски». Все мы в стандартной позе того времени держим цитатники. Ноябрь 1966
Мама в лагере на равнине Волопаса, перед полем кукурузы, которую она помогала сажать. 1971
Отец в лагере в Мии, с Цзиньмином. Конец 1971, вскоре после смерти Линь Бяо
Перед отправкой к отрогам Гималаев (я стою, вторая справа); остальные (стоят слева направо): Цзиньмин, Сяохун и Сяохэй; в первом ряду (слева направо): бабушка, Сяофан и тетя Цзюньин. Чэнду, январь 1969. Последняя фотография бабушки и тети
С группой электриков на машиностроительном заводе. Чэнду (в первом ряду, в центре). Китайская надпись означает: «Проводы товарища Юн Чжан в университет, 27 сентября 1973 года, группа электриков»
Наша группа (я третья слева в первом ряду) у ворот Сычуаньского университета. Январь 1975
Военная подготовка в годы учебы в Сычуаньском университете (3–й ряд, вторая справа). Китайская надпись означает: «Связь рыбы и воды [лозунг, описывающий отношения между армией и народом], 1–я группа английского языка, факультет иностранных языков, Сычуаньский университет, 27 ноября 1974 года»
Бабушкин брат Юйлинь с женой и детьми перед домом, который они только что себе построили после десятилетней ссылки в деревню. 1976. Именно тогда они решили связаться с бабушкой после десятилетнего молчания. Этим снимком они хотели сообщить ей, что у них все в порядке, не зная, что она уже семь лет как умерла
С товарищами и филиппинским моряком (в центре) во время практики по английскому языку в Чжаньцзяне. Октябрь 1975. Моряки были единственными иностранцами, с которыми я разговаривала до отъезда из Китая в 1978 году
Перед кремацией отца Цзиньмин и я поддерживаем маму. Напротив нас — Сяохун. Чэнду, апрель 1975
На похоронах отца. Чэнду, 21 апреля 1975. Слева (на первом плане): мама, Сяофан, Сяохэй, Цзиньмин. Справа: Чэньи, Сяохун, я
На похоронах отца (я стою вместе с членами семьи, четвертая справа).
Чиновник читает партийный некролог. Чэнду, 21 апреля 1975. Эта речь имела огромную важность, потому что заключала в себе оценку партией деятельности отца и определяла судьбу его детей после его смерти. Поскольку отец критиковал Мао, который был еще жив, первоначальная версия звучала отрицательно, а значит — опасно. Мама добилась гораздо более благоприятного компромиссного варианта. Церемонию организовал «траурный комитет», куда входили бывшие коллеги отца, в том числе и те, кто его преследовал. Все было предусмотрено до малейших подробностей. Всего похороны, по установленной процедуре, посетило около пятисот человек. Правила регулировали даже размер венков
В Пекине. Сентябрь 1978, перед отъездом в Великобританию
В Италии. Лето 1990. Фото Джона Холлидея